Жан Рэй КРУГИ УЖАСА Новеллы
Быть может, нет ничего истинного, и даже это не истина.


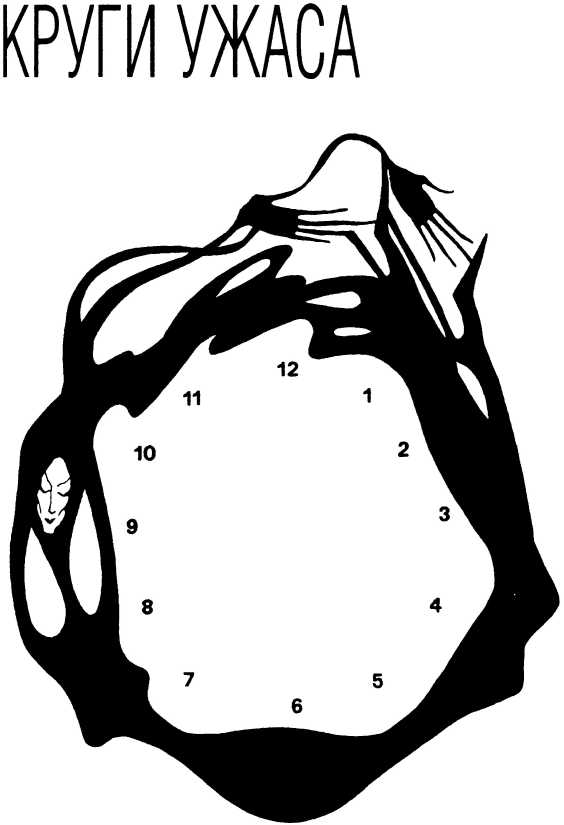

 КРУГИ УЖАСА
КРУГИ УЖАСА
Круги Написано для Лулу
У моей маленькой дочки Лулу глаза чернее ночи, а волосы струятся, как ливень из грозовой тучи. Она красива и серьезна — ее прабабка, индианка забытого племени да коты, в молодые годы занималась колдовством.
Я спрашиваю дочь:
— Твои куклы говорят?
— Говорят, бегают, играют и дерутся, — отвечает она.
— А оловянные солдатики двигаются?
— А как же! Перед смертью… ведь они солдаты и созданы для смерти. Видишь, у многих нет головы. Их отрубают саблями в бою.
Я безуспешно наблюдаю через замочную скважину за играющей Лулу — ее солдаты несут недвижную стражу, а куклы безропотно сидят в кружок. Но когда вхожу, на полу лежат убитые и изувеченные солдаты, а щеки кукол влажны от слез.
— Солдаты вели войну, а куклы их оплакивали, — сообщает она.
Она мелом начертила на полу круг и посадила в него Мисси, крохотного рыжего котенка.
Мисси жалобно мяукает, фыркает и пытается убежать.
— Я заперла его, — говорит Лулу.
— Где?
— В кругу!
— Он не сможет выйти?
— Никогда!
— И что?
— Он умрет от голода и жажды!
— Бедный Мисси!
Лулу берет носовой платок и стирает меловой круг. Освобожденный Мисси стремглав уносится из комнаты.
Лулу — великая волшебница. Если я однажды навлеку на себя ее гнев, она превратит меня в мышку и позовет котенка Мисси или в муху, посадив на паутину за шкафом.
Или запрет меня в круге, где я умру от голода, жажды и отчаяния.
Изредка мы прогуливаемся с Лулу по старому и угрюмому саду. Деревья в нем высотой с башни, так массивны, тяжелы и растут так тесно, что в сумерках становятся похожими на мрачные надгробия в соборе.
Как-то вечером Лулу схватила меня за руку.
— В саду горит костер, — сказала она.
Ее ручонка лежит в моей ладони как в перчатке.

Костер горит зловещим пламенем; рука дочурки слегка дрожит.
— Там три злюки, — шепчет она. — Не отпускай мою руку. Если они схватят меня, то поджарят на костре и съедят. Быть может, убьют и тебя.
Я вижу всю троицу — уродливые и неказистые карлики кружат в печальном хороводе вокруг костра.
— Я их знаю, — объявила Лулу, — их зовут Грох, Гандипет и Крабби. Завтра днем я их убью.
— Как ты их отыщешь?
— Каждый живет на своем дереве, а спускаются они только ночью, чтобы разжечь костер.
Назавтра, в яркий солнечный полдень, Лулу потащила меня в сад, выбрала три самых высоких дерева и начертала вокруг их стволов три меловых круга.
— Все, — сказала она, — они больше не разведут костер.
Несколько вечеров подряд я тайком ходил в сад. Костер не горел, а в мрачной высоте надрывно стонали три голоска.
С каждой ночью голоса звучали все жалобнее и умоляюще.
Маленькие чудовища, несомненно, молили о помощи человека, могущего вызволить их из безжалостной темницы магических кругов. Но Лулу запретила мне трогать круги, и, хотя мое сердце кололо от жалости, я поворачивался спиной к саду, чтобы не слышать нечеловеческих стонов.
Сегодня вечером голоса умолкли.
Злые карлики умерли.
Так пожелала Лулу.
Это случилось однажды вечером в Копенгагене.
На далекой окраине Остергаде есть с трех сторон огороженная гавань, где забылись в вечном сне мертвые корабли.
Я устал и хотел спать.
Высокая и длинная баржа, изъеденная червем, зияла провалом, приглашая бродягу отдохнуть. Я выспался на сухой скамье, а когда ледяное солнце Зунда пробудило меня своими лучами, то понял, что перестал быть балтийским бомжем, который спит на мраморных плитах отвратительной Мармор-кирхи. Я мог остаться там до конца морских и земных дней, чтобы через пустые глазницы иллюминаторов следить, как умирают жалкие поколения людей, а их дворцы рассыпаются в прах, не найдя под скамьей куска мела, длинного и круглого, как палец.
Вечером при яркой луне одинокому сердцу понадобилось утешение и чье-то присутствие.
На грязном от сажи дереве переборки я нарисовал трех безмолвных компаньонов. Кусок мела, который, несомненно, выпал из раненой руки какого-то бога, извлек их из черного небытия.
Первому, высокому толстяку, я приделал нос в виде хобота, а широкий лоб украсил единственным, круглым глазом. Назвал его Красмуссеном и написал имя под животом, раздутым, как полный бурдюк.
Второй родился длинным и тощим верзилой, острый череп которого терялся в углу на потолке. Он мне кого-то напоминал, и я присвоил ему имя Мармадьюк Пиг.
Но мне не понравилось лицо чудовища, и я переделал его в свиное рыло.
Я долго колебался, как окрестить гомункула с мордой крысы и брюхом опоссума, который возник последним рядом с дверными петлями.
В вечернем воздухе прокричала серебристая чайка, одна из самых отвратительных морских птиц. Она не больше крупного попугая, но голос словно позаимствовала у ада. Чайка плачет и угрожает — ее крохотное горло наводит ужас на бледную бесконечность Балтики.
Если в конце земного существования божий суд не сжалится над моей мрачной душой скитальца, меня осудят на вечные муки и назначат серебристую чайку в преследователи.
Встречая сумерки, она прокричала: «Кукелю!» Так маленькое меловое чудище стало зваться Кукелю.
При свете фитиля, привязанного к валу, я рассказывал им грустные истории и поносил их отборной бранью.
Утром ушел и вернулся вечером в грязное убежище, вооружившись тряпкой, ибо весь день придумывал злую пытку, которой подвергну их, уродуя плоские структуры.
Когда фитиль вспыхнул слабым желтым пламенем, они не стелились на переборке, а сидели на моей скамье.
Под скамьей я спрятал унцию табака.

Красмуссен курил его.
В тайничке лежала поллитровка доброй датской водки.
Мармадьюк Пиг допивал ее.
От вчерашнего ужина оставалась четверть копченой селедки.
Кукелю дожирал ее.
Я в гневе замахнулся тряпкой.
— Вернитесь на переборку, и я вас сотру.
— Нет, — ответили они, продолжая курить, пить и есть.
Потом Красмуссен с силой ударил меня хоботом.
— За то, что ты наделил меня таким носом, — усмехнулся он.
— Ты приставил мне длиннющие ноги! — выкрикнул Мармадьюк Пиг. — Как думаешь, для чего?
И дал мне два болезненных пинка.
— Если думаешь, что, изобразив меня маленьким уродом, лишил возможности творить зло, то ошибаешься! — проскрипел Кукелю. И плюнул в лицо липкой слюной.
— Жалкие меловые карикатуры! — завопил я.
Но не смог их стереть. Они осыпали меня ударами, щипали, царапали и плевались…
С тех пор они наступают мне на пятки, не расставаясь ни на суше, ни в морях, ни в пустынях, ни в вечных льдах.
Они никогда не отвяжутся от меня!
Не все тюрьмы материальны; эта троица заключила меня в безграничную темницу пространства и времени, ибо рожденные мыслью, они живут вечной жизнью мысли.
Я нарисовал их мелом, веществом всех эпох, чернилом, которое никогда не иссякает в пере Бога.
Я начертал мелом круги на стене. Пока они черны и пусты, но не останутся таковыми.
Это — огромные иллюминаторы, открывающиеся в рождающийся мир. Рождающиеся миры, как и миры умирающие, наполнены ужасом.
Вскоре в каждое из окон заглянет лицо, искаженное страхом перед неведомым.
Так рождаются истории — их рассказывают, чтобы насытиться собственным страхом, терзая свои душу и плоть, а потом скормить другим окровавленные объедки варварского и божественного пира.
Так в дантовой геенне поступали тени-избранники, приглашенные на кровавое пиршество.
Рука Геца фон Берлихингена
Мы жили тогда в Генте, на улице Хэм, в старом доме, таком громадном, что я боялся заблудиться во время тайных прогулок по запретным для меня этажам.
Дом этот существует до сих пор, но в нем царят тишина и забвение, ибо больше некому наполнить его жизнью и любовью.
Тут прожило два поколения моряков и путешественников, а так как порт близок, по дому беспрерывно гуляли усиленные гулким эхом подвалов призывы пароходных сирен и глухие шумы безрадостной улицы Хэм.
Наша старая служанка Элоди, которая составила свой собственный календарь святых для семейных торжеств и обедов, буквально канонизировала некоторых наших друзей и посетителей, и среди них самым почитаемым был, конечно, мой дорогой дядюшка Франс Петер Квансюис.
Этот знаменитый остроумный человек был не моим настоящим дядюшкой, а дальним родственником матери, однако, когда мы звали его дядюшкой, часть его славы как бы падала и на нас.
В те дни, когда Элоди насаживала на вертел нежного гуся или поджаривала на слабом огне хлебцы с патокой, он с охотой принимал участие в наших пиршествах, ибо любил вкусно поесть, а также с толком порассуждать о всяческих кушаньях, соусах и приправах.
Франс Петер Квансюис прожил двенадцать лет в Германии, женился и после десяти лет счастливой супружеской жизни там же похоронил и жену, и свое счастье.
Кроме ревниво хранимых нежных воспоминаний, он вывез из Германии любовь к наукам и книгам, трактат о Гете, прекрасный перевод героико-комической поэмы Захарии, вполне достойной принадлежать по своему юмору и остроумию перу Гольберга, несколько страниц удивительного плутовского романа Христиана Ройтера «Приключения Шельмуффского», отрывок из трактата Курта Ауэрбаха об алхимии и несколько скучнейших подражаний «Tagebuch eines Beobachters seines selbst» Лаватера.
Сейчас вся эта запыленная литература стала моей, ибо дядюшка Квансюис завещал ее мне в надежде, что когда-нибудь она принесет пользу его наследнику.
Увы! Я не оправдал его предсмертных надежд — в моей памяти только осталось восклицание: «Писание — это трудолюбивая праздность…» — отчаянный крик души Геца фон Берлихингена, удивительного героя-мученика, которого мой дорогой дядюшка особо отметил в своем трактате о Гете. Дядюшка подчеркнул эту фразу пять раз разными цветными карандашами.
Трудно нарушить обет молчания и приподнять покрывало забвения! И если я делаю это, то только потому, что мне было знамение из неизъяснимой тьмы.
Дядюшка Квансюис проживал в соседнем доме, на той же длинной, угрюмой и вечно сумрачной улице Хэм.
Дом был меньше нашего, совсем черный, но эхо гуляло там еще резвее в дни бурь и порывистых резких ветров.
Однако одну комнату там все же уберегли от мрачного холода подвальных кладовок и тьмы коридоров. Это была высокая светлая комната, обитая желтой тканью; ее обогревала чудесная марльбаховская печь, а из центральной лепной розетки потолка на трех позолоченных цепочках свешивалась лампа с двумя фитилями.
Днем массивный овальный стол кряхтел под тяжестью книг и коробок со старинными миниатюрами; но вечером, в час обеда, на нем расстилали коричневую, расшитую голубыми и оранжевыми узорами скатерть, а затем расставляли красивые тарелки из дорникского фаянса и богемский хрусталь.
В этих тарелках подавались изумительные кушанья, а из высоких бокалов пили бордоские и рейнские вина.
За этим столом дядюшка Квансюис принимал друзей, которых любил за внимание к своим речам и немой восторг перед его ученостью. Я словно сейчас вижу, как они поедают баранью ногу с чесноком, печеную курицу, тушеного ската или гусиный паштет и с явным удовольствием внимают мудрым рассуждениям хозяина.
Их было четверо — господин ван Пиперцеле, доктор каких-то, но отнюдь не медицинских наук; тихий и славный Финхаер; толстый и безмятежный Бинус Комперноле и капитан Коппеянс.
Коппеянс был таким же капитаном, как и Франс Квансюис моим дядюшкой. Когда-то он плавал, а теперь стал владельцем нескольких каботажных судов. Элоди считала его хорошим советчиком и человеком большой житейской мудрости, во что я продолжаю верить, хотя у меня нет на то никаких доказательств.
Однажды вечером, когда господин ван Пиперцеле делил на части миндальный торт, а капитан Коппеянс разливал по бокалам ром, кюммель и зеленоватый шартрез, дядюшка вернулся к своему трактату о Гете, к тому месту, на котором остановился накануне, в день, когда они лакомились телячьей головой под черепаховым соусом.
— Я возвращаюсь к шедевру Гете, к его превосходной драме «Гец фон Берлихинген».
«В одном из сражений против бамбергского епископа, нюрнбергских купцов или кельнских горожан благородный Гец потерял правую руку.
Искусный ремесленник, железных дел мастер, сработал ему руку с пятью пальцами на пружинах, обеспечив владение мечом с тем же искусством, что и прежде».
Тут в разговор вмешался тихий господин Финхаер:
— Можно сказать, чудо механики!
— Я припоминаю, — вступил в разговор господин Коппеянс, — что случилось с моим рулевым Петрусом Д’Хондтом, — ему отрезало руку, когда кисть его попала между шкивом и стальным тросом. С тех пор у него вместо руки медный крючок, а значит, в наши времена никто не может сделать руку, подобную руке Геца.
Дядюшка Квансюис снисходительно кивнул головой, соглашаясь с их пустыми речами.
— Друзья мои, вспомните, — сказал он, — достойные вечности слова, которыми кончается драма Гете: «Благородный муж! Благородный муж! Горе веку, отвергнувшему тебя!»
Тут мой дядюшка снял очки и подмигнул. Как всегда, услужливый доктор ван Пиперцеле подмигнул в ответ, словно знал тайну дядюшки.
— Но этот прекрасный конец, увы, не соответствует истине, и я сожалею об этом, — продолжал свою речь оратор. — «Гец фон Берлихинген был, как повстанец, заключен на два года в аугсбургскую тюрьму. Затем император разрешил ему вернуться в свои владения и жить в родовом замке Якстгаузен, взяв с него слово рыцаря, что он никогда более не покинет границ своих земель и не будет сражаться ни на чьей стороне.
Пятнадцать лет спустя Карл V освободил его от клятвы, и счастливый Гец последовал за императором во Францию, Испанию и Фландрию. После отречения императора от престола в Юсте Гец вернулся в Германию и семь лет спустя умер. Однако…»
Он снова подмигнул, и снова в ответ мигнул ван Пиперцеле.
— После пребывания во Фландрии Гец уже никогда не пристегивал свою железную руку!
— Она находится, — заговорил Финхаер, — в музее…
Но дядюшка Квансюис прервал его:
— Нюрнберга, Вены или Константинополя… Не все ли равно? Ибо это лишь железная перчатка, помещенная под стекло. А настоящая рука, та, которая позволяла Гецу держать меч и даже гусиное перо, была потеряна или похищена в… — он поднял руку, его глаза горели. — … в Генте, славном городе Карла V, в котором Гец фон Берлихинген был вместе с императором. И рука его до сих пор находится тут, тут я ее и найду!
Хотя Франс Петер Квансюис не был истинным эрудитом, ему нельзя было отказать в упорстве, с которым он вел свои кропотливые изыскания. Документы, которые я пересмотрел после его смерти, убеждают меня в этом. Но его поиски кажутся мне бесполезными и бесцельными, а библиотечные находки — случайными.
Он переписал часть текста из трех томов крайне странного фламандского писателя Деграва, который со всей серьезностью пытался доказать, что и Гомер и Гесиод были выходцами из Фландрии. Этот человек перевел с латинского подлинника диссертацию фламандского доктора Пашасиуса Юстуса «Об азартных играх, или болезни играть на деньги».
— Пашасиус… Пашасиус, — частенько бормотал дядюшка, — сколько прекрасных писаний оставил бы нам сей любознательный ученый XVI века, не преследуй его днем и ночью страх перед костром. Он себя так и называл в честь Пашаса Раббера, настоятеля корбийского монастыря в IX веке и автора прекрасных теологических сочинений. Ах! Мой милый Пашасиус… На помощь!.. О, мой старый друг, явись ко мне из глубины веков!
Я не могу сказать, каким образом тень этого ученого доктора помогла дядюшке в роковых поисках железной руки, но она, безусловно, сыграла свою роль.
За неделю, что прошла с памятного вечера, дядюшка Квансюис переоборудовал часть подвальной кухни в лабораторию. Туда допускался только господин Финхаер да я, но моего присутствия в этом таинственном месте они, скорее всего, просто не замечали.
По правде сказать, я старался быть полезным и с усердием раздувал с помощью маленького кузнечного меха голубое пламя в печи.
В этом приюте тайных наук было холодно, а из толстых стеклянных колб поднимались отвратительные запахи; но лицо моего дядюшки все время оставалось серьезным, а толстые щеки господина Финхаера, несмотря на низкую температуру, блестели от пота. Однажды, когда уже пробило четыре часа утра, а вонь, исходившая из одной колбы, стала особенно отвратительной, дядюшка поднял голову, освещенную странным зеленым светом, и взглянул на потолок.
Господин Финхаер испуганно закричал:
— Смотрите! Ох! Смотрите же!
Мне было плохо видно, ибо я сидел против света, рядом с мехом, но мне показалось, что зеленый туман стал обретать какую-то явственную форму.
— Паук… Да нет же, краб бежит по потолку! — в ужасе закричал я.
— Замолчи, негодник! — рявкнул дядюшка Квансюис.
Существо быстро потеряло свои очертания, только и осталось, что струйка дыма под потолком, но я видел, как по лицам дядюшки и господина Финхаера струились крупные капли пота.
— Я же вам говорил, Финхаер… тексты древних мудрецов никогда не лгут!
— Она исчезла, — пробормотал Финхаер.
— Это была только ее тень, но теперь-то я знаю…
Он не сказал, что именно знает, а господин Финхаер не задал ни единого вопроса.
На следующий день лаборатория была замкнута на ключ, а я получил в подарок мех. Этот дар большого удовольствия мне не доставил, и я тут же продал его за восемь су лудильщику.
Дядюшка Квансюис очень любил меня; он ценил и даже, наверное, переоценивал значение тех мелких услуг, которые я оказывал.
Ему было трудно ходить — у него болела левая нога, и много позже я узнал, что он страдал плоскостопием, — потому мне приходилось сопровождать его во время редких и коротких прогулок. Он всей тяжестью опирался на мое плечо и, переходя улицы и площади, не отрывал взгляда от земли, словно слепой, бредущий за поводырем. Во время прогулок он рассуждал на разные ученые и полезные темы, но я, к сожалению, забыл, о чем он говорил.
Некоторое время спустя после закрытия лаборатории и продажи меха он попросил меня пойти с ним в город. Я согласился с удовольствием, ибо прогулка освобождала от школы на целых полдня; к тому же просьба дядюшки Квансюиса была приказом для моих родителей, которые только и жили надеждой на будущее наследство.
В тот день наш древний и суровый город закутался в туман; моросил мелкий дождь, и капли его, словно мышиные коготки, стучали по зеленому полотнищу громадного зонта, который я держал над нашими головами.
Мы шли по мрачным улицам вдоль прачечных, перешагивая через ручьи, вздувшиеся от мыльной мутной воды.
— Подумать только, — шептал мой дядюшка, — ведь эти мостовые, от которых у нас болят ноги, звенели под копытами лошадей Карла V и его верного Геца фон Берлихингена! Башни уже давно обратились в прах и пепел, а плиты мостовых остались. Запомни этот урок, мой мальчик, и знай: все, что близко к земле, живет долго, а то, что устремляется в небеса, обречено на гибель и забвение.
Недалеко от Граувпорте он остановился, чтобы передохнуть, и принялся внимательно рассматривать облезлые фасады домов.
— А где дом сестер Шутс? — спросил он у разносчика хлеба.
Тот перестал насвистывать веселую джигу — единственное утешение в его скучной работе.
— Вон тот дом с тремя гнусными мордами над дверью. Но те, что живут в доме, еще гнусней.
После нашего звонка дверь приоткрылась, и в щель высунулся красный нос.
— Я желаю поговорить с сестрами Шутс, — произнес мой дядюшка, вежливо приподняв шляпу.
— Со всеми тремя? — полюбопытствовал красный нос.

— Конечно.
Нас впустили в широкую, как улица, и темную, словно кузница, прихожую, в которой тотчас возникли три мрачные тени.
— Если вы продаете что-нибудь… — прогнусавили хором три голоса.
— Напротив, я хочу купить кое-что принадлежавшее славному, но, увы, давно почившему конюшему Шутсу, — добродушно сказал мой дядюшка.
Три грязных совиных головы вынырнули из мрака.
— Ну что ж, можно потолковать, — вновь заговорили они хором, — хотя мы и не расположены продавать, что бы там ни было.
Я стоял у двери, борясь с тошнотой, ибо весь коридор провонял прогорклым салом и луком, и не расслышал слов, которые дядюшка произнес тихо и скороговоркой.
— Входите, — произнесли сестры хором, — а молодой человек пускай подождет в гостиной.
Я провел долгий час в крохотной комнатушке с высоченным сводчатым окном, стекла которого представляли собой какой-то варварский почерневший витраж. В комнате стояли тростниковое кресло, прялка из темного дерева да красная от ржавчины печка.
За это время я раздавил семь тараканов, цепочкой шествовавших по голубым плиткам пола, но так и не смог достать тех, что ползали вокруг треснувшего зеркала, которое поблескивало в полумраке, словно гнилая болотная вода.
Когда дядюшка Квансюис вернулся, его лицо было красным, будто он долго просидел около раскаленной кухонной печи; три черных тени с совиными головами шли следом и визгливо благодарили его.
Очутившись на улице, дядюшка обернулся к фасаду с тремя масками, и его лицо стало злым и презрительным.
— Ведьмы!.. Дьявольские отродья, — проворчал он.
Он протянул мне пакет, завернутый в жесткую серую бумагу.
— Неси с осторожностью, малыш, это довольно тяжелая вещь.
Пакет и вправду был очень тяжел, и бечевка всю дорогу резала мне пальцы.
Мой дядюшка проводил меня до дому, ибо, как уверяла Элоди, то был день святого праздника, когда мы обычно ели вафли с маслом и пили шоколад из голубых и розовых кружек.
Против обычая, дядюшка Квансюис был молчалив, ел неохотно, но в его глазах плясал радостный огонек.
Элоди мазала маслом дымящиеся вафли и поливала их кремом, который застывал, образуя квадратики; вдруг она яростно вскинула голову.
— В доме опять завелись крысы, — проворчала она, — слышите, как возятся эти проклятущие обжоры!
Я в ужасе оттолкнул тарелку, услышав вдруг шорох рвущейся бумаги.
— Никак не могу понять, откуда доносится их противная возня, — сказала она, бросая взгляды в сторону кухни.
Шорох доносился с десертного столика, на который обычно складывали ненужные предметы. Но сегодня столик был пуст, на нем не было ничего, кроме пакета из серой бумаги.
Я хотел заговорить, но заметил, что глаза дядюшки в упор смотрели на меня — они были красноречивы, и в них можно было прочесть настоящую мольбу о молчании.
Я промолчал, и Элоди ничего больше не сказала. Но я знал, что шорох доносился из пакета, и даже видел…
Что-то живое находилось в бумаге, обвязанной бечевкой, и это что-то пыталось освободиться с помощью когтей или зубов.
Начиная с того дня, дядюшка и его друзья собирались каждый вечер, меня же стали пускать в свое общество редко. Они часами вели серьезные беседы, словно забыв о радостях жизни.
На вот настал день святых Элуа и Филарета.
— Филарет получил от Бога и природы все, что делает жизнь приятной и нежной, — провозгласил мой дядюшка, — а святого Элуа следует любить за те радости, которые подарил нам славный король Дагобер! И будет несправедливо, если мы не отпразднуем, как положено, это двойное торжество.
Пятеро друзей ели анчоусный паштет, нашпигованных салом фазанов, индейку с трюфелями, майнцский окорок в желе и пили вино из многочисленных бутылок, запечатанных воском разных цветов.
Во время десерта, когда были поданы кремы, варенья, марципаны и миндальные пирожные, капитан Коппеянс потребовал пунша.
Дымящийся пунш был разлит в стеклянные кружки, и вскоре все захмелели. Бинус Компернолле соскользнул со стула и был отведен на диван, где тотчас заснул. Господин Финхаер решил спеть старинную оперную арию.
— Я хочу вернуть к жизни «Весталку» Спонтини, — произнес он, — пора покончить с несправедливостью!
Но арию он не запел, а вскочил на ноги и закричал:
— Я хочу ее видеть, вы слышите, Квансюис! Я хочу ее видеть, я имею на это право, ведь я помог вам ее отыскать!
— Замолчите, Финхаер, — гневно вскричал дядюшка, — вы пьяны!
Но господин Финхаер, не слушая его, уже выбежал из комнаты.
— Остановите его, он наделает глупостей! — завопил дядюшка.
— Да, да! Остановите его, он наделает глупостей, — поддакнул доктор ван Пиперцеле, еле шевеля языком и глядя мутными глазами на дверь.
Мы услышали шаги Финхаера, взбегающего на верхний этаж. Дядюшка бросился вслед за ним, волоча за собой обычно услужливого, но сейчас упирающегося ван Пиперцеле.
Капитан Коппеянс пожал плечами, выпил свой пунш, наполнил кружку снова и набил трубку.
— Глупости, — пробормотал он.
И в это время раздался крик ужаса и боли, а потом послышались восклицания, и что-то упало.
Я слышал, как Финхаер кричал:
— Она ущипнула меня!.. Она откусила мне палец!..
Дядюшка стонал:
— Она удрала… О боже! Как мне теперь ее отыскать?
Коппеянс выбил из трубки пепел, встал, вышел из столовой и начал с трудом взбираться по спиральной лестнице, ведущей на бельэтаж. Я последовал за ним, сгорая от страха и любопытства, и проник в комнату, в которой до этого никогда не бывал.
В ней почти не было мебели, и я сразу увидел дядюшку, доктора ван Пиперцеле и господина Финхаера, стоявших вокруг громадного центрального стола.
Финхаер был бледен как полотно, его рот кривился от боли. Залитая кровью правая рука висела, как плеть.
— Вы открыли ее, — повторял мой дядюшка, и в его голосе звучал ужас.
— Мне хотелось рассмотреть ее поближе, — хныкал Финхаер. — О! Моя рука… Как она болит!
И тут я увидел на столе маленькую железную клетку, с виду очень тяжелую и прочную. Дверца была открыта, а клетка пуста.
В день святого Амбруаза мне нездоровилось, как и любому лакомке, ибо накануне, в день святого Николая, я объелся сладостями, пирожными и леденцами.
Ночью мне пришлось подняться — во рту было противно, а в животе я ощущал тяжесть и колики. Когда мне полегчало, я выглянул на улицу. Было темно и ветрено, по стеклам стучал мелкий дождь.
Дом дядюшки Квансюиса стоял почти напротив нашего, и я удивился, что в столь поздний час сквозь шторы его спальни сочился желтый свет.
— Он тоже болен, — усмехнулся я со злорадством, вспомнив, что накануне дядюшка взял себе из моих подарков пряничного человечка.
И вдруг откинулся назад, еле сдержав крик ужаса.
По шторе носилась тень — тень отвратительного гигантского паука. Существо бегало вверх и вниз, бешено крутилось на одном месте и вдруг пропало из моих глаз.
И тут же с противоположной стороны улицы донеслись душераздирающие призывы о помощи, пробудившие улицу Хэм от глубокого сна. Во всех домах распахнулись окна и двери.
Этой ночью мой дядюшка Франс Петер Квансюис был найден в своей постели с перерезанным горлом.
Позже мне рассказали, что горло у него было разорвано, а на лице не осталось живого места.
Я стал наследником дядюшки Квансюиса, но я был слишком молод, чтобы вступить во владение его довольно значительным имуществом.
Однако мне, как будущему владельцу, разрешили бродить по всему дому в тот день, когда судебные исполнители составляли опись имущества.
Я забрел в холодную, черную, уже запыленную лабораторию и подумал, что придет время, когда я с удовольствием вернусь в таинственный мир старого алхимика с его колбами и печами.
И вдруг у меня перехватило дыхание — мой взгляд остановился на предмете, притаившемся в углу между двумя стеклянными пластинами.
Это была громадная перчатка из черного железа, покрытая, как мне показалось, не то клеем, не то маслом.
И тут сквозь мешанину смутных воспоминаний пробилась ясная мысль, возникшая в голове сам не знаю откуда, — железная рука герцога Геца фон Берлихингена!
На столе лежали большие деревянные щипцы, с помощью которых с огня снимались горячие колбы.
Я вооружился ими и схватил перчатку. Она была так тяжела, что моя рука опустилась почти к самому полу.
Окно погреба, расположенное на уровне мостовой, выходило прямо на маленький глубокий канал, впадавший затем в Прачечный канал.
Туда-то я и понес свою зловещую находку, отставив ее как можно дальше от себя. Я с трудом сдерживался, чтобы не закричать от невыразимого ужаса. Железная рука извивалась, как фурия, откусывая от щипцов щепки и норовя схватить меня за пальцы. А как она пыталась броситься на меня, пока я держал ее над водой!
Она упала в воду с громким всплеском, и долго еще громадные пузыри кипели на поверхности тихих вод, словно какое-то чудовище захлебывалось на дне в муках и отчаянии.
Мало что осталось добавить к странной и ужасной истории моего дорогого дядюшки Квансюиса, которого я до сих пор оплакиваю от всей души.
Я больше никогда не видел капитана Коппеянса, ушедшего в море и пропавшего в бурю вместе со своим лихтером где-то у Фрисландских островов.
Рана господина Финхаера воспалилась. Ему сначала отняли кисть, а потом и всю руку, но это не помогло, и он вскоре умер в ужасных мучениях.
Бинус Комперноле захворал и уединился в своем доме в Мюиде, где никого не принимал, ибо дом был печален и грязен. Доктор ван Пиперцеле, которого я изредка встречал, делал вид, что не знает меня.
Десятью годами позже маленький Прачечный канал был засыпан. И во время работ там по неизвестной причине погибли двое рабочих.
Примерно в то же время на улице Тер-Неф, что по соседству с улицей Хэм, было совершено три кровавых убийства, так и оставшихся безнаказанными. Там возвели красивый новый дом, в который сразу после ухода строителей вселились три сестры Шутс. Те самые старухи, с которыми я познакомился в прежние времена. Их нашли удушенными в собственных постелях.
Я покинул дом на улице Хэм, в котором поселилась смерть и откуда ушла радость. Там я оставил все, что осталось от наследства дядюшки, — большой гипсовый бюст римского воина в пластинчатой кольчуге. Но взял с собой дядюшкины записки, которые часто перелистываю до сих пор, в поисках какой-то неведомой мне тайны.
Тарелка из мустьерского фаянса
Согласен, у меня отвратительная репутация.
Но, когда люди сообщали это в неподходящий миг, они умирали, получив меж ребер удар четырехдюймовым лезвием. Скажу правду, сэр, вы щедры и угостили приличным виски; однако лучше не злоупотреблять пустыми и неблагозвучными словами в мой адрес.
Хаузер, который командовал бригом Единорог, умер от лихорадки в морском госпитале; всю свою жизнь буду сожалеть об этом достойном человеке. Говорили, он подцепил болезнь в проклятых туманах на реке Флиндерс; другие утверждают, его укусила рогатая гадюка, которыми кишат эти непредсказуемые воды. Их яд действует медленно, но смерть неотвратима.
Рулевой Клаппенс, разыскиваемый полицией трех или четырех стран, рассудил здраво и смылся; добрался до Фриско, а оттуда до Иллинойса, где, поговаривают, занимается разведением скота.
В 1907 году Единорог стал на вечный якорь в дальней гавани Сиднея в том месте, где за ним нет должного наблюдения. Но красть на борту уже нечего, если только вы не любите гигантских тараканов и серых крыс.
Бриг был неплохой, хотя мне не нравился слишком длинный и высокий гафель бизань-мачты, что превращало судно в широкую, плохо управляемую бригантину.
Если я проскользнул в кают-компанию, то не из дурных намерений, а, как уже говорил, из любви к Хаузеру — хотелось взять что-нибудь на память о нем.
Я ничего не нашел, впрочем, и не ожидал найти; однако в потайном отделении буфета среди битой посуды наткнулся на целую тарелку.
Я уже говорил, что происхожу из отличной семьи, давшей мне неплохое образование. Не хвастаюсь знаниями, но иначе вам не понять, как я распознал великолепный мустьерский фаянс с гротескной отделкой, относящийся к странному второму периоду производства при Клерисси, когда фигурки заимствовались у фламандца Флориса и прекрасного Калло.
Центральная фигура тарелки — отвратительный человечек с огромным свинообразным рылом, одетый в желтый кафтан с пышными рукавами и шляпу с пером и сидящий на химере, настоящей карикатуре на мифическое чудище, — не имела ничего общего с искусством этих художников, а, похоже, родилась по чьей-то неведомой фантазии.
Я бы сохранил этот сувенир, не проиграй девять шиллингов и два мексиканских пиастра в криббедж. Блох-Сандерсон, еврей с Шепперд-лейн, дал за тарелку фунт, пообещав еще два, если я принесу парный предмет.
Я тогда не особо рылся в шкафу, а потому вернулся на Единорог.
Было холодно и темно, фонарь светил очень плохо.
Я не нашел второй тарелки из мустьерского фаянса, но наткнулся на большую пузатую бутылку, наполненную приятно пахнущим напитком.
На берегах реки Флиндерс живет племя ловцов голотурий, людей ужасно уродливых, занимающихся любопытным промыслом. Они хоронят своих мертвецов в наряде из перьев, который тянет в Фриско на пятьсот долларов, и производят из озерных водорослей и ягод крепкий напиток изумительного вкуса. Я не сомневался, что мне в руки попала бутыль этого дьявольского вина, которому с удовольствием отдал должное. Когда же захотел выбраться на твердую землю, ноги у меня стали заплетаться, а голова затяжелела. Потому я решил улечься на скамье в каюте, где не раз отдыхал бедняга Хаузер.
Я проснулся при мрачном желтом свете зари. Судно качало, как бочонок в трюме.
— Боже, — пробормотал я, — что за поведение у судна, стоящего на вечном якоре.
Вышел на покосившуюся от качки палубу, и с моих уст сорвались гневная брань и крики ужаса.
Я был в открытом море!!!
Единорог шел под всеми парусами, рассекая пенные буруны.
— Что за сучий сын устроил такое? — воскликнул я.
— Я, — ответил высокий голос.
На планшире левого борта сидел ужасный человечек ростом с горшок. Я застыл с разинутым ртом.
— Черт подери, где я видел вашу поганую рожу? — закричал я, когда первое удивление прошло, и ко мне вернулась речь.
— Эта рожа принесла тебе фунт, — закудахтал человечек, — хотя стоит много больше. Не будь я в отличном настроении из-за чудной погоды, то принял бы твои слова за оскорбление, и ты, сушеная треска, дорого бы заплатил за свой язык без костей!
Ну и дела!
Меня обозвал сушеной треской какой-то недомерок ростом с сапог, тайком увезший в бурное море. Шутка показалась мне неудачной, и я, сжав кулаки, направился к нему, но он расхохотался.
— Успокойся, а то в дело вмешается Кроппи!

Я услышал за спиной свист, обернулся и столкнулся нос к носу с химерой с тарелки. Только размером она была с датского дога и выглядела опасной.
— Ну, ладно, — сказал я, — в бутылке был дурман, а теперь мне снятся кошмары.
— А вот и нет, — снова заговорил мерзавец, — забудь о кошмарах. В мире нет ничего реальнее, чем я и Кроппи… Иди, дружок, на камбуз и приготовь поесть.
Чудовище угрожающе засопело, и я подчинился. К великому моему удивлению, камбуз ломился от отличных припасов — мяса, сала, датского сливочного масла и сушеных овощей. Я сварганил рагу. Вывалил все на блюдо и крикнул, что еда готова.
— Накрой в кают-компании, идиот, — посоветовал карлик, — и поставь четыре прибора. Где твои глаза, матросик, если не заметил, что у Кроппи три головы?
Действительно, у чудища было три отвратительных и глупых головы. От него несло серой, чесноком и копченой рыбой.
— Ба! — утешил я сам себя. — В конце концов, кошмар не так уж отвратителен, поскольку жратва имеет вкус сала, красной чечевицы и карри. Завтра приготовлю пудинг с араком!
Наступила ночь. Я сварил кофе и приготовил сэндвичи с говядиной, соленой семгой, уложив их на свежие морские галеты. Без труда отыскал бочонок рома и выпил целую пинту, не спросив разрешения странных начальников.
На третий день путешествия слева по борту и по ветру появился остров.
Погода стояла ясная и тихая. Из моря выросли кокосовые пальмы, неподвижные, словно их вырезали из жести. Поверхность воды рассекали плавники и хвосты двух или трех синих акул.
— Совершим прогулку по бережку? — крикнул я. — Это будет легко. Вы меня слышите?
Бриг сам повернул бушпритом в направлении прохода в атолл.
— Следует убрать часть парусов, чтобы не разбить морду дюжине инфузорий, — добавил я, будучи в отличном настроении.
Ответа не последовало.
Я бросился на поиски карлика в желтом кафтане и трехголового дога, но не нашел их.
Между тем Единорог скользнул вдоль стен из серого коралла и словно приклеился к причалу.
Я потратил некоторое время, чтобы спустить паруса. Работа оказалась на удивление легкой, хотя обычно требует более одной пары рук.
— Послушайте, — крикнул я, — если нравится, прячьтесь, я а хочу походить по палубе для коров, местечко мне нравится.
Мне довольно хорошо известны южные острова, и тот, по которому ступал, ничем не отличался от островов, где приходилось бывать, добывая копру или трепангов.
Кокосовые пальмы были высокими, плодоносными и ухоженными; в прозрачной и спокойной воде атолла скользили рыбешки. На дне колыхались длинные водоросли. Твердая почва блестела, словно ее припудрили слюдой.
— Наверняка, здесь есть деревня, — бормотал я, двигаясь по утоптанной тропинке.
Прошел около лье сквозь заросли, не заметив ни малейшего дымка.
И вдруг, повернув почти под прямым углом, увидел дом.
Никогда бы не подумал, что такая усадьба из розового кирпича может стоять среди джунглей Океании.
— Хорошее гнездышко, которое сперла птичка Рокк где-то во Франции и перенесла в эту забытую богом дыру, — воскликнул я. — Но чему удивляться? Чего я только не увидел с того вечера, когда посетил наш славный Единорог! Смотри-ка, здесь живут люди!
Дверь в глубине высокого крыльца была приоткрыта, за ней открывалась красивая гостиная.
Я принюхался к запахам дома, похоже, принадлежащего зажиточному буржуа — ароматы кухни, варенья и испанского табака.
Я колебался, какую из трех или четырех дверей выбрать, когда нежный и вежливый голос пригласил:
— Входите в крайнюю справа, мистер Гроув!
Меня действительно зовут Натаниель Гроув. Но из всех необъяснимых вещей, случившихся во время моих приключений, та, что меня узнали, показалась мне самой удивительной.
— Меня и вправду зовут Натаниель Гроув, — сказал я, входя в гостиную, розовую как внутренность граната.
В низком кресле с сигаретой во рту сидела и улыбалась молодая дама с приятным лицом.
— Араковый пунш, виски или французское шампанское? — осведомилась она.
— Вы очень любезны, — сказал я, здороваясь. — А поскольку столь любезны, с охотой отведаю шампанского.
Золотистая пробка взлетела к потолку, и мне поднесли высокий хрустальный бокал.
— Коли вы знаете мое имя, — я уже осмелел, ибо незнакомка подмигнула мне с излишне игривым видом для дамы хорошего воспитания, — простите за нахальство, но с кем имею честь общаться?
— Называйте меня графиней! — со смехом ответила она.
— Охотно, — мой смех звучал еще громче, — тем более, я и сам маркиз.
Она извлекла из серебряного ящичка сигарету и дружеским, грациозным жестом бросила мне. Я поймал ее на лету.
— Значит, вы и были тем человеком, кто украл мустьерскую тарелку барона Нюттингена?
— Ого! — возразил я. — Вы, похоже, в курсе дела, но я ничего не знаю о вашем бароне.
— Он провел в вашей компании несколько дней вместе с верным Кроппи. Полагаю, после долгих лет заточения он воспользовался вашей глупостью, чтобы подышать свежим воздухом и немного размять ноги.
— Хм, — промычал я. — Не очень-то понятно. Кроме того, вы обвиняете меня в глупости. Было бы неплохо объясниться, ибо вопросы чести и вежливости, милая дамочка, простите, графиня, волнуют меня в первую очередь.
— Справедливо, — согласилась она, наполняя мой бокал. — Пора объясниться. Меня зовут Жанна Ардан, графиня Фрондевиль. Вам что-нибудь говорит это имя, мистер Гроув?
— Хм… если только… У меня есть кое-какие исторические познания… в связи с обучением, которое мне навязали в Кембридже. В начале XVI века где-то во Франции, кажется в Альби, жила некая дама Ардан, окончившая дни на костре за обман и колдовство.
Она кивнула.
— Знания делают вам честь, мистер Гроув. Так вот я и есть та самая дама Ардан, как вы сказали.
— Браво! — воскликнул я. — Вы любите посмеяться, но и я люблю хорошую шутку, а эта в моем вкусе. Я за свою жизнь видел нескольких людей, которые упрямо не хотели выходить из горящего дома, и поджарились живьем. Они не походили на вас.
— Вы мне делаете комплимент, — она мило погрозила пальчиком. — Однако надеюсь, вы считаете, что я говорю правду. Конечно, признаюсь, я выглядела не очень красивой, когда костер погас и альбигойский палач извлек мои останки. К счастью, мой учитель, специалист по черной магии, ученейший Бартоломе Луструс, с помощью могучих заклинаний вернул мне подходящий облик, который вы и видите перед собой, мистер Гроув.
— Он… действительно подходящий, — в изумлении пробормотал я.
— Не буду утомлять долгими рассказами, — продолжила она. — Человек, отдавший меня в руки судей, был моим кузеном, бароном Нюттингеном. Он ухаживал за мной. Вы знакомы с ним, мистер Гроув, и согласитесь, что у него неприятное лицо, отвратительный характер, и муж из него получился бы никудышный. Мой добрый учитель Луструс помог своей наукой, и я на тысячу лет засадила его в мустьерскую тарелку.
— Засадили в тарелку? — вскричал я.
— Вы не читали волшебных сказок, мистер Гроув, иначе у вас не было бы такого выражения лица. Великий царь Соломон точно так же поступал с раздражавшими его людьми и джиннами; волшебные сказки основываются на остатках древней и истинной мудрости. Итак, я заточила Нюттингена, а в охранники выделила отвратительного трехглавого Кроппи, которого скопировала с самой уродливой из античных химер. Ах, мистер Гроув, какую непоправимую ошибку вы совершили!
— Ошибку… я?
— Продав столь ценную тарелку из мустьерского фаянса за какой-то жалкий фунт мерзкому ростовщику-еврею. Ибо вы не знаете, что сделал Блох-Сандерсон с Шеперд-лейн.
— Действительно не знаю.
— Он соскреб изображение Нюттингена и Кроппи, чтобы с помощью умелого художника изготовить изображение, якобы принадлежащее Калло! Сделав это, он вернул свободу ужасному барону.
Я хотел возмутиться, но она властным жестом заткнула мне рот.
— Бывший претендент на мою руку разработал план мести и уговорил дурня Кроппи присоединиться к нему. Они на всех парусах понеслись к острову, где я живу, и заверяю вас, буду жить еще очень долго. К счастью, благодаря знаниям моего славного Луструса я умею опережать события. Вчера Нюттинген и Кроппи свалились за борт, и акулы славно пообедали. Но я назначала барону иное наказание и, честное слово, сожалею, что он избежал его.
Она снова налила мне шампанского.
— Должна вам сообщить, — печально произнесла она, — что по закону мести обязана по справедливости воздать за глупость. Вы — увы! — займете место противного Нюттингена. Но придется обойтись без Кроппи или другого компаньона.
Я засмеялся, вернее, захохотал…
— Если вам в голову ударило шампанское, — желчно сказал я, — мне понятно… Вы вовсе не колдунья, и вас никогда не сжигали, но вы очень красивы. Правда, сегодня… вы пьяны… очень пьяны.
— Жалкий кретин! — прорычала она.
Меня подхватило торнадо, и… я оказался в Сиднее, в дальней гавани Сиднея, напротив Единорога, который тихо покачивался, стоя на вечном якоре.
Я рассказал вам довольно приятный сон, которым меня наградили дама и ее шампанское.
Но скажу правду — я проспал трое суток кряду. Эти ловкачи с берегов реки Флиндерс с их вином из водорослей и являются подлинными колдунами в этой истории.
Здесь Натаниель Гроув временно исчезает из нашей истории.
Он рассказал об абсурдном приключении Мэплу Теобальду Фитцгиббонсу, уважаемому человеку, известному в морских кругах Сиднея и даже всей Австралии.
Фитцгиббонс ушел, пожав плечами и не жалея о нескольких шиллингах, потраченных на виски.
Но через неделю он оказался перед лавчонкой Блох-Сандерсона.
— Не желаете воспользоваться оказией, мистер Фитцгиббонс? — воскликнул еврей, увидев его. — У меня есть великолепная тарелка из мустьерского фаянса работы Жака Калл о. Вот она, что скажете?
— Это Калло? Вы смеетесь надо мной, — возмутился Фитцгиббонс, знавший толк в хороших вещах.
— Что такое? Несколько дней назад здесь был подлинный Калло, а теперь… Каким адским колдовством на моей тарелке оказался пьянчуга-матрос?
Мэпл Теобальд Фитцгиббонс узнал Натаниеля Гроува.
— Все равно, покупаю, — сказал он, едва скрыв волнение.
Дома рассмотрел приобретение в мощную лупу.
Изображение Гроува было заделано в фаянс по мустьерской технологии, при которой отлично выделенные контуры и линии немного приглушают цвета и оттенки. Детали поражали четкостью, а под лупой даже виднелась четырехдневная или пятидневная борода моряка.
Но больше всего поразил, даже ужаснул Фитцгиббонса взгляд — такую безысходность источают лишь глаза пленников, смотрящих из-за решеток пожизненных темниц.
— Гроув, — пробормотал Фитцгиббонс, — могу ли я что-нибудь для вас сделать?
Показалось ему или нет, а может, дернулась рука с лупой? Лицо Гроува скривилось, а губы шевельнулись…
На помощь Фитцгиббонсу пришло старое недомогание — в юности он страдал глухотой из-за слишком близкого взрыва в карьере, выучил язык глухонемых и умел читать по губам.
Гроув медленно произнес:
— Флин-дерс…
И все. Сколько Фитцгиббонс ни старался, Натаниель Гроув остался, как говорят детишки, нем, как картинка или золотые рыбки на китайском фарфоре.
Фитцгиббонс, человек действия, разбогатевший на фрахте и рыбной ловле, терзался от скуки и не знал, куда потратить нажитые фунты. Он раздумывал недолго и принял решение отправиться на поиски приключений.
Мортон и Дув, кредиторы покойного Хаузера, имели право распоряжаться Единорогом и только ждали случая заработать на нем.
За три недели бригада рабочих привела бриг в порядок, еще неделю Фитцгиббонс набирал экипаж из канаков и искал капитана. Капитаном стал толстяк Билл Тагби, имевший пятнадцать лет опыта в каботажном плавании и хорошо знавший залив Карпентри, куда впадали Флиндерс и ее столь же таинственная сестра Лейхард.
— Я готов подняться вверх по этому проклятому рву, — проворчал он, — и даже поглядеть, что творится на его берегу, поскольку там можно загрузиться перламутром или самородным золотом.
На Единорог поставили двигатель, и бриг ушел в море.
Через двенадцать дней в Таунсвилле на борт поднялся Фитцгиббонс. Остаток путешествия прошел без происшествий.
Когда судно встало на якорь на песчаном мелководье в стороне от устья Флиндерса, стояла чудовищная жара, и толстяку Биллу не хотелось рисковать своей персоной и снаряжать шлюпку на берег.
По соседству с Флиндерсом наблюдается странное уникальное явление «морских стрекоз» — не существующих морских насекомых, чей стрекот разносится над адскими водами Карпентри. Воздух звенит истошного жужжания — оно тысячами жал ввинчивается в мозг.
Билл Тагби не верил в морских стрекоз, а обвинял — без всяких оснований — в дьявольском шуме множество акул, кишащих в мутных водах залива.
— Не одну, так другую гадость они нам сотворят, — ворчал он по поводу хищников.
Позже Фитцгиббонс не раз спрашивал себя, почему извлек из чемодана мустьерскую тарелку; почему облокотился на перила правого борта, чтобы разглядеть рисунок на солнце.
Истекающий потом Билл курил трубку, прислонившись к кабине. Канаки спали на носу, поджав ноги и сверкая белыми зубами. Мисси, корабельная кошка, устроившись в кольце своего хвоста, смотрела желтыми глазищами вдаль, хотя свет слепил ее.
Тарелка вдруг выскользнула из рук Фитцгиббонса, легла на воду, несколько мгновений держалась на плаву, потом, медленно покачиваясь, пошла ко дну.
— Проклятье! — выругался Фитцгиббонс.
И вздрогнул от ужаса.
Окрест разнесся ужасный вопль смертельно раненного человека.
— Что случилось? — вскричал Билл, бросаясь к нему.
И снова послышался и внезапно затих крик агонии. В месте, куда упала тарелка, промелькнула огромная серая тень.
Послышался хруст, и поверхность воды окрасилась кровью.
— Дьявол! — взревел Билл Тагби. — Акула слопала человека?
Бросил взгляд на нос, где просыпались канаки.
— Все желтые морды налицо! — удивился он. — Пусть меня повесят за шею, пока я не умру, если хоть что-нибудь понимаю! А вы, мистер Фитцгиббонс?
Мэпл медленно покачал головой из стороны в сторону.
Вечером, когда Билл Тагби поднялся на палубу, Фитцгиббонс в одиночестве остался в кают-компании.
— Что я ищу? Хотел освободить беднягу Ната Гроува из странного заточения и окончательно сгубил?
Перед его глазами, раздвигая заросли, вырастала усадьба с прохладными комнатами. Он пересекал прихожую, толкал дверь и слышал, как приветливый голос предлагает французское шампанское.
Утром его пробудили от кошмаров ругательства, которые изрыгал Билл.
— Если бы речь шла о картах, я сказал бы, их составили невежды и горе-моряки, но я знаю Карпентри как свои пять пальцев…
Толстяку не хватало слов объяснить, что слева по борту возник остров.
— Здесь нет острова… И никогда не было. Конечно, Флиндерс не впервой откалывает шуточки, но ни разу не сотворял островов… тем более такого, каким он мне кажется! Даже грот Эйланда выглядит банановой шкуркой по сравнению с этим.
Фитцгиббонс увидел высокие кокосовые пальмы, которые синеватыми тенями вырисовывались в молочном утреннем небе.
В бинокль разглядел заросли и кусочек тропинки, блестевшей так, словно ее присыпали слюдой.
— К тому же атолл, — плакался Билл Тагби, — хотя в округе не наберется коралла даже на сережки для негритянки! Поверьте, мистер Фитцгиббонс, здесь пахнет нечистой силой.
Затянулся трубкой, помолчал и немного успокоился.
— В который раз Флиндерс огревает бамбуковой дубинкой того, кто подходит к его устью, — наконец философски изрек моряк. — Песок на дне и атолл перед носом!.. Так можно попасть и в Бедлам! Всё мы видели в Карпентри, но сегодня он превзошел самого себя. Зайдем в бухту?
— Подождем немного, — решил Фитцгиббонс.
Он целый день не отнимал бинокль от глаз, ожидая, что остров растает, как мираж.
Ничего не происходило, все так же синело безоблачное небо, сливаясь вдали с сапфирово-синим морем.
Вечером вспыхнули огоньки от китайских ламп, а ночь порадовала феерией серебра и черного бархата.
— Как быть? — спросил Билл Тагби, когда заря окрасила нежным цветом ватные полоски тумана.
Фитцгиббонс вздрогнул, словно его внезапно разбудили.
— Уходим, — тихо сказал он. — Включайте двигатель, Тагби, а когда поймаем ветер, не жалейте парусов.
— Будет исполнено. — Толстяк Билл даже не глянул на остров.
Кокосовые пальмы утонули в море, полоска прибоя вспыхнула на горизонте белым пламенем — остров исчез.
Кладбище Марливек
Длинная трубка из гудской глины, набитая добрым голландским табаком, тихо попыхивает и без устали пускает кольца в теплом воздухе комнаты.
Комната наполнена чудесными ароматами печенья с маслом, крутых яиц, сала, чая и земляничного варенья.
Улица сера и безмолвна, муслиновые шторы пропускают сквозь свое сито подвижные и неподвижные тени, но меня это не волнует; улице я предпочитаю свой садик, который вызовет зависть у любого геометра — четкий прямоугольник, заключенный в строгие стены и прорезанный ровными тропинками, проложенными по шпагату.
Последние дни осени лишили его последних тайн, но три ели и одна лиственница хранят зеленое богатство, ведь эти упрямые деревья заключили пакт с зимой.
Мой сосед, преподобный отец Хигби, говорит, что я счастливый человек, поскольку живу в одиночестве.
Я согласен с Хигби, когда сижу перед аппетитно накрытым столом, ощущаю спиной метание саламандры в очаге и тону в ватных клубах трубочного дыма.
На улице царит ночь, тротуары обледенели; мимо шествует церковный староста мистер Бислоп. Он поскальзывается и падает.
Я смеюсь, отпиваю глоток чая и чувствую себя на верху блаженства — я не люблю мистера Бислопа.
Честно сказать, я никого не люблю. Я — старый холостяк-эгоист, и мои желания закон. Если я делаю исключение из правила полного равнодушия к роду человеческому, то оно касается только Пиффи. Рост у Пиффи равен шести футам, но он худ, как нитка; головка у него крохотная и словно продырявлена заплывшими свиными глазками и смешным круглым ротиком. Не буду говорить о носе, ибо у меня не хватает слов, чтобы описать пуговку розовой плоти, криво торчащую между глазками и ротиком.
На Пиффи всегда надет редингот немыслимой длины и невероятный жилет, на котором я однажды пересчитал пуговицы — их было ровно пятнадцать, и походили они на присоски осьминога.
Когда идет дождь или стоит холод, он накрывается желтым плащом, становясь похожим на бродячую будку.
У Пиффи длинные конические пальцы, которыми он извлекает из всех предметов противные протяжные звуки. Мне кажется, эти предметы должны испытывать боль от его постукиваний, хотя люди отказывают предметам в способности ощущать.
Мой единственный друг — о! какое смелое слово — довольно часто занимает у меня деньги, не очень большие, но никогда их не возвращает. Я не требую их обратно, поскольку обязан ему странными и весьма яркими переживаниями. Пиффи — истинный охотник за тайнами и делится со мною своими потрясающими открытиями. Благодаря ему я познакомился с Человеком Дождя, а вернее, с бродячим зонтиком, огромным зонтом из зеленой хлопковой ткани, который самостоятельно прогуливается по пустырям Патни Коммонс, и никто его не держит в руке.
— Если кто-то по случайности или из храбрости спрячется под ним, то навсегда провалится под землю, — утверждал Пиффи.
Однажды вечером, когда я следовал за одиноким зонтиком, нищенка попросила у меня денег.
— Дам тебе полкроны, если посмотришь, что находится под этим зонтиком, и расскажешь мне.
Она бросилась исполнять мое пожелание. Немного воды и песка взметнулось с поверхности земли, а Человек Дождя безмятежно продолжил путь по Патни Коммонс. Я был доволен, поскольку опыт доказал, что моя вера в Пиффи основывалась на солидных фактах.
В другой раз он привел меня к большой, абсолютно гладкой стене, окружающей парк Бриклейерс.
— Видите, на этой стене нет ни окон, ни дверей. Однако иногда в ней возникает квадратное окошко.
Однажды вечером я действительно увидел, как оно поблескивает тусклым красноватым светом, но приблизиться и заглянуть в него не осмелился.
— И правильно сделали, — объявил Пиффи, — иначе вам бы отрезало голову.
В то утро я испытывал невероятное чувство счастья, когда три резких удара сотрясли оконное стекло, и на муслиновых занавесях заколебалась огромная тень.
— А! Пиффи, — воскликнул я, — заходите, выпейте чаю и отведайте вкуснейшего печенья.
Его палец нарисовал в воздухе арабески и указал в определенном направлении — Пиффи предпочел выпить стаканчик выдержанного шерри, хотя я скуп на спиртное.
Но, пребывая в отличном настроении, наполнил два стакана хмельным напитком.
— Расскажите мне что-нибудь, — попросил я.
Пиффи забарабанил по столешнице.
— Я ничего не рассказываю, а касаюсь неведомого. Я отвезу вас на кладбище Марливек!
Стакан задрожал у меня в руке.
— Ах! Пиффи, — вскричал я, — неужели, правда, но такого быть не может. Вспомните о нашей прогулке в Вормвуд Скраббс… Его там не оказалось.
— Его там уже не оказалось, — поправил меня Пиффи мрачным голосом.
— Будь по-вашему. Мы дошли почти до конца Паддингтона, а вечер был преотвратительный. Я тогда сильно простудился, а кладбище…
— Исчезло незадолго до нашего прихода, уверен в этом, поскольку видел огромную черную и пустую равнину.
— К которой не хотелось приближаться. Она походила на зияющую бездну. Кто знает, что это за кладбище!
— Кто знает! — мечтательно повторил Пиффи. — Но сегодня оно не ускользнет от меня с привычной легкостью, ибо я отправлюсь на него днем.
— И я, наконец, его увижу? — осведомился я.
— Даже войдете, — торжественно пообещал мой приятель. — Я не дам ему возможности укрыться под землей, как кроту, или взлететь в воздух, как птице. Нет, нет, кладбище Марливек у меня в руках!
Саламандра за спиной мурлыкала как кошка; на горячей тарелке грудой высилось жаркое, вино играло, как авантюрин, вспыхивая крохотными солнцами; плащ Пиффи блестел как брюхо улитки.
Моя трубка запыхтела «оставайся… оставайся».
— Пошли, — нетерпеливо сказал Пиффи. — Нам предстоит довольно длинная дорога. К счастью, нас сегодня подвезет трамвай.
Мы сели в трамвай на мерзкой поперечной улочке Бермондси, которую я знал, но на которой никогда не видел трамвайных путей. Вагончик был грязный, и его тащила пара лошадей, что меня удивило. Я поделился сомнениями с Пиффи.
— По специальному разрешению олдермена Чипперната, — заявил он и потребовал у кондуктора два билета до Марливека.
Кондуктор выглядел престранно, и я опять обратился к Пиффи.
Он яростно закивал головой.
— Что вы думаете о единороге или золотистой жужелице? — спросил он. — Но лучше сделать вид, что мы его не замечаем, никогда не знаешь, как держаться с такими личностями.
Кондуктор взял у нас деньги, плюнул на них и засунул в рот, потом, забыв о лошадях, уселся на перила платформы и принялся терзать свой нос, вытягивая его, словно хобот.
Трамвай катил с приличной скоростью, но я не мог понять, каким маршрутом он шел. Мы пересекли Мерилбон, а через мгновение понеслись вдоль Клапхэм-род. Я узнал Марбл-Арч, Сент-Пол, а через несколько секунд потянулись грязные набережные Лаймхауза. Я, кажется, даже заметил почтовый фургон перед мэрией Кенсингтона в момент, когда мы въехали во двор Чаринг-Кросс, хотя их разделяют целых двенадцать миль. Пиффи не обращал внимания на столь удивительные вещи; он извлек из кармана горсть монет и бросал их по одной в окошечко кондуктору, а тот ловил их желтыми зубами.
Вдруг он прекратил дурацкие игры и воскликнул:
— Мы на верном пути!
Верный путь оказался огромным глинистым пустырем противного желтого цвета, по которому с глухим шумом били грозовые капли. Горизонт тонул в туманах и дымке, но нигде я не видел и следа жилья.
Кондуктор прекратил обезьяньи ужимки и занялся лошадьми и вожжами; я заметил, что ошибся — в его облике не было ничего странного, на облучке сидел угрюмый желтолицый человечишко.
Он несколько раз обернулся к нам, жалуясь на желудок и печень и спрашивая, действительно ли пилюли Меррибингл соответствуют газетной рекламе. В этот момент, хотя ничто не указывало на это, мне показалось, что мы находимся где-то в Слутерсхилле. Я сказал об этом Пиффи. Он развлекался тем, что щелкал орехи, которые доставал из кармана плаща. Пиффи пожал плечами:
— Не все ли равно, Слутерсхилл или Земля Ван-Дамена? Главное, что мы ухватили кладбище Марливек за хвост!
— Приехали! — вдруг закричал кондуктор. — Вагон дальше не пойдет, не опоздайте к отправлению.
— Другого трамвая нет? — спросил я.
Он сурово посмотрел на меня и принялся загибать пальцы.
— Ровно через сто два года, к тому же с учетом полной луны, — объяснил он. — Поспешите, мы поговорим о пилюлях Меррибингл на обратном пути.
Пиффи уже вышагивал по каменистой тропинке между двумя ручьями, наполненными ревущей водой.
— Ага! — завопил он. — Вот оно!
Перед нами высилась громадная серо-стальная стена с острыми наконечниками по верху. Из-за нее торчали вершины хвойных деревьев. Я даже различил на фоне туч тени гигантских крестов.
— В окрестностях есть лишь одна таверна; считается хорошим тоном остановиться там и что-нибудь заказать. Успокойтесь, напитки здесь отменные, а пища — вкусна и обильна.
Я заметил узкое высокое строение, одиноко торчащее на глинистой равнине. Словно его вырезали из жилого квартала и оставили здесь, чтобы разжечь аппетит камнееда. Пиффи толкнул дверь, и мы оказались в высоком светлом помещении — по нему гуляли волны тепла от горящих в очаге поленьев и угля. Стены были покрыты странными, но великолепными фресками серебристо-серого цвета; на одной из них я узнал, как мне показалось, «Остров Смерти» Беклина и сообщил о своем открытии спутнику.
Он скривился и отрицательно покачал головой.
— Нет, милый друг, просто растрескалась штукатурка, а остальное довершили улитки, которыми буквально кишит эта местность. Но не отрицаю, что и улитки наделены душой художника, отнюдь!
Я перевел взгляд со странных миражей и в восхищении оглядел буфет и стойку. На ней, сверкая всеми цветами радуги, теснились бутылки с напитками всех четырех стран света.
— Есть сыр, говядина, холодная баранина, соленая семга, копченый окорок и бананы в сиропе! — воскликнул Пиффи. — Но я удовольствуюсь грогом с пряностями. Эй!.. Кто-нибудь!
Человек возник, словно из-под земли.
Невысокий толстяк, не более пяти футов ростом, кругленький и лоснящийся. Торчащее брюхо внушало доверие, но лысый круглый череп, на котором светились зеленые глаза, поражал отталкивающим уродством.
— Ах! господа, — произнес он девичьим голоском, разинув огромную черную пасть с тусклыми клыками, — добро пожаловать. Я подам все, что пожелаете!
Я выпил ледяного кюммеля, датского шерри-бренди, голландской имбирной с добавкой зеленой мяты.
— Сейчас или никогда, — шепнул мне на ухо Пиффи. — Пора пройтись по кладбищу. Решетчатые ворота в двадцати шагах отсюда.
— А вы?
Он покачал головой.
— Невозможно. Предпочитаю прогулке под дождем этот изумительный грог.
Я в одиночестве оказался перед величественной решеткой. Мое внимание привлек раскачивающийся шнур звонка, и я прочел табличку с рельефными буквами: «Позвоните три раза сторожу».
Я дернул три раза за шнур и услышал в кладбищенской тиши звук колокола.
Один, два, три.
К решетке выпрыгнул белый кролик с красными глазами, уселся столбиком, потер мордочку, посмотрел на меня и ускакал прочь.
Больше никто не появился, и я снова три раза позвонил.
Решетка заскрипела и распахнулась, словно под дыханием ветра; появился одноногий бентамский петух, пригладил перья, угрожающе ткнул клювом в мою сторону и исчез.
— Ну и ладно, обойдусь без сторожа, ведь решетка открыта, — проворчал я.
Передо мной простиралась обширная зеленая лужайка, окруженная могильными плитами и огромными памятниками с эпитафиями.
— Хорошо населенное кладбище, — буркнул я себе под нос, — но оно не очень отличается от тех, что уже посещал.

Впрочем, вон тот бронзовый проходимец, который виднеется сквозь ветви ив, выглядит необычно.
Мой взгляд привлекла тяжелая зеленоватая статуя, вдвое превышавшая рост человека; истукан держал в руке чудовищного размера песочные часы и опирался на могильную плиту.
— Ты не очень красив, но велик и силен и должен прилично весить.
Не знаю, какие катаклизмы или скрытная работа непогоды искалечили лицо символического хранителя мавзолея, но скульптура внушала страх — изъеденное серой зеленью лицо отвратительно скалилось.

Я прочел на плите — Семейство Пебблстоун.
— Должно быть, Пебблстоуны обладали мошной, набитой золотом, чтобы позволить себе такое могильное чудище, — сказал я и уселся на край плиты, чтобы выкурить трубку, ибо воздух был холодным и влажным.
На границе лужайки торчала настоящая изгородь из стел и пузатых камней, за ней проглядывалась ледяная поверхность — мне показалось, что там располагалось детское кладбище.
— Набито постояльцами, как нигде! — воскликнул я и с громадным наслаждением раскурил трубку.
В это мгновение кто-то коснулся моей спины.
Я повернулся и с удивлением отметил, что бронзовая статуя находилась намного ближе, чем прежде.
Кроме того, бронзовый человек поменял песочные часы на чудовищный серп.
Я вспомнил, что серп всегда идет в паре с песочными часами, и упрекнул себя в рассеянности. Повернулся спиной к статуе и испытал потрясение.
Стена стел и камней сдвинулась вправо, перекрывая дорогу к входной решетке; детское кладбище, похожее на бледное море, медленно колыхалось, смещаясь к выходу с кладбища.
Я вскочил на ноги и с ужасом заметил, что с опасностью для жизни задел железный серп.
— Черт подери, — сказал я себе, глянув на острое как бритва лезвие — такие игрушки нельзя оставлять в руках людей, даже если они из бронзы.
Я направился к выходу, но понял, что зрение не обмануло меня — на дорожке выросли стелы и камни, детское кладбище спешило преградить путь к отступлению. Ускоряясь, оно ползло в мою сторону.
Я бросился бежать и подскочил к решетке в миг, когда обломок колонны из красного мрамора бросился передо мной на землю, словно огромный безголовый питон. Чудом увернувшись от него, я выскочил за решетку — она захлопнулась за моей спиной, зловеще лязгнув. Я обернулся — странный бронзовый гигант одной рукой вцепился в решетку, другая с беспощадной свирепостью размахивала серпом.
В несколько прыжков я оказался на крыльце таверны.
Дверь была закрыта, я принялся стучать в нее, призывая Пиффи.
За стеклом возник лунный череп, и зеленые глаза трактирщика пронзили меня.
— Он уже ушел! — фальцетом проблеял он.
— Впустите!
— Вы не войдете! — завопил негодяй. — Убирайтесь!
— Не уйду, пока не выскажу все, что думаю о вашем поганом кладбище, — с внезапной яростью крикнул я.
Он усмехнулся и показал мне нос.
— Что скажут, если узнают, что его сторожит белый кролик?
— Бе… белый кролик? — он отвратительно икнул и взгляд его помутнел.
— А что скажут об одноногом бентамском петухе?
Круглое лицо побледнело и прижалось к стеклу.
— Скажите… — с усилием проговорил я. — Если я суну под дверь двадцать фунтов, могу рассчитывать на…
— Шиш, грязный поганец!
— Сто фунтов!
— Нет!
Лунный череп распух от ярости и отчаяния.
— Оставьте кладбище в покое, — взревел он, — иначе оно не оставит в покое вас… вы поняли меня?
Стекло почернело.
Вдали проревела пронзительная сирена; я увидел трамвайный вагончик ярдах в ста, кондуктор яростно размахивал руками.
— Отправляемся! Отправляемся!
Я уехал без Пиффи.
Вагон качался и переваливался с боку на бок, как шлюп во время бури. Желудок мой взбунтовался от приступа неожиданной морской болезни; я еще боролся с нею, когда меня бесцеремонно выбросили на мостовую неподалеку от пожарной башни Олдгейта рядом с лавчонкой торговки каштанами, которая обозвала меня пьяницей, хулиганом и прочими неприятными прозвищами.
Жаль, что не состоялась встреча с Пиффи, ведь за ним остался должок — я ожидаю объяснений по поводу кладбища Марливек.
Пришла зима, и я, укрывшись в теплом и уютном доме, мечтал о былом спокойствии, когда на меня обрушились несчастья.
Однажды, когда я курил трубку и наслаждался пуншем, оканчивая чтение занимательной книги, в саду поднялся непривычный шум.
Глухие медленные стуки, словно там работали мостильщики, укладывающие булыжники мостовой.
Небо было закрыто низкими тучами, но иногда в просветах появлялась луна.
Я прижался лицом к стеклу, и вдруг увидел, как посреди газона, которым очень горжусь, возникла красная стела. Я узнал ее… Это была колонна, рухнувшая к моим ногам у выхода с кладбища Марливек!
Стела неуклюже раскачивалась, как пьяный моряк, но гнусная штука была не одна — вокруг нее вырастали и странными медузами скользили небольшие плиты детского кладбища.
Не страх возобладал во мне, а гнев. Я любил свой сад, и кровь моя закипела, когда увидел, что его порядок нарушили мраморные чудища.
У меня есть крупнокалиберный револьвер и мощные пули. Он шесть раз рявкнул в ночной тиши, и видение рассеялось. Но утром газон был истерзан, лиственница вырвана с корнем, ели разбиты в щепки, а сад усеивали обломки розового гранита.
Кроме того, мне пришлось унижаться, чтобы сосед Хигби не подал жалобу за ночной шум.
Как-то я заметил Пиффи в новом плаще и широкополой шляпе. Я бросился к нему, но он ужом скользнул в толпе и исчез за углом, а меня едва не сшиб проезжающий кеб.
Демон!.. Я понял, откуда на него внезапно свалилось богатство — он соблазнился предложением отвратительного человечка с голым черепом, оставив меня заложником таинственного мерзавца и его своры.
Я забыл о прелестях дома, отправился на поиски неверного приятеля и во второй раз заметил его, когда тот входил в кондитерскую на Беттерси-роу. Я схватился за край плаща.
Одежда разорвалась с сухим треском, в моих руках остался огромный лоскут, но Пиффи исчез, и я больше никогда не видел его.
В канун Нового года, когда я собирался опустить шторы и отгородиться от вечернего полумрака, над изгородью сада промелькнул тонкий предмет — знакомый страшный серп. Он несколько раз чиркнул по черепицам конька и растаял.
Через мгновение из-за изгороди показалось мрачное лицо бронзового истукана.
На меня смотрели его глаза — два огромных глаза цвета жидкого янтаря, два хищных зрачка, сверливших ночь.
Все кончено.
Он в доме.
Дверь разлетелась в куски, словно от удара тарана, кирпичи обвалились.
Ступеньки лестницы застонали и полопались, как сухостой. Вдруг шум прекратился — в доме воцарился странный и ужасный покой.
— Что это? Клик… клак… клик… клак… Железо, ударяющееся о камень…
…Боже! Он затачивает смертоносный серп…
Последний путешественник
В клетчатой каскетке и древнем пальто он перестал быть импозантным официантом «Оушен Кинс Отеля» и на семь месяцев мертвого курортного сезона превратился в простого жестянщика с Хамбер-стрит в Халле.
Мистер Баттеркап, владелец гостиницы, с сердечной улыбкой протянул ему руку.
— До будущего года, старина Джон. Надеюсь открыть заведение пятнадцатого мая.
— Если таковы намерения Бога, — ответил Джон, с серьезным видом осушая прощальный стакан виски, наполненный хозяином.
Тусклый воздух плотного тумана словно гудел от недовольного рева сильного прилива.
— Сезон закончился, — сказал Джон.
— Мы последние, самые последние, — добавил мистер Баттеркап.
Десяток фигур, согнутых под тяжким грузом, тащились по берегу в сторону плотины и китайской крыши крохотного вокзала, разукрашенного изразцами, как голландская кухня.
— Сталкеры уезжают, — заметил Джон. — Сторож мола сказал им, что сегодня выпадет снег.
— Снег, — возмутился мистер Баттеркап, — но ведь сейчас только начало октября!
Джон глянул на небо, затянутое морским туманом. В нем печально кружились чайки.
— Летят мимо болот, — сказал он, — ничего хорошего это не сулит.
Белая птица пролетела в черном небе с криком «Снеег, снеег».
— Слышите? — спросил Джон, натянуто улыбаясь.
— Снег, надо же!.. Снег, — подхватил мистер Баттеркап и философски добавил: — А мне-то какое дело? Завтра за мебелью, которая не остается здесь на зиму, придут грузовики, а послезавтра я уже буду в Лондоне.
Джон хотел было посочувствовать недолгому одиночеству хозяина, но ничего не придумал.
— Ну и что? — подтвердил он, запутавшись в мыслях.
Вдали слышалась барабанная дробь молотка, стучавшего по дереву.
— Честное слово, — удивился мистер Баттеркап, — уезжают даже Винджери. Слышите, он забивает ставни своей виллы.
— А пока вы остаетесь в одиночестве, — сказал Джон, — совсем один, как только уйдет последний поезд, начальник вокзала отправится к себе в деревню.
Мистер Баттеркап вздрогнул — один!
— Вот что значит зарабатывать в этой дыре на востоке, — скривился он, — лучше было бы устроиться в Маргейте или Фолькстоуне.
— Но дела шли неплохо, — тихо возразил Джон, похлопывая по карману с тугим бумажником.
— Да-а, — согласился мистер Баттеркап.
Далеко за горизонтом жалобно просвистел локомотив.
— У вас еще есть время. Еще виски?
— Последнее, мистер Баттеркап, в моем возрасте не очень-то побегаешь за поездами.
Мистер Баттеркап остался один в пустом темном холле. Прекратился даже стук молотка.
Он видел, как медленно тают под приливными волнами песочные замки, построенные утром детьми Сталкера. Пустой безрадостный пляж под пронзительным ветром.
«Ко-нец, ко-нец», — проскрипел бекас, улетавший с соседнего пруда.
— Сезон, сезон, — добавил мистер Баттеркап, пытаясь доказать дюжине плетеных кресел, что он еще может шутить.
Но ни бекас, ни дюжина кресел не воздали должного состоянию его души.
Глянув в сторону вокзала, он увидел отчаянно бегущего человека.
Призыв локомотива подстегнул запоздавшего пассажира, и он припустил пуще прежнего, размахивая руками, как марионетка на ниточках.
Мистер Баттеркап хихикнул от удовольствия.
— Мистер Винджери опоздал на поезд. Но так ли это смешно?
Телефонный звонок оборвал его ворчливую радость. Звонил служащий электростанции, который предупреждал об отключении тока, поскольку сезон закончился.
— Но я еще здесь, — возмутился мистер Баттеркап.
— Продолжаете работать в одиночестве? — хохотнул служащий.
— Делаю что хочу, — разозлился хозяин гостиницы.
— Конечно, мы тоже. Я же не идиот крутить динамо-машину ради вашего карманного фонарика?
— Карманного фонарика! Карманного фонарика! — возмутился мистер Баттеркап, который развесил в ресторанном зале электрические гирлянды.
— Еще бы! Карманный фонарик, растяпа!
Новый голос вмешался в разговор, голос начальника вокзала.
— Алло! Алло! Телефонная связь прекращается. Вокзальная контора и телеграф закрываются.
— Он собирается отключить электричество, — возмутился мистер Баттеркап.
— А мне все равно, — проворчал железнодорожник. — Здесь нет ночной службы, к тому же вокзал освещается ацетиленовыми лампами. Я тоже отключаю.
Мистер Баттеркап лишился части флегматичного достоинства хозяина гостиницы и сравнил обоих собеседников с некими предметами сангигиены.
— Сэ-э-эр, — завопил начальник вокзала, — вы оскорбляете чиновника, вы, торговец горячей воды!
— Водная тварь! Соленая треска! Червяк для наживки! — разозлился электрик, который по воскресеньям отдавал все время рыбалке.
Обширный словарь грязных ругательств еще некоторое время несся по проводам, потом оба служащих в унисон пожелали мистеру Баттеркапу поскорее убраться с морского курорта в Лондон или в ад, если не хочет, чтобы на его белых фланелевых брюках остались грязные следы ботинок солидных размеров.
Несчастный владелец гостиницы услышал еще, как электрик предложил железнодорожнику разогреть паровозный котел, потом захватить его за компанию, чтобы подходящими инструментами искромсать этого каналью-хозяина, а начальник вокзала выразил сожаление, что не имеет подходящих инструментов. Затем оба сотоварища договорились встретиться в любимом кабачке, где подают чудесный эль, отличное виски и вкусную жареную рыбу.
Мистер Баттеркап взял пару зеленых стеариновых свечей, торчащих в подсвечниках пианино, сотворил из бутылки из-под лимонада подсвечник и печально нацедил себе стакан виски.
Бледно-жемчужные всплески сорвались с последних лучиков света на западе.
Склоны дюн и остатки тумана тьма использовала для возведения в воздухе величественных храмов.
Пламя свечи колыхалось из стороны в сторону, погружая в опасную тень самые далекие уголки холла.
И вдруг кто-то толкнул дверь и со вздохом уселся в одно из плетеных кресел.
Мистер Баттеркап недоверчиво глянул на посетителя.
В глубине души он принял человека за одну из теней, бесцеремонно скользящих в пустом холле, но новый унылый вздох, доказал, что кресло действительно занял человек.
Свеча позволила ему рассмотреть гостя, только когда он оказался в двух шагах от него.
— Мистер Винджери! — воскликнул с облегчением хозяин гостиницы. — Вот так сюрприз!
Он забыл свой грубый язык, вновь превратившись в учтивого владельца гостиницы.
— Я видел, как вы бежали к вокзалу.
— Опоздал на поезд, — задыхаясь, ответил гость.
— Но вы здорово бежали. Боже, вам все еще не хватает дыхания.
— Грудь, — выдохнул человек, — очень слабая… больные легкие… хотел уехать… снег.
— Опять! Уверяю вас, снега не будет!
Вместо ответа мистер Винджери протянул прозрачную руку к потемневшим окнам, и хозяин гостиницы увидел мелкие хлопья снега, мелькавшие в вечернем воздухе.
— Ба! — пробормотал он. — Ба! Ну и что?
— Плохо для меня, — пожаловался гость.
— Я отведу вас домой, — сжалился мистер Баттеркап.
Мужчина покачал головой.
— Бесполезно. Вилла пуста и заперта. Останусь здесь, если у вас есть комната и немного горячего чая.
— А как же! — поспешил любезно ответить мистер Баттеркап. — Будете ужинать? Осталась холодная говядина, рыбные консервы и сыр…
— Спасибо, горячего чая с парой капелек выдержанного рома, если позволите.
— Вы мне составите компанию, — сказал мистер Баттеркап, пребывая в отличном настроении. — Представьте, я остался в полном одиночестве на всем курорте. Все уехали. Вы были последним. Октябрьская ночь. Не с кем поговорить, а в сотне шагов ревет море, да крики диких гусей — вот и все живые голоса вокруг вас. Худшее наказание для почтенного человека.
Но гость оставался столь же холодным, как и наступившая ночь. Мистер Баттеркап с ужасом увидел, как краснеет носовой платок от обильной слюны, хотя 6 слабом свете свечи кровь казалась черной и выглядела еще отвратительней.
Пожелав со стоном доброй ночи, мистер Винджери поднялся в номер, захватив с собой вторую витую свечу, которая дрожала в его руке, словно гость был пьян.
Мистер Баттеркап остался один перед пламенем, которое уже добралось до горлышка бутылки. Виски показалась ему горьким, и он допил его большими глотками, даже не ощущая вкуса. Изредка он бросал яростные взгляды на плетеную скамейку, где, как ему казалось, сидел начальник вокзала.
Но кресло было пустым, ломаные тени раздражали — только дрожащий отсвет снега немого разгонял тьму.
Когда мистер Баттеркап проснулся, по его коже неизвестно почему бежали мурашки ужаса.
Однако ночь была тихой, а лунный свет играл на мягком снегу.
Засыпая, он проворчал от недовольства, что слышит гулкий кашель мистера Винджери, сейчас ничего слышно не было.
— Он спит, — сказал он сам себе, но не мог объяснить себе, почему неведомый инстинкт заставил его сжаться в комок и укрыться в теплом убежище одеяла.
Вечер с его шествиями теней должен был показаться ему более враждебным, чем эта бесшумная и совершенно светлая ночь. Мистер Баттеркап не боялся ночи, но голоском более тонким, чем волос ребенка, он жалобно простонал:
— Ну что же творится здесь?
Ничего не происходило. Лунный свет подчеркивал тишину ночи и ничего больше.
— Что это может быть? — проскрипел он тем же тоненьким голоском.
И вдруг из глубины неподвижной ночи пришел ответ.
Он пришел в виде тяжелого стука свинцовых подметок без всякого эха.
Эти шаги звучали в доме и теперь наполняли его мрачным и монотонным гулом.
— Мистер Винджери! Мистер Винджери! — позвал мистер Баттеркап.
Его крику ответил лишь непоколебимые шаги. Казалось, они покидают номер гостя. Он хотел воспротивиться налетающему безымянному ужасу, который накатывал, как темные волны, и попытался отшутиться:
— Что я жаловался на отсутствие компании… Сначала был один, потом явился Винджери.
Он перегнулся через перила, но ничего не увидел, хотя лестничная клетка была наполнена серебристым светом.
Шаги раздавались на нижних ступеньках лестницы.
— Э!.. — проблеял мистер Баттеркап. — Мистер путешественник… мистер последний путешественник… хоть покажитесь.
Но его голос был по-прежнему тонок и едва преодолел трясущиеся губы.
Он замолчал, даже не думая больше призывать мистера Винджери, но заставил себя спуститься вниз.
Шаги теперь звучали в холле, хотя мистер Баттеркап не слышал ни скрипа открывающихся дверей, не щелканья ключа в замочной скважине. Шум затерялся в глубинах подвала.
Позже хозяин гостиницы признал странным свое поведение — он даже не удосужился прихватить какое-нибудь оружие.
Шаги стихли, и безмолвие дало ему мужество осторожно продолжить спуск.
Он двигался с такими предосторожностями, что показался сам себе вором в собственном доме. Дверь номера мистера Винджери не была заперта на ключ, хотя в трех местах висело объявление: «Запирайте на ночь ваши двери». Он бесшумно распахнул дверь.
Лунный свет тут же позволили мистеру Баттеркапу увидеть всю драматическую и мрачную сцену.
Мистер Винджери лежал на кровати, его голова тонула в подушке, а черный провал рта открылся в беззвучном крике, который словно продолжался и теперь. В открытых глазах отражался голубоватый свет луны, бьющий в окно.
— Умер!.. — прошептал мистер Баттеркап. — Умер! Боже, ну и дела!..
Пару секунд спустя он, забыв обо всем, несся на верхние этажи. Вдруг послышались шаги, пересекшие холл и поднимающиеся по лестнице.
Если бы какой-нибудь ученый муж однажды сказал мистеру Баттеркапу, что в эту минуту седьмое чувство, родственное непогрешимому инстинкту самосохранения животных, овладело всем его существом, готов поспорить, что он встретил бы подобное утверждение недоверчивым пожатием плеч или попросту отмахнулся бы от него. Но сейчас, без всяких сомнений, мистер Баттеркап убегал охваченный безраздельным ужасом.
Противный внутренний голосок человеческой логики с первой минуты воздержался от совета спрятаться в каком-нибудь уголке, полном теней, и чем-нибудь вооружиться.
Настойчивый инстинкт наполнял его душу:
«Надо бежать! Против этого все бесполезно, абсолютно бесполезно!»
Мистер Баттеркап добрался до последнего этажа мансард, где жил обслуживающий персона и курьеры, споткнулся в беспорядочном нагромождении мусора, оставленного недовольной прислугой. Шаги доносились из номера в номер, словно кто-то проводил тщательный осмотр.
— Он в 12, — пробормотал хозяин гостиницы, — в 18… в 22… в 29. Боже, он уже в моей спальне!
У него на сердце захолонуло при мысли, что ночной Незнакомец движется среди привычных и личных вещей, от которых он только что бежал, но которые никак не покидали его воспоминаний.
В последней мансарде для служанок он заметил в углу гипсовый бюстик святого и кусочек освященного дерева. Неожиданная мысль посетила его: он воздвиг в коридоре хрупкую баррикаду из мебели и водрузил на самом верху бюстик святого и священную веточку.
— Он должен пройти здесь и тогда…

Мистер Баттеркап весьма бы затруднился объяснить, что за личность этот «Он».
Впрочем, у него не оставалось времени ни на раздумья, ни на логические выводы. Тяжелый шаг грохотал по ступенькам, которые вели к его убежищу.
Еще никогда шум не казался ему столь зловещим и угрожающим. Ему казалось, что все здание вопит от ужаса.
— Еще выше, — простонал несчастный беглец.
Он забрался на чердак, покрытый ковром из пыли, пустой и звонкий, со скрипучим полом, словно уложенным лунными плитами.
Мистер Баттеркап обвел чердак безумными глазами.
Могло ли это пустое помещение, полное пыли и паутины, стать жалкой декорацией его агонии? Вдруг он коснулся тонкой металлической лестницы — бельведер! Он бросился наверх, люк в потолке качнулся, но не повернулся на петлях, буквально заваренных пылью и грязью. Коридор перед мансардами загудел, потом шаги преодолели бессильную баррикаду.
— Даже это его не остановил, — прошептал хозяин гостиницы, размазывая по лицу слезы, и отчаянным ударом, от которого разом заболели голова и плечи, распахнул скрипучий люк: его встретила голубая ночь в блестках снега и сиянии звезд.
Бельведер был широкой террасой, возвышающейся над окружающей местностью.
Мистер Баттеркап никогда здесь не был. Даже наклонившись на стуле, он испытывал сильнейшие приступы головокружения.
— Лучше спрыгнуть вниз, — воскликнул он, — чем ждать, что это доберется до меня.
Он прошел по мягкому снегу до крайних перил. Его сердце ощущало невероятную тоску.
Вдали, на черной дороге вдоль моря друг за другом двигались два огонька, а желтый глаз маяка мола бесстрастно пронзал мрак.
— Скорее… скорее… — всхлипнул хозяин гостиницы..
Пронзительный скрип железа заставил его вздрогнуть — его издавали ржавые перекладины лестницы… Шум становился все сильнее и уже достиг люка.
Мистер Баттеркап вдруг различил длинный стержень громоотвода, отсвечивающий в лучах луны. Икнув от ужаса, он схватился за него, перебрался через балюстраду и с отчаянным криком заскользил в пустоту.
Что-то выпрыгнуло на террасу.
Близкие огоньки облизали горизонт.
В глубине заснеженного углубления железной дороги зажегся зеленый свет, стекла маленького вокзала белели от ледяного света ацетиленового фонаря. Еще невидимый первый поезд лениво прогудел вдалеке. Мистер Баттеркап вылез из-за штабеля пропитанных креозотом шпал, которые всю ночь служили ему убежищем, и, хромая от боли в суставах и окровавленных руках, с безумным видом бросился к маленькому вокзалу. Он бежал к крохотному зданию, освещенному и обитаемому, который казался ему самым желанным оазисом в мире.
Только в одиннадцать часов утра, после униженного примирения с начальником вокзала и разъяснений врача, приехавшего на велосипеде из соседней деревни и сообщившего, что мистер Винджери умер от застарелой чахотки, мистер Баттеркап решился на обход гостиницы.
Он не нашел ничего подозрительного и уже был готов во всем обвинить одиночество, страх и виски, когда выбрался на террасу бельведера.
Как любой добрый англичанин, даже любой гражданин мира, он читал Робинзона Крузо, но не подумал, что, укрывшись от страха в убежище из шпал, он повторил действия этого одинокого моряка, который однажды утром обнаружил на пляже своего острова угрожающий след.
Так вот, рядом со следами его ног, хорошо отпечатавшихся на податливом снегу, мистер Баттеркап увидел ужасающие отпечатки отвратительных, громадных ступней, которые заканчивались у балюстрады, но назад не возвращались, словно бродячее по ночам Это оттолкнулось от террасы и совершило гигантский прыжок в никуда…
Спустившись в холл, мистер Баттеркап радостно вскрикнул, увидев мрачную медицинскую карету, приехавшую за покойным беднягой Винджери.
Он задержал мрачных санитаров, предложив им виски и рассказав несколько анекдотов, пока не приехали грузовики, чтобы забрать мебель. Он предложил перевозчиком такие щедрые чаевые, чтобы все вещи отбыли за час до отхода поезда, что они в спешке едва не переломали мебель и заодно и собственные конечности.
За час до отхода последнего поезда мистер Баттеркап уже мерил шагами перрон.
Он принес с собой две бутылки выдержанного виски для начальника вокзала, который с нежностью брата помог ему погрузиться в вагон и махал ему на прощанье, пока последний вагон поезда не скрылся за горизонтом.
Сидя за длинным столом в «Серебряном драконе», прекрасной и гостеприимной таверне Ричмонда, мистер Баттеркап рассказал свою историю и попросил принести карты, кости и шашки.
— Это называется внушением, — сказал мистер Чикенбрид, продавец музыкальных инструментов из ближайшего магазина.
— Галлюцинация, — желчно возразил Биттерстоун, который торговал растительным маслом и жмыхом.
Мистер Баттеркап почесал побагровевшее лицо.
— Я не страдаю галлюцинациями, — оскорбленно ответил он, — если… вас зовут Баттеркап.
Он подумал, что сказал нечто неловкое, позорящее почтенное имя предков, и с довольным видом добавил:
— И если ты владеешь гостиницей «Оушен-Кинс».
Загремели кости, мушиные уколы на пожелтевшей кости показали выигрыши и проигрыши.

Белые шашки растаяли под натиском черных на безучастной шахматной доске; одна обойденная шашка в опасности застыла на пустой доске. Только старый доктор Хеллермонд оставался в задумчивости.
— Я знаю, — пробормотал он, говоря скорее для себя, а не обращаясь к невозмутимому Баттеркапу, — мне известны эти шаги… Долгие годы я работал интерном в больнице. И часто во время ночного безделья, когда в помещениях пахло формалином и слышались стоны страдальцев, эти шаги совершали угрюмый обход в красноватом сумраке ламп, никогда не производили эха в длинных больничных коридорах.
Они предшествовали ночным носилкам, которые тихо несли санитары в ледяной морг.
Мы слышали эти шаги, но между нами существовал уговор: и врачи, и медсестры, и санитары никогда о них не заговаривали.
Иногда новичок шептал молитву громче, чем обычно. Но каждый раз, когда Он звучал, мы знали, что чья-то страдальческая жизнь прекратилась в одной из выбеленных палат.
Мрачные сержанты Ньюгейтской тюрьмы, когда они готовят виселицу для утренней казни, слышат в каменных коридорах те же шаги, направляющиеся к камере смертника.
Доктор Хеллермонд замолчал и заинтересовался партией в шашки.
Человек, который осмелился
Как только служанка ввела его, он представился.
— Гилмахер.
— Я знал семейство Гилмахеров, — сказал я. Опасливое дрожание век выдавало его ложь, но я не придал этому никакого значения.
— К тому же, — добавил я, небрежным жестом отметая тени и прошлое, — к тому же это никак не связано с тем, что привело вас сюда.
Он кивнул.
— Речь идет о землях с призраками, — ответил он.
— Вы называете их землями с призраками? Пусть будет так. В конце концов, столь романтическое выражение может оказаться единственным, которое подходит. Но во времена, когда исключена фантастика, оно немного смущает, не правда ли?
— Нет, — отрезал он.
Я в упор посмотрел на него; я привык к уважительному отношению, и мне никогда не отвечают односложными, категоричными словами.
Я отметил скорбь в его облике и лихорадочность взгляда.
— Господин Гилмахер, — сказал я, — если вам удастся разгадать тайну этой… земли с призраками, коммуна выплатит вам сто флоринов. Речь идет об обширных пастбищах, которые, увы, нельзя использовать. Если вы возьмете на себя труд глянуть в окно на место, где в данный момент собираются тучи, вы увидите длинную полосу воды.
— Море?
— Нет, море образует линию на горизонте, оно не видно отсюда, а это большое болото, которое его продолжает и тянется вдоль высокой плотины, границе провинции. Вы слышали, мы называем это большим болотом. Так говорят в народе, а в учебниках географии говорится о больших прудах, что более точно.
Глаза Гилмахера жадно впились вдаль; в нем кипела странная жизнь, и мне казалось, что он загудит, как радостный шмель, но он проговорил глухим голосом:
— Значит, это там?
— Не совсем; гребень дюны заслоняет от вас эти земли площадью три квадратных километра, триста гектаров отменных пастбищ, образующих остров посреди опасных болотных вод и связанных с сушей природным перешейком. Рай для скота!
— Рай, в который пробрался змей, — усмехнулся он.
Я вздохнул; подобная шутка коробила меня, ибо эти проклятые земли стоили мне тридцати голов прекрасных голландок и шести чудесных альпийских коров, которых я собирался акклиматизировать. Я сообщил ему об этом.
— Как это случилось? — спросил он.
Я пожал плечами:
— Откуда мне знать? Настоящая адская тайна. Только Богу ведомо, какое проклятье висит над этими землями. Скот некоторое время пасется в полном спокойствии, но однажды животных охватывает невероятная паника. Они ревут, скачут и бросаются вперед сломя голову, словно пытаясь выбраться из горящего хлева, потом внезапный бросок в сторону болотного островка глубокой грязи.
— Островок глубокой грязи?
— Обманчивая твердь бледно-зеленого цвета, которая на самом деле является громадной топью; она за несколько секунд поглощает зверей, пытающихся ступить на нее.
— Мне также говорили о людях.
— Да, — озабоченно подтвердил я, — иди речь лишь о скотине, с этим можно было бы смириться, но мы потеряли и пастухов.
— Это становится интересным, — сказал он.
— Вы говорите об этом, как журналист, — оскорбился я.
— Вы ошибаетесь, — сухо возразил он. — Бог бережет меня от этих людишек и их уловок. Сколько пастухов вы потеряли?
— Как знать? Однако маленький бродяжка, который часто ночует в зарослях орешника на большой дюне и у которого необычайно острое зрение, похоже, кое-что видел.
Ламфрид Науен пас три сотни голов на одном из пастбищ. Это был угрюмый и молчаливый силач, который во время отдыха вырезал из тростника и букса лучшие в мире приманные дудки. Мальчишка следил за ним с суши из интереса, а не любопытства, поскольку хотел найти тайник со свистульками и опустошить его.
Как я уже говорил, Науен был мрачным и глупым существом, скупым на слова и жесты. Представьте себе удивление маленького шпиона, когда тот увидел пастуха, тяжело бегущего вдоль пруда, иногда падающего на колени и вскидывающего руки, словно тот безуспешно умолял о чем-то невидимку.
Ребенок испугался. В этих проклятых лугах уже пропали две коровы. Он поспешил в деревню, чтобы разнести весть о том, что Ламфрид сражается с водным дьяволом.
Первые люди прибежали на вершину перешейка и стали свидетелями финального и трагического бега стада к топи, но никто не заметил Науена.
Гильмахер слушал очень внимательно. Когда я закончил, он несколько минут молчал.
— Умолял невидимку, — пробормотал он, — это действительно… соответствует идее…
— У вас уже сложилось определенное мнение? — спросил я.
— Безусловно, господин бургомистр, — ответил он с улыбкой, показавшейся мне издевательской.
— И, — продолжил я, не желая стать объектом иронии, — естественно, нескромно просить вас изложить его?
— Естественно.
Надеюсь, Бог вознаградит меня за минуту терпения и всепрощения, которую я пережил тогда. Я не позвонил здоровяку Коену, чтобы вышвырнуть гостя за дверь с немым приказом поколотить его до того, как он выйдет за ограду сада.
Но я не сказал ему, что до него было четыре предшественника, желавших проникнуть в тайну и так не явившихся за вознаграждением в сто флоринов.
Я был само снисхождение и жалость, поскольку дернул за звонок и попросил Кати принести кружку пива и новые гудские трубки.
Когда, набитые добрым голландским табаком, они стали потрескивать, Гилмахер спросил:
— Вы, безусловно, прибегали к обряду изгнания дьявола?
Я кивнул, подтверждая его правоту.
— Два брата-францисканца храбро сложили голову, проводя этот обряд. С тех пор монастырь запрещает монахам приближаться к болотам, и они читают молитвы, оставаясь вдалеке. Я обращался к священнослужителям, чтобы удовлетворить пожелания жителей, большинство из которых католики. Я же по вечерам зажигаю лампу и читаю переписку Вольтера с великим королем Пруссии, почитываю и Жан-Жака.
— Но вы согласились на жертву монахов?
— Боже, да, и признаюсь, ожидал более счастливого результата от их вмешательства.
— Вольтерьянец хорошей школы, — пробормотал он.
— То есть? — возмутился я.
— Немного веры в Бога и сильная вера в дьявола!
— Да, господин Гилмахер, и если дьявол не замешан в этом деле, пусть унесет меня с собой!
— Господин бургомистр, вы оскорбляете дьявола. Кто поминает дьявола, унижает Бога. Я не соглашусь с тем, что у Творца есть желание заниматься нашими жалкими мыслями и делами на манер старушки, бесконечно гоняющей чаи, а роль Врага нахожу чрезвычайно мелкой, если он развлекается хулиганством, посылая стада и пастухов в смертельную топь болота.
Рано или поздно любая дискуссия на севере сводится к теологическому спору. Я уже вооружился цитатами и примерами, но Гилмахер внезапно сменил тему той памятной беседы:
— Море соединяется с болотом?
— Нет!
Его лицо омрачила тень разочарования.
— Невозможно! — услышал я его тихие слова, потом он вновь возвысил голос. — Кажется, столь ужасное положение вещей длится уже четыре года. Прошу вас припомнить, господин бургомистр. Не было ли в то время бедствия в этих местах, наводнения или прорыва плотины, когда болото воссоединилось с морем?
— Подождите! — воскликнул я. — Вы правы, странный человек. Но что вам известно?
— Ничего… Продолжайте, прошу вас.
— Была ужасная буря, невероятный прилив прорвал плотину, брешь составила сто метров.
— И через нее море залило болото?
— То есть вода быстро схлынула, но несколько особо больших волн докатилось до болота. На следующий день мы обнаружили множество морской рыбы, издохшей в пресной воде прудов.
Гилмахер перестал меня слушать; он мерил шагами комнату, глаза его горели. Мне показалось, что он даже пританцовывал.
— Да, да! Я знал это! Иначе, господин бургомистр, это было бы невозможно, поймите, не-воз-мож-но. Все, что вы мне рассказали, было бы глупостью и трепотней. А это все объясняет… Господин бургомистр, я вам крайне… признателен.
— Ба! — в растерянности произнес я. — Не за что.
— Вы так думаете? Впрочем, может, и так.
— Господин Гилмахер, теперь вы не станете утверждать, что ничего не знаете?
Выражение его лица изменилось, посуровело, замкнулось. Никогда дверца сейфа с сокровищами не захлопывалась столь решительно, как запечатались уста Гилмахера.
И через несколько минут его загадочные слова только сгустили саму тайну.
— Невероятные вещи объясняются только еще более невероятными вещами.
Он хотел немедленно отправиться в путь, но я указал ему на окна, горящие в закатном солнце.
— Проведете ночь на постоялом дворе за счет коммуны, — сказал я, — и к вам отнесутся с почтением. Завтра вас снабдят всем, что позволит прожить несколько дней в болотах, а также дадут одеяла, поскольку пастушеская хижина буквально рассыпается. А теперь выпьем пива, выкурим еще по одной трубке, и если небольшая дискуссия на религиозные темы поможет вам скоротать вечернее время, я к вашим услугам.
Мы провели самый лучший вечер; Гилмахер был удивительно образованным человеком, а земля для него была слишком мала. Когда он рассказывал мне о своей жизни в южных морях, мне казалось, что читаю дорогого моему сердцу Стивенсона.
— Послушайте, — сказал я, когда куранты небольшой башни звонко пробили одиннадцать часов, — я предлагаю вам развлечение, достойное ваших любимых островов Океании. Воды болота, которое приютит вас на несколько дней, кишат крупными карпами и угрями, но их трудно ловить. Я предоставлю вам редкую привилегию — разрешение использовать для ловли динамит. Завтра получите пять или шесть зарядов. Рыбный торговец охотно купит у вас рыбу, а сами вы сможете испечь карпа или угря на костре из сухого хвороста.
Пустые пивные кружки звенели, как плиты подвала.
— Господин Гилмахер, — пробормотал я, расставаясь с ним на крыльце под умиленным взглядом луны, — я силен духом, как вы могли убедиться, но, между нами, учеными людьми, не думаете ли вы, что дьявол…
— Господин бургомистр, — тихо выговорил он, и мне показалось, что его лицо выразило тоску, — если бы то был дьявол…
— Был бы?.. — вскричал, по-настоящему обеспокоенный.
— Поймите меня правильно. Против дьявола я использовал бы божественное оружие — молитву, вечное и всемогущее присутствие Бога, но против этого у меня есть лишь жалкое оружие.
— Какое? — спросил я.
— Мое сердце, господин бургомистр, мое бедное человеческое сердце, несчастное и тысячекратно разбитое.
Вооружившись мощным морским биноклем, я следил с вершины дюны, как он идет по перешейку, а потом шагает по зеленому лугу.
Яркий свет заливал просторы вод и низкую равнину; я с легкостью следил за его расхаживаниями взад и вперед, потом из-за дощатых стен взвился дымок, он решил отдохнуть.
Вечером с суши потянул ветер, и я услышал пару странных призывов, летящих над линией горизонта. Они походили на жалобу. В небе вспыхивали последние огоньки, когда мне показалось, что я слышу ответ на новый призыв Гилмахера.
Это была звонкая и чарующая нота, от которой небосвод зазвенел, как хрустальный колокол.
Бинокль упал на землю, а руки инстинктивно взметнулись к бесконечности, словно ища защиты от невидимой опасности, выползающей из тьмы, потом я схватился за сердце.
Последний отблеск света еще отражался в невероятных глубинах ночного зеркала вод, но тишину нарушали только хриплые споры лысух и шелковистый шорох крыльев летящих кроншнепов.
Я с тяжелым сердцем вернулся в теплую и дружескую обитель; меня охватила какая-то чарующая тоска, она следовала за мной упрямой, братской тенью.
На следующий день болото утонуло в густом тумане, из которого иногда выныривали цапли.
В полдень трижды взревели взрывы.
— Он ловит рыбу, — сказал я себе. — Пусть развлекается, в этом нет ничего необычного.
Вечером, когда я колебался, какой из четырех приключенческих романов выбрать, а из кухни доносился аромат горячего жаркого, в темном саду зловеще проскрипела решетчатая калитка.
А еще мгновением позже я едва сдержал вопль ужаса при виде призрака, распахнувшего дверь дома.
Гилмахер стоял передо мной, он или, быть может, его тень, явившаяся из ада. Думаю, он угадал мои ужасные мысли.
— Нет, — хрипло сказал он, — я не умер, но это не лучший выход.
Я протянул ему кружку.
Он единым глотком опустошил громадный сосуд и вдруг дико расхохотался.
— Господин бургомистр, — воскликнул он, — можете отныне посылать свой скот и пастухов на ваши дьявольские угодья, с вашим кошмаром покончено.
Я хотел обрадоваться.
— Правда? От всего сердца поздравляю. Я должен был бы провести проверку, но верю вам на слово.
Я порылся в ящике.
— Мы договаривались о ста флоринах.
Я выронил новенькую, хрустящую купюру, ибо из груди Гилмахера вырвалось ужасающее рыдание.
— Всю свою жизнь… — заикнулся он, — всю свою жизнь… ради этого я исходил всю землю, странствовал по океанам, чтобы найти… Ах, господин бургомистр…
Я обрел самообладание, поскольку призрак с искаженным ртом и горящими глазами, который распахнул мою дверь, превратился в бедного плачущего человека.

— Выпейте еще, — единственное, что я сумел предложить ему.
Он выпрямился. Я вновь схватил банкноту, но он отмахнулся.
Его плечи поникли, словно на них лег ужасающий груз.
— Вы говорили о дьяволе, — глухо произнес он.
— Неужели? Поделитесь! — вскричал я, радуясь началу объяснения.
Жалкая улыбка исказила его рот.
— Он был не в болоте, господин бургомистр, а здесь, в вашем кабинете, он склонялся над вашим плечом.
— Как? — пробормотал я, бросая назад испуганный взгляд.
— Увы, и он говорил вашими устами, когда вы разрешили использовать динамит для рыбной ловли.
Он схватился за дверную ручку, и пока я округлыми от недоумения глазами таращился на трубку и кружку, калитка заскрипела в последний раз, окончательно захлопнувшись за его спиной.
Я больше никогда не видел его.
Прежде всего, должен признаться, что этот странный Гилмахер говорил правду. С тех пор пастбища не были ареной каких-либо странных событий. Скоту луга нравились, и он возвращался с них сытым и упитанным.
Но вернусь к нити повествования.
Через день я решил проверить слова Гилмахера.
Я послал двух пастухов с несколькими коровами на болотный луг.
Пришлось угрожать и обещать, чтобы сломить их упорство, но они все же с недовольным ворчанием отправились в путь.
В четыре часа один из них поспешно вернулся, глаза его были круглыми от страха.
На берегу, в куче мертвых карпов, убитых взрывом, он наткнулся на нечто отвратительное. Среди разорванной динамитом крупной рыбы он обнаружил кровавые останки из-увеченной женщины; у нее были оторваны руки и ноги, но голова уцелела.
Думаю, еще никогда столь прекрасное девичье лицо не засыпало на подушке нежно светящихся под лучами заходящего солнца золотых волос, похожих на сноп спелой пшеницы.
Дюрер, идиот
До того рокового вечера я ежедневно в шесть часов обедал вместе с Дюрером в «Яром кабане». С Дюрером, журналистом, Дюрером, идиотом. Я недолюбливал этого глупца, который неизменно начинал обед с помидора под густым слоем майонеза.
Казалось, он насыщается нарывом.
Каждый вечер я приходил с твердым намерением заявить: — Дюрер, журналист не обязательно полный дурак, это — передовой человек с хорошей памятью, обладающий особым даром быстро найти ответ в энциклопедии, географическом атласе или на карте звездного неба. За время карьеры он постоянно обновляет знания, облекая свой мозг бриллиантовым слоем мудрости, кольчугой славы, которая сверкает и выдерживает выпады невежд, пытающихся его разрушить.
А у тебя, Дюрер, этот слой похож на грязную шкурку, которая тускло поблескивает, как плевок или стружка в машинном масле.
Я где-то записал эту тираду. Она казалась счастливой находкой, исполненной высокомерного презрения, разящей, как древний закаленный меч. Заучив ее наизусть, я в одиночестве декламировал ее перед зеркалом, а мое отражение подчеркивало каждое слово сдержанным жестом.
Но я никогда не произнес ее перед этим идиотом Дюрером.
Один или два раза в неделю за соседний столик садилась молодая студентка. Она, похоже, приезжала для участия в опытах, проводившихся в соседней промышленной лаборатории.
В эти дни Дюрер затевал разговор о своих подвигах, иными словами, громким голосом произносил монолог, чтобы соседка услышала его, и каждый раз я обещал себе одернуть нахала:
— Не хватит ли врать? Жри свой помидор и не вытирай майонез пальцами.
Но держал язык за зубами и даже угощал кофе, гордясь, что сижу рядом с чудовищным вралем.
Ибо он всегда врал.
Однажды он сказал:
— В тот день газета послала меня, чтобы написать отчет о смертной казни…
Я знал эту историю, он отправился на казнь, но потерял сознание, когда из вагона стали выгружать части эшафота. Он сумел встать на ноги, покачиваясь и вертясь, как уставшая планета в мировом эфире, когда деревянные детали позорного инструмента уже отмывали водой на месте публичной казни.
Девушка слушала и искоса поглядывала на него с опасливым восхищением, какое пробуждается в нас по отношению к людям, лицом к лицу столкнувшимся с ужасной смертью.
Женские взгляды всегда будут с любовью останавливаться на авиаторе в кабине аэроплана, на укладчике черепицы, ползущем по куполу колокольни, на матросе, взбирающемся на верхние реи, на альпинисте с ледорубом, восходящем на высочайшие вершины, потому что женщины обожают головокружение и опасности, которые испытывают другие.
Также они относятся к тем, кто сталкивается с ужасом и чьи души опасно зависают над немыслимой бездной неведомого.
С каждым разом студентка бросала на Дюрера, журналиста-идиота, все более восхищенные взгляды.
Глаза ее отличались задумчивостью и нежной глубиной, какие бывают только у влюбленных неопытных женщин.
В тот день…
В тот день Дюрер был отвратителен: девушка буквально задыхалась, ее нервные пальцы терзали хлебный мякиш, виноградные косточки, шкурки персика.
Дюрер не смотрел на нее, но не отрывал глаз — мерзавец — от ее отображения в зеркале напротив.
— Заведующий отделом информации сказал, — продолжил он, едва понизив голос, красивый голос умелого рассказчика, — каналья — «работа для тебя, Дюрер, как твое мнение?»
— Я высказываю свое мнение, — ответил я, — в статье, до ее написания его еще нет, а после уже нет.
— В глубине души я не верю в существование призраков, но категорично их не отрицаю. В нашей профессии есть примеры, когда журналисты заплатили разумом, даже жизнью за рациональный дух и явное презрение к суевериям.
Я отправился на задание — уверяю тебя, дорогой мой, испытывая некоторое беспокойство, поскольку даже захватил револьвер, что делаю крайне редко.
Помогли ли обстановка, погода и прочие обстоятельства усомниться в здравом смысле?
Я в одиночестве сошел с поезда на маленьком вокзале и потащился по глинистой дороге под ледяным дождем, размывающим землю и разбавляющим водой густой туман.
У самой земли кричали кроншнепы, а по едва видимому пруду строем плыли лысухи.
Я увидел старуху, которая пыталась зажечь свечу в нише перед статуей святого.
— Матушка, — спросил я, — где Дом с журавлями? Я на верном пути?
Она разинула черный рот с окостеневшими деснами и тремя зубами цвета старого воска.
— Журавли! О боже! Да… Журавли!
Быстро распрощавшись, я поспешил дальше — от старухи несло навозом. Я отошел довольно далеко, но расслышал ее крик: «Он идет к журавлям! Он идет к журавлям!»
Из лачуги, похожей на черепаший панцирь, выползли три старухи и безумными глазами уставились на меня.
Грязь под ногами чавкала, словно я попирал плоть.
Дом с журавлями с изъеденными решетками и визгливыми флюгерами появился внезапно — его нутро источало злобное презрение, несмотря на закрытые ставни окон. Проклятый дом присел, как злобный карлик, изрыгающий привидения. Отмытое дождем небо ядовито-зеленого цвета окружало его лунным ореолом…
Я прислушался, предвкушая, как сорву покров тайны с неизвестности.
Дюрер, идиот, врал и не заслуживал прощения, ибо выудил историю не из собственного воображения, а из бросовой газетенки, печатающей из номера в номер мрачные творения Энн Редклиф и ее собратьев.
Но обновил ее, как немецкие красильщики, работающие с новомодными анилиновыми красками. Подвесил лампу в пятьсот свечей в руинах замка, населенного ночными тенями, а в подвальном зале пыток усадил инквизитора в балахоне на клубное кресло последней модели.
Ради немого экстаза прекрасных глаз студентки он был готов похвастаться тем, что задушил букмекера или скототорговца.
История дома с журавлями закончилась бегством по пустырям со стрельбой из револьвера по летящим теням. Дюрер замолчал, потом заказал гамбургские сигары из светлого табака.
Он обладал великим искусством предварять рассказ или прерывать его в самом напряженном месте курительной паузой.
— Помнишь Краба, корреспондента Импресса? — спросил он. — Когда Стивенс, шеф отдела информации, сошел с ума, ему поручили «написать статью» об аде.
Крабб отправился на задание и вернулся через два года, утверждая, что выполнил поручение.
Его почти нельзя было узнать, словно он скрыл лицо под маской Горгоны.
Стивенс уже сидел в уютном санатории, а не в вонючем редакционном кабинете. Крабб нанес больному визит, и, похоже, заведение пришлось ему по вкусу, поскольку он так и не покинул его.
Статья Крабба о мире бесконечного мрака не увидела света.
— Юмористическая сторона ужаса, — усмехнулся я, — ведь нет никого забавнее, чем сумасшедший, не так ли?
Дюрер сделал вид, что смеется.
Смех и глупость, которую он сморозил в следующую минуту, лишили его галантного преимущества в беседе.
— Хотел бы, — провозгласил он, выпятив грудь и выглядя законченным идиотом, — получить задание взять интервью у властителей ада!
На полу яростно зазвенела ложечка. Мы оба буквально замерли в ступоре. Студентка вскочила, подошла к нашему столику и мрачно уставилась на Дюрера.
— Месье, — произнесла она, — вы заслуживаете, чтобы вам сказали: «Заметано!»
И удалилась, с силой хлопнув дверью.
— На языке школьников это означает, — с издевкой сообщил я, — тебя ловят на слове.
Журналист выглядел растерянным.
— Не знаю, — пробормотал он, — что вызвало ее выходку, она так увлеченно слушала.
Меня переполняла жгучая радость.
— Ты пересказал несколько страниц из романа — и какого романа! Но пока не превратил невероятное в смешное, милый ребенок, похоже, верил тебе, но как только здравый смысл твоими же устами стал издеваться над дьяволом, она возмутилась!
Мы вышли из таверны. Настал тихий час сумерек, когда зажигаются фонари.
— Не могу же я изобретать ад ради нее, — прошептал он.

Столкновение с хаосом и непоследовательностью в логическом развитии событий случилось внезапно.
Мы шли по узкой улочке старого города вдоль домов с темными фасадами, где вся жизнь протекала в далеких кухоньках, выходивших в замшелые задние дворики. Вдруг перед нами возник чистенький розовый домик с нежно-зелеными ставнями; в светлом окне виднелось старческое личико, сморщенное, как кулак прачки. Старик читал книгу с мятыми страницами. Дюрер каким-то странным движением попытался вцепиться в мою руку, потом одним прыжком оказался у двери — та распахнулась и захлопнулась, мгновенно проглотив Дюрера.
Я остался один, застыв в тупом недоумении.
Старичок продолжал читать, а через некоторое время его заслонили старые шторы.
Я в испуге бросился прочь.
Дюрер исчез ужасающе быстро.
Наш разум требует предисловия к любому событию. Он ненавидит неожиданное, тратит три четверти сил в попытке предвидеть будущее и хочет, чтобы все происходило в замедленном темпе.
Не сомневаюсь, в действие включились неведомые силы; я не ощущал ужаса, а был шокирован, словно кто-то нарушил светские условности.
Дюрер не вернулся в «Ярый кабан».
Его больше никогда не видели.
Его исчезновение никого не волновало.
Он был идиотом.
Позже два или три собрата по перу утверждали, что якобы столкнулись с ним в Париже. Я промолчал. Зачем лишние слова? И что я мог сказать?
Дюрер был идиотом, повторял я себе, полным идиотом.
Но избегал ходить по древней улочке.
Через пару месяцев мне приснился кошмар. И три ночи повторялся в неизменном варианте.
Перепуганный Дюрер удирал от светлых теней — их яркое сверкание резало глаза.
Он в отчаянии смотрел на меня и хныкающим голосом выкрикивал:
— Твоя вина! Твоя вина!
Я пытался объяснить, что не люблю смотреть, как пожирают помидоры под майонезом. Заикался и кричал, что подобная история могла приключиться только с таким идиотом, как он, но Дюрер продолжал обвинять меня.
Что-то неопределенное, вроде изувеченной руки гигантских размеров, высовывалось из зловеще светящейся массы, расталкивало огоньки, и размазывало Дюрера по земле.
Эта масса притягивала мои взгляды и внушала неописуемый страх; я чувствовал, за призрачным пламенем скрывается абсолютное зло.
На третью ночь оно приняло столь угрожающую форму, что я с воплем проснулся.
Но на мой вопль ответил мрачный стон, прошуршавший во тьме.
— Твоя вина! Твоя вина!
— Дюрер, — крикнул я. — Дюрер!
В тот же миг сильнейший удар сотряс дом. Утром двери и окна открывались с огромным трудом, их таинственным образом перекосило. Приглашенный столяр некоторое время жил в Буэнос-Айресе.
— Весьма странно, — недоумевал он, — такое бывает с дверьми и окнами южноамериканских домов после землетрясения. Если дома устояли.
Я решил пройтись по той улочке.
Розово-зеленый домишко был выставлен на продажу.
Владелец его погиб. Лошадь в упряжке, степенно двигавшаяся по улице, вдруг понесла, задела хозяина на пороге дома и оставила лежать с проломленным черепом.
Его наследником стал скупой на слова деревенский нотариус.
Я за разумную цену приобрел дом со всем его содержимым, в том числе и попугаем. Единственное, что мне сообщил угрюмый законник, было имя покойного — Муус и кличка попугая — Чандернагор.
Прежде всего, сообщу, что не нашел в доме ничего особого, совершенно ничего.
Я мог бы растянуть историю, начав с подробного описания нового владения. Но не сделаю, ибо это не имеет ни малейшего значения.
Обычная, удобная мебель, старинные хрустали, очаровательные нюрнбергские часы, мягкие кресла, узенький садик, в котором чахли две хилых груши.
Преподнеси я вам сочинение вместо подлинной истории, то мог бы с блеском использовать попугая, превратив в некое проклятое животное, воплощение жалкой личности журналиста Дюрера, идиота Дюрера, или сумрачной души Мууса.
Увы, мне досталась глупая птица, грязная и прожорливая, в чей репертуар входили единственное яванское слово «Сьямбук», что, если не ошибаюсь, означает кнут, и несколько бессмысленных восклицаний.
Поскольку дом мне понравился, я переехал и несколько недель прожил без кошмаров и загадочных происшествий.
И сразу стал донимать соседей вопросами о предшественнике. Они вспоминали лишь о молчаливом и диковатом человечке, который уходил от любой попытки сближения и ничего не покупал в округе. Враждебное отношение частично перешло на меня, ко мне отнеслись или с прохладцей, или с равнодушием. Быть может, через некоторое время я бы поверил домику, но чувствовал, что спокойствие было наигранным. Дом ревниво хранил свою тайну — я ее чувствовал, как каждый человек чувствует чуждое присутствие, затаившегося чужака, выжидающего своего часа. Дом притворялся.
Я безуспешно выискивал нарушения неизменного порядка в доме. Разглядывал через дверные скважины и щели пустые комнаты, в которых не пахло тайнами, и с подозрением вглядывался в безжизненные предметы, в шкафы, в стулья.
Но вещи-сообщники тоже не доверяли мне; они общались между собой неведомыми путями, о которых остается только догадываться.
Вам никогда не случалось удивляться враждебному отношению какого-то привычного предмета мебели, обычно хранящего нейтралитет?
Каждому знакомо это ощущение — попади вы ему в лапы в минуту злобного пробуждения, вам несдобровать, вас ждет мучительная пытка!..
Лик тайны не открывался.
До дня грозы.
Гроза пришла с юга, принесенная дыханием африканской пустыни. Туча наползла на небо сизой, невероятно угрожающей тенью, нависшей над людьми.
На улице послышался шум, быстрый топот детских каблучков, потом стаккато захлопывающихся дверей.
Во внезапно потемневшем небе выросли желтые башни пыли.
Заметив, что жена шорника из противоположного дома с ужасом смотрела на мой дом, я пересек улицу и постучал в дверь.
Она не открыла.
Эхо ударов прокатилось по длинным коридорам, но мой призыв остался без ответа, а странный рисунок четырехцветия на двери вдруг безмолвно расхохотался.
— Гроза, — пробормотал я, — превратила людей в пугливых животных. Вековые страхи.
В древние времена первобытные люди прятались под сенью леса или в пещерах при первых вспышках фиолетовых зарниц, а страх преодолевали совместным пением молитв.
Я повторил эту фразу для успокоения собственной персоны и пообещал себе запомнить ее.
Вся моя жизнь была усыпана подобными сентенциями, похожими на ненужные вехи-указатели поворотов бессмысленного путешествия.
— Посмотрим, — сказал я себе, возвращаясь домой, — что изменилось?
Никаких изменений. Но мои глаза по-иному воспринимали каждую вещь.
Обе груши дрожали всеми своими листьями, как два пугливых маразматика.
— И они, — усмехнулся я. — Сруби я их топором, думаю, они бы убежали в соседний дом и захлопнули дверь перед моим носом.
Тучи потяжелели, обвисли, словно на корточках присев на коньки крыш; одна из них невероятно походила на череп с двумя глазами из расплавленной латуни.
В столовой царило спокойствие, но на каждой вещи, словно плесень, лежала пленка маслянистого света.
Чандернагор превратился в комок взъерошенных перьев, сотрясаемых боязливой дрожью, из комка выглядывала красная пуговка глаза.
Немецкие часы отсчитывали секунды — они преподавали всем вещам, подверженным временному безумию, урок механической честности, и я был им благодарен за это.
— Нагор! Нагор! — позвал я.
Глаз закрылся, страх сотрясал тельце пленной птицы.
— В древние времена первобытные люди… — начал я, словно извиняясь за испуг птицы и ища ее согласия.
— И все же, — произнес я, — кое-что изменилось.
Над стеной неподвижно висел туманный череп, тучи застыли, словно остановленные вечностью.
Один из высоких желтых хрусталей в буфете беспричинно зазвенел, взорвав фантастическое безмолвие.
Безмолвие!
Внезапно остановились немецкие часы; тиканье словно обрезало ножом.
Будто перестало биться большое братское сердце, работавшее в унисон с моим сердцем.
Пульс среды, их тиканье, угас. Похоже, чуждое присутствие стало явью, до меня дотронулся невидимый труп.
Я поднял опечаленный взгляд к жизнерадостному лику часов и с ужасом отвернулся.
Циферблат обернулся призрачной маской, чей остекленевший взгляд с жадным недоверием разглядывал нечто недоступное мне.
Но безмолвие и неподвижность прекратились, послышались вопли, ожившие прожорливые тени приплясывали, обретя вещественность.
— Ты хотел узнать тайну розово-зеленого домика.
Мы здесь, безжизненные и безмерно жестокие вещи с темными душами. Ты и твои братья отвергли нашу одушевленность! Вы забыли о злобной радости, с какой тяжелая мебель исподтишка бьет вас в темноте; вы обвиняете себя в неловкости, когда острые стекла режут вам губы, гвозди исподтишка протыкают вашу плоть, а шторы выплескивают вам в лицо отравленную пыль.
Мы — восхищенные зрители. И ждем подходящего мгновения, чтобы отправить на последнюю, кровавую пытку человека, решившего рассеять мрак нашего дома? Нам известно, что его ждет!
Неподвижное множество трепетало от безмолвного нетерпения.
Чувствовалось — разгадка тайна близка, ее покровы уже спадали.
Долгие недели я искал тайну в подвалах и на чердаках, погруженных в полночную тьму, израненную кровавыми всполохами свечей и потайных фонарей. Разгадка ускользала — я в бессилии и немой ярости натыкался на оккультный, непреодолимый барьер.
Тайну открыла насыщенная электричествам гроза, прорвав гигантский мочевой пузырь, раздувшийся от нечеловеческой ярости. Я ухватился за соломинку здравого смысла, пока его не захлестнул океан ужаса.
— Значит, это — естественная причина… науч… научная.
Не знаю, произнес ли эти слова вслух; не думаю. Плотный воздух вряд ли проводил бессильные волны звука, ибо дверь… ибо дверь стала медленно и бесшумно отворяться на смазанных маслом петлях.
В этом доме, где я был один — один — и в минуту, когда ничто не двигалось, в тишине, где стих даже шелест дыхания… дверь открывалась сама, сама, сама!
Господи! Я не мог опустить глаза; я был обречен смотреть, как в комнату входит тайна, ставший видимым ужас, о котором мне кричал жалкий призрак Дюрера на излете сна.
Открылась часть коридора, и на внешней ручке двери показалась…
Невероятно огромная рука, пылающая внутренним пламенем, словно перегретый чугун, когтистая до безобразия, а за ней…
Боже! Мой кошмар!
Вихрь молочно-белого пламени, рушащиеся горы, падение в бездну из бездн вдоль отвесных стен с вопящими, вопящими и вопящими ртами…
Молния ударила в розово-зеленый домик и превратила его в пыль.
Меня нашли под слоем тончайшего пепла.
Такова история слепца, с которым я сталкивался несколько дней подряд в старом и мокром парке ученого города Гейдельберга.
Его сопровождала молодая женщина с задумчивым взглядом, словно смотревшим внутрь себя. Она ухаживала за инвалидом с нежностью и состраданием.
Таверна призраков
Тайна палеолита…
Фрейман повествовал о гигантских рептилиях четвертичной эры, излагая одну из ученых и неудобоваримых теорий. Его слушали с нарочитым вниманием, хотя мысли сотрапезников витали в иных сферах.
Он с друзьями заканчивал обед; день был постный, и хозяин подал только яйца, поджарку из пескарей и овощи на прогорклом сливочном масле. Эль оказался кислым, а вино, несмотря на дороговизну, отвратительным.
Через открытое окно врывалось раскаленное дыхание лета; юго-восточный ветер, пронесшийся над тридцатью пятью милями красного песка и высохшего вереска, впитал в себя весь жар самума.
Рассказывай Фрейман о белых медведях, а не о тропических джунглях и болотах с почти кипящей водой, быть может, аудитория слушала бы с неослабным вниманием. Десерта не подали, поскольку хозяин сказал, что банки с печеньем пусты, а муравьи сожрали последнюю клубнику на грядках. Он поставил на стол жестяную коробку с несколькими сигарами и тут же подал счет.
— Я запрягаю в три часа и отправляюсь в Маркенхэм, — сообщил он. — Заведение закрываю, но, если хотите, можете остаться. Зал и бар в вашем полном распоряжении. Вернусь к семи часам и привезу на ужин свежую семгу и форель.
— Предпочитаю остаться, — сказал мистер Шон. — Я решил провести весь день в деревне… Клянусь Господом, так и сделаю!
Фрейман безразлично махнул рукой.
Третьим, и последним, гостем за круглым столом был Пилчер; он спал, сидя на стуле, и промолчал.
Впрочем, кто собирался выслушивать мнение существа вроде Пилчера, а тем более считаться с ним?
Замочная скважина скрипнула, потом прогрохотала двуколка, удаляясь по дороге на Маркенхэм, и вскоре исчезла за дюной.
Фрейман прервался на середине фразы, в которой упоминалось о зубре и неандертальце, и ладонью шлепнул по сверкающему черепу Пилчера.
— Я не виноват… У меня есть алиби, а говорить буду только в присутствии адвоката, — всполошился тот, просыпаясь.
— Ему опять приснился сон, что его доставили в участок, — презрительно проворчал мистер Шон.
Фрейман сверился с часами, как врач, отсчитывающий пульс у пациента.
— Подождем двадцать минут — повозка хозяина, поднявшись на холм Трех Беляков, вновь окажется на виду. Тогда будет уверенность, что он не развернет свою клячу и не потревожит нас до семи часов.
— Если он оставляет свою лавочку в распоряжении первого встречного, значит, здесь нечего спереть, — осклабился Пилчер. — Плохое заведение, вот, что я скажу.
— Кто говорит о воровстве? — возразил мистер Шон. — Дело, насколько я знаю, задумано не вами.
Пилчер пожал плечами. Не все ли равно? Аванс заплатили, остальное его не заботило.
Глупость, однако, не мешала ему вскрывать замки, не оставляя ни малейших следов.
Тишина обрушилась, невыносимая, как обжигающий луч солнца, который воспламенял бокалы и волнистое стекло стойки; слышалось только тиканье часов Фреймана.
Мистер Шон нарушил молчание.
— Все предусмотрено, Фрей, — пробормотал он. — Кроме хозяина, никого нет, его отъезд в Маркенхэм, зал с баром оставлен в распоряжении посетителей до семи часов.
— Чему удивляться? — хмыкнул Фрей. — Все совершенно логично. Так он поступил с Тревиттером и Москомбом…
— …А те не сумели воспользоваться оказией, — прошипел собеседник.
Фрейман обратил взор к далекому холму — пустая вершина блестела на солнце — и вновь опустил глаза на циферблат.
— Не знаю, может, этот чертов тип нарочно дает возможность людям вроде нас, чтобы… — он явно колебался прежде, чем закончить глухим голосом. — …Чтобы сделать то, что мы хотим сделать.
На далеком холме появилась двуколка — она медленно поднималась по светлой петляющей дороге.
Фрейман захлопнул крышку хронометра и похлопал по плечу вновь заснувшего Пилчера.
— За работу! — приказал он.
Лысый бандит вскочил на ноги, извлек из кармана жакета длинный плоский футляр и с любовью глянул на него.
— Я отработаю свои пять фунтов, — осклабился он.
Троица пересекла просторное помещение, распахнула дверь и цепочкой двинулась по длинному коридору, где царила подвальная прохлада, истинное наслаждение после африканской жары обеденного зала.
— Здесь? — спросил Пилчер, указывая пальцем на ряд закрытых дверей.
— Бесполезно, это должно находиться выше, — ответил Фрейман.
В глубине вестибюля в потолок ввинчивалась темная лестница. От первой площадки размером с холл отходили три широких коридора с множеством дверей.
— Настоящий караван-сарай! — хмыкнул мистер Шон. — И этот человек в полном одиночестве живет в домище, могущем соперничать размерами с аббатством!
Фрейман решил дать несколько разъяснений.
— Этот домище, как вы его назвали, построили в 1784 году, если судить по гербу на фасаде. Вначале служил почтовой станцией, потом постоялым двором для извозчиков, поскольку в этом мире песка и вереска нет и тени крыши, чтобы приютить людей и лошадей. Несомненно, у прежних владельцев была обширная клиентура.
Пилчер оглядывал двери с видом знатока.
— Хорошее дерево, — сказал он, — и достойные замки… Как насчет небольшой надбавки… скажем, комиссионных, если за ними лежат денежки?
Мистер Шон мрачно усмехнулся:
— Дурак, там нет ни гроша!
— Ладно… но вдруг… драгоценности… сокровище, откуда мне знать? — не отставал толстяк.
— Довольно, Пилчер, здесь кладами не пахнет!
Пилчер вздохнул и извлек из футляра тонкие инструменты из синеватой стали.
— С чего начинать? — спросил он.
— Поднимемся на второй этаж, — приказал Фрейман.
Фрейман внезапно застыл в глубине бесконечного бокового коридора и дрожащим пальцем указал на темную дверь, сливавшуюся в полумраке со стеной.
— Может, там? — прошептал он.
Мистер Шон с опаской отступил.
— Начинайте, Пилчер!
Несколько минут спустя толстяк отошел от двери, удивленно пялясь на скрученный в штопор металлический стержень.
— Ничего себе!.. — пораженно воскликнул он. — Даже сейф не посмел бы выкинуть такую шутку!
Он трижды менял инструмент, пока не послышался легкий щелчок.
— Слава богу! — вздохнул он, выпрямляясь, лицо его было залито потом.
Он хотел толкнуть дверь, но Фрейман остановил его.
— Хотите войти первым, мистер Шон? — спросил он.
Мистер Шон судорожно сжимал сухие руки, губы его дрожали.
— Наконец, — с трудом выговорил он… — наконец мы сможем узнать, почему этот треклятый дом называют «Таверной призраков»?
Он толкнул дверь с такой силой, что она с грохотом ударилась о стену.
Перевалив через вершину холма, двуколка остановилась. Возничий выбрал для отдыха лужайку у небольшого болотца с зеленой водой, берега которого заросли бирючиной и худосочной травой.
Лошадь тут же принялась щипать желтыми зубами чахлые травинки, а хозяин устроился в тени, чтобы выкурить трубку.
Вдали по черной равнине в ореоле солнечных лучей неторопливо двигался высокий темный силуэт.
Владелец таверны, изредка выпуская в раскаленный воздух колечко сизого дыма, смотрел на приближающегося человека.
Гость уселся в тенистом уголке, достал длинную черную сигару и коротко поздоровался.
— Ну что, Кэсби?
Владелец таверны ткнул чубуком трубки в сторону мрачного жилища за горизонтом.
— Они там, мистер Куотерфедж.
— Фрейман и Шон?
— И толстый, лысый коротышка, который все время спит.
— Несомненно, Пилчер, медвежатник.
Некоторое время они курили в полной тишине, потом долговязый неторопливо и с какой-то печалью в голосе сказал:
— Они наверняка преуспеют там, где Тревиттер и Москомб потерпели неудачу. Шон умен. Фрейман чуть глупее, но дьявольски настырен, логичен и рассудителен в делах, которые предпринимает.
— Если бы очистка от этой мерзости помогла процветанию заведения… — начал Кэсби.
Собеседник, похожий на священнослужителя, прервал его резким жестом.
— Не пользуйтесь подобными терминами, когда говорите о чрезвычайно опасных вещах, Кэсби. Очень жаль, что двум таким достойным людям, как Шон и Фрейман, придется расплатиться здоровьем или жизнью, столкнувшись с воплощением ужаса. Иногда я сожалею, что дал вам совет… вами руководит мелкая корысть.
Кэсби разъяренно глянул на собеседника.
— Я плачу за изгнание бесов из дома. О чем вы сожалеете, мистер Куотерфедж?
Священнослужитель застонал.
— Изгнание бесов… неверный термин, Кэсби, но я почти готов с вами согласиться, не зная иного, лучше отвечающего истинному положению дел. Когда Тревиттер и Москомб из Общества Физических Исследований узнали, что одна из дверей дома запечатана знаком царя Соломона, они решили выяснить, что находится за нею, но забыли прихватить взломщика.
Кэсби наклонился к соседу.
— Вот уже семь лет, как я приобрел постоялый двор, но у меня ни разу не возникло желания посмотреть, что скрывает запретная комната… хотя… из-за нее меня преследует дьявольское невезение. А вы, мистер Куотерфедж? Вы представляете себе, что это такое?
Священнослужитель в ужасе отмахнулся.
— Великий Боже! Нет… Предпочитаю ничего не придумывать. Вам известна история рыбака из «Тысячи и одной ночи», который освободил зловредного джинна, заключенного в свинцовый сосуд, запечатанный перстнем царя Соломона и брошенный в море.
— Мне ее рассказывали в детстве, — признался Кэсби.
— Не могу не вспоминать о ней… Помните, что произошло на постоялом дворе сразу после вашего приезда.
У вас на ночь остановились трое индусов, гранильщиков, известных на всех ювелирных рынках Европы.
Двое заняли ныне запечатанную комнату, а третий остановился в соседней.
Утром двух цветных джентльменов нашли убитыми и ограбленными. Преступник словно испарился.
Их компаньон оставался на постоялом дворе до завершения следствия, а перед отъездом предал анафеме комнату, где произошло преступление.
«Я заключаю в этой комнате беды и страшной несправедливости нечто более безжалостное, чем сама смерть, — заявил он. — И заклинаю людей, которые окажутся под этой крышей, никогда не освобождать это».
И прижал печатку кольца к дереву — дверь задымилась, как от раскаленного клейма.
Когда знак разглядели, стало ясно, что наложена устрашающая пентаграмма царя Соломона, и никто не решился нарушить запрет заклинателя, даже люди, облеченные официальными полномочиями.
— Значит, там действительно обитает призрак? — прошептал Кэсби. — Я иногда подслушивал у запертой двери, и никогда ничего не слышал, но клянусь, тишина эта ужаснее воплей под пыткой.
Куотерфедж промокнул платком лоб, покрытый крупными каплями пота.
— В данный момент, — едва слышным голосом прошептал он, — они, быть может, уже знают… Вы захватили бинокль?
Кэсби направился к двуколке и принес два морских бинокля в футляре из красной кожи.
— С вершины холма можно увидеть все, — пробормотал Куотерфедж.
— Что увидеть? — спросил Кэсби, но ответа не дождался.
Оба улеглись на горячий песок, едва приподняли головы над гребнем и принялись наблюдать.
Внезапно пространство сотряс глухой рокот.
— Гром, — сказал Кэсби, с удивлением разглядывая бесконечное синее небо, висящее над пустынной равниной… И добавил: — Ого! Поглядите на деревья в саду! В воздухе ни ветерка, чтобы затрепетал хоть один березовый листок, а…
Наблюдатели видели в бинокль, что далекие деревья гнулись, словно тростник под напором бури.
— Вон они! — закричал Куотерфедж. — Я их узнаю… Шон во главе, потом Фрейман, а за ними бежит Пилчер… Они удирают, словно сошли с ума… Господи!

Из груди Куотерфеджа и Кэсби вырвался крик ужаса.
Беглецов оторвало от земли, словно их схватила чудовищная невидимая рука и подбросила на невероятную высоту.
Их силуэты быстро уменьшались, взлетая на немыслимое расстояние, и вскоре растворились в ослепительном свете.
Земля вздрогнула, и Кэсби пронзительным голосом выкрикнул:
— Боже, мой дом!
Постоялый двор, подняв облако золотистой пыли, рассыпался и рухнул, как карточный домик.
Куотерфедж и Кэсби скатились вниз по склону и, вопя от страха, уткнулись лицами в песок, чтобы не видеть гигантского и чудовищного гриба, который взметнулся над развалинами, черный, как Эреб, — он разрастался с невиданной скоростью, затмевая пылающий диск послеполуденного солнца.
История Вулкха
Вейбридж познакомился со старым таксидермистом в маленькой таверне Лимерика. Он только что отохотился в Сиу Фелл, подстрелив трех гоголей с отдающим лазурью оперением и прекрасного розового крохаля.
Старика согнули годы, но его хилое тело согревала пелерина из морской выдры, стоившая немалых денег.
Вейбриджу исполнилось тридцать лет, и под его свитером из коричневой шерсти угадывались железные мышцы.
— Меткие выстрелы, — произнес старик. — Крохали крайне осторожны, к ним всегда трудно подобраться.
Охотник не относился к любителям поболтать, но задели его слабую струнку; он пересел за столик соседа и заказал грог, ибо на улице дул пронизывающий ветер и сыпал противный дождь.
— Я следил за крохалем около часа, — поведал он, — пока тот кружил над болотом. С безбрежного неба прорывался лишь единственный лучик солнца, и он его поймал, словно превратившись в летающую призму, когда пикировал на воду, включив все огни.
Старик взял мертвую птицу, на теле которой едва виднелись две рубиновых капельки.
— Жаль, — проворчал он, — если бы крохаля поразили в крыло, любой натуралист дорого бы заплатил за него.
Вейбридж беззаботно пожал плечами; он любил не деньги, а охоту с подкрадываниями и хитростями, победами и поражениями, а болото ощущал буквально всем своим нутром.
— Неважно, — сказал он, — мне однажды случилось подстрелить дрофу, но той охотой не горжусь, поскольку птица, измотанная трехдневной борьбой с западной бурей, притаилась в зарослях солероса и едва ли могла вновь встать на крыло. Однако плясал от радости, когда всадил двойной заряд в стаю лысух, которые умело, как катера, маневрировали между полосами тумана и островками камыша.
— Ах, молодость, — прошептал старик и велел слуге наполнить стаканы.
Они молча выпили, потом таксидермист продолжил:
— Вы охотитесь в Сиу? Никогда не добирались до Фенна в Шенноне?
Вейбридж бросил на него удивленный взгляд; собеседник, явный иностранец, задал странный вопрос.
Фенн. Отвратительное болото по соседству с Ирландским морем. Оно считалось опасным из-за зыбучих песков и глубоких топей, а потому охотники из осторожности обходили его стороной.
— Нет, — откровенно ответил он, — ибо умею отличать мужество от безрассудства; там слишком вероятны несчастья, а результаты, какими бы успешными ни были, не компенсируют потерь.
— Даже если удастся подстрелить Вулкха? — прошептал старик.
Вейбридж, человек откровенный и веселый, давно растерял зачатки хорошего воспитания от одинокой и дикой жизни, которую вел на охотничьих угодьях, а потому расхохотался:
— Вы сошли с ума, сэр!
Старика, похоже, не оскорбило столь беспардонное поведение; он тихо покачал лысой головой.
— Вы, сэр, любите спорт, спорт благородный, охоту. А я человек науки и отвечаю вам: «Нет, сэр, я не сумасшедший».
Серьезный тон старика отрезвил Вейбриджа.
— Два раза в жизни слышал об этой сказочной птице, которую вы называете Вулкх, — признался он, — и каждый раз при трагических обстоятельствах.
В первый раз это случилось, когда Нэт Лэмб отправился в Фенн на ее поиски. Лэмб был грубияном без воображения, но истинным охотником. Я видел, как он плачет над старым ружьем, которое оружейник отказался ремонтировать из-за неминуемой опасности разрыва. Он целыми ночами, морозными ночами, высиживал в засаде, выслеживая пеганок… птиц прекрасных, но хитрых, как дьяволицы, какими они и являются на самом деле.
Какой-то ученый попросил его подстрелить Вулкха. Он не верил в успех… но не хотел упускать ни малейшего шанса, чтобы убить птицу. Долгими днями бродил по Фенну, и каждое утро, наблюдая за его уходом, пастор тихим голосом читал отходную молитву.
Однажды вечером он не вернулся — зыбучие пески Фенна проглотили его.
— Вот как? — произнес старик. — А во второй раз?
Рот охотника горько скривился.
— Это была женщина, Тильда Эскрофт, чудесная девушка, лучший стрелок Ирландии. Она охотилась на тигра в запретных джунглях Тераи, несколько месяцев без жалоб прожила на Фарерах с охотниками на птиц, а острова эти продуваются пронзительными северными ветрами и кишат серыми крысами. Она согласилась на фантастическую миссию… — лицо Вейбриджа помрачнело, и он заговорил тихим голосом, словно ему было трудно продолжать. — Она пошла на риск ради денег, ибо жизнь ее, полностью посвященная охоте, требовала больших расходов. У нее накопились долги, а ей хотелось отправиться на Крайний Север, чтобы поохотиться на полярную фауну. В случае успеха ей обещали заплатить огромную сумму. Она попала в зыбучие пески недалеко от центрального островка Фенна, нечто вроде скалы, высящейся над зловещим озерным простором. Ей было двадцать восемь лет, а ее жених, Лью Саммервилль, чемпион по теннису Белфаст-колледж, если помните, покончил с собой после ее гибели.
— Простите, — вежливо произнес старик, — ничего не смыслю в спорте и не знаю его героев. Я живу среди книг, скальпелей, инструментов и чучел. Но уверяю вас, юный друг, Вулкх существует, и сомнений в этом нет.
Он подал знак бармену, и вновь стаканы наполнились обжигающим, пряным грогом.
Голова у Вейбриджа кружилась, но, когда представлялась возможность побеседовать об охоте, он охотно засиживался за столиком таверны, где его слова буквально впитывала благодарная аудитория.
— Расскажите о Вулкхе, — внезапно потребовал он.
Старик долго, похрустывая суставами, потирал сухие руки, глаза его превратились в щелочки, из которых вырывалось зеленое пламя.
— В далекие времена, — начал таксидермист, — простите, что начинаю в столь ученой манере, земля, воды и небеса населяли, по всеобщему мнению, чудовищные существа, хотя то были образцы силы и могущества. Не стану отягощать ваш слух варварскими именами бронтозавров, плезиозавров и прочих созданий.
В безбрежных болотах жило удивительное существо — птеродактиль. Живой кошмар — перепончатые крылья рукокрылых, когти орла, голова рептилии и острые зубы. Когда в подлунном мире исчезли динозавры, он еще властвовал в небе, но уже менялся, уменьшался, не теряя чудовищного облика. Он покинул жаркие края, перебрался к северу, привык к умеренному климату, но не решился сражаться с холодами Крайнего Севера.
Таксидермист помолчал и топнул ногой.
— Здесь, в этом районе, прогретом теплым течением Гольфстрима, он достиг границы пригодных для своего обитания земель. Вернулся сюда… и остался! Глупое имя Вулкха прилепилось к нему из-за крика, который он издает, лавируя среди мощных атлантических ветров. Поверьте, охотник, если и есть в мире место, где он может скрываться от людей, то только в Фенне, на непроходимом болоте.
— Как бы не так! — вскричал Вейбридж. — Если ваш Вулкх существует, я сумею его подстрелить. Клянусь.
— Ваша цена? — холодно спросил старик.
Вейбридж окинул его гневным взглядом.
— Повторяю, сэр, вы сумасшедший… Если ваш Вулкх годится в пищу, изжарю на вертеле; если несъедобен, как трехлетняя лысуха, прибью к дверям сарая, чтобы отпугивать кошек и ворон.
— Да будет так, — согласился таксидермист, — понимаю, что люди могут рисковать ради чести. А потому просвещу вас — эти животные всегда поднимаются в небо в конце бури.
— Спасибо, сэр, за ценную информацию! — с жаром воскликнул Вейбридж. — Тот не охотник, кто не знает привычек животного, которое выслеживает и собирается убить. До скорого, сэр. Если останетесь в Лимерике, еще услышите обо мне.
Вейбридж обошел лачугу, разглядывая прекрасных собак, которые подняли лай, почуяв, что хозяин собирается на охоту.
Предпринятое дело было опасным, и он знал, что собачий инстинкт убережет от зыбучих песков и топей.
Он не мог рассчитывать ни на Сноу, ни на Флейма, сеттеров, одного белого как снег, второго рыжего, как яркий костер, животных умных и осторожных. Его взгляд замер на Тампесте.
Пойнтер лучших кровей, гибкий как плеть, и подчиняющийся лишь необоримому желанию преследовать зверя.
Вейбридж любил его, как отец, питающий слабость к непокорному сыну.
— Единственный из псов, который не является рабом, — говаривал он, — и не только не раб, но и почти не слуга!
Те, кто не понимал охотника, спрашивали:
— А кто ваш Тампест?
— Друг, — серьезно отвечал Вейбридж, — и союзник.
Он открыл дверцу будки, и пойнтер стремглав бросился к курам, клюющим зерно во дворе. Остальные псы завыли от разочарования и ревности.
— Тамп, — прошептал хозяин, — день будет великолепным или ужасным.
После недолгих колебаний он выбрал автоматическую пятизарядную винтовку.
Он не любил это оружие, охота с которым казалась ему несправедливой и бесчестной.
Дичь могла надеяться на спасительное бегство от двустволки, но теряла всяческие шансы, попадая под залп скорострельной винтовки.
Вейбридж относился к животным, на которых охотился, по возможности справедливо — стыдился убивать зайца на лежбище; в принадлежащем ему заказнике, он запрещал сплошной сенокос, оставляя островки травы и позволяя дичи найти укрытие.
Автоматическая винтовка, которая скашивает разом половину стаи куропаток, уничтожает утренний квартет кроншнепов и позволяет стрелку дважды промахнуться, была оружием охотника без чести и совести.
— Ба, — сказал он, тщательно проверяя выбрасыватель, — на другую чашу весов ложатся зыбучие пески; я рискую собственной шкурой!
Тампест занял место рядом, ибо не любил покорно плестись по пятам хозяина — он был компаньоном и не отказывался от дружеской беседы.
Вейбридж оставил Сиу слева и направился к морю. Пойнтер поднял подрагивающий нос к близким болотцам, откуда взлетали чирки, потом застыл перед водяной курочкой, торчащей на высоких ногах. Птица с криком бросилась прочь, оставляя двойной след на шероховатом зеркале воды.
— Пойдем через холмы, — сказал Вейбридж, и Тампест понял его, бросившись к темной линии горизонта. Он, наверное, уже думал о криках взъерошенных улит и черном одеянии турпанов, которые в великом множестве водятся у соленых вод.
Добравшись до холмов, Вейбридж сделал остановку и оглядел длинную стену пепельных скал.
Он знал, что в миле отсюда гряда внезапно прерывается, открывая проход речушке, вытекающей из Фенна. Пройдя вверх по течению, можно было выбраться в запретный район.
Утром было серым, но светлым. Горизонт, отмытый вчерашним ливнем, трепетал от испарений. Кое-где высились округлые полушария дюн.
На самом верху обрыва с довольным писком друг за другом гонялись птенцы тупиков, а нетерпимого нрава фламандские чайки сгоняли с насиженных мест толстых поморников.
Вейбридж улыбнулся при виде привычной картины; его охватило странное и меланхолическое чувство. Сам не зная почему, он мысленно заключил перемирие с противниками, на которых охотился в другое время.
В десяти шагах от него, шурша крыльями, взлетел малый веретенник; Вейбридж не реагировал, и Тампест застонал от непонимания.
Охотник смутно ощущал родственность страха всех этих существ, принимающих смерть от руки человека; через несколько часов он, быть может, сам станет оставляющей горячий след добычей, которую преследует мрачная тень…
Фенн открылся из-за большой скалы — поблескивающий водный простор, усеянный бледно-зелеными ромбиками. Почти в самом геометрическом центре торчал конус, тянущийся к низкой полосе тумана.
— Я знаю милю суши, Тамп, — сказал Вейбридж, — а потом… да направит нас Господь!
Пойнтер убежал вперед, он не искал, а принюхивался к низовому ветру, доносившему до него вонь падали и болота. Вейбридж приблизился к почти ровному квадрату вод и заметил шилоклювок.
Шилоклювка — красивая голенастая птица с вздернутым клювом, похожим на курносый нос парижского мальчишки на побегушках. Она худощава и подозрительна, а потому оставляет сушу и наносы заносчивым крохалям и задиристым ржанкам. И держится на дальних отмелях, зная, что недостижима для облака свинца.
Птицы заметили человека и подняли крик, удивленные подобной наглостью.
Они находились на границе твердой земли, но тут же мелкими боковыми прыжками сместились на обманчивый ковер водного мха и притопленных камышей.
Вейбридж обошел птиц, потом, пробуя почву кончиком тростинки, продолжил путь по Фенну.
На первый взгляд окружающий мир выглядел умиротворяющим: языки твердой и сухой земли остриями уходили в болото; они без труда выдерживали его вес, а следы ног не заполнялись водой. Иллюзия игры в классики рассеялась, но память о ней сохранилась. Его преследовал стойкий образ — в этой призрачной партии он стал главной ставкой, помещенной в самый центр игральной доски.
Окружение воспринималось, как необычная смесь спокойствия и яростного завершения северной бури, когда друг друга сменяют то полное затишье, то внезапные порывы ветра. Вдали над водными просветами рассыпалась черная туча чибисов, иногда до Вейбриджа доносился приглушенный крик пеганок.
Обернувшись назад, увидел, что обрыв дальше, чем он полагал, и сердце сжалось от невероятно враждебного безлюдия, в котором охотник был главным действующим лицом.
Миражи приближали горизонт. Там, где человеку казалось, что он видит море, мерцала молочная белизна откоса; заросли тростника на юге растворились, превратившись в продолговатые островки мертвых водорослей. Он вздрогнул, попав под очарование озерной магии, но мало-помалу его охватил ужас от вида бесконечных водных просторов.
К близкому центральному островку вела дорожка охряного песка. Этот скалистый нарост показался человеку безопасным и спасительным убежищем.
Взобравшись на вершину, он окажется над враждебной землей, зная путь отхода к суше — тайна Фенна открылась ему. В болоте расстояния обманчивы. Вейбридж прошагал по песчаной полоске еще полмили, но так и не приблизился к цели.
Тампест снова шествовал рядом, и ничто в его поведении не выдавало привычного веселья. Изредка задумчивый взгляд собаки останавливался на хозяине. Вдруг пес замер, принюхался к ветру и застонал, его хвост яростно колотил по дрожащим бокам.
— Тамп, — обратился к псу хозяин, — что случилось?..
Пойнтер растерялся, на холке дыбом встала шерсть.
— Боишься? — удивился Вейбридж.
Со стороны водяной равнины послышался шум.
Необычные звуки в сопровождении эха — резкий шелест рвущейся бумаги и пронзительный визг напильника, терзающего железо.
Охотник не припоминал ничего похожего, но решил, что так ревут хищники, вспугивая добычу.
— Тамп… — начал Вейбридж и ощутил болезненный укол в сердце. Пойнтера рядом не было.
Охотник развернулся и тоскливо вздохнул. Вдали, там, где кончалась песчаная дорожка, к горизонту уносилось белое пятно с рыжими пятнами… Тампест дезертировал, Тампест предал…
— Я остался один, — пробормотал Вейбридж, — если Тампест сбежал, опасность, несомненно, велика.
Что-то забилось между водой и небом, бросив тень на холм.
Охотник заметил двойное лезвие мощных крыл, похожих на изувеченную руку, терзающую воздух, уши его зазвенели от визга несмазанных дверных петель.
Вулкх.
Он выстрелил — один раз, второй, третий.
Воздушное чудовище развернулось на крыле, хаотически вращаясь, рухнуло в болото и сразу ушло под воду.
— Есть! — завопил Вейбридж, бросаясь вперед. — Есть!

В двадцати шагах от него всплыла громадная туша, похожая на сдувающийся воздушный шар.
Охотника охватила неимоверная радость.
Он одной рукой ухватил воздушное чудовище за левую лапу, а второй — за правую. Ощутил два рывка — неведомая сила тянула его в глубины. Уровень болота внезапно поднялся, холм подпрыгнул в небо. Вейбридж вдруг ощутил свою незначительность. Он потерял в росте — колени опустились на уровень тропы. И понял, что попал в смертоносные объятия зыбучих песков, а короткий триумф стал завершением его человеческой судьбы.
Когда песок накрыл плечи охотника, он уже ничего не видел и не слышал.
Те, кто думает, что жертва медленно погружается вглубь, вспоминают о литературной выдумке. Но проза лжет. Агония заканчивается до того, как пески закроют глаза.
Как только в роковые тиски попадает грудь, человеческая душа отлетает прочь.
Глаза Вейбриджа в отчаянии вглядывались в зыбкий перламутр тумана, хотя он уже почти ослеп. В это мгновение в двух милях от него на южном роге появился человек и принялся неспешно устанавливать мощную подзорную трубу.
— Кончено, — пробормотал он, глядя в точку, где его слабые глаза различали только подвижные тени. Уселся на покрытый травой холмик, достал из коробочки несколько пастилок и принялся их лениво жевать. Потом усталым жестом снял с головы широкополый боливар, обнажив странный грушевидный череп, покрытый жесткой рыжей щетиной.
— Прекрасная работа, красавчик, — хмыкнул он, — мистер Вейбридж медленно опускается к центру земли, где присоединится к жеманной красотке и прочим, клюнувшим на живца… Можешь возвращаться домой и отсыпаться в фосфорной ванне!
Крылатое чудовище тяжело приподнялось и с трудом взлетело, рассекая туман.
— Возвращайся! Возвращайся! — воскликнул человек.
Вулкх вздрогнул, развернулся на крыле и внезапно исчез — в вечернем воздухе закружились клубы дыма.
— Возвращайся, возвращайся, красавчик!
Крохотное дрожащее облачко скользнуло в сторону одинокого человека, на мгновение окружило его голову черным ореолом и растаяло.
Щетина дрогнула и вспыхнула, словно ее ожег луч солнца.
— Стоп! — простонал человек. Вдруг вскочил и пригрозил кулаком стае куликов, которые с криком неслись высоко в небе. — Я никогда не мог выстрелить в животных! Я никогда не мог поднять ружья, а отдача сбила бы меня с ног. Я хотел охотиться, как они, преследовать испуганное животное, загонять отчаявшуюся дичь в последнее убежище и убивать ее. Но природа отказала мне в силе! (Он в ярости задрал рукав, открыв худосочную, иссохшую руку, обтянутую бледной кожей.) Ко мне попадали лишь мертвые животные, вонючая падаль! Моими охотничьими трофеями были кишки, гидрофильная вата, чтобы набить пустое брюхо, йодоформ, которым они пропитаны, и парафин, которым они вымазаны! Я рыдал от яростного бессилия над приключенческими книгами, охотничьими рассказами, спортивными страницами газет. Мне было отказано в радости физических усилий, я считался слабаком и дебилом и не отличался красотой!
Он узловатым пальцем постучал по черепу, зазвучавшему, как деревянное полотно двери.
— Но пришла иная сила! — прорычал он. — Та, которая родила Вулкха… Та, которая родила Шиду… Шиду! (Он глянул на сверкающую гладь воды…) — Покажись, Шиду, красавица моя! Покажись!
Вода вскипела, выбросив на поверхность громадный серый кубок, наполненный тьмой.
— Погляди на меня, Шиду, красавица моя!
Два ужасающих глаза, две зловещие луны, пронзили шар двумя иллюминаторами жидкого пламени, потом с хищной медлительностью взметнулись длинные щупальца.
— Возвращайся, Шиду… на сегодня хватит, я уже не тот… тебе надо поспать.
Поверхность моря разгладилась.
Человек встал, и наступающая ночь превратила полы его пальто в громадные крылья.
— Меня зовут Хингль! Хингль! Я — воплощение ужаса, и мой ужас творит смерть! — крикнул он в пространство. Закашлялся, вдохнув шелковистый туман, и жалобно добавил: — Холодно, туман вреден для моей груди.
И длинным шагом косаря направился к границе болота, жадно жуя таблетки с привкусом камфары и йода.
Черное зеркало
Мистер Торндайк, державший публичную библиотеку на Стэпл-Инн, в тысячу первый раз вглядывался в странные дома с деревянными фасадами, которые выстроились перед его заведением.
Места за столами из черного дерева, заваленными книгами, пустовали, и он никому не мог в энный раз повторить, что обожает стиль тюдор этих строений, уцелевших после пожаров и злосчастий, которые обрушивались на Сити с XV века.
Никому…
Он грешил против истины, но единственный клиент, который рассеянно листал замусоленные лоснящиеся тома, к любителям старины, по его мнению, не относился.
Доктор Бакстер-Браун, простой квартальный врач, жил на Черч-стрит, где занимал две комнаты в одном из высоких светлых домов по соседству с Клиссольд-Парк. Он не имел ни собственной библиотеки, ни лаборатории, а незначительную клиентуру принимал в нищенской гостиной с креслами, набитыми черным конским волосом. Дважды в неделю он предпринимал долгое и скучное путешествие по городу в Холборн, чтобы провести пару часов в запыленном заведении Торндайка и удалиться с взятой напрокат за шесть пенсов книжкой.
На улице лил противный дождь, а стол безденежного посетителя располагался в самом темном углу библиотеки. Но мистер Торндайк даже не подумал о том, чтобы зажечь одну из ламп с зеленым абажуром.
Бакстер-Браун, шурша страницами, листал толстенный том «Истории Англии», которую не собирался читать. Он осторожно подсовывал под него проеденную книжным червем тоненькую брошюру в пятнах ржавчины.
В библиотеку зашла мисс Боуэс, и мистер Торндайк склонился в нижайшем поклоне. Она брала не только дорогие редкие книги, но и любила поболтать, позволяя библиотекарю хвастаться своими историческими познаниями.
— В последний раз, когда я имел честь и удовольствие видеть вас, мисс Боуэс, в моем скромном убежище, мы беседовали о Рене, который перестроил Гилдхолл после пожара 1666 года…
Бакстер-Браун встал, сунул припрятанную книженцию в карман плаща.
— Спасибо, сэр, до свидания, сэр, — сухо пробормотал букинист, кончиками пальцев беря монету, которую протянул ему посетитель в уплату за недавно изданный дешевый романчик.
Приземистый силуэт врача растворился в дожде.
— С такой практикой ему не каждый день доводится есть баранину, — едко заметил мистер Торндайк, глядя вслед посетителю и растянув губы в улыбке, возобновил любезную беседу с гостьей. — Однако следует признать, что башни, добавленные Реном к Вестминстерскому аббатству, не гармонируют с величием…
Бакстер-Браун ждал автобус на углу Холборна, смешавшись с мрачной и терпеливой публикой, чьи одежды давно пропитались водой. Он бережно прижимал к себе припухлый карман плаща, словно там лежало набитое деньгами портмоне, а не древний альманах Уоррена 1857 года, чудом избежавший кухонной печи мистера Торндайка или лап еврея Паанса, который дважды в год скупал по весу не пользующиеся спросом книги.
Бакстер-Браун вернулся домой поздно и столкнулся в вестибюле с владелицей дома, миссис Скиннер. Та недовольно фыркнула и не ответила на приветствие.
— Надо бы заплатить ей аванс, — печально пробормотал врач, карабкаясь на четвертый этаж по лестнице, покрытой вытертым до основы ковром.
Печь в его комнатах не топилась, а из газового рожка свисал лоскуток пламени, дававший скупой свет.
Бакстер-Браун положил альманах Уоррена на круглый стол с шершавой столешницей рядом с полупустой бутылкой виски и трубкой, проверил запор двери, заткнул замочную скважину бумажной пробкой и опустил зеленую хлопчатобумажную штору.
— Посмотрим, — прошептал он. — Но, прежде всего, призовем на помощь Полли.
Взял трубку, набил крупно нарезанным табаком, извлеченным из бумажного кисета, и с наслаждением раскурил ее.
— Полли, милая старушка Полли, — с грубоватой нежностью проворчал он.
Полли скрашивала его одиночество трудолюбивого человека, которого давно преследовали неудачи; прочтя полицейский романчик, он решил дать трубке женское имя и даже выгравировал на ее головке три маленьких крестика, пометив свою собственность.
— Чудесная вещь, — повторял он, вспоминая случайную удачу, когда задешево приобрел относительно дорогую трубку Честерфильд из толстого английского вереска.
— Посмотрим…
Прижал пальцы к вискам, поджал губы и углубился в чтение.
В 1842 году коллекция древних вещей, собранная в Страуберри-Хилл Горасом Уолполом, была распродана на торгах. Среди странных предметов, числившихся в ней, находилось знаменитое зеркало доктора Джона Ди, врача, хирурга и астролога королевы Елизаветы Английской. Его изготовили из тщательно отполированного овального куска антрацита и снабдили ручкой из темной слоновой кости.
Некогда оно фигурировало в коллекции графов Питербороу с пометкой: «Черный камень, с помощью которого доктор Ди вызывал духов».
На распродаже коллекции Уолпола раритет приобрело неизвестное лицо за двенадцать фунтов, и с тех пор, несмотря на тщательные поиски, его не удалось отыскать.
Напоминаем, что ни Питербороу, ни Уолполы никогда не пользовались магическим предметом, а бережно хранили, опасаясь больших несчастий, могущих произойти при неумеренном использовании таинственного зеркала.
Элиас Эшмол, автор странного и ужасающего «Театрум Кемикум», описывает его следующими словами: «С помощью сего волшебного камня можно увидеть всех тех, кого хотите увидеть, в любом уголке мира, где бы они ни прятались: даже в потайных комнатах зданий или в пещерах в глубине земли».
Следует допустить, что последние владельцы, напуганные таким могуществом зеркала, не решились на опыт…
Бакстер-Браун не дочитал до конца статью о печальной судьбе таинственного Джона Ди, а взял лупу, чтобы разобрать строки, написанные мельчайшим почерком на полях страницы.
Эдвард Келли, гнусный мерзавец, который тенью следовал за несчастным Джоном Ди, воспользовался зеркалом, чтобы отыскать спрятанное сокровище и продолжить мерзкие преступления.
Очевидно, что в руках негодяя эта замечательная вещь… (здесь книжный червь проел бумагу, и часть текста отсутствовала)… который ОБИТАЕТ в зеркале.
Слово «обитает» было не подчеркнуто, а написано прописными буквами.
Заметка на полях заканчивалась несколькими строчками, написанными иным поспешным почерком:
Украли зеркало Куотерфеджи. Они искали с его помощью сокровища… (снова работа книжного червя), да будут они прокляты до последнего поколения.
Бакстер-Браун вздохнул, нажал на пружину секретного отделения уродливого секретера Дидлоу и уложил альманах рядом с кожаным футляром. В футляре хранился инструмент из порыжелой стали, когда-то принадлежавший медвежатнику Стентону Миллеру по прозвищу Козел, которого вздернули на виселицу в Ньюгейте ненастным мартовским утром, когда лил проливной дождь с градом, разбившим немало витрин на Патерностер-роу.
Врач тряхнул головой; он оказывал помощь Стентону Миллеру, когда того, избитого разъяренной толпой, перенесли в полицейский участок Ротерхайта.
— Возьмите в качестве гонорара, док, — прошептал несчастный в момент, когда начальник участка отвернулся, — инструмент может пригодиться… Да и лучше будет, если его на мне не обнаружат.
Отсутствие инструмента не помогло Стентону Миллеру, но иногда Бакстер-Браун, не всякую неделю зарабатывавший один фунт, использовал подарок взломщика.
— Посмотрим, Полли… — пробормотал он, пустив в потолок струю дыма.
Через три дня он выяснил, что последний маркиз Куотерфедж жил на Эстейс-роу в старом доме с пыльными окнами, завешенными тяжелыми и дорогими бархатными шторами.
— Вон он, грязный скупец Куотерфедж, чтобы Бог и святые покарали его! — воскликнула торговка овощами в момент, когда Бакстер-Браун фланировал по Эстейс-роу.
Врач увидел низенького человечка с крохотной головкой в одежде от Бруммеля, который мелкими шажочками взбирался по каменным ступеням крыльца.
Эстейс-роу — крохотная улочка в Кенонбери, где редко увидишь прохожего днем и совершенно безлюдно ночью.
Дом Коутерфеджей защищала крепкая парадная дверь с замками и двойной предохранительной цепью, но калитка во дворе, выходившем на маленький канал Олвин, не выдержала нажима стального ломика полутора футов длиной. Бакстер-Браун пересек дворик-болотце, залитый дождевой водой, открыл шпингалет окна прачечной и без труда нашел дорогу в комнаты на первом этаже.
Стентон Миллер не солгал, и его инструмент действительно годился для дела! Бакстер-Браун понял это, когда без труда взрезал странный сейф с позолоченными завитушками и удивительными коваными украшениями.
Он закончил работу, когда в проеме двери возник маркиз Куотерфедж с кочергой в руке.
Доктор с улыбкой изъял из хилой руки маркиза оружие и несильно стукнул по крохотному яйцевидному черепу.
Старик проворковал, как голубок, и упал; профессиональный опыт подсказал Бакстеру-Брауну, что второй удар не нужен.
Он обследовал сейф без спешки и волнения. Нашел двенадцать фунтов бумажками и стопку новеньких шиллингов, а также зеркало доктора Ди в красном шелковом футляре.
Вернувшись домой, Бакстер-Браун на три четверти опустошил бутылку виски и извлек зеркало из футляра.
Со вздохом сожаления положил Полли на стол, поскольку в кисете не осталось табака. И углубился в изучение странного магического предмета.
Тонкий темный овал сиял, как клочок ночного безлунного и беззвездного неба, блестя и не отражая света. Однако доктор не увидел ничего необычного в сумрачных глубинах зеркала.
Собрав остатки воли, он мысленно обратился к таинственному создателю зеркала, иногда называя имя Эдварда Келли.
После часа тщетных усилий у него по спине текли струи пота, а руки, горевшие от внезапной лихорадки, мелко дрожали.

Под утро газовый язычок съежился, поскольку Бакстер-Браун забыл сунуть монетку в счетчик.
Свет погас, и врач увидел в глубине зеркала чудесное голубое сияние.
Вначале он испугался и убежал в соседнюю комнату.
Однако взял себя в руки и, хотя дрожал от противного страха, вернулся к столу.
Сияние немного ослабело.
— Надо… понаблюдать за этим явлением… в научных целях, — пробормотал врач. — Этот голубой свет как бы поляризуется… И, сдвинувшись влево от зеркала, я вижу…
Он увидел, но предпочел бы, чтобы странная черная поверхность осталась пустой и гладкой, хотя горел желанием воспользоваться оккультным могуществом предмета.
Видение оставалось размытым, и Бакстер-Брауну пришлось напрячь зрение, чтобы различить более или менее четкую фигуру.
— Похоже… хм, немного неясно… видно нечто вроде одежды… какой-то домашний халат. Хм… есть голова и… и ноги.
Видение обрело четкость.
Лицо, обрамленное окладистой бородой. Невероятно огромные, длинные и тонкие ноги, прикрытые отвратительными стальными поножами, какие можно увидеть на старинных гравюрах, изображающих последних рыцарей, участвовавших в войне Белой и Алой Розы.
— Не очень красиво и ничего не значит, — решил он, отчаянно храбрясь.
Но последняя попытка бросить вызов неведомому не удалась. Непонятный и гротескный персонаж насыщал атмосферу невыносимым ужасом. Призрачный свет заливал зловещими фосфорно-опаловыми лучами бутылку виски и Полли.
Врач смотрел на привычные вещи с непередаваемым страхом, словно те впитали часть угрожающей тайны зеркала.
Странный мираж, бывший четким буквально несколько секунд, быстро терял резкость: первой исчезла борода, потом расплылся халат, а змеящиеся конечности растаяли в завихрениях тумана. Видение исчезло как по мановению руки, и в комнате воцарился мрак.
— Черт возьми! — выругался Бакстер-Браун, яростно роясь в карманах в поисках монеты для счетчика.
Он сунул ее в щель, и тут же за спиной послышался звон разбитого стекла и бульканье.
Когда свет разгорелся, он увидел, как виски из разбитой бутылки двумя ручейками текло по столу. Черное зеркало вновь стало простой каменной пластиной.
— Интересно, — простонал врач, — может, это лишь дурацкая игра воображения?
Потом тряхнул головой:
— Но как могла разбиться бутылка и…
Его глаза округлились от ужаса и непонимания — исчезла Полли.
Прошла неделя, пока Бакстер-Браун набрался храбрости в тишине и мраке ночи повторить попытку разгадать тайну магического зеркала.
Чуда не произошло.
Он осмелел и проводил опыты каждую ночь, вызывая дух Ди и Келли и обращаясь к властителям ада, чьи имена отыскал в древнем колдовском трактате Поджерса.
Его ждало разочарование; мечты о сокрытых сокровищах таяли, и он даже признался себе, что не очень в них верил.
— Стоило трудиться… стоило ли… — то и дело бормотал он. Но никогда не заканчивал мысли и не мог утверждать, корит себя за убийство на Эстейс-роу или нет.
Преступление принесло двенадцать фунтов и несколько шиллингов, но деньги растаяли как снег под солнцем.
В день, когда последние новенькие шиллинги ушли на покупку сахара и чая, объявилась миссис Скиннер. Даже не объявилась, а прислала Дину Пабси, грязнулю, занимающуюся тяжелой работой по дому, с приказом доктору «не уходить из дома до беседы с миссис Скиннер, если он не хочет обнаружить по возвращении красные печати на своей двери».
Миссис Скиннер, довольно терпеливый кредитор, никогда не объявляла беспощадной войны жильцам, задержавшимся с оплатой жилья; но Бакстер-Браун задолжал за восемь месяцев, кроме того, он перехватывал у нее мелкие суммы, когда она бывала в хорошем настроении.
Хозяйка явилась в одиннадцать часов, иными словами, через два часа после сообщения Дины Пабси. На ее носу сидели очки в черепаховой оправе, а рука сжимала толстую пачку счетов.
— Доктор Браун, — начала она, — так продолжаться не может. Терпение мое велико и еще не совсем истощилось, но я сама нуждаюсь в деньгах. Если загляните в эти записи, то увидите, сколько должны…
Вдруг она замолчала, с отвращением принюхалась и воскликнула:
— Боже, какая мерзость!.. Что за отраву вы курите, доктор! Я не могу здесь оставаться. Какая вонь… Уходите, покиньте мой дом… Боже, как дурно пахнет!
И убежала, оставив, беспрецедентная забывчивость, счета, которые медленно спланировали на пол.
Бакстер-Браун с облегчением вздохнул, когда крикливая хозяйка покинула комнату, и в задумчивости застыл у стола. Он нахмурился, ничего не понимая — из соображений экономии он отказался от покупки новой трубки и не курил с момента исчезновения Полли!
И как ни принюхивался, не чувствовал запаха табака — ноздри щекотал лишь затхлый запах от раковины и ароматы от нескольких аптекарских склянок.
Пожав плечами, он полез в потайное отделение секретера.
Черное зеркало лежало на месте, темное и блестящее, лишенное тайны и призрака; рядом с ним в кожаном футляре спали стальные инструменты.
Бакстер-Браун с вздохом взял его.
В этот миг с нижнего этажа донесся вой.
— Доктор! Доктор!.. Она умирает!
Врач узнал пронзительный голос Дины Пабси.
Вопящая и обливающаяся слезами грязнуля стояла у открытой двери кухни.
— Она вошла и сказала: «Табак… Как им несет!..» Потом упала. И больше не двигается! Ой-ой-ой!
Бакстер-Браун увидел миссис Скиннер — та лежала на бело-красной плитке пола; очки ее отлетели в сторону и разбились.
Лицо владелицы дома искажала ужасная гримаса.
— Она больше не двигается! Видите! — рыдала служанка.
«И больше никогда не будет двигаться», — промолвил про себя врач, поскольку уже констатировал смерть несчастной.
Написав коротенькую справку для медицинской службы городской полиции, он поднялся к себе и положил на место кожаный футляр. Поскольку он первым констатировал смерть миссис Скиннер, то по закону примет участие в предварительном дознании и получит за труды три фунта и шесть шиллингов в качестве гонорара.
А значит, несколько дней передышки.
Почему с некоторых пор его печалила потеря Полли?
Трубка, издавна ставшая верным другом, помогавшим справиться с одиночеством и невзгодами, была ему так нужна, что он не хотел ей замены и даже потерял вкус к курению.
Вскоре серьезные заботы оттеснили бессмысленные сожаления. Кончились деньги, его отягощали долги — под угрозой оказались его свобода и жизнь.
Редкая клиентура вовсе исчезла. Ночные бродяги сорвали с парадной двери цинковую табличку с его именем и часами приема.
Он решил не вешать новую, уверенный в ее бесполезности.
— Сентон Миллер, — вздыхал он. — Пора вспомнить о тебе, бедный собрат по преступлению.
Он извлек из ящика стальные порыжевшие инструменты, отодвинув в сторону красный шелковый футляр с бесполезным зеркалом доктора Джона Ди и бросив на него взгляд, исполненный гневного презрения.
— Тебе, — проворчал он, — придется как-то утром отправиться на дно реки и строить козни там!
До этого дня он верил в свою темную звезду удачи, когда совершал малодоходные ночные набеги. Он уже забыл, что ограбление на Эстейс-роу принесло ему черное зеркало.
Он тщательно подготовился к очередной экспедиции, уповая на спасение от окончательной нищеты. Дом, который он заприметил на Блумсфильд, пустовал. Леди Эберлоу, его владелица, лечилась в клинике на Косвел-род и захватила с собой всех слуг. Он узнал обо всем от болтливых коллег, не подозревающих, что Бакстер-Браун внимательно прислушивается к их разговорам.
Одна из створок ставней первого этажа закрывалась неплотно, и он по опыту знал — она не станет серьезным препятствием во время ночного визита.
Было холодно и темно, когда он сошел с автобуса в Корн-хилле. А когда пешком добрался до Лондон-Уолл, мрачный и задумчивый, как гений дурного настроения, по улицам медленно растекался смог. Фонари плакали редкими рыжими слезами в населенном призраками тумане, в котором глохли даже шумы. Где-то вдали ревели сирены.
Бакстер-Браун облегченно вздохнул. Он мог найти Блумсфильд, дом леди Эберлоу и перекошенную створку, даже с закрытыми глазами.
Доктор без особых усилий проник внутрь; белый луч карманного фонарика скользнул по белым чехлам мебели и свернутым коврам в строгой викторианской гостиной.
Поднялся по широкой винтовой лестнице, исчезающей в сумрачной вышине, и распахнул на втором этаже дверь в спальню леди Эберлоу. И окаменел от ужаса, словно перед ним возникло чудище.
Комната была ярко освещена. Горели все двенадцать рожков огромной люстры с хрустальными подвесками, а позади диванчика, обитого желтым бархатом, сиял розовый светильник. Ночной посетитель не поверил, что обитатели, покидая дом, забыли погасить свет, ибо в пустой и холодной комнате все, кроме освещения, свидетельствовало, что здесь давно никто не живет.
Бакстер-Браун с трудом дышал, словно на плечи лег слишком тяжелый груз.
— Ну и пусть… — пробормотал он, — все равно надо… иначе я конченый человек.
Его глаза остановились на венецианском зеркале глубокой зеленой воды, висящем на дальней стене. Он подошел к нему и приподнял — ярко вспыхнули четыре медные головки болтов встроенного в стену сейфа.
Стальной инструмент справился с дверцей без особых усилий.
— Наконец-то… наконец-то… — всхлипнул Бакстер-Браун. По его лицу потекли слезы радости, когда он увидел толстые стопки банкнот и три желтых столбика соверенов.
Карманы его раздулись; он весело взмахнул полуторафутовым ломиком, которым вскрыл сейф. И вдруг его сердце тоскливо сжалось; внизу хлопнула дверь, на лестнице послышались быстрые шаги, сухо щелкнул взвод револьвера. Бакстер-Браун превратился в каменную статую. И даже не шелохнулся, когда увидел тяжелый могучий силуэт в проеме двери и крохотную злую мордочку револьвера, нацеленного ему в лоб. Но роковой выстрел не последовал, а мужчина не успел даже крикнуть. Стальной ломик выскользнул из рук взломщика, со свистом ракеты пронесся по воздуху и нанес удар. Взломщик не успел мигнуть, как тело охранника рухнуло на пол — из головы хлестала кровь, образуя лужу крови. Лицо трупа обратилось в месиво.
Бакстер-Браун с невероятным усилием оторвал приросшие к полу ноги. Но, собравшись с силами, невероятным прыжком перескочил через труп.
На лестничной площадке обернулся.
Яркий свет заливал вскрытый сейф, разбитую голову охранника, а под светильником…
Врача не трогало зрелище насильственной смерти — он привык к ней, — но между абажуром светильника и подушками дивана в воздухе, словно в зубах невидимого курильщика, висела Полли.
Он сразу узнал любимую трубку по обожженной головке и трем крестикам. Его охватило необоримое желание вернуться, перепрыгнуть истекающий кровью труп и забрать ее, как вдруг из головки вырвалось кольцо дыма, второе, третье… потом Полли яростно запыхтела, наполняя комнату плотным голубоватым туманом — она курила сама… сама…
Бакстер-Браун бросился в ночь, окунулся в смог и, блуждая в густом тумане, потратил три часа, чтобы добраться до Клиссольд-Парк и своей ледяной комнаты.
Пока он отсутствовал, порыв ветра распахнул окно, и серые волокна тумана призрачной каруселью клубились вокруг лампы.
Прошло десять лет. Знакомые доктора Бакстер-Брауна не подозревали, что у него среди массы ненужных вещиц хранится самый ужасающий магический инструмент, когда-либо оставленный людям адскими силами, а именно черное зеркало доктора Джона Ди.
Не будем упоминать о кольце Тота, гримуарах Соломона, сосудах с гомункулами Карпантье. Только черное зеркало позволяло людям ускользать из тесной тюрьмы плоти и чувств и находить дорогу в тумане ненависти, любви и знания, из которых Верховным Божеством сотворены призраки и вечные духи-скитальцы.
Откупив в Камден-Таун консультационный кабинет старого врача, мечтавшего о сельском доме на берегу ручья с форелью в родном Девоншире, Бакстер-Браун обрел счастье и спокойствие. Отрастил брюшко, отпустил галльские усы. Лицо его лоснилось, ибо он пристрастился к хорошей кухне.
Теперь врач носил костюмы в клетку от Карзон Броз и обедал в ресторане Баччи, где ценил рагу из кролика в соусе и печенного на решетке угря.
Вступил в члены клуба игроков в вист в таверне «Кингфишер» и неплохо играл.
И последние годы вряд ли больше трех или четырех раз извлек из красного шелкового футляра темное магическое зеркало.
Без любопытства и ужаса он склонялся над ним, не пытаясь разгадать страшную тайну, и больше никогда не воспользовался могуществом, заключенным в глубинах черного камня.
Однако полного равнодушия не проявлял, и иногда перед его взором проносилась бородатая фигура в поножах.
Некоторые события не позволили полностью забыть о Полли.
И, прежде всего, жалкая смерть Сламбера.
Бакстер-Браун снял в Камден-Таун один из живописных домов, гордость рантье двадцатых годов девятнадцатого века, сложенных из древнего камня с таким хитроумием и умением, что им удалось избежать алчности разрушителей древностей и строителей новых безвкусных сооружений.
На первом этаже, где тянулась анфилада низких комнат, он устроил приемную, врачебный кабинет и крохотную лабораторию для приготовления мазей и сиропов собственной рецептуры, пользовавшихся заслуженной славой и спросом.
Гостиная на втором сверкала новой мебелью и ремесленными подделками — здесь доктор отдыхал, не стремясь к иным развлечениям.
Он редко звал в гости, оставаясь истинным мизантропом.
Среди малочисленных друзей, кому он охотно открывал доступ в грошовый рай, был добряк мистер Сламбер, бывший надзиратель лицея. Он не нажил богатства и с трудом перебивался с хлеба на воду, занимаясь корректурой в третьестепенных издательствах. В таверне его ежедневные расходы сводились к двум пинтам эля, а если он выпивал третью, то только благодаря щедрости Бакстер-Брауна.
Поговаривали, что его вечернее меню состояло из единственного яйца вкрутую или тушки селедки. Что побуждало доктора угощать приятеля холодным мясом или запеченной в соли дичью, заказанным в соседней таверне?
Мистер Сламбер не славился красноречием, если речь не заходила о его коньке — старинных методах освещения. Молчальник превращался в лирического поэта, когда говорил о подсвечниках, фитилях и лампах Карселя. Поэтому бывший надзиратель превратил Бакстер-Брауна чуть ли не в бога в день, когда тот приобрел у старьевщика Чипсайда длинную и высокую лампу из синего стекла, снабженную водяной лупой и медным крючком, которая светила влажным зеленоватым светом.
— Клянусь вам, это — Кантерпук! — вскричал он в приступе энтузиазма.
— Кантерпук?
— Так звали знаменитого жестянщика, жившего в Боро в 1790 году, — сообщил мистер Сламбер, — подобные лампы заслуженно создали ему громкую славу.
Бакстер-Браун промолчал, но при каждом посещении Сламбера луна Кантерпука радовала мягкую и простецкую душу бывшего надзирателя лицея.
Как-то ночью Бакстер-Браун проснулся от чувства опасности.
Он уже несколько лет не мог спать в темноте и оставлял у изголовья ночничок с поплавком, чье желтое пламя без особого успеха боролось с молчаливой ордой теней.
Крохотный язычок огня выхватил из мрака враждебную тень с блистающим кинжалом в руке. Испуганный Бакстер-Браун увидел, как взметнулся клинок, а из тьмы выступила черная маска. Он зажмурился, ожидая удара, когда произошло непонятное. Нож вдруг выпал из руки убийцы и воткнулся в пол, из-под маски донесся короткий хрип, потом стон боли и отчаяния. Человек умирающим голосом прошептал:
— Простите меня… Я хотел взять Кантерпук.
Вор, умерший с этим жалким признанием на устах, был беднягой Сламбером.
Врач хотел спросить себя, каким образом внезапный сердечный приступ сразил его старого друга и спас жизнь ему, когда увидел Полли.
Она висела в футе над ночником, выпуская маленькие круглые кольца из головки, помеченной тремя крестиками. Кольца были ровные и плотные, довольные, если так можно сказать, своей идеальной формой.
Бакстер-Браун приглушенно вскрикнул и протянул к ней руку; жест его оказался неудачным, ибо загасил хлипкое пламя. Когда он зажег ночник, трубки и в помине не было, а в комнате воняло дешевым табаком.
Он спас репутацию мистера Сламбера, спрятав маску и кинжал и уложив труп на скамейку сквера в ста шагах от дома.
Эдди Бронкс была бы красива, даже очень красива, не придай базедова болезнь какого-то испуганного выражения ее светло-голубым глазам.
Бакстер-Браун встретил ее у Литтлвуда, корнхильского фармацевта, которому обещал передать свою лабораторию и тайну изготовления мазей.
Эдди с удовольствием беседовала с ними, поскольку, как любила с гордостью повторять, «была собратом по профессии». Она работала помощницей медсестры в Нью-Чарити Хоспитал.
Бакстер-Браун никогда особо не жаловал женщин, но образ Эдди Бронкс заполонил его думы.
— При следующей встрече попрошу ее стать моей женой, — неоднократно повторял он сам себе.
Но следующая встреча, как и многие другие, заканчивались, а предложение руки и сердца так и не срывалось с уст доктора. Беседы касались лишь достоинств литтлвудских лекарств, лечения базедовой болезни и ее частных случаев, которые встречались у его пациентов.
Однажды осенним вечером Бакстер-Браун зашел к Литтлвуду — тот стоял, облокотившись на прилавок, у него дрожали губы, а руки были ледяными.
— Подумайте только, — простонал он, — малышка Бронкс только что ушла отсюда в полном отчаянии. Ее уволили после перепалки с главной медсестрой. Она хочет покончить с собой… Нет, нет, я знаю толк в этом, Браун… Не забывайте, что болезнь предрасполагает к неврастении… Она направилась в сторону Уотер-Воркс.
Литтлвуд сильно хромал и не мог догнать отчаявшуюся девушку.
Бакстер-Браун, как сумасшедший, понесся по темной улице и остановился, запыхавшись от бешеного биения сердца. Впереди под луной блестела поверхность водохранилищ.
— Эдди! Эдди! — в отчаянии закричал он.
И заметил девушку — та опасно перегнулась через хрупкие перила… Ночная вода готовилась принять ее в свои ледяные объятия.
— Дорогая… я хотел только…
Именно в этом странном месте и в более чем странных обстоятельствах произошло объяснение в любви и предложение руки и сердца.
Рыдающая Эдди Бронкс последовала за ним.
Он развел огонь в камине в гостиной, зажег все лампы, даже лунный Кантерпук, и дрожащими руками приготовил грог.
— Завтра, дорогая, я займусь брачной лицензией.
Она не слушала его, лицо ее поднялось к потолку, в глазах появилось тоскливое выражение.
— Что это, доктор Браун? — выдохнула она.
— Что? Но…
Она рухнула в глубокое кресло рядом с камином.
— Простите… кружится голова… сердце… Доктор, прошу вас, не курите!
Бакстер-Браун отставил в сторону стакан с грогом.
— Дорогая, я не курю!
Эдди Бронкс рывком вскочила на ноги.
— Там, в углу, человек с шлемом на голове… он прячется… я вижу его ноги под столом… они похожи на змей, — и вдруг закричала: — Он приближается! Боже правый!
Бакстер-Браун хотел ее удержать, когда она рванулась к двери, с невероятной силой оттолкнув его.
Он покачнулся, потерял равновесие и ударился головой о кресло, где она только что сидела.
А когда поднялся, услышал хлопок входной двери и бросился к окну.
Девушка бежала по пустынной улице, а когда он нагнулся, заклиная ее вернуться, различил чудовищную тень, которая бесшумно скользила вдоль поблескивающего тротуара.
Наутро из резервуара 2 водохранилища Уотер-Воркс в Камдене извлекли труп Эдди Бронкс.

Бакстер-Браун умер через год после ее трагического конца.
Последнее время его мучили приступы астмы, но он не лечился.
Литтлвуд часто навещал его, и именно он поведал о последних мгновениях жизни доктора.
— Он допустил роковую оплошность, — рассказывал аптекарь. — Хотя доктор Россендил велел ему сидеть дома и лежать в постели, он решил выйти на улицу. Лил проливной дождь, и он вернулся домой насквозь промокшим.
Я упрекнул его в небрежности и тут же уложил в постель.
— Что за безумие выходить в такую погоду, — пожурил я его, — зачем лишний риск?
— Надо было расплатиться с долгами, — загадочно ответил он.
Я измерил температуру — она подскочила до сорока, он бредил. Заговорил о непонятных вещах, в том числе о каком-то зеркале.
— Я хотел знать после стольких лет… Он обитает в нем… Он…
Слово Он произносилось с надрывом, и я приказал ему замолчать и успокоиться.
К утру доктору полегчало, температура упала. Я надеялся, что кризис миновал и он заснет.
Воспользовавшись передышкой, я решил отдохнуть и задремал в кресле.
Меня разбудили его крики.
Он сидел в кровати, задыхаясь, грудь вздымалась, как кузнечные мехи. Его окружало облако табачного дыма, хотя я знал, что он не курил.
— А, — кричал он, — вон он… конечно, он… теперь я знаю… она мне известна… Мерзавец, ты украл у меня трубку!!!
И рухнул бездыханным — жизнь его прервалась.
Но в последний момент доктор сделал странный жест, словно выхватывал что-то из воздуха. Когда рука его упала, кулак сжимал вересковую трубку с головкой, помеченной тремя крестиками.
Ее не удалось извлечь из его скрюченных пальцев. Думаю, Бакстер-Брауна похоронили вместе с ней.
Конец

Вне кругов Написано для Лулу
Вероятно, я заснул в теплой постели под желтым туманом ночника с книгой Диккенса или Ройтера в руке. Потухшая трубка, как всегда, лежала на полу. Так я ежевечерне расстаюсь с повседневной жизнью, отправляясь в недвижное путешествие сна. Я проснулся у ночного ревущего моря. В ночном пробуждении нет ничего удивительного, поскольку оно граничит с фантазией сновидений, но, обретя равновесие в пространстве и времени, я убеждаю себя:
— Все это реально.
Реальность есть только там, где ты близок к Богу. Ближе всех к нему душа покойника. Я собирался задать вопрос пескам, морене и пенному приливу вод, когда послышался знакомый голос, а из-за дюны показалась Лулу.
Малышка — она навсегда осталась ребенком в моем сердце и памяти — яростно терла глаза.
— Дадди, — сказала она, — я отлично выспалась.
Доверчиво сунула свою лапку в мою большую неловкую ладонь.
Мы повернулись спиной к пустынному морю, и наши шаги зазвенели на плитах бесконечного бульвара, тянувшегося вдоль домов с безжизненными окнами.
Лулу устремила вдаль свои чудные темные глаза.
— Дадди, мне кажется, мы оба умерли, но это ничего не меняет, не так ли?
Она проглатывала слоги, как в далеком детстве.
— Нет, — подтвердил я и с силой сжал ее руку, — это ничего не меняет.
Теперь я знал, что ее рука никогда не вырвется из моей ладони, потому что никто не мог забрать ее у меня, никто — две вечности слились в одну.
— Дадди, — попросила она, — расскажи сказку.
— Жил-был однажды, — начал я.
— Хорошо, — кивнула она, — никогда не следует начинать сказку другими словами; они красивы, как сама сказка.
— Жил-был однажды бедный человек, которого люди заперли в тюрьму, запретив глазам и сердцу любоваться окружающим миром и радоваться ему.
Он постарел, ощущая постоянную боль, но боль была так велика, что продлевала жестокие годы заточения, а не сокращала их число. Но однажды боль перестала питать его сердце надеждой, и он умер.
— Принеси мне человека, пережившего самые сильные муки, чтобы я мог вознаградить его по справедливости и доброте, — велел Бог одному из архангелов. Дух Неба доставил душу умершего человека, и Он сказал: — Твое страдание было безмерным, и я хочу дать в награду безмерную радость. Вот мое небо, где звезды стали цветами, пусть оно станет твоим садом. Твое дыхание зажжет новые туманности, движение твоей руки погасит звезды, которые тебе не понравятся, ты мыслью изменишь орбиты, по которым несутся миры, ибо моя воля и моя радость станут отныне твоими.
— Не хочу, — отказался бедный мертвый человек.
— В согласии с моей волей и добротой, — настаивал Бог, — выбери себе награду, так хочу я.
— Тогда, — попросил человек, — позволь на день вернуться на землю, посадить любимую дочурку на колени и рассказать ей сказку.
— Ах, — воскликнула Лулу, — очень интересная сказка, ведь в ней говорится о другой сказке, которая будет рассказана. Она словно не имеет конца. Конца… конца…
Лулу говорила правду; бесконечно добрый Бог не желает, чтобы души мертвых людей лишились радости.
Я знал, что Он решил мою участь — мой удел в Вечности есть бесконечное счастье, могучие крылья вознесут меня над временем, ибо за мной светлой тенью последует моя дочка, и я без устали буду рассказывать ей сказки.

 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ