Падение Рима
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ВЕЛИКОГО РИМА

Последние два столетия существования Римской империи совпали с грандиозным процессом передвижения народов, населявших земные пространства от маньчжурских степей до атлантического побережья будущей Франции. Это было так называемое Великое переселение народов, продолжавшееся с IV по VIII век, в результате которого многие германские, славянские племена и народы Азии, пройдя тысячи километров, побывав на непривычных и порой незнакомых для них землях Империи, либо оставались там, давая начало новым государствам и народностям средневековья, либо с течением времени незаметно исчезали, растворяясь среди местного населения, либо же возвращались назад, на свою родину.
Исходным пунктом Великого переселения народов стали области, примыкающие к северному Причерноморью. Населявшие этот регион различные племена уже давно имели довольно тесные связи с Империей и античным миром вообще. В Рим они посылали меха, рыбу, зерно, а ввозили вина, ткани, предметы роскоши. С III века к племенам Причерноморья стали присоединяться приходившие с севера восточногерманские племена готов. Те из них, кто расселился по Днестру, получил название вестготов (западных готов), а осевшие в низовьях Днепра — остготов (восточных готов). Очень скоро готы стали тревожить нападениями дунайские границы Империи. Однако римским властям удалось заключить ряд договоров с предводителями некоторых готских племён, которые обязывались служить Империи в качестве федератов и защищать её границы. Среди придунайских готов довольно быстро стало распространяться и христианство.
В середине IV века племена северного Причерноморья объединились в большой союз, во главе которого стал вождь остготов Германарих. Однако поначалу причина образования этого союза лежала не в стремлении готов более организованно нападать на Римскую империю. Враг подошёл с другой стороны, с востока. Это были племена гуннского союза.
Одновременно с тем, как готы формировали свою коалицию, и даже чуть раньше за Доном, в степях сложился большой союз различных племён, в который в конце концов к середине V века, когда гунны оказались в самом сердце Европы, вошли самые разные племена — монгольские, тюркские, славянские, германские и другие, захваченные могущественным вихрем нашествия Востока на Запад. Поначалу гунны разгромили коалицию Германариха, который покончил жизнь самоубийством, а многие из бывших его «подчинённых» стали членами могущественного гуннского союза. Под натиском этого невиданного до сих пор разноплеменного и разноязыкого объединения, двигавшегося на Запад, вестготские племена вынужденно перешли Дунай и вторглись в пределы Римской империи.
Несомненно, гуннский союз не мог стать такой организацией, которая основала бы в Европе новое гигантское государство, хотя, конечно же, попытки подобного рода предприняты были. И образ жизни самих гуннов-кочевников, и разноликость всего гуннского войска не способствовали тому, чтобы создавать прочные политические образования. Кочевой характер жизни степняков не мог заставить их поселиться на землях, «привыкших», если можно так выразиться, к обитающим на них земледельцам. В своих завоевательных стремлениях, нанося урон буквально всем отраслям жизни практически всех без исключения племён, гунны действительно на какое-то время завоевали значительные территории Европы, дойдя едва ли не до берегов Атлантики. Многие города и плодородные земли пришли в упадок после их разорительных набегов.
Итак, когда в середине 70-х годов IV века тысячи вестготов, перейдя Дунай, хлынули на земли Империи, прося места для поселения и защиты, мало кто догадывался, к каким последствиям и для германцев, и, особенно, для Рима приведёт этот факт. Римское государство, стремясь использовать этих варваров в качестве защиты от других, разрешило поселиться им вдоль течения Дуная и исполнять обязанности федератов. Однако в результате злоупотреблений римских же чиновников, обязанных снабжать их продовольствием, из-за голода и насилия со стороны римлян, желавших поживиться за счёт дешёвых рабов, вестготы восстали. Волнения охватили не только германцев — их к тому моменту было всего около 15 тысяч, к нему примкнули и местные рабы и колоны. Даже солдаты римской армии — варвары по происхождению — охотно (что не удивительно) примкнули к восставшим. Варварская «армия» двинулась в сторону столицы, и император Валент был вынужден дать генеральное сражение у Адрианополя, которое было им проиграно[1]. После победы под Адрианополем восстание стало распространяться на все области Балканского полуострова от Понта до Венетских Альп. Только лишь огромным напряжением сил римскому государству удалось в какой-то мере нейтрализовать процесс открытого военного проникновения целых народов на свою территорию с целью если не тотального завоевания, то уж наверняка прочного заселения. В 382 году римский полководец Феодосий, ставший чуть позднее императором, нанёс восставшим поражение, после которого вестготы вновь были поселены на территории Империи на положении федератов.
Но в 395 году они вновь подняли восстание против римского государства. При этом соотношение сил начинало постепенно складываться в пользу германских племён. Этому во многом способствовал новый вождь германцев — талантливый военачальник и политик Аларих. Встав во главе отрядов, объединивших не только готских федератов, но и другие племена — алеманов, сарматов, Аларих вступил во Фракию. Отдельные отряды восставших доходили до стен Константинополя. Вскоре беспокойство вновь охватило весь Балканский полуостров, но на этот раз пожар затронул даже ряд регионов Малой Азии и Сирии. С большим трудом правящим кругам Империи удалось оттеснить войска Алариха из Греции благодаря помощи войск под командой вандала Стилихона, прибывших на помощь из западной части империи. Несмотря на поражение, вестготам выделили земли в богатой провинции Иллирик, где они поселились в качестве федератов.
В Иллирике Аларих пробыл со своими соплеменниками только четыре года. Нестабильность ситуации в Империи предоставляла ему возможность начать задуманный поход в Италию. Этот поход германский вождь начал в 401 году. Действиями германцев воспользовались многие жители окраинных римских провинций, которые присоединились к Алариху на его пути в столицу мира. Без труда перейдя Альпы, германский полководец вступил в Венецианскую область и дошёл до Медиолана (ныне Милан). Когда в Риме узнали об успешных действиях варваров, в городе началась паника, за которой последовало массовое бегство — в основном представителей аристократии — не только из Вечного города, но даже из пределов Италии. С большим трудом удалось Стилихону лишить Алариха поддержки в Норике и Реции и нанести его войскам чувствительное поражение 6 апреля 402 года у Полленции. Современник событий, римский поэт Клавдиан писал, что «спаситель Италии и всей империи» «удалил смерть, висевшую над нашими головами». Действительно, судьба Империи висела на волоске... К сожалению, высшие сословия погибавшего государства с какой-то непонятной целеустремлённостью рыли себе могилу — вскоре после описываемых событий Стилихон был обвинён в государственной измене. Вина его заключалась не только в том, что он сосредоточил в своих руках слишком большую власть, фактически потеснив на троне безвольного Гонория (что было правдой), но и в том, что он обложил налогом богатых землевладельцев, желая собрать деньги на борьбу с варварами. В 408 году полководец был казнён. Так погиб один из последних талантливых военачальников Рима, не римлянин по происхождению, всеми силами защищавший это государство от своих единоплеменников. После его смерти проникновение германских отрядов на территорию Империи продолжалось фактически непрерывно. Варвары не встречали сколько-нибудь значительного сопротивления...
Аларих возобновил своё наступление на Рим и трижды осаждал его. К его войскам присоединилось множество рабов из италийских поместий и жителей городов Италии. На сторону Алариха переходили и солдаты римской армии, в основном варвары по происхождению. Их было около 30 тысяч.
21 августа 410 года столица Римской империи пала под ударами объединённого войска Алариха. Город был жесточайшим образом разграблен (нашествие вандалов в 455 году не идёт ни в какое сравнение с действиями готов в 410-м, хотя термин «вандализм» почему-то находится в общем употреблении и не вызывает ни у кого сомнений в своём соответствии исторической правде). Большая часть римской знати была перебита, уведена в плен или продана в рабство. Некоторым удалось спастись бегством в Северную Африку и Азию. Многие, бросив всё своё имущество (если оно уцелело от разграбления), бежали на острова и в отдалённые провинции. Современники сообщают, что земли Восточной империи были наполнены знатными беглецами с Запада, просившими подаяние.
После взятия Рима готы двинулись на юг. Аларих хотел завоевать Южную Италию, Сицилию, а также переправиться в Африку, считавшуюся житницей Империи. Однако флот вестготов был рассеян во время сильного шторма, и Аларих был вынужден вернуться назад. Во время этого похода его и настигла смерть. Постепенно вестготы покинули земли Италии и двинулись дальше на Запад. После ряда столкновений с римской армией они поселились в 419 году в юго-западной Галлии, в Аквитании между Карой и Гаронной, где и основали первое «варварское» государство в Европе. Столицей нового королевства стала Тулуза. Формально вестготы поселились здесь на положении федератов Рима, хотя, конечно, их государство было фактически самостоятельным. Во главе его стоял король, носивший, правда, титул римского военачальника. Вестготы получили две трети всех земель, «позаимствовав» их из государственного фонда и конфисковав у магнатов.
Однако не только передвижения готских племён наносили удар по целостности Западной империи. На территории Галлии и Пиренейского полуострова в течение нескольких десятилетий не прекращались мощные волнения, получившие в истории название «движение багаудов». Одна из крупнейших частей Галлии — Арморика — в течение ряда лет, начиная с 408 году, была потрясаема этим движением и в конце концов отпала от Рима и сделалась самостоятельной. В 435 году это движение охватило почти всю Галлию. Вестготы и другие варвары помогали восставшим, надеясь с их помощью ещё более ослабить позиции Империи. И лишь в 437 году видный римский полководец Аэций, командовавший военными силами Западной Римской империи, после ряда ожесточённых сражений временно подавил эти выступления. Но через некоторое время восстания вспыхнули вновь, на этот раз в той же Арморике. Римское правительство сумело подавить это движение лишь в 451 году. Подобная нестабильность ситуации вела к тому, что варвары — вестготы, вандалы, бургунды, франки — могли без особого труда проникать на территорию Империи, поселяться там и основывать свои королевства.
Движение багаудов способствовало основанию ещё одного варварского королевства — Бургундского. Бургундами назывался союз германских племён, обитавших на востоке Германии. Уже в III веке они начали постепенно продвигаться на запад. В V веке они уже живут вдоль берегов Рейна. После целого ряда столкновений с римлянами бургунды, оказавшиеся в итоге самыми невоинственными варварами, были поселены Аэцием в 443 году к югу от Женевского озера, откуда перешли в Галлию, заняв её юго-восточную часть.
Другие германские племена также начала процесс переселения на территорию Империи. В начале IV века, пока Аларих покорял Италию, союз вандалов, свевов и аланов (племя, изначально жившее на Северном Кавказе) подошёл к римской границе на Рейне и в 408—409 годах пересёк её, направляясь дальше на юг, через территорию Галлии к Пиренеям. Этот переход занял около двадцати лет. Однако под давлением вестготов, устремивших свои взоры из захваченной ими Аквитании на земли Испании, они направились на юг, переправились через Гибралтарский про лив и принялись осваивать земли Северной Африки. Вместе с ними в Африку переправились и их союзники аланы, вскоре полностью растворившиеся среди местного и германского населения. Свевы же остались на Пиренейском полуострове, основав своё небольшое королевство на севере нынешней Португалии.
Переселившиеся в Африку вандалы были в тот момент весьма немногочисленны. По сообщениям историков того времени, армия короля Гейзериха насчитывала всего около 10 тысяч человек. Однако к ней присоединились значительные силы восставших против римского владычества местных берберских племён. В 439 году Гейзерих взял Карфаген, столицу римской Африки, а к 455 году вся Северная Африка от Кирены до Геркулесовых столпов (Гибралтара) находилась под властью вандалов и аланов.
Фактически к середине V века территория Западной Римской империи уже была поделена и единого государства на деле не существовало. Африка отошла к вандалам, Испания к свевам и вестготам, часть Галлии занимают те же вестготы и бургунды, а в других местах то и дело появляются самозваные правители. Римские легионы покинули «туманный Альбион», на дунайских границах собираются новые племенные союзы остготов, а где-то за ними и лангобардов, готовых в исторической перспективе перейти «прозрачные» римские рубежи.
В середине века новая опасность всколыхнула всю Европу. Наконец произошло открытое столкновение Империи с гуннами. Могучий гений Аттилы смог на какое-то время собрать воедино все разноплеменные силы, составлявшие гуннский союз. Племена, населявшие территории от Рейна до Волги, платили ему дань. Платил её, как известно, и император Восточной Римской империи.
В 451 году гунны двинулись на Галлию и едва не дошли до Парижа. Римский полководец Аэций решил отразить эго нашествие, привлёкши на свою сторону германские племена вестготов, бургундов и франков. Решающее сражение произошло на благодатных землях нынешней Шампани. на так называемых Каталаунских полях. В этой грандиозной «битве народов» могущество гуннского союза было подорвано, итальянский поход Аттилы на Рим в 452 году оказался неудачным, а в следующем году он умер, и гуннское объединение вскоре распалось.
Но, несмотря ни на что, Империя доживаю свои последние дни. В 455 году вандальский король Гейзерих со своим флотом переправился на землю Италии, захватил Рим подверг его окончательному разорению.
В последние десятилетия существования Империи императоры делаются фактически игрушкой в руках вождей наёмных варварских войск или хитроумных придворных советников. Именно эти люди достаточно быстро, хотя и не без интриги, возводят своих ставленников на престол и столь же блистательно низвергают их с почётного места, если они чем-то не угождают своим настоящим хозяевам. Последним императором Западной Римской империи был Ромул Августул, которого восставшие под предводительством Одоакра разноплеменные варварские наёмные войска низложили и отправили в ссылку в Кампанию. Это почти незаметное, но на самом деле действительно всемирно-историческое событие, возвестившее миру о конце Великой Империи, произошло в 476 году. Именно в этом году закончил своё существование Древний Рим, и, как считают многие учёные, именно с этой датой мы можем связывать окончание истории античного мира и начало истории новой, средневековой Европы.
Кризис и развал некогда могущественного государства был связан с положением и развитием новой мировой религии — христианства. Судьба христианской церкви эпохи заката Римской империи весьма показательна сама по себе, ибо, выйдя из катакомб на форум и превратясь за несколько десятилетий в государственную религию, христианство достаточно явно отразило всю противоречивость эпохи упадка. Конечно, нельзя сказать, что оно способствовало падению Рима как державы, но то, что новая религия не затронула сердца и души всего населения Империи (особенно сельского), не сумев сплотить его для решения общегосударственных задач, и, более того, само уже находилось в состоянии перманентного кризиса (о чем свидетельствуют догматические расхождения внутри христианского лагеря и наличие ересей), говорит само за себя. Развал целостной Империи не привёл к падению её новой идеологии — она была слишком молода и жизнеспособна и пережила римское государство, но то, что внутри её наметились (помимо ересей) кардинальные административно-политические расхождения ещё до раздела Империи в 395 году и уже тем более до Великого раскола 1054 года, быть может, сыграло отнюдь не позитивную роль для этого весьма пёстрого в этнокультурном отношении государства.
После завершения гонений эпохи Диоклетиана и в ходе борьбы за власть между Константином, сыном Констанция Хлора, с его соперниками будущему великому императору удалось добиться реабилитации христианства. В 313 году был издан т. н. Миланский эдикт, согласно которому церкви возвращались конфискованные имущества, драгоценности, книги и т. и., а гонения провозглашались несправедливыми. Однако это ещё не давало христианству статуса государственной или хотя бы привилегированной религии. Оно пока было религией, разрешённой к исповеданию.
Как и любую идеологию, христианскую веру почти с самого начала её существования начали раздирать противоречия, вылившиеся в форму так называемых ересей, ибо, фигурально выражаясь, каждый понимал догматику и учение по-своему. Но особенно «урожайными» оказались для церкви IV и V века, когда сформировались и пышным цветом расцвели ереси, которые в изменённом (причём не всегда) виде существуют и по сей день. Среди них особо следует отметить арианство и несторианство, оказавшие заметное влияние на развитие неортодоксальной жизни последующих времён. Во втором десятилетии IV столетия пресвитер александрийской церкви Арий сформулировал учение, которое в общих своих чертах выглядело так: Бог Сын не тождествен по своим качествам Ногу Отцу, Он может быть только нодобосущным, а не единосущным (как утверждала ортодоксальная церковь) Будучи существом тварным, Бог Сын не может сравняться с Отцом, а следовательно, Его надлежит считать существом более низкого плана, чем Бога Отца. Это учение встретило неоднозначный приём среди христиан восточных районов Империи. Часть духовенства и простых верующих охотно восприняли этот тезис, поскольку он более понятно объяснял ряд догматических положений официальной веры. Остальные продолжали придерживаться старой традиции. Для разрешения этого вопроса, явно перераставшего из чисто церковно-богословского в политический, в 325 году был созван Первый Вселенский собор христианской церкви в малоазийском городке Никея. Инициатива в созыве собора принадлежала самому императору, так как он видел, что разделение его подданных на партии в столь важном вопросе вело к созданию напряжённости и даже прямым столкновениям (подчас вооружённым) сторонников арианства и ортодоксов. В результате по окончании заседаний собора Арий и его последователи были осуждены, часть из них отправилась в ссылку в традиционно приспособленные для этой цели районы Подунавья (нынешняя северо-восточная Болгария), другие после отречения были прощены. Между тем сам основатель ереси не успокаивался, и вскоре его взгляды были приняты на вооружение даже теми, кто, не разделяя в общем-то теологических изысканий александрийца, поддерживал его, думая исключительно о противодействии претензиям римского епископата на главенство (или, по крайней мере, верховный авторитет) в делах веры и церкви. Кроме того, очень быстро религиозные пристрастия сомкнулись с политико-придворными интересами и группировками. Правители различных областей Империи, сыновья Константина Великого Констанций и Валент, после смерти своего отца (с 337 г.) разошлись во взглядах на вопросы догматики. Впрочем, их интересовали отнюдь не теологические тонкости, разбираться в которых они предоставляли придворным советниками по делам христианской церкви да учёным богословам и церковным иерархам. Гораздо больше они стремились обрести устойчивую поддержку у христианского населения; при этом правитель Запада придерживался позиции официальной церкви, а глава Востока — арианской. Именно расхождение в политических целях и устремлениях привело в конечном итоге к расколу в среде восточного духовенства, что не вносило стабильности ни в идеологию, ни в повседневность жизни уже полухристианской Империи. Обе стороны взаимно осыпали друг друга проклятиями, предавали анафеме наиболее активных деятелей церкви, уличали друг друга в неверном понимании текстов Священного писания и произведений церковных авторов I—III веков.
В 343 году масла в огонь подлили отцы собора, состоявшегося в Сердике (ныне София). Одним из правил этого собора был провозглашён приоритет епископа Рима в решении спорных вопросов в рамках всей церкви. Естественно, что многие епископы востока Империи не согласились с подобным решением. Споры между ними продолжались довольно долго и на некоторое время затихли лишь в правление императора Юлиана Отступника, когда была сделана попытка в реформированной форме воскресить и вер путь к жизни язычество. Причём не только в качестве религии, но и как основы культуры. Между тем христианское общество, к которому к концу IV века принадлежало, вероятно, около 80 процентов городского и не более 20 процентов сельского населения Римского государства, продолжало порождать из себя всё новые и новые явления, действовавшие во вред «зданию» самой Империи. Идеология христианства коренным образом расходилась с идеологией Рима того периода, когда формировалось его могущество. И совместить сейчас, на исходе четвёртого столетия, старую систему с новой идеологией без какого-либо вреда для обоих оказалось невозможным. Объективно против языческой Империи было и монашество (как явление), и большая часть самого учения, излагавшегося на страницах произведений церковных писателей. Христианская церковь достаточно отрицательно относилась (в лице своих идеологов) к культурному наследию античности. Многие её представители считали литературное, историческое, мифологическое богатство греческой и римской культур ненужным для истинного христианина, поскольку знание, например, истории языческих богов или стихов Ювенала, либо сочинений Фукидида и Тацита было бесполезно для достижения главной цели христианина — спасения души. Следовательно, отягощать свою память знанием подобных вещей не было никакой необходимости. Тем более что во многих из них во множестве содержались сюжеты, моральное содержание которых резко отличалось от христианских постулатов и не могло привлекать людей в качестве положительного примера.
По этим причинам, а также по ряду других, христианская церковь не смогла «влить новое вино в старые мехи», не смогла содействовать упрочению всей Империи.
В начале 80-х годов IV века христианской церкви удалось добиться новых успехов, которые, казалось, могли принести небывалые положительные результаты. В 381 году на Втором Вселенском соборе в Константинополе была достигнута вроде бы окончательная победа над арианством. Был принят так называемый «Никео-Цареградский Символ веры», который до сих пор используется греко-православной церковью (в том числе и в России). Затем на протяжении нескольких лет император Феодосий издаёт ряд декретов, в которых сначала объявляет христианство единственной религией, затем провозглашает её государственный статус, подвергая при этом язычество официальному запрету. Здесь уместно заметить, что реальное отношение сторонников веры Иисусовой к язычеству, особенно к памятникам культуры, было отнюдь не кротким и терпимым. В это время подвергаются разрушению со стороны христиан десятки языческих святилищ и храмов (последние, правда, иногда приспосабливаются под религиозные нужды христиан), не говоря уже о каких-то памятниках прикладного и изобразительного искусства. Об этом рассказывается — и не без гордости — в произведениях позднейших христианских писателей, особенно западных.
Однако далеко не все жители Римской империи стремились как можно скорее и чистосердечно принять постулаты Священного писания. Борьба христианской и языческой культур, прослеживавшаяся на всех уровнях, не позволяла сплотить подданных императора в одно единое целое, способное преодолеть ставший очевидным внутренний кризис и непрекращавшиеся внешние нападения варварских народов Европы и Азии. Более того, в 395 году после смерти Феодосия Империя делится на две части, Западную и Восточную, бразды правления в которых берут в свои руки Гонорий и Аркадий, сыновья покойного. И христианская церковь в них, да и сами государства начинают развиваться своими особыми путями. Фактически уже с этого времени единой Римской империи не существует. Однако в нашем представлении Западная Римская империя как бы олицетворяет собой древнюю Римскую империю, являясь её преемницей. Хотя на самом деле законными преемниками Вечного города себя считали (после падения Западной части империи в 476 г.) византийцы, жители Восточно-Римской империи. На Западе христианское общество оказалось менее восприимчиво к тонкостям богословских споров, бушевавших на Востоке. Здесь более очевидным был другой, исторический по своему значению процесс. В то время как Рим и вся Италия шатались под ударами варваров, церковь, видя полное бессилие государственных структур в деле организации повседневной жизни Империи, пытается — и не безуспешно — взять эти функции на себя. Так постепенно римский епископ приходит к тому положению исключительности, которое свойственно папской власти на протяжение всего средневековья. Но это будет потом, а сейчас, в V веке, он берет на себя заботы об обороне города, о его функционировании, пропитании нуждающихся горожан и т.д. Не торопясь, шаг за шагом, церковь на Западе начинает возвышаться над умиравшим светским государством. Способствовать хоть каким-то образом сохранению, не говоря уж о процветании, этого государства она, даже если бы и хотела, не могла. Более того, идея крепкого светского государства на некоторое время умирает, и её место заступает начавшее недавно формироваться учение о земной теократии и т. д., основными выразителями которого на Западе явились Блаженный Августин (ум. 430 г.) и римский папа Лев I, который, кстати, защитил город от гуннского вторжения и не дал окончательно разрушить его вандалам. Положение же церкви и христианства на Востоке было принципиально иным. В Византии государство быстро включило её в состав собственной структуры и в дальнейшем на протяжении всего средневековья вплоть до падения в 1453 году Византийская (бывшая Восточно-Римская) империя полностью могла опираться на христианскую церковь почти во всех своих устремлениях. Время от времени восточных христиан продолжали сотрясать различного рода богословские споры, не оказывавшие, однако, разрушительного влияния на всё здание греко-кафолической Церкви.
Новый исторический роман известного российского прозаика В. Д. Афиногенова, произведения которого многим знакомы и многими любимы, посвящён малоизвестной для отечественного читателя заключительной странице блистательной истории Колосса, вошедшего в анналы человеческой памяти под названием Римская империя. Эти слова вызывают в душе даже неискушённого в истории человека образы величественных памятников Вечного города — Колизей, Пантеон, бесчисленные памятники искусства и архитектуры; на память приходит целая галерея блестящих или скандально известных, но не становящихся от этого менее притягательными имён — Юлий Цезарь, Нерон, Светоний, Тацит, Веспасиан, Марк Аврелий!.. Поистине список, как говорили в прошлом веке, «достопамятностей» (во всех смыслах) римской истории бесконечен, восхитителен, загадочен и поражает своим величием. Между тем о последних днях истории Рима, о его кризисе и угасании, растянувшихся фактически почти на два столетия. в отечественной исторической романистике не сказано почти ничего. И тем более отрадно, что автор настоящего романа не ограничился показом чисто внешнеполитической истории падения Империи — нападений варваров, нашествия гуннов и т. п., но и показал, как это некогда великое государство шло к своему исторически обусловленному концу, какие внутренние и внешние факторы способствовали его медленному и величественному в своём трагизме умиранию. Однако, как и любое произведение литературно-исторического жанра, этот роман повествует не только и не столько о Прошлом. Величественная картина падения Рима слишком откровенно перекликается со многими политическими, духовными, социальными и прочими реалиями сегодняшней России. Печальные уроки прошлого вновь напоминают не обратившим (увы, в очередной раз!) на них внимания потомкам, что опыт Истории требует постоянного, спокойного и серьёзного осмысления. Варварские вторжения, войны, запутанный намертво клубок внутренних противоречий привели Империю к гибели. На страницах романа, написанного с замечательным знанием фактического материала, история Рима эпохи заката предстаёт перед читателем во всём своём изощрённом и сумрачно-трагическом великолепии, побуждая вновь и вновь задуматься о судьбах великих народов и великих Империй.
Тимофеев М. А.
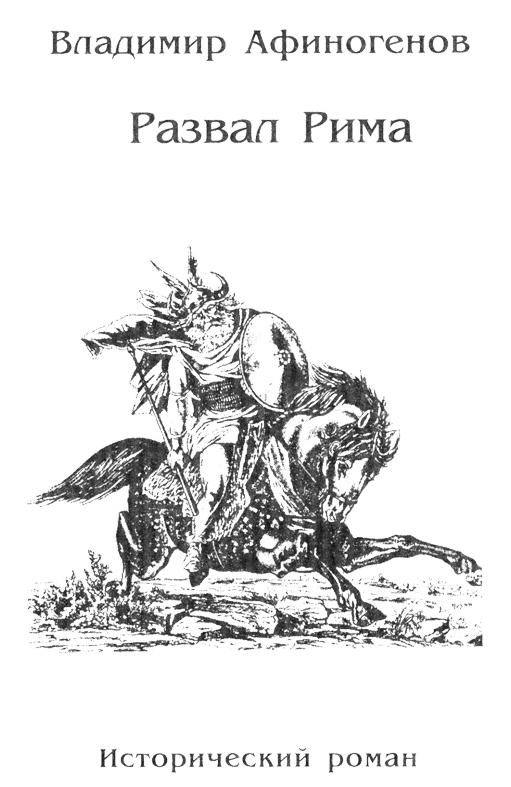
Владимир Афиногенов
Развал Рима
Светлой памяти друга
Аскара Нурманова посвящаю
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
ПОБЕГ ИЗ РАВЕННЫ
I

В Равенне, городе на северо-востоке Италии, дни короче, чем в Риме, и поэтому они тянутся долго. Особенно зимой.
Из окна своей опочивальни, кибикула, Гонория видит широкую площадку на высокой крепостной стене, по которой взад-вперёд вышагивают римские солдаты в железных шлемах, кожаных панцирях, обитых металлическими пластинами, с поддетыми под них шерстяными туниками, и плащах, застегивающихся медной пряжкой на правом плече.
Среди солдат есть несколько варваров в овчинах и кожаных штанах. Воины вооружены дротиками и мечами на перевязи, украшенной медными бляхами. В трёх милях[2] от стены тянутся сплошные болота, через которые врагам не пробраться, разве что можно перелететь.
Но Всевышний не дал людям крылья, и летать они не умеют как птицы... С болот, как стемнеет, а стемнеет скоро, раздастся жуткий стон выпи.
«Почему не идёт мой желанный Евгений? — думает римская принцесса. — На его груди я спрячу лицо и слезами облегчу душу...»
Сегодня по воле матери, регентши при императоре-сыне Валентиниане III, и сената, будто с небес на Гонорию свалился титул Августы, поднявший её до огромных высот. Но она не только не обрадовалась столь значительному событию в жизни, наоборот, сильно опечалилась. Титул приравнивал её к званию императрицы, но не давал реальной власти — лишь ставил Гонорию в разряд людей недосягаемых, а значит, отнимал всякую надежду на замужество. «Хитрая бестия!.. — Так о матери было грешно думать, но Гонория ничего с этим не может поделать. — Брат слабоумен, ещё очень молод, врачи сказали, что пока неизвестно, будет ли у него потомство[3]... Правит империей мать, поэтому она и оберегает власть, боится, что я, выйдя замуж, рожу наследника трона...»
Сама Юста Грата Гонория явилась плодом короткой, всего лишь в четыре года, супружеской связи двух разных, испытывавших нелюбовь человек; вернее нелюбовь-то к себе испытывал лишь один — отец Гонории, мужественный полководец Констанций, родом дикий иллириец, давно добивавшийся руки Галлы Плацидии, дочери императора Феодосия I Великого.
После смерти отца Плацидию всё же насильно выдали за Констанция, хотя она всю жизнь любила короля вестготов Атаульфа, «выдающегося и внешностью, и умом, и красотою тела, и благообразием лица», как характеризовал историк Иордан этого варвара.
Может быть, рождение Гонории в нелюбви матери к отцу и предопределило её не очень счастливую судьбу, хотя в этой судьбе и будет заключаться главное и славное достоинство этой женщины, из-за которой грозный властитель гуннов Аттила будет вести очень долгую, великую битву... Единственную битву, которая не принесла ему победы; другие он выигрывал!
Как это сравнимо с тем, что произошло в своё время с Галлой Плацидией!.. Гонория, кажется, повторила судьбу матери, с разными, правда, вариациями...
Плацидия имела двух братьев — Аркадия и Гонория; первый царствовал в Константинополе, другой — в Равенне в Италии, сама же она жила в Риме. Красивой римской принцессе исполнилось двадцать один год, когда вестготы под предводительством Алариха в 410 году захватили Рим и взяли её в плен; они увели её с собой, однако обращались хорошо.
Аларих вскоре умер, и власть над вестготами перешла к Атаульфу, который пожелал жениться на Плацидии; свадьба состоялась вопреки воле принцессы, но брак оказался удачным. На свадьбе пятьдесят вестготских юношей преподнесли невесте подарок от жениха — сто чаш, до краёв наполненных золотом и драгоценными камнями, награбленными в Риме... Но, несмотря на это, прожив какое-то время с мужем, она влюбилась в него без памяти и даже переняла от Атаульфа арианство[4], ставшее после гибели короля Германариха[5] национальной верой христиан-вестготов.
Отрицая божественность Иисуса Христа, а, следовательно, и вселенское смирение, Атаульф в силу этого и характера своего не выносил спокойного существования, и когда из-под власти римлян стала выходить Испания, он яростно включился в борьбу. Король вестготов захватил Барцелону[6] и обосновался в ней; там в одной из христианских базилик был похоронен рано скончавшийся сын Атаульфа и Галлы Плацидии Феодосий.
В 415 году вестготского короля убил один из его приближённых Сингерих и захватил барцелонский трон. Узурпатор немедленно умертвил шестерых детей Атаульфа от первого брака, а Галлу Плацидию выгнал из дворца. Вместе с другими пленниками и пленницами ей пришлось шагать босиком с непокрытой головой под палящим испанским солнцем более двенадцати римских миль, а варвар-победитель, торжествуя, ехал на коне рядом.
Но через семь дней Сингериха зарезали, и повелителем вестготов стал Валлия. И с этого момента Галла Плацидия явилась той самой разменной монетой в начавшейся дружбе между её братом Гонорием и новым королём вестготов: за шестьсот тысяч мер пшеницы Валлия обменял вдову-королеву, и она была отправлена в Равенну. Далее Валлия в качестве союзника римского императора очистил весь Испанский полуостров от аланов[7], вандалов и свевов и с согласия Рима занял земли Аквитании Второй (область «золотой Гарумны»[8], «жемчужину Галлии») от Толосы[9] до океана.
После того как Галла Плацидия родила двух детей — Гонорию и Валентиниана, её муж Констанций внезапно скончался. Распространилась молва, что его отравили, ибо Гонорий к ещё красивой и статной Плацидии возымел преступную страсть... Менаду родными братом и сестрой дело действительно зашло так далеко, что Гонорий, вняв наконец-то голосу разума, отослал её с детьми в Константинополь.
Там, в православной столице Восточной Римской империи, у своего второго брата Аркадия своенравной еретичке жилось не сладко. Но вскоре пришло известие — умер Гонорий, и Плацидия поспешает в Италию. Здесь при своём слабоумном сыне Валентиниане она становится регентшей.
Однако Галла Плацидия не обладала должными качествами характера, чтобы удержать в своих руках разваливавшуюся империю (это уже никому не было под силу). Поглощённая дворцовыми интригами, она даже не заметила, как от империи отпала провинция Африка, и Италия стала страдать от недостатка хлеба...
Цена на модий[10] пшеницы поднялась с одного денария до пятидесяти; эдилы, в обязанности которых входило обеспечение города продовольствием, ввели «тесееры» — так назывались жетоны, по которым бедняки, чтобы не умереть с голоду, могли получить хоть какой-то хлеб при бесплатных раздачах.
В это самое время Рим стал особенно заметно клониться к упадку и в интеллектуальном плане. Историк Аммиан Марцеллин чуть ранее с болью в сердце писал: Людей образованных и серьёзных избегают как людей скучных и бесполезных». «Даже те немногие дома, которые в прежние времена славились серьёзным вниманием к наукам, теперь погружены в забавы позорной праздности, и в них раздаются песни и громкий звон струн. Вместо философа приглашают певца, а вместо ритора — мастера потешных дел. Библиотеки заперты навек, как гробницы, зато сооружаются водяные органы, огромные лиры, величиной с телегу, флейты и всякие громоздкие орудия актёрского снаряжения.
Дошли, наконец, до такого позора, что когда ввиду опасения нехватки продовольствия принимались меры к быстрому удалению из Рима всех чужеземцев, то учёные и образованные люди, хотя число их было весьма незначительно, были изгнаны немедленно без всякого снисхождения, но были оставлены в городе прислужники мимических актрис и те, которые выдавали себя за таковых; беспрепятственно остались также три тысячи танцовщиц со своими музыкантами и таким же числом хормейстеров...»
Сейчас этот пёстрый люд, среди которого особенно выделялись своими «распутничьими тогами» женщины[11], перекочевал в Равенну, куда окончательно переехал с Палатинского холма в Риме императорский двор под защиту крепких стен и болот.
А если здесь, в Равенне, двору стала бы, скажем, угрожать какая-нибудь опасность, то в Адриатическом море, не столь удалённом отсюда, на этот случай всегда наготове стояли выкрашенные в чёрную краску, с белыми спереди глазами несколько миопарон и либурн[12] мизенского флота, переправленных с юга Италии.
...По громким возгласам в соседних помещениях Гонория поняла, что к ней шествует сама императрица-мать, и вскоре без стука, как всегда, обе половины двери распахнул сопровождающий Плацидию корникулярий (помощник) Антоний Ульпиан и тонким голосом возвестил:
— Повелительница Великого Рима!
Евнух Антоний, сверкнув недобро глазами в сторону Гонории, повернулся рыхлым одутловатым лицом к тому месту, откуда должна появиться императрица, а Гонория с тоской в сердце подумала: «Где он, куда подевался этот великий Рим?! Рим, действительно Великий, времён Юлия Цезаря, Веспасиана, Траяна, пусть даже Антония Пия...»
Она с долей снисхождения и лёгкого презрения вспомнила императора Пия, потому что тот могущество Рима пытался удержать лишь с помощью изображений на монетах...
На одних была вычеканена картина того, как прародитель римлян Эней и его сын Асканий Юл высаживаются на берег Тибра в том месте, где будет воздвигнут великий город, на других монетах изображены богиня Минерва и Вулкан за изготовлением молний. С помощью этих картин «благочестивый» (так переводится имя «Пий») пытался ещё и укрепить староримскую религию в противовес усиливающемуся влияния христианства.
Антоний пропустил мимо себя императрицу и поудобнее поправил висевший на боку ящичек, внутри которого хранились пергамент, бронзовая чернильница и стило — сипух исполнял ещё и должность писца-скриба.
Вся в сиянии драгоценных камней и жемчужных нитей, вплетённых в волосы, стоящие тёмной башней, в лёгкой тунике, несмотря на зимнее время (хотя дворцовые покои хорошо отапливались), с гордо поднятой головой и высокой грудью, округло-вызывающе трепетавшей в тонких складках шёлка, Галла Плацидия появилась перед дочерью. Глаза императрицы горели агатовым огнём и чуть припухлые губы пунцовели — не зря говорили, что она по нескольку раз в день вкушает эруку, дикую капусту, действующую как возбуждающее средство. Поэтому при ней неизменно находились два могучих полураздетых раба из Греции, готовых в любой миг на всё... Также ходили слухи, что Плацидия не раз пыталась соблазнить возлюбленного дочери Евгения Октавиана, красавца смотрителя дворцовых покоев. Но Гонория эти слухи отметала напрочь.
Она встала со скамьи и поспешила навстречу матери; остановилась рядом с ней, и сразу выявилась их несхожесть — дочь возвышалась над императрицей почти на голову, в светлых волосах девушки сверкало меньше драгоценных камней, но они, казалось, горели ярче, а глаза цвета зелёного изумруда, как у отца, смотрели спокойно и внимательно.
Приветствуя и кланяясь, Гонория тонкой талией, бёдрами с более выразительными, чем у матери, формами и такою же высокой грудью производила на первый взгляд плавные движения, но всё равно в них чувствовалась некая порывистость, присущая только её отцу. Она всё же походила больше на него, дикого иллирийца, нежели на мать — типичную римлянку.
— Милочка, какая ты красивая! — воскликнула императрица-мать и левой рукой легонько потрепала по щеке дочери.
Гонория по взгляду её глаз не уловила в этом восклицании никакого лицемерия — похвала ей показалось искренней, от души. И в свою очередь она хотела тоже сказать царственной матери комплимент, но что-то остановило Гонорию, отвлекло её внимание... Может быть, жест рукой евнуха Антония, показавшего куда-то в сторону, — и точно, из глубины покоев императорского дворца вышел так долго ожидаемый ею возлюбленный Евгений — в синей тоге и сандалиях, расшитых тоже синими узорами. От неожиданности того, что он увидел у Гонории императрицу, растерялся и застыл возле двери, где, отставив чуть в сторону правую ногу, ехидно ухмылялся евнух. Тогда Евгений начал пятиться назад.
— Препозит Октавиан! — громко объявил евнух, отрезая смотрителю дворца путь к отступлению. И теперь Евгению ничего не оставалось, как уверенно и почти торжественно приблизиться к Галле Плацидии, чтобы поцеловать руку императрице, пожелать ей здоровья, а Римской империи вечности.
— Тебе не хотелось, Евгений, видеть здесь меня?.. Я права?
— Не совсем, величайшая... Если вдруг кто и захочет видеть тебя, а вряд ли в империи найдётся такой человек, то ему о твоём присутствии, повелительница, напомнит твой незримый дух, что носится по дворцовым покоям...
Нот так всегда: остроумный ответ Октавиана сродни то ли насмешке, то ли восхищению...
«Мало нам, мало всего! Ведь нас по богатству лишь ценят!». Не так ли, милый Евгений?
Находчивый распорядитель дворца также стихами из Горация ответил Галле Плацидии:
Вот оттого мы редко найдём, кто сказал бы, что прожил
Счастливо жизнь, и, окончив свой путь, выходил бы из жизни.
Точно как гость благодарный, насытясь, выходит из пира...
На удивление всем, расхохоталась Гонория. Этот смех привёл и смущение не только императрицу, но и Октавиана. Обоим им он показался странным, а Гонория подумала: «Наверное, оставшись наедине, они также пробуют друг на друге своё остроумие, оттачивая жало его, словно камень косу... Может, слухи об их интимной связи вовсе и не слухи... Почему я до сих пор их отметала, словно метлою мусор?.. Ишь как возгорелось лицо у матери, глядя на Евгения! Да и он, отвечая стихами, любовно и преданно смотрел ей в глаза, слегка наклонив свою прекрасную голову. Боже, как он красив!» — даже в такую минуту не могла не восхищаться возлюбленным Гонория.
— Дитя моё! — обратилась Галла Плацидия к дочери, и в голосе её появились тёплые нотки. — Ты же знаешь, как я люблю тебя и твоего брата. Вы для меня, как пальцы на руке, одинаково дороги. — Плацидия вытянула ладонь, пальцы которой были унизаны кольцами с драгоценными камнями разной величины... — Поэтому я, не только как мать, а, прежде всего, как женщина, страдала от несправедливости того, что ты, дитя моё, умница и красавица, обделена была почестями, кои все по праву наследства достались брату... И чтобы это исправить, я испросила волю сената даровать тебе титул Августы, и сегодня сенат дал своё согласие... Поэтому я пришла поздравить с грандиозным событием в твоей жизни... Ибо ты стала сегодня по званию равной твоему царственному брату Валентиниану. К сожалению, из-за своего нездоровья он не смог навестить тебя...
— Благодарю, повелительница, — тихо ответила принцесса, а евнух при этих словах громко хмыкнул.
Но императрица-мать даже не бросила осуждающий взгляд в его сторону. Гонория поняла — сговор налицо. Поэтому, ссылаясь на своё недомогание, попросила всех оставить её... кроме Евгения Октавиана.
— Да, да, милая... Хорошо. А не послать ли нам за лекарем? Хотя... Евгений тоже хороший врачеватель... И утешитель... — Уходя, императрица повернулась и добавила: — Потихоньку собирайся в Рим. Народ империи должен видеть свою новую Августу.
— В Рим?! — воскликнула, не владея собой, Гонория, и лицо её воспылало гневом. — В город, разрушенный твоим первым мужем!.. Я не поеду туда! Не поеду!
— Это ещё мы посмотрим! — грозно пообещала Плацидия и громко хлопнула половинкой двери. Зато корникулярий Антоний издевательски осторожно притворил обе.
— Ты зачем её дразнишь, любимая? — спросил Евгений.
— Любимая... А не говоришь ли ты и ей это слово?.. Любимый... Я давно замечаю, как ты преданно глядишь ей в глаза.
Почувствовав, что внутри принцессы всё закипает, Евгений (а он хорошо знал её нрав, когда всё то дикое, необузданное, отцовское, скрывающееся до поры до времени под оболочкой внешней величавости, начинает клокотать и выходить наружу) попросил рабынь принести ужин, а потом крикнул им вослед:
— Да побольше вина! Родосского... Сейчас, Гонория, возложим тела и выпьем чудной влаги из фиалов за твой титул Августы.
— Ты — осёл, Евгений, — всё ещё раздражённо, но уже тише сказала «новоиспечённая» Августа. — Да не тот осёл, который родом из Фессалии[13]... Неужели ты не понял — мать посмеялась надо мной... Высокий титул ничего мне не даст, кроме безбрачия.
— Ты преувеличиваешь, Гонория. Я всеми силами буду добиваться, если ты только не будешь возражать, у императрицы твоей руки.
Принцесса уловила в его голосе неподдельную искренность, улыбнулась и, вконец остывая, улыбнулась:
— Дурачок мой, ещё раз говорю, что мать никогда не позволит мне выйти замуж... Никогда. Тем более за тебя... Если она ещё не принудила тебя спать с собой, то скоро сделает это. Ладно... Гнев мой остывает, а вот и вино подают. И роскошный ужин — жареную индейку со сливами. Джамна, — обратилась она к любимой чернокожей рабыне из Александрии, — зажги побольше свечей и позови арфисток. Сегодня у меня всё-таки праздник...
Джамна незамедлительно выполнила всё, что повелела госпожа, а затем, устроившись у изголовья её ложа, веером из страусовых перьев стала обмахивать головы Гонории и Евгения. Рабыню называли чернокожей потому, что отец у неё был африканец, на самом же деле кожа у неё светлая, цвета финика и, хорошо умащённая, пахла приятно; вообще-то Джамна, гибкая, как пантера, длинноногая, с маленькими грудями девственницы, с чувственными губами и выразительными глазами, была очень чистоплотной девушкой, и зачастую Гонория, когда долго не могла заснуть, приглашала се к себе на ночь на ложе... Иногда принцесса вместе с Евгением также брали её к себе, и Джамна в их любовных утехах служила третьим лицом.
Новые зажжённые свечи горели плохо, фитили то и дело приходилось поправлять рабыне постарше; игра арфисток Гонории быстро надоела, и она с возлюбленным скоро отправилась в спальню. Но Джамну на этот раз с собой не взяли.
— Ничего, милая, — говорил Евгений, видя настроение возлюбленной и помогая ей раздеться. — Думай сейчас о том, как лучше насытиться нашей любовью.
Когда легли на прохладные чистые покрывала, Евгений крепко обнял Гонорию, и её тело, казалось, утонуло в его мощных руках; оно, как всегда, податливо отозвалось на ласки, но в то же время Евгений почувствовал сегодня некую холодность и почему-то испугался...
— Что с тобой?
— Подожди... Скоро я буду готова.
Но готовность отдаться со всей страстностью не приходила к ней; тогда Евгений стаз кончиком языка ласкать ставшие твёрдыми соски её дивных грудей. Пышные волосы Гонории рассыпались и, чуть завиваясь, лежали на красной кайме подушки. Евгений, целуя, переместил губы с сосков на то место, откуда волосы зачёсывались на самую макушку. Груди возлюбленной возбуждённо качнулись, но сама она пока ещё прикрывала рукой гладко выбритое женское место...
Уловив сразу, как внутри римской принцессы, а теперь уже и Августы, всё затрепетало, Евгений встал на четвереньки, коленом отжал её ноги и сразу погрузил свою плоть в горячий влажный источник... Женщина вскрикнула и потянулась к нему, и тогда Евгений сильными ударами стал пронзать возлюбленную то сверху вниз, то из стороны в сторону. На каждое движение она отвечала ритмичным подбрасыванием своего тела, вскрикиваниями и царапаниями ногтей по спине возлюбленного.
Принцесса в конце каждого вскрикивания начала тихо рычать и, когда всё закончилось, в бессилье повалилась на ложе. Но глаза не закрыла; Евгений взглянул в них и увидел, как они зелёными, огоньками, словно глаза хищницы, светились в темноте. В изумлении прошептал:
— Ах ты, моя «волчица»[14]!
— Да, жаль, что я могу только рычать, но не кусаться... Может быть, ты и прав: я скорее похожа на тех, кто в мужских тогах, разрезанных спереди, с вечера выстаивается на берегах Тибра.
— Нет уж, милая, я знаю тебя. Кусаться ты умеешь, да ещё как умеешь!
— Мне стыдно сейчас на то, что я как последняя истеричка стала крикливо отказываться на приказание матери поехать в Рим.
— А ведь ехать всё-таки придётся... Я прошу тебя, Гонория, благоразумно отнестись к этому. Ради нас с тобой. Ради нашей любви.
— Хорошо, любимый.
Евгений встал, подошёл к двери, ведущей на балкон, чуть приоткрыл её и тут услышал, как глашатай на находящемся вблизи дворца форуме прокричал:
— Третья стража[15]!
«Будет что приятное сказать императрице, — подумал Евгений и довольно улыбнулся. — Без слёз и яростных сцен Гонория на удивление быстро согласилась... А ведь в эту женщину порой вселяется дьявол...»
Когда препозит вернулся к ложу, то увидел, что Гонория спит как убитая.
«Почему она скоро передумала и почти охотно выразила желание поехать в Рим?..» — раздумывал Евгений, покидая на рассвете спящую молодую Августу и шагая в кубикул императрицы.
По утрам, как и полагается смотрителю дворца, он обязан был являться к Галле Плацидии, чтобы наметить с ней на предстоящий день дела, а с тех пор, когда стал и любовником её, посещал покои императрицы и как доносчик... Любовником Плацидия считала его неважным, да и куда ему, пусть и красавцу, до тех двух греческих жеребцов, что обслуживали её по нескольку раз в день!
Евгений нужен был для тайных дел, и затащила она его в постель с этой целью, ибо, по мнению императрицы, уста разверзаются откровенными речами только после любовного утомления...
Так и было: у Галлы Плацидии на ночном ложе перебывало немало влиятельных государственных лиц; их откровения и доносы помогали ей править разваливающейся на глазах империей, а надо сказать, что она благополучно (для себя!) делала это, исполняя обязанность регентши при своём сыне, более двадцати пяти лет...
В это слегка туманное утро, когда ещё Гонория спала, Евгений и императрица размышляли о быстром её согласии ехать в Рим, но так и не пришли на сей счёт к какому бы то ни было определённому выводу.
— Узнай, почему она передумала, — строго сказала Галла Плацидия, и глаза её снова вспыхнули агатовым пламенем.
Перейдя в уборную, которая размещалась на нижнем этаже, как раз под парадными комнатами дворца, Плацидия велела позвать четырёх юношей. Вскоре перед её взором предстали четыре чистеньких, как ангелы, отрока. Совсем недавно из Галлии их прислал своей госпоже-императрице полководец Аэций.
Плацидия указала юношам на столик перед круглым зеркалом из гладко отполированной бронзы, где стояли четыре голубые чашки. Каждый из отроков взял в правую руку по одной; левой, отвернув тунику, высвободил фаллос... Как только у юношей низвергнулось в чашки семя, одна из рабынь перелила содержимое из чашек в фиал, такой же голубой, и подала императрице. Та выпила из него.
Каждое утро Плацидия делала это, надеясь таким образом сохранить молодость и красоту. И не только она прибегала к подобной практике, а и многие женщины из патрицианских семей, ещё не полностью вступившие на путь следования православной вере или же, как Плацидия, исповедовавшие не само христианство, а всего лишь его ересь. Мужчины к принятию женщинами такого средства омоложения относились снисходительно, так как делало их возлюбленных не только молодыми, но и горячими на ночном ложе...
Потом Плацидия села перед зеркалом и отдалась во власть рабыни, умеющей хорошо убрать волосы. Такая рабыня звалась ornatrix. Под ногами императрицы лежал ковёр, постеленный на мозаичный мраморный пол, чуть поодаль стоял другой столик, с серебряным тазом, в полумраке уборной выделялись стены яркой живописью, изображающей танцующих восточных красавиц и отдыхающих купидонов под ветками миртовых деревьев.
Уборные богатых или царствующих римлянок были намного просторнее, чем их спальни; тот, кто впервые попадал в комнату, где стояло их ложе, дивились миниатюрности помещения и сразу могли составить понятие о тех крошечных голубиных гнёздах, где женщины любили проводить свои ночи... Да и само ложе походило на узкую кушетку, нежели на широкие кровати под балдахином, как у персидских царей; узкое лёгкое ложе в зависимости от времени года, соответствующего освещения и должного отопления, а также других обстоятельств могло переноситься куда угодно, и совершаться на нём могло что угодно...
Пока ornatrix собирала локоны императрицы, искусно переплетая фальшивые с настоящими, в огромную башню, Плацидия сочиняла в уме своё сегодняшнее выступление в сенате, хотя теперь, после смерти патриция и консула Бонифация и когда нет в Равенне полководца Аэция, она уже не так тщательно обдумывала каждое слово, которое предстояло произносить, потому как раньше приходилось выступать то на стороне одного, то другого... Эти два влиятельных человека в империи враждовали между собой, и каждому надо было угождать. Однажды Бонифаций сильно разозлился на императрицу и в отместку призвал в Африку из Испании вандалов. В конце концов ссора между двумя полководцами вылилась в кровавую дуэль. Победил Аэций, провозгласив себя также патрицием и консулом. Императрица и сенат не возражали, более того, назначили его главнокомандующим войсками империи. И сейчас, находясь в Галлии, Аэций одержал свою вторую победу над восставшими варварскими племенами.
В сенате Галла Плацидия поблагодарила в первую очередь оптиматов[16] за дальновидность и единодушие в выборе главнокомандующего войсками, который уже должен возвращаться и, пользуясь случаем, связанным с титулованием её дочери (Плацидия повернулась в сторону, где сидели популяры[17], поддержавшие эту идею, и кивнула им), просит сенаторов о разрешении на выезд всего царственного двора в Рим, о триумфальном прохождении легионов Аэция по Марсову полю и об увенчании полководца лавровым венком победителя. По выражению лиц сенаторов императрица поняла, что её просьба будет удовлетворена.
Вернувшись во дворец, Плацидия позвала помощника-евнуха. Когда тот явился, она сказала ему:
— Антоний, как можно быстрее сочини для Аэция послание. При обращении к нему не жалей таких слов, как «ты последний великий римлянин, потому на тебя вся надежда и опора»... Пусть он готовит войска к триумфальному шествию по Марсову полю в Риме... И ещё вот что, мой друг... — Так Плацидия обращалась к корникулярию, когда дело касалось чего-нибудь секретного: — Моя дочь отказывалась ехать в Рим. Но в этот же вечер она согласилась, проявив покорность овечки... А я не верю в покорность волчиц, даже если они рядятся в овечьи шкуры... О её согласии сказал мне её возлюбленный. Кто такой — тебе известно... На вопрос, почему она так быстро согласилась, ответа он не получил. Но обещал получить... Зная его характер и характер Гонории, сделать ему, думаю, это не удастся, так как дочь мою обмануть очень трудно.
— Да, Гонория — твёрдый орешек, — согласился помощник.
— Поэтому прошу тебя выведать всё самому.
— Постараюсь... Чего бы мне это ни стоило! — В глазах евнуха сталью вспыхнули зрачки, и губы собрались в тонкую беспощадную щёлку.
— Но не забывай, Антоний, что Гонория — моя родная дочь, и к крайним мерам не прибегай...
— Конечно, моя госпожа, превосходительная жена и величайшая Матерь отечества.
— Ладно, ступай.
Упомянутый ранее историк Марцеллин писал о евнухах, что «всегда безжалостные и жестокие, лишённые всяких кровных связей, они испытывают чувство привязанности к одному лишь богатству, как к самому дорогому их сердцу детищу...»
У сына императора Константина Великого Констанция II в услужении находился евнух Евсевий, придворные остроумно говорили, что «Констанций Второй имеет у Евсевия большую силу». Подобным образом строились отношения между Галлой Плацидией и её помощником евнухом Антонием.
II
Гонория почувствовала перемену в поведении самых близких ей людей — особенно Джамны, слегка затаилась и начала присматриваться. Нет, неспроста, пришла она к выводу, что чернокожая рабыня, как бы по-прежнему любя госпожу, стала много задавать вопросов относительно её поездки в Рим... И однажды, когда Джамна чересчур пристала к ней, Гонория повалила её на скамью, а рабу повелела принести медный таз и короткий меч.
Гонория обладала не только буйным нравом, но и силой, существенно выше той, которая присуща женщинам, а в момент, если принцесса ожесточалась, то могла запросто справиться со средним по мощи мужчиной. Джамна это хорошо знала, поэтому сразу перестала сопротивляться, ждала, что будет дальше...
Раб принёс медный таз и короткий меч, и тогда Гонория приступила к расспросу:
— Кто тебя, милушка, купил и велел всё у меня выспрашивать?
— Не покупал меня никто, госпожа... Позволь мне встать, я поклянусь Богом, и ты увидишь, что я говорю правду...
Гонория отпустила её; Джамна, такая же арианка, как и сама принцесса, поклялась Всевышним.
Но это ещё больше разозлило Гонорию.
— Святотатствуешь?! — вскричала она. — Раб, а ну попорти ей тёмное красивое личико...
Гонория стиснула ладонями голову Джамны, чтобы она не мотала ею из стороны в сторону. Ещё чуть-чуть, и раб, взявший в руки меч, действительно исполнил бы приказание своей повелительницы, и тут Джамна, не на шутку испугавшись, крикнула, что она всё расскажет...
Всхлипывая, она поведала, что, поклявшись, говорила правду — её никто не покупал, но расспросить Гонорию велел корникулярий Антоний; оба они родом из Александрии, в своё время, когда Антоний был ещё красивым мужчиной, он выкупил её из рабства, и Джамна долгое время жила у него в качестве любовницы. По натуре авантюрист, мечтавший иметь землю в Западной Африке, Антоний участвовал в походе вандалов против Римской империи. Попал в плен. Антония оскопили, и за сметливый ум оставили во дворце.
— Ты всё, что происходило на моей половине, сообщала Антонию?
— Не всё, госпожа...
— Негодница! Прогнать от себя — этого мало... Тебя надо зарезать, а кровь выпустить в медный таз.
Бедная рабыня приняла всерьёз угрозы принцессы, тем более что раб уже занёс над Джамной меч, повторяя:
— Прикажи, госпожа! Прикажи!
И тогда Джамна, повернув к Гонории в слезах лицо, взмолилась:
— Пощади.
Как ни была взбешена принцесса, но она увидела в её глазах кротость и обречённость и искренне пожалела рабыню, к тому же такую искусную на спальном ложе... И очень милую.
— Уходи, раб, — приказала Гонория. — И забирай всё, что принёс.
Затем принцесса усадила Джамну к себе на колени и, поглаживая по её вздрагивающей от рыданий спине, стала успокаивать. Наконец рабыня пришла в себя, тихо сказала:
— Прости меня, госпожа. Только тебе одной с этого дня буду служить. Только одной!
— Хорошо, я верю. А безбородому скажешь, чтобы он отстал от тебя, что я быстро передумала, потому как решила навестить мавзолей отца. Скажи, а хорош был на спальном ложе Антоний, когда росла у него борода?
— Очень хорош, госпожа... Тем более я любила его. Как ты своего Евгения.
— Думаешь, одну он любит меня?
— Ходят разные слухи.
— О них и я знаю... Ты мне только всю правду... Поняла?
— Но всей правды я не знаю, повелительница, — честно призналась Джамна.
— Ладно, оставь меня.
Отослав Джамну, Гонория с тяжким грузом на душе стала слоняться по царским покоям, затем наведалась к брату и застала его за любимым занятием — надуванием мыльных пузырей... Император делал это с удовольствием вместе со служанкой, к которой испытывал нежную привязанность. Но эта привязанность не походила на ту, которую испытывает мужчина к женщине, — скорее всего, она была сродни любви ребёнка к красивой игрушке... Или надуванию пузырей. В надувании их Валентиниан достиг огромных успехов. Он мог делать пузыри не только разных размеров, но помещать в них, не нарушая целостности, различные предметы. В этот раз в большом пузыре, который находился на маленьком столике, соприкасаясь с его поверхностью нижней частью, лежал отрубленный чей-то палец руки, и кровь, ещё капавшая с него, рубиново отблёскивала на мыльных изнутри стенках, затейливо искрясь в лучах солнца, только что проникших через узкие окна сумрачных императорских покоев.
Брата своего Гонория не видела несколько недель и отметила, что за это время он ещё больше побледнел и огрузнел. И дотоле его сырое, рыхлое тело не отличалось стройностью, но сейчас оно показалось даже полным, и волосы на голове Валентиниана заметно поредели... Только по-прежнему каким-то затаённым и болезненно углублённым в себя светом горели его тёмные глаза, как две капли воды похожие на материнские... «Может быть, и любит его Плацидия за эти глаза, раз так печётся за своего сынка...» — подумала Гонория.
Глядя на игру света и крови на мыльных стенках, император и служанка забавлялись вовсю и Гонорию не сразу заметили. А Гонория хотела спросить, у кого это они отрубили палец, да разве о таких пустяках спрашивают?.. Поэтому промолчала. Увидела лежащий на полу меч, на остром лезвии которого засохли уже потемневшие точечки, поняла, что сам Валентиниан отхватил у какого-то раба или рабыни этот злополучный палец, ненужным вопросом засевший в голове новоиспечённой Августы...
— Ты пришла, сестра, чтобы я поздравил тебя с титулом? — спросил брат.
— Если хочешь, поздравь... Но вижу, вы хорошо забавляетесь.
— Да, хорошо, — подтвердил слабоумный Валентиниан.
— Ты не видел Октавиана?
— Смотрителя и утешителя?.. Нет, не видел.
— Почему же утешителя? — При этом Гонория быстро отметила про себя, что так Евгения назвала недавно и Плацидия.
— А его так все во дворце зовут. Ведь он не только твой утешитель...
— Чей же ещё?
— А этого тебе говорить не велено.
Кровь жарко ударила в виски Гонории, и молодая Августа в гневе махнула рукой по мыльному пузырю, который выдувала служанка, и почти выбежала из покоев императора.
«Значит, есть основание верить слухам, о которых говорила Джамна и которые доходили до меня, но всякий раз я гнала их от себя прочь... Значит, Евгений принадлежит не только мне... Ну, погоди... смотритель!»
* * *
Для Джамны светлыми днями были дни, проведённые в Александрии в доме Ульпиана, после того, как Антоний выкупил её из рабства. Раз в неделю они смотрели на городской площади потешные представления. Наиболее интересные давали заезжие канатоходцы: они обладали каким-то особым бесстрашием и легко бегали на большой высоте по канату, скрученному из воловьих жил и протянутому между столбами. Иногда, глядя на канатоходцев, кружилась голова... Но Джамна любила смотреть на них, и сладостно щемило сердце, когда опытный актёр, чтобы пощекотать нервы публике, на середине каната изображая свою неуверенность, соскальзывая ногой, готовый вот-вот упасть, — но это был лишь хорошо продуманный трюк, и зрители знали, но всё равно дружный и радостный крик восклицания вырывался у них, когда канатоходец благополучно достигал столба.
Однажды на большую высоту взобрался юноша и начат бодро идти по канату, помогая себе длинным шестом, который он держал для равновесия в обеих руках. Уже пройдена середина, но вдруг шест заходил быстро вверх-вниз, юноша покачнулся... Некоторые зрители, ничего не подозревая и думая, что это очередной розыгрыш, даже засмеялись, но вот юноша делает ещё один шаг, пятка передней ноги у него соскальзывает, шест летит вниз, а следом за ним и он сам.
Крики ужаса теперь огласили площадь: юношу унесли с разбитой окровавленной головой в крытую повозку, где молодой человек вскоре скончался.
Своё пребывание во дворце Джамна не раз сравнивала с работой тех, кто на большой высоте ходит по канату, рискуя жизнью. И жизнь в императорских покоях тоже постоянно подвергалась опасности: одно неверное движение, одно необдуманно произнесённое слово, и ты летишь вниз и разбиваешься насмерть, как тот несчастный юноша.
Теперь перед девушкой неотступно встал жёсткий вопрос: как быть? Она дала слово Гонории — верно ей служить, и не только готова, но и на самом дате сдержит это слово; Гонория нравилась Джамне... Несмотря на вспыльчивый и даже жестокий нрав, у молодой Августы в груди билось доброе сердце, и эта доброта заключалась и в том, что она полюбила такого вообще-то скверного, хотя и красивого человека, каким являлся Евгений... К тому же он был сластолюбец.
Корда Гонория, уставшая от любовных утех, крепко засыпала, Евгений с Джамной проделывал то, что наверняка бы не понравилось молодой Августе... Но и у Джамны его действия, которые не иначе как извращениями нельзя было назвать, вызывали неприятие... И раньше они также не нравились Джамне, когда к этому принуждал её до кастрации Антоний; но тогда девушка и не подозревала, что какие-то излишества в половом соитии можно было назвать извращениями, ибо до принятия христианства сие считалось вполне нормальным — пробовать ли языком на вкус семя любимого или любимой, ласкать ли губами чувствительные части тела, не говоря уже о различных позах, коими изобиловали у язычников эти самые соития... Только с распространением христианства начала меняться философия интимных отношений между мужчиной и женщиной, хотя и ранее существовали понятия любви и нежности... И если мужчина-язычник брал женщину как обыкновенное животное, то именовалось всё это низменной страстью... Вот почему Джамна так реагировала на «ласки» возлюбленного Гонории и ненавидела его, который проделывать подобное ни за что бы не посмел с молодой Августой... В душе Евгений был трусом; чернокожая рабыня знала об этом, знала Плацидия, знал и проницательный Антоний...
Лишь Гонория, ослеплённая своею любовью, ничего не ведала и ведать не хотела, хотя внутреннее чувство подсказало ей заподозрить Евгения в измене. У Гонории было много хороших душевных качеств (доброту её мы уже отметили), которые она не успела растерять, находясь в императорском дворце, так как мало с кем общалась... А потом, она унаследовала черты характера своего отца, присущие иллирийцам вообще и выраженные в грубой форме, но не могущие не вызвать симпатий, а именно: прямота, честность, смелость, решительность и благородство. Поэтому Гонория представляла смесь дикой кошки с благородной ланью, за всё это и любила рабыня свою госпожу. И в душевном отчаянии и смятении наряду с вопросом: «Как быть?» Джамна задавала себе и другой: «А что теперь делать мне? Тут ведь главное не ошибиться, не поскользнуться, как малоопытный юноша на канате... Не упасть и не ушибиться... Я должна быть предана Гонории, — рассуждала далее Джамна, — я дала ей слово, я уже шпионить в пользу евнуха не смогу... А если буду вести двойную игру, то проницательный Антоний сразу её распознает... Я хорошо знаю себя и хорошо знаю Антония... Он всегда был змеем... А тем более сейчас, когда ему приходится незримой тенью проникать во множество дверей царского дворца и из этого множества в определённый момент угадывать нужную... После кастрации он всё же изменился не только внешне, что вполне естественно, но и внутренне. Когда он был настоящим мужчиной, ради красивой женщины шёл на всё: щедрой рукой раздавал подарки, чтобы завоевать её. Сейчас во дворце вряд ли можно отыскать человека жаднее его... И от благородства, которое присутствовало в его душе, не осталось и следа. А место его прочно заняли злобство, коварство и жестокость. Ради своей цели он не пожалеет никого, ибо такое чувство, как жалость, ему теперь неведомо...»
И, пожалуй. Джамна принимает верное в её положении решение — рассказать Ульпиану обо всём том, что приключилось с ней в покоях молодой Августы и под каким нажимом Джамна вынуждена была признаться и дать слово верно служить своей госпоже...
После этого сообщения евнух долго молчал. Рыхлое, полное лицо его в нескольких местах дёргали нервные тики, глаза затуманились бешенством, но Антоний взял себя в руки и сказал:
— Джамна, я ведь когда-то любил тебя... И душой, и телом... Телом теперь я любить не могу, но душой продолжаю любить.
Эти слова он произнёс, как показалось Джамне, так искренне, что у неё на глаза навернулись слёзы, и ещё это были слёзы воспоминаний о давно ушедшем, милом, ставшем призрачным прошлым...
Джамна обняла евнуха, поцеловала его и лишь тихо вздохнула.
Угадав её состояние, хитрый змей произнёс:
— Джамна, золотко моё, иди... А я хочу побыть один.
Теперь он знал, что она без всякой на то его просьбы прибежит снова к нему и выложит всё, что никогда бы не выложила, если бы он стал умолять её об этом, а тем более угрожать... И хорошо, что он сдержался и не проявил по отношению к ней жестокость и силу. Потом бы он мог, конечно, и убить!
А Джамна, уверенная, что Антоний всё-таки, любя, пожалел её, успокоенная, почти счастливая, прибежала к Гонории и ещё раз, дурочка, заверила молодую Августу служить ей преданно до самого гроба... Она всё верно сказала — «до самого гроба», ибо, будучи теперь арианкой, её после смерти обязательно похоронят в нём, забросав землёю, а не сожгут на погребальном костре, как верующих в Хроноса, Посейдона или бога Митру, храмы которых, несмотря на строгий эдикт императоров Гонория и Феодосия II, ещё стоят незыблемо в Александрии — родине Джамны. Этот город знаменит и своей библиотекой, содержащей 700 тысяч книг, и, наконец, громадным мавзолеем Сома, где в массивном золотом саркофаге, помещённом в другой, стеклянный, почивал Александр Македонский — сам почти как Бог, который взвесил в своих ладонях жизнь и смерть и узнал, что они имели иной вес, чем обычно...
Александрия — это город Птолемеев; каждый царь династии воздвигнул здесь дворцы и поставил статуи, посадил боскеты из акаций и диких смоковниц и вырыл бассейны, где цвели на воде кувшинки и голубые лотосы.
В течение многих веков здесь образовалось и множество колоний; отвернув края занавески носилок, в которых доставляли Антония Ульпиана и Джамну на форум, где стоял храм Митры (до принятия арианства они поклонялись, как и многие в Александрии, этому богу), можно было увидеть разношёрстную, шумную толпу греков, евреев, сирийцев, персов, иллирийцев, италиотов, финикян: говоря на разных языках и поклоняясь богам разных религий, иностранцы по своему количеству не уступали туземцам.
Мать Джамны в качестве рабыни привезли сюда из Галилеи, и здесь она родила дочь от нумидийца. Мать Джамны молилась Яхве, но она не успела приобщить дочь к своей вере, а отец, поклонявшийся Митре и покинувший белый свет позже, — успел... Но сердце Джамны перекачивало кровь, смешанную наполовину с кровью ветхозаветного народа, и, может быть, поэтому Джамна, став взрослой, легко и непринуждённо пришла к пониманию другого религиозного учения — арианства, избравшего, как и иудейство, единобожие...
Став арианкой, девушка также чувствовала себя хорошо, как и прежде, посещая храм Митры... Джамна до сих пор помнит этот храм, изящный, отделанный паросским мрамором, и жрецов, произносящих слова, обращённые к божеству. И эти слова были поистине замечательны, ибо менее туманные и таинственные, чем говорившиеся в других храмах, они, приспособленные также и к отдельному человеку и данным обстоятельствам, быстрее доходили до сердца... А когда, к тому же, говорил посвящённый в степень «бегунов солнца» с золотой короной на голове жрец Пентуэр, то народ валил валом в помещение храма Митры, чтобы его послушать. Да ещё этот жрец являлся и главным лекарем в Александрии, бесплатно раздающим больным беднякам лекарство.
Как врачеватель, Пентуэр не делал различий среди больных, но ему не нравилось это поистине вавилонское смешение народов не только в Александрии, но и других городах, подвластных Империи ромеев[18] и Риму, которое, по мнению посвящённого жреца, отрицательно влияло на древнюю цивилизацию.
А сейчас как на дрожжах уже восходит религия Иисуса Христа; и ей суждено, по предложению умного Пентуэра, завоевать сердца многих народов. Человечество должно было избрать в конце концов для себя единую веру, пропитанную высоконравственностью, ибо давно оно погрязло в алчности и разврате, словно в трясине, — и ещё век-другой, и эта болотная жижа поглотит его с головой...
Но уже строились христианские базилики, две такие воздвигнуты у ворот Канопа и Некрополя в Александрии, и, когда Пентуэру представилась возможность перевестись в Рим, где поспокойнее и где ещё чтут Митру в отличие от таких богинь, как Изида и Венера, он не раздумывая перевёлся туда.
Вот почему Джамна обрадовалась, когда узнала, что молодая Августа по настоянию матери должна поехать в Рим, — значит, ей, Джамне, бывшей поклоннице Митры, предстоит встреча с Пентуэром, которого она не только почитала, но и любила за чистосердечие и доброе отношение к ней, как к дочери... И к Ульпиану посвящённый жрец питал такие же отеческие чувства. Только помнит ли Антоний Пентуэра?.. И как жрец Митры отнесётся к Антонию в его новом качестве?..
Такие мысли сильно стали занимать Джамну, и она, не выдержав, снова нашла Ульпиана и поведала ему обо всём. Но не это сейчас беспокоило евнуха, да и какое дело ему, царскому помощнику, до стареющего жреца бога Митры, того бога, который тоже уходит из людского сознания в область забвения?..
Реакция Ульпиана огорчила служанку, но по прошествии некоторого времени он сам уже захотел встретиться с бывшей возлюбленной и долго расспрашивал о Пентуэре... Теперь же Джамне надлежало не огорчаться, а удивляться. У евнуха на счёт жрицы храма Митры в Риме появился, как говорится, свой интерес.
* * *
Уже несколько дней Галлу Плацидию мучили жестокие голодные боли: снова обострилась болезнь, которая приключилась с ней после убийства в Барцелоне мужа — вестготского короля Атаульфа. Тогда разом навалились на молодую королеву все беды — и недавняя смерть первенца Феодосия, и гибель мужа, и умерщвление шестерых его детей от первого брака. Но явной причиной болезни Плацидии явилась всё же «прогулка» босиком с непокрытой головой под нещадно палящими лучами испанского солнца.
Плацидия прошагала тогда, изгнанная из Барцелоны убийцей её мужа Сингерихом, более двенадцати римских миль, а победитель ехал рядом на коне и издевался над нею. Вот и ударило королеве в голову, и она, ставшая по вине этого надменного варвара пленницей, упала в конце своего скорбного пути и потеряла сознание.
Потом лучшие врачи Рима лечили её, но не вылечили, а лишь загнали внутрь болезнь, которая время от времени давала о себе знать... И всегда она обострялась в самые критические моменты правления: теперь вот, накануне поездки в Рим, и когда снова в сенате против матери-императрицы и её сына плетёт заговор опасный их враг Петроний Максим... Да только бы один Петроний! Стоит только Плацидии отойти на какое-то время от государственных дел, как тут же головы дружно поднимают и другие... Они" давно хотят провести через сенат закон о запрещении регентства как таковой, и тогда вся эта свора сразу накинулась бы на бедного Валентиниана, который и так обижен природой, отчего матери жалко его до острой боли в сердце... Плацидия знает, что сенат (по крайней мере, нижняя его часть, состоящая из популяров), настаивал бы на передаче власти наследнику её дочери (если бы таковой имелся) или тому же Максиму, пользующемуся непререкаемым авторитетом не только у народных трибунов, но и оптиматов.
Плацидия вскоре разобралась, почему так легко удалось уговорить патрициев и популяров, тяжёлых на подъём, о выезде всего императорского двора в Рим и проведении триумфального шествия войск Аэция по Марсову полю. В сенате тоже рассчитывают на дружбу с прославленным полководцем, у которого в руках находится реальная сила в виде хорошо обученных и вооружённых легионов. Поэтому Петроний настроил настоящих последователей веры Иисуса, которых сейчас в сенате большинство, на то, чтобы вынесенное Плацидией предложение прошло. С одной стороны, они шли ей как бы навстречу, а с другой — отстаивали только свои интересы, тем более что интересы эти совпали. Но обе стороны знали, что это лишь случайное совпадение, ибо взгляды и нормы поведения их в корне различны. Императорская семейка, исповедовавшая арианство, недалеко ушла от язычества, поэтому во дворце процветали разврат, угодничество, казнокрадство, взяточничество... И как ни странно, но именно пороки — человеческие и государственные — и позволяли Плацидии удерживать власть — регентша-императрица, как кормчий на полузатопленном корабле, коим стала теперь Великая Римская империя, с помощью этих пороков, служащих вёслами, и продвигает его вперёд. Галла Плацидия уяснила для себя одну истину, что посредством пороков легче править разваливающимся государством, нежели посредством всяких достоинств... Хотя дело и безнадёжное, но в сложившейся ситуации (и в этом Плацидии надо отдать должное) она умело указывала, как веслать, чтобы ещё как-то оставаться на плаву. А матросы — её приближённые, находясь с ней рядом на борту, тоже хорошо усвоили, что если потонет судно, то потонут и они, поэтому из последних сил сражались с бурными волнами вместе со своим капитаном и пойдут на всё, чтобы отдалить от себя неминуемую гибель...
Ужасная боль снова пронзила виски Плацидии и отдалась в правую часть затылка. Императрица откинулась и застонала. Антоний, оказавшийся здесь, попросил одного из её слуг, более могучего, чем остальные, грека, подать ему лёд. Ульпиан сменил на голове императрицы повязку, и тут вошёл вместе с лекарем Евгений.
Пока врачеватель колдовал над больной, царский помощник спросил смотрителя дворца:
— Ничего нового не узнал?
Евгений сразу смекнул, что имеет в виду хитрый евнух... Но ответил, как бы ничего не понимая:
— Узнал... — и увидел, как насторожился корникулярий, вернее, насторожились его глаза, превратившиеся из серых в тёмные. Но продолжал говорить, как ни в чём не бывало: — В сенате снова поднимался вопрос о полномочиях нашей повелительницы... Петроний Максим ссылается на её повторяющуюся болезнь... Но, слава Богу, среди оптиматов есть разумные люди, и его пока не поддерживают.
— Об этом, Октавиан, я уже знаю. Я ведь спрашиваю тебя о другом... — И, узрив по лицу Евгения, что тот больше ничего не скажет, снова спросил: — А в какого Бога ты веруешь, препозит?
— Как в какого?! — удивился смотритель. — Как и ты, наша повелительница, император Валентиниан, молодая Августа — в Вездесущего Зиждителя нашего. Разве не так?..
— Да, так. Но всегда ли ты верил в него?
— Всегда.
— А я, представь, — нет... В Александрии вместе с Джамной я поклонялся богу Митре, хотя мать у Джамны была иудейкой...
— Мать-иудейка у этой чернокожей рабыни?!
— Ну, положим, что у этой рабыни не чёрная кожа, и тебе это хорошо ведомо... А Джамну я не только знал, но и состоял с ней в интимных отношениях. Мать у неё — еврейка, она рано умерла, а отец — нумидиец из Африки, покинул сей белый свет, когда дочери едва исполнилось двенадцать лет... С этого возраста я и знаю Джамну. Тогда я был здоровым и привлекательным мужчиной...
— Вот так новость! — воскликнул смотритель дворца.
— Да, новость... А поделился я с тобой ею, так как нам вместе спасать свою госпожу. Без неё погибнем и мы... Поэтому мы должны быть откровенными между собой, — упрекнул евнух препозита.
«Ишь ты, об откровенности заговорил... Только где она была раньше, эта твоя откровенность?! Помнится, как ты старался заводить против меня всякие интрижки... Верны твои слова о том, что без своей госпожи погибнем и мы... И следовало бы нам быть откровенными друг с другом, но откровенничать с тобой, кастрат, всё же погожу...» — быстро промелькнуло в голове Евгения.
Плацидия простонала снова. Октавиан взглянул на императрицу, не в силах более видеть её искажённое болью лицо, вышел, а корникулярий положил на плечо лекаря руку. Тот поднял склонённую над больной лысеющую голову:
— Тс-с... Августа засыпает. Но, думаю, сон у неё будет непродолжительным. Чтобы облегчить её страдания, я рекомендую ей эруку.
— Эруку?.. Сколько я нахожусь во дворце, столько и помню, что императрица постоянно употребляет её... — сказал Антоний.
— Ничего не поделаешь. Ибо эрука не только возбуждающее средство, но и болеутоляющее.
Через какое-то время ушёл и лекарь. Антоний поближе подсел к спящей императрице и стал изучать каждую чёрточку на её лбу, щеках, шее, подбородке, вокруг рта и глаз. Августа, несмотря на уже немолодые годы, выглядела и сейчас очаровательно в своей беспомощности; сон расслабил все члены, и она походила на взрослое дитя, — Ульпиан даже пожалел её... Ведь у Плацидии, как и у него самого, во дворце нет друзей, есть только сомышленники и подельники, знающие, что они живы до тех пор, пока жива их госпожа. Поэтому алчут золота, драгоценностей, приобретают на южном побережье Италии виллы, заводят свой штат обслуги, далее покупают корабли и берут для охраны надёжных славянских наёмников; но спасут ли они их, когда поменяется власть или когда хвалёная Римская империя окончательно улетит в Тартар. Туда, ей, конечно, дорога, ибо эта империя в целях выживания и укрепления себя пролила реки и моря крови разных народов. Одних она уничтожила совсем, и от их пусть малой, но цивилизации не осталось и следа, а других заставила, как затравленную охотником дичь, рыскать повсюду в поисках безопасности и куска насущного хлеба. Поначалу таким народом был израильский, потом империя с невероятной жестокостью стала истреблять христиан; добралась она и до африканских, галльских и средиземноморских колоний, но времена меняются, уже вера Христа завоевала сердца и самих римлян, малые народы и колонии перестали безропотно подчиняться издыхающему зверю и меньше теперь кормят его, и он, полуголодный, очумевший, способен лишь огрызаться. Не более того. И какая жуткая доля уготована тому, кто по воле судьбы должен ещё управлять этим полудохлым огромным чудовищем!.. И вот одна из таких несчастных, лежащая недвижимо, сама больная, тоже почти умирающая...
Но, жалея императрицу, Антоний жалел и себя, и одну женщину, ещё любимую где-то в глубоких тайниках его души, — Джамну. А молодую Августу тоже бы надо пожалеть?.. Но какое дело ему, Антонию Ульпиану, евнуху, до этой безумной вакханки, которая не знает, что делает... Душа её пока отзывается на доброту и любовь. Но лишь пока. Эти чувства нужны только ей; в деле управления государством они вредны... Хотя молодой Августе никогда не сидеть на троне, да и женщина, лежащая перед Антонием, покуда она дышит, не допустит того, чтобы дочь вышла замуж и родила... Гонории давно уготована незримая тюрьма, и она уже сама поняла это... Несчастных жалеют, но не всегда помогают им. Помогать же Гонории не в интересах Антония, а в его интересах верно служить Галле Плацидии.
Лекарь оказался прав — императрица проснулась и пристально теперь взирала на задумавшегося Ульпиана. Боли утихли, лишь тупо ныло в затылке. И императрица сейчас внимательно могла изучать то, что отражалось на одутловатом лице Антония. Друг он её или враг?.. Нет, не враг: он предан ей и ни разу не дал повода усомниться в этом.
— Антоний, я, кажется, видела здесь Евгения и лекаря? Но, может быть, они явились мне в бреду или во сне?
— Нет, величайшая, они были наяву у твоего ложа. Евгений, взирая на тебя, почему-то поспешно удалился, а лекарь, снова порекомендовав принимать эруку, тоже покинул твой кубикул.
— А почему остался ты?
— Я думал, моя госпожа... О твоей несчастной судьбе.
— Ты считаешь, что моя судьба несчастна?
— По крайней мере, что она счастливая, я сказать не могу... Так же, как и сказать о своей.
— Да, тебе не повезло... Когда из Африки Аэций привёз пленных, ты и Джамна мне понравились: тебя я оставила при себе евнухом, а Джамну отдала в услужение к дочери. Я ведаю о тебе многое, вижу, что хорошо служишь, и никому о твоей прошлой жизни не рассказываю.
— Благодарю, благочестивая Августа.
— Ты назвал меня благочестивой. И думаешь, польстил мне?.. Нет. Благочестие в моём положении, как на шее камень, который потянет сразу на дно... Лекарь говорил об эруке... Прикажи подать её. А потом ты, Ульпиан, можешь присутствовать при моём соитии с этими силачами и смотреть, как я стану управляться с ними...
— Нет, госпожа... Когда-то и я управлялся одновременно не с двумя, а с большим количеством женщин... Так что ничего нового не увижу... Желаю, повелительница, чтобы болезнь твоя совсем от тебя отступилась, а её место заняла вечно юная страсть к любовным утехам... И позволь мне удалиться.
Но вспомнил, уже подходя к двери, о разговоре с Евгением, в котором препозит продемонстрировал явное неоткровение. Сказал об этом императрице и далее добавил:
— Мне недавно передали, величайшая, что пираты Сардинии перехватили несколько наших судов с хлебом, шедших из Сицилии и, чтобы досадить Риму и тебе, госпожа, потопили их вместе с зерном. Во многих городах Италии цена одного модия зерна с недавних пятидесяти денариев поднялась до семидесяти и более. Мы уже выслали из Равенны очередную партию философов, писателей и поэтов, ненужных нам, но потребляющих хлеб, который мы распределяем по крохам. Только эти меры вряд ли что изменят... Одобренное в сенате предложение послать часть флота, расположенного в Мизене, на борьбу с пиратами как раз было бы кстати... При разговоре с Октавианом я чётко уяснил для себя, что ничего от молодой Августы он узнать не сумеет... Видно, мозги его нуждаются в проветривании, чтобы лучше соображали. А вот и моё предложение — вместе с главнокомандующим мизенским флотом Корнелием Флавием на разгром сардинских пиратов послать и Октавиана.
Плацидия приподнялась с ложа; опершись на локоть, слегка призадумалась. Да, в последнее время она узрила перемену в поведении Евгения, не говорящую в его пользу, и уловила по отношению к себе отчуждённость, хотя и хорошо скрытую, но опытную женщину не обманешь... И какое-то непонимание всё больше возникало между ней и препозитом, когда они оставались наедине.
«Действительно, пусть проветрит мозги...» — решила императрица.
— Хорошо, Ульпиан... Готовь указ, я подпишу его.
III
Через три дня Евгений Октавиан получил этот указ. При нём ещё находилась пояснительная записка, касающаяся не только его, но главнокомандующего мизенским флотом Корнелия Флавия. Евгений не стал вникать в содержание этой записки, знал примерно, какие распоряжения последовали ему и Флавию; зато суть их действий чётко сформулирована в указе, а этого пока вполне достаточно. Евгений сразу поспешил к Гонории, которая давно ждала его, так как он не появлялся уже несколько дней, хотя понимала, что в связи с болезнью матери у него, как смотрителя дворца, должно было прибавиться немало хлопот. На самом деле её предположения оказались неверными — как раз болезнь императрицы Октавиана мало заботила, было кому и без него ухаживать за ней. Больше беспокоило положение при дворе его самого... Евгений ещё тогда, находясь в покоях Плацидии и рассматривая её искажённое болью лицо, вдруг почувствовал по отношению к себе приступ омерзения; он как бы посмотрел на себя со стороны и увидел вместо красавца мужчины какого-то жалкого человека, играющего двойственную роль любовника матери и дочери и их шпиона. До какой низости может дойти человек, а ведь Евгений не просто смотритель дворца, препозит, он прежде всего представитель при дворе древнего патрицианского рода... И не подобает ему быть грязным наушником, соглядатаем и бесчестным любовником, — роль, скорее приглядная для раба или мелкого чиновника. К тому же он любит одну Гонорию, и любит искренне... А тут ещё эти вопросы хитрого змея Антония, касающиеся откровенности, — тонкая интуиция Октавиана подсказала, что они заданы неспроста, и они как бы служили намёком, прелюдией тому, что за этим непременно последует... В отчаянии и с презрением к себе Октавиан выбежал из покоев императрицы. И вот итог — указ, который в первую очередь подразумевал его удаление из дворца.
Поэтому Евгений сразу бросился к молодой Августе, которая, увидев своего возлюбленного, тут же позабыла все обиды, накопившиеся за дни, в которые он не приходил, отбросила в сторону все подозрения и ревность. Вот он перед нею, её милый, хороший Евгений!.. «Господи! — взмолилась Гонория, — даруй нам тихие мгновения налюбоваться друг другом».
— Но почему у тебя такой вид, как будто ты не рад нашей встрече? — спросила Гонория у Октавиана.
— Родная моя, я очень рад... Я скучал по тебе, но не мог прийти по причине занятости.
Сказал и снова почувствовал к себе омерзение; эти дни, пока не был у молодой Августы, проводил в пьянке, со своими служанками. Хотя женщины-аристократки никогда не воспринимали служанок любовницами-конкурентками, также, как и мужья-патриции слуг, состоявших в штате обслуживания их жён... Если жёны употребляли внутрь семя своих рабов, то какая разница, каким местом тела супруга делала это?! Ох уж этот Рим!.. И чем ближе дело его шло к упадку, тем пакостнее он становился, и законы, направленные на обуздание прелюбодейства и разврата, принимаемые сенатом, на него не действовали. Надежда была только на новую религию, но не на ересь её, вроде арианства, а на истинное христианство... Если бы это понималось всеми! Когда устраивались цирковые представления со зверями и кровью, народ валом валил на них — и христианские храмы разом пустели. А голодные люди, раздетые и разутые, ревели в цирке и хохотали до слёз... По этому поводу пресвитер Сальвиан из Масеалии (современный Марсель) выразил своё прискорбие и изумление: «Кто может думать о цирке, когда над ним (народом) нависла угроза плена (нравственного). Кто, идя на казнь, смеётся?! Объятые ужасом перед рабством, мы предаёмся забавам и смеёмся в предсмертном страхе. Можно подумать, что каким-то образом весь римский народ наелся сардонической травы: он умирает и хохочет...»
Гонория прильнула к груди Евгения, склонив голову, а он нежно поцеловал в то место на шее возлюбленной, откуда её волосы собирались кверху в высокую башню, какую носили все модницы-патрицианки в Риме. Почувствовал, как трепетно вздымались обтянутые шёлком её упругие груди. Слегка отстраняясь, Гонория снова спросила, внимательно взглянув в глаза Октавиана:
— Так всё-таки что с тобой?
— Вот указ, где говорится, чтобы я послезавтра выехал из Равенны. В бухте Адриатики уже стоит готовый к отплытию чёрный корабль, на котором я должен обогнуть южное побережье Италии и достичь места, где базируется мизенский флот. Не мешкая, с большей частью кораблей вместе с Флавием мы должны будем вести охрану судов с хлебом, которые выйдут из Сицилии. И конечно, нам предстоит сражение с пиратами, кои не упустят снова момент, чтобы напасть на нас...
— А если они побоятся?.. Ведь кораблей-то у вас будет немало.
— Милая, у пиратов у самих есть целый флот, есть и свой друнгарий[19]... В конце концов, как говорится в указе, если пираты не нападут, то мы должны сами напасть на их главную базу в Сардинии и уничтожить.
— Я далека от военного и тем более морского дела, но думаю, что это осуществить будет нелегко... Ясно, что указ составлял Антоний. Тебя, Евгений, он ненавидит, это понятно... Но чем же ему досадил Корнелий Флавий?
— Змей и тут, мне кажется, рассчитывает на какую-то выгоду. Для него будет лучше, если мы от пиратов потерпим поражение...
— Мне призналась Джамна, что она Антония знала ещё до того, как его оскопили. Она состояла у него с двенадцати лет в любовницах. Может быть, Джамна у Антония сумеет что-то выведать?..
— Ульпиан и мне сказал о его прошлой связи с Джамной. Не существует ли между ними, бывшими в любовной связи, некий сговор?
— Не думаю... Я верю служанке. — Молодая Августа, сложив на груди руки и сильно прижав их, вдруг в волнении заходила по комнате. По её лицу, на котором проступали то одни черты, то другие, Евгений понял, что у Гонории сейчас зреет какое-то отчаянное решение. Она внезапно, как и начала, прекратила ходьбу, взяла за руку возлюбленного и крепко сжала её. На лбу и щеках у молодой Августы заалели пятна, и она ошарашила Октавиана неожиданным предложением:
— Милый, здесь я, как в заточении... И ничего мне более не остаётся, как последовать за тобой...
— Но...
— Не перебивай. Выйти замуж за тебя мне никогда не позволят, и ты знаешь сам об этом. Мы завтра же отправляемся к морю, сядем на чёрный корабль, а там подумаем вместе, что делать дальше...
— Не годится твой план, радость моя... Спасибо за любовь и доверие, но при твоём исчезновении придворные и особенно Ульпиан поднимут шум, поймут, с кем и куда ты сбежала, и пошлют наперерез нам один из тех кораблей, что базируются в бухтах, расположенных на всём восточном побережье Италии.
— А что же делать?
— Надо подумать... Если придумаем что-то хорошее, возьмёшь с собой раба-скифа[20] Радогаста и, конечно, Джамну, но пока их ни во что не посвящай.
— Значит, ты одобряешь моё решение уехать из Равенны! — с жаром в голосе воскликнула Гонория.
* * *
Родовой патрицианский дом Октавианов, находившийся на Капитолийском холме в Риме, сверху донизу тонул в венках из мирта и плюща. По колоннам портика рабы развесили гирлянды виноградных листьев, нарядные ковры, а воду в фонтанах подкрасили цветными красками, дорожки в саду усыпали песком, просеянным через сито. Убирали дворец почти неделю ко дню рождения знатного владельца дома, отца Евгения Клавдия, которому завтра исполняется шестьдесят лет.
Рано поутру дом его распахнёт ворота настежь для всех друзей, родственников и даже простых людей. Только не будет среди гостей официальных представителей императорского дворца — ещё при цезаре Гонории Клавдий впал в немилость, так как являлся ярым приверженцем старых богов, да и Галла Плацидия бывшего сенатора и начальника императорской гвардии не жалует за прямоту его суждений: хорошо, что взяла на службу к себе его сына, но Клавдий подозревает — сделала она это из-за бросающейся в глаза внешности Евгения.
Но вот и приехавший из Равенны четыре дня назад лучший друг Клавдия Кальвисий Тулл сообщил, что перед отъездом в Рим встречался с Евгением, и тот показал ему указ императрицы и предписание отправиться на миопароне, на которой служит навархом (капитаном) сын Кальвисия Рутилий, на юг Италии в распоряжение главнокомандующего мизенским флотом Корнелия Флавия. Затем они должны сопроводить хлебные суда, идущие из Сицилии, а позже напасть на главную базу пиратов в Сардинии и уничтожить... Поэтому Евгений просит прощение у отца, что не сможет приехать на его день рождения.
— А знаешь, Клавдий, послать сейчас корабли на разгром пиратов — это всё равно, что выпустить плохо вооружённого гладиатора на борьбу с десятком львов, — предположил Кальвисий, обеспокоенный и судьбой своего сына: — Думаешь во дворце этого не понимают?!
— К тому же, какой мой Евгений моряк?! Смешно...
— Но он молодец... — И Кальвисий сказал, что застал Евгения, сидящего за книгами военного теоретика Вегеция.
Хорошие книги, они есть в библиотеке Клавдия; бывший сенатор их тоже читал. В них Вегеций подробно и доходчиво излагает тактику и стратегию морских сражений. Ай да Евгений! Значит, сын не только умеет шаркать ногами по мраморному полу императорского дворца...
А что касается пиратов, то стратегия римлян в борьбе с ними и раньше заключалась в нанесении удара по главной их базе. То же самое предлагают и дворцовые «умники»... Но такой приём снова даст морским разбойникам возможность, маневрируя своими кораблями между многочисленными мелкими базами, избежать решительных сражений с флотом и тем самым сохранить свои силы, а потом исподтишка смертельно ударить.
А Вегеций предлагает применить на море иную стратегию и иную тактику. Скажем, такие, какие применил в своё время великий Помпей. Его задумка состояла в том, чтобы, рассредоточив свои силы по нескольким районам, нанести одновременный удар по всем базам пиратского флота и тем самым лишить его возможности уклоняться от встреч в открытом бою. Всё Средиземное море было разделено на 30 районов. Сначала Помпей решил очистить от пиратов западную часть Средиземного моря. В каждый из районов западной части моря он направил сильные отряды римского флота, а сам с 60 крупными и быстроходными кораблями остался крейсировать в Тирренском море, откуда он лучше мог действовать в случае надобности, в любом направлении. В течение 40 дней западная половина Средиземного моря была очищена от пиратов. После этого силы римлян Помпей перебросил в восточную часть моря. И всего за 49 дней было уничтожено и захвачено в плен около 10 тысяч пиратов, разрушено 120 пиратских крепостей и захвачено более 800 судов. Но то был флот Великой Римской империи, а сейчас не флот, а неведомо что!.. Бывший сенатор поморщился; Кальвисий поведал и ещё об одной «новости»: римские моряки голодают, просят милостыню (Помпей или, скажем, Юлий Цезарь, если бы их, как христиан, похоронили в гробу, наверняка бы в нём перевернулись, спрятав лицо вниз от стыда), не хватает парусов, да и сами корабли не чинили уже несколько лет... К тому же Корнелию Флавию указано выйти в море только с частью кораблей мизенского флота... Вот почему болят души у старых воинов! А Клавдия к тому же беспокоят мысли о любовной связи Евгения с дочерью императрицы, об этом тоже поведал Кальвисий; зная Плацидию и нравы её двора, бывший сенатор предполагает, что до добра эта связь сына не доведёт. Она-то, наверное, и стала первопричиной его «высылки» из Равенны, обставленной необходимостью его присутствия на кораблях мизенского флота, только всё это, как говорится, шито белыми нитками. Но дворцовыми интриганами главное сделано: они не только удалили из дворца Евгения, но, можно сказать, послали его на гибель... «Богиня Кибела, помоги моему сыну! Хотя он и принял другую веру, но ты, Кибела, недаром зовёшься могучей и любвеобильной, Матерью всех богов... Помоги и его возлюбленной!»
Вчера из Равенны приехал ещё один друг Клавдия, Себрий Флакк, и ошарашил ещё одной новостью: как только отъехал Евгений, из дворца исчезла и дочь Галлы Плацидии молодая Августа Гонория, которой вместе с императорским двором предстоит поездка в Рим. И сколько её ни искали, так и не нашли... Представляете, какой случился переполох!
Над Римом опустился поздний вечер — уже и звёзды зависли над притихшим городом, но не спится старому гвардейцу, всё ему думается. Он плотнее запахнулся в тогу, вышел из таблина[21] и, миновав парадные комнаты, оказался в перистиле, представлявшем собой квадратный зал с колоннадой, заставленный вазами с цветами на пьедесталах. Здесь посреди был вырыт бассейн. Обогнув его, Клавдий по мозаичному полу вдоль стен, покрытых живописью, прошёл далее в другую сторону перистиля, где находились столовые (для прислуги хозяина и особо важных гостей) и спальни. Хотел заглянуть в две из них, чтобы в одной разбудить Флакка, который отдыхал после дороги, но раздумал. Не стал заходить и во вторую, где любитель вина и женщин Кальвисий наверняка упражнялся со служанками, которых он привёз из Равенны.
Далее, оказавшись в саду, где стояли статуи, Клавдий послушал тихое, успокаивающее журчание фонтана; пройдя библиотеку и часть картинной галереи, или пинакотеки, которая сообщалась с атриумом[22], по лестнице поднялся на плоскую крышу дома. Но тут же следом за ним поднялась и одна из служанок бывшего сенатора, довольно ещё молодая, полногрудая, свежая, кровь с молоком. После смерти жены Клавдий сделал её главной распорядительницей дома, она же состояла с хозяином в интимных отношениях и искренне его любила. Протянув ему плащ, она сказала:
— Хотя уже и весна, а можно простудиться. Ты недолго тут будь, ветер ещё не успокоился на ночь, поверху гонит облака, оттого и звёзды мигают...
— Благодарю за заботу, милая, иди, а я, как иззябну, приду. Ты потом пожалуй ко мне и приготовь спальное ложе...
Сверкнув белозубой улыбкой, служанка спустилась вниз. Надев ещё сверху плащ, Клавдий поудобнее умостился на скамье. Отсюда, с Капитолийского двугорбого холма, Рим был виден как на ладони. После разрушения город всё больше и больше застраивался инсулами — дешёвыми многоэтажными, грязными, кишащими крысами домами, построенными наспех, лишь бы где жить... Справа по красным фонарям угадывалась Субура — улица, обильная притонами и проститутками, которых можно было купить на ночь всего лишь за кусок хлеба...
Сейчас город затих, но скоро по его улицам застучат колеса возвращающихся с рынков подвод, колесниц тех отдельные лиц, которым дано почётное право пользоваться ими вечером и ночью, и фургонов бродячих актёров. Ибо существовал запрет на пользование днём любыми повозками и другими, кроме носилок, средствами передвижения.
Перед домом напротив Клавдий увидел место, огороженное изгородью, — значит, сюда когда-то попала молния и её здесь «похоронили», обнеся частоколом, и теперь каждый, кто ещё верит в старых богов, может поклониться этой святыне... Поклонился и Клавдий. Но встают то туч, то там базилики с крестами на куполах. Их уже много, и, как ни старался цезарь Юлиан, прозванный христианской церковью Отступником, ввести в империи старую языческую веру, ничего у него не вышло; умирая от смертельной раны, полученной в сражении с персами, он в безумной ярости бросал к солнцу комья грязи со своей запёкшейся кровью и восклицал: «Ты победил меня, Галилеянин!» Да, Галилеянин победил теперь почти весь Рим.
Готы под водительством Алариха со знамёнами и хоругвями, на которых было начертано имя Единого Бога «Summus Deus», напали на Рим. Они верили в этого Единого Бога, считая Иисуса Христа таким же сотворённым Существом или такой же Тварью, как они сами. И сколь бы история не клеймила готов, изображая их как неотёсанных, грубых варваров, они прежде всего были христианами, пусть преемля всего лишь ересь, поэтому следует, может быть, их нападение на Рим рассматривать как борьбу христиан с недавними язычниками, в прошлом испытавших от последних страшные гонения и казни (а самая страшная казнь, применяемая римлянами по отношения к христианам, считалась распятием на крестах). Может быть, оттого и были готы жестоки? когда захватили «вечный город»...
Всё это происходило на глазах у Клавдия, который к тому времени по приказу императора Гонория охранял в Риме Галлу Плацидию, родную сестру Августа. Гонорий же находился в Равенне.
Аларих, предводитель готов, долго осаждал Рим, но взять его ему не удавалось. Тогда он придумал такую хитрость: среди воинов выбрал триста молодых людей, которые выделялись красотой и храбростью, и тайно сообщил им, что он, Аларих, намерен подарить их в качестве рабов знатным римлянам и велел юношам вести себя достойно и скромно и быть послушным во всём господам. Потом же, в назначенное время, в полдень, когда знатные римляне погружаются в послеобеденный сои, молодые готы должны будут устремиться к городским воротам, называемым Соляными, перебить стражу и быстро распахнуть их. А дальше за дало примется всё войско Алариха.
Сделав такое сообщение молодым людям, предводитель готов отправил послов к сенату с заявлением, что он удивлён и восхищен преданностью римлян своему императору, которые, находясь в осаде без воды и хлеба, не сдаются. В знак уважения к их мужеству он отходит со своим войском от Рима и дарит на память каждому сенатору по нескольку рабов.
Римляне обрадовались такому повороту событий, приняли дар и, увидев приготовления готов к отступлению, возликовали, не заподозрив коварства. К тому же исключительная покорность, которую проявили преданные Алариху молодые люди, совсем уничтожила всякую подозрительность... И вот настал назначенный полдень, всё произошло так, как и намечал Аларих, — варвары ворвались в город...
Историк Прокопий Кесарийский, рассказывая об этом случае и называя готов диким воинством, всё же подчёркивал необыкновенный ум их предводителя и восхищался выдержкой и смелостью молодых готов и умением их держаться, находясь в услужении у знатных римлян, ничем не выдавая себя. В войске Алариха, видимо, такими чертами характера обладали не только одни эти воины...
Конечно, бывшему языческому городу они тоже сотворили жуткую казнь: три дня варвары буйствовали в Риме, грабили его сокровища, разбивали статуи, сожгли здания возле Соляных ворот, в том числе дворец Саллюстия, древнего римского историка, соратника Юлия Цезаря. Слава богам, считал Клавдий, что этих людей давно не было на свете и они не стали свидетелями этого позора...
Сам Клавдий был тяжело ранен, отбивая свою повелительницу; провалялся в какой-то грязи, под обломками, а когда очнулся, то ему сообщили, что готы из города ушли и что молодую и красивую Галлу Плацидию в качестве пленницы Аларих увёл с собой.
Узнал Клавдий и другое и в душе посмеялся над затаившимся в Равенне Гонорием в то время, когда враги грабили и разрушали Рим. Один придворный евнух, выполнявший обязанность птичника, сообщил императору, что Рим погиб. «Да я только что кормил его своими руками!» — воскликнул Гонорий (у него был любимый петух по кличке Рим). Евнух, поняв ошибку императора, пояснил, что Рим пал от меча Алариха. Тогда Гонорий, успокоившись, сказал: «Друг мой, я подумал, что околел мой петух Рим»[23].
Покинув «вечный город» Аларих далее со своим войском направился на юг Италии, намереваясь переправиться в Африку. Но в пути около города Козенцы у слияния рек Крати и Бузенто Аларих скончался от какой-то внезапной болезни.
Похоронили его пышно. Сохранилась легенда: чтобы обезопасить гробницу от разграбления, приближённые предводителя приказали отвести воды реки Бузенто и схоронили его в её русле; затем убили рабов, принимавших участие в сооружении гробницы, а воды реки вернули в прежнее русло[24]. Вот вам и дикие варвары! Вот как они умели чтить своего мужественного предводителя!..
И осенью 410 года власть над готами перешла к родственнику Алариха Атаульфу, который взял в жёны Галлу Плацидию, захваченную в плен сестру императора. И вот как далее пишет историк Иордан: «Атаульф, приняв власть, вернулся в Рим и, наподобие саранчи, сбрил там всё, что ещё осталось, обобрав Италию не только в области частных состояний, но и государственных, так как император Гонорий не мог ничему противостоять».
Атаульф легко мог отобрать трон у Гонория, но делать этого он не стал, хотя, по утверждению одного человека, хорошо знающего этого варвара и бывшего с ним в хороших отношениях, он (Атаульф) пламенно желал, изничтожив само имя римлян, превратить всю римскую землю в империю готов, чтобы, попросту говоря, стало Готией то, что было Романией, и Атаульф сделался бы тем, кем был некогда Цезарь Август, однако на большом опыте убедился, что готы в силу своего необузданного характера никоим образом не будут точно повиноваться законам империи, как это делали римляне, а государство без законов — не государство, в конце концов Атаульф предпочёл иметь славу благодетеля и восстановителя Римского государства с помощью сил готов, дабы в памяти потомков остаться инициатором возрождения империи, после того как он не смог сделаться её преобразователем. Поэтому Атаульф не стал далее воевать с римлянами, а предпочёл мир, поддавшись уговорам и советам своей жены Галлы Плацидии.
А сам император Гонорий?.. Он всё так же сидел, сложа руки в Равенне, превратившись фактически в парадную куклу, где в августе 423 года скончался от водянки в возрасте тридцати девяти лет.
IV
Теперь обратимся к событиям, которые произошли несколько дней назад, в Равенне.
Евгений сидел в таблине рано утром, закутавшись в тогу, — было прохладно: раб, отвечающий за отопление, проспал. И только что затапливал камин. Раба следовало бы вздуть, но Октавиан даже не обратил на это внимания, все его мысли были обращены на другое: «Что делать дальше?»
Препозит знает свою возлюбленную: если она решила бежать, то её не отговоришь...
Вчера с помощью Джамны Гонория сложила в кожаный мешок самые необходимые вещи, а слуга-ант по имени Радогаст незаметно перенёс этот мешок в таблин к Октавиану. Никто ничего не заподозрит, если Евгений со своими вещами заберёт завтра и этот мешок. В конце концов остановились на следующем: они сядут на чёрный корабль, на котором, слава Богу, капитаном служит Рутилий, сын бывшего, как и отец Евгения, сенатора Кальвисия, и поплывут, а там видно будет... Корабль, называемый миопароной, маневренный и быстроходный, и не так-то просто с береговой базы перехватить его.
Всё, решено, больше Евгений об этом думать не станет; он снова взял в руки книгу[25] Вегеция, начал читать: «От навархов прежде всего требуется осмотрительность, от кормчих — опытность, от гребцов — сила их рук, потому что ведь морская битва происходят обычно при спокойном море, либурны, как бы огромны они ни были, двигаясь не под дуновением ветра, а ударами вёсел, своими носами поражают противников, а в этом случае победу дают сила рук гребцов и искусство управляющего рулём».
«Допустим, что мы благополучно достигнем базы мизенского флота, но я должен идти снова в море... — отвлёкся от Вегеция Октавиан: всё же не смог побороть себя и не думать. — Гонорию со служанкой и слугой можно устроить жить в укромном месте в порту, я знаю где, я бывал там, поможет и Рутилий Они подождут меня. А если я не вернусь?! Ведь неизвестно, чем закончится наша «охота» на пиратов... Гонория вообще хочет уехать из Италии... Но это потом. А Галла Плацидия поднимет на ноги не только свою гвардию, но и всю тайную службу. Всех своих секретарей[26]! Они наверняка выследят молодую Августу, которой надо ехать в Рим. Землю станут рыть носом... Хотя дело-то не в молодой императрице, а в приуроченном к приезду всего императорского двора в «вечный город» триумфальном шествии легионов полководца Аэция. И конечно же, мать предпримет всё, чтобы обнаружить дочь и вернуть её во дворец. Тогда мне головы не сносить...»
Вдруг он поймал себя на мысли, что по-прежнему любит Гонорию и снова разделяет её симпатии и убеждения. И будто не было у него жарких ночей с Плацидией, он сейчас думает о ней с такой же ненавистью, как и Гонория. Да, он виноват перед молодой Августой. Он не только ей изменял, но и делился с Плацидией тем заветным, в которое посвящала его Гонория. И подозревает, что потому и нужен был императрице. Всё это должно быть в прошлом, и надо, чтобы всё это отошло от Евгения и растворилось, как отходит весной лёд от берега и тает на середине реки... Былые нежные чувства к Гонории вернулись, теперь он любит её ещё больше, ибо увидел, что ради бескорыстной любви она способна на многое, это бескорыстие подкупило Октавиана, и его душа снова потянулась Ас сердцу возлюбленной...
В дверь постучали. Вошёл Кальвисий, поздоровался.
— Ладно, что в такую рань не спится нам, старикам, а почему молодым? — сделав удивлённое лицо, воскликнул друг Клавдия.
— Дела... — Евгений кивнул на лежащую на столе книгу.
Показал указ и предписание, Кальвисий стал читать, затем сообщил ему, что едет в Рим на юбилей его отца. Молодой Октавиан смутился: честно говоря, он даже забыл, что отцу исполняется шестьдесят лет.
Старый сенатор всё понял, постарался придать своему лицу такое выражение, что будто ничего не заметил.
— Как приеду к Клавдию, скажу, что ты хотел поехать, но не позволили дела государственной важности... Вот и сын мой тоже поплывёт с тобой. Передай ему, чтобы был осторожен и помогал тебе во всём...
Евгений быстро поднял глаза: «Интересно, что Кальвисий имеет в виду, сказав, чтобы Рутилий помогал мне во всём... Уж не известно ли бывшему сенатору о решении молодой Августы покинуть равеннский дворец?!»
Во взгляде Кальвисия не уловил даже намёка на какую-то тайну и успокоился.
— Благодарю, Кальвисий. Я с детских лет ощущал твою заботу обо мне.
— А как же?! Ты являешься сыном самого лучшего моего друга. И твой отец также всегда относился к Рутилию; было время, когда наши дома стояли рядом, ты и мой сын жили и общались как родные братья.
— Да, хорошее было время...
— Правда, оно грустно омрачалось безвольным правлением Гонория. Но и сейчас не особенно весело. — Оглянулся, не подслушивает ли кто?..
— Свой таблиц я, как видишь, завесил толстыми коврами, и звуки голосов тонут здесь.
— Вот так и живём... Я потом всё объясню твоему отцу. Желаю удачи.
Они обнялись, и Кальвисий вышел.
«Наподобие сухопутных сражений, бывают и здесь внезапные нападения на малоопытных моряков, или устраиваются засады поблизости от удобных для этой цели узких проходов у островов... — принялся опять за Вегеция Евгений. — Если осторожность врагов дала им возможность избежать засады и заставляет вступить в бой в открытом море, тогда нужно выстроить боевые линии либурн, но не прямые, как на полях битвы, но изогнутые, наподобие рогов луны, так чтобы фланги выдавались вперёд, а центр представлял углубление, как бы залив. Если бы враги попытались прорвать строй, то в силу этого построения они были бы окружены и разбиты. На флангах поэтому должны быть помещены главным образом отборные корабли и воины, составляющие цвет и силу войска...»
Евгений поднял голову, подумал: «Где они, эти отборные корабли и воины, составляющие цвет и силу войска?!» Стал читать далее:
«Кроме того, полезно, чтобы твой флот всегда стоял со стороны свободного глубокого моря, а флот неприятельский был прижат к берегу, так как те, которые оттеснены к берегу, теряют возможность стремительного нападения».
«Возможность стремительного нападения... А если всё же миопарону перехватят с берега? Допустим, не сразу, а потом. Какой же выход? — этот мучительный вопрос снова стал волновать Октавиана: душа не успокаивалась... И вдруг Евгения осенило, и он чуть не вскрикнул от радости: — Есть выход!.. Надо отправить Гонорию к отцу, в Рим... Может быть, сделать это незамедлительно. Нанять повозку с лошадьми. Но не доедут беглецы. Когда их хватятся, все дороги, выходящие из Равенны, будут перекрыты... А если Гонорию отправить с Кальвисием? Согласится ли он?» В том, что он согласится, Евгений не сомневался... Но он не станет подвергать опасности жизнь отца Рутилия. Достаточно и того, что Октавиан, сажая на корабль молодую Августу, будет подвергать опасности жизнь самого наварха... Значит, Евгений сделает так: завтра на исходе ночи, пока все спят, он вывезет из Равенны возлюбленную со слугой и служанкой, к утреннему времени они уже приедут к стоянке кораблей. Проберутся на миопарону. В порту знают, что судну Рутилия надлежит выйти в море, и задерживать не станут.
Молодую Августу хватятся во дворце только после обеда, когда она не выйдет в столовую, — утром Гонория завтракает у себя. А тогда уже миопарона пройдёт по морю достаточное количество миль, а вечером пристанет к берегу, и под покровом темноты Гонория покинет борт корабля с тем, чтобы потом по малоизвестной дороге, затерянной также в малоизвестной кому прибрежной местности, добраться до Рима. Дело и тут рискованное (на этой дороге могут напасть разбойники), но зато есть хоть какая-то уверенность в том, что молодая Августа, Джамна и Радогаст благополучно доберутся до дома Клавдия. А Евгений подробно расскажет, как найти этот дом в Риме, где они обретут приют, тепло и защиту.
Лошадей и крытую повозку купят, возницей станет скиф, парень он не пробах, к тому же силач.
«Я дам ему акинак, пусть спрячет в одеждах. Джамна — смышлёная храбрая девушка, — улыбнулся Евгений, вспомнив, что хороша она и на любовном ложе... — Если улыбаюсь, значит, не так уж плохо», — подумал весело.
Во дворце тоже прошло всё гладко. Стражники, зная о дружбе препозита и молодой Августы, ничего не заподозрили, увидев их вместе, выходящими из дворца. Не обратили внимания и на то, когда они садились в повозку.
В порт прибыли утром, на набережной их уже поджидал Рутилий, заранее извещённый обо всём одним из слуг Евгения. С корабля на берег были давно поданы сходни, капитан приказал морякам не выходить на палубу, чтобы кто ненароком не узнал Гонорию; по сходням она и Джамна быстро поднялись на борт, и Рутилий отвёл их в специально приготовленную каюту. Там они затаились.
Радогаст помог разгрузить повозку и занести на корабль вещи. Рутилий вернулся на набережную, где ещё стоял Евгений.
— Ну, брат, заварил ты кашу...
— Не я, дорогой Рутилий, а сама Гонория... Ты знаешь её дерзкий характер.
— Кашу-то, если что, вместе будем расхлёбывать. — Рутилий только сейчас обнял своего друга и поздоровался с ним.
— Отец твой сказал, чтобы ты помогал мне во всём.
— Как он себя чувствует?
— Выглядит отлично, едет к моему отцу на шестидесятилетие.
— И повезёт с собой кучу служанок для увеселения... Когда мама скончалась, веришь, Евгений, целый год он не притрагивался ни к одной женщине, а потом, будто с цепи сорвался...
— Пусть их!.. По крайней мере, о добродетели речи они не ведут и задницей не крутят[27]... Мой отец, кстати, после смерти мамы тоже прилепился к молодой служанке. Я видел её, слава Бору, она хорошая женщина.
— Нам ли осуждать или хвалить отцов... Ты в пример перефразировал строку из «Сатир» Ювенала, а я вспомнил строчки из «Сатирикона» Петрония:
Кто же не знает любви и не знает восторгов Венеры?
Кто воспретит согревать в тёплой постели тела?
Посмеявшись, они взошли на корабль, а следом за ними моряки убрали сходни.
На мачте взвился вымпел; вначале нижние вёсла, окрашенные в красную краску, ударами по воде отвели чёрную миопарону от берега и поставили её чуть боком, при этом нарисованные краской глаза на носу как бы слегка скосились. Потом заработал другой ряд вёсел — миопарона крутнулась на месте и встала кормой к набережной.
Через какое-то время судно подняло паруса и поймало в них ветер.
Рутилий пригласил в свою каюту друга.
— Пусть женщины отдыхают... А ты, Евгений, здорово рисковал, посылая ко мне слугу с посланием... Но да лад но. Что дальше делать будем?
И снова этот вопрос, который не выходил из головы Евгения.
— Вот и давай ещё потолкуем... А что касается моего слуги, то скорее он бы умер, нежели позволил отобрать у него послание к тебе.
— Нашли бы у мёртвого.
— Я наказал при возникновении опасности изжевать и проглотить.
— Ты прав, когда писал, что на судне везти Гонорию до самой базы мизенского флота опасно, и я опять согласен с тем, чтобы высадить её где-нибудь на полпути. Лучше это сделать в Анконе... Во дворце хватятся и пошлют погоню в двух направлениях — по Фламиниевой дороге, которая ведёт из Равенны в Рим, и по морскому берегу, не без основания полагая, что ты увёз молодую Августу на моём корабле... Но всадник, какая бы резвая лошадь под ним ни была, раньше нас в порту Анконы не окажется. И Гонория до особой проверки успеет покинуть судно. К тому же у неё будет возможность затеряться среди поклонников богини Изиды. Да и потом, купив лошадей и крытую повозку, не так опасно вместе с повозками почитателей этой богини добираться до Рима, так как и из столицы приезжают сюда, ибо там храм Изиды давно разрушен... В Анкону мы прибудет поздно вечером. Повезло нам с попутным ветром. Вот таков мой план, Евгений.
— Блестящий план, брат! — воскликнул Октавиан. — Теперь мне не терпится поделиться им с Гонорией. Думаю, что она не спит...
Треволнения прошедшей ночи не позволили Гонории даже вздремнуть; она лежала с открытыми глазами, зато рядом Джамна спала как убитая.
Евгений, зашедши в каюту к ним, поцеловал возлюбленную, разбудил Джамну. Вошёл в каюту и ант Радогаст, которому препозит велел тоже поприсутствовать. Вчетвером они обсудили план, предложенный Рутилием, и нашли его годным к исполнению.
Ант очень обрадовался, когда ему Евгений подарил византийский меч акинак: ведь Радогаст снова, как воин, оказался при оружии. Но всё же сказал:
— Я на лук со стрелами больше надеюсь...
На судне нашли и лук с тетивой из лошадиных волос, и колчан со стрелами. Ант заметил, что у него на родине, в низовьях Днепра-Славутича, или Борисфена, как называют эту реку греки, тетиву для лука обычно делают из сухих бычьих кишок... Спросили у него, не выделить ли ему в помощь ещё одного человека. Радогаст выпрямился во весь рост, тряхнув русыми волосами, ответил:
— Справлюсь сам! — и погладил дугу лука, сделанную из крепкого дерева.
Столько смелости и отваги было у анта во взгляде, такой мужественностью и решимостью веяло от его сильной фигуры, что никто не возразил ему. К тому же чем больше людей станет сопровождать госпожу, тем подозрительнее...
— Хорошо... Но запомни, а лучше я скажу так, пусть и покажусь грубым: заруби, Радогаст, себе на носу — сторонитесь больших дорог, особенно Фламиниеву... А окажетесь на берегу Тибра, не вздумайте продать повозку и лошадей, чтобы сесть на барку и плыть по реке... Хотя это было бы удобнее, но на пристани в Риме вас могут выследить... — напутствовал Евгений.
В Анкону прибыли благополучно, ошвартовались, и вскоре под покровом густой темноты Гонория, Джамна, снабжённые деньгами, и Радогаст с кожаным мешком за спиной, в который спрятали ещё и лук (акинак у анта незаметно висел под одеждами), сошли на берег.
Глядя им вслед до тех пор, пока они, сойдя с набережной, совсем не растворились во мраке ночи, Евгений почувствовал на щеке слезу: он ещё раз убедился в своей сильной любви к молодой Августе; в этот момент очень жалел, что на месте Радогаста не оказался сам...
Миопарона, отойдя от берега, снова взяла курс на юг; хотя Рутилий к Евгению питал братские чувства и ради него, как мы видели, готов был пойти на всё, но он всё же с облечением вздохнул, когда корабль покинула Гонория... Рутилий понимал, что радоваться этому кощунственно, но он как капитан отвечал и за команду, которой в случае разоблачения не поздоровилось бы, хотя она почти вся осталась в неведении происшедшего. Знати об этом лишь кормчий, рулевой и два матроса, подающих сходни. Но они поклялись молчать обо всём до своего смертного часа. Евгению для этого тоже пришлось раскошелиться.
Сердце Рутилия предчувствовало, что корабль непременно должны проверить, и рано утром, когда подул южный ветер австр, при котором наглухо закрывались двери в корабельную кухню, потому что он вредил пище, вперёдсмотрящий, находившийся наверху, в «вороньем гнезде» — мачтовой корзине, закричал:
— По правому борту — судно! Различаю корабль береговой охраны. Сигналит, чтобы сушили вёсла.
Так как встречный ветер не давал возможности поднять паруса, то миопарона шла на вёслах. А «сушить вёсла» — значит вынуть лопасти из воды, то есть скорость снизить до нуля.
Евгений и Рутилий подошли к борту.
— Что мы предполагали, то и случилось... — сказал капитан.
Такой же, как миопарона, быстроходный и маневренный корабль, называемый скафом, приблизился. Передали, чтобы с миопароны выбросили верёвочную лестницу. Старший и с ним четыре матроса вскарабкались по ней на борт, показали распоряжение начальника охраны о проверке. Не найдя никого из посторонних, спустились с лестницы и вскоре оказались на своём корабле. Увидев на лице Евгения волнение, Рутилий пошутил:
— Думаю, брат, что много дал бы тому, кто превратил бы тебя сейчас в одного из летающих Зевсовых слуг[28], чтобы сверху видеть, как станет добираться до Рима твоя возлюбленная.
— Ты угадал, мой верный друг, — не стал скрывать свои чувства Октавиан.
* * *
Гонория ещё в каюте миопароны переоделась в платье госпожи среднего достатка, а Джамна убрала с её головы башню, какую носили женщины очень богатых патрицианских семей; на лбу и по бокам уложила длинные волосы молодой Августы валиком, а сзади собрала их в тугой узел.
Радогаст быстро в центре Анконы рядом с храмом Изиды отыскал гостиницу; не без труда они втроём устроились в ней, так как она была заполнена паломниками. Правда, многие из них спали на улице в своих крытых повозках.
Нашёл расторопный ант и еду — жареную цесарку, холодную, но с жадностью набросились и на такую. Запивая фалернским терпким вином, Радогаст пошутил:
— Курица вдвойне по вкусу нашей нумидийке[29].
— Почему вдвойне? — не согласилась Гонория. — Не забывай, Радогаст, что наша Джамна нумидийка наполовину...
— Есть больше нечего, госпожа. Ложитесь спать. У нас на родине говорят: «Утро вечера мудренее».
Гонория и Джамна легли вместе на одном ложе; ант, бросив тюфяк на пол, устроился у самых дверей комнаты, положив в изголовье акинак.
Утром, добыв для женщин завтрак, ушёл покупать, взяв деньги у молодой Августы, лошадей и повозку, наказав им из комнаты до его прихода не выходить.
Радогаст, когда ему исполнилось пятнадцать лет, попал вместе с отцом в плен к готам: отца продали в рабство в греческом Херсонесе, а их, молодых, привезли в Кафу и там погрузили на римский корабль. Так молодой ант оказался в Равенне, за красоту, силу и сообразительность его взяли во дворец, и он стал прислуживать Гонории. За прошедшие пять лет научился не только говорить, но и писать по-латински. Конечно, скучает но родным местам, но преданно служит госпоже. И, надо сказать, любит её; если будет нужно, не задумываясь положит за неё свою голову...
Радогаст, оказавшись возле храма Изиды, был оглушён громкой речью собравшихся здесь, несмотря на очень ранний час, ромеев, греков, евреев, африканцев и даже славян, приехавших сюда с другого берега Адриатики. Место перед храмом служило и торжищем: продавали конскую сбрую, буйвол иную кожу, мёд, вино, в урнах — белый перец, чёрную соль[30], пшеницу; на длинных лавках лежали устрицы, рыба: щука, осётр, скар[31], но в большинстве своём — камбала, называемая здесь ромбом.
Анту недосуг было рассматривать другие торговые ряды, наполненные всякой всячиной; минуя их, натолкнулся на воткнутое в землю копьё — знак публичного торга рабами, но пока место пустовало. Зато чуть в стороне Радогаст нашёл то, что искал, — лошадей. Он с детства хорошо разбирался в них: для антов лошади являлись любимыми животными — на них пахали землю и сеяли хлеб, возили на топку дрова и сено на корм скоту, с помощью лошадей корчевали под пашню лес и месили глину для изготовления самана, из которого клали дома, а в сёдлах защищали свои родные селения и рубились в битвах с врагами.
Радогаст выбрал двух самых лучших, на его взгляд, лошадей, купил четырёхколёсную, как у галлов, повозку с верхом, сплетённым из ивовых прутьев, полотняной только спереди занавесью и сиденьем также спереди, висящим на крепких ремнях, провизию на дорогу и корм животным. Запряг их и лихо подкатил к гостинице. Затем усадил женщин и выехал из Анконы.
Уже спускались в череде других повозок под горку, когда гелиос поднялся из-за восточных холмов, как бронзовый, пущенный рукой дискобола диск, но который упадёт за горизонт лишь к вечеру, совершив свой полёт по небесному кругу.
Джамна откинула занавесь.
— Госпожа приказала оставить открытой, будем обозревать окрестности... Да и ты с нами можешь перекинуться словцом...
Радогаст улыбнулся и чуть левее от дороги увидел странную процессию: шли с громким пением, ударяя в систры, обритой макушкой в белых тогах мужчины. Двое из них впереди несли огромную живописную картину. Подъехав поближе, ант уже смог разобрать, что на ней нарисовано. А нарисовано было тонущее судно в бушующем море и усталые, лежащие в разных позах на берегу моряки.
Встретив удивлённый взгляд слуги, молодая Августа охотно пояснила:
— Это идут в храм Изиды поклониться богине, покровительнице мореплавателей, спасшиеся после кораблекрушения люди. Они обязательно бреют макушки и нанимают художника, который с их слов рисует картину их спасения. Каргину они поставят в храме к ногам статуи, изображавшую Белую Ио, как называют Изиду греки, принесут ей жертвы, а сами останутся в храме на девять дней, чтобы поклоняться спасительнице и назначать там любовные свидания.
— Можно подумать, что в Анконе живут одни только язычники, — подала голос молчавшая до сих пор Джамна.
О чём она думала?.. Может быть, о своей судьбе?.. Этим морякам, спасшимся после бури, есть чему радоваться: они поют, бьют в систры, их ожидают дни, полные женских ласк и наслаждений. А что ожидает её, бедную сироту, полунумидийку, полуеврейку?.. Страх и, скорее всего, смерть?.. Да, она тоже любит свою госпожу не меньше, чем этот красивый ант... Только сейчас девушка обратила на него внимание, раньше она смотрела на этого раба как на пустое место. А сейчас Радогаст проявлял совсем не рабские навыки, а умение свободно держаться, распоряжаться, быть хозяином своего и их положения. Он уверен в себе, не глуп, рассудителен, не зря Евгений выбрал его как мужчину в сопровождающие Гонории. А что делает Антоний?.. Джамна дала бы многое, чтобы увидеть во гневе евнуха, которого так ловко провели... Провели и Галлу Плацидию. Но оба они умеют мстить...
Поделилась мыслями с молодой Августой. Та лишь ответила:
— Радогаст правильно сказал: «Утро вечера мудренее...» Не будем гадать, милая... Что было — увидели, что будет — увидим...
По мере продвижения на запад, к Риму, Джамна заметила, что всё больше и больше стали попадаться христианские базилики с крестами на золочёных куполах крещален, блистающих ярко, как и само гелиос-солнце.
Поздно вечером вместе с другими Радогаст остановил лошадей у ручья, выпряг их, задал корм, поужинали сами и заночевали. Отдохнув, рано утром снова выкатили на дорогу, а ближе к обеду им предстояло пережить настоящий страх.
Акинак Радогаст держал при себе, лук он положил под сиденье, чтобы в случае надобности быстро выхватить его и колчан со стрелами. Ант уже привычно правил лошадьми, Гонория и Джамна подрёмывали; вдруг впереди Радогаст заметил какое-то движение — повозки подались правее к обочине дороги, и вскоре из-за холма вынырнули навстречу вооружённые всадники. «Стражники! — пронеслось в голове у анта, и он непроизвольно схватился свободной рукой за рукоять короткого меча, спрятанного под паллием[32].
Вот уже первый всадник (по золочёному шлему и богатой конской сбруе видно было, что это начальник) почти поравнялся с их повозкой, и тогда Гонория с облегчением вздохнула, узнав в начальнике не командира стражи, а декуриона турмы — конного воинского подразделения, состоящего из сорока верховых.
Оставив после себя густое облако пыли, они ускакали в сторону Анконы.
Через два дня повозка перевалила скалистые Апеннины, и на этой стороне гор беглецы оказались будто в самой середине лета, хотя ещё только наступала весна: солнце грело так, что если бы верх повозки был полотняным, то Гонория и Джамна задохнулись бы от духоты, а плетёнка из ивовых прутьев пропускала воздух и не накалялась от жары... Кстати, эти повозки употреблялись не только у галлов, но и у восточных славян — поэтому Радогаст и выбрал такую...
Дорога вдруг сделала резкий поворот, проехали ещё две-три мили и очутились на самом берегу Тибра; берег оказался крутой, поросший деревьями с редкими кронами, в промежутки которых можно было узреть снующие по воде рыбацкие челны и степенно плывущие под равномерными ударам вёсел барки, перевозящие строительные песок и глину, уголь, бочки с солониной, зерно.
Через какое-то время повозки обогнали пассажирское судно — та же барка, на которой раньше возили пшеницу, но теперь переоборудованное и годное на то, чтобы на нём плавали люди. Высыпав на палубу внушительных размеров, они, смеясь, махали руками вослед повозкам. Не выдержала Джамна, тоже в ответ помахала шарфиком из китайского шёлка, но Радогаст, полуобернувшись, сказал:
— Джамна, больше не делай этого... Не привлекай к нам внимание.
Девушка поджала пухлые губы, обиделась, но, поразмыслив, решила: «Он прав». Гонория, наблюдавшая за ней, незаметно улыбнулась. За время езды, постоянно находясь рядом, между ними установились иные отношения, нежели как между госпожой и рабыней, они сейчас напоминали отношения двух хороших подруг, а скорее даже сестёр; ант видел и радовался... Видимо, то была радость пленного, обнаружившего, что попал к господину, который относится к рабам не как к «говорящим вещам», да и раньше Радогаст испытывал к девушке особое чувство и был доволен, что Джамна находилась на особом положении, но всё же господа не забывали, что она — рабыня, как и раб он сам... А за эти дни, проведённые в пути, многое изменилось. Радогаст чувствовал это по разговору с молодой Августой и по её взгляду: теперь она обращалась к нему как к равному ей; даже больше того, ибо видела в нём свою защиту, надеясь на него и доверяя ему... А он всё делал для того, чтобы эти надежда и доверие крепли, и не только в глазах госпожи, но и Джамны тоже.
Но как бы то ни было, а встреча с турмой напугало его, и его состояние заметили женщины; за этот мимолётный страх он ругал себя, прошедшие без всяких приключений и не грозившие им ничем дни и ночи расслабили его, поэтому он и не готов был к такой встрече, поэтому и испугался... Теперь он будет всегда начеку, теперь уж его нельзя будет застать врасплох.
Радогаст хотел об этом сказать женщинам, но передумал — какой он тогда мужчина, если начнёт оправдываться и в чём-то их заверять?! Как надо при возникновении настоящей опасности себя вести, он им лучше покажет на деле. Но было бы лучше, чтобы она не возникала.
Встретилась им и ещё одна процессия, но не весёлая, как раньше, а скорбная. Вели закованных в цепи беглых рабов, клеймённых на лбу и щеках первой латинской буквой слова «беглый»; им из жалости стали бросать из повозок куски хлеба; те, кто, гремя цепями на руках и ногах, успевал схватить, жадно, давясь, поедали. Куски, что падали на землю, некоторые рабы хотели поднять, но получали по голой спине и плечам сильные удары бичом надсмотрщика.
Джамна выразительно посмотрела на Гонорию, та отвернулась... Хотя минуту назад они хорошо понимали друг друга. Всё-таки преграда и отчуждение между рабыней и госпожой, рабом и хозяином будет существовать всегда, пока есть и будет рабство...
Джамна подумала, что христианский Бог учит воспринимать всех как братьев и сестёр, он говорит — люди равны на этой земле, ибо одинаково сотворены Им по своему подобию. А почему тогда процветает рабство?.. Кажется, впервые девушка задала себе этот вопрос... И ужаснулась. И выразительно посмотрела на каменный крест у придорожной часовни...
Кстати, в заслугу римского права нужно поставить то, что римляне были терпимы в религиозном плане, и рабы, которые являлись выходцами из разных стран, могли сохранять свои верования. Так что Джамна, не будь она, как и её госпожа, арианкой, могла бы по-прежнему поклоняться своему Митре.
За часовней начались поля, даже человеку городскому бросалась в глаза их неухоженность; сейчас наступила пора весенних работ, но не виднелось ни одного сельского труженика. Это приметил не только ант, выросший в деревне, но и молодая Августа. По рассказам придворных она знала, в каком запустении пребывали пахотные земли, но теперь ей пришлось увидеть это самой.
А вчера на ночлеге она слышала разговор двух колонов[33], возвращающихся из Анконы в своё селение, о том, как их соседи благодаря воинам, размещённым у них на постой, чинят произвол и насилие: они захватывают чужие участки земли, вырубают деревья, уводят скот, режут его и поедают. Хозяева, видя это, льют слёзы, а те насмехаются, не боятся того, что кто-либо узнает об учинённом разбое, и даже угрожают захватить остальное. И всё потому, что они содержат у себя воинов, да ещё и платят им, так как само государство уже не в силах содержать армию...
Гонория, заинтересованная этим разговором, спросила у того, кто постарше:
— Чем объяснить повсеместное на селе запустение и упадок?
— Дело в том, что издаваемые законы сейчас ничего не значат... — ответил старик колон. — Это и превращает земледельцев в разбойников, влагает им в руки железо не для обработки земли, а для убийства и делает их непокорными властям.
И далее крестьянин поведал, как происходит у них на селе сбор податей... Когда являются люди, коим вменено в обязанность собирать подати, то они требуют их спокойно и тихо, но встречают презрение и насмешки. Тогда сборщики с раздражением повышают голос, затем они изрекают угрозы в адрес сельских властей, но бесполезно. Наконец, они хватают их и тащат за собой, но те сопротивляются и пускают в ход камни. И вот сборщики возвращаются в город с ранами вместо податей, и кровь на плащах их говорит о том, чему они подверглись. Несчастные сборщики узнают, что если они подати не доставят, то, сами подвергнутся бичеванию. Тогда они, не имея нужного количества золота и серебра, со слезами продают своих рабынь и рабов, которые тщетно обнимают колени продающего их хозяина. Затем сборщики приезжают в свои поместья с целью продать их, и с ними приезжают покупатели. И цена за землю идёт на уплату податей. Затем наступает для сборщиков забота о пропитании себя, жены, детей, и наконец, когда нет уже более никаких возможностей, они вынуждены просить милостыню. Так, сенатор (член городского совета) вычёркивается из списков по причине отсутствия имущества. Вот почему тают городские советы, вот что является бедствием для городов, а вред, причиняемый городам, пагубно отражается и на военных силах.
— Где же такие люди ищут защиту? — снова спросила Гонория.
— Я знаю одного сборщика, который, разорившись, ушёл в монахи-отшельники, — начал снова отвечать старик. — Живёт в пещере, и ранее, кто не платил ему подати, ругал его и унижал, теперь приходят к нему за словами утешения... Этих самых христианских отшельников развелось в наших краях много. И народ с благоговением к ним относится.
Раньше римское общество строилось на подчинении личного начала общественному, гражданина — государству... Сейчас всё наоборот: рвут государство в своих личных интересах на части. Теперь высочайшим идеалом человека в народном представлении, думала Гонория, стал отшельник, полный презрения ко всему земному и погруженный в религиозное созерцание; стали такими идеалами банкир и торговец (коммерсант, от латинского слова — commercium). Эти идеалы пришли на смену древнему идеалу самозабвенного героя-патриота, готового пожертвовать жизнью на благо своей родины.
V
К человеку, умирающему в одиночестве в степи, горах или лесу, обязательно прилетят или прибегут хищники: будь то грифы или шакалы... Они могут появиться со всех сторон света: с запада, востока, севера и юга.
Сядут рядом и будут наблюдать за предсмертной агонией, чтобы потом пожрать труп.
Великая Римская империя агонизировала долго и медленно, пока с севера не пришли к её умирающему телу готы, с юга — вандалы, с востока — гунны. Существует в природе закон, что хищники-стервятники чуют на расстоянии не только сам распад, но и его зарождение... Ведь великие просторы Прибалтики, южного Прибайкалья и Урала так далеко находились от Рима, что казалось, пройдёт не одно тысячелетие, прежде чем они (готы, гунны, вандалы и римляне) хоть что-то узнают друг о друге. А прошло два столетия, и как только появились первые признаки гниения могущественной империи, то дикие полчища ринулись многочисленной ордой на запад, сметая всё на своём пути, устремляясь к бедному Риму, погрязшему в разврате и коррупции. Последнее слово тоже латинского происхождения, оно, означающее подкуп и порчу, уже было известно с тех пор, как родился из греческою латинский язык, а затем это слово с успехом перекочевало и в русский. Ибо под коррупцией мы понимаем ещё и распад, разложение умирающего тела, собственно то, что наблюдается сегодня в России.
И ещё одна закономерность существует в природе — зарождение распада и гниения происходит на стыке смены богов: в Римской империи — это время смены язычества на христианство, а в России — когда веру Христа заменил атеизм. Ибо отрицание всех религий тоже религия. К слову сказать, в России безбожники, придя в начале XX века к власти, устроили кровавую гражданскую войну, когда, ненавидя православный народ, они натравливали брата на брата, сына на отца, и потом эти же безбожники мучили и разоряли россиян весь век двадцатый.
А нашествие варваров и гуннов, как осенние листья, поднятые ветром, вначале шелестом отозвалось в сумрачных покоях королевских домов. Затем прозвучало звоном монет, падающих на мраморный пол... И вскоре грохнуло каменным обвалом, что повлекло за собой так называемое Великое переселение народов (в их числе — славянские племена венедов и склавенов), которое привело в конечном итоге Рим к гибели...
Размышляя на эту тему, можно прийти к, может быть, спорному, но весьма любопытному выводу — недоброе, а точнее, настороженное и недоверчивое отношение к нам Европы есть следствие не только экономических условий, а и той «кровной» обиды, возникшей очень давно, ещё в конце IV — в начале V веков, когда мы не только не защитили её (Европу), как это произошло во время нашествия Батыя, но более того, вместе с дикими племенами, пришедши ми из-за Рифейских гор[34], приняли участие в разрушении западных цивилизаций.
В сознании европейского обывателя, в его потомственных генах славяне так и остались такими же варварами и гуннами, предводители которых были куда могущественнее и грознее, чем Батый; готские писатели происхождение, например, гуннов на полном серьёзе объясняли рождением их от ведьм, вступивших в брак с нечистыми духами...
«Они (гунны), — далее рассказывали готские писатели, — когда родятся у них дети мужского пола, то взрезывают им щёки, чтобы уничтожить всякий зародыш волоса. Однако, у всех у них коренастый стан, шея толстая, члены сильные, голова большая. Скорее это двуногие животные, а не люди, или каменные столбы, грубо вытесанные в образе человека; на своих лошадях, нескладных, но крепких, они точно прикованы и справляют на них всякого рода дела. Начиная битву, они (гунны) разделяются на отряды и, поднимая ужасный крик, бросаются на врага. Рассыпавшись или соединившись, они нападают и отступают с быстротой молнии.
Но вот что особенно делает их наистрашнейшими воинами на свете, это, во-первых, их меткие удары стрелами хотя бы и на далёком расстоянии, а во-вторых, когда в схватке один на один дерутся мечами, они с необыкновенной ловкостью в одно мгновение накидывают на противника ремень и тем лишают его всякого движения...»
Продвигаясь от Уральских гор, гунны натолкнулись на так называемые Змиевы валы, которыми росоманы, живущие по берегам реки Рось, впадающую в Днепр-Славутич, отгородили свои границы, протяжённостью 670 римских миль[35].
Несколько раз враги пытались взять валы приступом, но так и не смогли это сделать и, наконец оставив их в покое, ринулись дальше на запад, прихватив с собой с нижнего течения Вара (так гунны назвали Днепр) славянские племена склавенов, а с северных склонов Карпат — венедов, и достигли реки Прут. Здесь сидел храбрый готский король Винитар, из рода Амалов, по прозванию Витязь, или Воитель венедов (Wind-havi). После гибели Германариха он яростно защищал готскую независимость от других славянских племён — антов.
Предводитель гуннов Ругилас знал о суровом нраве Винитара: рассказывали, как готский король в одной из вылазок захватил вождя антов Божа и, чтобы навести ужас на врагов, распял его вместе с сыновьями и семьюдесятью старейшинами на крестах.
Ругилас был не робкого десятка — он смело напал на Винитара, но готский король устроил такую ужасную резню в войске гуннов, которую невозможно вообразить... Гунны напали во второй раз, и в другой раз Винитар выиграл битву.
В третий раз готы и гунны сошлись возле реки Прут. Меткая стрела Ругиласа сразила короля готов, витязя Винитара. Победив, царь гуннов взял в жёны молоденькую племянницу Винитара Валадамарку, которая потом досталась после смерти Ругиласа Бледе, одному из двух племянников. Другого звали Аттила...
Пока ехала, качаясь в повозке, молодая Августа, беглянка из Равенны, к отцу своего возлюбленного в Рим, она и знать не знала, кто такой Аттила, но придёт время (через 14 лет!), и оно так закрутит Гонорию и будущего грозного повелителя гуннов в водовороте исторических событий, что их имена на протяжении нескольких лет будут восприниматься как одно целое.
* * *
У каждого римлянина в доме находился сундук, в котором хранился запас грецких орехов. Детям они служили вместо игрушек, но шло время, дети становились подростками, и наступала пора жениться им или выходить замуж[36]. Вот тогда они выходили на улицу и раздавали орехи всем желающим: взрослые лакомились ими особенно охотно, так как, по поверью, грецкие орехи сохраняли уходящую молодость...
Ореховые деревья сажали сами, за ними ухаживали, собирали урожай, но по всей Италии в те времена росли целые рощи диких, и крона этих деревьев была настолько густа, что только сильный ливень способен её пробить.
Такой ливень и ударил, ибо все эти дни небо оставалось ясным, но солнце палило нещадно, испаряло с земли воду: на небе собрались наконец-то тёмные тучи, и они пролились...
Сидящего на козлах Радогаста словно выкупали в реке, ни одной сухой нитки не оказалось в его одежде; через плетёнку верха повозки вскоре протекло. Тут слева от дороги увиделась дикая роща ореховых деревьев. Недолго думая, ант свернул в неё, меньшая часть повозок последовала за ним, а большая в другую рощу — буковую.
Пока заехали, пока выбрали нужное дерево, ибо под кроной не просто было разместиться, так как она низко над землёй начиналась, прошло немало времени: сгустилась темнота, и Гонория, Джамна и Радогаст решили переночевать здесь.
Ореховые деревья стоят редко — шагов на тридцать одно от другого. Но между ними нет пустого места — произрастают яблони, сливы, боярышник, шиповник, ежевика; их ветви хорошо задерживают ветер — здесь хорошо устраивать ночлег ещё и потому, что вокруг орехового дерева нет ни одного грубого сорняка, так как падающие с дерева листья выделяют вещество, называемое по-латински «югланс», которое и переводится как «орех», уничтожающее всякие вредные растения.
Сам по себе орех высок и не уступает иной раз по высоте лучшей сосне, но ствол его не имеет сосновой стройности, — наоборот, может внезапно утолщаться, будто перевязанный тугим узлом.
Утром выехали, но заблудились в густых зарослях, попали, оказавшись одни, в какую-то длинную лощину, и здесь на них напали разбойники.
Тогда водилось их повсюду премножество, и ряды грабителей и губителей душ человеческих постоянно пополняли разорившиеся колоны, те же «прогоревшие» сборщики податей, беглые рабы, другие же, настроенные романтически, множили корабельные команды морских пиратов — эти другие состояли в основном из писателей, поэтов и философов, ставших вдруг ненужными властям и изгнанных ими из городов.
Радогаст на краю лощины увидел вначале высунутую из-за ствола дерева руку с коротким мечом, будто кто погрозил, а затем всего разбойника. Он крикнул анту, чтобы остановился. Лощина была длинной, глубокой, она скорее походила на яруг — овраг или большую промоину, с пологими склонами, густо поросшими маквисом[37].
Радогаст и ещё узрел стоящих впереди по краям лощины трёх вооружённых мечами; эти трое не прятались, не опасаясь никого и ничего.
«Развернуть лошадей нельзя... Внизу слишком узко. Остаётся одно — разогнать повозку, проломиться через суеты и — вперёд!» — лихорадочно заработала мысль у анта. — А если у них луки?! Но хорошо уже то, что разбойники пешие и, кажется, не так их и много. Вон ещё один показался... Неужели только пятеро?! Остановлюсь и подожду...»
Радогаст натянул вожжи. Джамна и Гонория, видимо, тоже увидели разбойников, потому как притихли. Ант крикнул им, чтобы они легли на самое дно повозки.
Трое, стоявшие кучкой, рассредоточились. Теперь они находились шагах в двадцати друг от друга.
«Я их по очереди снимать буду... Хорошо, что не зачехлил утром лук, а стрелы лежат рядышком». Радогаст выхватил лук, послал стрелу, — разбойник, что был ближе к повозке, взмахнув руками, упал. Ант следом послал другую, сразив и ещё одного... Третий, подпрыгивая, побежал, но не успел он сделать нескольких прыжков, как стрела точно впилась ему в шею. Оставшиеся два разбойника заорали и, не сговариваясь, подняв кверху мечи, ринулись вниз, проламываясь через кусты маквиса. Разбойники должны были обязательно сблизиться с возницей, который стрелял из лука как отменный воин, бежать от него они не могли — их бы тоже настигли меткие стрелы: надо сблизиться с ним и вынудить его сразиться на мечах.
Радогаст выхватил акинак, подаренный ему Евгением, и спрыгнул на землю. Его счастье, что это были не воины-профессионалы, коих бы ему не одолеть ни за что; ант, извернувшись, рубанул по голове одного, не очень расторопного, или бывшего колона, или раба, — тот с раскроенным черепом упал возле колеса, да ещё сильно ударился о бортовые доски повозки.
Джамна не вытерпела и подняла голову, но поняла, что после того, как ант покинул сиденье, нужно срочно занять его, иначе перепуганные лошади могут понести. Она пересела и взяла в руки вожжи.
А тем временем ант и огромного роста разбойник сошлись в поединке. Как ни у одного, так и у другого не было щитов, то приходилось отражать удары и наносить их только оружием. Радогаст умело наступал, будто вою жизнь тем и занимался, что участвовал в сражениях или гладиаторских боях...
Но и верзила не уступал анту, он зорко следил за каждым движением противника, стараясь предугадать все его хитрости. Более того, разбойник решил от обороны перейти в наступление — сделал выпад, но Радогаст с быстротой молнии ушёл всем телом влево и кончиком лезвия акинака полоснул по плечу верзилы, — тот взревел от боли, как бык, которого на скотном дворе ударили в лоб колуном.
Джамна, засмотревшись на бой, ослабила вожжи, расслабилась и сама, — лошади, вконец испуганные страшным криком, дёрнули вбок: рабыня слетела с козел, а животные как сумасшедшие рванули повозку, в которой сидела ни жива ни мертва Гонория, и вынеслись наверх, на край лощины. Далее, гремя колёсами, повозка скрылась.
Джамна, преодолевая боль в руке, встала и побежала; миновав кустарники, она нашла только одну, запутанную в привязных к дышлу ремнях лошадь, другая, порвав их, убежала. Джамна бросилась к повозке, которая лежала чуть на боку, уткнувшись передком в землю, так как колесо сломалось, натолкнувшись на дерево. Слава Богу, Гонория не ушиблась!
Джамна помогла ей выбраться наружу, потом успокоила подрагивающую боками лошадь, велела госпоже подождать здесь и снова спустилась в лощину.
Там она нашла лежащих без движения Радогаста и разбойника. Ант дышал, но на груди у него зияла рана. Из неё лилась кровь, а верзила оказался мёртв. Видимо, в последнем усилии они одновременно сильно ударили друг друга: ант убил противника, а тот его тяжело ранил...
Джамна, как сумела, перевязала раба, чтобы остановить кровь; тот находился в бессознательном состоянии. Девушка поднялась, стёрла со лба пот, оглянулась, оценив обстановку: наверху рядом с поломанной повозкой и одной оставшейся лошадью находится до смерти напуганная и неспособная к действиям госпожа, а на дне лощины лежит тяжелораненый ант... Но ей-то, здравомыслящей, надо что-то предпринимать! Джамна попробовала Радогаста потащить: она взяла за локти, но удалось лишь сдвинуть его с места... Положила снова на землю и вернулась к госпоже. Та, уткнув голову в руки, сидела на траве, ко всему безучастная; единственное, что оставалось рабыне, выйти на дорогу и попросить помощи.
Вскоре на дороге показался странный фургон с огромным чёрным верхом; сбоку бежал такой же чёрный, как верх фургона, привязанный верёвкой козёл; правил лошадьми старик с большой, тоже чёрной бородой. Увидев на обочине дороги чем-то встревоженную чернокожую девушку, остановил фургон. Из него тут же высунулась женщина, и показались два мужских лица.
— Что случилось, отец? — спросила женщина.
— Сейчас узнаю, — ответил старик.
Джамна, сбиваясь, со второго на третье, как могла, объяснила, что произошло, и старик в знак сочувствия покачал головой.
— Взбирайся ко мне, — сказал он Джамне. — Показывай, куда сворачивать...
Двое мужчин из фургона (а это были сын и зять старика) принесли со дна лощины так и не пришедшего в себя Радогаста, выпутали из ремней лошадь, привязали её, как и козла, к фургону, внутрь положили раненого, и старикова дочь, достав с полки какие-то мази, занялась им.
— Она у нас умелица! Сын и зять на потеху площадной публике, изображая гладиаторские бои, иной раз наносят себе серьёзные раны, и она их врачует вмиг. Думаю, дочь, помолясь Афродите, и вашего человека вылечит... Мы бродячие актёры. А вы куда ехали?
— В Рим.
— Ездили в Анкону на поклонение Изиде? — расспрашивал старик.
— Да, — соврала Джамна, так как вела разговор только она — молодая Августа никак ещё не могла оправиться от пережитого. Старик, усмехнувшись, указал на Гонорию: — Пусть твоя госпожа в фургон залезает... А ты, бойкая, садись рядом, всё мне веселее будет...
«Госпожа слышала, что я сказала... Значит, и она, если что, станет говорить, что мы ездили в Анкону поклониться Изиде...» — подумала Джамна и попросила сына старика перенести из повозки вещи. Затем опять легко вспорхнула на козлы, усаживаясь рядом со стариком. Вскоре фургон тронулся. Он, как и их оставленная на краю лощины повозка, тоже наглухо закрыт сзади; сейчас спереди полог был откинут, и Джамна, иногда оглядываясь, видела, как дочь старика возилась с раной Радогаста, а ей помогал муж. Сын старика что-то говорил Гонории, начинавшей, кажется, приходить в себя.
Джамна стала приглядываться к старику. «Для римлянина слишком он череп... Неужели раб, если судить по бороде и по тому, что не носит тоги?![38] Тогда и дети его тоже рабы...» Пригрело солнце, и старик снял головной убор, похожий на колпак.
И тут Джамна улыбнулась — у старика была наголо обрита голова.
«Значит, он стоик, киник, философ[39]... Как Диоген».
Старый мудрец всё понял:
— Думала, что я раб, моя милая...
— Борода, вместо тоги — лацерна[40].
— Да, ты права. Но был рабом, и вот уже тридцать лет, как мне сделали поворот[41]... Так что дети мои родились свободными. Хотя все люди рабы, один мудрец свободен[42]... Но дети мои стали жалкими потешниками, как и их мать, которая умерла. А я им вместо возницы, но, если надо, могу сплясать Циклопа[43]...
Джамна почувствовала, что кто-то тронул её рукой за плечо. Потом рука соскользнула вниз, легла на полуобнажённую правую грудь, рабыня дико вскрикнула, так как увидела, что рука вся густо заросла шерстью...
— А ну, негодница, прыгай обратно в фургон! — приказал старик вылезшей оттуда обезьяне. — Не пугайся, моя милая, — обратился к девушке. — Это наша обезьяна по имени Галла Плацидия... Вместе с козлом она представляет номер: «Императрица Плацидия верхом на своём очередном любовнике». Публика умирает с хохоту и бросает им дешёвые плоды.
Джамна громко рассмеялась, засмеялась и Гонория... Старик недоумённо пожал плечами: «С чего это женщины, не видевшие этот номер, вдруг развеселились?..»
— Сейчас, говорят, у неё новый любовник — смотритель дворца Евгений Октавиан... — продолжил говорить старик.
— Неправда это, — подала голос Гонория.
— Согласен... Я знаю, что его отправили на борьбу с пиратами, а любовники живут при дворе... И ещё говорят, что с ним сбежала и Гонория, дочь Плацидии. Но проверили корабль, на котором плыл препозит, а Гонорию не обнаружили...
Джамна при сих словах не смела даже обернуться и посмотреть на госпожу, чтобы ненароком выдать себя и Гонорию. Поэтому умница-рабыня повернула разговор на другую тему. Спросила старика:
— А ты, как и я, из другой страны будешь?
— Из Греции, моя милая. Продали меня сюда, в Гесперию[44], ещё мальчишкой. Хорошо служил хозяину, получил свободу. Верю в богиню, у которой три имени: Афродита — Урания — Анадиомена... И дети мои тоже верят в неё, зять...
— Значит, как и мы, вы тоже язычники, — снова соврала Джамна и, повысив голос, чтобы хорошо слышала Гонория, сказала: — Моя госпожа владеет в Риме несколькими инсулами...
— Нам приходилось в них жить. Крысы там бегают размером с кошку.
— Только не в моих инсулах, — поддержала игру Джамны Гонория.
— Тише, тише, — предупредила дочь старика. — Мы перевязали раненого, и он уснул... Пойдёт на поправку.
Встретились крестьянские телеги, в которые были впряжены быки; у некоторых на рогах привязано сено.
— Вишь, как бодливых отмечают... Чтоб люди не подходили к ним. Я бы чиновникам, которых нужно опасаться, ко лбу тоже что-нибудь привязывал, чтоб таких обходили. Да разве их стороной обойдёшь?!
Гонории к вечеру показалось душно в фургоне, да во сне стонал Радогаст. Попросилась наружу, и Джамна уступила ей место.
Помолчав, старик сказал:
— По имени я, госпожа, Хармид. Дочь моя Трифена, муж её Полемон, сын Филострат. Он ещё эфеб... — Увидев на лице римлянки удивление, пояснил: — По-эллински значит молодой гражданин от восемнадцати до двадцати лет. Ему девятнадцать.
— А я Дорида, — громко, чтобы тоже слышала Джамна, сказала Гонория. — Рабыню мою зовут Джамной, раба из Скифии[45] — Радогастом.
— Почему, милая моя, ездишь одна, без мужа?
— Нет у меня его... Вернее, был... Мы разошлись.
— О, нравы, нравы! Был, да сплыл... — улыбнулся старик. — А ты, госпожа Дорида, когда-нибудь страстно любила? — спросил Хармид без всяких обиняков.
Но Гонория восприняла этот вопрос как должное.
— Не только любила, но и люблю. У меня есть жених...
— Какой я дурак, моя милая!.. Надо было вначале всмотреться в твои глаза и разглядеть в них «любовные огоньки», можно было бы и не спрашивать.
— Но раз ты спросил, я и ответила...
— Да... И страдала, наверное?
— И страдаю...
— Я ведь тоже страстно любил их мать. — Хармид кивнул на фургон. — И сильно страдал оттого, что возлюбленная, ставшая моей женой, изменяла мне... Дети, конечно, не догадывались об этом.
— А где она сейчас?
— Я похоронил её в Сицилии. Она была родом оттуда.
— Как это печально, Хармид!
— Да, моя милая... Так же, как в элегиях поэта Проперция о своей любви к красавице Кинфии и её измене... Я хоть и грек, а хорошо знаю римских поэтов.
— Но, по словам Апулея, имя возлюбленной Проперция было Гостия...
— Проперций вначале пишет о счастье любить и победу свою над красавицей ставит выше победы принцепса[46] Августа над парфянами...
Эта победа моя мне ценнее парфянской победы,
Вот где трофей, где цари, где колесница моя.
— Да, но не забывай, Хармид, что Август обидел семью Проперция. Он у отца поэта отобрал в пользу ветеранов часть его земли.
— Это ничего не значит, моя милая, ведь стихи Проперция говорят о его страстной любви, а не об отношении к Августу... Хотя далее поэт в своих элегиях осуждает современное ему общество, где царит алчность и отсутствуют честь, права и добрые нравы.
— Ты имеешь в виду эти вот строки:
Ныне же храмы стоят разрушаясь, в покинутых рощах.
Всё, благочестье презрев, только лишь золото чтут.
Золотом изгнана честь, продаётся за золото право.
Золоту служит закон, стыд о законе забыв.
— Ты, моя милая, носишь на своих плечах умную головку.
Гонория громко рассмеялась; к тому же ей нравилось и забавляло обращение к ней чернобородого философа, выраженное в словах «моя милая»...
— Но потом Проперций, избавившись от душевных страданий и боли, вызванных изменой Кинфии, или Гостии, начинает безудержно хвалить Августа, особенно его победу при Акциуме...
— Человек всё же слаб, госпожа... Не забывай, что Сократа казнили, присудив ему самому выпить яд за ту же критику нравов...
— Но Проперций мог же поступить, как Сократ?
— Значит, не мог... Во времена Сократа жили герои, сейчас только золоту служат, «стыд о законе забыв»...
— Наверное, ты прав... — задумчиво промолвила Гонория, вспомнив, что именно так подумала сама после беседы на ночлеге со старым колоном. — Ты молодец, Хармид...
— Если судить по соломе... Может быть, и был молодец...
Я лишь солома теперь, во соломе, однако, и прежний.
Колос легко распознаешь ты; ныне ж я бедный бродяга[47].
Когда устраивалась в фургоне на ночь Гонория, она нечаянно задела ногу раненого, и тот, слегка пошевелившись, произнёс какие то слова. Молодая Августа и Джамна не на шутку испугались: а вдруг Радогаст начнёт бредить и выдаст их и себя?!
Ант снова что-то сказал. Если он и в самом деле бредил, то говорил, слава Богу, на своём языке.
Гонория и Джамна успокоились, да ещё гречанка Трифена сказала:
— Не бойтесь, жара у него нет и не будет. Так хорошо действуют на больного целительные мази...
И впрямь уже на следующий день ант открыл глаза, а ещё через день смог подняться. И стат заметно набирать силы.
Джамна заранее успела шепнуть, как по-новому зовут их госпожу и что она владелица нескольких инсул в Риме и ездила в Анкону на поклонение богине Изиде...
— Понятно, — протянул догадливый раб. — А греки, значит, потешники... Я, грешным делом, любил бывать на форумах и глядеть на них. Забавные люди.
— Ты только со стариком говори поменее... Он человека с первого раза насквозь видит, — предупредила Джамна.
— Да ничего, мы тоже не лыком шиты.
— Как это?
— А так... В Риме сандалии из ремней делают, у меня на родине примерно такую же обувку плетут из лыка, то есть из внутренней части коры липы. Дерево такое растёт у нас — липа... Получается самая простая обувка. Самая простая... А я не прост. Значит, не лыком шит...
Джамна засмеялась:
— Старику при случае об этом скажи. Он любит всякие премудрости... Философ, — с уважением заключила рабыня.
* * *
Обычно римские некрополи располагались вдоль дорог, там «кого пепел зарыт...», как выразился поэт Ювенал. И эти некрополи выглядят скорее произведениями архитектурного искусства. Нельзя было проехать мимо, чтобы не остановиться.
По пути из Анконы беглецы уже однажды пересекали знаменитую Фламиниеву дорогу, но тогда им и в голову бы не пришло рассматривать встретившиеся им гробницы.
Другое дело сейчас, когда на козлах фургона сидел старик философ, ко всему любопытный: он и остановил лошадей и пригласил желающих посетить обиталище мёртвых...
Компанию ему составили Джамна и сын. Радогаст хотел было пойти тоже с ними, но его остановила дочь старика.
Хармид приблизился к небольшому надгробью и прочитал:
Был я законом лишён свободы, мне, юноше, должной.
Смертью безвременной мне вольность навеки дана.
И тут вышел конфуз... Джамна перечитала сама эту эпитафию на смерть раба по имени Нарцисс, который прожил всего двадцать пять лет, и слёзы выступили у неё на глазах: столько печали и трагизма содержалось в этих строках! И так они были созвучны её судьбе, что Джамна не выдержала и заплакала. Обрела свободу, а затем снова потеряла её. Неужели только смерть даст ей, как Нарциссу, вольность навеки?
— Успокойся, моя милая... Успокойся... — гладил рукой старик по её вздрагивающему плечу. — Я вот возьму и скажу твоей госпоже, чтоб дала она тебе свободу... Хочешь?
— Нет, не надо, Хормид... Она сама обещала, — соврала девушка. — Спасибо тебе, добрый человек, ниспосланный нам богами... Век буду о тебе помнить. И о сыне твоём, и дочери, и о муже её!
— Вот что... Вы лучше приходите к нам на представление. С госпожой вместе. И с Радогастом, когда он совсем поправится...
— Непременно придём, — врала далее девушка и верила в то, что сейчас говорила.
— Отец, Джамна! — воскликнул Филострат. — Смотрите, какой усталостью веет от эпитафии другого раба...
Хармид и девушка подошли к другому надгробию. На нём вначале сообщалось, что этот человек, захороненный здесь, благополучно прошёл свой жизненный путь и соорудил себе надгробие при жизни (хотя у древних римлян это было в обычае, так как, по их представлениям, самое страшное несчастье для человека — остаться непогребённым). Далее говорилось:
«Гай Юлий Мигдоний, родом парфянин, рождён свободным, захвачен в плен во взрослом возрасте и привезён на римскую территорию. Когда он благодаря судьбе сделался римским гражданином, то соорудил себе гробницу, имея 50 лет от роду. Я старался пройти весь путь жизни от зрелости до старости; теперь прими меня, камень, охотно; с тобой я буду свободен от забот».
— Видимо, этот раб и был завезён после победы Августа над парфянами, о которой писал Проперций. Мы говорили об этом с твоей госпожой, моя милая... — обратился старик к девушке. — Здесь похоронены рабы и вольноотпущенники. А я видел в Риме настоящие мраморные пирамиды, в которых погребены люди состоятельные. Помню мавзолей Эврисака, булочника... Он по поручению государства выпекал хлеб для раздачи его неимущим римским гражданам. Эврисак гордился своим делом, так как соорудил мавзолей в виде хлебной корзины. А поверху мавзолея был показан весь процесс выпечки: на муллах привозят зерно, перемалывают его в муку, месят тесто, пекут хлеб, и продавец в лавке продаёт или выдаёт его людям.
На уровне ниже середины пирамиды на всех четырёх стенах сделаны надписи, гласящие, что эта гробница принадлежит Марку Вергилию Эврисаку. На одной стене — мраморные горельефы[48] самого булочника и его жены Атиссии, которая умерла раньше своего мужа.
— А вот и ещё надгробье. Прочитаем на нём эпитафию и уйдём, — сказал старик. — Читай, сын, ибо скоро ты тоже должен сделать и мне надгробие...
Филострат громко продекламировал, как умел он это делать на публике:
Кто мы? О чём говорить? Да и жизнь наша что же такое?
С нами вот жил человек, а вот и нет человека.
Камень стоит, и на нём только имя. Следов не осталось.
Что же, не призрак ли жизнь? Выведывать, право, не стоит.
* * *
Как ни боялись Гонория и Джамна Фламиниевой дороги, но фургон за несколько десятков миль до Рима свернул на неё. Не скажешь же старику, почему это для них опасно... Всё же Джамна попросила Хармида спрятать их троих, как будут въезжать в городские ворота; во избежании якобы всяких недоразумений — едут-то они в цирковом фургоне и мало ли что о госпоже могут подумать?! А в вещах, которых полно в фургоне, можно легко зарыться... Слова Джамны старика не совсем убедили, но он согласился провезти всех троих незаметно. «Для своего же блага!» — поразмыслив, решил Хармид.
Стража, увидев цирковой фургон, особенно не была придирчивой; начальник, заглянувший внутрь и узревший обезьяну, которая скорчила ему рожу, зло крикнул старику:
— Проезжай, проезжай!.. Не задерживай!
Наступил вечер, а когда выехали на Священную дорогу — центральную улицу Рима, ведущую с востока к Форуму, где старик решил остановиться и дать там несколько представлений, стало уже темно... Но Джамна и Гонория, заплатив старику и отдав ему ещё лошадь, попросила отвезти их на Капитолийский холм, туда, где стоял дом отца Евгения Октавиана.
VI
Кальвисий Тулл и не думал уезжать из Рима, хотя после юбилея Клавдия Октавиана уже прошло двадцать дней. Себрий Флакк уехал в Равенну сразу же на третий или четвёртый день — он ещё служил, и его ждали дела. А Кальвисий и его римский друг — вольные птицы, да и жён нет, одни любвеобильные служанки. А сыновья воюют.... Пока Кальвисий находится у друга в Риме, он тем самым отвлекается от мыслей о сыне, отвлекает и друга от дум по-своему... Как они там, на море, что с ними?
Сколько ни беспокойся, сколько ни задавай себе дурацких вопросов, этим им не поможешь, не ободришь, хотя оба бывших сенатора верили в силу внушения на расстоянии.
К вечеру, слегка перегруженные вином, они посетили тепидарий[49], а оттуда — комнату для растирания, называемую ункторием.
После того как бальнеатры — рабы-массажисты — промяли тела бывших сенаторов, головы у них посветлели, ибо кровь веселее побежала по жилам. По приезде домой они сразу пошли не в столовую, а в элеотезий — помещение для умащения, которое Клавдий расположил рядом с лаларием[50].
В элеотезии за тела друзей принялись их любимые служанки; Клавдий предложил Кальвисию целый букет умаслительниц, состоящий из рабынь-нумидиек, но тот отклонил это предложение.
— Нет-нет! Они напоминают мне жирных кур нумидийских.
— Полно врать, Кальвисий... Посмотри, какие гибкие у них тела, словно точёные фигурки из эбенового дерева!.. Хорошо... Тогда над тобой могут похлопотать фригийки.
— Я предпочитаю своих рабынь, — стоял на своём Кальвисий.
Когда они из элеотезия теперь свернули в столовую, то Кальвисий уж который раз восхитился лаларием Клавдия:
— А ведь моих ларов в Равенне приказали выкинуть из дома... И подумать только, кто приказал!.. Ничтожный евнух, бывший александрийский раб... Антоний. Зверь с пустой мошонкой, злой гений, ибо сумел взять Плацидию обеими руками и крутит ею, как хочет... Мне он сказал, чтобы я поклонялся Единому Богу... Во дворце, друг мой Клавдий, все подражают Плацидии, все до одного поменяли веру, которую она восприняла от варвара-мужа... Называются христианами, а ведут себя хуже всяких скотов... Я не хотел говорить тебе, но сейчас... И Себрий Тулл, друг наш, тоже примеривается к новой религии, в последнее время всё меньше и меньше стал доверять ему... Охлаждение моё он почувствовал. Меня и это, кроме судьбы наших сыновей, тоже волнует... Пойдём перед ларом-спасителем затеплим огонёк и помолимся за твоею Евгения и моею Рутилия...
— Помилуй, Кальвисий, они же христиане...
— Не забывай, что они ариане... А ариане такие же христиане, как мы с тобой — племенные жеребцы... — грубовато, чтобы скрыть своё душевное волнение, сказал Кальвисий.
— Я ещё не жалуюсь, мой драгоценный друг... Служанка очень даже мой довольна.
— Не обольщайся. После того как заснёшь, не спускается ли она на половину рабов-массажистов?.. Проверь... Ладно, ладно, я пошутил, — увидев нахмуренное чело друга, проговорил Кальвисий и положил примирительно ему на плечо руку. — Идём на крышу, полюбуемся звёздным небом.
Далее Кальвисий, усаживаясь на скамейку, продолжал говорить:
— Не знаю, правда ли, что христианский Бог живёт на небе, а наши присутствуют везде... Дыханием своим они согревают окружающий нас мир, пробуждают к жизни на небе звёзды, что мигают нам лучами, заставляют играть красками утренние и вечерние зори, по велению богов восходит солнце и наступает ночь... Если захочет Венера, то пошлёт нам красоту и любовь. А грозный Юпитер спалит души дотла и превратит в пепел наши дома... При дворе все говорят о Едином Вездесущем Боге... Да разве может он один управиться со всем?.. Нет и ещё раз — нет! Лары я сохранил, но прячу всякий раз, когда кто-нибудь, кому я не доверяю, заходит ко мне из дворца...
— Слушай, Кальвисий, перебирайся сюда, в этот разграбленный Рим, но здесь пока оживём мы по законам свободы...
— Я думал об этом, Клавдий, подумаю ещё раз.
Кальвисий подошёл к бортику крыши, взглянул влево от себя и узрил в отблесках полыхающих факелов знаменитую колонну Траяна. Она высоко вознеслась[51] и словно вонзилась в звёздное небо, омытая его холодным царственным светом. Она стояла как символ победы человеческого духа...
— Клавдий, я вчера стоял у этой колонны и изучал на ней изображения. Ведь что интересно, скульптор-художник высек по спирали не отдельные эпизоды войны, а целую войну... На четырёхстах квадратных локтях мрамора... Это же грандиозная была идея — дать зрительное представление о всей войне, и эта идея не имеет себе равных по масштабам и воплощению... Египетские фараоны также стремились запечатлеть свои победы, но там лишь часть её, а тут она вся — от перехода наших войск через Истр[52] по мосту из кораблей до самоубийства царя даков Децебала[53]. И с какой точностью воспроизведено наше оружие и оружие противника! Больше того, художник стремился передать далее чувства людей...
Вот вначале изображён поднимающийся из волн, полуобнажённый старик. Он смотрит вослед легионерам. Это божество реки Истр. В глазах божества тревога и ожидание. Оно ещё не знает, чем кончится эта война...
А в заключительной сцене рельефа рядом с упавшим с коня Децебалом художник изобразил дерево — символ дикой, заросшей лесами Дакии, которую так страстно и самозабвенно защищали царь и его народ...
И я подумал тогда, что в этой войне не было побеждённых... Римляне во главе с императором Траяном захватили территорию даков, но не взяли в плен их души...
Может быть, в этом и есть назначение колонны Траяна — воспеть гимн не императору, а стоическому человеческому духу.
— Друг мой Кальвисий, ты, наверное, прав... Хотя стоиков в наше время всё меньше и меньше, их сейчас можно скорее встретить среди простого народа, нежели, как раньше, среди учёных...
— Тише, тише! — поднял кверху руку Клавдий. — Кажется, к дому подъехала повозка... А ну, посмотри ещё раз с бортика.
— Точно, остановился цирковой фургон. Вижу привязанного к нему козла... Какой-то бородатый старик в колпаке помогает выбираться двум женщинам; следом за ними тихо спускается на мостовую юноша с мешком за плечами... Вот они прощаются с бородатым человеком — тот садится и трогает лошадей...
И тут до слуха Клавдия явственно донеслось:
— Кажется, этот дом, Джамна... Мне хорошо обрисовал его Евгений, и детали сходятся...
«Евгений!.. Да это же мой сын! И почему каким-то цирковым бродяжкам он говорил о нашем доме?» — разом промелькнуло в голове бывшего сенатора.
Кальвисий и Клавдий поспешили вниз, так как уже стучали медным кольцом в наружную дверь атриума.
* * *
У евнуха Антония как корникулярия императрицы все нити розыска её дочери были сосредоточены в его руках: это он рассылал во все концы тайных секретарей, но до сих пор от них приходили весьма неопределённые и неутешительные вести — Гонория как в воду канула...
Но особенно вызывало в нём глухое раздражение, порой переходящее в яростный гнев, поведение чернокожей рабыни. Он мог понять, что Джамна по приказу госпожи последовала за нею, но ведь должна же она была по старой дружбе как-то предупредить его... «Чёрная стерва!.. Обугленная головешка!» — ругал её про себя.
Антоний, хотя и ведал — никакая она не чёрная головешка: кожа у неё финикового цвета, гладкая и приятная на ощупь, — помнил, но ругал стервой. И по-своему был прав, ибо она обещала ему обо всём, что касаемо Гонории, докладывать.
«Может быть, не успела... Или не смогла: помешали какие-то непредвиденные обстоятельства...» — утешал себя Антоний. Надежда на то, что Джамна вот так бессовестно не могла его обмануть, тлела в его душе... Хотя он вращался в среде людей, которым совесть и честь не то чтобы были в тягость — этим людям они попросту мешают жить.
«Джамна не такая. У неё чистая душа. Очень честная девушка. Но уже прошло много времени, и если бы рабыня помнила о своих обязательствах передо мной, то непременно известила бы о своём и госпожи местонахождении... С ними, правда, ещё раб-славянин...»
Антоний славянам никогда не доверял и всегда опасался их. Хотя для этого у него не было особых причин... Просто эти люди для Антония были как бы с других, непонятных ему земель... Когда он поймает Гонорию, то, не церемонясь, прикажет отрубить рабу-славянину голову... И вся недолга! А что сделать с Джамной, Антоний ещё посмотрит...
«Поймает... Легко сказать, беглецов ещё надо обнаружить. Но я уверен, что Гонория сбежала с Евгением... Он вывез её в своей повозке из дворца... А дальше она скитается где-то сама... Я приказал перекрыть все дороги... Но что толку, если я не знаю и никто из секретарей не знает, в какую сторону Гонория наметила свой путь... — раздумывал наедине с собой Антоний. — Первое, что приходит мне в голову, что она должна отправиться на юг, где сможет потом встретиться с Октавианом. Там в каждом морском порту мои люди выслеживают её до сих пор... Кампания по преследованию пиратов заканчивается. К моему сожалению, у Евгения всё пока идёт хорошо... Часть мизенского флота благополучно сопроводили суда с зерном, а часть вместе с миопароной Рутилия, на которой находится Октавиан, шала пиратские корабли до самой их главной базы, расположенной в Сардинии, и разгромила её. Теперь надо ждать возвращения наших либурн и миопароны, а значит, необходимо усилить наблюдения по всем намеченным мною пунктам и ждать появления где-нибудь молодой Августы... Где-то она обязательно объявится.
А Галла Плацидия рвёт и мечет... Пора ехать в Рим, чтобы показать римскому народу молодую Августу и провести на Марсовом поле триумфальное шествие войск Аэция... Но Гонория ещё не обнаружена, следовательно, пока отменяется и триумфальное шествие... Замкнутый круг! А Плацидия не может дольше держать в Галлии войска в бездействии. Нужно подсказать императрице, чтобы она заняла полководца Аэция каким-нибудь делом, покудова мы эту чёртову дикарку с её рабами ищем... А ведь троица-то заметная! И первая, кто выдаёт их, это чернокожая Джамна... Могли ведь они направиться и в Рим к отцу Евгения — Клавдию Октавиану, кстати, у него был юбилей — шестьдесят лет бывшему сенатору и преторианцу исполнилось... Стражники, стоящие на всех городских воротах, тоже получили подробное описание внешности всех троих, а уж Джамну они не могут не заметить... Только в город такие не въезжали...
На юбилей в Рим, кажется, ездил Себрий Флакк. Кое о чём я расспрошу его... Пошлю за ним».
Ближе к полудню рабы принесли во дворец на носилках одетого в тогу с широкой пурпурной каймой, что носили сенаторы, Себрия Флакка.
— Я знаю, что ты ездил в Рим. — Евнух исподлобья и остро взглянул на сенатора, который вначале принял перед корникулярием вольную позу, отставив левую ногу, а правую руку заложил за складки одежды, откинув голову, как и подобает истинному патрицию. Но под колючим взглядом Антония Себрий отставленную ногу подобрал и голову слегка наклонил.
— Да, ездил, — нехотя произнёс Флакк, всё же недовольный тем, что бесцеремонно прервали его занятие греческим языком и заставили срочно явиться во дворец перед очи безродного евнуха.
«Безродного, но могущественного... — подумал Себрий и решил быть с ним почтительнее. — Неизвестно, что там у него...»
Далее Антоний спросил, кто ещё из гостей был у старого Октавиана, как проходило празднование дня рождения и не заметил ли он, Флакк, в доме ничего подозрительного...
«Как я не догадался сразу?! Значит, евнух подозревает, что в доме бывшего сенатора в Риме могут прятать молодую Августу, которую безуспешно ищут почти три недели...»
Себрий, глядя прямо в глаза Антонию, заявил, что не заметил ничего подозрительного, да и был он в гостях у Октавиана всего три дня, а потом уехал.
— Правда, оставался Кальвисий Тулл, — охотно доложил Себрий, и евнух, даже не скрывая, усмехнулся.
Хотя Себрий Флакк и считался другом Кальвисия, но они были слишком разными людьми, чтобы дружить бескорыстно. Кальвисий, несмотря на видимую мягкость своего характера, всегда использовал упрямое честолюбие Себрия в свою пользу... И об этом хорошо знал корникулярий.
Вообще-то, о придворных, окружавших его и Плацидию, евнух ведал, если не всё, то, по крайней мере, многое. Он хорошо изучил все их слабости и этим в нужный момент умел пользоваться. Антонию уже давно доложили, что Флакк, чтобы войти в ещё большее доверие к Плацидии, решил принять арианство. Поэтому евнух несколько прямолинейно спросил:
— Кальвисий, этот отпетый язычник всё ещё по-прежнему занимается развратом со своими рабынями?..
Самый подходящий ответ вдруг закрутился на языке Себрия: «Как и наша повелительница со своими рабами...», но, скромно опустив книзу очи, заметил:
— По-прежнему... Старый, но сильный ещё.
— Ничего, мы эту силушку ему поубавим! — пообещал Антоний, зная, что эти слова так и останутся между ним и Себрием и что Флакк об этом разговоре никому не скажет...
Когда выносили Себрия Флакка рабы из императорского дворца, сенатор всё же подумал, что по отношению к Кальвисию он совершает пусть не прямое, но косвенное предательство; поначалу это его слегка устыдило, но, вспомнив греческую поговорку, которую он недавно выучил, успокоился и улыбнулся: «В Риме каждый пьёт по-своему...»[54]
* * *
Выходец из Александрии евнух Антоний тоже знал эту греческую поговорку и давно сделал из неё определённый вывод. Он думал, что душа римлянина для него уже больше не является загадкой... Это касалось и самой императрицы, и её «последнего великого римлянина» Аэция...
Но когда корникулярий предложил занять пока «каким-нибудь» делом полководца в Галлии, то последовала со стороны императрицы такая реакция, какую Антоний явно не ожидал.
— Что значит «каким-нибудь» делом?! — вскричала Августа, передразнивая евнуха. — Аэций не «какой-нибудь» мелкий сборщик податей, он человек великий, и он оскорбится... Я понимаю, что ты не можешь найти мою скверную дочь, но это не довод задерживать далее полководца в Галлии...
— Величайшая из порфироносных, но его следует и нужно задержать!.. Я уже совсем близок к разгадке местопребывания Гонории. — И помощник императрицы пересказал свой разговор с сенатором Себрием Флакком.
— Я уверен, что она прячется в доме отца Евгения, я уже послал в Рим людей осуществлять слежку и жду со дня на день прибытия в Равенну ещё одного друга Клавдия Кальвисия Тулла, который тоже ездил к нему на юбилей.
— Отца Рутилия Тулла — наварха миопароны, на которой отплыл на юг Италии молодой Октавиан?
— Да, несравненная!.. Теперь я знаю, каким делом занять последнего великого римлянина, пока мы станем доставлять ко двору твою дочь... В стане гуннов воспитывается, как когда-то воспитывался и сам Аэций, его старший сын Карнилион. Пусть полководец и навестит его, а командование войсками передаст своему легату Литорию, который отличился в сражении с готами за город Нарбонну[55]. Об этом, как ты помнишь, сообщал и сам «последний великий римлянин», восхищаясь храбростью Литория, когда тог близко подошёл к Нарбонне, находившейся в осаде, приказал кавалеристам привязать к седлу два мешка муки и вместе с ними бесстрашно пробился сквозь укрепления противника к умирающим от голода горожанам. Воодушевлённые жители Нарбонны пришли на помощь римским легионам, и готы сняли осаду, потеряв при этом в сражении восемь тысяч человек...
— Да, помню, Антоний... — улыбнулась императрица. — Твоя голова, мой любезный друг, хороша тем, что в ней неожиданно появляются очень умные, свежие мысли... К тому же посещение Аэцием лагеря гуннов пойдёт на пользу всем нам; сейчас дикари успокоились и не продвигаются, но каково их дальнейшее намерение?.. Не плохо бы и преуспеть в разрешении этого вопроса... Только ты, Антоний, прямо не предлагай Аэцию шпионить — обойди стороной сей щекотливый предмет, а только как бы намекни... А далее пусть он сам догадывается... И последнему великому римлянину не обидно станет, и дело будет сделано. Иди, составляй хартию... А Кальвисия хорошо попытай словами, но если друга своего римского начнёт прикрывать, примени способ построже... Я разрешаю.
Возвращаясь от императрицы, Антоний Ульпиан был доволен собой. Кажется, давно он не испытывал такого удовлетворения от того, что ему удалось. Да, он теперь смело может сказать, что хорошо всё-таки знает римских патрициев: им бы в великих поиграть, но времена-то героев давно кончились!.. Если где-то и проявится этот самый героизм, то он обязательно будет соседствовать с какой-нибудь подлостью. Взять того же «последнего великого римлянина», от которого Плацидия без ума. Разве его борьба с Бонифацием велась открыто, по-геройски?.. Да конечно же нет, и закончилась победой Аэция только благодаря предательству...
«Необходимо отдать должное, что Аэций и Бонифаций, — размышлял корникулярий, — военачальники, достойные друг друга, вмещающие в себя также боевые достоинства знаменитых римских полководцев прошлого... Может быть, даже Бонифаций чем-то превосходил Аэция, но, по крайней мере, лучшими чертами своего характера — это точно...» — решил Антоний.
Правда, епископ Гиппонский святой Августин одно время оплакивал нравственное падение своего друга Бонифация, который, давши торжественный обет целомудрия, вторично женился на арианке, и которого подозревали в содержании у себя на дому нескольких наложниц... Но Бонифаций — герой защиты Массалии и освобождения Африки, и тот же Августин, вконец разобравшись, впоследствии восхвалял его христианское благочестие, народ уважат Бонифация за честность, а солдаты боялись его неумолимой справедливости. Один пожилой крестьянин пожаловался на одного солдата, который силой и смертельными угрозами жизни маленьких детей принудил красивую невестку старика к интимной связи. Приняв жалобу, Бонифаций приказал крестьянину явиться на следующий день в лагерь, а сам, старательно разузнавши, где происходит это преступное свидание, вечером сел на коня и, проехав несколько миль, застал врасплох своего солдата, совершающего над молодой крестьянкой насилие. Полководец немедленно казнил солдата и на следующий день предъявил крестьянину голову злостного прелюбодея...
Дарования этих двух полководцев могли бы пойти на пользу общему делу, если бы Плацидия подходила к каждому из них умно, с учётом особенностей характера этих людей и обстоятельств. Заранее зная, что на командование Ливией в Африке претендует Аэций, императрица тем не менее назначает Бонифация полководцем-наместником этой страны.
Аэций, разумеется, не смог смириться с таким назначением; какое-то время он терпел, но когда стало невмоготу от нанесённой ему обиды, то пошёл на явную подлость. Он попросту оклеветал Бонифация перед императрицей, доложив ей, что якобы тот уже присвоил себе всю верховную власть в Ливии и скоро случится так, что он объявит колонию независимой от Рима. А императрице нетрудно будет в том убедиться, если она отзовёт Бонифация к себе во дворец и увидит, что тот явиться к ней не захочет. Мнение Аэция показалось Плацидии основательной, и она последовала этому совету.
Между тем Аэций отправил тайно к Бонифацию послание, в котором извещал, что Плацидия злоумышляет против него и хочет погубить. Верными доказательствами такого умысла, писал Аэций, есть то, что Бонифация без всякой причины отзывают из Ливии. Бонифаций не оставил без внимания это послание и, когда перед ним предстали послы от императрицы и начали по её повелению звать полководца в Рим, то он отказался.
По получении такого отказа Плацидия посчитала Аэция человеком весьма к ней приверженным и стала обдумывать, как поступить с Бонифацием.
А тот, понимая трагичность своего положения и зная, что не в силах противостоять целой империи, решил заключить союз с вандалами, которые во главе с королём Гензерихом обосновались в Испании.
Бонифаций послал верных ему людей, предлагая Гензериху войти в Ливию, чтобы владеть её третьей частью и совместно отражать нападения римских легионов. По заключению такого договора вандалы переправились через Гадирский пролив[56] и вступили в пределы Африки.
Но римляне не хотели верить в случившееся, они даже не могли представить, что доблестный герой Массалии, получивший столько наград и оказавший столько услуг империи, вдруг нарушил долг верноподданничества и призвал варваров на разорение вверенной его управлению провинции. Друзья Бонифация, всё ещё державшиеся того мнения, что преступный образ действия полководца вызван какими-то честными мотивами, испросили, в отсутствие при дворце Аэция, позволение вступить в переговоры с правителем Ливии, и с этим важным поручением был отправлен один из видных сановников по имени Дарий.
Дарий имел при себе и ещё одно письмо, которое, в отличие от других, было огорчительным для Бонифация, — это письмо Августина, снова усомнившегося в честности полководца. Строгий епископ, не пытаясь даже разобраться в истине, благочестиво убеждает своего друга исполнить обязанность христианина, предлагая немедленно выпутаться из своего опасного и преступного положения и обречь себя на безбрачие и покаяние в монастыре, если только ему удастся получить на это согласие своей жены...
На первом свидании Дария и Бонифация в Карфагене выяснились причины воображаемых обид, были предъявлены и сличены между собой противоречивые письма Аэция, и подлог был обнаружен.
Но содеянного это уже не могло изменить, кроме разве того, что было реабилитировано доброе имя Бонифация. Неумолимый король вандалов не шёл ни на какие уступки и решительно отказался выпустить из рук свою богатую добычу.
Африка основательно считалась хлебной житницей, и все семь плодородных провинций, лежавших между Танжером и Триполи, были внезапно залиты потоком вандалов; благородная душа Бонифация терзалась невыразимою скорбью при виде этого нашествия, причиною которого был он сам...
Отряд ветеранов, выступивший под знаменем Бонифация против своего недавнего союзника, и собранные на скорую руку провинциальные войска были разбиты со значительными потерями. А победоносные вандалы Гензериха ещё больше стали опустошать ничем не защищённую Ливию, и единственными африканскими городами, спасшимися от разорения, пока оставались Карфаген, Цирта и Гиппон.
После поражения Бонифаций удалился в Гиппон, где его тревожные размышления, как-то сглаживаясь, перемежались назидательными беседами с другом Августином, епископом Гиппонским, считавшимся светилом и опорой христианской церкви. Но город, в котором находились двое друзей, вскоре также подвергся осаде со стороны вандалов. На третьем месяце осады в возрасте семидесяти шести лет скончатся Блаженный Августин, причисленный церковью к лику святых, хотя юность этого святого, как он сам чистосердечно признавался не раз, была запятнана пороками и заблуждениями. Но с той минуты, как он обратился на истинный путь, до самой смерти отличался чистотою и суровостью своих нравов, а самой выдающейся его добродетелью являлась пылкая ненависть к еретикам христианства. После себя Блаженный Августин оставил двести тридцать два тома, написанных на богословские темы, а также книги обширных толкований Псалтыря и Евангелия и множества посланий и проповедей...
А Бонифацию удалось сесть на корабль, заполненный побеждёнными солдатами, и отплыть в Италию. Полководец, нанёсший республике своим пагубным легкомыслием неизлечимую рану, не мог войти в равеннский дворец без тревожных опасений за свою жизнь. Но эти опасения были рассеяны приветливым обхождением Плацидии, ибо она ведала всю подноготную содеянного Бонифацием...
Пока Бонифаций по вине Аэция участвовал в позорной «африканской одиссее», тот находился в лагере гуннов. Дело в том, что отец Аэция Гауденций был родом из Скифии и оказался в Паннонии[57] вместе с гуннами, где эти дикие воины основали на плодородных берегах Тизии[58], населённых местными пастухами и охотниками, свою ставку.
Под знамёнами гуннов Гауденций участвовал в их завоевательных походах, проявил себя как искусный воин и командир и особенно понравился вождю Ругиласу.
Одно время у Рима и гуннов общими врагами оказались готы. И судьба распорядилась так, что Гауденция отослали в Рим, и он стал служить в императорских войсках начальником кавалерии, но дружбу с Ругиласом не прекращал.
Когда у Гауденция и богатой знатной римлянки подрос сын Аэций, то отец определил его на суровое воспитание в лагерь к гуннам, и мальчик воспитывался там наравне с племянниками Ругиласа Аттилой и Бледой.
Вот как характеризуют Аэция историки: он был небольшого роста, но очень сильный. Хорошо ездил в седле, стрелял из лука, метал дротик и кидал аркан. Он мог по нескольку суток голодать, не спать и оставаться бодрым. Он был одарён мужеством.
Надо сказать, что эти качества подходили для полководца, и в конце концов Аэций стал им, заслужив у современников в то смутное для Римской империи время героическое звание — «последний великий римлянин». И это звание было дано не на пустом месте. Если Бонифаций считался героем защиты Массалии, то Аэций был герой защиты города Арелата (Арля) — богатого торгового центра в Галлии, который полководец отстоял от завоевания вестготов короля Теодориха.
Узнав, что Бонифаций находится уже в Италии и прощён императрицей, Аэций не стал больше сидеть в ставке Ругиласа и с выделенным ему вождём сильным гуннским отрядом тоже вернулся на свою родину.
Плацидия должна была немедленно арестовать Аэция, но она делать этого не захотела, а избрала выжидательную тактику. В конце концов, как и предполагала императрица, эти два непримиримых полководца сразились между собой; Бонифаций получил от Аэция глубокую рану копьём, от которой через несколько дней и скончался.
Плацидия объявила Аэция бунтовщиком, зная, что она его простит. Догадывался об этом и Аэций, когда снова убежал к гуннам и, став во главе шестидесяти тысячного войска дикарей, начал слёзно просить прощение у императрицы... Та, разумеется, простила, апеллируя к сенату, ибо страна оказалась в плачевном положении после отпадения Африки. Вот тогда-то Аэций и выторговал себе звание патриция и консула; он был назначен главным начальником кавалерии и пехоты и сосредоточил в своих руках всю военную власть.
Скорее из благоразумия, чем из сознания своего долга, Аэций оставил порфиру на плечах Феодосиева внука, так что Валентиниан III под патронажем своей мамочки мог наслаждаться спокойствием и роскошью в то время, как патриций выдвигался вперёд во всём своём блеске героя и патриота.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ТРЕВОЖНЫЕ БЕРЕГА ГАРУМНЫ
I

Никто бы сейчас в старике, голова которого посыпана пеплом, а на голое тело надета власяница из грубой медвежьей шерсти, ставшем согбенным, с глазами, красными от недосыпания и горя, не смог бы признать всесильного короля Теодориха.
Раньше с ним рядом по утрам гуляли по берегу Гарумны или возле священного пруда, расположенного недалеко от королевского дворца, шесть его сыновей-молодцов; теперь он воспретил им сопровождать себя, только два оруженосца-телохранителя где-то маячили у подошвы одного из холмов, окружающих Толосу, ставшую с 419 года на подвластной Риму территории, называемой Галлией, столицей вестготов.
Если бы кто захотел покуситься на жизнь их короля, то сделать это не составило бы никакого труда: оруженосцы из-за расстояния, отделявшего их от повелителя, не успели бы защитить его, да и у самого Теодориха, кроме дубовой палки, служившей ему посохом, ничего в руках не было.
Но о жизни своей король не думал, она для него сейчас представляла малую цену: если и погибнет, то есть кому возглавить созданное в Аквитании новое государство вестготов, омываемое с востока морем, а с запада — океаном.
«Старею... И горе меня придавило... Разве подобные мысли могли бы прийти в мою голову, скажем, двадцать пять лет назад?! Наоборот, тогда свою жизнь я ценил высоко, ибо мы с королевой должны были обязательно заиметь наследника трона. А рождались все дочери... А потом, точно из корзины, из которой галльские жрецы-друиды высыпали цветы на головы своих богов — или Белена[59], или Огмия[60] — вырезанных из дерева, «посыпались» также из чрева жены один за одним шесть сыновей, голубоглазых, со светлыми волосами. Истинные германцы! Радость неописуемая...»
Теперь король в образе страдающего старика на своих прогулках не может близко подпустить даже телохранителей, чтобы они не видели потоки слёз, хотя, возвращаясь во дворец, придворные зрят белые полосы на грязных щеках, сочувствуя его великому горю.
Никогда Теодорих не мог представить, что страдать его заставят не сыновья, если бы что случилось с каждым из них, а дочери, вернее, старшая — Рустициана, выданная замуж за второго сына Гензериха — короля вандалов, чьи владения расположены по соседству, в Испании, тоже находящейся под патронажем Римской империи, и в Африке, завоёванные Гензерихом при содействии Бонифация, а правильнее сказать, по его вине.
Теодорих посыпал голову пеплом и надел власяницу, чтобы скоро встретить её, едущую к нему в обезображенном виде, — ей, молодой, высокой, статной красавице, по приказанию самого короля вандалов отрезали нос и уши и отправили назад к отцу в толосский дворец...
Слава Единому и Вездесущему, слава епископу Ульфиле, переведшему на готский язык Библию, последователю учения Ария, что не дожила до этого страшного дня королева, хотя в молодости Теодорих и она любили шутить, что обязательно достигнут оленьей старости. Считалось, что олень живёт девять вороньих веков, а ворона — три человеческих. Умерла любимая, а значит, как родителю, горе горевать теперь ему одному!..
А сыновья?.. Что они? Души их лишь охвачены жаждой мщения. «Давай, отец, превратим Барцелону, столицу вандалов в пепелище...» — предлагают они, как будто это фиал вина выпить, и невдомёк им, что не одолеть сейчас вестготам вандалов. Поэтому и осмелел Гензерих, не посчитался с отцовскими чувствами короля-соседа, обезобразил дочь его... А вся-то вина Рустицианы, что заподозрили её в намерении отравить свёкра. Теодорих знает, напраслину на его дочь возвели, и горше ему ещё оттого, что не сможет он сейчас отомстить за неё и тем самым утихомирить и свою сердечную боль.
В мрачных раздумьях король не заметил, как оказался у священного пруда, заросшего кое-где цветами лотоса; для него и придворных этот пруд всего лишь природный бассейн, наполненный водой, а когда-то для галлов он считался священным, ибо в нём обитало их божество. А сейчас уже никто не вкладывал в это название никакого смысла.
«Осушить бы его и найти на дне золотую казну, как нашёл римский консул в этом пруду 15 тысяч талантов золота — золотое сокровище, вошедшее в поговорку как aurum tolosanum («золото толосатов»), которое галлы запрятали на дне пруда перед самым сюда приходом римлян... Да за это золото не то что армию, а целое государство купить можно[61]. Тогда бы я показал подлецу Гензериху, откуда у него начинается голова...» (То есть отделил бы голову от шеи).
«Тешусь несбыточными мечтами, словно дитя. — Обветренные в походах губы Теодориха сложились в тонкую усмешку. — Ты король, повелитель, а думаешь о сокровищах и кладах, как какой-нибудь обнищавший общинник на своём «sortes»[62] или обедневший галл-скотовод, подправляющий обветшалую хижину с надеждой при ремонте обнаружить спрятанное где-нибудь предками состояние... А я ведь не просто предводитель вестготов, а потомок королей — разрушителей великого Рима! Да и самому есть чем гордиться! Моё нападение на город Арелат — важный город всех семи галльских провинций, место ежегодных собраний нотаблей Галлии, ключ к долине Роны, ещё долго будут помнить не только в Аквитании, но и в Риме. Я бы взял город, если бы не Аэций... Этот любимец диких гуннов очень умён, бесстрашен и умеет руководить войсками! Он как злой демон всегда вырастает на дороге моих устремлений... Однажды мне удалось войти в доверие к противнику Аэция Бонифацию. Этот полководец тоже обладал бесстрашием и мужеством, но он был слишком честен, и когда я выступил на его Стороне не только против Аэция, но и Гензериха, то проиграл... Вот она разгадка того, почему король вандалов обезобразил мою дочь... Бедное дитя! Она мне написала сама, что её на морском судне отправляют из Карфагена, нынешнего местопребывания короля вандалов, в Барцелону. Нужно направить в Барцелону, чтобы встретить там Рустициану, кого-то из её братьев и епископа Сальвиана. Боже, помоги ей и мне, отцу! Единый Всемогущий, Создатель Мира и Всего Сущего, молюсь тебе и призываю Тебя! — Теодорих сел на скамью у пруда, поднял лицо к небу, уже начавшему трепетать зарею, потом перевёл взгляд в сторону парковых насаждений и за стволом фиги заметил прячущегося старшего сына: — Думает, что не увижу его... Белый плащ с красной каймой, который высовывается из-за дерева, выдаёт. Лишь такой плащ есть у Торисмунда. Щёголь... Несмотря на строгий запрет, сопровождает меня на прогулках. Боится за жизнь отца, хотя, с другой стороны, должен желать смерти мне... Ибо тогда вся власть перейдёт к нему... Эх ты! — укорил себя Теодорих. — Ты, как Гензерих, ищешь причину... Кстати, если бы его отравили, то править Испанией и занятой вандалами Африкой не стал бы по праву наследства муж моей дочери Гунерих... Не могла Рустициана подмешать свёкру яд, ещё раз говорю — не могла! — Доводы его, основанные на отцовских чувствах и интуиции, показались ему убедительными, а при воспоминании о дочери перед ним всякий раз вставало её милое детское личико в обрамлении светлых волос и чувствовал её доверчивый взгляд тёмно-голубых, почти синих, цвета васильков глаз, как у матери-королевы, любившей его, Теодориха, без памяти... — Но тебе представляется лишь наивное дитя, а оно выросло в красивую своенравную женщину... И я не видел Рустициану с того дня, как отдал её в жёны к вандалам, уже пять лет... За эти годы многое могло произойти и измениться...»
Но что-то такое поднималось из глубины души короля и снова говорило о невиновности его дочери.
— Торисмунд! — позвал Теодорих сына. — Выходи, я вижу тебя...
Из-за дерева вышел старший сын. Его чуть удлинённое, отцовское лицо с крепкими скулами и прямым носом было слегка смущённо, но рука твёрдо сжимала боевой топор на длинной рукоятке. Белый плащ из тонкой шерсти, застёгнутый на правом плече золотой застёжкой, широкими складками спускался до самых колен, ниже которых на ногах Торисмунда шло крестообразное переплетение тоже из белых ремней, крепящих к подошвам сандалии. Густые золотистые волосы, падающие двумя туго заплетёнными косами по обе стороны лица и спереди доходившими до пояса, были завязаны внизу тугими узлами.
Сын подошёл к сидящему отцу и опёрся другой свободной рукой о копьё.
— Ты чего это, сынок, спозаранку при полном вооружении?.. Правда, щита в чехле у тебя за спиной не хватает... Вроде бы в поход не трубили рога... — И неожиданно повысив голос, Теодорих громко спросил: — Почему приказ мой нарушаешь?
Ни один мускул не дрогнул на лице сына, это сразу отметил король и в душе похвалил Торисмунда, но стоял на своём, ожидая ответа.
— Как всегда, утром проходил выучку... Метал копьё, рубил топором на берегу реки одинокое дерево; ты, отец, наверное, видел его, проходя мимо, — соврал сын.
— Дерево видел... Но тебя узрил лишь здесь, и не у реки, а у пруда, за фиговым деревом... — остывая, уточнил Теодорих.
Но тут из-за густых зарослей мирта появился также при оружии ещё один сын, самый младший, Эйрих, дотоле незаметно прятавшийся, в отличие от брата.
Его схожесть со старшей сестрой всякий раз отмечал про себя отец, когда тот представал перед ним: чуть застенчивая улыбка и такие же тёмно-голубые васильковые глаза.
— О, гляди, ещё один сынок рубил топором одинокое дерево... Ну, погодите, как сниму власяницу!.. — погрозил Теодорих обоим.
Эйрих угрозу отца расценил как шутку и улыбнулся.
Это не ускользнуло от внимания отца, но он ничего больше не сказал, не рассердился, лишь внимательным оком окинул младшего сына с ног до головы.
На Эйрихе тоже накинут белый плащ, но без красной каймы, и выглядел он проще, поэтому скорее походил на праздничный плащ готского крестьянина; на голове блистал стальной шлем, из-под которого выбивались прямые русые волосы, доходившие только до плеч и ровно подстриженные. На поясе висел скрамасакс — длинный нож с тонким лезвием внизу и широким у рукоятки. В руках Эйрих тоже держал боевой топор.
— Если вижу вас во всеоружии, то готов послать обоих навстречу сестре... Вы понимаете, как ей тяжело. А увидите Рустициаиу — ободрите... С вами поедет и епископ Сальвиан, с ним я ещё не говорил, но он, думаю, согласится. Ты, Торисмунд, возьмёшь с собою дружину свою, а Эйрих под начало примет часть моих дружинников... Но как только окажетесь в Испании, приказываю вести там себя не враждебно по отношению к вандалам, какая бы злоба на них ни охватывала ваши сердца, и никаких ссор с ними не затевать, и на провокации не поддаваться... Обуздывать чужие страсти Сальвиан умеет, поэтому я и буду просить его поехать с вами... Главное же, ко дворцу как можно быстрее нужно доставить мою дочь и сестру вашу...
— Будет исполнено, повелитель, — с жаром воскликнули сыновья Теодориха и упали разом перед ним на колени, целуя края его пыльной власяницы.
— Ладно, поговорить об этом мы ещё успеем. Отправляйтесь во дворец, а я последую за вами.
У входа во дворец Теодорих увидел лошадь второго по рождению после Торисмунда сына, названного в честь него, короля, Теодорихом. Теодорихом Вторым...[63] Лошадь его под уздцы держал оруженосец. Животное ещё не остыло от бега: кожа у него на боках и широком крупе лоснилась от пота — сын только что на этой лошади закончил скачку в цирке, примыкающем ко дворцу и построенном ещё римлянами.
Но цирк уже давно не использовался по своему прямому назначению, он зарос травой, зрительские трибуны пришли в негодность, поворотные столбы тоже были полуразрушены. Сейчас его королевские дружинники приспособили для ежедневных военных тренировок — метания на полном скаку копья или дротика в импровизированную цель, рубки на мечах и упражнений в стрельбе из луков. Вот и Теодорих провёл только что со своей дружиной такое занятие. Но почему не заводят его лошадь в конюшню?
Король хотел спросить, но раздумал, увидев, как низко склонил оруженосец свою голову, когда повелитель вестготов проходил мимо, направляясь в атриум.
Дворец короля представлял собой огромный дом, какие строились в «вечном городе» во времена расцвета Римской империи знатными патрициями. А здесь, в Толосе, его возвёл для себя на месте старого галльского дома вождя племени толосатов первый римский наместник в Южной Галлии Сервилий Цепион, нашедший клад и не стеснявшийся тратить его по своему усмотрению (за что был наказан позднее императором, который конфисковал и здесь, и в Риме всё его имущество).
Цепион построил дом с шикарными термами, бассейнами, большим числом столовых, с огромным лаларием, в котором сейчас Теодорих Первый устроил свои покои, с массажными комнатами и комнатами для умащений. Ко дворцу со стороны парка примыкало не менее великолепное здание, тоже возведённое первым наместником для своей преторианской гвардии. Сейчас в нём проживали готские дружинники. Рядом с этим зданием находились конюшни с мраморными колоннадами. Цепион был большой любитель скаковых лошадей и поэтому тоже не жалел средств на украшения конюшен: их внутренние стены были отделаны чёрным мрамором, а по нему шли огромные живописные картины, выложенные светлыми цветными фресками.
Теодорих проследовал в свои покои и, не ополаскивая рук и не снимая по данному себе обету пыльную власяницу, приступил к еде, поданной королю сюда. И тут с поклоном, но не таким низким, как бы полагалось по этикету, вошёл сын Теодорих. Он не походил ни на старшего брата, ни на младшего, и вообще на всех остальных — рыжие волосы его горели медным пламенем, а глаза, зеленоватые с желтизной, как у лесного волка, излучали дерзость и непокорность. Да и вся его огромная фигура дышала неуёмной энергией.
— Отец, — начал он говорить с порога, нажимая на слова. — Мне братья сказали, что ты посылаешь их встречать нашу бедную сестру с предупреждением не встревать ни в какие склоки с вандалами... Твой приказ они, разумеется, выполнят, но пошли с ними и меня...
— Чтобы ты не подчинился моему приказу... — продолжил за него король и почувствовал, что прежняя воля повелителя возвращается к нему и как во все члены тела остро толкается кровь... Вот так любимый некогда сын стал чуть ли не противником его, и сейчас он снова будет предлагать разграбить Барцелону, но Теодорих Второй сказал следующее:
— Отец, я тоже буду вести себя благоразумно. Но как только мои братья — Торисмунд и Эйрих — вывезут из столицы вандалов сестру и как только её нога ступит на землю твоего королевства, я со своей дружиной и дружиной Фридериха, который уже скоро должен вернуться из разведки, вернёмся в Барцелону и отомстим за Рустициану... — Глаза Теодориха Второго загорелись бешенством, а руки ещё сильнее сжали рукоять меча, висевшего у него на поясе.
«Неужели он, баранья башка, не понимает: сделать подобное — равносильно, что объявить войну Гензериху, который вслед за моей дочерью приплывёт со всей своей силой в Барцелону и нападёт на Южную Галлию... Если нападёт только он один, а то ведь и римский легат Литорий после отъезда Аэция в лагерь гуннов к сыну ждёт не дождётся, чтобы подвергнуть Толосу разграблению и ещё раз прославиться...
Король мрачно выслушал сына, потом, не глядя на него, медленно встал из-за стола, склонился над ним угрожающе и, не повышая голоса, произнёс:
— Мой приказ касается только старшего сына и младшего... Ты здесь ни при чём, запомни это и уходи!
Теодорих-сын демонстративно поклонился и, не встречаясь взглядом с отцовским, вышел из покоев короля, а очутившись за дверью, побежал, громко стуча подошвами по мраморному полу; миновав атриум, оказался на улице, вырвал из рук оруженосца повод, вскочил в седло и рванулся галопом с места, направив коня к оливковой роще, где стоял его дом для отдохновения, в который он поселил большое количество наложниц...
* * *
По расчётам короля-отца корабль с Рустицианой должен успеть прийти в Барцелону до начала в Адриатическом океане сильных штормов, ибо они не оставляют в покое и Средиземное море. Сведение от дочери, что она уже отплывает из Карфагена, Теодорих получил через гонца, который на торговом судне прибыл в Барцелону, а через двое с половиной суток бешеной скачки, почти насмерть загнав коня, уже входил в покои Толосского дворца. В послании дочь короля писала о сроках прибытия. Но ни она, ни сам Теодорих не могли даже предположить, что король вандалов, обезобразив невестку, уготовил ей и гибель возле Балеарских островов, где находятся базы пиратов, от рук морских разбойников... Роль их исполнят на борту лёгкой миопароны, отбитой у римлян, воины-вандалы, переодетые в белые рубахи и малиновые шаровары, успеющие к этому времени отрастить бороды[64]... Поэтому перед отплытием судна, специально выделенного для Рустицианы, Гензерих вызвал к себе наварха, изложил ему (только одному) этот план и далее сказал, что он, король вандалов, якобы вынужден прибегнуть к этому, потому что пожалел отцовские чувства короля вестготов, ибо лучше будет, если Теодорих никогда не увидит своей обезображенной дочери...
Сейчас трудно что-либо сказать о том, действительно ли король вандалов говорил правду в отношении отцовских чувств, хотя можно и объяснить его поступки: под влиянием ярости, когда ему обманно сообщили об измене невестки, он приказал обрезать у неё уши и нос, но потом одумался и поставил себя на место Теодориха, ибо сам имел дочерей...
А зачем тогда понадобился этот спектакль с переодеванием и нападением, как в самых плохих римских пьесах? Не проще ли в пути лишить Рустициану жизни, а судно возвратить... Но королю вандалов хотелось, чтобы всё выглядело правдоподобно... Ибо слухи о захвате корабля пиратами и гибели Рустицианы обязательно дойдут до короля вестготов...
И вот в один из тёплых дней подул из пустынь Северной Африки в сторону Испании попутный знойный сирокко. Наварх приказал поднять паруса, а когда двухпалубный корабль повернул на северо-запад, то за вёсла уже взялись гребцы, ибо сирокко стал дуть под углом...
Капитан был полукровка. Мать-персиянка воспитывала его одна после гибели вандала-мужа в одном из сражений. И наварх многое в своих убеждениях воспринял от матери и даже веру её в бога света Митру, хранителя правды и противника лжи.
Капитан молился этому богу как всегда перед самым восходом солнца, потому как Митра предвещает появление небесного светила, ибо он мчится по небу на своих белых конях даже ночью; он вечно бодрствующий, и поэтому отблеск его света даже ночью чуть освещает землю... В предсолнечный миг на палубу корабля вышла из своей каюты Рустициана, и тогда увидел её наварх в широких белых одеждах и белом широком шарфе, закрывающем голову и лицо, лишь одни глаза были видны высокой женщины, и они сразу поразили Анцала, так звали капитана: они были настолько синие, глубокие и живительные, словно оазисы в пустыне. В Африке говорят, что между двумя оазисами и находится жажда твоей жизни... «А в чём жажда твоей жизни, Анцал? — задал себе вопрос капитан. — Неужели в том, чтобы стать пособником смерти ни в чём не повинной, которая уже однажды подверглась глумлению и казни?!»
И наварх принимает решение повернуть судно, пока не поздно, к Гадирскому проливу, пройти между африканским Танжером и испанским Кадисом, войти в Атлантический океан, обогнуть западный берег Испании и выйти к устью Гарумны. Надо сказать, что капитан принял смелое решение — ведь выйти в океан на двухпалубном корабле не каждый отважится... Но Анцал в первую очередь полагался на волю Митры, который на стороне правдивых и справедливых, к тому же знал, что пока океан будет оставаться спокойным; и в точности наварх рассчитан, что к устью Гарумны корабль прибудет в то время, как только начнутся сильные ветры, а, следовательно, и большие приливы, которые станут лишь на руку...
Наварху приходилось бывать в тех местах и проводить суда по Гарумне до самой Толосы; река опасная, со множеством каменных перекатов — их приходилось, когда река совсем мелела, обходить посуху, перевозя суда на катках. В некоторых местах берега Гарумны близко сходились и считались тревожными, ибо по ним шастали, нападая, разбойничьи шайки, состоящие в основном из беглых рабов-сервов, а также вконец разорившихся крестьян-колонов.
Главная река юго-западной Галлии Гарумна берёт начало в испанских Пиренеях на высоте римской мили над уровнем моря. Проходя через глубокое поперечное ущелье, Гарумна покидает Пиренеи и в северо-восточном направлении течёт к Толосе, где вступает в широкую долину, ограждённую двумя рядами холмов. От Толосы поворачивает на северо-запад и мчит свои воды к древнему галльскому поселению Бурдигале[65], а далее впадает в Атлантический океан. При устье Гарумны стоит маяк.
Но из океана самым быстрым способом можно попасть в столицу вестготов во время приливов, называемых здесь маскаре. На них-то и рассчитывал наварх Анцал. Эти приливы образуют целые водяные горы, нужно только не бояться, чтобы эти горы подняли твоё судно и помчали на своём гребне вверх против обычною течения, минуя такие притоки Гарумны, как с правой стороны, так и с левой. Тогда эти притоки в приливы как бы захлёбываются, а в обычное время они мешают идущему вверх судну своими потоками.
Океанские суда на гребнях водяных гор поднимаются только до Бурдигалы, а меньшие, вроде двухпалубною корабля Анцала, доплывают до самой Толосы.
Корабль уже полным ходом резал носом волны Средиземного моря в сторону пролива; так же рано утром на палубе Анцал снова повстречал Рустициану. Сегодня в её глазах наварх прочитал вопрос, дочь короля вестготов явно недоумевала, почему корабль вдруг изменил курс — по маршруту в Барцелону мимо Балеарских островов ей однажды пришлось проходить.
— Госпожа, позволь мне докончить поклонение богу Митре, а потом я зайду к тебе в каюту и всё объясню...
— Да... Здесь объясняться не следует... Стены и палуба тоже имеют уши... — И вдруг она смутилась и замолчала: хотела как бы уязвить наварха, ибо палуба на корабле всё-таки открытое пространство... Анцал всё понял и поспешил устранить возникшую неловкость при упоминании об ушах...
— На корабле стены называют переборками. Но это не меняет суть тобой сказанного, госпожа... — И наварх глазами показал на вышедшего из-за высокой канатной бухты матроса-уборщика.
— Хорошо... — оценила Рустициана возникшую обстановку и отзывчивую душу капитана. — Я тоже помолюсь своему Богу и Богородице.
Рустициана, как и в прошлый раз, закутанная во всё белое, с таким же широким шарфом, закрывающим лицо, повернулась на восход солнца и стала налагать на свою грудь крест, кланяться и молиться, произнося слова молитвы:
— Царица моя преблагая, надежда моя Богородица! Приятельница сирых и странных... Обидимых покровительница!..
Анцал слышит полные скорби слова, прерываемые глубокими вздохами, и теперь молча задаёт и свой вопрос: «Какой Богородице молится она?..»
— Зришь мою беду... Зришь мою судьбу и скорбь... Помоги мне, немощной...
В глазах госпожи появляются слёзы, и Анцалу до глубины души становится жаль эту женщину: он искренне обращается с просьбой к Митре, чтобы бог везде и всюду помогал несчастной...
А обращаясь к богу, Анцал потрясал в руке связкой священных прутьев-баресман. Но, совершая затем возлияние в море смесью молока, масла и мёда, наварх снова услышал:
— Обиду мою... разреши... — И опять долгая-долгая пауза. — К Тебе... О, Богомати!.. К Тебе взываю... Во веки веков... Аминь.
Перекрестилась ещё раз госпожа, повернулась и пошла, развевая скорбными складками белой одежды. А Анцал вдруг представил обезображенное, без ушей и носа, некогда прекрасное, судя по глазам, лицо этой женщины и содрогнулся...
— К тебе, бог солнца, непобедимый Митра, к тебе, юноша в персидской одежде, убивающий быка, занимающий середину между небом и землёй, к тебе, рождённый из камня на берегу реки в тени Священного дерева, к тебе, с пылающим в руке факелом, озарившим тьму, тоже взываю... О Митра, возьми под защиту эту бедную женщину, возьми под защиту и мой корабль, чтобы я смог доставить её перед очи отца и родных... Тем самым, бог Митра, мы с тобой восстановим правду и отринем ложь, а ведь к этому ты всегда призываешь...
А через какое-то время Анцал уже стучался в каюту к госпоже. Ему открыла служанка, смуглая, как и он сам, с вьющимися на голове тёмными волосами. Сверкнув белозубой улыбкой, она впустила наварха.
Анцалу как-то пришлось побывать в африканском городе Гиппоне, и в один из дней зашёл в храм с золочёным куполом, заканчивающимся таким же золочёным крестом. Зашёл из праздного любопытства и увидел внутри храма много нарисованных красивых икон; вёл службу высокий священник с кадилом в руках, в ярком окружении, как показалось Анцалу, зажжённых свечей. Ему сказали потом, что священника зовут Блаженный Августин, он является епископом Гиппонским и имеет славу человека учёного, писателя и человека, отличающегося воздержанием и благочестием ...
«К воздержанию и благочестию призывает и бог Митра», — подумал тогда Анцал.
А теперь, перешагнув порог каюты, наварх будто снова попал внутрь храма в Гиппоне, здесь также горели свечи, а переборки каюты были увешаны иконами: и сразу наварху бросилась в глаза нарисованная красивая женщина в красном покрывале, со слегка склонённой к младенцу головой. На лице её особенно выделялись глаза, чем-то схожие с глазами Рустицианы, только они были другого цвета, но такие же выразительные...
— Вот к ней ты обращалась недавно, моя госпожа? — спросил Анцал.
— Да, к Ней... — тихо ответила Рустициана. — К Матери Бога...
И тогда наварх, помолчав, начал рассказывать. Женщина слушала и... не удивлялась, видимо, она хорошо знала характер своего свёкра, лишь бросала взгляды на стоящее в углу распятие...
После того как наварх всё ей поведал, напоследок сказав, что те, кто должен был убить её, арестованы и сидят в нижних трюмах, Рустициана поблагодарила его и снова перекрестилась... А когда он ушёл, женщина упала на колени перед иконой Богородицы и подняла на неё свои очи:
— О, Богомати, значит, Ты услышала мои молитвы и в лице этого наварха послала мне спасителя... Кланяюсь Тебе, Богоневестная, начальника тишины, Христа родившая. Единая Пречистая... — И, повернувшись в сторону распятия, воззвала: — Иисусе Предвечный, грешников спасение, Иисусе Сыне Божий, помилуй меня...
Заглядывая вперёд, поведаем, что истинную христианку Рустициану ждало ещё немало испытаний. Преодолев их, она удалилась в православный монастырь, где и окончила свой, предназначенный ей свыше, скорбный жизненный путь...
* * *
Свойство любой империи таково, что необходимым условием её существования должны быть или завоевание чужих территорий, или политика диктата другим народам. Третьего попросту не дано...
В этом ряду Римская империя не была исключением, поэтому одно из великих её целей являлось покорение Галлии.
Именем Галлия римляне называли две обширные области — Северную Италию, заключённую между Альпами, Апеннинами и рекой Рубиконом, и страну, ограниченную Средиземным морем, Пиренеями, Атлантическим океаном, Рейном и снова Альпами. Здесь проживали племена — лигурийские, иллирийские, иберийские, гельветские, племена бельгиков, секван, лингонов; достаточно познакомиться с записками Юлия Цезаря и узнать названия других. Из записок, кстати, можно почерпнуть много любопытных подробностей из жизни этих племён, их обычаев и нравов. Ещё Марк Порций Катон (Старший) отмечал приверженность галлов «к двум вещам — военному делу и красноречию».
Умение галлов воевать подчёркивал и знаток военного дела Цезарь, но он ещё характеризовал их людьми любопытными; всех прохожих они останавливают и заставляют рассказывать всевозможные были и небылицы. Недаром в почёте у галлов был бог Огмий, от языка которого, как отмечалось выше, отходят к слушателям золотые нити...
Но главными богами в Галлии оставались Тейтат, Таранис и Езус. Первый подобен римскому Марсу, второй — Юпитеру, а третий — Меркурию. Им приносились в жертву только человеческие существа — военнопленные, осуждённые злодеи и разного рода преступники.
В лунную ночь косматые люди[66] собирались на поляне в лесу перед вырезанными из дерева грозными богами и под удары барабанов и низких звуков труб отрезали головы обречённым; жрецы-друиды, напившись жертвенной крови и опьяняющего напитка, громко пели священные гимны, а потом кидали головы и тела жертв в огонь...
Несмотря на строгие запреты римлян (вплоть до казни), галлы продолжали устраивать свои кровавые вакханалии; делали они это и тогда, когда арианская церковь, ставшая национальной церковью следующих за римлянами завоевателей Галлии — готов, производила на лесные сборища облавы и «в качестве кары за невыполнение обетов целомудрия», как было записано в одном арианском источнике, пойманных с поличным обращала невзирая на личности в сервов, то есть рабов, которые пополняли число рабов в королевских доменах или церковных поместьях.
Сервами становились также и те свободные граждане, которых присудили к смертной казни, но которые до свершения её успели каким-то образом найти защиту у алтаря. Существовал и такой церковный закон...
Без рабов не обходился, разумеется, и толосский епископ Сальвиан. Среди них находился один, предсказывающий судьбу и осуждённый за это, галл Давитиак, обладающий огромной силой; епископ совсем недавно сделал его своим главным телохранителем, а после случая с разрушением храма и своим... предсказателем.
Поначалу, став рабом, Давитиак освоил работу пахаря. В Южной Галлии пахота производилась весною и зимою. Пахали землю железным лемехом. На одном пергаменте сохранился рисунок — мужчина в короткой тунике пашет плугом, в который впряжена пара волов. Плуг имеет вид «плута с зубом». Ярмо находится на затылке волов; правя ими, рука пахаря с палкой поднята вверх, левой ногой он сильно надавливает на пятку лемеха. Кстати, этим мужчиной мог быть и Давитиак... У галлов, а затем и готов на полях применялись и тяжёлые колёсные плуги, как у римлян.
Сальвиан заметил трудолюбивого, исполнительного, сильного серва Давитиака и перевёл его к себе в дом. А затем раб, когда епископ Сальвиан собирался служить в храме, стоящем на высоком берегу Гарумны, по ту её сторону, сказал, что господину не следует туда ехать, так как храм во время литургии разрушится... Сальвиан обругал Давитиака:
— Снова за старое... Забыл, что за свои предсказания осуждён в рабство?..
— Да я ради тебя, епископ...
Храм действительно разрушился, придавив насмерть нескольких прихожан; епископ только чудом избежал смерти... А произошло следующее: воды реки сильно подмыли берег, в конце концов он и «поехал» и потянул за собой всё, что на нём стояло.
После этого Сальвиан приблизил Давитиака, и тот стал ему жизненно необходим.
Давитиак, естественно, сопровождал Сатьвина и в поездке в Барцелону, предпринятой по приказу Теодориха вместе с его сыновьями Торисмундом и Эйрихом.
Но все они очень удивились, когда к положенному сроку судно с Рустицианой не вошло в порт. Подождал день-другой, но корабля так и не было, хотя карфагенские купцы, прибывшие в Барцелону, заверили, что судно с невесткой короля Гензериха отправилось в море и взяло курс на Балеарские острова... Тогда епископ отозвал в сторону Давитиака и тихо сказал ему:
— Погадай на корабль и жизнь Рустицианы.
Лунной ночью Давитиак пришёл на причал (как раз стояло полнолуние), воздел руки к небу, что-то начал шептать, плеваться, растирая плевки подошвами сандалий, снова шептать, а утром доложил Сатьвиану:
— На Средиземном море судна, на котором плывёт Рустициана, я не увидел... Но она жива, я это знаю точно...
— Откуда тебе известно, на каком судне она плывёт? строго спросил епископ.
— Мне поведали об этом духи... Судно двухпалубное гребное и с парусами. Скажи, господин, Торисмунду и Эйриху, что нам нужно возвращаться обратно. Сюда корабль с их сестрой не придёт... Скоро подуют сильные ветры, и они на своих крыльях доставят в Толосу отцу его несчастную дочь...
И снова предсказание Давитиака сбылось — на гребне океанской приливной волны, как и задумано было навархом Анцалом, корабль с Рустицианой вошёл в столицу вестготов.
Когда дочь короля сошла с палубы на берег, то плач раздался со всех сторон. И тут она увидела старика, давно немытого, согбенного, в пыльной власянице, и с трудом уз нала в нём своего отца. И тогда-то, не удержавшись, она тоже заплакала...
Сальвиан, прибыв во дворец, обратился к королю:
— Повелитель, нами управляет Бог. И правда его нравственного управления такова: бедствия, постигающие людей благочестивых, есть суть испытания, а бедствия, постигающие негодных людей, есть суть обвинительного приговора... В твоём случае, король, видна суть испытания благочестивого... Прими сие и молись Вездесущему!
Но недалёк тот день, когда правду нравственного управления Божества изложит Сальвиан и римскому легату Литорию...
II
Хорошо бы ехал ось Кальвисию Туллу в такую солнечную погоду по Фламиниевой дороге из Рима в Равенну в окружении красивых рабынь, если бы его не тревожили мысли о дочери императрицы Плацидии Гонории... Да, и если бы не эти мысли, то и думалось бы бывшему сенатору хорошо, вспоминая дни, проведённые у своего лучшего друга Клавдия. Когда ещё выпадет такая встреча?.. Хотя, не соверши Гонория этот побег из равеннского дворца, то такая встреча состоялась бы снова, когда весь императорский двор приехал бы в Рим, и тогда Кальвисий опять обнял бы друга и на крыше его римского дома выпил бы в вечернюю прохладу по фиалу вина из холодного подвала. Но Гонория выкинула такое, что тут пока не до хороших воспоминаний. Поймают её — отвечать придётся не только другу, но и ему, Кальвисию, потому как дознаются, что вместе прятали беглецов в храме Митры. Да и сам посвящённый служитель бога Пентуэр, которого хорошо знала ещё в Александрии рабыня Джамна, узрев, кого надобно спрятать, растерялся поначалу, сообразив, чем это Грозит ему, но быстро взял себя в руки и согласился помочь. Только, скорее всего, на его быстрое согласие подействовали высыпанные рабом Клавдия из туго набитого мешочка драгоценные камни и золото...
Успокаивало лишь то, что Гонория, её рабыня Джамна и раб-ант находятся в надёжном месте, под защитой самого Митры... А там скоро должен вернуться из морского похода сын Клавдия Евгений, и влюблённые придумают сами, что им делать дальше... Оставаться им в Италии нельзя. Существуют страны, куда можно поехать, — например, в Грецию, Причерноморье или Ливию, которая после призвания Бонифацием туда вандалов стала независимой от Римской империи...
Едущих с севера колесниц и повозок сегодня встречалось немного, и вообще в последнее время мало кто стремился в полуголодный Рим, хотя в Равенне тоже жилось не сладко. Тревожные думы о Гонории постепенно стали вытесняться из головы бывшего сенатора другими — мыслями о положении в империи; они стали занимать Кальвисия по привычке, хотя он давно человек не государственный...
Вспомнив недавно о сыне Клавдия, Кальвисий не мог не вспомнить о своём... Рутилий — военный. А что служба на море, что служба в армии — одно и то же: тяжёлая служба, ничего не дающая... Слава богам, что сын уже наверх, начальник... А простому матросу или солдату приходится нелегко — побои и раны, суровые зимы в походах или изнуряющее трудами и жарой лето, беспощадная война и не приносящий им никаких выгод мир — вот их вечный удел...
Казалось бы, самое выгодное положение в империи быть императором, но и он не всегда наслаждался безмятежным счастьем. Как часто он боится потерять власть или стать уничтоженным. Сколько цезарей было убито — тайно и явно!
Правда, и в императоры попадали разные люди — и знатные, и Простолюдины. Одни из них являлись серьёзны ми государственными деятелями, другие — бесталанными честолюбцами, с явными признаками скудоумия, вроде нынешнего Валентиниана III. Были и мрачные злодеи и даже сумасшедшие, как Калигула. А некоторые совсем не занимались делами империи, перелагая их на плечи своих подчинённых; такие, с позволения сказать, правители становились тщеславными актёрами, ловкими гладиаторами, самозабвенными танцорами и мнимыми великими художниками...
Чтобы нарисовать в стихах, по задумке Нерона, вселенский пожар, этот император приказал поджечь Рим, правда, потом он в поджоге обвинил первых христиан и подвергнул их жесточайшей казни, вначале распнув на крестах, а затем ещё живых сжёг...
Рим знал и других сумасбродов — Коммода, Гелиогабала, дававших простор беззаконию, что также влекло за собой гибель множества невинных людей.
Прослеживая таким образом путь императорской власти, можно выявить одну закономерность: чем ближе Римская империя подходила к своему упадку, тем всё бессовестнее становились её правители... С каждым поколением они имели свойство как бы вырождаться и быть ничтожнее. Разве нынешнего Валентиниана III можно сравнить с Августом или Юлием Цезарем?! Ну ладно, нынешний император, как говорится, судьбой пришибленный, чего с него взять?! А император Гонорий, спутавший Рим со своим петухом, чем он лучше своего племянника-недоумка?! А всё же власть-то в их руках, и от воли таких правителей (если только она есть у них!) зависят жизни подчинённых, в том числе и моя, не говоря уже о жизни моего сына, человека военного, и жизнь сына Клавдия... Прошло уже немало с того времени, как поступили о них первые сведения, а теперь снова мы ничего о своих сыновьях с Клавдием не знаем...
* * *
Как ни отговаривали друзья — Рутилий и Евгений, ссылаясь на военного теоретика Вегеция, не предпринимать нападение на главную базу пиратов в Сардинии, главнокомандующий мизенского флота Корнелий Флавий стоял на своём, проявляя отчаянное упрямство, несмотря на свой маленький рост и такие же по размеру ручки, которыми он размахивал, как крыльями ветряной мельницы.
— Я — солдат! И сделаю так, как мне приказано... Пусть даже я поплачусь собственной жизнью... — твердил он одно и то же.
— Если бы речь шла только о твоей жизни! — также решительно сказал Рутилий.
— Как ты смеешь, наварх! — взревел Корнелий и снова завращал руками.
Кому-то могло показаться, что они приделаны к туловищу главнокомандующего с помощью верёвочек, как у театральной куклы, и кто-то, дёргая за эти верёвочки, заставляет и руки так отчаянно крутиться...
На этот раз Корнелий Флавий взревел с такой яростью, что и глаза его выпучились так, что ещё миг-другой, они выскочат из орбит и повиснут на таких же верёвочках возле носа... И всё-таки им повезло, что, разгромив главную базу морских разбойников, они потеряли два корабля, но отпраздновать победу как следует им не пришлось; с других более мелких баз, как и предполагали Евгений и Рутилий, подошли корабли пиратов и зажали их на выходе в Тирренское море: суда противника быстро выстроились крутой дугой, а когда начался бой, то концы дуги сомкнулись, как клещи. Из них смогли только вырваться лёгкие суда, вроде миопароны Рутилия, а флагманская либурна одна из первых вместе с главнокомандующим пошла ко дну, разрезанная острозаточенными и окованными железом носовыми брусами двух пиратских кораблей...
Как ни сердились на Корнелия Флавия Рутилий и Евгений, но его стало жалко. В сущности, он был неплохой человек, но привык повиноваться любому приказу, хотя знал, чем всё это могло кончиться...
Может быть, их миопарона вослед хлебному каравану, кстати, умело организованному погибшим Флавием, тоже благополучно вошла бы в порт, находящийся в двадцати милях от «вечного города», если бы сами не допустили оплошность — им, пробившимся через кольцо, надо было бы взять курс резко на восток, а они, взяв направление на Рим, оказались не так уж далеко от берегов Сардинии, и корабли пиратов, базировавшиеся на севере острова, вскоре преградили им дорогу... После короткого боя пятнадцать судов мизенского флота морские разбойники взяли снова в окружение и привели их уже под конвоем в свой порт. Евгения вскоре в качестве раба продали местному владельцу оливковой плантации, а Рутилия, узнав, что он наварх, повесили на рее.
Остров Сардиния являлся удивительном местом — его населяли в основном пираты и их семьи; владелец оливковых деревьев тоже был когда-то морским разбойником. Хотя Сардиния официально и находилась под властью Рима, но она плевала на все его законы и распоряжения.
Был на острове и свой римский наместник с преторианской гвардией. Но пока Евгению заявить ему о себе не было никакой возможности...
Жив человек — он надеется. Главное, что возлюбленный Гонории жив.
* * *
Один из митреумов (храмов в честь бога Митры) в Риме находился на правом берегу Тибра, в районе «грязных промыслов», там, где селились и работали кожевенники, гончары, землекопы и часть кузнецов, хотя их труд не приравнивался к грязному... И посетители здешнего митреума тоже были в основном люди этих профессий. Вот сюда и спрятал Пентуэр Гонорию, её рабыню Джамну и раба-анта Радогаста под надзор посвящённого жреца Митры Виридовика.
Судя по имени, этот служитель персидского бога был из потомственных галлов, и когда Гонория с ним познакомилась поближе, то оказалось, что это так. Галла Виридовика на служение богу посвятили в четвёртую степень, степень льва, тогда как Пентуэр имел степень шестую — бегунов солнца. Но это не мешало им дружить и во всём доверять друг другу.
Выходили они служить в одежде, соответствующей той или иной степени посвящения: Виридовик — в шкуре льва, Пентуэр с солнечной короной на голове и в одежде с нарисованной на ней огненной колесницей. Помогал Виридовику вести службу его напарник, имеющий всего лишь первую степень посвящения — воронов, поэтому во время поклонения Митре ему приходилось хлопать крыльями, приделанными к рукам. Кстати, Блаженный Августин и по этому поводу сказал своё гневное слово:
«Некоторые (то есть участники богослужения Митре), подобно птицам, хлопают крыльями и подражают карканью воронов, другие рычат, словно львы; и видим мы, как те, которые считают себя мудрыми, позорнейшим образом превратились в глупцов».
Митреум теперь окружали базилики. Христианские священники пока терпимо относились к служителям персидского бога, правда, как и Августин, называя их глупцами, но знали, что те тоже придерживались нравственных аспектов морали, не как, скажем, жрецы, в храмах Изиды или Венеры, где налицо творилось прелюбодеяние.
Храмы Венеры в Риме были разрушены, а единственный храм Изиды по приказу императора Тиберия был разобран по частям, когда в нём один знатный патриций с помощью жрецов совратил уважаемую римскую матрону.
Патриций давно домогался этой не менее знатной, чем он, женщины, но она постоянно отвергала его. Тогда он подкупил жрецов, и те внушили матроне, что она сегодня должна отдаться богу Анубису — таково желание богини Изиды[67].
Матрона вечером явилась в храм, жрецы отвели её в отдельные покои, и тогда туда пожаловал патриций, напялив на себя маску Анубиса; позже домогатель признался матроне, что это был он в маске Анубиса; матрона пожаловалась императору, и тот приказал храм Изиды разобрать, жрецов в Тибре утопить, а патриция из Рима выслать...[68]
Христианские священники относились к жрецам Митры снисходительно ещё и потому, что в их рассказах о персидском боге находили много такого, что было в Библии.
...Родившись из камня, юный бог Митра обрезал с фигового дерева листву и сделал из неё себе одежду, он сорвал и фиг, и это была его первая еда. Тотчас Митра вступает в борьбу с богом Солнца и побеждает его. Но, побеждая, протягивает правую руку дружбы и надевает на бога Солнца лучезарный венец, в котором тот ежедневно в колеснице совершает свой бег...
Но не дремлет главный демон зла Ариман, он напускает на Митру разъярённого быка. Митра схватил левой рукой за голову быка, погрузив пальцы в ноздри, а правой рукой вонзил ему глубоко в шею нож. И тут произошло великое чудо — из спины быка выросли хлебные злаки и целебные травы, а из пролитой крови — виноградные лозы.
Во время борьбы Митры с быком появились на земле и первые люди. Но Ариман решает погубить их и насылает на землю потоп. Только двое — мужчина и женщина — спасаются в ковчеге, сделанном Митрой, и от них пошли уже новые люди...
Ариман не успокаивается, он посылает на землю всепожирающий огонь. И опять на помощь приходит Митра и на этот раз и сам бог Солнца. Они тушат этот огонь, устраивают пир, а после пира Митра возносится на небо.
А вознёсшись, Митра становится защитником людей от злых демонов и владыки их Аримана, но защищает он только тех, кто живёт благочестивой жизнью и ревностно поклоняется ему...
Об этом рассказал жрец Виридовик Гонории, Джамне и Радегасту, когда их навестил. Они жили в самом дальнем помещении митреума, из которого шёл подземный ход, спускающийся к Тибру. В помещении стояли два ложа — для госпожи и рабыни, Радогаст спал перед входом, положив, как всегда, под голову акинак, подаренный Евгением; Джамне — бывшей поклоннице Митры — иногда очень хотелось присутствовать при богослужении, проводимом посвящёнными, но Виридовик запретил, ибо внешность её была слишком заметной... А гулять и дышать свежим воздухом было разрешено только ночью и только на крыше храма, куда они поднимались по ступенькам. Пока ни Гонория, ни бывший сенатор Клавдий не знали, когда кончится это заточение: ждали Евгения и надеялись, что он разрешит создавшуюся ситуацию...
Жрец Виридовик приходил к ним всегда закутанный в паллий, не доверяя никому, сам приносил еду. Но как-то, то ли забыл переодеться, то ли ему было некогда, он пришёл в львиной шкуре, в которой проводил богослужение. Гонория понаслышке знала, что у жрецов восточных богов существуют разные степени посвящения, а всего этих степеней семь, и поэтому спросила Виридовика:
— А почему только семь, а не больше или меньше?
— Потому как они приравниваются к семи планетным сферам, через которые проходит душа умершего, прежде чем она достигнет восьмого неба и полного блаженства, — ответил жрец. — Но посвящённые только с четвёртой степени могут участвовать в таинствах посвящения, жрецам первых трёх степеней делать это запрещено...
— А тебе дозволено? — спросил Радогаст, явно заинтересованный этим разговором, ибо на его родине жрецы приносили жертвы вырезанным из дерева идолам, поддерживали на капище денно и нощно огонь, и только...
— У меня четвёртая степень посвящения — степень льва, значит, дозволено, — с гордостью ответил Виридовик.
— Расскажи, как происходят таинства? — попросила Гонория.
Жрец насупился и уже хотел уходить, но Джамна остановила его:
— Прости, Виридовик!.. Я госпоже не успела сказать, что об этом спрашивать нельзя...
— Да, Августа... Знаешь, почему Сократ принял смерть? А всё потому, что имел неосторожность открыть непосвящённым некоторые тайны мистерий Озириса...
— Но я думала, что принял он яд в наказание за то, что зло высмеивал нравы... А казнь совершил над собою сам...
— Отчасти, госпожа, отчасти... Кстати, о ритуальном кольце посвящения — так называемом символическом прохождении через смерть и воскресение можно прочитать у Апулея в его книге «Метаморфозы»... Ведь в конце своей жизни Апулей стал жрецом богини Изиды в Карфагене, и ему даже была поставлена статуя... Только граница между символической и реальной смертью при посвящении весьма условна... Но, кажется, я сам сказал больше того, что полагается говорить... Будьте осторожны, а я приду завтра. — Предупредив узников словами, ставшими обыденными, жрец вышел.
— Что же там написано у Апулея? — задала сама себе вопрос Гонория, когда Виридовик скрылся за дверью: — A-а, вспомнила!.. Слушай, Джамна: «Итак, внимай и верь, ибо это — истина. Достиг я рубежей смерти, переступил порог Прозерпины и вспять вернулся, пройдя через все стихии, в полночь видел я солнце в сияющем блеске, предстал пред богами подземными и небесными и вблизи поклонился им...» Виридовик сказал, что при посвящении разница между символической и реальной смертью и воскресением весьма условна. Значит, они происходят как бы на самом деле...
— Госпожа, вижу, что тебя очень интересует этот вопрос... Однажды в Александрии я случайно подслушала разговор Пентуэра с другим жрецом — посвящённым служителем Митры. Они говорили о какой-то лодке, которую надо им отправить в море, говорили о буре, и что эту лодку нужно пустить в открытое море именно в бурю... Говорили и о человеке, коего тоже надо поместить связанным в лодку.
«Если лодка не утонет и её прибьёт к берегу вместе с тем человеком, — сказал другой жрец, — тогда мы продолжим испытания». Мне кажется, госпожа, что Пентуэр и жрец говорили о посвящении того человека в какую-то степень. Хотя я точно не знаю...
— Почему меня это интересует, Джамна?.. Нет! Нет! Я не собираюсь стать жрицей... Не собираюсь принимать участие в каких-то мистериях... Зачем мне это?! Я просто думаю, что всё, что происходит с нами, — это тоже в своём роде посвящение... Посвящение в степень независимости... — Гонория помолчала, покусывая губы, отчего они сразу сделались пунцовыми, и добавила: — И может быть, в степень любви...
* * *
В Равенне тоже установилась хорошая солнечная погода. Любимой служанке Кальвисия Тулла Техенне, уроженке Ливийской пустыни, больше по душе длинные солнечный лучи, нежели бесконечные нити дождя, который часто случается на севере Италии.
Проехали южные городские ворота. Кальвисий поздоровался с начальником стражи — знаком с ним уже не один год, поинтересовался: не слышно ли что о сбежавшей дочери Плацидии? Тот ответил:
— Как в воду канула... Евнух Антоний ищет, но пока никаких следов... Ты сам знаешь, Кальвисий, если он взялся за дело, то доведёт его до конца... А императрица вне себя от злости...
— Ничего, позлится и перестанет... — сказал Кальвисий, но так вышло, что сказал как бы для себя, потому что повозка оказалась уже внутри города (а может быть, на это и рассчитывал) и крепостная стена осталась позади.
Проехав с полмили по булыжной мостовой центральной улицы, возница ввернул на более тихую, обсаженную по обеим сторонам пиниями. Увидев их, Техенна пришла в восторг:
— Кальвисий, я не раз себе задавала вопрос, что напоминает мне серебристая крона этих деревьев... Смотри, Смотри! Я нашла ответ! Напоминает стеклянную вазу на тонкой ножке, в которую можно положить виноградные гроздья...
— У тебя, милочка моя, поэтическая душа, как у Сапфо... «Я негу люблю, юность люблю, радость люблю и солнце. Жребий мой — быть в солнечный свет и в красоту влюблённой», — процитировал бывший сенатор строки из стихов знаменитой поэтессы с острова Лесбос.
— Говорят, что она будто бы бросилась с Левкадской скалы из-за неразделённой любви к красавцу Фаону? — произнесла красавица гречанка Алкеста.
— Случись что, вы, мои хорошие, со скалы не станете бросаться из-за меня... — утвердительно проговорил Кальвисий Тулл.
— Умирать из-за любви?.. Нужно было... А потом, Кальвисий, ты же не Фаон... — подал кто-то из женщин голос из глубины повозки.
— Эй, гляди у меня! — погрозил пальцем бывший сенатор.
— Так ведь Сапфо любила только девочек... — сгладила острый угол Алкеста.
— А мы любим Кальвисия Тулла! — дружно провозгласили рабыни.
Повозка остановилась у входа в сад перед высоким патрицианским домом. Выбежал слуга и, помогая хозяину вылезти из повозки, сказал ему:
— Господин, тебя с раннего утра дожидаются посланники из императорского дворца.
Из атриума вышли два человека, истинность профессии которых угадывалась при первом взгляде на них: оба были одинакового роста, наглухо запахнутые в паллии, топорщащиеся сбоку от рукоятей мечей: секретари...
— Не распрягай лошадей! — приказали они вознице. — Кальвисий, едем к корникулярию.
— Прямо сейчас?.. — удивился бывший сенатор, уже догадываясь, для чего его вызывает Антоний Ульпиан. — Так надо бы умыться с дороги, почиститься...
— Во дворце мы тебя и умоем, и почистим... — нагло пообещали секретари.
«Это всё по поводу Гонории... Буду молчать как рыба. Но они же, сволочи, выбьют всю правду... — Кальвисий взглянул на секретарей, расположившихся в повозке напротив, ухмыляющихся, со стальным блеском в глазах... — От таких «посланников» пощады ждать не приходится... Но ты погоди, не хорони себя раньше времени... — И, вспомнив разговор с рабынями, тоже ухмыльнулся. — Я ведь давеча сказал им, будто в зеркало гадателя смотрел: «Случись что со мной...» Вот, кажется, и случилось...»
В таблине Антония, куда доставили бывшего сенатора, сидел Себрий Флакк...
«Не ожидал его здесь увидеть! Хотя почему не ожидал?! Он же тоже ездил на юбилей к другу в Рим... Значит, и Себрия пытали... Надеюсь, только вопросами... Иначе он бы не сидел тут, а гремел цепями в «крысиной норе» — в подземной темнице», — сразу промелькнуло в голове Кальвисия, и он поздоровался:
— Здравствуй, Себрий. Какими судьбами?
— И тебе здоровья, Кальвисий... Сейчас всё узнаешь.
Вошёл Антоний, за ним — скриб с деревянным ящичном на боку. Если евнух при императрице исполнял ещё и должность писца, то у себя он имел своего...
— Кальвисий Тулл, — обратился Антоний к бывшему сенатору, — твой друг Себрий Флакк ранее сообщил мне, что ты после праздника оставался у Клавдия ещё двадцать дней и можешь знать больше его, так как Себрий из Рима сразу уехал... Правильно я говорю? — Евнух неожиданно повернулся лицом к Себрию Флакку. Тот как-то сразу смутился, нервно заёрзал на скамейке.
— Правильно, — ответил Себрий, опуская глаза.
«Пёс... Уже что-то успел наговорить на меня...»
— А ты ничего не знаешь, Кальвисий? — Евнух снова обратился к бывшему сенатору.
— А что мне следует знать? — вопросом на вопрос ответил Кальвисий.
— Я говорю о Гонории, которая, по нашим сведениям, находится в Риме.
— Если она находится в Риме, так и задержите её там.
— Задержим... Она остановиться в Риме могла только у отца своего возлюбленного.
— Я даже не ведаю, кто у неё возлюбленный. Меня такие вещи не интересуют. У меня свои возлюбленные... — заявил Кальвисий Тулл.
— Дойдёт дело и до них, — пообещал евнух, явно недовольный ответами бывшего сенатора. — Всему своё время...
«Слава богам, что рабыни не знают, куда спрятали Гонорию...» — успокоил себя Кальвисий.
— Значит, ты о Гонории ничего не знаешь и ничего не ведаешь... Ладно. Я пока отпускаю тебя. Приедешь домой — подумай. Со своими возлюбленными-рабынями переговори. И скажи им, что в «крысиной норе» даже немые начинают говорить, — хохотнул Антоний, а скриб посмотрел на него, молча спрашивая: писать ли это или не писать?
— Пиши, пиши! Пусть всё читает наша императрица. У нас от неё тайн не существует...
«Ах, паршивец, злодей без яиц!.. Тайн, видите ли, не существует... Да ты окружён ими, как на подносе жареный кролик маринованными оливками, фигами и каперсами... Без этих тайн тебе и дня не просуществовать... Когда надо, ты перед Плацидией выдёргиваешь то одну, то другую, как шулер при игре в кости мечет нужную или «шестёрку», или «сучку».
— Хорошо, Антоний, я подумаю.
— Думай, да недолго. Сроку я даю тебе, любезный, два дня.
«А Себрий Флакк?.. Каков негодяй! Я оказался прав, не доверяя ему... И верно сделал, что сказал об этом Клавдию... А ведь Антоний своих секретарей, поди, уже и в Рим послал... К Октавиану-старшему... Правильно, что о друге думаешь. А сам-то как?» — снова тревожные мысли стали одолевать Кальвисия. А вернувшись в свой дом, подумал о сыне. Не ведал отец, что сына уже нет в живых... В конце концов, решение, которое он принял, может быть, и не пришло бы в голову бывшего сенатора, если бы он точно знал, что Рутилий погиб... Нет, не принял бы Кальвисий такого решения! Он бы потягался ещё с «пустой мошонкой» и не испугался бы его «крысиной норы»... И было не страшно в этом случае патрицию Кальвисию Туллу, что, засадив в тюрьму, его объявят государственным преступником и конфискуют всё имущество. Сына нет в живых, а тогда о чём беспокоиться?! Но Кальвисий думал, что Руталий ещё здравствует, и поэтому всё надо сделать так, чтобы не испортить ему карьеры и чтобы всё, чем владеет бывший сенатор, досталось его единственному наследнику... А это возможно, если Кальвисий... или примет яд, или в тёплой ванне вскроет себе вены...
«Впереди у меня ещё два дня... Я успею выразить свою неукротимую любовь к моим милым пташкам... Потом отпущу их на свободу. Расправляйте крылышки — летите!.. А то ведь и за ними придут, пообещал же евнух... — Кальвисий задумался. — Но вдруг завтра будет поздно?! От Антония можно ожидать всего... Сегодня, а не завтра я дам моим любимым рабыням «вольную». И пусть они идут, куда позовёт их душа... Дам на дорогу и золота. Они заслужили это, утешая меня на любовном ложе...»
Кальвисий дома в первую очередь смыл с себя дорожную грязь, а затем позвал ливийку Техенну:
— Милочка, у нас неприятности... Сегодня ты со своими подругами должна покинуть мой дом, я отпускаю всех на свободу, иначе вас замучают в подземной темнице... — И Кальвисий изложил ей всё, о чём речь шла в таблице помощника императрицы.
Ливийка поначалу не поверила словам господина, но потом только до неё дошла жестокость их смысла, и она ощутила со всей страшной силой безысходность положения, в котором они все оказались.
— Иди, позови тех служанок, кто был со мной в Риме.
И когда они собрались, Кальвисий также поведал им всё, о чём только что сообщил ливийке.
Рабыни сидели не шелохнувшись, до конца ещё не осознавая того, что может с ними случиться, если их отвезут во дворец.
— Но мы ведь ничего о Гонории не знаем. За что же будут нас-то пытать? — удивилась гречанка Алкеста, а у самой на глазах уже выступили слёзы...
— Об этом я тоже сказал корникулярию. Но ему это и неважно... Ему надо делать вид перед императрицей, что он прилагает все усилия по поимке Гонории...
— Кальвисий, а сам-то ты знаешь, где она находится? — спросила Техенна.
— Я знаю, моя хорошая, но даже тебе не скажу, чтобы не подвергать опасности, ибо в «крысиной норе» палачи вытянут из тебя это клещами...
— Кальвисий, чтобы спасти нас всех, в том числе и себя, иди и укажи корникулярию на местонахождение императорской дочери... Всё равно её найдут, — снова подала голос та из служанок, которая пряталась в глубине повозки.
— О тебе я думал всегда, что ты мерзавка, — серьёзно сказал Кальвисий. — Но всё равно и тебя я тоже отпущу на свободу... Вы сегодня же все уберётесь из моего дома... Все!
Бывший сенатор позвал своего помощника и велел писать на них «вольные».
— Обойдёмся без всяких у претора «поворотов», женщинам это и надо... Моей печати и подписи будет достаточно.
Затем он снова собрал рабынь, а их было шестеро; каждой вручил «вольную» и дал золота и каждую обнял и крепко поцеловал:
— Отныне вы не принадлежите мне... И никому, ибо отныне свободны... Идите, милые, и чем раньше покинете мой дом, тем лучше станет для вас.
Недолго думая, пять из них упорхнули сразу. Какая судьба их ожидает в дальнейшем?.. Они красивые, ухоженные, пока с деньгами... Как только они кончатся, эти бывшие рабыни, привыкшие ничего не делать, а только лишь ублажать господина, выйдут на улицу и потихоньку начнут осваивать самую древнюю профессию, которую легализовал и организовал великий афинский законодатель Солон, предоставивший мужчине полную свободу удовлетворения полового инстинкта до и вне брака. Так что место красавицам Кальвисия уготовано заблаговременно — в публичном доме. И об этом хорошо представлял бывший сенатор, но поступить иначе не мог... Осталась с ним ливийка. Она сказала: ехать некуда. В Ливии дома у неё никого не осталось, все умерли. Техенна заявила прямо, что вместе с господином тоже примет яд или в ванне вскроет себе вены.
— Я тебе разрешу принять вместе со мной смерть только потому, чтобы ты не повторила судьбу только что ушедших из моего дома бывших рабынь, которые в конце концов окажутся, и ты сама это понимаешь, в лупанарии... Хотя именно ты не только красива, но и умна и можешь выйти за кого-нибудь замуж... Родить детей.
— Иметь детей я мечтала... Но кому я нужна? Господин замуж меня не возьмёт... Возьмёт или ремесленник, или колон... Но я не умею трудиться. Я могу только ублажать мужчин... Служить им утехой... А я не хочу больше этого, поэтому приняла решение умереть тоже... И спасибо, что разрешил.
— Нет, всё-таки женщины... дуры... Я позволил ей умереть, и она ещё благодарит меня... — сказал, как бы для себя Кальвисий, а Техенна крепко обняла его и поцеловала.
Всю ночь, только на чуть-чуть засыпая, они отдавались друг другу со страстью молодожёнов на любовном ложе, а перед самым рассветом, помня о том, что Антоний может не сдержать слова и в любой момент прислать за ними, Кальвисий приказал слугам срочно готовить тёплую ванну. Закутавшись в белые одежды и взяв в руки острый нож, Кальвисий Тулл обнял за плечи ливийку и спросил её ещё раз:
— Может быть, передумаешь?..
— Нет, господин.
— Не зови меня так... С этой минуты ты для меня не просто возлюбленная, ты жена моя, Техенна...
— Благодарю тебя, муж мой! Идём, не будем медлить.
— Да, милая, медлить не будем...
Они прошли в ванное помещение и скинули с себя покрывала. Затем он снял со стены, расписанной цветными фресками, висевшие на золотых цепочках два изображения жука-скарабея, сделанные из драгоценных камней; одно надел на себя, другое протянул ливийке:
— На, тоже надень и твори молитву своему богу Митре, а я помолюсь Изиде... О несравненная, о великая богиня Изида, дочь неба и земли, ты, которая вместе со звёздами делаешь ночи радостными, сделай так, чтобы и моя смерть стала для меня лёгкой и радостной... О прекрасная Изида, прими меня в свои объятия и отнеси меня в твои зелёные сады по ту сторону жизни...
Закончила молиться и Техенна.
Кальвисий поцеловал только что надетое на шею изображение скарабея, близко поднёс его к глазам и громко начал читать надпись на камне, кстати, касающуюся и той, которая тоже готова была умереть...
— Наши сердца, полученные нами от матери и которые были у нас, когда мы пребывали на земле, — о наши сердца, не восстаньте против нас и не дайте злого свидетельства о нас в день суда!
Кальвисий и Техенна, обнажённые, приблизились к мраморной ванне, в которой голубела вода. Они ступили в неё и легли рядом, тесно прижавшись друг к другу. Кальвисий взял руку наречённой жены, заглянул в глаза, хотел что-то спросить, но раздумал. увидев в зрачках уже отражение Другого мира; ливийка как бы видела его, Кальвисия, и не видела, она уже была на другом конце жизни, находясь на границе со смертью; Техенна уже чувствовала дыхание последнего мига, отделяющего день от ночи, свет от мрака, лишь только лезвие коснётся сейчас места сгиба локтя и — всё... Нож перерезал вену, и кровь толчками полилась из неё, окрашивая голубую воду... Техенна закрыла глаза, опершись затылком о мраморное ребро ванны, и замерла. И Кальвисий скоро увидел на её побелевших губах улыбку...
Тогда он сам быстрым движением полоснул ножом вначале на одном сгибе, затем на другом и прошептал:
— Рутилий, сынок, ты, когда узнаешь обо всём, простишь меня. Ради тебя я делаю это... Ради тебя...
А душа Рутилия, может быть, в это время смотрела на Кальвисия с небесной высоты и плакала, удивляясь неосведомлённости своего отца, который обращался к нему как к живому...
III
Известие о самоубийстве бывшего сенатора застало евнуха за чтением послания из Южной Галлии от легата Литория, в котором он сообщал, что Аэций благодарил императрицу за предоставленную ему возможность съездить в Паннонию в лагерь гуннов, где воспитывался его сын. Далее Литорий испрашивал у Плацидии позволение напасть на Толосу, так как воля короля вестготов сломлена страшной вестью о несчастье, происшедшей с его старшей дочерью — король вандалов Гензерих, заподозрив невестку в попытке своего отравления, отрезал ей уши и нос и отправил к отцу...
Антоний начал размышлять, как лучше изложить императрице просьбу Литория, чтобы она удовлетворила её. Евнух стоял на стороне легата, потому что ненавидел Аэция. Собственно, причин как таковых, чтобы ненавидеть полководца у корникулярия не было, просто люди, к которым питала Плацидия всего лишь благосклонные чувства, сразу становились в ряд неугодных Ульпиану.
Сие обстоятельство объяснялось не только ревностью или завистью, но и политическими соображениями. «Разделяй и властвуй!» — эту фразу приписывают одному монарху, правящему намного позже описываемых нами событий, но такое правило, возведённое в догму, негласно существовало уже с того времени, когда стали выделяться свои «монархи» в виде всяких вождей племён...
Подобную мысль и постарается евнух изложить Плацидии, чтобы она поняла, что усиление одного только полководца Аэция в Южной Галлии недопустимо, ибо он опасен ещё и тем, что издавна водит дружбу с гуннами... А Плацидия должна помнить то шестидесятитысячное войско дикарей, которое он привёл в Италию после размолвки с Бонифацием...
А взятие Толосы укрепит славу Литория, уже однажды отличившегося при штурме Нарбонны, и потеснит безоговорочный авторитет «последнего великого римлянина»... Двумя же выдающимися полководцами управлять легче, поощряя то одного, то другого, щекоча по очереди их самолюбие и потихоньку натравливая друг на друга.
Когда это изложил корникулярий Плацидии, то она согласилась со всеми доводами, но тут же спросила:
— А не противоречит ли сказанному тобой нами задуманное триумфальное шествие Аэция по Марсову полю? Мы как бы этим поощряем только его возвышение...
— Так это и входит, владычица, в правило твоего управления. Возвышай одного и пользуйся сама плодами сего возвышения, а в следующий раз возвысим другого...
— И то верно... Вот тебе записка, можешь взять у казначея в моём фиске столько золота, сколько прописано здесь...
— Благодарю, несравненная!
— Но не поощряю ли я тебя, Антоний, раньше времени? Ведь о Гонории всё ещё пока не слыхать?..
— Не только слыхать, но и запах её следа уже чуем. Скоро она, голубка, предстанет перед твои приветливые очи...
— Я её, мерзавку, очень хорошо привечу! А о нашем препозите нет никаких известий?
— Хлебный караван из Сицилии, слава Всевышнему, благополучно пришёл; уже из гавани Остии в устье Тибра отправились в Рим первые барки с зерном, но среди кораблей, охранявших караван в Тирренском море, миопароны Рутилия нет, значит, она в составе мизенского флота ушла на разгром главной базы пиратов в Сардинии. А Евгений находится на палубе этого судна... Сражение с пиратами произошло, но полных сведений пока не поступало. Как поступят, сразу доложу твоей милости.
Врал корникулярий — вырвавшиеся лёгкие суда из окружения пришли в свой порт, но пока евнух не хотел огорчать императрицу известием о гибели почти всего мизенского флота, пусть об этом ей скажут в сенате... У него хватает своих дел, связанных с поимкой Гонории.
Антоний понял, что с бывшим сенатором Кальвисием Туллом допустил оплошность: зачем надобно было пугать его?.. Зачем сказал, что и рабынь подвергнет пыткам?.. В результате одна из них вместе с ним приняла добровольно смерть, а другие, получив «вольные», исчезли, о чём не замедлил сказать помощник бывшего сенатора, стоило его слегка припугнуть.
Правда, двух рабынь удалось изловить, но как ни бились палачи, как ни пытали их, они так и не смогли ничего выведать. Значит, на самом деле Кальвисий не посвятил в свои тайны служанок...
Евнух догадывался, что бывший сенатор наложил на себя руки не из боязни пыток, а чтобы тень изменника не легла бы на его сына. И если Антоний начнёт донимать вопросами в Риме Клавдия, то и этот упрямец сделает то же самое, что и его друг. Эти патриции старой закалки ещё дорожат не только своей честью, но и честью наследников... Поэтому не лучше ли усилить скрытое наблюдение за домом Октавиана-старшего, хотя оно ведётся уже и так хорошо.
«Но пока никаких результатов... Куда он мог спрятать Гонорию, раба и Джамну. Джамна... Бывшая поклонница бога Миры... Может быть, Клавдий тут ни при чём? В Риме сейчас служит жрец из Александрии Пентуэр, которого хорошо знает Джамна, и она ведь могла обратиться к нему за помощью? Могла... И тот, я уверен, ей не откажет... Но даже если и спрятал жрец беглецов, то он их ни за что не выдаст, хоть жарь его на костре... Он, посвящённый в мистерии богу Митре и осенённый великой тайной, никогда не пойдёт на предательство... «Единственный выход в этом видится мне — устроить наблюдение и за Пентуэром, и за всеми митреумами, со жрецами которых он встречается...» — опять новое решение принял корникулярий.
* * *
Клавдий, когда оставался без гостей, то к обеденному столу в качестве жены по правую руку приглашал свою распорядительницу. Если жена со временем начинает предъявлять мужу разного рода претензии, то любовница всегда чувствует грань дозволенного, за которую, она хорошо знает, переступать нельзя, и поэтому между хозяином и такой женщиной всё ладилось...
Октавиан-старший любил возлежать на ложе у стола, возле высоких бронзовых канделябров, высотою в три локтя, стоящих на полу рядом с подсвечником, изображающим голого мальчика. Обычно с распорядительницей он обсуждал за едою хозяйственные дела — о заготовке продуктов, поведении рабов и рабынь да и разных домашних мелочах.
— Сегодня решили отключить тёплый воздух в гипокаустерии[69]...
— Так давно бы пора! На улице уже жарко.
— Но раб, — продолжала распорядительница, — очень боится крыс. Пришлось мне самой с ним спускаться в подвал.
— Надеюсь, вы там недолго пробыли? — хитро сощурил глаза хозяин.
— Как отключили, так и поднялись, — не поняла подвоха распорядительница. Потом только до неё дошло: — Клавдий, типун тебе на язык...
— Смотри! Если заподозрю — сразу выгоню...
— Уж который год подозреваешь...
— Наверное, умеешь хорошо заметать следы.
— А вот ты не умеешь!.. Вчера рабыня-массажистка тебе должна была спину помять, а говорят, что ты ей намял!
— Будет тебе всякого и всякую слушать...
— Если бы слушала, то без конца слёзы проливала.
Слуги убрали стол и подали другой[70]. На нём уже находились любимые на десерт кушанья хозяина — жареные раки, африканские улитки, венункульский изюм, хорошо засушенный в дыму, и массикское вино. Клавдий к нему ещё придумал подавать кидонские яблоки[71].
Он взял стеклянный фиал с вином и посмотрел его на свет:
— Это вино хорошо ставить под чистое небо ночью, прохладный воздух очистит его и мутность отнимет.
— Клавдий, оно и так чисто играет.
— Мне Кальвисий говорил, что, к примеру, в суррентское вино стоит только голубиное яйцо выпустить — вскоре мутность его яичный желток оттянет на днище... Интересно, что мой друг сейчас в Равенне поделывает?.. Наверное, как всегда, со служанками забавляется...
(Да невдомёк было Клавдию, что прах его друга Кальвисия уже замурован в гробнице, заготовленной им загодя, ещё при жизни).
— Сегодня с утра я закупила на Тукской[72] старого фалернского вина с молодым мёдом три модия, греческого хиосского урну и вейского[73] для рабов три урны. Начали грузить в повозку — она приедет ночью, и тут я увидела мужчину, который внимательно наблюдал за нами... Взгляды наши встретились, лицо у него сразу переменилось, и ничего лучшего он более не придумал, как чесать по-бабьи голову[74], но этот жест мне показался нарочитым, хотя он и стал затем показывать на нашего раба-гиганта Асклепия...
А позавчера другая рабыня тоже видела, как кто-то прятался за каштановым деревом, наблюдая за нашим домом... — распорядительница оглянулась и, убедившись, что поблизости никого нет, добавила: — Клавдий, уж не Гонорию ли ищут?..
— По всем правилам её уже должны были давно искать...
— Значит, тайные сыщики до Рима добрались.
— Выходят, так... Будь осторожна и язык держи за зубами.
— Мог бы и не предупреждать.
— Это я на всякий случай, любовь моя... Скажи, а на раба-гиганта можно положиться?
— Что ты имеешь в виду?
— Можно в случае чего даже посвятить его в нашу с тобой тайну?.. Надёжный он человек?
— Вполне.
— Хорошо... После обеда пришли его в мой таблиц... Хотя, любовь моя, пойдём в мои покои, отдохнём пока...
После любовных утех Клавдий сразу заснул: всё-таки шестьдесят лет — это не двадцать и даже не сорок... Но силёнки у Октавиана старшего ещё имелись. Проспав часа полтора, он разбудил распорядительницу, которую тоже сморил сон, и сказал, чтобы она нашла Асклепия.
— А потом покажешь ему, за каким деревом прятался человек, которого видела рабыня.
Через какое-то время в таблин к хозяину вошёл раб, росту в нём было семь футов[75]. Клавдий Асклепия ещё не успел хорошо узнать, распорядительница купила его совсем недавно. В доме нужен был такой гигант для тяжёлых работ.
— Ты родом откуда? — спросил его Клавдий.
— Из Корсики.
— Был я там однажды. Скажу — прескверное место! Болота... Комары... Дикие нравы. С Сардинии южным ветром занесло туда травку. Помню, нашёл пучок между камней, сорвал былинку, растёр, понюхал и... захохотал. Сардоническая травка... Говорят, император Калигула её нюхал; однажды так нанюхался, что своего жеребца захотел ввести в сенат...
— Знатные люди на Корсике её тоже любят пробовать.
— А сам пробовал?
— Приходилось.
— Вот что, Асклепий, хочешь получить свободу?
— Хочу, хозяин.
— А для того, чтобы её заработать, нужно избавить наш дом от тайных наблюдателей... Они на Тукской улице следили за вами и за домом наблюдают...
— Много их?
— Пока двоих видели.
— Управлюсь и с большим количеством... Я их выслежу и удавлю. — Гигант показал на свои ладони, похожие на лопаты для выпечки хлебов... — Трупы же покидаю в Тибр...
— Вот и молодец! Но дам я тебе «вольную», как только приедет мой сын, а он, по моим предположениям, должен объявиться со дня на день.
— Согласен, хозяин.
Через два дня Асклепий доложил, что управился с теми двоими — и они уже кормят собой раков на дне реки.
— На нас не падёт подозрение?
— Всё шито-крыто, хозяин; тихо, без шума...
* * *
Антоний находился вне себя от злости — такого не бывало, чтобы два секретаря, самых хитрых и осторожных, бесследно исчезли... Бывали случаи, что тайные сыщики погибали по разным обстоятельствам, но так пропасть, чтобы никто и ничего про них не знал, — этого ещё не происходило. Словно в воду канули! (И тут Ульпиан в своих предположениях был рядом с истиной...).
В Риме что-то творится неладное... Если бы можно было бы поехать туда самому и оценить обстановку на месте. Но ехать туда нельзя: беглецы знают евнуха, да и человек он теперь заметный...
«Главное — спокойствие, во злобе решать такие вопросы не годится, поэтому, Антоний, успокойся, — приказал себе корникулярий. — Промахов допущено тобой и так немало... А Плацидия заранее не пожалела золота... За что, спрашивается?.. Знает, чем меня умаслить... Нужен я ей. Ведь по сути дела нет у неё, кроме меня, особо преданных людей во дворце. Подхалимов сколько угодно! И Плацидия это понимает... Положение у неё не из завидных... И здесь хватает проблем, и в провинциях... То тут, то там вспыхивают восстания обедневших колонов, беглых рабов. Как можем — тушим вспышки... А тут ещё беда — на юге распространилась чума... Пока ею охвачены два острова — Корсика и Сардиния... Наверняка туда завезли морские разбойники... У какого писателя я читал описание этой страшной болезни?.. Господи, помоги вспомнить! У Лукреция... Точно — у него: Тита Лукреция Кара...
Антоний прошёл в библиотеку, достал несколько его поэм, развернул: вот оно — изображение чумы в Афинах в начале Пелопоннесской войны...
«У людей поднимается огромная температура, наливаются глаза кровью, гортань изрыгает чёрную кровь, затекает шершавый язык. От человека исходит смердящий запах падали. Безысходная тоска соединяется с мучительными стонами. Мышцы охватываются судорогой, тело покрывается язвами, распаляются внутренности человека нестерпимым огнём. Иные бросались в воду, чтобы охладить распалённое тело. Многие низвергались вниз головой в колодцы. Люди бессильно корчились на своих ложах, а врачи, видя перед собой дико блуждающие взоры больных, что-то бормотали про себя и сами немели от страха. А люди, у которых уже путались мысли, хмурили свои брови, имея дикое и свирепое выражение лица, в ушах у них раздавался несмолкаемый шум, прерываюсь дыхание, и тело покрывалось потом. С хриплым кашлем брызгаю солёная слюна шафранового цвета. У несчастных тряслись руки и ноги, а после жара их охватывало холодом. С наступлением смерти разевался рот, заострился нос, растягивалась кожа на лбу, выпадали глаза и виски, твердели и холодели губы. Люди мучились по восьми или девяти дней, а если кто и выживал, то язвы по всему телу и чёрный понос всё равно приводили больного к роковому концу. Болела голова, из ноздрей текла гнилая кровь, люди лишались рук, ног и других частей тела, а иной раз и зрения. Люди валялись на улицах, издавая такой смрад, что к ним не решались приближаться даже хищные звери и птицы. Родные покидали друг друга, спасаясь от болезней, но и это ни к чему не приводило. Умерших хоронили кое-как или вовсе не хоронили. Прекратились все работы на полях и в самом городе. Всё было завалено трупами, не исключая и храмов, и часто один труп лежал на другом. Весь город был набит стекавшимися отовсюду людьми; и все они погибали от грязи, смрада и скученности жилья. Везде пылали похоронные костры, из-за которых обречённые люди дрались, желая сжигать своих, а не чужих».
«В этом мрачном описании Лукреций совместил методы монументальности и художественного изображения человеческой жизни во всём её ничтожестве, бессилии и тупике... — подумал корникулярий. — Методы, свойственные показу не только того давнего времени, но и нашего, ибо человеческая жизнь во все века была и остаётся плевком, который легко растирается ногою...»
Снова мысли Антония перекинулись к Риму: «Посылаю туда ещё людей... И пусть они больше наблюдают в храмах бога Митры... Думаю, что я в поисках Гонории встал на верную стезю... Так, по крайней мере, подсказывает мне моя интуиция... А классическое её определение таково, что оно есть безотчётное, стихийное, непосредственное чувство, но основанное на предшествующем опыте, на постижении истины всё же путём доказательств, а не просто так, с бухты-барахты... Думал, что характер Плацидии я изучил до конца, оказывается — совсем не так; в эти дни она проявляет завидное терпение и понимание ситуации... И это хорошо, иначе её нервозное вмешательство внесло бы лишь сумятицу в мои планы...»
* * *
Владелец оливковой рощи, расположенной на берегу озера Когинас в Сардинии, грек Клисфен был большеносый зануда. Но занудливость его находилась в прямой зависимости от количества выпитого им вина: после двух фиал он становился весельчаком и добряком. Добряком, конечно, в том смысле, чтобы пошутить или проявить к рабу снисхождение. А вообще-то у этого «добряка» на счету сотни загубленных жизней...
В прошлом грек Клисфен начальствовал над пиратской тахидромой, которая промышляла не только в Тирренском, но и Средиземном и Ионических морях, «Свистать всех наверх!» — до сих пор в ушах большеносого грека стоит пронзительный свист боцманской дудки, и он видит, как палубу моментально заполняют его бородатые матросы в малиновых шароварах с заткнутыми за широкие матерчатые пояса кривыми ножами. А уж если тахидрома тесно прижималась к чужому кораблю, как блудливая женщина к богатому вдовцу, то капитан орал во всю мощь своей глотки: «На абордаж!» и сам был непрочь помахать акинаком, взобравшись на чужую палубу, и поживиться.
Своего бывшего боцмана, имеющего пудовые кулаки, он сделал управляющим, когда приобрёл на острове оливковую рощу. Управляющего звали Адраст, земляк, тоже родом из Афин, имел музыкальное образование, а сам Клисфен в бытность писал стихи. Но в Афинах, как и Риме, когда наступал голод, то первым из города гнали в шею поэтов и музыкантов, музыкантов серьёзных, а не тех, кто на арфах или кифарах подыгрывал матронам, занимающимся с рабами любовными утехами...
Нет необходимости рассказывать, как эти изгои мыкались, пока не попали к морским разбойникам, отрастили бороды и надели малиновые шаровары...
Убить первого... Это поначалу было сделать непросто музыканту и поэту, а уж потом пошло-поехало: но тут произошло следующее — с каждым убитым далее от них начал уходить талант... Иногда бьётся Клисфен сочинить строфу и не может, а у Адраста пальцы рук, сжимающие меч или дротик, утолщились в суставах, ладони расширились и, когда пробует играть на арфе, спотыкаются пальцы о струны... А управляющий из него получился отменный. Новая профессия его тоже требовала жестокости, но понапрасну он рабов не истязал, хотя по части истязаний старались другие — надсмотрщики...
Когда однажды с торгов привезли новых рабов, Адраст обратил внимание на высокого стройного римлянина — и в конце концов разобрался с ним: матросы, проданные с миопароны, сказали, что этот красавец — не простой человек и на корабле вёл себя так, как будто он выше стоял по званию капитана...
— Братья наши, разбойнички, кажись, ошиблись, Клисфен, что не повесили вместе с навархом и этого человека, а всучили нам как рабочий товар...
— Трудится он хорошо? — спросил у Адраста владелец оливковой рощи.
— Да так себе... К физическому труду не приучен: ты знаешь, что он являлся смотрителем императорского дворца в Равенне?..
— Да ну?! — искренне удивился Клисфен. — Вон какая непростая птичка к нам залетела, и я понимаю, что обменять мы его на кого-нибудь не можем, и отдать властям, чтобы разоблачить себя, тоже не можем...
— Нам остаётся одно — прятать его у себя и не давать возможности улизнуть с острова. Поэтому я приказал усилить за ним наблюдение.
— И правильно сделал.
Нежданно-негаданно на Сардинию обрушилась страшная болезнь — чума. «Чёрная смерть» безжалостно начала косить всех подряд. Но природа на удивление в это время, наоборот, пыталась показать себя с самой лучшей стороны, во всей красе: май и июнь были необыкновенными месяцами цветов; благоухал боярышник, не было в садах никогда ещё столько роз, столько жасмина и жимолости, фиговые деревья готовы были плодоносить в году не по два или три раза, а все четыре, оливы зрели на глазах... И везде гудели многочисленные пчёлы, таская к себе в изобилии мёд и усваивая свои ульи повсюду: в дуплах старых деревьев, прорехах крыш, выброшенных ящиках из-под плодов; а кто ещё мог ходить и работать, кого ещё не свалила страшная болезнь, делал сам для пчелиных роёв прибежища из тростника, так как к востоку от озера Когинас простирались болота, делал также из соломы, ивовых прутьев, а то и просто из травы. Но вдруг пчёлы разом исчезли, и чума с новой силой принялась за людей. Добралась она и до владений грека Клисфена...
И раньше голову Евгения Октавиана посещали мысли о побеге, но он видел, что за ним ведётся усиленный надзор. А находиться на острове, где вовсю уже гуляла чума, он уже не мог: или «чёрная смерть» настигнет его здесь, или, в конце концов, забьют палками надсмотрщики.
И он решился...
По утрам рабов будили раньше, чем вставало солнце; полусонных, в цепях, их колонной гнали к оливковой роще через густые кусты маквиса. Надсмотрщики тоже выглядели не отошедшими ото сна: зевали, лениво переговаривались, и всегдашняя бдительность у них притуплялась в это ещё полутёмное время.
И Евгению Октавиану удалось незаметно упасть в кусты и схорониться... Когда колонна ушла, он выбрался и, поддерживая руками цепи, чтобы они громко не звенели, спустился к болоту. Евгений подумал так: если его быстро хватятся и снарядят за ним погоню, то он лучше утопится в болотной жиже, потому что страдать от частых побоев он уже был больше не в силах...
Остановился на краю трясины, взглянул на небо: оно ещё оставалось окутанным тёмными тучами; но уже там, где небо смыкалось с землёю, стала пробиваться синева и постепенно расширяться, но Евгений знал, что солнечные лучи сквозь неё ещё нескоро проглянут...
Через какое-то время он услышал конский топот: для верности приложил ухо к земле... Звук шёл пока издалека, со стороны оливковой рощи.
Евгений заметался: «Погоня!.. Иди в трясину, топись... Ты же недавно так думал...» — и представил, как болотная вонючая грязь со всякой мелкой живностью лезет в рот, ноздри и уши, забивает горло, проникает в желудок, и содрогнулся... Но тут он увидел неподалёку яму, до краёв наполненную древесными листьями, и слава Богу, что они оказались не слежалыми, а свежими, и если он сейчас спрячется и накроется этими листьями, то со стороны не станет видно, что их ворошили...
Он так и сделал, укрывшись в них с головой: лошадиный топот шёл теперь как бы изнутри, эхом отдаваясь в глубокой яме, и вскоре Евгений различил голоса: говорили о нём, хотя бывший смотритель дворца плохо разбирался в языке, на котором изъяснялись те, кто сидел в сёдлах. Они были уроженцами Сардинии и общались между собой на так называемом кампиданском наречии... Но всё же Евгений кое-что понимал, так как на этом диалекте говорили и в Сицилии, где он бывал не единожды...
Кто-то сказал прямо над его головой:
— Давай поскачем в сторону моря... Оно недалеко, всего восемь миль. Наверняка он направился туда...
Когда лошадиный стук копыт затих, первое, что Евгению пришло в голову, — скорее выбраться из этой ямы, ибо дышать становилось всё труднее: листья на дне ямы издавали гнилостный запах. Но воздух сверху проникал сюда, терпеть можно было, и как бы ни хотелось выбраться отсюда, а надо ждать, когда назад вернутся преследователи. Надёжнее хорониться укрытым в яме, нежели на открытой местности, пусть даже в кустах или за деревьями...
Согревшись, Евгений задремал и открыл глаза, услышав снова конский топот, который приближался... И тут будто кто стал ворошить палкой сухие листья, затем раздался шорох и что-то холодное и гладкое скользнуло ему под рубаху и сползло к низу живота... «Боже, змея!» — мелькнуло в его мозгу, и ему захотелось закричать от охватившего его ужаса и впрыгнуть из этой ямы... Но топот лошадей уже рядом; неимоверным усилием воли Евгений сдержал себя: «Уж лучше быть ужаленным этой тварью, чем погибнуть под палками и пытками... Или же быть заживо сожжённым в костре, куда кидают умерших от чумы...» — решил он.
— Как сквозь землю провалился... А не мог он в темноте забрести в трясину и утонуть? — спросил один из преследователей.
— Так и есть! Поехали, скажем управляющему, что беглец погиб...
— Поехали.
Когда всадники удалились, Евгений не дыша, чтобы не вздымался живот, так как тварь улеглась на нём, не проскочив ниже (сделать это не давал туго обтягивающий матерчатый пояс), потихоньку разрыл яму, размотал осторожно пояс, и змея сползла по ноге на землю... Вдруг она проворным тонким шнуром скользнула на край ямы — только и видели её!
«Она даже меня не тронула!» — радостно заколотилось сердце у Евгения, он увидел в этом для себя благоприятный знак свыше и улыбнулся.
«К морю, надо двигать к морю... Ну а если по приказу управляющего погоню возобновят? Лучше в этой яме отсидеться... — Но живот ещё хранил на себе холодное прикосновение змеи, и Евгения снова всего передёрнуло... Тем не менее он заставил себя опять зарыться в листья: — Нужно дождаться темноты, а ночью пойду...»
Он вылез наружу, когда небо вызвездило, а луна в своей четверти уже висела рожками вниз — в небе на севере Италии они слегка приподняты.
Кругом стояла тишь, но когда Евгений пересёк заросли маквиса и оказался в поле, то услышат беспрерывный звон цикад... Душисто запахло разнотравьем, воздух после удушающего, гнилостного запаха стал пьянить.
«Господи, Единый Бог, это ты наполняешь жизнью землю и небо, не дай и мне умереть, спаси и помилуй!» — взмолился Евгений.
Этот дрожащий звёздным и лунным светом небесный мир и земной, наполненный звоном и душистым запахом трав и цветов, позвали Октавиана из неволи... Так, по крайней мере, казалось ему, а вовсе не страх быть забитым двигал его к желанию побега...
Всю ночь, вспугивая угнездившихся ко сну птиц, Евгений шёл и шёл, и, несмотря на гремящие на ногах цепи и высокие травы, ему шагалось легко... К утру он вышел к морю. Недолго думая, забрёл в воду, постоял, чувствуя, как гудящая истома наполняет всё его измученное тело, а когда поднялся на берег, то увидел стоящего на нём старика.
Им оказался одноногий сторож маяка, выложенного из белого камня.
Старик привёл Евгения к себе, поставил возле ложа столик с едой и стал потчевать гостя (если так можно назвать беглого раба)...
Старик не расспрашивал ни о чём Октавиана: и так всё было ясно, начал рассказывать о себе...
Ногу потерял в битве с вандалами, сражаясь на стороне римского императора Бонифация. (На самом деле этот старик служил на пиратской тахидроме Клисфена, и ранили его в одном рукопашном бою копьём в ногу, которую позже пришлось отнять.) Но, несмотря на убогость, каждый вечер поднимается с зажжённой лампой на самый верх маяка и ставит её под колпак, освещая путь кораблям; на одном из них капитаном является товарищ сторожа, и он попросит его взять Евгения на борт...
— Спасибо, спасибо! — в порыве благодарности кивал головой Евгений старику, доедая остатки пищи и думая теперь лишь о сне.
— Пока ты будешь жить у меня, без моего разрешения из помещения маяка никуда не выходи... — предупредил сторож.
Октавиан заснул и, разумеется, не видел, как одноногий вывел лошадь и поскакал в противоположную от морского берега сторону...
Проснувшись и не найдя сторожа, Евгений подумал, что ничего страшного не произойдёт, если он нарушит запрет; он вышел из помещения маяка и снова побрёл к морю. Снял рубаху, штаны, подтянул цепи, нагнулся, чтобы зачерпнуть ладонями воду и ополоснуть лицо, как вдруг почувствовал сильный удар палкой по голой спине. Евгений упал, но его выволокли из воды и стали избивать. Били жестоко и хладнокровно, а потом взвалили на лошадь и повезли.
По приказу управляющего Евгения бросили в барак, стоящий на отшибе и предназначенный когда-то для скотины: затем он обветшал и прохудился, и сюда теперь свозили заболевших чумой и клали на деревянные топчаны.
Когда Евгений пришёл в себя и открыл глаза, то ему показалось, что лежит он здесь целую вечность...
«Неужели я успел заразиться страшной болезнью и меня бросили к чумным?! — Евгений кое-как повернулся на живот, так как очень сильно болела спина и голова в затылке. Уткнулся горячим лбом в доски.
Но ему было невдомёк, что его не просто наказали за побег, а решили избавиться насовсем: держать в рабах человека большого государственного Звания — дело опасное, тем более который стремится убежать. Клисфен и Адраст рассудили так — отвезём раба в чумной барак, он там скоро заразится, помрёт, а потом сожжём в костре. Был человек — и нет человека!..
Евгений помнит, что нашёл в себе силы отодвинуть свой лежак от топчана соседа, который бредил, сгорая от жара, и повторял постоянно, что вода в озере, куда он зашёл, не остужает его тело, наоборот, горячит ещё больше...
«Если бы я не выходил из помещения маяка, тогда бы меня не обнаружили... Сторож был внимателен ко мне, обходителен... Надо было его слушаться, — размышлял Евгений, не подозревая, что этот внимательный и обходительный сторож и предал его. — А я мог бы насовсем покинуть остров... Одноногий старик пообещал посадить меня на корабль, капитаном на котором служит его давний товарищ...»
Евгений, кажется, снова погрузился в сон, потому что привиделся ему на высоком морском берегу белый маяк с колпаком наверху, внутри которого светила яркая лампа... Привиделся и такой же белый корабль с белыми парусами, который пробивался сквозь свирепые волны. Ветер крепчает, срывает один парус, другой... По воде ударяют вёсла, и корабль смело идёт снова вперёд, держа курс на маячный огонь... Но вдруг лампа гаснет, корабль наталкивается на прибрежную скалу, трещит палуба, обшивка... Люди прыгают в бушующее море и гибнут с отчаянным криком...
Евгений вздрагивает во сне и просыпается, и уже наяву слышит этот отчаянный крик соседа, который всё горел в огненной воде... В дальнем углу барака заплакал ребёнок.
Несмотря на то, что барак был очень худой, смрад от гниения человеческого тела стоял здесь нестерпимый. Он беспрерывно лез в ноздри. Не перебивал его и запах жжёного мяса, когда через какое-то время приходили в барак закутанные в чёрное люди и раскалёнными железными прутами прижигали на ещё пока живых людях трупные гниющие пятна. Чёрные люди подошли и к Евгению, долго рассматривали его, а потом убрались в другое место барака, откуда вскоре послышались нечеловеческие вопли...
«Такого даже, наверное, и в преисподней не случается... — подумал Евгений и обнаружил, что он накрепко привязан одним концом цепи, снятым с руки, к топчану; ночью, когда вставал, чтобы отодвинуть лежак от соседа, этого ещё не было. — Значит, боятся, что я снова убегу...»
Опять закрыл глаза, ладонью зажал нос, задышал ртом.
К вечеру ему нестерпимо захотелось нить. В горле жгло. Пошарил рукой возле себя в поисках воды. Но ничего не нашёл. Стал звать, но никто не подходил.
— Воды! Воды! — закричал Евгений.
Видимо, кто-то из чумных, находящихся пока в сознании, сжалился и подал ему глиняный фиал, из которого пил сам... Евгений жадно припал губами...
А через три дня его уже в бессознательном состоянии бросили в повозку вместе с умершими и повезли к огромному костру, что полыхал днём и ночью на краю оливковой рощи. Возле него орудовали так называемые «ангелы смерти» — в белых балахонах и колпаках, в которых находились лишь прорези для глаз, в длинных по локоть рукавицах.
«Ангелы смерти» кидали в костёр привезённые трупы, обхватывая их клещами на длинных рукоятках.
— Гляди, он ещё, кажется, шевелится... — обратил внимание на Евгения один из «ангелов».
— Думаешь, живой?.. Эк, бедняга, да из него вонь какая прёт! Всё равно не жилец... Бери клещами за шею, а я за ногу ухвачу... А ну, в огонь его на счёт раз, два, три-и-и! Ишь как искры взметнул в костре... Потому как живой... — Помолчал, глядя, как огонь окутывает только что брошенное тело человека. И «ангел смерти» заключил: — Думаю, что душа чумных сразу уходит на восьмое небо, не станет она маяться по семи небесным сферам, ибо тут, на земле, настрадалась крепко...
IV
Молодую красивую вдову, оставшуюся после смерти повелителя гуннов великого Ругиласа, один из его племянников, Бледа, взял в жёны, не спросясь Аттилы, и этим окончательно подорвал дружбу с родным братом.
Своенравный и обидчивый, который тоже имел виды на Валадамарку, племянницу короля остготов Винитара, погибшего в битве на реке Прут (как мы уже упоминали выше), Аттила с народом, доставшимся ему при разделе власти, откочевал к реке Тизии и в Паннонии учредил свою главную ставку. Но он редко в ней находился, а всё больше ездил по малым кочевьям, ночуя в походных шатрах, всё время заботясь о пополнении войска и его лучшей организации.
При нём всегда находился воспитанник Карпилион, сын римского полководца Аэция. К нему и ехал отец. Аэцию было сейчас нелегко угадать, в каком месте искать неугомонного Аттилу, к которому питал дружеские чувства, как равно и Аттила к «последнему великому римлянину», хотя был намного моложе Аэция.
В сопровождении отряда кавалерии, состоящего из двухсот хорошо вооружённых всадников, римлянин проехал озеро Балатон, где, знал Аэций, любил бывать Аттила. ибо оно рождало добрые воспоминания о множестве озёр, мимо которых правитель гуннов проезжал в детстве. Из них он пил прозрачную воду и поил своего коня. Напоив, трёхлетний Аттила подводил верного скакуна к камню, вскарабкивался и садился с него в седло. И продолжал далее скакать и бросать аркан. Об этом будущий предводитель гуннов рассказывал будущему римскому полководцу, когда тот, как и Карпилион, находился на воспитании в гуннском лагере.
— В три года ты уже сидел в седле и бросал аркан? — переспросил тогда Аэций Аттилу.
— А мы уже проделываем это, находясь ещё в утробе матери, — довольный своей шуткой, сказал Аттила, шмыгнув приплюснутым длинным носом и шевельнув густым левым усом. Правый у него был короче[76]... — У тебя в Риме растёт сын, присылай его к нам, и он научится всему, чему научился здесь ты...
Теперь сыну двадцать, только что состоялось его посвящение в воины, и Карпилиона можно забирать к себе...
Вот уже несколько дней едут и едут, и кого ни спроси: «Чьи это владения?», отвечают: «Аттилы!»
Чем ближе подъезжали к Тизии, тем тревожнее становились думы Аэция. Как военный человек, он сразу отметил выгодность положения ставки одного из племянников Ругиласа: она как бы разместилась на вершине треугольника, образуемого тремя владениями народов — гуннов, византийцев и римлян.
«Неспроста этот человек, которого величают жестоким дикарём, хотя я знаю его совершенно другим, избрал место для главной ставки на вершине этого треугольника... Сейчас он уже отсюда достаёт владения Империи ромеев, придёт время, Аттила посягнёт и на Рим. Пока он наш союзник... Но такие, как Аттила, не останавливаются, а идут до конца, как и его предшественники — правители гуннов, прошедшие с мечом и огнём, вселяя всем ужас, огромный путь от синих холмов Монголии до ковыльных степей Паннонии...»
Показалась Тизия: река, разлившись от обильного таяния снегов и вспухнув, словно квашня, несла на себе остатки ноздреватого грязного льда, хворост, клоки соломы и камыша, вздутые трупы погибших в половодье лесных и степных животных.
Аэций и всадники остановились, но тут в задних рядах возникло какое-то движение, и вскоре перед полководцем предстал завёрнутый в волчью шкуру верховой гунн, который сообщал, что его зовут Таншихай, он есть посол и будет сопровождать великого римлянина до временной стоянки Аттилы.
— Вон у тех гор, — показал куда-то в сторону плёткой Таншихай и белозубо улыбнулся. Но сколько ни вглядывался Аэций, пока никаких гор не увидел...
Они свернули к ещё одной реке, которую позднее назовут по-мадьярски Бодрог, являющейся правым притоком Тизии, и поехали вдоль неё.
Таншихай, оказывается, владел многими языками: помимо готского, на котором свободно изъяснялся и Аэций, посол Аттилы знал романский, греческий и скифский. На какое-то время Аэцию стало стыдно: он — сын скифа Гауденция, женившегося на знатной римлянке, почти забыл язык своих предков по отцовской линии. А после того, как Гауденций определил сына на воспитание к Ругиласу, Аэций совсем не говорил по-скифски, зато хорошо освоил язык гуннов.
Я, как автор, и раньше в других произведениях высказывал своё предположение, со временем перешедшее в уверенность, что в то время почти каждый человек, живя в окружении людей разных наций, чтобы общаться с ними, обязательно овладевал и их языками — для него это становилось такой же необходимостью, как иметь при себе нож или лук, — этим оружием он защищался и нападал... Языкам того человека никто не учил, он осваивал их, вырастая среди иноплеменников, сам. Но наиболее усиленное взаимопроникновение языков происходило во время Великого переселения народов, почти в эпоху описываемых нами событий, когда разные племена, воюя между собой, мирились, объединялись, нападали на другие, брали их в плен и снова нападали, передвигаясь по планете Земля в разных направлениях и оседая потом во всех её концах... Впрочем, такое (правда, менее интенсивное) переселение мы наблюдаем и в другие столетия, когда хазары в VII веке пришли с Северного Кавказа на Волгу; тогда болгары, спасаясь от них, ушли за Дунай, а чуть позже и угры покинули Приуралье и осели в Паннонии и Норике[77].
Также некоторые племена славян и аланов переселились за Дунай, на Африканский континент, в Испанию и даже Италию и до сих пор живут там; да и те хазары, разгромленные в X веке русским князем Святославом, разбрелись по разным местам.
Таншихай обратился к Аэцию на латинском.
— Можешь говорить со мной на своём родном языке, — сказал Аэций гунну. — Постой-постой... А не сын ли ты старика Хелькала?
— Да, сын... — удивился Таншихай. Ему захотелось узнать, откуда римлянин это знает, но у гуннов не принято было задавать гостю много вопросов. И сын Хелькала промолчал.
Аттила встретил римского полководца сдержанно, но по тому, как радовались его придворные приезду Аэция, было видно, что повелитель гуннов тоже был доволен. Римлянину показалось, что на лице Аттилы как-то по-особому светились глубоко посаженные глаза, а правый короткий ус топорщился ещё сильнее. Вскоре Аэций проник в тайну преображения Аттилы — тот женится и ждёт на свадьбу брата своего Бледу, давшего наконец-то согласие к нему приехать... Зато оставшись один на один с Аэцием, Аттила дал волю своим чувствам:
— Аэций, друг мой, дай я обниму тебя! Сколько времени не виделись?.. Твой уж сын смелым и ловким богатуром стал, скоро во всей красе он предстанет перед тобой.
— Благодарю за него, повелитель.
— Обижаешь, великий римлянин. Разве мы с тобой не братались, когда в жестокой борьбе клали на лопатки друг друга?!
— Было дело...
— Так зови по имени меня, Аэций... Аттила... Даже родному брату Бледе я не позволяю так называть меня... Только ты имеешь право. Потому как ты ближе мне брата родного.
Что-то такое пока скрывал от него Аттила, но, зная отношение его к Бледе, подумал: «Уж не хочет ли Аттила один властвовать над гуннами?.. Значит, он воспользуется приездом брата на свадьбу для того, чтобы... Погоди... Погоди... Следовательно, ему необходимо в моём лице заручиться поддержкой всего Рима... Ну чем не змей?! Ведь знал, что я еду к нему. К моему приезду и свадьбу задумал, и тем самым брата-соправителя завлёк к себе...»
— Ты, Аттила, какую же жену себе присмотрел? Каких царских кровей?.. И какую по счёту?..
— А зачем они мне... эти крови?! Когда у меня самого течёт своя царская кровь. А жён я не считаю. Очень много у меня их.
— Значит, долго не выбирал себе невесту?
— Не выбирал... — увидев, что Аэций совсем близко находится к разгадке его женитьбы, резко переменил разговор: — Ты, наверное, устал с дороги... Иди, выбирай себе шатёр. Сейчас пришлю к тебе банщиков. Учти, что я не в корыте моюсь, как мои подчинённые, а, следуя твоему совету, переносную баню вожу с собой... Деревянную, с железным котлом. Надо мне куда переехать, сруб банный раскатывают, котёл из кладки каменной вынимают, а потом сооружают снова... Иди, а после бани я массажисток пришлю... Между прочим, они подруги будущей моей жены, которую зовут Крека...
(В скобках заметим, что выбрал себе Аттила жену из массажисток, думая лишь бы свадьбу справить ко времени приезда Аэция и чтобы брата завлечь, да Крека тоже женщина оказалась не промах, самой любимой женой (и не временной) сделалась у Аттилы; и сама очень любила мужа. Она, кстати, приняла живейшее участие в похоронах Аттилы, когда он умер...).
После бани и отменного массажа проспал Аэций почти целые сутки, а когда проснулся, увидел сына, сидящего в изголовье. Вскочил, обнял родную кровинушку, потом вытолкал на середину шатра и залюбовался им: выше отца на две головы (если учесть, что Аэций был небольшого роста), крутолобый, с упрямыми, как у отца, скулами, широкоплечий... Тут уж отец шириной плеч с сыновьими мог бы поспорить...
— Скажи, Карпилион, ты доволен был жизнью в гуннском лагере?
— Ты же сам в нём находился, знаешь...
— А всё же? — допытывался полководец.
— Поначалу тяжело приходилось... Не слезал с коня сутками, даже научился справлять свои надобности, сидя в седле...
Отец улыбнулся, вспомнив, как у него самого это смешно получалось, потом освоил хитрую науку... Главное, чтоб седло и коня не замочить и не замарать... Простых гуннов за подобное наказывали жестоко плетью.
— Также усердно, отец, учился и военному делу. Могу навскидку метнуть нож и попасть не только в шею врага, но даже в глаз... Стреляю из лука с обеих рук на полном скаку... Копьё могу метнуть с такой силой, что пробиваю любой толщины дубовый щит. Могу...
— Ладно, сынок, а то всё это похоже на хвастовство... В дате покажешь. — И, узрив, как нахмурился сын, похлопал его по плечу: — Не обижайся... Я рад за тебя. Молодец!.. А скажи, Аттила делился когда-нибудь с тобой сокровенными мыслями ?..
— Что ты имеешь в виду?
— О брате своём, о Бледе, говорил с тобой?
— Он однажды выразился так: «Приелся, как сухой ячмень беззубой кобыле...» Так Аттила сказал после того, как Бледа взял себе в жёны красавицу Валадамарку...
— Ну ладно... Чему быть, того не миновать... Значит, Аттила шкуру брату хочет отдать, только чтоб тот пропал с нею!.. Пошли к повелителю, я поблагодарю его за твоё воспитание... И будем готовиться к свадьбе...
* * *
Сидя в дальнем мрачном помещении митреума, Гонория часто думала о Евгении — что-то долго нет его и нет, и там, в своём далеке, вспоминает ли он о ней?.. Конечно, ей было бы обидно узнать, что ещё в плавании, находясь на борту миопароны, изредка вспоминал о ней, но потом, попав в плен, был настолько занят собой, так переживал своё ужасное положение и побои, что забыл совсем про свою возлюбленную... Даже перед гибелью своей не вспомнил.
Да любил ли он её вообще?.. А если нет, то почему взял на себя ответственность за побег и принял в нём живейшее участие?
Учтите, что Евгений — не плебей, он представитель древнего патрицианского рода, воспитан на примерах чести, совести и сострадания. Хотя мы знаем о подобных представителях многое и другое, и дело тут даже не в патрицианских родах... Понятие чести и совести было привито Евгению с детства, но надо отметить, что по натуре своей он не был героем; впрочем, как заметила Гонория, героизм остался где-то в прошлом, и у человека того времени резко поменялись ориентиры. Видимо, с крушением империи и рушатся идеалы... Ибо всякое крушение — это обвал, хаос, обломки, под которыми гибнут люди, и их стремления направлены на то, чтобы выжить. А тут уж, как говорится, все средства хороши.
Когда Гонория находилась на миопароне, Евгений испытывал от её присутствия неловкость и очень обрадовался, когда возлюбленная согласилась сойти на берег, чтобы потом добраться до Рима. И, посылая её к Клавдию, Евгений должен был бы тоже знать, чем это грозит отцу... Да к тому же в пути беглецов могли изловить... Но он не стал размышлять на эту тему.
Отправив Гонорию, молодой Октавиан как бы и забыл о ней на какое-то время. Не надо теперь заботиться об устройстве возлюбленной в порту назначения... Мне кажется, всё это было продиктовано Евгению обыкновенной трусостью. Но... О мёртвых только хорошее или ничего... Мы-то знаем, что Евгения уже нет в живых; возлюбленная же считает минуты до его возвращения, а любимого всё нет и нет, и разные мысли приходят в её голову, как и те, которыми мы поделились...
Тяжело беглянке, а тут ещё запретили гулять поздно вечером по крыше митреума; Клавдий предупредил жреца Пентуэра, что соглядатаи находятся в Риме и надо быть предельно осторожными. Пентуэр эти слова передал посвящённому Виридовику, и тот вечерние прогулки по крыше отменил.
Гонория заметно стала сдавать — раньше ждала позднего вечера с нетерпением, теперь она не приходила в возбуждённое состояние, наоборот, испытывала к наступлению ночи вялость. Единственное, что могло её как-то взбодрить, — это когда из норы в полу появлялась крыса... Гонория прикормила её, и та позволяла вначале трогать себя, потом гладить, а затем сама взбиралась к ней на колени. Джамна смотрела на эту тварь с явным отвращением, но Гонория и рабыню приучила брать крысу на руки.
Только после того, как жрецы бога Митры узнали, что на Корсике и Сардинии разразилась чума, они заделали в храме все дыры в стенах и полу, чтобы крысы или ещё какие разносчики не смогли больше показываться.
По уверению Джамны, крыса по ночам теперь верещала под досками пола, но ни Гонория, ни ант Радогаст это не слышали.
Как только вспыхивала на небе первая звезда, Гонория смежала веки и засыпала, и спала она, почти не дыша... И однажды Джамна и Радогаст, зная о подземном ходе, отважились выйти по нему к Тибру, чтобы искупаться и подышать свежим воздухом, пока госпожа видела свои тихие сны. Только, может быть, Гонория делал вид, что спит?!
— Смотри, как младенчик... — произнёс Радогаст, залюбовавшись своей госпожой.
— Тс-с... — Джамна заглянула ему в лицо, взяла анта за руку и приложила пальцы к своим пухлым губам. Жесты её можно было расценить двояко — они, с одной стороны, предупреждали вести себя и говорить потише, а с другой — как бы переводили восхищенный взгляд Радогаста с госпожи на неё, Джамну... Ревновала ли она красивого голубоглазого раба к молодой Августе?.. Кто знает... Хотя не раз Радогаст ловил на себе пристальный, изучающий взгляд темнокожей девушки, в котором присутствовали не только интерес, но и теплота.
Анту Джамна, стройная, как лань, с большими, чуть раскосыми и слегка выпуклыми глазами, в коих светился живой ум её ближневосточных предков по матери, всё больше и больше нравилась. Он внутренне трепетал, когда она по утрам, делая и ему массаж, ласково дотрагивалась до его плеч; затем пальцы её твердели, и Джамна начинала крепко растирать его мышцы, — тогда жаром обдавало виски Радогаста. Она и сама подставляла спину, чтобы и он помял её тело, заставляя бодрее течь по жилам кровь; иногда он прижимался к девушке, и она чувствовала волнение его плоти... Не могла не замечать этого и Гонория, тоже скучавшая по мужским ласкам, но строго блюла свою верность возлюбленному.
Радогаст тихонько отодвинул засов, приоткрыл окованную железом дверь настолько, чтобы просунуться, и снова затворил; так они оказались в тёмном затхлом туннеле. Огня, договорились, не зажигать, чтобы с другого конца подземного хода никто их не обнаружил.
Тихо. Лишь капает поблизости вода. Вот вверху случился шорох, и кто-то мазнул по лицу Джамны — та тихонько вскрикнула.
— Не бойся, это летучие мыши... Дай руку и сожми пальцы... Пошли! Осторожно ступай. Вот так.
Пройдя несколько футов, Радогаст споткнулся о какой-то камень, предупредил девушку: она по-прежнему сильно сжимала его ладонь, но уже меньше боялась темноты.
Туннель стал сужаться, пришлось по нему протискиваться, под ногами что-то хрустело, и свод стал ниже, — вскоре они встали на четвереньки и поползли; Джамне было легче, а анту при его росте мешал акинак, но расстаться с ним он не смел.
Проползли несколько десятков локтей, и вдали забрезжил свет ночного неба.
— Гляди, звёздочки... — над ухом приятно пропела девушка.
Туннель вдруг снова расширился, стал выше, в лицо пахнул прохладный воздух с реки; несмотря на то, что подземный ход со стороны Тибра был завален двумя валунами, между ними оставалось довольно широкое отверстие, поэтому и виделись изнутри через него звёзды.
Прислушавшись, Радогаст навалился плечом на валун, сдвинул его с места и выскользнул наружу. После стольких дней заточения, оказавшись на воле, ант почувствовал, как закружилась голова и задрожали ноги. Заглянув внутрь, позвал Джамну. Но никто не ответил... Лишь слабый свет почудился ему. «Что за колдовство?!» — воскликнул про себя Радогаст и хотел было кинуться снова в туннель, сжимая в руке меч, но вдруг сбоку увидел обнажённую фигуру женщины, в которой узнал Джамну. Она шла от реки и выжимала на ходу волосы.
— Ты как это?.. Успела когда? — пробормотал Радогаст.
Джамна вся в сиянии мелких водяных брызг, облитая звёздно-лунным светом, теперь стояла в двух шагах от раба и смеялась:
— Ты стал валун отодвигать, а я в отверстие вперёд тебя выскользнула и сразу — к воде, ополоснуться...
— А если бы кто наблюдал за нами? — строго укорил девушку Радогаст и сам, не теряя времени даром, побежал к реке. Положил на землю акинак, разделся тоже догола.
Ближе к тому берегу проплыла доверху груженная барка, вёсла в уключинах тяжело скрипели.
Рим находился в освещении вечерних факелов, особенно ярко они горели на Субуре; огни, кстати, не погаснут на этой улице до самого утра. Там веселье будет царить до первых криков петухов, коих держали вместо будильника в каждом римском доме.
Радогаст погрузился с головой в воду, подождал, почувствовал, как охлаждает она всё тело, вынырнул. Гремя колёсами по булыжной мостовой улицы, примыкающей к реке, проехала повозка. Возница грубо ругнулся на бросившуюся под ноги лошадей бродячую собаку.
«Надо поостеречься... Опять из виду пропала шаловница Джамна... Как она хороша... обнажённая! Груди — нежные персики, гладкий живот стройные ноги... И дивная шея!» — Радогаст завращал головой, ища глазами девушку на берегу, и тут, его схватили за ногу; ант дёрнулся, поймал чью-то руку, потянул и выловил Джамну, которая незаметно под водой подплыла к нему.
Сейчас её мокрые волосы висели прядями, зубы в улыбке жемчужно блестели, груди вздымались волнующе, — и тогда ант притянул к себе тело темнокожей рабыни и зажал её смеющийся влажный род своими губами. В ответ кончик языка Джамны прошёлся по его зубам, как бы требуя, чтобы он разжал их, а когда это сделал, то трепетное щекотание нёба возбудило анта до предела... Он стал гладить правой рукой её нежную шею, затем груди, сдавливая их всё сильнее и сильнее, а левой постепенно достигал её запретного лона... Джамна тоже своими проворными пальчиками начата ласкать ставшее большим и крупным его естество... Потом девушка, стоя на мелководье, приподнялась на носки и со стоном вобрала в уже не запретное для Радогаста лоно сладкую плоть...
Звёзды на небе, казалось, замигали ещё ярче, ночная вода в реке будто потеплела разом, а луна пролила на их тела, слившиеся в одно целое, ещё больше света.
— Ты мой!.. Ты мой!.. — задыхаясь, шептала Джамна, обвив руками его мускулистую шею и повиснув на ней.
Позже они зашли в туннель, ант завалил выход, как было раньше, валуном, и вернулись тем же путём.
Гонория также тихо спала, но на губах у неё блуждала улыбка...
* * *
Обследуя местность возле митреума, где жрецом служил Виридовик, один из секретарей Антония спустился к Тибру, пошёл вдоль реки и вдруг ему бросились в глаза кусты розового тамарикса, росшие на песчаном берегу. Подошёл ближе и увидел два валуна, приткнутых друг к другу, один из которых, кажется, недавно сдвигали в сторону. Заглянул в отверстие между ними: далее — пустота... Хотел валун отодвинуть, не хватило силёнок, пошёл звать на помощь товарища.
Вдвоём они проникли в подземный ход и потихоньку стали обследовать его — убедились, что он ведёт к храму... Не зажигая огня, приблизились к окованной железом двери; она была закрыта, но через неё, хотя и слабо, проникали голоса. Сразу узнали голос Гонории. Всё ещё не веря своим ушам, они тем не менее молча крепко пожали друг другу руки: «Удача!»
Теперь не только оплаченный отпуск им обеспечен, но кое-что перепадёт из рук самой императрицы. Так, по крайней мере, уверял их корникулярий, посылая в числе ещё одной партии шпионов в Рим... Только радоваться пока рано, беглецов ещё следует арестовать и доставить целыми и невредимыми в Равенну.
За дверью заговорил мужчина, он уверял, что сидение их в заточении скоро кончится.
«Это уж точно! — злорадно подумали секретари. — С Гонорией ещё должна быть чернокожая рабыня... Да, верно. Вот и она что-то сказала. Значит, вся компания в сборе... Прав оказался корникулярий, предположив, что беглецы должны скрываться в одном из храмов бога Митры...»
Секретари отошли от двери, посовещались — нужно ли ещё привлекать к предстоящей операции других товарищей, решили, что нужно... К укрывательству Гонории причастны жрецы этого митреума, с ними тоже нелегко будет справиться, вчера они видели одного из них — высокого, с могучей грудью.
...В храм ворвались шесть человек в защитных шлемах, кожаных панцирях и с мечами наголо. От неожиданности Виридовик даже не оказал им сопротивления, его сразу скрутили, связали и его напарника. В голове Виридовика промелькнуло: «Измена!», но он даже крикнуть не мог — рот ему, как и другому, забили тряпкой.
Радогаст, увидев, что навстречу бегут вооружённые люди, схватил меч и приготовился к сражению. Рослый секретарь, бежавший первым, сразу упал, захлебнувшись кровью, так как ант полоснул его лезвием по горлу, другого проткнул насквозь; вытащил из тела лезвие, отбежал в сторону и зарычал, словно лев, — силы Радогаста будто утроились. Наверняка он бы справился и с этими двоими, но на помощь им, узрив, как храбро сражается славянин, на время оставив связанных и лежащих лицом вниз жрецов, пришли ещё двое. Всё-таки вчетвером они одолели Радогаста, зарубив его у входа в помещение, в котором сидели ни живы ни мертвы молодая Августа и Джамна.
Через несколько дней дочь императрицы и её чернокожую рабыню секретари тихонько доставили во дворец.
Привезли они в Равенну для суда и следствия и трёх жрецов бога Митры — Пентуэра, Виридовика и его напарника. Жрецов сразу бросили в подземную темницу и надели на них цепи: сколько посвящённых ни жгли огнём, сколько ни дробили им железом кости, они не проронили ни слова — в конце концов Ульпиан приказал служителей убить, а трупы выбросить в крепостной ров на съедение собакам.
Хотел он поступить так и с Джамной, на которую был сильно зол, но Гонория строго заявила матери, что если с чернокожей рабыни упадёт хоть один волосок, то она покончит с собой...
Плацидия, удовлетворившись полуправдивым рассказом дочери о том, что она, приревновав к ней Евгения, по собственной воле сбежала из дворца и по совету Джамны с помощью Радогаста добралась до Рима и укрылась в храме бога Митры, оставила Гонорию на время в покое... Не разрешила императрица и трогать Джамну.
А вскоре пришла страшная весть о гибели Рутилия Флакка от рук пиратов и смерти от чумы Евгения Октавиана. Работающие на оливковой плантации в Сардинии, куда смотритель дворца был продан в рабство, все до единого вместе со своим хозяином-греком и его земляком-управляющим вымерли от этой страшной болезни.
Гонория после такого сообщения забилась в истерике, и сама Плацидия искренне огорчилась, лишь радовался этому корникулярий...
Антоний всё же был уверен в том, что укрывательством Гонории занимались не только жрецы, но и бывший сенатор Клавдий и его сын.
Если бы вернулся из плавания Евгений, то евнух учинил бы им допрос с пристрастием... Но смерть Октавиана-младшего всё в корне меняла, поэтому старшего уже не было смысла пытать и его не тронули, оставив наедине с горем...
V
Валадамарка была похитрее своего последнего мужа; приготовляясь на свадьбу к Аттиле, она засомневалась:
— Не кажется ли, Бледа, что тебя у брата ничего хорошего не ожидает...
— Ты глупая женщина! Аттила первым после размолвки позвал меня к себе, а я ещё буду колебаться... Собирайся, да поживее!
— Как повелишь, ты пока владеешь полцарством гуннов...
— Почему «пока»?! Моя ставка простоит ещё сотню лет.
«Мозги петушиные...» — сказала про себя Валадамарка; выданная замуж за Бледу насильно, она ни капельки его не любила.
— Как знаешь... Хотела тебя вразумить, да разве такие, как ты, способны что-то понять.
Рассуждая так, она мало боялась за себя: знала, что Аттила не даст её в обиду, ибо у него с ней в прошлом были близкие отношения. А Бледа боялся Аттилы.
На подарки родному брату Бледа не поскупился: обоз его состоял из повозок, груженных мехами, коврами, китайским шёлком, бочками с мёдом, верблюжьим кумысом. А в возке, в котором ехали Бледа и Валадамарка, в углу стоял чудесной работы ларец, где лежали драгоценные украшения для очередной будущей жены Аттилы.
Чтобы переправиться на другой берег Тизии, нужно было переехать по деревянному мосту, построенному готами по римскому образцу: под углом друг к другу в дно вбивались две сваи, — и таких угольников ставилось поперёк реки столько, сколько позволяла её ширина. Сверху настилались доски, затем возводились перила. Мост выдерживал не только весеннее половодье, но и ледоход.
Обоз сопровождали триста верховых; ехали под звон бубенцов, висевших на шеях волов, коней и верблюдов. По мосту преодолели Тизию, и на этом берегу Бледу и Валадамарку громко приветствовали всадники Аттилы.
— Смотри, как встречают! — разулыбался Бледа. — А ты сомневалась.
— Хлеб в руки, а камень в зубы... — недовольно проговорила Валадамарка.
— Ты, конечно, знаешь, что говаривал твой покойный муж, а наш дядя Ругилас о женском норове... «Это как глиняный горшок: вынь из огня, а он пуще шипит». Норов ваш и на коне не объедешь.
«Пусть болтает, что хочет. Только сердце мне нехорошее вещует», — подумала Валадамарка и вконец замолчала.
Впереди показались белые стены крепости; через подъёмный мост миновали наполненный водой глубокий ров и оказались внутри её. Увидели отделанный мрамором древнеримский дом, предназначенный когда-то для наместника императора. Но Аттила не жил в нём; как все, он обитал в просторной юрте, увенчанной чёрными конскими хвостами. Рядом стояли юрты поменьше — для приближённых. Остовом их служили медные или серебряные кереге (в зависимости от богатства и знатности их владельцев). Кроме дома бывшего наместника, из камня и мрамора была сложена большая красивая купальня, построенная по желанию одной из жён повелителя.
Такие же чёрные конские хвосты на своём верху имела юрта старика Хелькала, тоже довольно просторная, так как в ней любил проводить в разговорах время сам Аттила; Хелькал ещё от Мундзука — отца повелителя — унаследовал доверие к себе.
А вокруг шумели и волновались несметные полчища гуннов, готовые, как показалось Валадамарке, в любой миг ринуться в любую сторону света по зову своего предводителя .
«Не то что в ставке Бледы: тишь да гладь... А какая здесь купальня!» — восхитилась женщина.
Всадники обоз и охрану Бледы провели через два «кольца стражей». Знаменитые одиннадцать сторожевых колец, постепенно суживающихся и состоящих из преданных и отборных многих сотен только гуннских воинов будут стоять возле любого местопребывания Аттилы позже, когда он станет полновластным властителем всех гуннов.
Но всадники не остановились возле юрты повелителя, а проследовали к жилищу Хелькала, где за дастарханом уже сидели сам старик, его сын Аэций, Аттила и другие приближённые. Прислуживали им только рабы, женщин сюда не допускали. Исключение сделали для гостьи, поэтому с появлением Бледы и его жены хозяева поднялись, все, кроме Аттилы, и усадили по распоряжению повелителя Валадамарку на почётное место.
Бледу это покоробило...
Валадамарка успела обратить внимание на богатые одежды собравшихся, но в то же время они, и даже знатный римлянин, были... босиком. Вообще, гунны предпочитали ничего не надевать на ноги. Лишь находясь на коне, они привязывали к пятке колючку от шиповника вместо шпоры; седло имелось только у знатных кочевников, но даже сам Аттила часто пренебрегал им.
Молча ели парившее мясо, лежащее сочными кусками на серебряном блюде, и пили тэке — кислое молоко, любимый напиток Аттилы. Лишь Бледа, щуря свои и так заплывшие глазки, предпочёл другой напиток — крепкий хмельной кумыс.
Вскоре появился в жилище Хелькала горбун Зеркон Маврусий; все почтительно потеснились, и горбун сел рядом с Валадамаркой. Он помог ей снять тяжёлый головной убор, волосы её мелкими косичками упали на плечи, лицо женщины слегка раскраснелось — оно стало ещё прекраснее, и Аттила, не скрывая, смотрел на жену брата с вожделением... А тот, уже осоловев, пытался раза два петь, но ему никто не подтянул.
«Почему Аттила ничего не говорит о своей предстоящей свадьбе?» — задала себе вопрос Валадамарка.
— Как они, должно быть, счастливы! — восхитился кто-то, бесцеремонно показывая обглоданною костью в сторону Бледы и его жены.
— Талагай! — сказал Маврусий и, чтобы было понятно Валадамарке, перевёл: — Дурак! Счастье — это призрак. Знаешь, милая, легенду о птице призрачного счастья... Арманды.
— Нет, Зеркон, не знаю.
Валадамарка со стороны горбуша испытывала к себе доброе отношение, когда ещё являлась женой старого Ругиласа. Через него она, ещё совсем молодая и жаждущая сильных мужских ласк, однажды дала знать Аттиле, чтобы тот в летнюю ночь пришёл к её юрте, притворись пьяным... Аттила знал, что он ей нравится, так же, как и она ему, но удивился: зачем притворяться напившимся кумысу?.. Всё же сделал так, как она велела.
Якобы пьяный Аттила не вызвал никаких подозрений у охраны; завалился возле юрты жены своего дяди. Охранники пошутили: «Проспится племянничек и уйдёт...» Вскоре он услышал нежный шёпот из юрты:
— Аттила, подними кошму.
Он придвинулся вплотную к юрте, приподнял кошму, через кереге просунул руку и нащупал голое бедро Валадамарки.
— Я лягу спиной, согнувшись, близко к кереге... А ты через кереге... Понял меня?
Как не понять!..
— Расскажи, Зеркон, о птице Арманды, — попросила Валадамарка.
— Прежде чем рассказать, милая, о птице Арманды, я поведаю другую легенду, которая прямо относится к первой...
Все замолкли, собираясь слушать мудрого Зеркона Маврусия. Только Бледа бормотал что-то; по знаку Аттилы могучего сложения раб положил Бледе на плечо огромную волосатую руку, и тот тоже замолк.
— Один статный луноликий богатур много раз бился с врагами, но всегда оставался жив, в каком бы несметном количестве они на него ни нападали. Этому чуду богатур был обязан красавцу-коню Акбару, всякий раз выносившему хозяина из лютой свалки... Богатур очень любил коня, также любил и свою нежную жену, похожую на тебя, моя милая, только у той глаза были чёрные, а у тебя синие, как воды Байкала, — ещё ниже клонил свой горб перед Валадамаркой Зеркон. — Жену богатура звали Гаухар. Однажды её богатур вернулся без коня. Но ничего не сказал жене, лишь грустью подёрнулось его лицо. А потом так сильно затосковал по Акбару, что занемог и слёг. Увидев это, Гаухар отправилась на поиски коня. Пришла поздно вечером и запричитала:
— Коке! Ат жок!.. Коке! Ат жок!..
«Нет, мол, коня... Нет!»
На следующий день то же самое. И так продолжалось долго, пока раздосадованный богатур не вскричал в сердцах:
— О Пур[78], да забери ты её! И пусть она кричит одно и то же: «Коке! Ат жок!..»
С того момента как сквозь землю провалилась Гаухар, а появилась серая невзрачная кукушка, которая и поныне кричит, словно причитая и тревожа души людей: «Коке! Ат жок! Коке! Ат жок!..»
— А почему я не вижу среди нас талагая Ушулу?! — воскликнул Аттила. — Пусть разыщут его.
Привели юродивого юношу. Аттила протянул ему кусок мяса:
— Ешь, а потом спой свои глупости.
Ушулу поел, масляные руки вытер о свою волосатую грудь и вдруг запел несуразности:
— В поле — ветер, в жопе — дым, я родился молодым ...
Аттила довольно захохотал. Зеркон ещё ниже склонил свой горб и захихикал тоже. Лишь римлянин Аэций пристально посмотрел в стальные глаза Аттилы...
Но Маврусий скоро выпрямился и, заглянув в лицо на миг растерявшейся женщины, сказал:
— Милая Валадамарка, настало время рассказать и вторую легенду. — Зеркон сделал паузу и снова начал: — И летала по небу одна распрекрасная птица... Возгордилась она своей красотой. Задумала покинуть Землю, чтобы оттуда, из неземной выси, стать великим зрителем и наблюдать за тем, что делается внизу. И вот она взмахнула крыльями и поднялась...
Сколько продолжался этот полёт, никто не знал. Долго, долго она летела... Может быть, сто или тысячу лет... И столько же времени ей понадобилось, чтобы обозреть сверху отныне холодную для неё и далёкую Землю...
Но однажды стало птице не по себе. Ей вдруг почудились крики одинокой кукушки, которые она слышала не раз, летая над земными просторами:
— Коке!.. Ат жок!.. Коке!.. Ат жок!..
Эти крики стали преследовать красивую птицу днём и ночью; она сильно затосковала по живущим на далёкой Земле, и тоска стала подтачивать её силы... Теперь гордая птица была уверена в том, что если она не вернётся на Землю, то погибнет, запахнув вдали от неё. «Там мои корни, — подумала птица. — Там они напитают меня соками. Вдохнут жизнь. А что я делаю здесь, глупая?..» — Зеркон при этих словах заглянул в глаза Валадамарки, и у той дрожь прошлась по всему телу.
— И птица ринулась вниз, но силы её были уже не те... Ярким живым костром занялось её тело... И на Землю упали сгоревшие остатки. Проходя мимо и увидев, как сгорела гордая, но глупая птица, один мудрец, убелённый сединами, сказал просто:
— Это птица — Арманды! Птица призрачного счастья...
И тут Ушулу пропел ещё одну несуразицу:
— По долинам, по горам идёт сильный тарарам, в душе хрен сидит, на лысого глядит, на лысого, на белого — чёрта загорелого...
Все разом глянули на лысого горбуна и захохотали пуще прежнего. Серьёзность сохранили Валадамарка и Аэций.
— Почему тэке мало пьёшь? — спросил римлянина Аттила. — Помнишь, как хорошо было запивать им полусырое мясо, которое мы клали под ягодицы и нагревали до парения во время скачек...
— Помню.
— Хорошо... Завтра поскачем на дальнее кочевье. Там и справим мою свадьбу...
С самого рассвета лагерь Аттилы заволновался: рабы укладывали вещи в колёсные кибитки, запрягали в них волов и верблюдов; конные, чтобы разогреть лошадей, с голыми пятками носились по кругу. Слышались рёв ослов и ослиц, лай собак, блеяние коз и овец, пронзительные окрики хозяек на нерасторопных слуг. А с восходом солнца этот кишащий муравейник, состоящий из конных и пеших гуннов, и покорённых народов — сарматов, антов, аланов, германцев, угров, славян и даже римлян — устремился на юг, следом за своим повелителем.
Но Аттила, прежде чем пуститься в путь, когда в лагере шла ещё суматоха сборов, вызвал к себе старика Хелькала и его сына, которые и явились к нему незамедлительно.
— Таншихай, — указывая на какой-то предмет, завёрнутый в холстину, обратился Аттила к сыну Хелькала. — Это топор. Но перед тем, как скажу, для чего он будет предназначен, я напомню тебе, Хелькал, и тебе, Таншихай, о тайне, которой владеем только мы трое... О тайне смерти моего отца Мундзука... Ты, Хелькал, захватил грозного повелителя всего в крови, которая лилась из его ран, нанесённых ножом... женщиной. И она, подлая тварь, ползала по распростёртому телу отца, перемазанная этой кровью, не совсем веря в то, что сделала... Ты, Хелькал, сразу же позвал меня и своего сына, чтобы замести следы... Чтобы никто из гуннов не мог узнать о великом позоре, что великого сына бога Пура умертвила какая-то ничтожная женщина, мы незаметно убрали её, а народу объявили, что Мундзук убил себя, так как был уже болен и стар. Правитель гуннов или погибает в битве с врагами, или лишает себя жизни сам, когда становится немощным...
Ты, Хелькал, тогда не позвал моего брата Бледу, хотя он и старше меня, потому что, зная его характер, не надеялся на его молчание... Узнай, что повелитель не смог справиться с женщиной, и она заколола его, степь взбунтовалась бы и никогда мы, сыновья Мундзука, не стали бы ею править... Но ты, Хелькал, знал и ещё одно — Мундзук недолюбливал моего брата и сколько раз высказывал тебе мысль, что власть отдал бы мне; но коль нельзя было этого сделать в виду наследства, так как мой брат старше меня, то он заповедовал, чтобы правили мы гуннами вместе... Правда, тут вмешался дядя Ругилас и, пока мы были маленькие, он взял власть в свои руки... Но теперь это не имеет никакого значения. Двумя пол царствами гуннов владеем мы — я и Бледа. Но Бледа много пьёт, ничего не предпринимает для завоевания чужих земель, лишь тучнеет, у него даже наследника нет. Такой соправитель мне больше не нужен...
Аттила засмеялся и подёргал свой левый длинный ус: лицо его сразу смягчилось, но глаза оставались прежними — льдисто-холодными.
— Я люблю тебя, Хелькал, как второго отца. А сына твоего считаю за брата. Этим топором, как мы уедем на дальнее кочевье, Таншихай должен подрубить у моста сваи. Вот почему я и увожу отсюда весь лагерь... Я не хочу, чтобы даже волос упал с головы твоего сына, поэтому оставляю Ушулу: если вдруг откроется тайна, то ты, Таншихай, всё свалишь на голову талагая... А он ведь может сделать всё, что взбредёт в его дурацкую башку... Как только подрубишь сваи, выставь с обеих сторон моста охрану и никого, до тех пор пока не будет снова переезжать обоз Бледы, не пускай... А я уж постараюсь тяжело загрузить его подарками. Ради такого случая не поскуплюсь...
— Аттила, значит, в водах Тизии должна умереть и Валадамарка?
— Да, жаль эту красавицу, она бы и мне ещё послужила, но... Где дым, там и огонь!
— А где тэке, там и гуща, — закончил за повелителя старик Хелькал.
На том и порешили.
* * *
Аэций ехал чуть позади Аттилы и видел его мощный толстый затылок, большую голову почти без шеи, плотно сидящую на широких плечах, и коренастую фигуру, слившуюся с крупом коня.
«Кентавр», — подумалось римлянину. И тут он с изумлением увидел то, чего раньше как-то не замечал, — дотоле виденные им утопающие в зелени садов селения и дома были разрушены, деревья вырублены, а на месте их и некогда богатых пажитях пасся теперь многочисленный скот гуннов, уничтожая, словно саранча, всякую растительность и копытя всё вокруг до голой земли. Увидел и ужаснулся: «Да ведь эти... кентавры могут превратить в развалины не только селения, но и целые города... Если дать им волю, если не сдерживать их!.. Ведь они ничего больше не умеют, как только разрушать. Я жил с ними рядом и знаю, что за всё время они не построили ни одного добротного жилища (для жён Аттилы строили дома пленные греки и аланы), не посадили ни одного деревца, не вырастили ни одного злака... Почему я раньше не обращал на это внимание?..»
Ехали долго на запад, до тех пор, пока там не зашло без лучей и света красно-кровавое огромное солнце. Оно даже не зашло, а как-то задвинулось за плоскую, ставшую тёмной степь, но зато тут же весь небосвод над нею вызвездился ярко мигающими жемчужными хрусталиками.
По приказанию Аттилы не разводили костров, а поужинали кто чем мог, сам правитель и его приближённые, в том числе и знатный римлянин с сыном, поели полусырой) мяса. Видимо, Аттила ограждал свой лагерь от чьего-то внезапного нападения...
Укладывались спать на разостланных на земле бурках, подложив под головы сёдла, а у кого их не было, просто свои кулаки. Ночью Аэций проснулся от приступа сухости и жжения во рту — в последнее время с ним это часто стало случаться. Он встал, чтобы попить воды, и увидел на холме две тёмные фигуры — женщины и мужчины. В них он узнал Валадамарку и Аттилу. «Бледа с вечеру напился и спит, как верблюд после гона», — подумал весело Аэций, узрив, как Аттила повалил Валадамарку на землю...
Римлянину было ведомо, когда жил в становище гуннов, как Аттила через кереге с женой своего дяди удовлетворял свою и её плоть...
«Вот и сейчас уговорил...»
Эта беспутная красивая германка нравилась и Аэцию в своё время за смелость: ведь дознайся Ругилас, чем занимаются его племянник и жена через кереге по ночам, то в первую очередь казнили бы её.
«Не хочет ли Аттила отнять Валадамарку у брата?.. Его-то участь решена!» — Напившись воды, Аэций заснул и проспал до того момента, пока воин-стражник громко не протрубил подъём.
К обеду они уже находились во дворе сарматского военачальника, любимого Аттилой за смекалку, удачу и смелость, Огинисия. Встречать гостей вышла из бревенчатого просторного дома сама хозяйка, жена военачальника, со многими служителями. Одни несли кушанья, другие хмельные напитки. Они приветствовали Аттилу и его брата и просили их вкусить того, что им подносят во изъявлении своего почтения.
Бледа сразу потянулся к хмельному, а Аттила, в угодность жене своего любимца-сармата не слезая с коня, стал медленно пробовать все кушанья на серебряном блюде, высоко поднятом служителями.
Хозяйка, раскрасневшись от такого почёта, хлопнула в ладоши, и из-за угла дома вышли рядами девы. Они были статные, голубоглазые, под тонкими покрывалами просвечивали их полные ноги и круглые груди. Эти девы, приветствуя гостей, пели протяжные сарматские песни... Если бы у Аттилы было больше времени, он бы с удовольствием позабавился с некоторыми из этих дев. Но надо было ехать к своему дворцу, построенному тоже из брёвен. Таких дворцов в Паннонии для повелителя полуцарства гуннов было воздвигнуто больше пятидесяти; в них жили его жены.
Надо видеть, как, по-лебединому выгнув шею, белый скакун с сидящим на нём Аттилой вступал в ворота дома самой младшей жены повелителя из древнего тюркского рода сабиров, некогда населявших Западную Сибирь и затем растворившихся в среде гуннов, когда последние завоевали эту землю.
Как только конь миновал ворота и оказался на подворье, Аттила натянул поводья, и тут на резном крыльце появилась молодая женщина в белом шёлковом одеянии в сопровождении служанок. На руках она держала грудного ребёнка.
Увидев грозного владыку, для устрашения поводящего туда-сюда расширенными глазами и крутящего пальцами левый ус, и коня, нетерпеливо бьющего копытами, у молодицы чуть не подкосились ноги; служанки помогли ей спуститься по ступенькам. Она, трясясь всем телом, приблизилась к всаднику и положила на землю ребёнка, закутанного в тёмное покрывало. Все со страхом, в том числе и молодая женщина, воззрились на повелителя: признает ли он за своего этого ребёнка, родившегося в его отсутствие, или нет?..
Комья земли, отскакивая от копыт коня, летели на малыша, который начал кричать. Аттила молча кивнул женщине. Тогда только она подняла ребёнка, поцеловала его и, низко-низко поклонившись Аттиле, возвратилась в дом.
Аэций, тоже молча наблюдавший за этой картиной, облегчённо вздохнул: он помнил, как однажды Ругилас не признал в ребёнке своего отпрыска и копытами лошади растерзал и его, и молодую мать... Хотя римлянина жестокостью нельзя было удивить, но он почему-то сейчас не хотел бы повторения подобной сцены... Слава Всевышнему, что всё обошлось!
Младенца тут же нарекли Дценгизитцем, и отец повесил на его шейку ожерелье из волчьих зубов...
В этом дворце и решили сыграть очередную свадьбу Аттилы, а также отметить рождение его третьего сына. Двух других повелитель тоже привёз сюда. При них в качестве старшей мамки неотступно находилась любимая и единственная жена старика Хелькала Траста.
А их сын Таншихай, как только за ускакавшим лагерем улеглась пыль, пришёл к отцу и спросил его:
— Неужели окончательно решил Аттила насчёт Валадамарки?.. Она такая красивая! Жалко, если умрёт...
— Не твоё дело — жалеть... Это забота его, великого повелителя.
— Отец, а ты вправду думаешь, что Аттила великий повелитель?
— Да... Ибо его поступки похожи на поступки его далёкого предка Модэ... Такие же неоднозначные и непредсказуемые.
— А кто такой Модэ?
— О-о, это был великий шаньюй![79] Изобретатель свистящей стрелы... И жил он за двести лет до начала нынешнего тысячелетия. Таким образом, со времени его царствования сменилось лето на осень шестьсот пятьдесят раз[80]. Вот послушай...
Модэ приходился старшим сыном от первой жены шаньюю Туманю. Последний имел и ещё младшего сына от другой жены, которого очень любил и хотел бы отдать ему свою власть. Поэтому, когда победители-юэчжи (согдийцы) потребовали от вождя хунну в заложники сына, тот, не задумываясь, отдал старшего... Но при этом задумал извести его, чтобы власть перешла к младшему. Тумань рассудил так: «Нападу на юэчжей, нарушу слово, и тогда они убьют Модэ...»
Но Модэ угадал намерение отца, и, когда шаньюй начал набег, сын вождя убил стражника, похитил коня и вернулся домой. Отец, искренне восхищенный удалью Модэ, дал ему в управление Тюмень, то есть десять тысяч семейств. Модэ немедленно приступил к обучению военному делу свою конницу. Для этого он изобрёл, как я говорил, свистящую стрелу. В её наконечнике делались отверстия, и при выстреле из лука она свистела, подавая сигнал. Воины должны были пускать стрелы вслед за свистящей стрелой Модэ: невыполнение этого приказа каралось смертной казнью... Приказал и вдруг выпустил стрелу в... своего любимого коня. Все ахнули: «Зачем же убивать прекрасное животное?!» Но тем, кто не выстрелил, Модэ отрубил головы... Через некоторое время он выстрелил в свою красавицу-жену... Некоторые из приближённых в ужасе опус тили луки, не находя в себе сил стрелять в беззащитную молодую женщину. И их немедленно обезглавили.
А потом, во время охоты, Модэ встретил отца и... выпустил стрелу в него. Тумань в мгновение ока превратился в подобие ежа — так утыкали его стрелами воины Модэ, ибо не стрелять уже не рискнул никто...
Воспользовавшись замешательством, Модэ покончил с мачехой, братом и старейшинами, не захотевшими повиноваться отцеубийце, и объявил себя шаньюем. Но сказание о Модэ на этом не кончается... — перевёл дух Хелькал. — Он сразу договорился о мире с юэчжами, но от него потребовали дань восточные кочевники, которые назывались дун-ху. Сначала они пожелали получить лучших «тысячелийных коней»[81]. Некоторые хунну сказали: «Нельзя отдавать скакунов». — «Нельзя воевать из-за коней», — не одобрил их Модэ и тем, кто не хотел отдавать животных, отрубил, по-своему обыкновению, головы. Затем дун-ху потребовали прекрасных женщин, в том числе и любимую жену шаньюя. Тех, кто заявил: «Как можно отдавать наших жён!» — Модэ тоже казнил. «К чему жалеть женщин?.. Мир дороже их...» — сказал повелитель.
Тогда дун-ху потребовали полосу пустыни, неудобную для скотоводства и необитаемую. Старейшины сочли, что из-за неё незачем затевать спор: «Можно отдать и не отдать». Но Модэ воскликнул: «Земля есть основание государства, как можно отдавать её?!» — и всех, советовавших отдать, лишил головы[82]...
После этого он пошёл походом на дун-ху, они не ожидали нападения и были наголову разбиты. Потом Модэ напал на юэчжей и прогнал завоевателей далеко на запад. Затем шаньюй вступил в войну с Китаем. Казалось бы, эта война была не нужна хунну, они кочевали в степи, а китайцы жили южнее, за своей недавно построенной Великой стеной[83] во влажной и тёплой долине. Но у хунну были причины воевать с Китаем. Но это уже сказание иного рода... А теперь бери лучше вот этот инструмент, а не топор, который дал тебе Аттила, и иди, делай своё дело.
Таншихай развернул полотнище и увидел одноручную пилу.
— Ты, как всегда, прав, отец... Лучше мост подпилить, чем подрубить, будет незаметнее и произведёт меньше шума.
Таншихай вышел из жилища отца и начал искать глазами придурка Ушулу: увидел, как тот верхом на большой собаке ездил вокруг соседней юрты.
— Эй, Ушулу, скачи к мосту и подожди меня на берегу, — приказал ему Таншихай.
Когда на середину моста направился сын Хелькала, Ушулу хотел было последовать за ним, но Таншихай остановил талагая:
— Ты сиди тут у всех на виду... И сочиняй свои песни.
Ушулу сел и что-то начал бормотать про себя. Прошли мимо какие-то люди (в это время укрытый от посторонних глаз настилом моста, Таншихай пилил сваю) и спросили юношу-дурачка:
— Ты что здесь сидишь, Ушулу?
— Сочиняю песни.
Зная, какие песни он сочиняет, прохожие разулыбались:
— Сочиняй, Ушулу, потом послушаем...
Таншихай вскоре окончил работу7 и остался доволен тем, как ловко он проделал её, — умело подпиленные сваи могли выдержать верхового на коне, но уж если поедет тяжёлая повозка, то мост обязательно рухнет...
Сын Хелькала вернулся на берег, спросил Ушулу:
— Сочинил?
— Сочинил. — И дурачок пропел: «Ветер дует, разбибует, бабам шкурки заворачивает[84], заворачивает и захреначивает...»
— Правильно, Ушулу... Захреначивать бабам — это самое хорошее дело!
Вернувшись домой, Таншихай спросил у отца:
— А где наша мать? Я не видел её с утра.
— Она с детьми Аттилы уехала на свадьбу... Разве не знаешь?
— Скажи, отец, а почему у тебя только одна жена?.. Многие гунны имеют их по нескольку...
— Потому, сынок, что я люблю только одну женщину... Твою мать.
— Скажи это германцам — засмеют... Гунны и любовь... Разве такое может быть?
— Значит, может...
— Да, а ведь это они, германцы, придумали про нас отвратительную песню. Помнишь её?
— Как не помнить?! Могу пересказать... Когда-то над готами властвовал якобы их благородный Амбль, прародитель племени амелунгов. Как-то отбили они у врагов финских женщин, финки были искусны во всём, кроме того и в чародействе. Они губили скот, посевы, посылали на жилища пожары, на людей мор и болезни... Но что всего хуже, они сделали так, что у молодых готок-кормилиц груди наполнялись кровью, а не молоком... Дети рождались чудовищно безобразными. Объятые ужасом и гневом, готы решили изгнать из лагеря финок. Убивать их побоялись, чтобы не осквернить свою землю... Прогнали ведьм, которых называли алиарумнами, в пустыню, думая, что там они умрут с голоду. Но случилось иначе... Злые духи соединились с алиарумнами, и не на брачном ложе, а на спинах коней зачали детей ужасного племени. Германцы говорят, что то были наши предки, предки гуннов: дикие, как волки, — племя алчное, желтолицое, лукавое и прожорливое... И якобы мы в давние времена только лишь из-за еды воевали с китайцами, которые в битвах терпели от нас поражения. Они тоже со страху придумали про нас, как и готы, ужасные вещи... Китайцы говорили, что мы едим только полевых мышей, хотя у нас бродили по степи огромные отары овец, тучные стада коров и верблюдов и имелись лучшие кони.
Придумали китайцы и другое: будто наши собаки кормились свежим человеческим калом, потому что они худые и поджарые... Да они были такими, так как много бегали, загоняя в многочисленные стада отбившуюся скотину... Если славяне и скифы, эти справедливейшие народы, видели в нас равных себе противников, то в конце концов мы сделались в некотором роде друзьями, и сейчас в нашем войске немало сражается их, и сражается, надо сказать, отменно... А готы, китайцы...
— Отец, так мы ведь действительно много сражаемся с готами, а наши предки долго воевали с Китаем...
— Правильно... Но воевали хунну с Китаем в основном из-за шёлка... — Хелькал гордо взглянул на сына и продолжил: — В те времена, когда властвовал Модэ, китайцы научились изготовлять шёлк — драгоценный товар древности. Спрос на него сделался сразу огромным, ибо людей мучили паразиты насекомые, а спасением от них и явились шёлковые одежды... Если какая-нибудь хунка получала шёлковую рубашку, то ей уже не приходилось всё время почёсываться.
Такая же беда была и у других народов, в том числе и у римлян. Римляне натирали тело маслом, затем счищали его скребками (вместе с грязью, а после распаривались в ванне. Однако мелкие паразиты появлялись вновь.
Римлянки-красавицы требовати у мужей всё больше и больше шёлковых туник, также как и влиятельные и знатные хунки шёлковых рубашек... Поэтому и возникали у наших предков с Китаем войны. И хотя в Китае жило много народу, а хунну около трёхсот тысяч, но борьба, вызванная потребностью в шёлке, а также в муке и железных предметах не утихала... Кони у китайцев были намного хуже, а у хунну имелись «небесные жеребцы» — породистые скакуны, на которых они носились, словно на крыльях...
Вот я и поведал тебе второе сказание... Уже наступает вечер, ложись спать. Ты славно потрудился сегодня, мой любимый единственный сын...
* * *
На свадьбе, когда все пили и веселились, Аттила вместо того, чтобы обнимать очередную молодую жену, поставил перед собой двух сыновей: Эллака — от первой жены-германки и Эрнака — от второй жены из древнего рода хионитов тобасского племени[85], держал их пальцами за щёки и время от времени подёргивал...
А возвращались намного быстрее, чем ехали на дальнее кочевье. Правителя ждали государственные дела... По приезде он сразу позвал к себе Хелькала и его сына, спросил:
— Всё сделали?
— Как и велел ты, шаньюй... — ответил старик.
Никто доселе Аттилу так не называл, но повелителю это понравилось.
— Ты, наверное, рассказывал Таншихаю о моём предке Модэ?
— Рассказывал... И сравнил с ним тебя, наш повелитель.
— О Модэ я тоже поведал по пути сюда знатному римлянину Аэцию. Кажется, это произвело на него впечатление... Ладно... Теперь будем кончать с Бледой.
Назавтра соорудили обратный поезд, в повозку к Бледе и Валадамарке поместили много даров. И когда обоз приблизился к мосту, сам Аттила лично направил по нему повозку брата первой.
При расставании ещё в юрте, увидев на глазах Валадамарки на миг блеснувшие слёзы, Аттила пожалел её и чуть поколебался: «А не отменить ли всё это?..», но вдруг перед мысленным взором встал образ его дальнего предка Модэ, и повелитель подавил в себе всякую жалость.
Вот кони, запряжённые в повозку Бледы, зацокали по деревянным настилам. Таншихай с замиранием сердца ждал, когда они приблизятся к месту подпила свай; вот они всё ближе и ближе... Вот достигли! Сейчас в этом месте рухнут сваи, и повозка с лошадьми, Бледой и Валадамаркой канет в бурлящие воды Тизии. Но... Кони миновали место подпила и вскоре оказались на другом берегу...
Таншихай покачнулся и чуть не упал. Отец, стоящий рядом, прошипел:
— Ты что натворил, подлец!
Когда лишь третья повозка оказалась на мосту, тогда-то он и рухнул... В Тизию полетели вслед за ней несколько конников охраны. Троим ударило по голове брёвнами и, оглушённые, они пошли ко дну, остальные вскоре выплыли вместе с лошадьми на другой берег.
Аттила, пылая гневом, ударил плёткой коня и, ничего никому не объясняя, умчался в свою юрту. Хелькал сразу понял причину промаха: это он, старый дурак, во сто крат глупее Ушулу, оказался виноват во всём, а не его сын... Надо было сваи подрубать топором, как велено повелителем, а не подпиливать... Пока ехали две повозки, подрезанные пилой, сваи оставались лежать друг на друге, только когда они сдвинулись, произошло то, что должно было произойти...
Старик помчался к юрте Аттилы, чтобы объяснить: «Сын мой тут ни при чём... Казни меня!» Если раньше Хелькат свободно заходил в юрту к Аттиле, то сейчас, когда старик сунулся ко входу, охрана вытолкала его взашей. Аттила уже знал, что случилось... Он послал за Ушулу, и тот сказал, что у Таншихая в руках была пила, а не топор.
Ночью за Хелькалом и Таншихаем пришли стражники, они скрутили им руки и отвели к кровожадным жрецам бога Пуру. Пур требовал только человеческих жертвоприношений: но людей, предназначенных в жертву, вначале подвешивали крючьями за ребро. Эти крючья были вбиты в столбы, стоящие рядом с каменным идолом бога... И висели жертвы перед его лицом, мучаясь, до тех пор, пока не умирали; тогда жрецы снимали их с крючьев, а уж потом сжигали...
Подвесили за ребра крючьями Хелькала и его сына. Нужно отдать должное их мужеству: они не кричали от боли. Лишь старик прохрипел:
— Прости, сынок...
— Прощаю, отец.
Когда Тцаста увидела подвешенных за ребра любимых мужа и сына, волосы у неё вдруг сделались белыми, — она дико закричала и бросилась в степь... Больше её никогда никто не видел.
Аэций, собираясь в дорогу, посетил жертвенное место каменного бога гуннов и недоумевал: за что были казнены самые близкие люди Аттилы, за какие такие провинности?..
Спрашивать у Аттилы Аэций не посмел...
По обыкновению того времени при расставании не только прощались, но давали какие-то советы. И повелитель гуннов знатному римлянину посоветовал следующее:
— Аэций, есть три правила, которым непременно нужно следовать в жизни... По крайней мере, я следую им неукоснительно. Первое — если твоя сердечная тайна известна другим, сделай так, чтобы она была известна только тебе одному... Второе, бойся женщин и не считай их беззащитными существами... И третье — клочка земли своей, даже паршивой, не отдавай никому...
И Аэцию припомнился страшный рассказ Аттилы о своём далёком предке Модэ, рассказ, скорее похожий на легенду.
Когда Аэций и его сын Карпилион отъехали на порядочное расстояние, полководец спросил:
— Что ты скажешь, сынок, об Аттиле?
— Он очень хитрый, справедливый и неожиданно коварный человек... Как Модэ...
— И ты знаешь об этом Модэ?
— Да, отец... Аттила мне о нём рассказывал. И не раз... Он любит рассказывать о Модэ.
VI
Давитиак не видел своего сына Гальбу шесть лет: по галльским обычаям сын не мог появляться на глаза отца до тех пор, пока в совершенстве не овладевал оружием. До двенадцати лет Гальбу в семье воспитывали женщины, а потом его отдали в лесную школу к жрецам-друидам, где он и обучался военному делу. Школу никто из родственников не имел права посещать — дети вырастали вдали от родных жалостливых глаз крепкими и мужественными; кроме того, они постигали там своеобразную философию своей религии — в частности, бессмертие души галлы связывали с переселением её из одного человеческого организма в другой, и не в ином свете, а здесь, на земле. Галлы, умирая, как бы отдавали свою душу живым взаймы под условием уплаты в ином мире... Поэтому почти каждый галл являлся носителем не только своей, но чужой души... И, отвечая за неё и свою, он совершал поступки только достойные.
Давитиак был рад встрече с сыном, и ещё его радовала мысль, что Гальба идёт служить к вестготам не в качестве раба, а как воин. Епископ Сальвиан похлопотал за сына своего предсказателя, и того взяли в преторианскую гвардию короля — рост, сила, умение владеть оружием, красота Гатьбы покорили самого Теодориха.
К тому же в миг озарения Гальба тоже мог, как отец, предсказывать события; видимо, это свойство являлось наследственным в их роду, — и когда Гальба открылся с этой стороны Давитиаку, последний строго-настрого запретил ему, ссылаясь на свою несчастную судьбу, не то что бы предсказывать, а даже и виду подавать, будто умеет делать подобное...
Сын хорошо воспринял слова отца, и, если, допустим, спросили бы Гальбу, когда вернётся из разведки сын короля Фридерих, он бы теперь не сказал вслух, а только подумал: «Не скоро...» Ибо знал это. Но сам Теодорих и Теодорих Второй думали иначе. Но случилось всё так, как думал Гальба: прошло немало времени, прежде чем тот вернулся. И сразу поспешил к отцу. Поэтому король упрекнул сына в долгом отсутствии.
— Литорий со своими легионами двинулся из Нарбонны. Он пробирается лесом, думая незамеченным напасть на Толосу. Я видел его приготовления к походу и ждал, когда он тронется с места. Вот так долго и не мог предстать перед тобой, отец...
— Как велики силы Литория?
— Может быть, не столь многочисленны, но хорошо вооружены. Они везут подвижные галереи и башни, деревянные «черепахи» с таранами, баллисты и катапульты для бросания камней и балок, «скорпионы» для метания стрел и зажигательных факелов.
— Ты, сын, снова собирайся в разведку, следи за каждым шагом Литория и почаще посылай ко мне гонцов.
Доселе вялый взгляд короля наполнился решимостью, обвисшие плечи, на которых болталась медвежья власяница, распрямились; Теодорих преображался на глазах сына, а когда они вместе сходили в терму и смыли грязь: сын — походную, отец — траурную, короля уже было не узнать совсем... К нему наконец-то возвратились силы полководца и правителя. И это не могло не обрадовать его подданных, тем более что сие произошло перед решающими событиями.
Король сразу же велел позвать к себе епископа Сальвиана.
— Ты, преподобный, не так давно просил за сына телохранителя своего... Этот галл обязан тебе... И мне... Говорят, что перед тем, как Давитиак был осуждён и продан в рабство, он пользовался огромным влиянием у местных племён как предсказатель... Я хочу послать его на берег океана, чтобы Давитиак привёл на помощь нам населяющих этот берег осимов, куриосолитов, эсубиев, аулерков, редонов, лексовиев. Справится Давитиак? Не убежит?..
— Справится, повелитель... А как ему убежать, если в заложниках у нас остаётся его сын, — усмехнулся епископ.
— Скоро случится маскаре. А за ним — отлив. Судно наварха Анцала, который доставил мою несчастную дочь, стоит наготове. Пусть Давитиак садится на это судно и ждёт отлива... С Богом!
— С Богом, мой великий король! — с жаром воскликнул Сальвиан, зажигаясь энергией от своего повелителя.
— Фридерих, — снова обратился король к сыну. — Но Литорин не должен появиться под стенами Толосы до тех пор, пока не придёт помощь с берегов океана. Но, а если и появится, чтоб только за сутки до маскаре... Поэтому я посылаю конницу под командованием младшего Эйриха, который будет подчиняться тебе. Пусть он постоянно наносит удары по римлянам везде: в походе, на привалах, и тем самым будет сковывать их движение.
— Хорошо, отец. Всё исполним так, как велишь.
* * *
Обладающий от природы самонадеянностью — качеством, которое непомерно разбухло после взятия Нарбонны, да ещё поддержанный в своём решении взять столицу вестготов в Галлии императрицей и её евнухом Ульпианом, Литорий, выступая в лагере легионеров перед тем, как отправиться в поход, сказал:
— Мужественные сыны мои! Мы с ходу возьмём главный город галльской Аквитании... Несчастье, обрушившееся на дочь короля вестготов, парализовало его волю. У него мало войска, и мы, взломав стены Толосы, проникнем внутрь и захватим все её богатства... Вспомните выражение «Aurum tolosanum»... На территории города есть немало кладов, захороненных жрецами-друидами... Мы перероем всю землю, найдём и обогатимся... Вперёд, орлы!
— Вперёд! — взревели тысячи глоток. И этот рёв тут же заглушили сильные удары копий о щиты.
Литорий рассчитывал густым лесом достигнуть Толосы, с ходу занять два холма возле неё, господствовавших над местностью, и начать готовить штурм крепости. Для этого он и взял с собой большое количество осадных и таранных машин...
Поначалу у Литория всё шло неплохо. Легионы, предводимые опытными командирами, двигались почти без задержки: лес вблизи Нарбонны и чуть дальше был проходимым. Но как только миновали Каркасов, тут-то и пришлось заниматься рубкой деревьев, чтобы пробить в них полосу для дальнейшего хода. К тому же разведка доложила, что неподалёку появилась германская конница, правда, она пока не тревожила римлян, но Литорий, чтобы обезопасить себя от её нападений врасплох с флангов, приказал все срубленные деревья повёртывать верхушками к врагу и, накладывая их одно на другое, устраивать с обеих боков своего рода вал. Но скоро полили такие беспрерывные дожди, что солдаты уже не могли дольше жить в палатках, — пришлось отвести войска из леса на равнину и разместить их в селении.
А когда снова собрались в поход, то неожиданно и напала германская конница, которая порубала немалое количество римлян и отбила две подвижные башни и несколько баллист.
Но самонадеянность Литория и здесь нисколько не уменьшилась; наоборот, он верил в успех и в своих мужественных «орлов». Правда, незамеченным ему не удастся теперь, как видно, провести их к Толосе, но Литория это особенно не беспокоит, он знает, что у Теодориха не так много сил и, если король вестготов даже упредит его и займёт господствующие высоты, то Литорий всё равно вышибет его оттуда и, может быть, покончит всё разом и, не производя штурма города, войдёт в него как победитель...
* * *
После удачного нападения конницы младшего брата Фридерих отправил к отцу гонца с подробным отчётом. Король в позднее время находился на крыше дворца, любуясь вечерним пейзажем, что открывался сверху. Там он и принял гонца и ещё раз понял, как долго сам бездействовал, ибо теперь каждое незначительное сообщение оттуда приятно будоражило кровь. Теодориху казалось, что также приятно будоражило бы кровь и сообщения не столь хорошие, так как и в этом случае они заставляли бы его не сидеть сложа руки, а действовать... Действовать! Вот то состояние, в котором он бывал всегда. А то вынужденное пребывание в трауре будто согнуло его и состарило.
Король поблагодарил гонца, одарив его несколькими золотыми, велел накормить и отправить спать; и снова остался один...
Оливковая роща вдали, где располагался разгульный дом Теодориха Второго, подёрнулась мраком. Но сейчас король об этом доме думал уже не с ненавистью; второй от рождения сын умеет тоже, как и другие братья, неплохо воевать и, не задумываясь, отдаст жизнь во имя победы.
Думы о сыновьях согрели сердце короля-отца. Он встал, подошёл к самому краю крыши, огороженному мраморными перилами, опёрся о них, поглядел на медленно текущие воды Гарумны; они пока были ещё видны в темноте...
Стальной, чуть взблескивающей полосой река изгибалась за городом круто на юг, тянулась дальше.
По берегам Гарумны глаза короля ещё различали мукомольные мельницы, винодельческие заводы, то тут, то там растущие буковые и дубовые рощи. И как только высыпали над головой яркие звёзды, окрестности словно накрылись непроницаемым для света пологом; но зато из рощ и лесов раздались громкие голоса ночных птиц — хорошо различимые на слух, наглые вскрики хищников, а потом — слабые стоны их жертв... Сливаясь затем воедино, они составили своеобразный тревожный хор, звучащий на обоих берегах Гарумны.
Лишь безучастно мигали с великой небесной выси звёзды, только человеческое сердце не могло быть равнодушно, оно впитывало в себя эту тревожность, отвечая на её проникновение гулкими ударами, раздававшимися в груди чаще обычного...
* * *
Галльские племена, населявшие берег океана, до сих пор никем не завоёвывались: ни римлянами, ни вестготами, ни вандалами, — они оставались свободными. Дело в том, что свои города и поселения эти галльские племена обыкновенно ставили на конце косы или на мысу, и к ним нельзя было подойти ни с суши, потому что два раза в сутки, через каждые двенадцать часов, наступал морской прилив — маскаре, ни с моря, так как при возникновении отлива корабли противника терпели большие повреждения на мели. Таким образом, то и другое затрудняло осаду городов и поселений.
Бывало и так, что противник сооружал плотины, которые отбивали волны, или возводил огромную насыпь вровень с городской стеной. Тогда местные жители пригоняли суда, которые имелись у них в изобилии, увозили все пожитки и укрывались в ближайших селениях. Там они снова оборонялись, пользуясь теми же выгодами своего местоположения.
Надо сказать, что их собственные корабли строились и снаряжались так, что намного превосходили вражеские: они были лучше приспособлены к местным условиям. Их киль делается несколько плоским, чтобы легче справляться с мелями и отливами, носы, а, равно, как и кормы, целиком мастерились из дуба. — Они выносили какие угодно удары волн; ребра внизу связывались прочными балками и скреплялись гвоздями в палец толщиной; якоря укреплялись не канатами, но железными цепями; вместо парусов на кораблях натягивалась грубая или же тонкая дублёная кожа, может быть, из-за недостатка льна и неумения употреблять его в дело, а ещё вероятнее потому, что полотняные паруса представлялись непрочными для того, чтобы выдерживать сильные бури и порывистые ветры океана.
Галльские суда также строились высокими, и вследствие этого их нелегко было обстреливать, по той же причине их не очень удобно и захватывать баграми. Наносить повреждения острыми носами при столкновении вражеские корабли тоже не могли — до того прочная была у тех судов обшивка. Сверх того, когда начинал свирепеть ветер, последние легче переносили в море бурю, а если их захватывал отлив, то они безопасно держались на мели и не боялись скал и рифов. Наоборот, все подобные неожиданности трагически оборачивались для кораблей противника.
Узнав, что плывёт Давитиак-предсказатель, многие жители берега океана высыпали из своих домов, чтобы поприветствовать его. Давитиак бывал у местных племён не раз, и их вождей он своими предсказаниями также не раз избавлял от некоторых непродуманных действий.
Не сразу, правда, пришлось Давитиаку уговорить вождей выслать подмогу Теодориху, и только то обстоятельство, что король вестготов при завоевании Аквитании обошёл берег океана стороной и даже не пытался его покорить, сыграло, пожалуй, главную роль — правители осимов, куриосолитов, эсубиев, аулерков, редонов и лексовиев после совместного совещания на лесной лунной поляне выделили по три корабля от каждого племени, на палубах которых можно было разместить около трёхсот человек. И вскоре судно Давитиака встало во главе двадцати одного корабля с разместившимися на них более двух тысяч вооружённых воинов.
* * *
Хорошо налаженная Фридерихом разведка, регулярная посылка гонцов к отцу, которые докладывали о каждой задержке римлян, вызванной умелыми наскоками конницы Эйриха, позволили королю вестготов и его сыновьям Торисмунду и Теодориху Второму своевременно занять господствующие высоты на холмах и ещё надёжнее укрепить крепостные стены Толосы, для чего на них подняли котлы со смолой, чтобы, если всё же случится штурм, лить её, раскалённую на огне, на головы неприятеля, и завезли заострённые с одного конца брёвна и тяжёлые камни для пролома вражеских «черепах» и выведения из строя осадных машин.
Король Теодорих, облачаясь во дворце в воинские доспехи, чтобы ехать к холмам, где тоже полным ходом шли оборонительные работы, велел позвать свою дочь. Вошла высокая статная Рустициана с чёрной повязкой на лице, закрывающей нос, а две массивные подвески, спускающиеся по обе стороны головы, прятали уши.
Король гордился тем, что он принадлежал к древнему роду Балтов; женщины из этого рода отличались высоким ростом и особенной статью, а мужчины обладали силой и умением сражаться с врагом. Наиболее типичным представителем Балтов являлся, по мнению отца, его сын, тёзка Теодорих, огненно-рыжий, горячий в любви и в битве. «Был я когда-то и сам такой», — с удовлетворением подумал король.
Но удручало его лишь то, что Теодорих был дерзок, любил делать всё по-своему и подчинялся королевским приказам явно с неохотой.
Рустициана вопросительно посмотрела на отца. И невольно вырвалось у неё из уст:
— Отец, ты такой красивый в боевом облачении!
Теодорих отвернулся, чтобы скрыть от несчастной дочери свою довольную улыбку... Потом взял руку Рустицианы, благодарно прижал её к своей груди, обнял дочь за гибкую, тонкую, словно лоза, талию:
— По нашему древнему обычаю женщины перед решительным сражением кидают жребий — кости. Если бы была жива твоя мать-королева, ей полагалось бы сделать это. Ты заменишь её. Выйди в комнату, кинь кости и скажи, что выпадет мне, отцу, и братьям твоим...
Рустициана вскоре вернулась очень взволнованная.
— Отец, я кидала три раза. Больше, как ты понимаешь, кидать нельзя... И все три раза жребий-кости становились на ребро, ничего не предвещая...
«Ладно, лучше неведение, чем заранее знать, что проиграешь», — подумал король, вскочил на коня и в сопровождении телохранителей умчался к холмам, дав указание коллегии городского сената, что и как делать, если враг прорвётся к крепостным стенам.
Почти одновременно с отцом к холмам подскакала конница Эйриха, а через какое-то время вернулась и разведка Фридериха. Они доложили, что римские войска уже на подходе и скоро покажутся на равнине их передовые легионы.
Литорий, к этому времени потерявший от ударов конницы Эйриха несколько деревянных «черепах» и баллист, а также больше сотни солдат, был уже не в таком радужном настроении, как раньше. Но тем не менее самонадеянности не терял: он назначил командирами отдельных когорт квесторов, чтобы каждый солдат имел в их лице свидетелей их храбрости.
Когда Литорий приблизился к холмам, то увидел, что германцы воздвигли свои лагеря на возвышенностях, постепенно поднимающихся снизу на протяжении одной мили. Покатые склоны холмов облегчали римлянам задачу по взятию их, но было бы лучше заманить германцев в долину... Только те не дураки и спускаться вниз не намерены. Следовательно, сражение развернётся на высотах. И будет непросто пробежать милю до германских лагерей с полной выкладкой; силы у легионеров могул стать на исходе... И Литорий придумывает следующее — он пустит вперёд всадников, а пехотинцы ухватятся за гривы коней.
Сутки римский полководец, утвердившийся в двух милях от холмов, дал отдохнуть своему войску после длительного и изнурительного перехода в густых лесах. Он не знал, что этим обрекает себя на поражение, ибо по истечении суток случится маскаре, и суда прибрежных жителей океана, словно по волшебству, огромные волны прилива перенесут прямо в Толосу...
Рано утром другого дня квесторы приказали пехотинцам набрать хворосту и сделать фашинники[86], чтобы завалить ими рвы вокруг лагерей вестготов, и, разделившись, пустили конницу. Пешие солдаты, держась за гривы коней, тоже бросились бегом к высотам и добежати, еле переводя дыхание. Они стали забрасывать фашинником рвы, но германцы не дремали — выскочили из ворот лагерей и отчаянно атаковали римлян. Со своей стороны римляне также внезапно и быстро кинулись вперёд, что ни те, ни другие даже не успели пустить друг в друга копий... Тогда, отбросив их, обнажили мечи. И начался рукопашный бой. Вестготы, по своему обыкновению, выстроились фалангой.
У германцев стати падать первые ряды, но это не привело их в замешательство, наоборот, следующие пошли по трупам и сражались, стоя на них; когда и эти падали и из трупов образовывались целые груды, то уцелевшие стреляли из луков, точно с горы...
Но уже заметно было, как дрогнули левые фланги германцев, всё-таки сказалось численное превосходство римлян. Правые фланги всё ещё стойко держались. И тогда Литорий, чтобы сломить их сопротивление, двинул в подкрепление резервную линию.
И тут появились корабли, принесённые волнами с океана; с них спешно сбегали косматые галлы и под предводительством Давитиака кинулись на помощь вестготам.
Вначале римляне не поняли, откуда вдруг появилась внезапная помощь германцам. А те, ободрённые ею, быстро начали теснить резервную линию врага. Да ещё в лоб римлянам ударили галлы: через какое-то время всё было кончено... В плен попали не только квесторы, но и сам Литорий...
Вскоре он предстал перед очами короля Теодориха и епископа Сальвиана, который сказал, обращаясь скорее к своему повелителю:
— Помнишь, я говорил тебе, что бедствия, постигающие негодных людей, — Сальвиан кивнул в сторону Литория, — суть обвинительные приговоры Божества, а бедствия, постигающие людей благочестивых, суть испытания...
Литорий своей необдуманностью в деле нападения на Толосу в конце концов даже вызвал сочувствие у германцев.
...Вечером, когда смеркалось, Давитиак с сыном Гальбой взобрались на самый высокий холм, с которого открывались обширные дали. Ещё предстояло убрать наваленные после жестокой битвы трупы; они пока не испускали запахов, и грифы и шакалы ещё не начали своего зловещего пиршества...
Отдельными рядами лежали мёртвые галлы. Всматриваясь в них, Давитиак вдруг почувствовал как бы укол в сердце... Это ведь он упросил их прийти на помощь германцам. Собственно, на помощь кому?! Своим же завоевателям!.. И вот теперь вдали от светлых вод океана они, бездыханные и непогребённые, лежат здесь... А похоронят их, навалив друг на друга, засыплют землёй и утрамбуют. И никто из родных и близких не проронит по ним слёзы...
Давитиак окинул взглядом окрестности. Вот она его родина, его бедная Галлия, завоёванная не дважды и не трижды, а уже несколько раз — бургундами, вестготами, а ещё раньше всех — римлянами... Враги изгнали местных богов из священных рощ, озёр и рек, оставив простому галлу неверие и рабство. А ещё и предательство... Разве это не предательство, что он, Давитиак, привёл сюда соплеменников, чтобы они были убиты за чужие интересы?.. Вестготы такие же римляне.
Где-то в тёмных чащобах жрецы-друиды молятся за то, чтобы на землю Галлии пришло освобождение, но молчат поруганные боги... Друиды в своих лесных школах воспитывают воинов, но попадают они потом в боевые ряды завоевателей... Ибо нет великого вождя, который смог бы объединить вокруг себя галлов, способных носить оружие, и поднял бы их против угнетателей. Пока не родился такой вождь. Но Давитиак верит, что он скоро появится. Сердце вещует ему об этом.
Сын Давитиака стоит, опершись о копьё, смотрит на отца: Гальбе ведомо, о чём думает сейчас его бедный родитель... Полы белого плаща молодого галла, забрызганного кровью, треплет ветер и клонит книзу верхушки деревьев...
Вот зажглись факелы в городе, а в долине пастухи развели костры. Жизнь продолжается. И показалось отцу и сыну, что добрые духи галлов зареяли над головами... Если живы предвестники богов, то будут жить и сами боги. И несмотря на боль в сердце, губы Давитиака складываются в счастливую улыбку.
* * *
Когда вернулся в Аквитанию от гуннов полководец Аэций, король Теодорих отдал ему Литория в обмен на пленных вестготов, находящихся в Нарбонне.
По пути в Италию Аэций ещё раз нанёс жестокое поражение восставшим бургундам, отобрав у них ряд городов, и вступил в Рим действительно истинным победителем и единственным в своём роде. Теперь уже его легионы готовы были к триумфальному шествию по Марсову полю.
* * *
Гонория давно не видела такого скопища людей: особенно много было иноплеменников. В первых рядах на Марсовом поле в нарядных одеждах сидели на скамьях патриции с жёнами и детьми. А в самых последних рядах, но как бы возвышаясь над знатью, находился простой народ — плебс, рябивший в глазах своей пестротой, среди него можно увидеть нищих и калек... Все ждали появления войска.
Плацидия, сидя на красном сафьяновом стуле, сделанном наподобие трона, держала за руку стоящую рядом дочь, рядом с ней на таком же стуле расположился император Валентиниан с женой-красавицей Евдоксией. Плебс иногда орал сверху здравицы императору и Плацидии. Но вот кто-то надумал прокричать здравицу молодой Августе. Ульпиан повернул лицо к Гонории и, неестественно улыбнувшись, захлопал в ладоши. Его поддержали первые ряды патрициев, а рабыня Джамна крепко сжала вторую свободную руку своей госпожи.
«А всё-таки приятно, когда тебя величают!» — со светящимися глазами на лице подумала Гонория.
Отсюда, с небольшой возвышенности, просматривался Тибр, который быстро нёс тёмные воды, просматривались также каменный мост через него и бухта Остия со стоящими в ней кораблями.
Вскоре плебс, которому сверху было виднее, заволновался и стал кричать:
— Золотая колесница Аэция!
И вот показался сам полководец Аэций, прямо стоящий на колеснице, запряжённой белыми лошадьми, отделанной золотом и драгоценными камнями, игравшими на солнце переливающимися бликами.
Сзади Аэция колыхался длинный ряд знамён и драконов, привязанных к копьям, блистающих пурпуром, развеваемых ветром; пасти драконов были раскрыты, и они словно шипели, разъярённые, а хвосты их длинными изгибами вились по воздуху.
В два ряда шли воины в блестящих, искрящихся панцирях, со щитами и в шлемах, на которых переливчатым светом играли султаны.
Закованные в железо, рысили клибонарии, и всадники казались не людьми, а статуями; тонкие железные колечки, скреплённые между собой, охватывали их целиком, приноравливаясь к изгибам, так что доспех сливался с телом.
Трубили трубы, воины кричали: «Да здравствует Аэций!», а когда ряды поравнялись с императором, солдаты начали кричать здравицу и ему.
Только «последний великий римлянин» оставался невозмутимым и величавым. Будучи малого роста, он тем не менее наклонялся при въезде в высокие ворота, но зато не поворачивал головы ни влево, ни вправо; при толчке колёс он не подавался вперёд, не делал руками никаких движений. Эта усвоенная им внешняя величавость являлась следствием его большой выдержки, на которую он один был способен...
Но гут Гонория уловила краем глаза сзади себя движение: она обернулась и увидела, что рабы принесли носилки с каким-то знатным стариком. Когда его вынули наружу, то Гонория еле узнала в нём Октавиана-старшего, отца её возлюбленного Евгения: волосы бывшего сенатора побелели ещё больше, голова тихонько тряслась, взор бесцельно блуждал по головам собравшихся. Неужели это тот самый шутник, любитель вина и женщин?! Куда всё ушло?.. Вот так смерть сына в короткое время преобразила отца...
Плацидия, держащая за руку дочь, почувствовала, как ладонь последней задрожала и, когда Августа установила причину волнения Гонории, она больно дёрнула её за кисть и показала евнуху глазами на бывшего сенатора.
Гонорию обозлила не столько боль, сколько реакция матери и её корникулярия на появление отца Евгения; она другой рукой бесцеремонно разжала материнские пальцы и, освободившись от них, шагнула к немощному старику и наклонилась над его лицом.
— Тебя, милая, значит, схватили? — с трудом узнав Гонорию, спросил старик.
— Да, отец, — тихо ответила молодая Августа. — И заставили присутствовать на этом шествии...
— Так же, как и меня... Больного старика, скорбящего по своему единственному сыну...
Гонория взглянула на мать: кажется, гневный огонь в глазах Плацидии готов был испепелить дочь даже на расстоянии. Императрица сквозь зубы сказала Ульпиану:
— Эту негодницу мы завтра же отправим в Константинополь... Пусть там ею займётся благочестивая Пульхерия. Она ей обломает рога.
Евнух довольно улыбнулся.
А воины Аэция всё шли и шли, и громко трубили трубы.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
УЗНИЦЫ КОНСТАНТИНОПОЛЯ
I

Константинополь из Рима в те времена можно было попасть по суше через Венецию и Триест, а далее по древнему Великому Западному торговому пути через Виндибону, Синдидун, Сердику и далее через Филиппополь[87] и Андрианополь, а можно — морем: мимо островов Родос, Кос, Самое, Хиос, Лесбос, через проливы — Дарданеллы и Босфор.
Такими дорогами любил некогда путешествовать градостроитель Ирод Великий, воздвигнувший второй после Соломона храм в Иерусалиме, часто ездивший в Рим по делам, а оттуда в Византию, тёзка того самого Ирода Антипы, правителя Галилеи, который печально известен тем, что однажды приказал отрубить голову Иоанну Крестителю или иначе — Иоанну Предтече.
С именем этого святого, в День его Рождества, 24 июня, несколько воинов — истинных христиан, сопровождавших до Константинополя Гонорию с её служанкой и евнухом Ульпианом, взошли на палубу корабля (Плацидия решила отправить дочь морским путём) и начали молиться Иоанну. А воины-ариане, тоже сопровождавшие Гонорию, стали над ними подшучивать, потому что не признавали святых.
Следуя богослужебному тексту: «Там, где Бог хочет, побеждается естества чин», ариане были твёрдо убеждены, что один только Бог господствует над порядком природы. Сара родила Исаака, Анна родила Самуила, когда всё это было невозможно по человеческим понятиям. Жена священника Захарии, его престарелая Елизавета, будучи неплодной, родила Иоанна. Но ариане не знали, что родила она Иоанна за шесть месяцев до Иисуса, поэтому Иоанн и назван Предтечей; не знали и не интересовались. Но примеры непринуждённого Божьего вмешательства находились и перед их глазами, так как далее ведомый и охраняемый Духом Божиим Иоанн избегнул участи младенцев, убитых Иродом Антипой. Елизавета успела скрытый с младенцем.
И только через несколько лет снова появится Иоанн. Мы увидим его как грозного и последнего ветхозаветного пророка, проповедника покаяния, человека, проведшего путём своего избранничества Крещение Иисуса Христа и погибшего святой мученической смертью...
Но далеки воины-ариане, а также сама Гонория, Джамна и Ульпиан от почитания Иоанна Предтечи. Писала Плацидия в хартии к Пульхерии:
«Я сознаю, милая моя племянница, что все мы впали в непозволительную ересь, ибо живём здесь, как на вулкане, содрогающим все наши члены и нашу духовную жизнь. Только в вашем царстве, спокойном и сильном, достигается истинная вера в Бога. Помоги обрести её моей своенравной дочери.
И было хорошо, если бы ты, Пульхерия, посредством истинности и святости, коими изобилует твоя душа, изменила печальный, необузданный норов моей дочери — замкни её, и пусть она молится во славу Божию. Помоги, ибо Гонория приносит мне лишь одни несчастья. И не только мне, но и многострадальному разваливающемуся Риму... А остальное доскажет тебе словами мой корникулярий евнух Ульпиан, который сопутствует Гонории в этой вынужденной к тебе поездке...»
Галла Плацидия ошиблась — в Византии Пульхерия уже ничего не значила и сделать ничего не могла; всем заправляла жена василевса Феодосия II Евдокия, и Гонория, как сестра её зятя Валентиниана III. была встречена как дорогая гостья и сразу попала не в монашескую келью, на что рассчитывала её мать, а гинекей — женскую половину Большого императорского дворца...
Здесь я позволю себе некоторое отступление.
Когда Феодосию исполнилось двадцать лет, он задумал жениться и стал просить свою старшую сестру Пульхерию, воспитавшую его и управляющую от его имени империей, чтобы нашли ему жену. Но не просто жену, а девушку необыкновенной красоты, какой нет в целой империи. Ему всё равно, какого она рода — бедного или знатного, богата или нет... Только красота должна быть показателем её достоинства.
Чтобы угодить своему воспитаннику, Пульхерия разослала по всей империи гонцов, больше того, они рыскали в поисках невесты василевсу по всему восточному миру. В дело вступился и самый лучший друг Феодосия, воспитывавшийся с ним с детства, его поверенный Павлин. Но вдруг одно неожиданное обстоятельство натолкнуло на желанную встречу...
В Афинах проживал преподаватель местного университета по имени Леонтий, имеющий двух сыновей и дочь.
Он был богат, но, умирая, завещал, по довольно странному капризу, всё своё состояние сыновьям Валерию и Гезию.
«Моей же дочери Афинаиде, — писал он в завещании, — приказываю выдать сто золотых. Её от всех житейских забот избавит счастливый случай, удача, какой не выпадало на долю ни одной женщине».
Что это?.. Предвидение афинского язычника?.. Или озарение умирающего, пред взором которого открылась необыкновенная судьба его дочери?.. Ибо бедность её привада к тому, что она, обиженная чёрствостью братьев, которые не захотели хоть малой частью поделиться богатством, сколь она ни умоляла, покинула родной дом и отправилась искать приюта у сестры матери, а та увезла её в Константинополь, где жила другая тётка Афинаиды, сестра Леонтия, которая была вхожа во дворец. Она и посоветовала искать при дворе поддержки против её братьев. Наконец Августа Пульхерия согласилась её принять. И дала ей аудиенцию.
Афинаиде тоже исполнилось двадцать лет. Как только сестра императора увидела её, то на некоторое время потеряла дар речи и сразу подумала: «Вот передо мною та, которую мы ищем по всему миру... Девушка поразительной красоты, удивительного сложения и высокого роста».
Белокурые вьющиеся волосы золотистыми прядями обрамляли лицо Афинаиды, оттеняя ещё больше свежесть и нежность её кожи, а чудесные глаза с большими пушистыми ресницами были живые и умные; благородная поступь дополняла обаяние молодой девушки, к тому же она умела хорошо говорить. Свою просьбу она изложила в совершенстве — сказалось греческое образование.
Отец девушки преподавал риторику. Он познакомил дочь с шедеврами древней литературы, с Поэтом и Историком (так называли тогда Гомера и Фукидида), с трагиками, с Лисием и Демосфеном; согласно требованиям школы, Леонтий научил Афинаиду блестяще импровизировать на заданные темы, слагать звучные стихи, изящно говорить. Она знала также астрономию и геометрию, была посвящена в тайны философии неоплатоников.
Пульхерия была очарована не только красотой девушки, но и её учёностью. В другой раз Пульхерия позвала брата и его друга Павлина, и они, сидя за драпировкой, наблюдали за девушкой и слушали её речи. Павлину она очень поправилась, а император сразу в неё влюбился. После этого, тщательно наставленная в вере Иисуса Христа патриархом Аттиком и омытая от грехов язычества водою Крещения, Афинаида, получив христианское имя Евдокия, стала императрицей Византии.
Как состоялось это довольно удивительное бракосочетание между неизвестной провинциалкой и всемогущим василевсом?.. Очень просто: то был брак по любви, история в духе романтических повестей. И так же, как в такого рода повестях, эта любовь закончилась трагически... Произойдёт сие позже, и в подходящий момент об этом тоже будет рассказано.
А Феодосий, пожелавший как можно быстрее жениться, преследовал и ещё одну цель: в видах политических упрочить будущность своего положения, ибо честолюбивая Пульхерия прочно держала власть в руках. Она рассчитывала сохранить её и дальше, поэтому охотно содействовала браку, в котором новобрачная являлась бы обязанной ей. Таким образом, брат и сестра играли, будто в зернь, одними и теми же «козырными» костями...
Пульхерия пожелала быть Афинаиде крестной матерью, затем матерью приёмной. Теперь она могла ожидать, что в Большом императорском дворце ничто не изменится. Но случилось всё иначе...
Семь лет во дворце заправляла всеми делами Пульхерия. Умная, энергичная, это была главным образом женщина, преданная только политике. В пятнадцать лет она приняла титул Августы, освятивший её власть. В шестнадцать, желая всецело отдаться государственным делам, да, видно, не хотевшая ни с кем делить эту власть, она дала обет безбрачия, или обет девственности.
Очень благочестивая, преданная истинному православию, Пульхерия превратила дворец в монастырь. Её обе сестры, Аркадия и Марина, также дали обет девственности. Царедворцы старались подражать царевнам, поэтому с утра до вечера вместо церемониальных маршей слышалось только однотонное псалмопение, вместо великолепных парадных костюмов виделись повсюду тёмные одеяния священников и монахов.
Таков был дух, в котором Пульхерия воспитала юного Феодосия, красивого молодого человека среднего роста, белокурого, с чёрными глазами. Он всецело обязан старшей сестре такими чертами характера, как вежливость, любезность, кротость, добросовестность. Домосед, он любил проводить время у себя во дворце и не чувствовал влечения к войне и сражениям, хотя обладал завидным здоровьем и крепким телосложением. Охотно пел божественные гимны, раздавал нищим милостыню. Однажды на Ипподроме он устроил вместо ожидавшихся зрителями ристаний грандиозный молебен, которым лично дирижировал. Историки писали, что «никто не видел его разгневанным. Некто из ближних спросил его: почему ты никогда не наказываешь смертью человека, тебя оскорбившего?» — «О, если бы, — отвечал василевс, — возможно было мне и умерших возвратить к жизни... Не великое и не трудное дело убить человека, но, раскаявшись, воскресить умершего не может никто, кроме Бога».
Какая же участь ожидала Афинаиду, очутившуюся между такой властолюбивой невесткой, как Пульхерия, и таким благонравным человеком, каким являлся муж?..
Только не следует забывать, что Афинаида получила чисто языческое воспитание, и даже Крещение в христианскую веру не способствовало поначалу забвению того, чему научили её в юности. Поэтому в определённых кругах женитьба императора на юной афинянке могла казаться победой язычества, во всяком случае, залогом терпимости. И действительно, императрица оставалась пока тем, чем была дочь Леонтия... Она любила стихи, охотно слагала их; в окружавшем её обществе она нашла разделявших и поощрявших её вкусы. Чтобы понравиться Феодосию и окончательно завоевать любовь своего просвещённого супруга, она после свадьбы слагает героическую поэму на войну с Персией, только что счастливо для Византии оконченную.
Афинаида-Евдокия принимает деятельное участие в открытии в Константинополе университета. В нём стали, как в языческом университете в Афинах, изучать философию. Но этот предмет всё же носил здесь христианский характер... И это проливает свет на ту эволюцию, какая медленно совершалась в душе императрицы Евдокии... Ибо, живя в набожной христианской среде, она помимо своей воли не могла не воспринимать её. Она всё больше и больше пристращалась к богословским спорам. Когда Несторий, патриарх Константинопольский, начал распространять свою ересь, получившую от него своё имя, когда честолюбивый Кирилл, патриарх Александрийский, не столько радея о православии, сколько из зависти к сопернику, дал возгореться страшному спору в восточной церкви, Евдокия стала на сторону мужа, чтобы поддержать патриарха столицы против его недругов, взгляды которых разделяла Пульхерия.
В частности, спор шёл о словесном выражении — «Богородица». Несторианцы видели в этом противоречие литургическому богословию, чтившему Деву Марию только Богородицей, и говорили, что Дева Мария — и Богородица, и вместе с тем — Человекородица. Поэтому правильнее бы Деву Марию именовать — Христородица. Ведь всякая мать рождает только тело, а душа от Бога...
Кирилл упорно возражал патриарху Константинопольскому, в этот спор всё глубже влезали и Афинаида-Евдокия, и Пульхерия. Между прочим, этот спор показывает нам ещё и нечто другое: увеличивающееся влияние молодой женщины и возникающее несогласие между ней и Пульхерией. Думается, последняя стала жалеть, что выбрала для своего брата именно эту девушку и расчёт на её пожизненную благодарность не оправдался...
Отголоски этих несогласий стали чувствоваться за стенами дворца, и более ловкие пользовались ими, направляя одну женщину против другой. В особенности к этому прибегал Кирилл; с одной стороны, он писал императору и его жене, с другой — обращался к Августе Пульхерии, зная, что она враждебно относится к его сопернику Несторию.
Феодосий в самых энергичных выражениях порицал недостойность такого поведения. «Ты мог думать, — писал он патриарху Александрийскому, — что мы были в несогласии, я, жена и моя сестра, или ты надеялся, что письма твоего святейшества посеют между нами раздор».
Так оно и случилось. И верх в этом раздоре взяла Евдокия; звезда её постепенно, но уверенно восходила над горизонтом. И она уже светила подле василевса и его друзей: Евдокия покровительствовала Павлину и префекту Константинополя (епарху) египтянину Киру из Панополиса, любившему, подобно ей, литературу и писавшему стихи. У неё были уже свои льстецы, своя партия при дворе. К тому же, лелеемый Евдокией четырнадцать лет проект женить римского императора Валентиниана III на своей дочери Евдоксии стал действительностью. Некогда безвестная провинциалка находилась теперь во славе: её безумно любил василевс, её друзья с каждым днём становились влиятельнее при дворе. И Евдокия осмелилась на большее...
Во дворце традиционно евнухи имели немалую власть. И Евдокия нашла общий язык с одним из них — Хрисанфием, чтобы окончательно отстранить Пульхерию от дел. И это ей удалось также не без помощи одного влиятельного при дворе человека, секретаря императора по имени Приск. Под общим нажимом, в том числе и василевса, Пульхерия благоразумно покинула двор и удалилась в свою загородную резиденцию.
Вот в такую обстановку попала приехавшая сюда из Рима Гонория...
Ульпиан пожалел, что в такое время, не разведав заранее об истинном положении вещей в Большом императорском дворце, привёз в Константинополь дочь Галлы Плацидии. Письмо, предназначенное Пульхерии, он, естественно, никому не стал показывать; лишь на словах изложил Феодосию просьбу тётки относительно её дочери. Присутствующая при этом разговоре Евдокия близко к сердцу приняла судьбу Гонории, ибо эта судьба в чём-то напоминала её, когда во дворце безраздельно правила Пульхерия, как в Римской империи — мать этой красивой молодой принцессы... Приняла близко к сердцу, пожалела и определила Гонорию в число своих самых близких приближённых, а иначе говорится — ввела в свой круг. А корникулярия Плацидии не без ехидства заверила, что всячески поспособствует возрождению девушки...
Ульпиану ничего более не оставалось, как поблагодарить и раскланяться, оставив Гонорию со служанкой Джамной на попечение восточной императрицы. Но хитрый дворцовый интриган до тех пор не убыл в Равенну, пока не встретился в загородной резиденции с Пульхерией й не передал ей письмо от своей повелительницы. Добиваясь этой встречи, Ульпиан рассуждал так: «Впавшие в немилость получают прощение, как это нередко бывает в царских домах, а те, кто был наверху, падают вниз... Это называется колесом власти... Думаю, что в конце концов всесильная сейчас Евдокия тоже потеряет доброе расположение к себе императора. Он уже, как я заметил, потихоньку ревнует её к своему другу Павлину... Поэтому письмо Плацидии нужно передать обязательно по назначению, и та участь, которая уготована Гонории, должна её постигнуть...»
* * *
Римской царевне хорошо жилось под крылышком образованной афинянки, которая понимала её, — и Гонория хорошо представляла, что бы стало с ней, если бы во дворце верховодила благочестивая Пульхерия...
Гонория помнила, хотя была тогда маленькой, как они с матерью и братом уже однажды побывали в Константинополе в качестве ссыльных, когда в Равенне распространился слух, что Плацидия состоит в любовных связях со своим братом императором Рима Гонорием. Галла Плацидия и её дети приехали сюда после смерти другого её брата — правителя Восточной империи Аркадия, и всем во дворце заправляла регентша сестра Феодосия Пульхерия. Вот она-то, узнав о похотливости своей тётки, устроила ей и её детям настоящее узилище: в тёмной дворцовой, ещё недостроенной церкви они молились Богу, не вставая с колен, с утра до вечера. Но эти моления, кстати, не поколебали арианской веры Плацидии и её отпрысков...
Тогда-то и возник проект брака между императорскими детьми — только что родившейся дочерью Афинаиды Евдокии и пятилетним Валентинианом, который по смерти Гонория, не имевшего наследника, должен стать императором Рима. И когда Гонорий умер, Феодосии II приложил все усилия, чтобы заставить признать в Италии, под опекунством Галлы Плацидии, власть своего будущего л ятя. А Афинаида-Евдокия дала себе обет: если состоится желанный брак, который возведёт её дочь на трон Западной Римской империи, то она, как некогда святая Елена, совершит паломничество в Иерусалим, чтобы возблагодарить Бога.
По разным причинам паломничество откладывалось, но теперь, кажется, наступил такой момент, когда никто ей уже не помешает сделать это... Евдокия, зная, что Гонория арианка, решила взять её с собой, чтобы там, в Священном граде всех христиан, выбить из неё эту ересь. Хотя сама она была несторианкой, тоже исповедовала ересь, но нашла в себе силы после III Вселенского собора в Эфесе отринуть её... И тем самым как бы встала в один ряд с последователями Кирилла Александрийского, но до конца своих дней она не воспринимала его как личность... Помнила его письма к себе, мужу и Пульхерии. И знала, что провокаторские способности Кирилла проявлялись и ранее, как, например, в деле погрома иудеев в Александрии...
В Александрии до эпохи василевса Юстиниана I (VI век) ещё не сложилось господство единой имперской религии. Знамя язычества ещё высоко держалось в Египте. Поэтому префект Египта Орест обязан был охранять фактическую свободу веры, и это сильно раздражало христиан, сознававших себя монопольными хозяевами страны.
Кирилл находился в открытой борьбе с Орестом. Среди трудных задач префектуры была и неизбывная задача спасения иудеев от погромов. Христиане преследовали их с такой же беспощадностью, как в своё время последние первых.
И вот на погром иудеев поднял христиан некий Перак. Орест арестовал предводителя и наказа! его. Кирилл был возмущён наказанием Перака, и приверженцы Кирилла стали угрожать местью иудеям. Но иудеи не утерпели и сами ночью устроили погром христиан с поджогом и убийствами. Христиане отбили атаку, и по наущению Кирилла сожгли утром синагогу и все дома еврейского квартала. Орест поэтому имел все основания считать не Перака, а Кирилла предводителем бунтарских сил. Так оно и было на самом деле... Ибо ему повиновалась ещё целая армия нитрийских монахов, которые вышли из пустыни и оказались перед зданием префектуры. Их было около пятисот человек. Они начали открыто бранить Ореста, что он язычник и пособник иудеев. Орест заявил им:
— Ошибаетесь, святые отцы... Я — христианин, крещён по обычаям своего времени в зрелом возрасте патриархом Константинополя Аттиком.
Погромщики были сбиты с толку, но одному из них, монаху Аммонию, кто-то вложил в руку камень, и монах этим камнем раскровенил Оресту голову. Аммоний потом был арестован и во время допросов забит ликтором до смерти. Кирилл Александрийский демонстративно устроил Аммонию торжественные похороны и объявил его мучеником с переименованием в Фавмасия Чудотворца.
Но этим дело не кончилось. Ответом на смерть Аммония явилась страшная казнь известной учёной, философессы неоплатонической школы и математика Александрийской Академии Ипатии. Христиане считали её вдохновительницей Ореста в пользу его религиозной терпимости. Всегда звереющая при науськивании толпа напала на идущую в Академию Ипатию, сорвала с неё одежды, волочила за волосы голую по улицам и затащила в церковь.
Тут фанатик-чтец Пётр насмерть забил замученную Ипатию. Оскорблённое её тело затем рассекли на куски, даже мясо с костей Ипатии было содрано устричными раковинами и сожжено на костре...
* * *
Готовилась императрица Византии к поездке в Иерусалим тщательно, с добрым настроением; её настроение передалось и другим — и прежде всего Гонории, её служанке Джамне и сопровождающему Приску, который был выделен им в дорогу по велению Феодосия.
Фракиец Приск по натуре был сдержан, но ум так и светился в каждом его взгляде. Он свободно говорил на латинском, хорошо владел еврейским, знал язык, на котором говорили гунны, ибо, попав к ним в плен, когда находился во Фракии, прожил у них более пяти лет. Потом его обменял Феодосий на других пленных, а когда узнал, что Приск знает многие языки, сделал его своим секретарём. Там же, в плену, Приск изучил и славянский, так как в войске Аттилы воевали многие выходцы с Причерноморья, Борисфена, Танаиса[88], Истра.
Пожелал поехать в Иерусалим и белокурый красавец Павлин. Феодосий поначалу согласился: после участия в устроении свадьбы императора с Афинаидой-Евдокией Павлин имел свободный доступ к царственным особам, обладал изящными манерами и величавой осанкой, слагал стихи, тоже знал несколько иностранных языков. Феодосий доверял своему другу и лучшего спутника жене в Святой град и желать не мог. Но случилось непредвиденное...
Император собрался в церковь. Павлин, всегдашний его сопроводитель, плохо себя чувствовал и остался во дворце. По дороге Феодосий увидел у одного нищего необыкновенной величины фригийское яблоко и решил купить его, чтобы подарить любимой жене. Но Евдокия, не подумав, в свою очередь послала яблоко Павлину как дружеский подарок больному.
Последний, не зная, от кого Евдокия получила это яблоко, решил, что оно не может не понравиться василевсу и распорядился отправить яблоко Феодосию. Василеве, немало удивлённый, велел позвать Евдокию. И сразу спросил её:
— Где то яблоко, которое я послал тебе?
Заподозрив что-то неладное, Евдокия необдуманно соврала:
— Я его съела.
Всё ещё влюблённый в жену, Феодосий просит её сказать правду: императрица упорствует. Тогда, вынув яблоко из-под полы порфиры[89], василевс показывает его обманщице. Последовало бурное объяснение. Взбешённый Феодосий, мучимый ревностью, отсылает Павлина в Кесарию Каппадокийскую, откуда тот родом.
Евдокия тут же почувствовала другое отношение к себе Хрисанфия. Ей, прожившей уже немало лет во дворце, этому удивляться бы и не стоило, но всё же она с чувством гадливости подумала о евнухе, помогшем ей одолеть Пульхерию: «Отменный плут! Теперь и Пульхерия снова будет входить в доверие к брату... Господи, хороший человек Феодосий, но подвержен влиянию... Как сие плохо, ибо приносит трудности самым близким ему людям, а негодяям благоденствие!»
Всё же Евдокия была прощена мужем, но выезжала в Иерусалим с тяжёлым чувством, хотя виновата она перед василевсом в том, что проявила неосторожность. Много позднее, лёжа на смертном одре, перед тем, как предстать перед Богом, она клялась, что в деле с Павлином была совершенно невинна. Но Феодосий после случая со злополучным яблоком, как прежде, ей уже перестал доверять...
И кто тот нищий, продавший императору яблоко?! Не было ли сие колдовством?.. Или происки недоброжелателей ...
Дорога отвлекла и Евдокию, и Гонорию от мрачных мыслей, одолевавших и ту и другую. После каменного мешка, коим представлялась столица Византии, кишащего нищими и публичными домами, езда под открытым, высоким, голубым и спокойным небом казалась счастьем...
Лошади неторопко бежали, мягко скрипели рессоры «carpentum» — двухколёсного экипажа с дышлом и полуцилиндрической крышей, в котором сидели Евдокия с двумя служанками, Гонория с Джамной, — Приск и его слуга находились в наглухо крытой четырёхколёсной повозке, где хранились царские драгоценности, золото и была припасена еда; верховые охранники численностью в сто человек скакали по обеим сторонам экипажа и повозки.
Евдокия, выглянув, посмотрела, как вертится колесо, и процитировала древнейшие стихи Вед:
Как за конём катится колесо,
Так оба мира за тобою...
Двустишие растрогало Гонорию, и она рассказала вкратце об их суматошной езде с Джамной и рабом Радогастом до Рима в качестве беглецов, не преминув упомянуть о том, что причиной их побега явились происки Галлы Плацидии и евнуха Ульпиана.
— Евнухи — это такие двуногие существа, место которым только среди четвероногих... — И Евдокия в свою очередь поведала, как изменился по отношению к ней евнух Хрисанфий, узнав о случае с злополучным яблоком, а потом, внимательно взглянув в глаза Гонории, добавила: — А твоя мать — бессердечная, жестокая женщина...
— Она любит власть, — ответила римская Августа.
— А кто её не любит?! — воскликнула византийская императрица.
И обе замолчали. Придёт время, и Гонория проявит себя не менее властолюбивой, чем другие.
Первый город на пути в Иерусалим, где предстояло остановиться и передохнуть, была Антиохия, находящаяся в Пизидии. Другая Антиохия расположилась на берегу Средиземного моря, в Сирии. В первой они пробыли совсем мало времени, а вот во второй Евдокия задумала остановиться надолго, чтобы оттуда навестить сирийских монахов-пустынников.
Их аскетическая жизнь стала интересовать жену василевса с тех пор, как она сделалась истинной христианкой... Монахи-аскеты считали, что важным показателем постижения Бога служит состояние высшего духовного наслаждения — блаженства, которое резко противопоставлялось ими чувственным наслаждениям обыденной жизни.
— Это есть эстетика аскетизма, — сказала Евдокия.
Гонория вначале не поняла, о каком высшем духовном наслаждении души идёт речь: по пути в Рим во время своего бегства она видела монахов, удалившихся от мира и тем самым выразивших протест против его жестокости и угнетения; видела путешествовавших философов-стоиков, похожих на аскетов. Но вот то, что существует так называемая эстетика аскетизма... Чрезвычайно любопытно!
— Да, милая, пустынники-аскеты вожделеют получить неизглаголанные[90] блага, которые выражаются в презрении всякой земной красоты, славы и богатства царей и архонтов; монахи-аскеты стремятся уязвиться божественной красотой, чтобы в души их вошла жизнь Небесного бессмертия... Но приходят они к этому не сразу, а через демонические искушения и языческие заблуждения, ценою невыразимых мук и раскаяний... Как в своё время прошёл через это святой Антоний[91].
А был и ещё такой блаженный Арсений, — продолжала рассказывать Евдокия. — В бытность свою при императорском дворе взмолился он к Богу таковыми словами: «Господи, настави меня на путь спасения!» И был ему глас, глаголющий: «Арсение, беги человеков, и спасёшься».
Арсений же, отойдя к монашескому житию, денно и нощно молился и прославился как авва[92]. Но однажды снова услышал глас, глаголющий ему: «Арсение, авва, затворяйся ещё больше! Сие бо суть корни безгрешности».
Говорили о старце, что как при дворе никто не одевался лучше его, так и в обители никто не имел ризы более скудной... В конце концов он ушёл в пустыню и стал жить один среди жёлтых песков. Там он поборол все демонические искушения и сделался святым.
Последние слова Евдокия произнесла как-то особенно, углублённо, как бы про себя, но вслух... Гонория посмотрела на императрицу и увидела её отрешённое на миг лицо.
«Она изложила всё это так, будто что-то созвучное своей душе увидела в жизни пустынников...» — подумала Гонория.
И тут Евдокия улыбнулась.
— Я ведь собираюсь об этом написать поэму, — призналась она. — Вот почему хочу навестить сирийских пустынников и поговорить с ними... Думаю, что и тебе, Гонория, это тоже будет полезно...
Но авва — прежде всего монах, «старец».
II
Луна должна была вот-вот взойти и окрасить в мертвенно-бледный свет спокойные воды Пропонтиды[93] и стоящую в гавани, которую позже назовут гаванью Юлиана, небольшую по размеру хеландию без мачт. Капитан — среднего роста рыжий грек, усатый боцман и широкоплечий рулевой стояли возле борта и негромко перебрасывались словами:
— Пора бы и отчаливать, а гостей всё нет... — нервно упрекнул кого-то капитан.
— До восхода луны можем и не успеть прийти к месту... — в тон ему сказал рулевой.
— A-а, морские волки, о чём ведёте речь?! Наверстаем всё в пути. Скажу надсмотрщикам, они крепко погуляют бичами по спинам гребцов, и судно полетит как птица. Нам ведь хорошо заплатили...
Но вот на набережной появились трое, закутанные в паллии, и скоро стушили на палубу судна. Один из них, небольшого роста, закрыл капюшоном даже лицо.
Капитан дал команду, и хеландия отошла от берега. До восхода луны всё-таки причалил напротив Большого Императорского дворца. Незнакомцы сошли на берег и тут же растворились в темноте.
Со стороны Босфора в проёме скалы двое отодвинули камень и открыли за ним дверь. Третий зашёл в проем, и тут из темноты туннеля появились опять двое... А те снаружи заперли дверь и придвинули камень на прежнее место.
— Слава Господу, наша снова берёт, — сказал один из них, спускавшихся к водам Босфора.
— Не кричи «Слава вознице!», пока его колесница не обогнёт мету[94]...
— И то верно.
А те, что находились в туннеле, зажгли факелы. Летучие мыши с писками шарахнулись под своды.
Двое довольно быстро зашагали вперёд, и гость, несмотря на свой небольшой рост, не отставал, лишь высвободил нос и рот, чтобы было легче дышать.
Вскоре все трое оказались на мраморной площадке; здесь повсюду высились колонны огромного диаметра и большой высоты, подпирающие пол какого-то здания.
Послышался плеск весел, и показалась лодка. Она ткнулась в край мраморной площадки; незнакомец и двое, что сопровождали его по туннелю, сели, и лодка, лавируя между колонн, коих тоже немало стояло, но теперь уже в воде, причалила к такой же мраморной площадке, только по другую сторону этой загадочной подземной ёмкости.
Для посвящённых (а таких в Большом императорском дворце было немного) существование этого по сути водного туннеля объяснялось просто: Константин Великий при строительстве императорской резиденции приказал на случай непредвиденной опасности прорыть под нею подземный ход, ведущий к морю, и укрепить его колоннами.
Однажды, рядом тянувшийся водопровод прорвало, и подземный ход полузатопило. Если раньше его можно было одолеть пешком, то теперь без лодки не обходилось.
С мраморной площадки вела наверх каменная лестница, по которой незнакомец, двое с факелами и лодочник поднялись к огромной железной двери. По условному стуку её отворили, и все четверо оказались в галерее, освещённой настенными огнями. Факелы затушили.
Как только вышли к концу галереи, трое, сопровождавшие незнакомца, будто растворились, и, словно по волшебству, возник евнух Хрисанфий...
— Позволь, высочайшая императрица, поцеловать твою руку, — обратился он к человеку небольшого роста.
Последний откинул капюшон паллия, и перед евнухом предстала... Пульхерия. Вскоре прояснилась и та таинственность, с которой она сюда прибыла.
— Хрисанфий, это все твои выдумки, чтобы я таким образом проникла во дворец.
— Несравненная, ты же знаешь переменчивость настроения твоего брата, и неизвестно, как бы он отреагировал, если бы ты официально прибыла в его резиденцию.
— В нашу, Хрисанфий, в нашу...
— Прости, величайшая.
— Прощаю... Теперь ты — со мной, а ведь тоже я по твоей милости оказалась за городом...
— Кто прошлое помянет, тому глаз вон.
— Ишь, болтун!.. Глаз-то я у тебя в случае чего выну... Запомни!
— Теперь запомню. И на век!
— А что делает сейчас василевс?
— Как всегда... Читает... И допоздна. Только вот та сконструированная им самим световая лампа упала на пол и сломалась.
— Ничего, теперь мы ему новую сделаем. По своей задумке...
Жирное тело Хрисанфия затряслось в безвучном смехе. Хихикнула своей шутке и Пульхерия.
— Мои покои готовы?
— Готовы, великая. Из покоев покуда не выходи. Как только я подготовлю василевса к твоей встрече, дам знать.
— У тебя умная голова, Хрисанфий...
— Благодарю, порфирородная, я буду служить тебе верой, правдой и честью.
«Ну, насчёт твоей чести я сомневаюсь...» — подумала императрица.
Когда византийской Августе поведали про случай с фригийским яблоком и что Евдокия, внешне прощённая мужем, отбыла в Святой город, взяв с собой Гонорию, Пульхерия тут же захотела поехать к брату. Без жены Феодосий снова становился податливым, тем человеком, которого она знала много лет и который позволял ей над собою командовать. Да и нет теперь во дворце Павлина — его тоже слушался василевс.
С одной стороны, Пульхерия радовалась такому развитию событий, только жаль, что она не увидит больше белокурого величавого красавца; красота и осанка Павлина поразили с первого взгляда даже её, набожную девственницу, и много раз, лёжа в постели, она думала о его жарких объятиях, наводя себя на великий соблазн, потом, правда, часами замаливали свой грех.
Однажды вошла Пульхерия как обычно с докладом в помещение бассейна, где плавал брат. В это время он всегда плавал один, и Пульхерия безбоязненно входила, ибо голое тело брата, виденное ею с детства (часто они бултыхались вместе в ванне), не вызывало в ней никаких эмоций и чувств. Но тут она увидела стоящего на краю бассейна совершенно обнажённого Павлина, сложенного, как Аполлон (в своё время Пульхерия читала греческих и римских писателей), и остолбенела... На какое-то время от неожиданного появления императрицы потерял способность двигаться и фаворит василевса. Ему бы в воду сигать, а он стоял, словно мета на Ипподроме, такой же высокий и красивый. Да и Пульхерии следовало бы повернуться и бежать, но она продолжала пялиться на обнажённого Павлина; особенно её поразило огромных размеров чуть покачивающееся естество... «Боже! А какое оно будет, если?..» — как-то непроизвольно пронеслось в голове девственницы, и только тут она вскрикнула и выбежала из бассейна.
— Ну, брат!.. Смотри, как наша девственница на тебя зрила! Искушение святого Антония, да и только! — Феодосий захохотал.
Павлин виновато склонил голову и что-то промямлил в оправдание.
Василевсу шёл двадцатый год, и он уже понимал, что такое жуткое стремление властвовать и... девственница, молящаяся до исступления каждый день... В этом есть много чего противоестественного: ведь власть — это больше, чем гордыня!..
Пульхерия, как и брат, красива, с выразительными тёмными глазами, с правильным, слегка овальным лицом, с пунцовыми, страстными, чуть вывернутыми губами, которыми только возлюбленных целовать, вот его, например, Павлина... Детей рожать!
— Чего зажурился, Павлин? — ещё не отойдя от смеха, подначил друга Феодосий. — Теперь она, не вставая с колен, будет грех неделю замаливать. А я её видел тоже обнажённую... Ох и хороша она, брат, да, видно, не для земных мужиков... Христова невеста!
С появлением Афинаиды-Евдокии во дворце, видя, как крепнут отношения её и Павлина, Пульхерия возненавидела последнего и порою желала ему смерти. И сейчас она твёрдо знала, что с Павлином ей, как и Евдокии, не суждено больше встретиться... Теперь-то она, Пульхерия, приложит все усилия, чтобы сделать это...
И настал такой день, когда Феодосий повелел экскувиторам привести в тронный зал дворца сестру из её покоев. Сам он находился там без величественной порфиры, но в обязательных красных башмаках-кампагиях. Чтобы показать всё ещё своё недовольство, Феодосий хотел принять сестру официально, сидя на кафизме[95], но, увидев в проёме дверей её строгое лицо, не сдержался, покинул трон и поспешил к ней навстречу.
— Здравствуй, присночтимый братец, — поприветствовала Пульхерия Феодосия.
Только она одна во всей Византии так могла обратиться к всемогущему правителю с такими словами.
— Много лет здравствовать и тебе, моя сестра...
— Здравствовать?! В глуши, одиночестве, особо не поздравствуешь, — укорила Пульхерия Феодосия.
Последний на её укор никак не прореагировал — сделал вид, что ничего не понял.
— Слышала, что твоя любимая жёнушка отправилась в Святой город. Только не надо было с ней отпускать Гонорию, которую прислала к нам на полное попечение всесильная Галла Плацидия... Поездка её дочери в Иерусалим вряд ли понравится римской императрице.
— Иерусалим сейчас — колыбель христиан всего мира, посещение его угодно и самому Всевышнему... Пусть сие послужит утешением всякому и смирит того гнев... — оставался невозмутимым василевс.
В определённые моменты он чётко осознавал свою силу, знал, что простой народ любит его, хотя и подшучивает над ним, особенно на скачках.
Но, как всегда, сестра в эти самые моменты чётко «сбивала Феодосия с катушек». Она прямо заявила ему:
— Мой царственный брат, смотри не промахнись... Как промахнулся с фригийским яблоком. Это хорошо, что ты услал Павлина подальше от двора, на его родину — в Кесарию Каппадокийскую. А подумал ли ты над тем, почему сразу после его отъезда Евдокия запросилась в Иерусалим?.. Путь до Святого города длинный, и на этом пути Павлин и твоя жена могут не раз встретиться... Не лучше было бы Павлина подержать в Константинополе и отпустить его в Кесарию тогда, когда твоя жена уже достигла бы «колыбели христиан всего мира»?..
Лицо Феодосия покрылось красными пятнами; сейчас до него дошло, какую очередную ошибку он допустил. Нет, без советов Пульхерии ему не обойтись...
— А что ты предлагаешь, сестра?
То, что хотела она предложить, противоречило его нравственным принципам, да и её тоже, — ведь эти принципы она закладывала в брата с детства. А потом, как быть с евангельской заповедью «Не убий»?!
Но Пульхерия переступила через себя и через эту заповедь, ибо знала, что политика делается руками не всегда чистыми; и сказано в Библии; «Богу — богово, кесарю — кесарево». Значит, есть оправдание от Божества в деяниях Цезарей...
— Павлин должен умереть... Иначе он снова тебя, повелителя полумира, выставит в смешном виде... Охлос по поводу яблока уже распевает на улицах и форумах сочинённые кем-то стишки неприличного содержания... Кем-то? — задала как бы себе этот вопрос Августа: — Теми, кто окружает Евдокию... Стихоплётами... Они горазды.
Феодосий в волнении забегал по тронному залу — больнее его могла ужалить только змея... И тогда он приказал позвать начальника экскувиторов Ардавурия.
...Обширная область Византии Каппадокия в переводе означает «земля хороших лошадей». Бегали ли здесь на самом деле хорошие лошади, Павлин не ведает, но то, что земля эта состоит из нагромождений вулканического туфа, сие очевидно. А ветры и солнечный зной придали мягким туфовым породам формы причудливых конусов, пирамид и впадин. Издавна жители Каппадокии высекали себе в этих пирамидах жилища, церкви и целые пещерные города (до семи этажей!). А во время нашествий врагов они закрывали все входы и выходили на поверхность только для обработки полей.
«Когда-то эта земля была сердцем империи хеттов... Может быть, и мои предки происходили от них», — думает Павлин, любуясь причудливыми формами вулканических камней.
Но Каппадокию населяли разные народы, и их последний царь Архелай, будучи приглашённым императором Тиберием в Рим в 15 году по Р.Х., был изменчески взят в плен, и его владения вошли в состав Римской империи. Павлин как истинный христианин гордится тем, что Каппадокия несколько раз упоминается в Библии: её жители, вместе с другими, присутствовали в Иерусалиме, куда отправилась красавица Евдокия, в день Пятидесятницы, а родной город Павлина Кесария является родиной Василия Великого — знаменитого церковного деятеля, автора популярного «Шестоднева», в котором изложены принципы христианской космологии.
Конь тихо бредёт, слегка нагнув голову, — жара донимает и его. Павлин обрадовался, когда увидел на краю пещерной деревни из-под кустов каперса прозрачной струйкой вытекающий родник. На каменной плите, лежащей рядом, высечены две мужские фигуры, а надпись на греческом гласила о том, что этот живительный источник посвящён братьям Диоскурам — Кастору и Поллуксу. Каменная плита с изображениями языческих богов осталась нетронутой, но теперь считалось, что на ней вырезаны христианские святые Косьма и Дамиан.
Павлин перекрестился, прочёл молитву, набрал в пригоршню студёной воды, почёл, ополоснул лицо.
Кожаной торбой зачерпнул живительной влаги, напоил коня. Затем, отстегнул колчан со стрелами, меч, положил на землю. Конь неподалёку потянулся, выпрямив шею, к траве, которая пробивалась между камней, ухватывал оттопыренными губами и звенел удилами.
Павлин пожалел животное, вынул у него изо рта удила, отстегнул седло. Когда прилаживался сесть на положенное возле каменной плиты седло, вдруг услышал грохот валунов, скатившихся со скалы, и увидел взметнувшегося вверх орла, подумал, что это он свалил когтями, поднимаясь, камень с вершины, который, скатываясь, и вызвал сей незначительный обвал...
Павлин потянулся к кустарнику, сорвал плод каперса — продолговатый, похожий на сливу, с толстой, мясистой шелухою. Потёр его между большим и указательным пальцами и вспомнил, что отец, наместник василевса в Каппадокии, любил употреблять в пищу эти ягоды как приправу. Они приготовлялись в уксусе и служили врачебно-укрепляющим средством.
И пришли на ум Павлину слова из Екклезиаста: «...и рассыплется каперс»; подразумевалось под этим — сильный упадок сил и совершенную потерю аппетита в глубокой старости, так что уже ничто не могло более возбудить человеческий организм... И даже плоды... Но додумать свою мысль до конца Павлин не успел: стрела, пущенная убийцей со скалы, метко впилась ему в левый глаз, и смерть наступила мгновенно...
В сером плаще, рослый, с широкими плечами мужчина, стоящий на вершине, торжествующе поднял в правой руке лук и издал клич на языке, не похожем ни на латинский, ни на итальянский, да и ни на один из тех, на котором изъяснялись сарматы, гунны, славяне, анты, германцы... И неудивительно, ведь этот мужчина был мавром...
Он спустился вниз, слегка пнул свалившееся с седла тело Павлина, начал внимательно рассматривать его, прикидывая, что бы такое взять в доказательство того, что бывший царский любимец убит... Значит, нужно найти такую вещь, которую мог бы опознать сам василевс. И мавру бросился в глаза массивный золотой перстень на среднем пальце левой руки. Он потянул его, но перстень не снимался; мавр с силой дёрнул его — снова ничего не вышло. Тогда убийца вынул из ножен акинак — обязательное оружие каждого византийского солдата — и отхватил им палец с перстнем... Увидел на шее убитого платок, предназначенный от пота, сорвал и замотал в платок окровавленный палец.
«Теперь это будет передано Ардавурию, а тот покажет или Пульхерии, или Хрисанфию... А уж потом — василевсу... Кстати, я обязан евнуху, что оказался в сей поездке, которая сулит мне немалую выгоду... Вон красавец конь Павлина... Теперь он мой, могу продать или его, или свою лошадь, которая осталась с тремя экскувиторами, дожидающимися меня у развилки дорог... Начальником над ними меня назначил Ардавурий, так как я умею стрелять, попадая в глаз. Этому меня научили с детства на юге Африки, в самом конце Великого африканского разлома... А местные шаманы посвятили меня в тайны чародейства... Будучи уже воином, я попал в плен, был продан в Константинополь, благодаря воинскому искусству да и чародейству тоже попал в гвардейцы... Ардавурий приказал мне убить Павлина, а потом скакать в Иерусалим и следить за каждым шагом императрицы и молодой римской Августы...» — пронеслось в голове у мавра.
Он покопался в перемётной суме, обнаружил пояс с золотыми монетами. Затем стал ловить коня, но тот не давался: косил фиолетовым глазом, оттопыривал верхнюю губу, показывая широкие зубы. Тогда мавр вперил взгляд, ставший пронзительным, в этот лошадиный глаз и сам, как конь, оскалил зубы, и последний послушно дал себя оседлать и взял в рот удила...
Мавр вскочил на него и вскоре подъезжал к трём всадникам, держащим в поводу свободную лошадь. «Всё-таки продам её...» — снова подумал мавр; конь Павлина выглядел по сравнению с лошадью мощным, грудастым красавцем.
Похвалили коня и товарищи мавра. Но один из них, что помоложе, обратился к мавру:
— Ману, ты, наверное, оставил труп непогребённым? Может, мы зароем его?
— Времени у нас в обрез... Труп лежит возле источника, на краю деревни. Придут люди за водой, скоро обнаружат и похоронят. А ты, жалостливый сосунок, бери вот это, — Ману сунул молодому воину окровавленный платок с пальцем и перстнем Павлина, — и живо скачи во дворец к Ардавурию! Да смотри не потеряй, иначе тебе не сносить головы...
— Будет сделано, — виновато опуская глаза, пообещал молодой воин, сообразив, что в платке находится предмет, подтверждающий гибель бывшего царского любимца.
Оставшись втроём, мавр и его подчинённые посовещались, как лучше спрямить дорогу на Антиохию Сирийскую, и быстро помчались. Красавец конь ходко и легко нёс своего нового хозяина.
Через какое-то время им встретился купеческий караван; толстому хозяину-персу чёрный Ману и продал лошадь...
* * *
А тем временем верховая охрана, повозка с Приском и экипаж, в котором сидели две царственные особы со своими служанками, въезжали в крепостные ворота Антиохии. Затем лошади вступили на мост через реку Аси, возведённый ещё в период правления римского императора Диоклетиана. Хорошо сохранился и акведук, тянувшийся к каменным стенам, окружавшим город.
Проехав улицу, наши путешественники оказались на широком форуме, где, как на любой из площадей Афин, стояло много античных статуй. Любуясь ими, в душе императрицы Евдокии проснулись языческие воспоминания минувшей юности, что нельзя было сказать о Гонории, которая всегда жила как бы в замкнутом пространстве равеннского дворца. И далее она никуда не заглядывала до самого своего бегства. А в Риме, сидя в темнице храма Митры, она гоже ничего не видела, только страх постоянно сковывал её душу...
У дворца сената собравшиеся жители Антиохии, в большинстве своём греки, шумно приветствовали свою императрицу, свою землячку, красавицу Афинаиду-Евдокию.
Также шумно приветствовали они её и на всём протяжении полуторамильного пути от центра города до апостольской пещеры Петра, когда Евдокия со своими спутницами и спутниками захотела увидеть то место, где, прячась от языческих глаз, молился святой Пётр. Здесь же, в Антиохии, образовалась потом христианская община, главой которой одно время состоял апостол Павел, в бытность свою фарисей Савл...
Но было заметно везде и во всём, что эллинский дух и сейчас вольно витал над этим городом. И, сидя во дворце сената на золотом троне, сверкающем драгоценными камнями, принимая с достоинством чиновников и знатных граждан, уроженка Афин Афинаида-Евдокия вдруг вспомнила снова уроки отца, и она произнесла блестящую речь в честь восторженно принявшего её города и, напомнив о далёких временах, когда греческие колонии разносили по всему Архипелагу вплоть до берегов Сирии эллинскую цивилизацию, закончила свою импровизацию цитатой из Гомера:
— «Горжусь, что я вашего рода и что во мне ваша кровь».
Жители Антиохии были люди слишком культурные, слишком большие любители Поэта, чтобы не оценить это. И, как в славные дни Древней Греции, муниципальный сенат вотировал[96] воздвигнуть в честь императрицы золотую статую, которая и была позже поставлена в курии, а на бронзовой плите, помещённой в музее, была вырезана надпись в воспоминание о посещении Евдокии.
Кажется, только тогда Гонория поняла, что такое быть настоящей царицей... Когда с полным правом можно заявить своему народу, что «я вашего рода и что во мне ваша кровь». С того момента мысли эти стали часто посещать римскую Августу, имеющую титул, а не власть, и проведшую почти половину своей жизни словно узница... Будто невольно сподобилась отцам-пустыннослужителям...
И понимала, что Евдокия, находящаяся тоже длительное время под присмотром Пульхерии, тоже вела в Константинополе жизнь узницы. Это сейчас она свободна как райская птичка, но что будет дальше — одному Богу известно.
Пока обе не знали, что длинные руки Пульхерии дотянулись до них; трое, посланных из дворца, уже наблюдают за ними.
И как удивилась Евдокия, когда Гонория первой изъявила желание посетить в сирийской пустыне старцев.
Сенат, у которого Евдокия попросила разрешение на встречу с аввами, отказать ей не мог, хотя понимал, что путешествие в пустыню не из лёгких. Сопровождать царских особ вызвался сам епископ Антиохийский.
На горбах пяти верблюдов приспособили специальные носилки с балдахинами. Там и поместились Евдокия, Гонория, их служанки, епископ. Приск и его слуга ехали на лошадях вместе с охраной.
Они прибыли к пещере, где жил знаменитый тогда авва Данила. Когда он вышел навстречу епископу, которого знал в лицо, то удивился двум богато одетым женщинам, представшим перед ним. Поправляя на теле верёвки, которые уже начали въедаться в кожу, спросил:
— Кто такие? Что надо?
Епископ ответил, что одна из них византийская царица, другая — римская царевна.
— Божие слово они хотят услышать от тебя, отче.
Авва Данила был страшно худ, ибо всё сильнее и сильнее умерщвлял и порабощал своё тело. Он часто не спал ночами, ел один раз в сутки после захода солнца, а нередко и в четыре дня. Пищей ему служили хлеб, соль и вода. Спал он на рогоже, а чаще всего на голой земле. Но лицо Данилы сохраняло необычную красоту и приятность, а в глазах отражались полное душевное равновесие и покой. Такие лица были у настоящих праведников, проводящих всё своё время в молитвах и раскаянии.
А раскаиваться бывшему богачу и знатному человеку в Антиохии было от чего: изменившую ему жену он сам предал смерти, всё своё богатство роздал бедным и ушёл в пустыню.
Когда Евдокия и Гонория приблизились к нему, авва Данила, пристально всматриваясь в их глаза, вдруг взял за руку Гонорию и резко сказал:
— А вот тебе, милая, я сплёл бы невод... Непременно, сплёл! И не един...
Узрев на лицах царственных особ удивление; он попросил их сесть и рассказал притчу.
«Пришли к авве Ахиллу, который живёт в пещере со мной по соседству, на берегу небольшого озерца, в сорока милях отсюда, три монаха-старца, на одном из коих лежала дурная слава... И сказал Ахилле первый старец:
— Авва, сплети мне хоть единый невод.
Ахилла ответил:
— Не могу того сделать.
И другой старец попросил:
— Сотвори милость, чтобы иметь нам в обители нашей о тебе память.
Авва и тут сказал:
— Недосуг мне.
Говорит ему третий, на ком лежала дурная слава:
— Для меня-то сплети хоть единый невод, чтобы получить его из рук твоих, отче.
Ахилла же поспешил отозваться:
— Для тебя сделаю.
Те два старца и говорят ему, когда остались с ним наедине:
— Как же мы молили тебя — и не захотел ты для нас сделать, а этому говоришь: для тебя, дескать, сделаю?
Отвечает им авва:
— Вам я сказал: не могу, дескать, того сделать, — и вы не оскорбились, но так и поняли, что недосуг мне. Ему же если не сделать, он и подумает, что Ахилла наслышан о грехе моём, вот и не захотел сделать. Соплету ему неводочек сей же час.
Так ободрил он душу падшего брата, дабы тот не впал в уныние...
В таком же неводочке и я нуждался... Молитесь, дети мои, ибо молитва есть исцеление от печати. Кто молится в духе и в истине, тот уже в не тварях чествует Создателя, но песнословит Его в Нём Самом».
Глаза старца возгорелись, лицо его просветилось ещё больше. Глядя на него, Евдокия поду мата, вот этот отшельник и есть главный образ для её задуманной поэмы, образ раскаявшегося грешника, возвысившегося до высот небесных...
А на прощание авва Данила произнёс следующее:
— Как рыбы, промедлив на суше, умирают, так иноки, оставаясь вне обители своей или беседуя с мирскими, разрушают в себе внутреннее устроение тихости. Итак, надо мне, как рыбе в воду, спешить назад в пещеру, дабы, промедлив вдали от неё, не позабыли мы стеречь сердце своё...
Этими словами Данила выразил суть подвижнической жизни многих монахов, которая есть отшельничество, ставшее образцом и подразумевающее полный уход от мира, отказ от всяких чувственных удовольствий, борьбу с телесными вожделениями, постоянно одолевающими человека, укрепление своего духа.
Входило тогда в византийскую жизнь и так называемое юродство.
Евдокии и Гонории показали на улицах Антиохии первого такого юродивого — блаженного Сисоя.
После двадцатидевятилетнего пребывания в пустыне Сисой сознает, что его долг не только спасти самого себя, в чём и состоит цель отшельнической жизни, но попытаться также спасти и людей, погрязших в плотских наслаждениях. И вот он покидает пустыню и приходит в мир для того, чтобы смеяться над миром. И такую дерзость мог позволить себе человек, который достиг высот духовного совершенства и полного бесстрастия. Но жестокий мир не позволит смеяться над собой простому смертному, а только тому, кто находится как бы вне этого мира, кто недостоин его и сам служит объектом постоянных издевательств и насмешек, то есть безумцу и изгою. И поэтому Сисой является в этот мир, надев личину глупости и шутовства.
Жизнь Сисоя в городе — это сознательная игра, в которой он исполнял роль шута и безумца. То он представлялся хромым, то бежал вприпрыжку, то ползал на гузне своём, то подставлял спешащему подножку и валил с ног, то в новолуние глядел в небо, и падал, и дрыгал ногами, то что-то выкрикивал, ибо, по словам его, тем, кто Христа ради показывает себя юродивым, как нельзя более подходит такое поведение. Он сознательно нарушает все правила приличия: оправляется на виду у всех на форумах, ходит голым по улицам, врывается обнажённым в женскую купальню, водит хороводы с блудницами.
Напоминаем ещё раз, что всё это — игра, оставлявшая совершенно бесстрастной и спокойной его душу. Блаженный достиг такой чистоты и бесстрастия, что подобно чистому золоту, нисколько не оскверняется от этого. То он, надев монашеское одеяние, демонстрирует несоблюдение христианских обрядов: ест мясо и сладости во время поста, кидается хлебом в верующих в храме и совершает множество других поступков, которые люди считали безумными.
Но вместе с тем своим поведением пародируя, утрируя, окарикатуривая порочную жизнь окружавших его людей, Сисой изобличал эту жизнь, высмеивал её, заставлял людей задумываться над своим поведением. Более того, он был наделён даром творить чудеса, пророчествовать и предвидеть ход событий. С помощью этого он оказывал помощь многим людям, исцелял их и направлял на путь истины.
И таким образом, «любезное Богу юродство» византийское христианство уже начинало почитать превосходящим «всякую мудрость и разум»...
Среди юродивых можно было увидеть и женщин — первая по времени юродивая (в 365 году) Исидора была инокиня Тавенского монастыря.
Но жизнь обыкновенная, не святая, шла своим чередом. В Антиохии Сирийской Гонория узнала, что созданный вандалами Гензериха хорошо вооружённый флот, разбив пиратов, захватил Сардинию, на которой чума вроде бы закончилась.
Сообщение об этом всколыхнули уже как бы ставшие затихать печальные воспоминания молодой римской Августы о её возлюбленном Евгении и несчастной его судьбе.
Теперь на острове вовсю хозяйничали вандалы — они задерживали суда с хлебом, идущие в Рим, как раньше делали это пираты. И если с последними можно было как-то справиться, то флот Гензериха, ставшего всесильным королём после захвата Северной Африки, победить уже было нельзя...
«Да пусть подыхает без хлеба! — воскликнула про себя Гонория, имея в виду свою империю, изгнавшую её на чужбину, но тут же сама себе и возразила: — Умрут ведь простые люди, их дети, а такие, как евнух Ульпиан, моя мамаша или скверный капризный братец без хлеба и изысканной нищи не останутся... Мерзко всё это и несправедливо. Вот она, что в Риме, что в империи ромеев, жизнь, которую обличают отшельники, монахи и юродивые...»
— Но пора и в Иерусалим, — напомнил увлекающимся царским особам Приск, который до этого совсем не вмешивался ни в какие дела императрицы и молодой римской царевны. Он, оказывается, не только охранял золото и драгоценности Евдокии и ведал их распределением, учитывая каждую, даже серебряную монету, но и не забывал свои обязанности, исполняемые им при дворе, — быть секретарём василевса... Хотя и был предан его жене, и относился к ней с особой симпатией; за время пути подружился и с Гонорией: ему нравились в девушке спокойный ум, римская строгая красота и сдержанность. Но и подозревал, что за внешним хладнокровием прячутся бурные страсти. Да и не походила она на изнеженную принцессу...
«Она уже хлебнула горя», — заключил Приск, пока непосвящённый в её судьбу. Как и многие придворные в Константинополе, он думал, что римская молодая Августа просто приехала погостить к своим родственникам, а заодно и повидать мир.
Со своей стороны и Гонория всё больше и всё внимательней приглядывалась к молодому фракийцу и как-то призналась Джамне, которая стаза ей настоящей подругой, что сопровождающий их в дороге секретарь Феодосия нравится ей.
— Только ничего такого не думай... Я ведь просто... Нравится, как человек, — слегка смущаясь, добавила Гонория.
— А я и не думаю, — засмеялась Джамна, радуясь тому, что. может быть, мысли госпожи, пусть пока и поверхностные в направлении Приска. как-то помогут рассеять её тягостные думы о своём возлюбленном Евгении, о котором она до сих пор вздыхает и плачет...
Молодая Августа ото всех это скрывает, но только не от темнокожей рабыни-подруги.
«Боже, как я люблю свою госпожу, жизнь за неё отдам!» — не раз восклицала про себя милая, преданная Джамна.
А вспоминала ли она сама Радогаста, анта, убитого в темнице храма бога Митры секретарями Антония Ульпиана?.. Может быть, иногда... Прошёл ли этот раб так же мимо её души, как и те, кто обладал её когда-то не по любви, а потому, что она рабыня?.. Нет... В случае с Радогастом, и она осознавала это чётко, кажется, всё было не так.
И вот наступил день, когда обоз двинулся из Антиохии в Святой город. Поодаль за верховой охраной, повозкой и экипажем скакали трое всадников, бывших всегда начеку.
III
Аттиле уже несколько ночей снился могильник отца Мундзука, могильник, представлявший собой квадрат, одна из сторон которого равна почти пятидесяти локтей, выложенный внутри из глыб гранита. На глубине десяти локтей находится с настилом бревенчатый сруб, куда и был помещён гроб из кедрового дерева с телом когда-то великого воителя. Рядом с гробом отца, помнится, положили много китайских драгоценных тканей с изображениями драконов, также много лакированных чашечек для вина и керамической посуды для еды, уздечку с серебряными удилами, снятую с любимого коня повелителя, и трёхлопастные с дырочками железные наконечники для стрел[97].
Гунны хоронили своих вождей скромно, не так, скажем, как тавро-скифы; если последние хоронили своего повелителя в кургане, а не сжигали, то в яму валили ещё убитых рабов и служанок, лошадей. Они думали, что вождю рабы, рабыни и лошади будут служить и по ту сторону жизни, — гуннскому же правителю в ином мире всё это даст сам грозный Пур...
Аттила дважды вызывал своего верховного жреца и говорил ему о своём повторяющемся сне, — колдун день и ночь до изнеможения колотил в бубен, но из него толком так и не смог выбить объяснение сновидению повелителя. Тогда Аттила приказал привести «святого епископа» Анувия[98]. Тот сразу сказал, что Аттила наяву скоро увидит гроб с телом знатного вождя... «Кто же такой этот знатный вождь, которому суждено умереть?» — подумал темнолицый правитель и спустился в подвал своего мраморного дворца, где хранились его несметные сокровища.
Половина богатства, честно разделённого с братом, Аттиле досталась от отца и дяди, а потом он сам кропотливо, изо дня в день, накапливал их, памятуя о том, что ему надо кормить и содержать огромную по тем временам армию... В одном окованном железом сундуке хранились слитки серебра — гривны: дань от сарматов, скифов, актов, дунайских славян, в другом — лежали золотые монеты на сумму в 6000 либров — откуп Византии в 441 году, когда Аттила двинулся на Фракию и Иллирик, трижды нанеся поражение посланным против него войскам империи, и занял множество городов, в том числе Сирмий[99], а позже Филиппополь и Аркадиополь... При византийском дворе решили не рисковать и откупиться, тем более увидели, как отменно «резвились» в окрестностях Константинополя всего лишь передовые конные отряды, грабя церкви и монастыри, топя в крови живое и неживое, оставляя после себя пожары с чёрными клубами дыма, ибо поджигали всё, что могло гореть, нефтью...
Вот тогда-то византийцы не понаслышке, а наяву познали, что такое жестокость гуннов... Так как последние, убивая даже беременных женщин, вспарывали им животы, выковыривали копьём материнский плод и поднимали его на острие во устрашение сопротивляющихся на крепостных монастырских стенах...
Кроме откупных, в третьем сундуке лежали золотые ежегодной дани также от Византии на сумму в 700 ливров. Германцы свою дань предпочитали платить тоже золотом, а от Аттилы уже зависят многие их племена — руги, скиры, герулы, лангобарды, квады, маркоманы, швабы. У степного правителя с королями этих племён разговор короток — нечем платить дань, давай хорошо вооружённых воинов в его войско.
А в других сундуках находятся разные драгоценности, золотые и серебряные украшения, чаши и кубки, добытые в бою воинами, и всякая мелочь, имеющая ценность, ибо по установленному издревле закону десятую часть добытого в бою гунн оставлял себе; остальное же шло в казну, из которой выплачивалось жалованье.
Казначеем и секретарём у Аттилы являлся Орест, германец по происхождению. Только у него одного был такой же ключ от подвала, как у Аттилы. Он ведал этим богатством и вёл расходные и приходные книги. С детства воспитав Ореста как сына, правитель доверял ему, но потом, как оказалось, напрасно...[100]
Германец из своей юрты увидел, как в сопровождении телохранителей Аттила достиг мраморного дома, в котором он летом не жил, и спустился в подвал с внешней стороны, оставив тургаудов у входа, и сам поспешил туда. Миновал стражников, даже не взглянувших на Ореста. Но это была одна лишь видимость: они замечали всех и вся и, как только возникала непредвиденная ситуация, реагировали на неё мгновенно, пуская, если надо, в ход не только кинжалы, но и луки. Били, как правило, без промаха.
Вход в подвал с внешней и внутренней стороны охраняли, по приказу Аттилы, только гунны.
От золотого ошейника германец отцепил ключ, открыл им наружную дверь, которую запер за собой правитель, закрыл её снова и миновал деревянные ступеньки лестницы, идущей вниз. Невольно остановился перед полуоткрытой второй дверью, более лёгкой, чем первая — дубовая, окованная железом.
В подвале в настенных поддонах горели факелы. Орест в щель увидел повелителя, извлекающего на свет золотые монеты и рассматривающего их с необычайным блеском в глазах; короткий ус у него слегка подёргивался, и казалось, что тёмная кожа лица слегка побелела... В таком возбуждённо-жадном состоянии Орест своего, можно сказать, отца-покровителя зрил впервые, хотя и ранее наблюдал за ним в такую же щель полуоткрытой двери, когда Аттила думал, что находится в подвале один и его никто не видит. Тогда в окружении золота и драгоценностей повелитель пребывал спокойным, совершенно бесстрастным, а тут — такая перемена... «И чем она вызвана?.. Не согласно ли поговорке, что душа не принимает, а глаза всё больше просят?.. А может быть, и душа принимает тоже... Ишь как любуется драгоценными китайскими вазами. А вон с тем же жадным блеском в глазах рассматривает золотые скифские кубки и чаши. Золото скифов... Кажется, у Геродота есть такое выражение. Недаром обязательной принадлежностью одежды скифских царей был золотой пояс с золотым колокольчиком... — Германец усмехнулся: — То было давно, сейчас мы этот народ обобрали до нитки...»
Не надо думать, что гунны были сплошь кровожадные, безграмотные, похожие на животных... Аттила. изымая из книгохранилищ книги, хранил их в другом подвале дома, и там лежали наряду с книгами греческих и римских писателей пособия по медицине, математике и астрономии. А в окружении повелителя находились и люди, которые могли научить читать и разбираться в этих книгах. Тоже не думайте, что в войске у Аттилы были одни лишь гадатели, жрецы и «святой епископ»... Старшего сына Аттилы Эллака учил читать и писать по-гречески и латыни один философ из Александрии, он же научил этим премудростям и Ореста... Занимался философ и с сыном знаменитого римлянина Аэция Карпилионом, когда тот здесь приобретал навыки ведения гуннского боя. Кроме литературы, Карпилион хорошо знал астрономию. А знание звёзд на небе необходимо для выбора сторон света и для того, чтобы правильно определить направление в походе. Были в войске Аттилы и астрологи.
Орест кашлянул перед тем, как зайти к Аттиле; тот ссыпал с ладоней золотые монеты в сундук, которые тускло и приятно-тяжело блеснули при свете чуть потрескивающих факелов, обернулся:
— Орест! Проходи. Как наши дела с приходом и расходом?
— Повелитель, ты меня учил, что первое всегда должно превышать второе, ибо это есть непреложный закон, установленный ещё твоими предками...
— Да, закон хорош, предки были не талагаи, коль придумали его. Золото даёт возможность тому, кто владеет им, управлять людьми и даже целыми народами... Только не все потомки следуют этому закону владения.
— Кого ты имеешь в виду, повелитель?
— Своего брата Бледу... Вчера ко мне из его становища прискакал гонец по поручению старейшин; гуннский народ там унижен и страдает от голода, ибо казна Бледы пуста... Сам он и его жена погрязли в пьянстве и ничегонеделании. Старейшины просят меня взять их народ, пока не поздно, под свою защиту. Думаю, что возьму... И вот пришёл навестить сокровища: ведь золото — не только средство купли и продажи, оно даёт силу и вселяет уверенность. Оно избавляет людей от голода...
«Так вот почему с такой возбуждённостью он рассматривал его», — догадался Орест.
— Я хотел послать за тобой, и хорошо, что ты явился сам... Мы должны отрядить два тюменя в ставку Бледы, и ты наполнишь походную казну для поддержания наших братьев... Но это не сейчас и даже не завтра. А завтра рано утром мы собираемся с холзанами[101] и тазами[102] охотиться на волков. Позавчера ночью они задрали в стаде двух верблюдиц и несколько овец. Сторожевые собаки вспугнули их, и поэтому волки унесли только одну овцу. А вчера их видели на краю дубовой рощи, а потом возле каменных пещер. Я беру на охоту Эллака и тебя, Орест.
— Благодарю, повелитель... Но у меня нет холзана.
— У Эллака тоже нет. Вы с ним будете скрываться в роще с борзыми.
— Понял, повелитель, и буду готов.
Эллаку шёл семнадцатый год. Это был уже не тот мальчик, которого отец на своей свадьбе с Крекой держал за щёку и больно её подёргивал: как и отец, он имел широкие плечи и унаследовал ею силу. Светловолосый, с серыми, как у кречета, глазами, но не тёмными, как у Аттилы, Эллак и кожей лица походил на мать-германку. С прямыми ногами и стройной фигурой, он всегда выглядел подтянутым, лёгким на подъём и был со всеми приветлив. Особенно любил бывать у своего почти названого брата Ореста. Орест тоже любил Эллака; у них и пристрастия имелись одни — любили бешеные скачки на лошадях и стрелять тяжёлых белых гусей из дальнобойных луков в протоках и озёрах Дунайской равнины. Орест и Эллак также занимались астрономией, но под руководством пленного сарацина, который владел этой наукой в совершенстве.
Звёзды помогали им находить родное становище всегда, на какое бы расстояние они с сотней, а то и с тысячей воинов ни удалялись от него, чтобы попромышлять гусей или набить руку в сечах с амелунгами, отличающимися свирепостью среди германских племён... Хотя Эллак и Орест помнили, что их полукорни и корни оттуда, но они ощущали себя только гуннами.
С утра возле озёр и на берегах многочисленных притоков Дуная: Рабы, Дые, Тизии высокие травы покрываются так густо росою, что девушки местных славянских племён раздеваются догола и купаются в ней. И конечно, девушки проделывают в траве широкие густо-зелёные неровные полосы, но когда проходят волки, то они оставляют после себя прямые чёткие узкие лазы. По ним охотники и определяют, в какую сторону подались звери.
Вначале Аттила Ореста и Эллака без собак поел аз поездить по пустошам, где пребывали или добытчики железной руды, или пастухи, и поспрашивать их, откуда им слышался вчера волчий вой.
Вскоре Орест и Эллак наехали на одного такого пастуха, пасшего с сынишкой баранов. Оба — пастух и пастушок — косматые, как галлы, одетые в шкуры непонятных зверей, наперебой стали рассказывать, как на краю вон того леска, парнишка показал рукой в сторону Тизии, когда спускаются сумерки, и начинается вой.
Матёрый заводит заунывную песню медленно, высоким голосом, а затем переходит на более грубый.
— О-о-о, — несётся с краю леса.
— У-у-у, — гнусаво и переливчато вторит волку волчица. Её набирающий высоту голос наиболее дик и наводит тоску.
В хор тогда вступают переярки[103], которые воют с перебрёхами, наподобие собак, а прибылые[104] визжат и взлаивают.
— Езжайте туда, — теперь уже старший пастух взмахивает рукой на край леска, — там ещё лощина есть. А за ней — равнина. Если вы охотитесь с беркутом, самое дело...
Когда Эллак и Орест вернулись к группе охотников, то присоединился и скиф Эдикон. В одной руке у него длинное копьё, такое же, как у Аттилы, за спиной лук, у бедра колчан. Он не имел привычки охотиться с холзаном, и вообще, в гуннском лагере не боялся проявлять свои скифские привычки, за что, кажется, повелитель любил этого отважного до безумия, но очень умного хитрого командира тюменя своих соплеменников ещё больше...
На породистых нетерпеливых конях ждали начала охоты с вытянутыми левыми руками в рукавицах, на которых сидели мощные пернатые хищники с колпачками на головах, гунн Ислой, тоже командир десяти тысяч конников; Адамий, управляющий делами в доме Креки, последней супруги Аттилы; в одежде охотника, вооружённый лишь луком, горбун Зеркон Маврусий. Должен был приехать сармат, тоже любимец Аттилы, Огинисий, под началом которого находились два тюменя, но он к началу охоты не успел, а прибыл со своего дальнего становища только к обеду.
Кажется, Аттила задумал охоту на волков не для того, чтобы их уничтожить, а скорее всего собрать на совещание нужных и преданных ему людей. Так потом и оказалось.
На коротких поводках с трудом удерживаемые тургаудами, поскуливали от голода и всё рвались куда-то вбок поджарые тазы — остромордые борзые собаки. Можно было подумать, что они боялись переступавших с ноги на ногу на руках охотников пернатых хищников, но это было не так, ибо не только собак приучают к беркуту, но и самого холзана к собакам, содержа его в одном помещении с тазами.
Эллак поведал отцу о разговоре с пастухами, и повелитель принял такое решение — сам он с охотниками, у кого на руках дремали беркуты, выедет на равнину за лощиной, со стороны же леска начнут заходить тургауды с борзыми и погонят волков в лощину. А может быть, как раз в ней они и скрываются.
Оресту и Эллаку повезло — они сразу увидели в лощине в густой траве свежие беспорядочные лазы. Значит, волки, почуяв запах борзых, заметались; а сами тазы сильнее задёргали короткие ремни... И тогда Орест, как старший, взмахнул рукой и крикнул:
— Отпускай!
Борзятники отстегнули ремни, и собаки рванулись вперёд. И вскоре они выгнали волков на равнину.
У Ислоя сидел на руке ещё сравнительно молодой, не совсем подготовленный к охоте беркут — это был его первый выезд, и гунн беспокоился, как он поведёт себя... Холзан, как и многие другие хищные птицы, довольно быстро привыкает к человеку, а в результате настойчивых дрессировок становится отличной ловчей птицей.
Для охоты на волков годятся только самки беркутов, которые значительно крупнее и сильнее самцов. Дрессировку, как правило, проводят на волчьем чучеле. В шее чучела около головы делают разрез, через который рукой в глазные впадины вставляют куски мяса. После длительной голодовки беркут начинает клевать мясо из глазных впадин. Такая кормёжка проводится каждый день, причём расстояние между птицей и чучелом постоянно увеличивают.
Окончательно подготовленным беркут считается тогда, когда он с налёта клюёт мясо из глазных впадин чучела, которое быстро тащат за верховой лошадью.
Ислой увидел, как почти одновременно, вспугнутые борзыми, выскочили из лощины сразу несколько волков. Гунн взмолился богу Пуру: «Пожертвую тебе того хищника, которою скогтит мой холзан... Только бы не оплошал, а взял «своего»...»
Ислой сдёргивает колпачок с головы и, указав рукой в сторону зверя, резким окликом посылает птицу в угон. Послали в угон своих опытных ловчих Аттила, Зеркон Маврусий и другие охотники. Их беркуты сразу выбрали себе «своего» волка и, молча, неумолимо, как сама судьба, стали настигать жертву... Вот мощная птица парит над нею... Холзан выпускает когти, какой-то миг — и он вцепляется ими в круп зверя, парализуя его движение, и тут же выклёвывает ему глаза... Зверь падает, орёл бьёт его мощными крыльями и прижимает к земле.
Беркут Ислоя, выбрав матерого, кажется, не рассчитал в себе силы. Настигнув зверя, он хотел было вцепиться в него когтями, но опытный волк увернулся от них и успел даже куснуть птицу за крыло, правда, не причинив никакого вреда; лишь вырвал перо и стремглав помчался снова к тому месту, где стояли, отпустив борзых, Орест и Эллак. Зверь наскочил на них неожиданно, но, не раздумывая, в страшном оскале, с дикими горящими глазами, прыгнул на Ореста; тут-то и сработала реакция хорошо подготовленного воина, не важно, что он исполнял обязанности писца и казначея, но как боец тренировался постоянно... Перед лицом Ореста — и он это запомнил на всю жизнь! — возникли яростные, не знающие пощады звериные глаза и жуткие волчью клыки, но Орест успел, когда волк оказался на взлёте, погрузить в его мягкое брюхо меч, с которым воин не расстаётся никогда. Клыки зверя лишь царапнули подбородок охотника, и матёрый, упав на землю, вскоре затих, обливаясь кровью.
Охота прошла удачно: не пострадали ни один холзан, ни одна восточная борзая. Убитых волков оказалось пять, вместе с матерым, которого завалил германец Орест. Довольны остались все; Аттила подъехал к Эллаку, взял его ладонью за щёку, как на свадьбе, и ласково подёргал, как бы хваля сына за то, что он вёл себя на охоте хорошо и правильно...
Волчьи туши свалили в специальную повозку, которая сопровождала охотников от самых юрт становища; иначе пришлось бы тела зверей перекидывать через сёдла и тем самым пугать лошадей. Ибо лошадь боится даже мёртвого волка, чуя его запах.
Повозка направилась в сторону каменных пещер, справа от неё ехали Аттила и Орест, слева — все остальные; тургауды рысили позади, так велел повелитель.
Когда из каменного огромного разлома с диким рёвом выскочил пещерный бык, может быть, раздражённый и разъярённый запахом волчьей крови, стекающей с туш, и ринулся в бешенстве, нагнув огромную башку с острыми рогами, на лошадь повелителя, то только один из телохранителей сумел хоть что-то мгновенно предпринять, а именно: он плёткой огрел по крупу своего коня и тот прыгнул вперёд, чуть не наскочив на жеребца Ореста.
Жеребец прянул вбок, и поэтому германец лишь краем глаза заметил, как исказилось яростью лицо Аттилы, на котором явственно обозначился оскал, какой Орест недавно видел у матерого волка: теперь германец сколько угодно мог утверждать, что у Аттилы вместо зубов проступили самые настоящие клыки... Пущенное повелителем с огромной силой копьё ударило в могучую шею быка в тот самый момент, когда голова его поравнялась со стволом вековечного дуба: копьё пробило шею и глубоко вошло в толстое дерево... Бык захрапел и как-то неудобно, запутываясь тремя ногами, стал оседать задом на землю, а четвёртой, передней, так сильно ударил острым копытом по толстому скрученному корню, что пересёк его.
Аттила, даже не взглянув на пещерного быка, бросил оказавшимся рядом тургауду и Оресту:
— Я поскакал, а вы привезите моё копьё.
К Оресту и тургауду подъехал Эллак. Они слезли с коней. Подошли к стволу дуба, к которому приколот был дикий бык, вернее, его голова, с морды которой всё ещё стекала кровавая пена.
Орест потянул за копьё, но оно не поддалось. На помощь пришёл сильный, судя по телосложению, телохранитель; вдвоём они снова потянули за древко, но оно лишь хрустнуло. Боясь сломать его, а они понимали, что это не просто копьё, а копьё повелителя Аттилы, решили вначале отделить шею быка от туловища. Всем троим пришлось попотеть прежде, чем они это сделали... Мечи вложили в ножны.
Если туловище как-то давило на воткнутое копьё, то освобождённое от основной тяжести, оно должно теперь выдернуться... Да не тут-то было! Начади обрезать вокруг древка мясо, измазались кровью, словно чёрные ночные мангусы, которые прилетают в табун пить из жил лошадей питательную для них жидкость...
Стали раскачивать опять копьё: снова оно в месте его соприкосновения с дубом хрустнуло. Тронь ещё — и сломается.
— Ладно, я обо всём скажу отцу сам, — заявил Эллак.
Так и осталось в дубе том вековечном копьё Аттилы.
За тушей дикого пещерного быка вернулась повозка, а затем его принесли в жертву богу Пуру.
После хорошей охоты, будто бы для того, чтобы её отметить, собрались, даже не переодеваясь, в юрте Аттилы. Повелитель велел подать мёд и особый напиток — кам, но не хмельной.
— Может быть, что покрепче? — спросил повелитель на правах радушного хозяина: — Вино, кумыс?
Собравшиеся хмельное отвергли: знали, что дело будет решаться очень важное, ибо о посещении гонца из становища Бледы уже были наслышаны...
По правую руку от Аттилы сидел сармат Огинисий, бородатый, с соломенными на голове волосами, с серыми, как у холзана, глазами и спокойно лежащими на коленях руками; по левую — Ислой, коренастый, как все гунны, с мощной шеей и затылком, без бороды, но с усами, концы которых были низко опущены. Рядом с ним находился скиф Эдикон, улыбчивый и такой же нетерпеливый, как Ислой, но Аттила их любил, ибо в бою они преображались: становились такими же спокойными и рассудительными, как Огинисий. А храбрость, сообразительность и мужество лежали в основе всего их существа.
Потом подошли Орест и Эллак. Эллак вызвал дружный смех сообщением о том, что они втроём так и не смогли выдернуть из дуба копьё повелителя...
— Жаль... Доброе было копьё, — улыбаясь, сказал Аттила. — Ну да ладно, пусть оно так и торчит из дерева.
Затем он поведал об озабоченности старейшин брата, собственно, о том, что он говорил вчера своему казначею и секретарю.
— Надо навестить становище Бледы... И на месте принять решение, — предложил Ислой.
— Решение мы должны принять здесь! — отрубил Огинисий.
Предложение сармата Аттиле понравилось.
— Можно я скажу, — поднял руку ладонью кверху скиф Эдикон. — Идти к Бледе только с охраной, думаю, нельзя. Мы должны понимать, если у старейшин заговор сорвётся, он встретит нас мечами и стрелами... Поэтому нужно идти в его становище во всеоружии. Посылай мой Тюмень, повелитель. Я готов...
— Ия готов! — вскочил на ноги гунн Ислой.
— Ну что ж... Эдикон и Ислой, вы и поведёте два тюменя... Останьтесь. Я поделюсь с вами кое-какими соображениями и укажу на то, что делать... А остальные — свободны. Благодарю за охоту!
Потом, оставшись один, Аттила подумал: «Вот о каком знатном гунне в гробу говорил мне святой епископ Анувий...»
Через день походные колонны вступили на мост через Тизию, уже вновь восстановленный по приказу Аттилы. Эдикон, зная об истории с подпилом свай, подумал: «Все приближённые вначале удивились той жестокости, с которой повелитель поступил с самыми верными ему людьми — Таншихаем и Хелькалом... Теперь я понимаю, почему он так поступил... Убейся до смерти Бледа, не было бы потеряно столько времени, за которое Аттила как единоличный правитель смог бы ещё больше того сделать. Хотя за это время он и так много преуспел... К тому же не было бы и этого похода, который не знамо как ещё закончится... И значительно не расходовались бы на него...»
Как всегда, провожал воинов Ушулу. Но на этот раз он не смеялся, а был очень серьёзным; бежал вослед им и пел две лишь строчки из не до конца сочинённой им песни, в которых выражалась просьба:
Привезите ко мне белокурую женскую голову,
Я её при луне буду нежно ласкать...
— Это о чём он? — спросил молодой конник старого десятника.
— Да талагай... Чего с него возьмёшь?! Поёт, дурачится... Тьфу, какая-то женская голова... Белокурая... Придумает же!
А ведь голову Валадамарки, отрубленную Ислоем, чтобы показать её Аттиле, повезёт обратно как раз сам десятник... И молодой воин напомнит старому: «Вот о какой белокурой голове шла речь в песне придурка... Только на самом деле придурок ли он, Ушулу?.. Другие, может быть, и подураче его будут...»
Молодой воин присутствовал на свадьбе Аттилы, которая проходила на дальнем становище, и любовался сидящей за столом красавицей-германкой.
— Ты бы видел её в последнее время... — ответил на это десятник. — Она много пила вместе с Бледой, растолстела, лицо её стало как квашня... Поэтому Аттила приказал обезглавить и Валадамарку.
Возвращаясь, везли голову и самого Бледы: её отрубили сами заговорщики-старейшины ещё до прихода войск Аттилы и поставили возле юрты своего бывшего правителя два шеста с натянутой на них овчиной, выкрашенной в красную краску.
Целой и Эдикон, завидев этот знак, очень обрадовались, значит, отпадала необходимость в каком бы то ни было сражении, значит, всё обошлось мирно... Ненавидели Бледу многие.
Таким образом Аттила в 445 году стал полновластным правителем всех гуннов. Тогда-то он и начал отращивать бородку...
А через несколько недель произошло знаменательное событие, повлиявшее на самомнение и не без того уже высокомерного единоличного правителя не только степи, но и всего левобережного Истра, а также земель, которые почти доходили до крепостных стен Константинополя.
Историк Иордан, воздавая дань его организаторскому и военному таланту, пишет, что Аттила «был мужем, рождённым на свет для потрясения народов, ужасом всех стран, который, неведомо по какому жребию, наводил на всё трепет, широко известный повсюду страшным о нём представлением... Любитель войны, сам он был умерен на руку, очень силён здравомыслием, доступен просящим и милостив к тем, кому однажды доверился. Хотя по самой природе своей всегда отличался самонадеянностью, но она возросла в нём ещё...»
А возросла вот отчего.
Тот самый пастух, который указал Оресту и Эллаку на логово волков во время охоты, заметил, что одна телка из его стада хромает. Он долго не мог найти причину ранения, пока не догадался проследить с помощью собаки кровавые следы, сделанные молодой коровёнкой.
Дело было под вечер. Собака быстро взяла след, и пастух, сдерживая её на кожаном поводке, поспешил за ней. Скоро они спустились в ту лощину, откуда восточные борзые выгнали волков, поднялись наверх: слева тёмной стеной стоял лес, справа — окрашенное в багровый цвет вечерней зарей озеро. Взглянув на него, пастуху вдруг почудилось, что это озеро было наполнено не водой, а кровью...
Только он так подумал — и тут же услышал из лесу донёсшийся страшный рык, который не могло исторгнуть из глотки ни одно лесное животное, — лишь туча ворон с громким криком взметнулась к небу. Но пастух был не робкого десятка: он тоже упорно, как и собака, шёл по следу. И вот на краю леса увидел из земли торчащий кончик лезвия...
Начат копать. Думал, что, может быть, это лезвие византийского акинака или франкского меча, но оно оказалось почти в рост человека, шириной в две ладони и заканчиваюсь золотой крестообразной рукоятью.
Пастух взвалил этот поистине богатырский меч на плечо и пошагал обратно; когда он поравнялся с краем лощины и мельком взглянул на озеро, то показалось ему, что его содержимое, похожее на кровь, пришло в движение...
Несмотря на поздний час, пастух отнёс меч к юрте повелителя, получив лично из его рук щедрое вознаграждение, так как Аттила сразу узнал этот меч. Меч являлся священным у скифов, они называю его Марсовым. Но прошёл слух, что в одном из сражений скифы его потеряли. И это оказалось правдой.
Находка потрясла Аттилу, ибо в этом он увидел проявление небесной воли, направленной к тому, чтобы быть ему владыкой всего мира, и что через Марсов меч гуннам, а не скифам даровано могущество в войнах...
Аттила велел поставить рядом с каменным идолом бога Пура Марсов меч золотой рукояткой вверх, и два раза в день (утром и вечером) всё в становище должно было мечу поклоняться.
IV
По приезде в Иерусалим с Джамной, темнокожей рабыней Гонории, стали твориться странные вещи: в голове у неё время от времени происходило как бы просветление памяти, и она могла уноситься мыслями в далёкое прошлое — и то прошлое явственно вставало перед глазами, как будто она жила в нём и до мельчайших деталей запомнила всё, что тогда делалось...
Да, она сама была участницей тех далёких событий; ходила по тем улицам Иерусалима; разговаривала с теми его жителями, которые совсем были непохожи на нынешних... Стоило только Джамне на ночном ложе закрыть глаза, как сразу же она погружалась в реальный сон. Девушка понимала, что, может быть, эти сны ей навевает душа матери с её воспоминаниями: ведь мама родилась к северу от Иерусалима, в Назарете — городе, где жили родители Сына Божьего Иисуса Христа и где маленьким бегал он сам. И однажды Джамне на ум вдруг пришли стихи, будто сочинила она их сама, сочинила легко и непринуждённо, как это делает византийская царица Евдокия. Но чьи это стихи?.. И откуда они — из прошлого или будущего?..
«Назарет... Тут жил Христос. Один по горным склонам бродил Он в предвечерний час, когда сияют травы от росы, и свет зари плывёт над Ездрилоном[105].
Здесь ветерок ласкал Его власы. Ему кадили лилии с поклоном. Но мерк закат. Созвездья над Геоном качались, как небесные весы.
Тогда Христос по узенькой тропинке спускался в тёмный, бедный Назарет. Его лица касались паутинки, и в том лице такой струился свет, как будто мудрость жизни без усилий дитя Христос принял от белых лилий».
«Я уже знаю кое-что об Ездрилоне, — размышляла потом Джамна. — Наверное, и моя мама, будучи маленькой, рвала цветы и собирала плоды на этой равнине. А Геон?..»
И будто кто-то невидимый, но сидящий рядом, сообщил, что Геон — это вторая река рая, вытекающая из Эдема. Рай?.. Эдем?.. «Это одно и то же», — сказал голос, и он поведал Джамне о рае.
Боговидец Моисей говорит, что когда Господь творил мир, то он насадил на Востоке «рай сладости», куда и поместил первых двух человеков... Праотцы преступили заповедь Божию... Тогда Бог изгнал человека «из рая, и изринул» на землю, «и вселил» их на ней «прямо рая сладости». Слова: «прямо рая сладости» приводят к мысли, что земная природа подобна раю красотами своими и напоминает его собою падшему человеку... Боговидец Моисей изображает рай изящнейшим и обширнейшим садом. Но вещество его и природа тонки, соответствуют естеству его жителей — духов, и потому недоступны для наших чувств, огрубевших и притупевших от падения...
Древа этих садов постоянно покрыты цветами и плодами.
Апостол Павел был восхищен в рай, и потом до третьего неба — «в теле ли — не знаю, вне ли тела — не знаю», — говорит он, — и слышал там неизречённые глаголы, «которых нельзя человеку пересказать». Природа рая, благолепие небес, изобилие там благодатного блаженства так превышают всё изящное и приятное земное, что святой Апостол для изображения виденного им в священном исступлении употребил следующие выражения: «Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог открыл это Духом Своим».
В этих словах Апостола заключается печальная истина: падение человека так глубоко, что он не может получить понятие о потерянном рае. Но слова эти возвещают и радостную истину: обновление Духом Святым тех людей, которые верою и покаянием вступили в духовное племя Господа нашего Иисуса Христа.
«Я, верившая в бога Митру, а затем ставшая арианкой, разве попаду туда?» — вопрошает Джамна. И голос ей прочитал молитву «Плач грешника».
«Повторяй за мной, дитя, — сказал он. — Повторяй и запоминай»:
«Оплачьте наготу мою, возлюбленные братья и сёстры мои. Прогневил я Христа порочной жизнью своей. Сотворил Он меня и дал мне свободу, я же злом воздал Ему. Господь сотворил меня совершенным и соделал орудием славы Своей, чтобы я служил Ему и святил Имя Его. Я же, несчастный, сделал члены свои орудиями греха и творил ими неправду. Увы мне, потому что будет Он судить меня! Неотступно умоляю Тебя, Спаситель мой, осени меня крылами Своими и не обнаруживай скверен моих на великом Суде Своём, чтобы прославлял я благость Твою. Злые дела, какие содеял я перед Господом, отлучают меня от святых. Теперь постигает меня горе, чего и достоин, ибо служил я страстям своим, потому и не принадлежу к сонму победителей, а стал наследником гиенны огненной. Тебя, пронзённый гвоздями на Кресте Победитель, неотступно молю. Спаситель мой, отврати очи Твои от нечестия моего, страданиями же Твоими уврачуй язвы мои, чтобы прославлял я благость Твою».
Однажды Джамна видела, как рыдали у Стены Плача несколько иудеев, и подумала, что это плакали грешники... Но Евдокия уверила её: нет, они плачут по разрушенному Соломонову храму.
И приснился Джамне этот храм с такой отчётливостью, что она могла воспроизвести его по памяти со всеми мельчайшими деталями. Кто навеял на неё этот сон, ведь она никогда не видела этого храма?.. Да и мама тоже не видела его и не могла поэтому навеять это видение... Кроме того, что лицезрел во сне грандиозное Соломоново сооружение, Джамна ещё слышала тот же таинственный голос, поясняющий о том, как этот храм строился...
К самой постройке храма Соломон приступил на четвёртый год своего правления, а именно во втором месяце, носящем у македонян название Артемизия, а у евреев Ияра или Зифа (цветение), пятьсот девяносто два года спустя после выхода израильтян из Египта и тысячу четыреста сорок лет после потопа... Тот год, когда началось грандиозное строительство в Иерусалиме, являлся одиннадцатым годом правления Хирама в Тире[106].
Но перед этим Соломон царю тирскому Хираму отправил письмо следующего содержания: «Тебе известно, что отец мой (Давид) имел намерение воздвигнуть Господу Богу храм, но ему воспрепятствовали привести это намерение в исполнение ведение войн и постоянные походы. Что же касается меня, то я возношу благодарность Предвечному за ныне наступивший у меня мир, благодаря наличности которого мне представляется возможность исполнить свою мечту и воздвигнуть храм Господу Богу. Ввиду всего прошу тебя послать нескольких твоих мастеров на подмогу моим мастерам на гору Ливан, чтобы там совместно с ними валить деревья. Что же касается вознаграждения этим дровосекам, то я им выдам такое, какое тебе благоугодно будет назначить».
Получив и прочитав письмо, Хирам ответил Соломону: «Следует вознести благодарственную молитву к Всевышнему, что Он даровал тебе, человеку мудрому и во всех отношениях достойному, родительский престол. Радуясь этому, я с готовностью исполню все твои поручения. А именно, я прикажу срубить множество крупных кедров и кипарисов, велю людям моим доставить их к морю и распоряжусь, чтобы те немедленно затем составили из них илоты и пригнали их к любому пункту твоей страны, куда ты пожелаешь. Затем уже твои люди смогут доставить строительный материал в Иерусалим. Вместе с тем предлагаю тебе взамен этого позаботиться о доставлении нам хлеба, в котором мы нуждаемся, потому что живём на острове».
Царь Соломон набрал со всего своего народа тридцать тысяч работников, а руководителем их назначил Адонирама, присланного также царём тирским. Из представителей податных сословий, которых оставил после себя царь Давид, семьдесят тысяч были назначены носильщиками камней и прочих строительных материалов, а восемьдесят тысяч стали работать в каменоломнях. Над всеми же надзирало три тысячи триста человек.
Соломон поручил рабочим наломать для фундамента храма огромных камней и, предварительно обтесав и примерно пригнав их друг к другу ещё на месте, в горах, велел доставить уже в таком виде в город.
Само здание до самой крыши затем вывели из белого камня. Высота этого двухэтажного сооружения доходила до шестидесяти локтей. Фасадом оно было обращено к востоку. Построили и преддверие к храму. Оно имело двадцать локтей в длину сообразно ширине главной постройки и десять локтей в высоту. Кроме того, царь велел возвести с трёх сторон храма ещё три здания. Они имели по три этажа, в каждом из них помещалось по тридцать комнат, предназначенных для ризниц, сокровищниц и кладовых.
И всё это накрыла сделанная из кедрового дерева крыша, которая покоилась на огромных, проходивших по всей постройке балках, причём средние части этих балок, сдерживаемые деревянными стропилами, крепко упирались друг в друга и образовывали прочное основание.
Стены храма обшили вызолоченными кедровыми досками, так что внутри его всё сверкало и ослепляло взоры обилием всюду разлитого золота.
Ещё внутри здания сделали лестницу, ведущую на верхний этаж. Затем помещение храма разделили на две части; царь определил заднюю часть, длиной в двадцать локтей, для Святая Святых и переднюю, длиной в сорок локтей, для Святилища. В стене, отделявшей обе эти части, по просьбе Соломона вырезали отверстие и поместили двери из кедрового дерева, которые были богато расписаны золотом и покрыты резьбой.
В Святая Святых поставили две фигуры херувимов из чеканного золота, вышиною в пять локтей. Каждая фигура имела по два распростёртых крыла длиною тоже по пяти локтей. Пол храма выложили золочёными плитами. Вообще, ни внутри сооружения, ни вне его не было ни одной вещи, которую бы не вызолотили...
По задумке Соломона соорудили у дверей храма две бронзовые колонны. На верхушку каждой поставили по литой лилии в пять локтей, а каждую такую лилию окружили тонкой бронзовой, сплетённой как бы из веток, сетью, и к каждой подвесили по двести гранатовых яблок, расположенных двумя рядами. Одну из таких колонн, поставленную с правой стороны главного входа, царь назвал Иахин, а другая колонна с левой стороны получила имя Воаз. Эти колонны, водружённые одна против другой, означали силу и слабость, разум и веру, власть и свободу. Каина и Авеля, право и обязанность. Они символизировали свет и тень, силу и сопротивление, но различие между этими противоположностями, по мнению Соломона, совершенно сходит на нет. а сходство их достигается путём единства и гармонии, точно так же, как при отсутствии ночи был бы невидим дневной свет и наоборот...
Затем на глазах многотысячного народа было произведено литье «медного моря» в форме полушария для омовения ног священников и поставлено на спины двенадцати медных волов, обращённых по трое во все четыре стороны света и примыкавших друг к другу задними конечностями.
Затем соорудили медный алтарь для жертв всесожжения длиной и шириной в двадцать локтей и высотой в десять. Вместе с тем вылили из меди также все приборы к нему — лопаты, ведра, кочерги, вилы и всю прочую утварь, которая красивым блеском своим напоминала червонное золото. Далее царь распорядился поставить множество столов, в том числе один большой — золотой, на который клали священные хлебы. На столы поставили необходимые сосуды, чаши и кувшины, — двадцать тысяч золотых и сорок тысяч серебряных.
Ко всему этому царь велел сделать ещё восемьдесят тысяч золотых кувшинов для вина и сто тысяч золотых чаш и двойное количество таких же сосудов из серебра; равным образом восемьдесят тысяч золотых подносов для принесения муки и оливкового масла и двойное количество таких же серебряных подносов также было отлито; г: этому было присоединено ещё двадцать тысяч золотых и вдвое более серебряных мер, подобных мерам Моисеевым, которые носят названия «гина» и «ассарона», было сделано и двадцать тысяч золотых сосудов для принесения (и сохранения) в них благовонных курений и пятьдесят тысяч золотых кадильниц, с помощью которых потом переносили огонь с большого жертвенника (на дворе) на малый алтарь в самом Святилище. Были сшиты тысяча священнических облачений из виссона для иереев с золотыми наплечниками, нагрудниками, украшенными драгоценными камнями и служившими для гаданий. Изготовили к священническим облачениям и десять тысяч поясов из пурпура.
Царь велел также заготовить двести тысяч труб и столько же одеяний из виссона для певчих из левитов[107]. Наконец, он приказал соорудить из электрона[108] сорок тысяч музыкальных инструментов, а также таких, которые служат для аккомпанемента при пении, так называемых набл.
Была сооружена и храмовая сокровищница для помещения богатых пожертвований. Храм окружили зубчатой с выступами стеной, которая достигала трёх локтей высоты и преграждала народной толпе доступ, оставляя вход свободным для священнослужителей. Снаружи этой стены Соломон оставил четырёхугольную площадь для священного внутреннего двора, окружив эту площадь обширными портиками, вход в которые был через высокие ворота, запиравшиеся золотыми дверями.
Увидев во сне этот храм и наутро проснувшись, Джамна воскликнула: «Господи, какое небесное великолепие!.. Какое поистине царское богатство! Теперь понятно, почему Навухудоносор — царь вавилонский приказал своему военачальнику Навузардану, захватившему Иерусалим, разграбить храм!..»
Навузардан не только предал храм разграблению, похитив священную и золотую и серебряную утварь, великий сосуд для омовений, бронзовые колонны и их венцы, золотые столы и светильники, но затем и зажёг его.
Военачальник приказал также поджечь и царский дворец, разрушить город до основания и, поражённый богатством многих еврейских семей, с целью завладеть им, ибо если просто здесь отнять все эти богатства, то перевезти их даже войску не под силу, велел переселить эти семьи в Вавилон, оставив в Иерусалиме лишь бедных и тех, кто добровольно покорился вавилонянам.
Навухудоносор так объяснил свою жестокость по отношению к Иерусалиму попавшему в плен царю Седекии, потомку Соломона:
— Великий Бог, которому ты стал ненавистен по всему своему складу, отдал тебя во власть нам.
Почему ненавистен Великому Богу стал царь еврейский Седекия?..
Как сказал Джамне во сне голос, потому что Седекия крайне пренебрежительно относился к требованиям справедливости и долга; все окружавшие его придворные также были безбожниками, развратничали и занимались лишь накопительством, да и народ отличался крайней распущенностью и делал что хотел. Вследствие этого пророк Иеремия неоднократно посещал Седекию и заклинал его оставить своё безбожие и свои заблуждения и подумать о справедливости; не прилепляться к знатнейшим (в большинстве своём эти люди гнусные) и не верить обманывающим его пророкам, что вавилонский царь уже больше не предпримет похода на Иерусалим, и будто египтяне начнут с ним войну и победят его.
Они говорят неправду, внушал Иеремия. Но не послушался Седекия истинного пророка, за что и поплатился.
В один из дней Гонория послала Джамну вместе со служанками. Евдокии на иерусалимский базар купить фиников, оливкового масла и разных пряностей. Пока ходили по торговым рядам, девушки держались вместе, потом Джамна пошла за оливковым маслом, налила в греческую гидрию, вернулась и служанок Евдокии не нашла. Чуть не плача, стала возвращаться назад, но дорогу, понадеявшись на подруг, плохо запомнила. На базар собрались после обеда, и пока Джамна тыкалась то в одну узкую улочку, то в другую, начало смеркаться.
В одном тёмном переходе с портиком к ней подошёл закутанный во всё белое с капюшоном, закрывавшим лицо, человек, бесцеремонно взял её за руку и куда-то повёл. Джамне бы в пору закричать, но у неё онемел, язык; попробовать бы вырваться, но руки не слушались, а ноги так и несли вослед за незнакомцем...
Вскоре они остановились у какого-то двухэтажного дома, поднялись по тёмной лестнице и очутились перед железной дверью. Незнакомец толкнул её, она распахнулась, и Джамна зажмурилась от обилия огней, язычками светящихся на толстых свечах, расставленных по комнате.
Человек подвёл девушку к ложу, посадил её, откинул капюшон, и Джамна легонько вскрикнула: перед нею предстал мавр с лицом чуть темнее, чем у неё. У мавра какой-то неземной страстью блистали глаза, и от одного их взгляда Джамна содрогнулась и на какой-то миг будто потеряла сознание, так как ей показалось, что чувство реальности ей отказало; девушка не понимала, как она попала в эту комнату со свечными огнями и зачем она здесь...
— Меня зовут Ману. Тебя — Джамна... Не удивляйся, я всё про тебя знаю... Я слежу за тобой с тех пор, как ты с госпожой появилась в Константинополе. Как только увидел тебя, я влюбился... Да. Да! И подумал, было бы хорошо, если гы, темнокожая, стала бы мне женой. Эту мысль я лелеял и ночью и днём... И вот ты передо мной... Спасибо нашим африканским богам и магам за это. Они. эти боги и маги, научили меня многому — угадывать будущее, знать про человека всё, что я захочу... Я знаю, что ты. Джамна, верила в бога Митру, потом была арианкой... Сейчас тебе Бог евреев, в которого верила твоя мать, навевает сны о Соломоновом храме, а голос поясняет, как его строили. Но поверь мне, что всё это было не так...
— Как это не так? — удивилась Джамна, за всё это долгое время только сейчас раскрыв рот.
— A-а, ты ожила! — радостно воскликнул Ману. — Мои предки, жившие на дальней границе Великого африканского разлома, не раз бывали в Иерусалиме и слышали рассказ о великом мастере Адонираме...
— Который руководил работами по строительству храма? — снова спросила Джамна. Вообще-то, она сама не хотела говорить, тем более задавать вопросы, но кто-то помимо её воли толкал на общение с этим человеком.
— Да, тот... Сядь поудобнее и послушай рассказ, который я слышал ещё в детстве. И ты узнаешь всю правду, такую, какая она есть...
Царица Савская, Балкида, когда слух о мудрости Соломона и его строительстве великого храма достиг её уха, решила поехать в Иерусалим. По прибытии, её сразу повели во дворец, и она увидела на троне из позлащённого кедрового дерева царя Соломона. Весь тоже в золоте, он сидел словно статуя, руки, лицо и ноги которой выточены из слоновой кости. И вот ожила статуя, встала и направилась к Балкиде, приветствуя её... И царица Савская поняла, что это сам царь Соломон, премудрый и великий.
Приняв великолепные дары и поблагодарив, Соломон повёл царицу Савскую к храму, который он возводил в честь Бога евреев. И когда пришли к основанию Святая Святых храма, то увидела Балкида на месте том вырванную с корнем лозу виноградную и с небрежением отброшенную в сторону...
За царицей, куда бы она ни пошла, летела птичка удод, которую звали Юд-юд. Жалобно закричала птичка при виде вырванной с корнем лозы. И по тому крику поняла Балкида, что должен знаменовать вырванный корень и что за сокровище скрывалось под тою землёю, которую осквернила Соломонова гордость...
— Ты, — воскликнула Балкида, — воздвиг свою славу на могиле отцов твоих!.. Лоза же эта...
Царицу Савскую немедля перебил Соломон такими словами:
— Да, я велел вырвать эту лозу, чтобы на месте её воздвигнуть жертвенник из порфира и оливкового дерева. Жертвенник я повелю украсить четырьмя серафимами из чистого золота.
Но царица продолжила прерванную речь:
— Лоза же эта посажена отцом твоего рода Ноем. И как ты посмел вырвать её с корнем?! Видно, кощунство позволило тебе пойти на такую дерзость...
В гневе своём царица была ослепительно хороша, и сердце Соломона воспламенилось любовью к Балкиде, несмотря на её дерзкие речи... И стал он перед нею, как слуга, как раб перед госпожой своей, от которой зависит и его жизнь, и его смерть... И стал он молить Балкиду, чтобы она согласилась стать ему супругой, а народу еврейскому царицей. Тронулось сердце женщины любовью мудрого Соломона, и она через какое-то время дала согласие...
Но где бы ни была царица Савская: осматривала ли она дворец Соломонов, воздвигаемый храм, любовалась ли чем-либо иным из чудес и диковин, так высоко превознёсших Соломонову славу, её волновал вопрос, кто это всё исполнил?.. Она спросила, и ей ответили:
— Творец всему этому великий мастер Адонирам. Его прислал добрый царь, владыка тирский...[109]
Показали Балкиде и невиданные по красоте колонны храма, статуи херувимов и престол из золота и слоновой кости. Когда стали говорить «о море медном», которое должно быть скоро отлито, царица Савская вновь вопросила:
— Кто воздвиг эти колонны? Кто чеканил эти статуи? Кто воздвиг престол сей? И кто будет отливать «медное море»?
И услышала снова:
— Великий мастер Адонирам.
И тогда Балкида захотела увидеть великого мастера и велела, чтобы его представили перед её очи. Адонирам являлся человеком нелюдимым и странным, таинственно-мрачной личностью; никто не ведал ни его отчества, ни рода, ни племени, но во взоре этого человека было такое, что отличало его от простого смертного; гений великого мастера возвышался над людьми настолько, насколько вершина высочайшей горы возвышается над малым камнем... А был ли он человеком вообще?! Ибо глубочайшим презрением ко всему человеческому роду дышит эта личность и законно презрение её: хотя прародительница Адонирама мать была матерью обоих первородных братьев Каина и Авеля, но не Адам являлся отцом Каина, а Эблис-Денница[110]; огнистый херувим, падший ангел света не мог зреть красоты первой жены, чтобы не возжелать её. И не могла Ева устоять перед любовью высшего ангела... Тогда-то и родился Каин... Душа его, сына Люцифера-Денницы, бесконечно возвышалась над душою Авеля, сына Адама, но Каин был добр к Адаму, служил опорой его немощной старости; был он исполнен благожелательности и к Авелю, охраняя первые шаги его детства.
Но Бог из ревности[111] к гению, сообщённому Эблисом-Люцифером Каину, изгнал Адама и Еву из рая в наказание им и всему их потомству за любовь Евы.
По изгнанию из Эдема возненавидели Адам и Ева Каина, как невольную причину жестокого приговора, и всю свою родительскую любовь перенесли на Авеля.
У первородных братьев была сестра именем Асклиния, и соединена она была с Каином узами глубокой взаимной нежности. По воле ревнивого Бога она должна стать супругой Авеля. Созданный из глины, Адам имел душу раба; такая же душа имелась и у Авеля, но душа Каина, как искра Денницы, являлась свободной, и Бог убоялся свободной души Каина. Несправедливость Адонаи-Бога, Адама, Евы и Авеля переполнили чашу терпения Каина, и Каин смертью наказал неблагодарного брата. Тогда Адонаи-Бог, который уже замышлял в грядущем погубить весь род Каина, смерть Авеля вменил ему в преступление; но не смутилась этим душа Каина, и в искупление горя, причинённого им Адаму и Еве, сын Денницы посвятил себя служению их потомкам.
Каин научил их земледелию; сын его Енох посвятил их в тайны общественной жизни; Мафусаил обучил письменам; Ламех — многожёнству; сын Ламеха Тувалкаин наставил их в искусстве плавить и ковать металлы; Поэма, сестра Ту вал каина, познавшая своего брата, обучила их прясть пряжу и ткать одежды.
Адонирам — прямой потомок Каина, отпрыск Вулкана, сына Тувалкаина, рождённого сестрой его Поэмой. Ковач металлов Вулкан в расщелине Этны, что на Сицилии, сохранил себя от потопа и впоследствии познал жену Хама, родившую ему Хуса. отца Нимврода. Таков род Адонирама, таков и сам Адонирам, создатель плана построения того храма, который гордостью Соломона воздвигается Адонаи-Богу, преследующему из рода в род, из поколения в поколение свободнорождённых детей Каина... И живёт этот сын гениев огня одинокий среди детей Адамовых, никому не открывая тайны своего высочайшего происхождения. Когда же великий мастер, создатель стольких чудес предстал перед царицей Савской и поднял на неё свой взор, исполненный огня, тогда потрясена была душа Балкиды и царица едва могла вернуть себе самообладание. И пожалела она о поспешном обязательстве, которым она связала себя с Соломоном.
Но как ни было велико могущество гения Адонирама, но при отливке «медного моря» ему пришлось испытать неудачу тем более что она произошла на глазах уже любимой им царицы...
Сириец по имени Фанор — «товарищ-каменщик», финикиец Амру — «товарищ-плотник», еврей Мафусаил из колена Рувимова — «товарищ-горнорабочий» потребовали себе звание и жалованье мастера. Адонирам отказал им, ибо они не дошли до степени искусства быть мастерами. И «товарищи» решили отомстить Адонираму: Фанор подмешал извести к кирпичу; Амру удлинил балки под формой отливки «медного моря» и тем самым уменьшил действие огня во время литья; Мафусаил из отравленного моря Гоморрского набрал серы и примешал к литью.
О предательстве стало известно молодому рабочему, которого звали Беннони, и он кинулся к Соломону, чтобы тот приказал остановить отливку «медного моря», но царь, узнав, что Балкида воспылала любовью к великому мастеру, обрадовался случаю посрамить Адонирама. Соломон не внял мольбам Беннони и велел далее производить литье. И когда жидкая медь яростным потоком полилась в предательски испорченную форму, то под сильным напором форма разорвалась; брызнул жидкий огонь из всех трещин огромного бассейна и пролился на народ, собравшийся бесчисленными толпами на невиданное зрелище, сея повсюду ужас и смерть. В огне погиб и молодой рабочий Беннони.
Чувствует Адонирам, что посрамлён в нём великий мастер, и впервые он растерялся, не знает, как остановить эту огненную стихию. Но вдруг из глубины клокочущего пламени слышит Адонирам чей-то громовой голос:
— Приблизься, сын мой, подойди без боязни. Я дуну на тебя, и пламя не будет властно над тобой...
Адонирам шагнул в пламя, оно объяло великого мастера и понесло его: и от этого он испытал неслыханное блаженство.
— Куда влечёшь меня? — вопрошает Адонирам.
— К центру земли, в Душу мира, — слышит в ответ.
— Кто ты? — снова вопрошает великий мастер.
— Я — отец отцов твоих, я — сын Ламеха, внук Каина. Я — Тувалкаин. Для возбуждения в тебе новой силы и мужества я дам тебе молот, отверзший когда-то кратер Этны, и ты с помощью его доведёшь до конца литье «медного моря».
Сказав это, Тувалкаин вручил ему молот и исчез в огненной бездне. И молотом Тувалкаина Адонирам исправил все погрешности в литье, и «медное море», как чудо из чудес, под первыми лучами утренней зари осветилось ослепительным блеском гения великого мастера...
И весь народ израильский содрогнулся от неописуемого восторга, и воспылало сердце царицы Савской огнём торжествующей любви и радости. Но мрачно было и ненавистью исполнено сердце Соломона.
И пошла Балкида с кормилицей Сарахиль за стены Иерусалима. Влекомый тайными предчувствиями, отправился туда и Адонирам. И видит, как на плечо ему садится птичка Юд-юд, сопровождавшая царицу Савскую. И воскликнула Сарахиль, обращаясь к Балкиде:
— Исполнилось пророчество оракула! Юд-юд узнала супруга, предназначенного тебе. Его одного можешь познать ты, не преступив закон.
И без колебаний отдалась Балкида Адонираму...
Но как уйти от ревности Соломона? Как освободиться Балкиде от слова, данного царю евреев?
И решила царица, что первым из Иерусалима уедет Адонирам, а за ним, обманув бдительность Соломона, тайно покинет город и Балкида, чтобы уже навеки соединиться в Аравии с возлюбленным своим супругом.
Но бодрствует предательская злоба и следит неусыпно за великим мастером: она и подстерегла тайну любви его и царицы. Бегут три «товарища» к Соломону. Говорит Амру:
— Царь! Адонирам перестал ходить на постройки.
— Но зато я видел его в конце третьей стражи[112], как он крался к ставке царицы, — сказал Фанор.
А Мафусаил добавил:
— Я прикрылся темнотою ночи и вмешался в толпу евнухов царицы Савской. И видел, как к ней в опочивальню прошёл Адонирам и пробыл наедине с нею до восхода зари, и тогда я тайно удалился.
Взбешённый этими сообщениями, Соломон приказывает «товарищам» убить великого мастера, что они и сделали; труп его зарыли на одиноком кургане, а Мафусаил в свежевзрытой земле посадил ветку акации.
Балкида же сумела обмануть Соломона и незаметно покинула его. А когда царю доложили и об этом, то он распалился яростью и вознёс было в гневе страшную угрозу на Бога своего Адонаи.
Но предстал перед ним пророк Ахия Силомлянин и укротил ярость его словами:
— Знай, царь, что тому, кто убил бы Каина, должно было быть отмщено всемеро, за Ламеха же — семьдесят раз всемеро; тот же, кто дерзнёт пролить соединённую кровь Канна и Ламеха в лице Адонирама, наказан будет семьсот раз всемеро.
И чтобы не понести на себе последствий такого приговора, Соломон приказал выкопать тело Адонирама из кургана и предать его погребению под жертвенником храма.
Но с того дня преследует Соломона страх, и тщетно царь заклинает силы Мировой души снискать ему пощаду и оказать милость... Но нет Соломону пощады, а величию его трона из золота и кедра грозит древесный клещ.
Это упорное и терпеливое насекомое в течение двухсот двадцати четырёх лет точило трон царя Соломона, пока трон этот, наконец, не рухнул с грохотом, наводящим ужас на всю вселенную...
Ману кончил свой длинный рассказ, отёр рукавом одежды лоб и снова обратился к Джамне:
— Вот она правда о Соломоне и строительстве его храма, а не та, о которой нашёптывал тебе во сне голос... Скоро ты узнаешь и почувствуешь другую правду... Правду о жизни своих предков по отцовской линии... И о наших богах тоже... Я поведу тебя рано утром на юг Африки, где мне суждено стать царём... А ты будешь царицей. Ты пойдёшь со мной, Джамна?
— Да, — тихо ответила девушка, всё ещё заворожённая его рассказом.
— Это очень мило с твоей стороны.
— А как же моя госпожа? — спросила через какое-то время бывшая рабыня.
— Отныне ты, как Адонирам при жизни, — свободный человек! А госпожа быстро найдёт себе служанку. Не беспокойся. Так же, как и мой командир в Константинополе... Хотя такого, как я, стреляющего метко в глаз, мага и чародея, найти ему будет нелегко, — хвастливо заявил Ману. — Да ничего... И он стерпит... Джамна, как только я оказался в Иерусалиме и вспомнил, что на юге живут мои предки, мысль уйти к ним завладела мною... «Тогда я буду свободным человеком», — сказал я себе. Решил и тебе предложить стать тоже свободной...
Затем мавр велел Джамне переодеться, переоделся сам; вскоре они сели на лошадей и выехали через южные ворота Иерусалима и направились в сторону пустыни Син.
Великий африканский разлом — это огромная трещина на земле и, если бы можно было взлететь на Луну, то её бы хорошо было видно оттуда. Начинаясь в северной части Израиля, в долине реки Иордан, и пересекая значительную часть Африканского континента, «трещина» тянется на четыре тысячи двести семьдесят римских миль... Образовалась она по причине оседания пород в полосе разлома, тогда как прилегающая земля оставалась неподвижной. Будто кто из Атлантов проехался здесь на колеснице огромной тяжести... Но не смял растительный покров, а наоборот — за проехавшими колёсами словно вставали тут же травы и леса, удивляя своим богатством. Да и животный мир здесь также отличается своим разнообразием.
Но встречаются и зловещие места, вроде гигантской впадины Данакиль. Она граничит с Красным морем и представляет собой солончаковую пустыню на глубине одного стадия ниже уровня океана. Воздух здесь настолько горячий, что, если бы Ману не поливал заготовленной заранее водой одежды и попоны коней, они бы не преодолели эту впадину...
Потом мавр и Джамна стали взбираться на Эфиопское нагорье на высоту одной мили, а некоторые вершины здесь достигали двух миль.
Отсюда были видны вулканы самых разных очертаний, видны и малые нагорья, пересекающие ровные долины, а также горные массивы Рувензори и Вирунга. Молодые вулканы время от времени выбрасывали дым и извергали огненно-красную лаву. А древние вознеслись так высоко, что белые шапки доставали светлых облаков, но удивительно то, что даже палящие лучи солнца не могли растопить их льдов и снегов.
И повсюду Джамна и Ману встречали горячие источники и, судя по тому, что из них вырывается пар и бьют обжигающие струи воды, в недрах Земли кипело и клокотало... Не в эти ли недра спускался Адонирам за молотом Тувалкаина?..
— Ману, ты привал меня в край, где творение природы чудеснее творений рук человеческих... Даже таких, как храм Соломонов, который я видала во сне.
— Я рад этому, милая, — гордился мавр. — А вон там. — Ману показал рукой вниз, — простирается покрытая лугами равнина. Травы этой равнины служат кормом множеству диких животных.
На кочующие здесь стада антилоп-гну Джамна могла бы смотреть от восхода до заката, такое это красивое зрелище. Но смотреть было некогда, надо ехать вперёд и вперёд. «Слава богам, что лошади наши выносливы и здоровы», — повторял Ману.
Миновали цепочку озёр с водой, стекающей с вулканических склонов, и поэтому некоторые из этих озёр на многие мили окружены унылой пустынной растительностью и никаких рыб, кроме крохотной тилапии, в них не водится. А тилапиям вулканическая соль не страшна, они снуют даже вблизи гейзеров, где вода настолько горячая, что до неё нельзя дотронуться рукой.
Джамна видела, как перелетают с озера на озеро изящные розовые фламинго. Иногда они собираются гигантскими стаями, и тогда от них вода озёр приобретает розовый цвет...
Но зато сколько всякой живности водится в пресных горных озёрах, обрамленных кустами жёлтой акации. В кристально чистой воде живёт самая разная рыба, нежится множество бегемотов. А на мелководье буйно разрастаются водоросли и папирус"— жилище для многих птиц.
В сухих, безводных местах обитают зебры, сернобыки и страусы. По лугам бродят жирафы, носороги и слоны, грациозно, большими прыжками скачут антилопы. На открытых равнинах охотятся пятнистые кошки — леопарды и гепарды, а когда стемнеет, нередко слышишь рык царя зверей — льва.
В горах же живут гориллы, а внизу — в самой впадине — по холмистым низинам бродят в поисках насекомых, семян и скорпионов полчища бабуинов. Высоко в небе, расправив крылья невиданного размера, в восходящих потоках тёплого воздуха парят орлы и грифы.
В зарослях колючего кустарника перелетают с ветки на ветку птицы турако, бородастики, птицы-носороги и попугаи. Здесь можно встретить самых разных ящериц всех размеров и цветов, которые снуют с такой скоростью, словно за ними кто-то гонится.
Джамне кажется, что жизнь на этих равнинах и горах течёт как бы вне времени, основательно и спокойно, а само время измеряется лишь восходом и заходом солнца. «Может быть, это и есть Эдем, рай божественный...» — думает девушка, и ни капельки не жалеет, что покинула тот мир, который совсем не похож на этот, где встреченные ими люди тоже основательны и спокойны, с размашистой и вместе с тем горделивой походкой, и где богатство человека измеряется не золотом, а количеством верблюдов, коз, коров и овец да числом детей в семье...
Как-то Ману и Джамна подошли к одному дому, чтобы пополнить съестные припасы, и девушка вновь подивилась простоте и оригинальности его постройки... Из согнутых и связанных вместе веток деревьев был сделан каркас в форме купола. Снаружи каркас укрыт переплетённой травой и кожами животных. В доме сооружён очаг для приготовления пищи, а спальней служила пушистая шкура... В таких жилищах комаров и мух, как правило, не бывает.
Ещё один перевал, и Many сказал:
— Там, внизу, моё селение.
И как только они спустились, кто-то, узнав Ману, закричал:
— Великий воин Ману вернулся! Наш вождь Ману! Наш царь!
Забили барабаны, затрещали трещотки. Джамна невольно улыбнулась: «Я — свободна... И я теперь — царица!»
V
Пульхерия по совету Хрисанфия принимает решение в деле с Павлином и Евдокией не щадить чувств императора: она передаёт ему перстень, даже не сняв его с отрубленного пальца... При виде знакомого перстня и безжизненно сморщенного пальца у василевса мелко-мелко задрожали губы, как у обидчивого мальчика; лицо покрылось красными пятнами — признак сильного волнения...
Сестра с ехидной усмешкой наблюдала за Феодосием, даже не стараясь скрыть своего злорадства. И было от чего — годы, проведённые на загородной вилле, словно в заточении и в удалении от государственных дел, которым она посвятила всю себя без остатка, очерствили её сердце и притупили её некогда нежные чувства к брату. Но, слава Богу, она понимала, что в происшедшем с нею Феодосий виноват настолько, сколько виновато человеческое существо в возникновении, скажем, бури на суше или сильных отливов и приливов на морском берегу...
Она кляла Афинаиду-Евдокию и тех, кто состоял в тесном окружении императрицы, в таком тесном, что побудило её к измене мужу. Чуткое сердце женщины говорило Пульхерии обратное, но злоба всё перевешивала. И Пульхерия знала, что душа её не успокоится, пока она не изведёт всех врагов своих, в том числе и покаявшегося Хрисанфия... А её враги — это друзья Евдокии...
Вчера у входа на Ипподром она встретилась с ещё одним лучшим другом Евдокии префектом Киром из Египта. Ему бы согнуться перед Августой в низком поклоне, всё-таки после её заточения виделись впервые, а он слегка наклонил голову: в глазах так и забегали насмешливые искорки. «Тоже мне — восстановитель константинопольских стен!.. У нас есть время и возможность создать для тебя иную славу... Пусть не в глазах любящего тебя народа, но зато в глазах василевса», — подумала Пульхерня.
В 412 году энергичный и умный Анфимий, будучи префектом при императоре Аркадии, отразив натиск гуннов, приступил к сооружению новых укреплений разросшейся со времён Константина Великого столицы Византии. Сначала была построена мощная и длинная стена, шедшая от Пропонтиды к бухте Золотой Рог. Но через тридцать лет случилось землетрясение, часть стены разрушилась, и уже префект Кир не только починил пострадавшую эту часть, но и возвёл ещё одну линию стен и приказал выкопать ров; особенно надёжно он закрыл дотоле не защищённый болотистый участок у Влахернского дворца. Девяносто две грозные башни, значительные высота и толщина стен, глубокий ров и обилие боевых машин обеспечивали безопасность Константинополя. Только надолго ли?..
Аттила, убив брата и обретя Марсов меч скифов, обнаглел вконец: прислал Феодосию письмо, в котором грозит столице штурмом, если василевс вместо семисот золотых либров ежегодной дани не будет выплачивать по две тысячи... Ещё этот окровавленный палец с перстнем, говорящий о смерти любимца... И ставшая снова свидетельницей сильного волнения и растерянности Феодосия при чтении письма гуннского правителя, Пульхерия сказала:
— Дорогой мой брат, на то и существуют бури, чтобы им утихать... Что касается Аттилы, то как-нибудь мы это дело уладим. А гибель твоего любимца, хотя ты и разрешил его умертвить, я знаю, потрясло тебя... Это и понятно, потому что ты благочестивый христианин, и было бы ужасно, если бы радовался... Чтобы отвлечь тебя, Хрисанфий по моей просьбе готовит ристания на Ипподроме. Давно народ не приветствовал тебя на скачках, в коих нет тебе равных. На пару с тобой согласился участвовать в ристаниях префект Кир. Он — достойный противник.
— Хорошо, сестра.
Пульхерия тут же посылает людей к евнуху, который и думать не думал об этих скачках, но велено ему было готовить их... Посылает Августа своего человека и к Киру, которому объявляют, что на предстоящих ристаниях василевс Феодосий изъявил желание соперничать с ним...
И наступил день скачек. Если в ночных кутежах в состязании с императором, кто больше выпьет, можно было как-то схалтурить, чтобы не вызвать гнев всемогущего, то на скачках сделать подобное практически невозможно, ибо собравшиеся на трибунах тут же заметят любое поползновение проиграть.
Но и выиграть прилюдно у порфирородного — это всё равно что заранее сунуть голову в петлю виселицы, что стояла на площади Тавра, где предавали казни воров. Может быть, «сунуть голову в петлю» сильно сказано, скорее всего, это подобно тому, как если бы позволить привязать себя добровольно к одному из столбов, которые с пучками розг у их основания тоже находились на форуме Тавра для того, чтобы любой прохожий смог отхлестать тебя ими.
Так наказывали более мелких воришек и мошенников.
Ничего не оставалось Киру, как положиться на волю судьбы... На скачках египтянин выиграл у василевса.
Обойдя победную мету и возвращаясь, префект слышал, как Ипподром ревел:
— Восстановителю городских стен слава! Константин построил, Кир восстановил! Слава! Слава!
И снова неслось:
— Константин построил, Кир восстановил!
Об этом приветствии немедленно было доложено Феодосию, ещё не остывшему от скачек и переполненному чувством злобы потому, что проиграл и получил за это от толпы одни лишь насмешки.
— Слабак, Поэтому-то и жена от тебя сбежала! — кричал в пьяной запальчивости охлос.
— То, что орёт охлос по поводу бегства твоей жены, наплевать, — убеждал Феодосия Хрисанфий. — Неспроста другое... В славословиях народ рядом с Константином Великим ставит только имя Кира, но нет твоего, величайший... Повторяю, что это неспроста... Я слышал, что кричали «Константин построил, Кир восстановил» и некоторые патриции... Я их взял на прицел. А вообще-то, великий, Кир более язычник, нежели христианин... Он сочиняет песни, но они не отличаются христианской добродетелью, такова и его музыка.
Вскоре Кира постригли в монахи и конфисковали всё его имущество[113].
Это кощунственное решение василевса и смерть Павлина переполнили чашу терпения сторонников Афинаиды-Евдокии, и тогда два близких ей человека священник Север и диакон Иоанн решают тайно отправиться в Иерусалим, чтобы уговорить императрицу не возвращаться пока в Константинополь, где засилье в делах государственных снова оказалось в руках Пульхерии. А помогает ей теперь во всём Хрисанфий, как некогда помогал он Евдокии...
Да разве поведение евнухов, о беспринципности которых знал каждый в обеих империях, укладывалось в какие-то строгие рамки морали?! Разумеется, нет... И об этом говорилось выше.
Вскоре василевс призвал к себе Ардавурия и строго спросил:
— Почему нет никаких известий из Иерусалима? Почему чернокожий не шлёт гонца?.. Я должен знать, что поделывает Евдокия, которая остаётся пока моею женою...
— Я всё проверю, порфирородный, — заверил Ардавурий. — Там Приск, но доносить он не будет...
— Ладно, я посоветуюсь с сестрою. И как быть, мы решим. Пока в Иерусалим никого не посылай.
* * *
«Куда исчезла Джамна?» — Гонория вся извелась, ища ответ на этот вопрос. Спросила служанок Евдокии, с которыми та ушла на базар, но служанки сказали, что они вместе ходили по торговым рядам, а потом Джамна захотела купить пряностей и оливкового масла, куда-то направилась, и они её больше не видели...
— А никто за вами и за ней не следил?
— Если б следили, мы бы заметили, — ответила бойкая востроглазая девушка.
— Хоть у тебя и глаз зоркий, только опытного наблюдателя засечь нелегко. — Гонория, с одной стороны, слегка укорила служанок, а с другой — как бы делилась своим опытом бывшей беглянки и узницы...
«И почему случилось так, что пошли служанки без сопровождения солдат?! Это всё — наша беспечность, которая и обернулась несчастьем... — оставшись наедине, думала Гонория. — Вон и Евдокия, никого и ничего не боясь, в сопровождении одного Приска и его слуги ездит по Христовым местам, занимаясь благотворительностью... То она едет в Вифлием. где родился сын Божий, то присутствует на всеобщем крещении в реке Иордан, уговорила и меня войти в воду... То она всю ночь стоит на молитве в Гефсиманском саду. И где бы она ни была, лицо у неё светится счастьем, глаза пылают огнём; она как бы заражается некой энергией, которая недоступна мне... Я спокойно чувствую себя в Святом граде, и, к сожалению, он на меня не производит того впечатления, какое производит на императрицу. И даже недавнее посещение Гроба Господня не вызвало во мне стольких эмоций, на какие я рассчитывала... Видно, надо очень глубоко верить в Христа, чтобы, как некоторые, при прикосновении к камню, к которому был прикован Иисус, ожидая страшной казни, можно было потерять сознание... Конечно, судьба Богочеловека интересна, жизнь его и смерть скорее похожи на легенду... И поверить в Его воскресение не так-то просто обыкновенному человеку... Но подкупает любого то, что Он добровольно принял муки за грехи человеческие, чтобы искупить их и приблизить человека к Всевышнему. И тут возникает вопрос, который я слышала с детства: «Зачем Предвечному посредники?..» Если он захочет, то и сам может поговорить с людьми напрямую, и Его дело отторгать их или приближать к себе... И Его полное право — прощать грехи и не прощать... Всё же я остаюсь арианкой... Может быть, это тоже грешно, не знаю...» — заключила свои раздумья Гонория.
Этими мыслями она поделилась как-то с Евдокией, та её осудила и добавила с горечью:
— Думала, что Святой город преобразит тебя, но сие не случилось... Правильно сказал авва Данила, что для тебя нужно сплести не один, а два невода.
Гонория рассмеялась. Может быть, неуместен бью её смех, но смеялась она громко и весело.
Евдокию тоже волновала пропажа служанки Гонории. Она поручила расследование Приску, и вряд ли бы он что-то сумел прояснить, если б к нему не пожаловали те двое экскувиторов, которые, оставшись без командира, долго ломали головы, как быть дальше, и, ничего не придумав, решили обратиться к секретарю императора. Узнав, что бесследно исчез и мавр, всё сопоставив, Приск теперь мог с уверенностью заявить обеим царицам, что Джамна убежала с ним: оба — темнокожие, хотя рабыня и наполовину африканка, но она вполне подходила Many; главные же её достоинства — красота и образованность. Приск также узнал от экскувиторов, что мавр не раз хвастался, что у себя на родине он, сын вождя, может заполучить жезл царя...
— В этом случае я желаю Джамне счастья! — воскликнула Гонория, и Приск увидел в её глазах слёзы...
Двоих экскувиторов Приск отослал к императору, чтобы они поведали обо всём, что случилось, а на другой день пожаловали священники из Византии — Север и Иоанн. Императрице они в категоричной форме заявили, что пока ей возвращаться в Константинополь нельзя.
Но Евдокия, увлечённая своими духовными делами, и сама, кажется, не намерена была уезжать из Святого града. Тем более что наступала христианская Пасха... И поэма писалась легко, и Евдокия думала, что скоро закончит её.
Императрица свою поэму выстроила так, что она получилась в трёх песнях о святом отшельнике Киприане Антиохийском...[114] Пока были написаны две песни, и императрица пригласила в один из вечеров Гонорию, Приска, священника Севера, диакона Иоанна, правителя Иерусалима Сатурнина с женой и некоторых его приближённых на чтение пока одной песни.
В стихотворной форме поэма начиналась с сообщения о том, что Киприан являлся знаменитым магом. Однажды молодой язычник по имени Аглаида пришёл к нему и попросил с помощью таинственной науки побороть сопротивление христианской девушки, которая отвергла любовь юноши. Девушку звали Юстина.
При произнесении Евдокией этого имени Юста Грата Гонория невольно вздрогнула...
Далее следовали стихи о согласии Киприана. Как восторжествовать над Юстиной? И магу ничего не остаётся делать, как прибегнуть к силе демонов.
Киприан пустил в ход всю свою власть с таким рвением, что скоро сам влюбился в сияющую красотой девушку. Но вызванные Киприаном демоны бежали, как только Юстина сделал знамение креста. Маг попробовал ещё раз вызвать демонов... И воскликнула девушка-христианка: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его! Как исчезает дым, да исчезнут, как тает воск от лика огня, так погибнут бесы от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением...»
И снова побежали демоны. И тогда, убеждённый в тщете своего преступного знания, Киприан решается сжечь свои волшебные книги, раздаёт своё имущество бедным, принимает христианскую веру и уходит в пустыню. Влюблённый юноша, увидевший также напрасные потуги мага, делает то же самое...
В конце концов пустынножитель Киприан, проведший в отшельничестве много лет, становится епископом Антиохийским и вместе с Юстиной мужественно претерпевает мученическую смерть за свою веру...
Окончены стихи первой песни. Евдокия обводит глазами лица слушающих. Какое впечатление произвели стихи? И с удовлетворением отметила: «Кажется, хорошее...»
Слёзы текут по щекам жены правителя Иерусалима. У Гонории особым блеском светятся глаза, она неестественно напряжена... Многие черты её характера Евдокия использовала, рисуя образ Юстины. Доволен первой песнью и умница Приск. Только Сатурнин хранит на сытом лице равнодушие: да что ожидать от холодного сердца чиновника?!
«Ах, как жаль, что нет Павлина...» — думает Евдокия, уже зная о его гибели; слёзы выступают и на её глазах.
К сожалению, на чтение первой песни поэмы не присутствовал патриарх Иерусалимский, полюбивший обеих цариц: всё это время он был занят подготовкой к встрече Страстной недели и христианской Пасхи. А узнав, что Гонория исповедует арианство, он лично взял над ней опекунство, не отпуская её от себя ни на шаг, за исключением, когда дел было невпроворот.
Просвещать римскую Августу насчёт Богочеловека начал с того, что объяснил ей происхождение имён Иисус Христос, Сын Божий.
Сын Божий — Второе лицо Святой Троицы. Архангелом Гавриилом назван Иисусом, когда Тот родился на земле как человек: Иисус означает Спаситель, а назван Христом, когда ожидалось пришествие Его.
Христос — значит Помазанник. Так издревле называли царей и пророков. Иисус, Сын Божий. Помазанник потому, что Его человеческой природе безмерно сообщены все дары Духа Святого. Он — Господь, в том смысле, что есть Истинный Бог...
Почему, подходя к Иерусалиму, Иисус заплакал, когда весь народ радостно встречал Его как царя?.. Иисус, зная, что иудейский Иерусалим, который сегодня кричит Ему: «Осанна!» — завтра будет кричать: «Распни!» Иудеи не узнали в Нём Богочеловека...
Плакат Иисус, предвидя скорую гибель Иерусалима в наказание за то, что он ополчился на Господа и дошёл даже до Богоубиства...
И в Страстную седмицу, в понедельник, на утрене звучит лишь отдалённый, но твёрдый клик в ноши: «Сё Жених грядёт...»
И приходит Святой Великий вторник... В основе воспоминаний итого дня лежит евангельская притча о десяти девах, но предлагаются и два других символа: притча о талантах и пророчество о Страшном Суде.
Душа — неплодная смоковница, душа — злой виноградарь, душа-дева неразумная, душа — лукавый и ленивый раб, сокрушаясь и трепеща стоит перед своим Судьёй, созерцает свои дала и помышления.
Во вторник продолжается ветхозаветное чтение. Проходят перед глазами исторические события. Собирается совет книжников и фарисеев... Подвигают на предательство Иуду. Звучит грозное предсказание: «Через два дня Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие»...
На вечерне многострадальный Иов, оставленный людьми и Богом, изнемогающий под бременем горестей, прославляет Господа и сам прославляется Им...
А в Святую Великую среду кается грешная дева, возлившая миро на ноги Иисусовы, и укореняется злой замысел Иуды, хотящего предать своего Учителя и Господа. «Простёрла блудница руки к Тебе, Владыко, простёр и Иуда свои руки беззаконные», — одна, чтобы принять прощение, другой — серебреники... В читаемом затем пророчестве Иезекииля открывается весь смысл страстного пути Спасителя, в котором горечь страданий претворяется в неизречённую радость. Но для того, чтобы ощутить эту радость, «надо пройти с Ним и Крестный путь, сораспяться Ему, умереть с Ним и быть погребённым с Ним, чтобы с Ним и воскреснуть во славе».
В четверг Страстной седмицы — это тайная вечеря Иисуса Христа с учениками, умовение Им ног апостолам, молитва Спасителя в Гефсиманском саду и... «Подошёл один из Его двенадцати учеников — Иуда. Он приват с собой большую толпу, вооружённую мечами и дубинками. Этих людей послали священники и старейшины народа. Предатель условился с ними о знаке: «Хватайте того, которого я поцелую».
Подойдя сразу же к Иисусу, Иуда сказал:
— Учитель, приветствую Тебя! — и поцеловал Его.
Иисус ответил:
— Друг, делай лучше то, зачем пришёл.
Сразу подбежали люди и схватили Иисуса. Тогда один из бывших с Иисусом выхватил меч и, размахнувшись, отсёк слуге первосвященника ухо.
— Положи меч на место, — сказал Христос. — Кто поднимет меч, тот от меча и погибнет. Неужели ты думаешь, что Я не мог бы попросить Моего Отца прислать Мне более двенадцати легионов ангелов? Но как же тогда исполнится Писание, где говорится, что всё должно произойти именно так[115]?
Великая пятница — день скорби. В этот день Спаситель терпит нас ради «оплевания, биения, заушения, посмеяния, пригвождения ко Кресту, прободение копьём и смерть».
Склоняется к вечеру день, подходит к закату земная жизнь Богочеловека. На повечерии читается канон «Плач Богородицы» известный в народе как «Хождение Богородицы по мукам»... Из алтаря выносится Плащаница и поставляется на гробе посреди храма.
В ночь на субботу после троекратного каждения Плащаница обносится вокруг храма. Начинается переоблачение престола и одежд священнослужителей, всё преображается и ведёт нас к пасхальной радости.
После литургии совершается освящение пасох, кулича и яиц...
Мария Магдалина однажды пришла в Рим, её знали здесь раньше богатой и знатной и поэтому пропустили к императору Тиберию. Она подала ему яйцо и сказала: «Христос Воскресе!» Удивился император: «Как может кто-нибудь воскреснуть из мёртвых?! В это так же трудно поверить, как в то, что это белое яйцо может стать красным!» И вдруг яйцо стало менять свой цвет: потемнело, порозовело и, наконец, стало ярко-красным...
«Пасха красная, Пасха Господня, Пасха всечестная нам возсияй. Пасха, радостию друг друга обнимем».
Святая ночь. В храме потушены все свечи и лампады. В кувуклии — часовне, где находится Гроб Господень, стоит большая золотая лампада с елеем и незажжённым фитилём. У входа в часовню — стража.
Гонория вглядывается в их напряжённые лица. У неё также напряжена душа. Слегка дрожит рука с пучком негорящих свечей. Она оборачивается и видит византийскую императрицу... Та указывает глазами на алтарь, из которого выходит крестный ход и останавливается у дверей кувуклия.
Патриарх Иерусалимский разоблачается до подризника, его тщательно обыскивают, и он, сняв печати с дверей, заходит внутрь.
Все с незажжёнными свечами, затаив дыхание, ждут... И вот возле Гроба Господня появляется свет, и появляется Патриарх с ярко пылающими свечами... Люди передают друг другу огонь, сошедший с неба... Благодатным потоком разливается огненный свет по всему храму.
Люди обнимают друг друга, трижды целуются со словами: «Христос воскресе» — «Воистину воскресе».
«Смерть, где твоё жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос — и пали демоны. Воскрес Христос — и радуются ангелы. Христос и Жизнь пребывает...» — звучат слова святого Иоанна Златоуста.
Может быть, и не всё принимает разумом Гонория, но освящённая душа её трепещет и уносится вдаль... Потом возвращается снова.
А Евдокия после Пасхи вскоре объявила римской Августе, что она готова прочитать и вторую песнь своей поэмы, заключающую в себе исповедание Киприана.
Готовясь отречься от своих заблуждений, маг Киприан хочет публично открыть всё, чему он научился при помощи волшебных книг, поведать обо всём преступном, что он совершил при содействии демонов, и как, наконец, когда свет истины озарил его душу, он обратился и покаялся...
Киприан рассказывает, что в Афинах и Элевсине, на Олимпе, он поклонялся ложным богам; как в Аргосе и Фригии обучался искусству авгуров, а в Египте и Халдее — тайнам астрологии; как изучил «все эти преходящие формы, ложное обличив вечной мудрости»; как он питался этими древними и зловредными знаниями, рассеиваемыми демонами по лицу земли на погибель людей. Благодаря их проклятому искусству он дошёл до того, что мог вызывать самого князя лжи... «Его лик, — говорится в поэме, — горел, как цветок, чистым золотом, и отсвет этого огня сиял в блеске его глаз. На голове его была диадема, сверкающая драгоценными камнями. Великолепны были его одежды. И земля содрогалась при малейшем его движении. Теснясь вокруг его трона, стояли бесчисленные сонмы стражи, и он считал себя богом, льстясь, что может всё, как Бог, и не боясь борьбы с вечным владыкой». Отец лжи, этот павший бог, наваждением тьмы созидает всё, что может погубить и обмануть человека: «яркие города и золотые дворцы, манящие тенистые берега, полные дичи густолиственные леса, обманчивый образ отчего дома, что видится заблудившемуся путнику в ночи»...
Затем в песне снова говорится об искушении Юстины. На неё Киприан напускает демонов одного за другим, а также самого сатану, но всё бесполезно. Тогда маг прибегает к помощи призраков-обольстителей: то сам превращается в молодую женщину, то в прекрасную птицу со сладкозвучным голосом; самого Аглаиду он превращает в воробья, чтобы тот мог лететь к возлюбленной. Но под спокойным и чистым девичьим взглядом ложная птица камнем падает вниз...
Отчаявшись, Киприан насылает всевозможные беды на семью Юстины; чума свирепствует в её родном городе, но опять ничто не может поколебать твёрдость девушки.
И, бессильный перед этими неудачами, маг начинает сомневаться в себе самом; он поносит сатану, он хочет уничтожить договор с царём тьмы, написанный кровью, и он, как Юстина, делает знамение христианского креста.
Но сатана насмехается над своей жертвой, говоря: «Христос не вырвет тебя из моих рук, Христос не принимает того, кто раз последовал за мной».
Но сатана неправ. Искреннее раскаяние и муки, на которые обрекает себя Киприан в пустыне, обращают его в истинную веру, и Христос, сам претерпевший их, принимает под своё крыло бывшего грешника...
«Приключение Киприана Антиохийского — это же почти собственная история Евдокии... — В этом ещё раз уверилась Гонория, прослушав вторую песнь поэмы. — Отчасти и моя тоже...»
Третью песнь послушать из уст византийской императрицы римской Августе не удалось: наконец-то в Иерусалим прибыл гонец, посланный Феодосием, и объявил, что настала пора собираться в Константинополь. Но Евдокия ехать наотрез отказалась[116]; не захотели возвращаться туда и священник Север, и диакон Иоанн. Только Приск, забрав опечаленную Гонорию, на которую распространялся ещё и приказ её матери, которой стало ведомо пребывание дочери в Иерусалиме, вскоре выехал. Через какое-то время крытая повозка с секретарём византийского императора и римской Августой уже въезжала в южные ворота Антиохии Сирийской, где решено было сделать по пути в столицу Византии первую остановку для отдыха.
Но отдохнуть как следует не удалось.
Гонория заметила, что какие-то подозрительные личности, поддерживая левой рукой полы одежды, как будто что-то пряча, группами по нескольку человек собирались в людных местах: на базаре, на пристани, возле каменных солдатских казарм, вели какие-то речи и вмиг рассеивались при появлении конных кандидадов[117], вооружённых дротиками и акинаками.
К вечеру, как доложила Гонории служанка, которую подарила Евдокия вместо исчезавшей Джамны, из Александрии прибыла ещё большая толпа народу и высадилась на пристани Антиохии: эта толпа уже была посмелее... Она открыто задирала своего бывшего патриарха Кирилла, называя его убийцей и пособником сатаны.
— Два года назад этот красавчик[118] меня исповедовал. Потом открыл дверь исповедальни и говорит: «Заходи, милая, я пощупаю, нет ли у тебя на пупке грешной мозоли...» Я, дура, ничего не подозревая, зашла к нему. «Только щупать буду, — снова Кирилл говорит, — своим рогом...» Щупал, щупал рогом вокруг пупка, ниже полез да и влез между ног... Только я ощутила не один рог, а целых три...
— Как это три? — утирая выступившие от смеха слёзы, недоумевали слушающие.
— А вот так... Один его, а два сатаны...
Кто-то, оценивая фигуру дородной женщины с огромной высокой грудью и широкими, как мясная лавка, бёдрами, заключил:
— Дак в неё не то что три, а целых десять зараз влезет...
— Истинно, истинно! — завопил какой-то монашек, осеняя себя крестным знамением. — Кирилл с сатаной якшался, в ересь впадши; по стопам еретика Евтихия пошёл. Монофиситы... Тьфу! Мы их ещё осудим...
— Вы, Божьи люди, только собираетесь таких, как Кирилл, судить, а мы их сегодня судим, — заявил угрюмого вида мужик со шрамом во всё лицо. Из-под полы его одежды торчал на длинной рукоятке топор, похожий на топор франкского воина.
Изучая историю раннего христианства, нельзя не заметить, что его последователи, несмотря на то, что многие из них обладали светлым умом, легко впадали в разную ересь. Казалось бы, Кирилл Александрийский и его сторонники, стоящие поначалу на путях истинного православия, так до конца и будут возвышаться столпами над несторианами или другими еретиками. Ан нет, они как-то быстро уклонились в сторону так называемого монофиситства (от греческого «миа фасис» — одна природа), основателем которого считался константинопольский архимандрит Евтихий, который учил, что Христу присуща одна природа — божественная, и что Иисус «неединосущный нам» и поэтому чужд человечеству...
Гонория совсем редко стала видеть Ириска, который часто пропадал в сенате, и римская Августа думала, что он бывает гам неспроста, и пребывание его, конечно, связано с волнениями в городе... А толпы народа с криком: «Иоанн Вандал!» уже начали грабить купеческие и рыбные на пристани лавки, добывая себе пропитание.
— Иоанн Вандал... А это кто такой? — спросила Гонория Ириска, который с утра не пошёл в сенат.
— Возлюбленный философессы и математика Александрийской академии Ипатии, зверски убиенной по приказу Кирилла, — ответил Приск. — Иоанн Ванда! поднял народ, призывая на борьбу с патриархом. Но Кирилл умер, и требования Иоанна стали жёстче — уже против всех угнетателей, так как к восстанию примкнули обедневшие крестьяне и ремесленники, задавленные непомерными налогами... Уже раздаются призывы идти на Константинополь. Я послал гонца с письмом к Феодосию, изложив ему обо всём происходящем. Пусть принимает меры, а мы завтра выезжаем... Позже, когда начнётся резня и всё займётся пожарами, труднее будет добраться до столицы.
«Приск — чиновник императора и останется таким... Если вода долго омывает камень, то делает его гладким, так и человека обкатывают жизненные обстоятельства... — подумала Гонория. — Но у Приска есть сердце и чувство сострадания... Если будет надо, то я воспользуюсь его услугами...»
Римская Августа была уверена, что в столице Византии Пульхерия уготовила ей тюрьму; в лучшем случае — монастырскую келью... И позже, глядя в незадёрнутое занавесью окно повозки, под цокот лошадиных копыт Гонория старалась найти ответ на вопрос: сумеет ли она, когда окажется далеко от императорского двора в ссылке, наладить связь с миром, чтобы облегчить свою участь?..
По принятию гонца от Приска Феодосий распорядился собраться в тронном зале приближённым, где и зачитал письмо своего секретаря.
— Всегда говорил, что зло рано или поздно проистечёт от Кирилла и Евтихия, воинствующих в своей ереси, — произнёс константинопольский патриарх Флавиан, недавно сменивший Прокла; ему тоненьким голоском подпел теолог Евсевий.
Флавиан и Евсевий были ярыми врагами монофиситов, ненавидели «бунтовщиков в христианстве» Кирилла и Евтихия.
Евнух Хрисанфий тоже не упустил случая осудить «деяния» монофиситов, но своё острое жало он направил в одного Кирилла.
— Враг Христа, он же был и врагом своих прихожан. Он польщался не только на замужних женщин и вдов, но и покушался даже на девственниц...
Евнухом возводилась явная клевета на скончавшегося два года назад патриарха Александрийского, но в обстановке разворачиваемых чрезвычайных событий в империи и клевета легко сошла за правду ещё и потому, что Афинаида-Евдокия привечала в своё время Кирилла.
Флавиан и Евтихий благодарно посмотрели в сторону Хрисанфия, а тот остался доволен тем, что приобрёл в лице двух влиятельных особ в государстве ещё себе сторонников.
Сообща решили послать навстречу Иоанну Вандалу войска под предводительством полководцев Ардавурия и Арсеса. Бунтовщики были вскоре разбиты, а самого Иоанна Вандала захватили в плен и доставили во дворец. Мятежника ожидала смертная казнь. Но, узнав причину его бунта, вызванного страшной расправой сторонников Кирилла над бедной Ипатией, император задумал сохранить Вандалу жизнь, но Хрисанфий подстроил убийство пленника прямо во дворце. Зачем он это сделал?.. И когда Хрисанфий в 450 году был сослан по обвинению в симпатиях к Флавиану и его взглядам, осуждённым Ефесским собором 449 года, и евнуху задали этот же вопрос, он промолчал. Не мог же Хрисанфий ответить, что хотел показать, будто в то время его власть была выше власти императора...
VI
На острове Лемнос, что находится напротив Геллеспонта, ещё при Константине Великом в честь Воздвижения Креста Господня, найденного в Иерусалиме его матерью Еленой, был построен женский монастырь, куда и отвезли по приказанию Пульхерии римскую Августу.
Остров располагался в Эгейском море, которое македонские славяне издревле именовали Белым, но с тех пор, как ромеи захватили Иллирик и Фракию, а также все острова в этом море, Белым его можно было назвать не иначе, как рискуя жизнью... Но когда часть иллирийцев, фракийцев и македонян приняли участие в походах Аттилы на Константинополь, море Эгейское в их устах открыто стало носить своё первоначальное имя, чем славяне очень гордились.
Они принимали участие в походах великого гунна на ненавистную им Восточную империю дважды: в 441 году и 443-м. Правда, в результате побед славянам доставались крохи, так как всё золото и драгоценности шли в казну повелителя, даже сами гунны жаловались, что им как победителям тоже перепадает малая толика завоёванного.
Но эти разговоры длились до тех пор, пока воины из дворцовой стражи не расстреляли из луков нескольких недовольных своих соплеменников, применив железные свистящие стрелы...
Но этими же придуманными некогда шаньюем Модэ стрелами Аттила перед строем награждал особо отличившихся в боях воинов, и каждый гордился числом железных свистящих стрел, находящихся в ею колчане, как римлянин или византиец гордился победным лавровым венком.
Последний поход на Константинополь Аттила предпринял, когда возглавил объединённое после гибели Бледы двухсоттысячное войско, в котором помимо прочего находились повозки и кибитки жён, стариков и детей. По мере продвижения к Византии в это смешанное войско вливались толпы угнетённых ромеями народов, так что, когда войско остановилось в окрестностях Аркадиополя, одолев его штурмом, то оно насчитывало уже больше трёхсот тысяч отборнейших воинов.
В императорском дворце заметались, понимая, что гуннами будет взята столица, если Аттила продолжит своё победное шествие. Только откуп снова может спасти ромеев. Феодосий шлёт гонца за гонцом с уверением покорности и дачи ежегодной дани, но слышит в ответ грозный рык степного повелителя:
— Не верю!
Аттила знал, что императорская казна расстроена из-за внутренних междуусобиц: ценой больших финансовых и военных потерь подавили восстание Иоанна Вандала, а до этого усмиряли димов...
К 445 году цирковые партии народа — димы — из спортивных становятся политическими. И к этому же году относится самое раннее известие о кровопролитиях, учинённых враждующими группировками димов в столице Византии.
Никаких объяснений Аттила и слышать не хотел: ему нужны четыре тысячи золотых либров, по две тысячи ежегодной дани, которую не платила ему два года Восточная империя. Конные передовые отряды гуннов уже рыщут в окрестностях Константинополя, поднимая на копьё всех без разбору — стариков, женщин, детей, священнослужителей, монахов и принося их в жертву своему кровожадному богу Пуру. Дым от жертвенных костров проникает в узорчатые, сложенные из мозаик окна дворца, забивает лёгкие царедворцев.
А по стране скачут сборщики, посланные василевсом, выбивая плетью налоги не только за год предыдущий, но и за тот, который ещё не наступил.
Наконец четыре тысячи собраны, и Феодосий отправляет их Аттиле, униженно прося принять их и отойти в свои земли... Тот взял золотые и отошёл, хвастливо заявив, что земли его — весь мир...
«Не такой уж Бич Божий бессердечный человек, — думает император. — Недаром он возит с собой «святого епископа»... Аттила имеет сердце, и значит, он смертен... И надо бы его отравить... Ибо Аттила не только Бич Божий, он — страшная чума!»
Только с этой задумкой вышла конфузия... Тогда это слово находилось в частом употреблении: от латинского confusio — замешательство, смущение.
Что же произошло?
Обратимся к Приску, оставившему нам несколько исторических отрывков, используемых в основном писателем Иорданом. Полностью, к сожалению, история, написанная Приском, не дошла до нас; также не дошли до нас и его заметки о поездке в Иерусалим. Как и Иордан, будем излагать отрывки Приска своим словами, закавычивая лишь те места, рассказывающие о событиях, о которых лучше, чем он сам, не скажешь...
В 448 году Аттила, требуя ещё выдачи всех его перебежчиков и устроения торжищ на византийской земле на равных правах и без всякого опасения для гуннов, отправил в Константинополь своего посла Эдикона, скифа. Аттила послал с ним хартию, в которой снова грозил войной, если император не выполнит всех его требований. Задумав извести правителя гуннов, Феодосий и Пульхерия приказали Хрисанфию найти «ключик», с помощью которого можно было бы подкупить Эдикона, справедливо полагая, что это сделать нетрудно, потому что Эдикон — не гунн, а скиф — представитель побеждённого Аттилой народа. Эдикон согласился.
Договорились так: как только скиф отравит или убьёт повелителя, тогда и получит золото. Много золота.
Заверив, что все требования Аттилы будут выполнены, император отправил из Константинополя своего посла грека Вигилу, держащего в руках все нити заговора, и ни о чём не подозревавшего фракийца Приска.
Прибыв к берегам Истра, греческое посольство через несколько дней встретилось с Аттилой, развлекавшимся в эти дни охотой. Повелитель гуннов уже знал о заговоре на его жизнь; Эдикон по приезде из Византии сразу же доложил ему об этом и о той хитрости, на какую он пошёл, согласившись якобы осуществить заговор...
— Убить меня хочешь? — зло вращая глазами, спросил темнолицый Аттила, покручивая волосы редкой бороды.
— Повелитель, я согласился, но это не значит... — начал оправдываться Эдикон.
— Знаю... — перебил его Аттила. — Я пошутил...
«Ничего себе шуточки! А меня холодный пот прошиб...» — подумал скиф.
— Сделаем так. Ты скажешь Вигиле, что убьёшь меня в том случае, сети он привезёт тебе обещанное золото. Будет золото — станет мёртвым Аттила, не будет золота — ты меня и пальцем не тронешь...
«Какой-то жуткий разговор получается... — отметил про себя Эдикон. — Но надо терпеть до конца...»
— Понял меня? — строго спросил повелитель.
— Понял, величайший.
Эдикон тайно встретился с Вигилой и сказал ему так, как велел Аттила.
— Хорошо, я доложу обо всём императору, — пообещал ромей. На другой день Аттила уже официально принял греческое посольство.
«Мы вошли, — описывает этот приём Приск, — в шатёр Аттилы, охраняемый многочисленной стражей. Аттила сидел на деревянной скамье. Мы стали несколько поодаль, а посол, подойдя, приветствовал его. Он вручил ему царскую грамоту и сказал, что император желает здоровья ему и всем его домашним. Аттила отвечал:
— Пусть и грекам будет то, чего они желают мне...
Затем Аттила обратил вдруг свою речь к Вигиле, не покалывая, однако, вида, что ему что-либо известно о заговоре; он назвал его бесстыдным животным за то, что тот решился приехать к нему, пока не выданы все гуннские перебежчики. Вигила отвечал, что у них ни одного беглого из гуннского народа, все выданы. Аттила утверждал, что он византийцам не верит, что за наглость слов Вигилы он посадил бы его на кол и отдал бы на съедение птицам и не делает этого только потому, что уважает права посольства».
После приёма Вигила с гунном Ислоем, которою послал Аттила, отправился к императору в Византию будто бы собирать беглых, а на самом деле за тем золотом, которое было обещано Эдикону.
Приск и другие члены греческого посольства выехали следом за Аттилой в селение, расположенное дальше к северу.
«Наконец, переехав через некоторые реки, — продолжает Приск, — мы прибыли в одно огромное селение, в котором был дворец Аттилы. Этот дворец, уверяли нас, был великолепнее всех дворцов, какие имел Аттила в других местах: он был построен из брёвен и досок, искусно вытесанных, и обнесён деревянной оградой, более служащей к украшению, нежели к защите. Недалеко от ограды стояла большая баня...»
На рассвете следующего дня Приск с дарами отправился к сармату Огинисию, влиятельному человеку в окружении Аттилы. Ожидая у ворот Огинисиева дома, пока тот примет его, Приск увидел, судя по одежде, с головою, остриженной в кружок, гунна, который подошёл к нему, приветствуя Приска на греческом языке.
Приск очень удивился, зная, что гунны почти не говорят по-гречески, а этот был по виду знатным человеком. Приск спросил его, кто он такой.
— Я, как и ты, ромей.
Изумлённый Приск узнал, что до того, как попасть в плен к гуннам, этот ромей жил богато в одном византийском городе на Истре; при разделе пленных он попал к Огинисию, потому что богатые люди и их имущество после Аттилы доставались на долю его вельможам.
— После я много раз отличался в сражениях против своих, — признался грек, — и, отдавая своему господину, по гуннскому закону, добытое мной на войне, получил свободу... Женился на гуннской женщине, прижил детей и теперь благоденствую. Огинисий сажает меня за свой стол, и я предпочитаю настоящую свою жизнь прежней, ибо иноземцы, находящиеся у гуннов, после войн ведут жизнь спокойную и беззаботную; каждый пользуется тем, что у него есть, и никем не тревожится...
Далее перебежчик стал расхваливать порядки Аттилы и поносить римско-константинопольские, обвиняя императоров и придворных в жадности, лени, жестокости, небрежении интересами государства, взимании высоких налогов. Приску ничего не оставалось делать, как привести в оправдание разумные законы и славные деяния предков.
— Да, — согласился его оппонент, — законы хороши и оба римских государства прекрасно устроены, но начальники вредят им, ибо не похожи на древних.
Таким образом своим рассказом грек подтвердил, что гунны вовсе не были такими уж жестокими и кровожадными чудовищами, как их описывают готы, сделал вывод Приск.
После вручения даров Огинисию, Приск с другими послами был приглашён к обеденному столу Аттилы.
«В назначенное время пришли мы и стали на пороге жилища Аттилы. Виночерпцы, по обычаю страны своей, подали чашу, дабы и мы поклонились хозяину прежде, чем сесть. Вкусив стоя из чаши и, сделав поклон, мы пошли к седалищам, на которые надлежало нам сесть и пообедать.
Скамьи стояли у стен по обе стороны. В самой середине сидел Аттила. Первым местом для обедающих почитается правая сторона от Аттилы; вторым — левая, на которую и посадили нас.
Когда все расселись по порядку, виночерпец подошёл к Аттиле и поднёс ему чашу с вином. Аттила ваял её и приветствовал того, кто был в первом ряду. Тот, кому была оказана честь приветствия, вставал; ему было позволено сесть не прежде, чем Аттила смог отведать вина. По оказании такой же почести второму гостю и следующим за ним гостям, Аттила приветствовал и нас, наравне с другими, по порядку сидения на скамьях. После того, как всем была оказана честь такого приветствия, виночерпцы вышли. Подле стола Аттилы поставили столы на трёх, четырёх или более гостей, так, чтобы каждый мог брать из положенного на блюде кушанья, не выходя из ряда седалищ. Затем вошёл служитель Аттилы, неся блюдо, наполненное мясом. За ним прислуживающие другим гостям ставили на столы кушанья и хлеб. Для других гуннов и для нас были приготовлены яства, подаваемые на серебряных блюдах, а перед Аттилою ничего больше не было, кроме мяса на деревянном подносе. И во всём прочем он показывал умеренность. Пирующим подносимы были чарки золотые и серебряные, а его чаша была деревянной. Одежда на нём была также простая и ничем не отличалась, кроме опрятности. Ни висящий при нём меч, ни застёжки на обуви, ни узда на его лошади не были украшены золотом, каменьями или чем-либо драгоценным, как водилось у других гуннов».
«После того как наложенные на первых блюдах кушанья были съедены, мы все встали, и всякий из нас не ранее пришёл к своей скамье, как выпив прежним порядком поднесённую ему полную чашу вина и пожелав Аттиле здравия. Изъявив ему таким образом почтение, мы сели, а на каждый стол было поставлено второе блюдо с другими кушаньями. Все брали с блюда, вставали по-прежнему, потом, выпив вино, садились».
«С наступлением вечера зажжены были факелы. Два гунна, выступив против Аттилы, пели песни, в которых превозносились его победы и оказанная в боях доблесть.
Собеседники смотрели на них: одни тешились, восхищались песнями и стихами, другие воспламенялись, вспоминая о битвах, а которые от старости телом были слабы, а духом спокойны, проливали слёзы.
После песен и стихов какой-то юродивый выступил вперёд, говорил странные, вздорные, не имеющие смысла речи и рассмешил всех.
За ним предстал собранию горбун Зеркон Маврусий. Видом своим, одеждою, голосом и смешно произносимыми словами, ибо он смешивал языки латинский с готским и гуннским, он развеселил присутствующих и во всех них, кроме Аттилы, возбудил неугасимый смех. Один Аттила оставайся неизменным и непреклонным и не обнаруживал никакого расположения к смеху».
На другой день Огинисий сказал ромеям, что Аттила хочет их отпустить. Потом правитель держал совет с своими сановниками и сочинял письма, которые надлежало отправить в Византию.
«Между тем, — продолжает Приск, — супруга Аттилы Крека пригласила нас к обеду у Адамия, управляющего её делами. Мы пришли к нему вместе с некоторыми знатны ми гуннами, удостоены были благосклонного и приветливого приёма. После обеда мы пошли в свой шатёр и легли спать.
На другой день Аттила опять пригласил нас на пир. Мы пришли к нему и пировали по-прежнему. Во время пиршества Аттила обращал к нам ласковые слова. Мы вышли из пиршества ночью. Во время этих пиров наравне с вином подавали мёд и особый напиток — кам».
По прошествии трёх дней послы были отпущены с приличными дарами и на возвратном пути встретились с Вигилой, который вёз теперь золото для передачи Эдикону. Как после стало известно Приску, Аттила заставил Вигилу рассказать, как они хотели убить его, и отобрал у посла всё золото. Вигила находился в ударе от того, что заговор раскрыли.
Затем Аттила послал в Византию снова своего посла Ислоя и преданного Ореста, «домочадца и писца», как его называл сам повелитель.
«Оресту приказано было навесить себе на шею мошну, в которой Вигила привёз золото, в таком виде предстать перед царём, показать мошну ему и евнуху Хрисанфию, первому заводчику заговора, и спросить их: узнают ли они мошну? Послу Ислою велено было сказать царю изустно: «Ты, Феодосий, рождён от благородного родителя, и я сам, Аттила, хорошего происхождения и, наследовав отцу моему, сохранил благородство во всей чистоте. А ты, Феодосий, напротив того, лишившись благородства, поработился Аттиле тем, что обязался платить ему дань. И так ты нехорошо делаешь, что тайными кознями, подобно дурному рабу, посягаешь на того, кто лучше тебя, кого судьба сделала твоим господином.
Таков был Аттила, повелитель грозных гуннов».
А Феодосию сделалось не по себе, когда он увидел, что заговор против Аттилы раскрыт, и гуннских послов за дерзостные речи никак не накажешь, ибо за это кровью платить придётся. А чтобы выручить Вигилу, снова ту мошну наполнили золотом. С ним и отбыли к своему правителю Ислой и Орест.
* * *
Только что закончилась заутреня.
Инокини расходилось по своим кельям, незаметно от настоятельницы потирая колени, на которых подолгу стояли на каменном неровном полу молельни.
До начала работ на монастырском дворе оставалось время, и Гонория свернула за притвор церкви Воздвижения Креста Господня. Оказавшись с западной стороны храма, пошла по узкой, выложенной булыжниками дорожке наверх. Вскоре Гонория достигла ровной площадки, выбитой в скале, и остановилась.
Отсюда хорошо были видны каменные стены монастыря, тянувшиеся понизу до самого уреза морской воды; с запада и востока они поднимались кверху и замыкали над головой эти стороны.
Колокольня стояла отдельно от церкви, как раз у верхней стены и, чтобы рассмотреть большой колокол, нужно поднять глаза, а опустив их, увидишь изумрудные волны у самого берега; дальше, где маячат рыбацкие учаны, волны приобретают голубой цвет, но на горизонте делаются совершенно белыми; вот почему прибрежные жители-славяне зовут Эгейское море Белым.
Там, по белым водам, ходят, как правило, большие корабли; и Гонория заметила, что их бывает особенно много, когда на империю накатывается очередной вал гуннов; тогда знатные вельможи с семьями, чтобы избежать смерти, садятся на свои корабли, и те дрейфуют на горизонте, не опасаясь гуннов, потому что гунны флота не имеют.
Но зато этими моментами пользуются пираты, зная, что на кораблях знатных вельмож имеется захваченное из дому золотишко. Да уж лучше попасться в руки пиратов...
Гонория смотрит сейчас в морскую даль, прислушиваясь к звону в один колокол, отгоняющему нечистую силу, а так как с моря шла на остров чёрная туча, то благовест производится, чтобы «сокрушить молнии»...
«Если бы он также сокрушал все невзгоды и напасти, кои случаются с человеком... И сколько я ни вслушиваюсь в эти звоны, сколько ни молюсь, счастья мне это не приносит. За что, за какие грехи ты, Предвечный, меня наказуешь?!»— взывает к Вездесущему Гонория.
Хотя уж который год она молится в монастыре Христу Спасителю, но в молитвах по старой арианской привычке обращается к Единому Мироздателю.
Вот и снова произошла с римской Августой беда — Гонория решила на молитву надеть на палец кольцо с драгоценным камнем (почему такая блажь пришла ей в голову, и сама не объяснит; может быть, в память о возлюбленном Евгении, так как он подарил при расставании в Анконе это кольцо). И ведь знала, что инокиням не положено носить никаких украшений.
Настоятельница, завидев кольцо, вывела молча Гонорию за руку из молельни и также молча начала сдёргивать кольцо, но оно не поддавалось, а настоятельница, всё больше стервенея и багровея лицом, хватала Гонорию уже не за палец и руку, а за шею, словно хотела задушить Августу.
Пробившись из низов в игуменьи, она ненавидела богатых вельмож и патрициев и, когда получила полную власть от Пульхерии над бедной римской царевной, дала волю своим низменным чувствам. Игуменья старалась изводить Гонорию по случаю каждого её промаха; Августа, распознав душу этой скверной девственницы, научилась потом делать всё без сучка и задоринки, чтобы не было со стороны настоятельницы никаких придирок.
И вот этот случай с кольцом... Гонория кое-как вырвалась и спряталась в келье. А чтобы кольцо не отобрали, Августа под висевшим на стене большим распятием выдолбила ямку и положила в неё кольцо, а ямку тщательно замазала глиной.
Через некоторое время в келью ворвались служанки, среди которых была и служанка Гонории, подаренная ей в Иерусалиме Евдокией вместо исчезнувшей Джамны и отобранная настоятельницей. Они перевернули ложе, заглянули в ночной горшок, перерыли одежду, обыскали Гонорию. Её служанка, глядя на бывшую госпожу, чуть не плакала; Августа видела на её глазах слёзы и жалела её...
Не найдя, служанки удалились. А вскоре нагрянула сама игуменья.
— Где кольцо?! — взревела она низким голосом.
— Я его выбросила в море, — твёрдо заявила Гонория.
— Врёшь, негодница! Но смотри у меня... — И настоятельница, громко хлопнув дверью, выскочила, словно ужаленная, в монастырский двор.
Туча всё-таки прошла остров стороной. Но колокол не утих, наоборот, зачастил, и ему тут же ответили другие; трезвон далеко и грустно, тревожа души, разнёсся над морским простором и палубой корабля, причалившего к берегу.
Этот трезвон был вызван печальным сообщением с корабля о смерти Феодосия II.
Потом Гонория увидела, как с палубы сошёл человек, и она узнала в нём Приска. Августа, подобрав полы чёрной длинной монашеской одежды, быстро стала спускаться вниз. С ходу налетела на входившего в монастырские ворота бывшего секретаря императора и повисла у него на шее.
— Юста Грата Гонория, теперь ты свободна! — объявил Приск, радостно пожимая ладонями её руки.
Он отнял Августу от себя и узрел, как из глаз её неудержимым потоком полились слёзы.
Приск подал настоятельнице письмо, в котором говорилось, что отныне Гонория будет снова жить во дворце. Со смертью брата Пульхерия решила сделать двоюродной сестре послабление, чтобы показать, что не она, а якобы Феодосий был причиной гонений римской Августы. Хитрая бестия!.. И когда Гонория прощалась с инокинями, то и настоятельница была подчёркнуто вежлива. А Августе хотелось изругать её и избить, но, сдерживая себя, подумала:
«Ведь она такая же подневольная, как и служанки... Да, надо свою-то забрать. Не оставлять же её в монастыре!»
— Приведите мою служанку, — повелительным голосом сказала Гонория, и все поняли, что годы, проведённые в монастыре, не сломили её воли и не истребили её властности.
Привели служанку, и она предстала перед госпожой не такой замарашкой, какой видела её Гонория в последний раз, а в новенькой одежде и чистом белом переднике.
Феодосий всегда относился к Гонории (и это она хорошо знала) благосклонно, и поэтому, взойдя на борт корабля, спросила Приска:
— А отчего умер василевс?
— На охоте упал с коня, а на следующий день, 27 июля, скончался от полученного ушиба.
— Жалко мне его... Феодосий был куда милосерднее своей родной сестры... — Гонория показала Приску кольцо, которое она забрала из хранилища под медным распятием в келье. — Самое последнее моё унижение я претерпела из-за этого кольца, когда надела его, идя на молитву... Игуменья чуть не оторвала его вместе с пальцем... А ведь она действовала во всём по указке Пульхерии, хотя последняя это старается скрыть... Но, слава Богу, всё позади... — Августа перекрестилась на удаляющиеся золотые купола монастырской церкви.
Гонория наивно думала, что «всё позади»): во дворце её поместили в гинекей в одну из комнат с двумя колоннами, ночным ложем и медной скамьёй: два окна, выходящие в узкий переход, ведущий во внутренний двор, не открывались и были выложены цветной мозаикой, через которую ничего нельзя увидеть, — та же монастырская келья, да ещё у входа стояли два стража, коим приказано пускать к римской Августе определённых лиц.
Находясь среди стен, расписанных на сюжеты из Библии, скучая и злясь, Гонория часто вспоминала Евдокию. Где она? Что поделывает? Знает ли, что умер её муж?..
Иногда мысли уносились в равеннский дворец. Плацидия... «Ведь она моя мать... Сколько времени будет ещё мучить меня?.. Ладно, Плацидия — развратная из развратнейших женщин, а Пульхерия?.. Эта жадная до власти девственница, пожалуй что, грешнее своей римской тётки: Пульхерия каждый день отдаёт приказы о смертной казни, она так задавила налогами всех в империи, что даже у людей некогда блистательного состояния побоями вымогают золото. Так рассказывал Приск; и люди, издавна богатые, дошли до того, что выставляют на продажу уборы жён и свои пожитки. Многие уморили себя голодом или прекратили свою жизнь, надев петлю на шею... А уж о бедных крестьянах или горожанах и говорить ничего: они бросают землю, дома и либо разбойничают, либо, покинув пределы державы, вливаются в ряды гуннов».
Приск также рассказал Гонории о том, как он с посольством посетил становище Аттилы и описал портрет и привычки гуннского правителя. Из этого рассказа Августа уяснила одно: Бич Божий совсем не таков, как изображают его готы, он не кровожадный зверь, но рисуют таким, потому что боятся... Боятся не только в империи ромеев, но и в Риме. Поговаривают, и об этом Гонории тоже сообщил Приск, что Аттила уже вострит копи на запад, и скоро можно ожидать появления несметного гуннского войска даже на Апеннинах...
И тут пришедшая в голову римской Августе мысль будто молнией обожгла... «Я предложу Аттиле себя в супруги... Через Приска передам ему кольцо и письмо, в котором сообщу гуннскому правителю, что в приданое потребовала от брата Валентиниана и Галлы Плацидии часть Римской империи, потому что я имею право, как Августа претендовать на неё...»
Гонория внимательно посмотрела на Приска: согласится ли он передать кольцо и письмо?.. Знала, чем это грозит бывшему секретарю императора. В лучшем случае — невозвращением в Константинополь.
— Приск, помоги мне... — взмолилась царевна, когда он в очередной раз зашёл к ней.
— В чём же будет заключаться моя помощь, несравненная Августа? Ты же знаешь, что я для тебя сделаю всё, о чём ни попросишь...
И Гонория поведала ему о своём решении; поначалу Приск не мог выговорить ни слова, потом до него постепенно стал доходить зловещий смысл этого решения, но по всему было видно, что Августу уже не переубедишь. Она лучше умрёт, но не станет больше находиться в том неестественном для царевны положении, в котором она и так уже пребывает больше десяти лет... Чаша терпения переполнилась, и Гонория будет стоять на своём до конца.
— Я выбрала свою судьбу! — заключила она свою просьбу.
Приск хорошо её понимал, ибо давно являлся свидетелем её унижения.
— Бери стило и пиши: первое письмо — Аттиле, второе брату и матери... Эти письма и кольцо я согласен передать по назначению, — твёрдо заявил Приск.
Он тоже выбрал свою судьбу...
Гонория склонилась над столом; по тому, как вздрагивали её плечи, Приск видел, что каждая строчка даётся ей с великим трудом.
Обращаясь к Аттиле, она подробно описала о всех своих мучениях, которые претерпела по вине матери и брата, боявшихся, чтобы она, не дай Бог, вышла замуж... Теперь же она хочет иметь супруга, который сеет по земле смерть не ради пролития крови, а ради взращивания на ней ростков справедливости, ибо земля эта погрязла в разврате богатых и несчастьях бедных... Желая быть женой Аттилы, Гонория ищет у великого поборника правды защиты от жестокости злых людей и просит у него вызволения её из плена...
А в другом письме Августа в категорической форме потребовала от брата и матери северную часть Италии вместе с Равенной.
Она закончила писать, в изнеможении откинулась — перед нею вдруг открылись все беды, которые обрушатся на её народ в связи с гуннским нашествием... Но «Рубикон перейдён», и дальше возврата нет!
Потом Приск молча взял кольцо и два письма, поклонился Августе и вышел: одно письмо он сразу передаст Аттиле и, если тот согласится взять в супруги Гонорию и примет кольцо, то второе письмо Приск уже направит Валентиниану III и Галле Плацидии не только от имени Гонории, но и грозного Аттилы, требующих в приданое ту часть Римской империи, которая им положена...
ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ
КАТАЛАУНСКИЕ ПОЛЯ
I

В тюменях Эдикона и Ислоя, вернувшихся из становища Бледы с его огрублённой головой, сразу же произошли возвышения начальников: те, кто были десятниками, стали сотниками, а каждый сотник получил под командование тысячу.
Простые воины, отличившиеся выносливостью в этом походе (сражений-то не случилось!), были награждены железной свистящей стрелой.
Десятник Юйби и молодой воин Хэсу, которые вручили Аттиле голову Валадамарки, также продвинулись по службе — Юйби получил под своё начало сотню воинов, а Хэсу — десять. Теперь они могли включить в свой гарем ещё по две жены.
Эдикона, как и Ислоя, Аттила поставил командовать тремя тюменями; и их воины вошли в число одиннадцати колец, расположенных вокруг юрты повелителя. Доступ к Аттиле намного затруднился, но не настолько, чтобы гонец с копьём, на котором развевалась красная лента, говорящая о срочном донесении, не был бы немедленно принят.
Чтобы не обижать своего любимца сармата Огинисия, хотя и не участвовавшего в низложении Бледы, правитель за былые военные заслуги придал ему в подчинение ещё два тюменя.
Таким образом, в одной сотне тысяч войска, главной силы повелителя, шестью тюменями командовали двое и один — четырьмя. Эту сотню тысяч возглавлял убелённый сединами старейшина Гилюй. Была у Аттилы и другая сотня тысяч, которая подчинялась старейшине Шуньди. А ста тысячами, ранее стоявшими на берегах Прута, управлял старейшина Увэй. Теперь он перекочевал в Дунайскую долину вместе со всем своим хозяйством — со стадами, табунами лошадей, семьями, рабами и пленными. И все увидели, как сделалось тесно...
Ещё и поэтому Аттила послал Увэя в 449 году, за год до смерти императора Феодосия, в сторону Константинополя... Сам же Аттила, имея теперь трёхсоттысячное войско, мог диктовать свои условия не только Восточной империи, но и Западной, да и вестготам тоже, находившимся, казалось, далеко — в Галлии.
Ещё до получения письма и кольца от Гонории, Аттила начинает сеять раздор между Теодорихом и императрицей Плацидией, простившей королю вестготов разгром Литория и заключившей союз. Вспомнил Аттила и о Гензерихе, короле вандалов, воевавшем против римлян, сидящем, как и прежде, в Карфагене и опасавшемся, как бы Теодорих не начал ему мстить за оскорбление дочери.
Гуннский правитель задабривает Гензериха подарками и просит поддержать его в войне с Теодорихом, а Теодориху пишет письмо, в котором напоминает о борьбе против него, римлян и увещевает отойти от союза с ними.
Вот она суть характера Аттилы, человека весьма хитроумного, — прежде чем затеять войну, он борется искусным притворством...
Далее события развивались так: в один из дней 450 года Приск привёз письмо Гонории и её кольцо, и тогда Аттила собрал своих приближённых и поставил перед ними следующие вопросы:
— Если я возьму в супруги сестру императора Валентиниана, за которого до сих пор империей правит его мать Галла Плацидия, значит, мы должны будем в открытую сразиться с Римом, так как они мне Гонорию не отдадут... Готовы ли мы к этому?.. Брать ли мне в жёны такую невесту?
— Брать! Готовы! — прокричали на совете более молодые.
Старшие Гилюй и Огинисий рассудили примерно одинаково:
— После походов на Восточную империю мы заставили её платить дань, и поэтому закономерным станет наш следующий шаг — заставить платить дань и Западную... Мы же не можем всё время сидеть на Дунайской равнине, ибо наша жизнь — это движение вперёд...
— Хорошо сказано! — воскликнул Аттила, и у него заблестели глаза. — Я напишу тогда письмо новому василевсу империи ромеев Маркиану, где потребую выдать мне Юсту Грату Гонорию, которая уже давно томится под присмотром его жены Пульхерии. А потом пошлю гонца в Равенну.
* * *
Оставшись один, бывший константинопольский сенатор Маркиан огляделся по сторонам и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, приподнял полы порфиры и полюбовался пурпурными башмаками-кампагиями. «Боже, неужели на самом деле я — василевс, император?! Неужели судьба вознесла меня так высоко, что выше того на земле не бывает... Да, теперь Пульхерия довольна, что трон мы всё же удержали в своих руках после смерти её брата, не оставившего после себя наследника... Она пошла даже на то, чтобы стать моей женой... Но какая она мне жена?! Предложила себя в супруги и, смешно сказать, взяла с меня слово, чтобы я отнёсся к обету её девственности с уважением... Я согласился, императорский трон стоит холодной постели. Хотя, слава Господи, Пульхерия разрешила мне спать со всеми, с кем захочу... И то ладно!»
Высокий, с лицом, отмеченным суровой красотой, с хорошо развитыми плечами, тонкий в талии, с руками, на которых играли мускулы, Маркиан[119] и сейчас мог сразиться с любым по силе противником: когда-то он начинал свою карьеру простым воином, отличившись в боях с персами. Его награждал лавровым венком полководец Ардавурий, дружил и дружит по сей день Маркиан с его сыном Аспаром.
Знаком был новый император и с Гензерихом — находился у него в плену; король вандалов, наслышанный о подвигах Маркиана, без всякого выкупа отпустил его на свободу.
Вернувшись в Константинополь, Маркиан долгое время возглавлял дворцовую стражу, потом его избрали в сенат. И когда умер Феодосий и надо было возвести на трон неглупого, опытного и решительного человека, Пульхерия при поддержке Ардавурия и Аспара выбрала Маркиана. Став императором (короновали его 25 августа 450 года), Флавий Маркиан первым делом выпустил указ о сложении недоимок каше за десять лет, возвратил всех сосланных при Феодосии II, кроме Афннаиды-Евдокии, которую ненавидела Пульхерия, и приказал умертвить арестованного ненавистного Хрисанфия, чем сразу расположил к себе многих.
Человек сурового нрава, Маркиан и раньше с неудовольствием наблюдал порядки константинопольского двора и кое-что попытался исправить, например, запретил продажу должностей. Интриганам и бездельникам при Маркиане сделалось несладко, и многие из них покинули дворец.
Полюбовавшись башмаками, Маркиан подошёл к кафизме, украшенной золотом и драгоценными камнями, и любовно погладил подлокотники. Честолюбие обуяет и суровых людей...
В дверь постучали, в тронный зал вошёл новый секретарь императора, назначенный вместо Ириска, и протянул письмо от Аттилы, переданное через командующего Увэя, стоящего со стотысячным войском почти у самых стен Константинополя.
Правитель гуннов требовал к себе Гонорию, а также золото, причитающееся ему по договору с Феодосием II, заключённому в 449 году.
Решительный Маркиан тут же отправил римскую Августу в Равенну и, не испугавшись орды Увэя, высокомерно ответил Аттиле: «Золото у меня для друзей, для врагов — железо!»
Аттила на этот вызов Маркиана не поддался, у него теперь появился новый серьёзный враг — императрица Плацидия, которая отказала ему в руке дочери, а узнав через своих осведомителей, что гуннский правитель писал Теодориху, она срочно шлёт целое посольство к вестготам с такой речью:
«Благоразумно будет с вашей стороны, храбрейшие из племён, согласиться соединить наши усилия против тирана, посягающего на весь мир. Он жаждет порабощения вселенной, он ищет причин для войны, но — что бы ни совершил — это и считает закономерным. Тщеславие своё он мерит собственным локтем, надменность насыщает своеволием. Он презирает право и Божеский закон и выставляет себя врагом самой природы. Поистине заслуживает общественной ненависти тот, кто всенародно заявляет себя всеобщим недругом. Вспомните, прошу, о том, что, конечно, и так забыть невозможно: гунны обрушиваются не в открытой войне, где несчастная случайность есть явление общее, но — а это страшное! — они подбираются коварными засадами. Если я уж молчу о себе, то вы-то ужели можете, неотмщённые, терпеть подобную спесь? Вы, могучие вооружением, подумайте о страданиях своих, объедините все войска свои! Окажите помощь и империи, членом которой вы являетесь. А насколько вожделен, насколько ценен для нас этот союз, спросите о том мнение врага!»
Вот этой речью и подобными ею римские послы сильно растрогали Теодориха, который тоже узнал, что Аттила обращался к кровному его врагу Гензериху; и король вестготов ответил римлянам:
«Ваше желание, о римляне, сбылось: вы сделали Аттилу и нашим врагом! Мы двинемся на него, где бы ни вызвал он нас на бой; и хотя он и возгордился победами над различными племенами, готы тоже знают, как бороться с гордецами. Никакую войну, кроме той, которую ослабляет её причина, не счёл бы я тяжкой, особенно когда благосклонно императорское величество и ничто мрачное нас не страшит».
Радостно вторит королю народ; всех охватывает боевой пыл. Но до знаменитой битвы на Каталаунских полях ещё далеко...
Получив отказ от владетелей сразу двух империй — Восточной и Западной, Аттила не пришёл в бешенство соответственно, казалось бы, его душевному настрою, — нет, он, наоборот, стал спокойнее и трезво начал размышлять о своих дальнейших действиях. Прежде всего, он задумался над тем, почему так быстро согласился Теодорих выступить на стороне своих врагов — римлян.
«Неужели Аэций сумел после отъезда из моего лагеря убедить Теодориха о пользе дружбы с ним?.. И это после того, как Литорий навязал вестготам сражение! И если бы не вовремя подоспевшие галлы, то исход этого сражения для Теодориха мог быть печальным... Конечно, письмо Галлы Плацидии, посланное ему от имени императора, основанное на эмоциях (от своих лазутчиков Аттила примерно знал о содержании письма), могло как-то подвигнуть его к римлянам... Но не настолько же!.. Он же не без головы... Хотя его выступление в сенатском комитете на коллегии «пятнадцати первых» в ответ на письмо из Равенны говорит скорее о его умственном помрачении... Но он же давно снял медвежью власяницу, находившись в трауре по своей обезображенной дочери...
Причина, видимо, кроется в том, что кто-то убедил его не доверять мне. Кто-то так его напугал жестокостью моих воинов, что Теодорих немедля перекинулся к своим недавним врагам... А ведь мы с готами давно не воюем. Может быть, они боятся нас по старой привычке, когда были выдуманы ими легенды о нашем происхождении от нечистых духов и ведьм... А меня давно готские историки прозвали «Бичом Божьим»... Но меня это нисколько не задевает, больше того, я горжусь этим званием! Я, действительно, как бич, призван хлестать стоящих у власти людей, заносчивых, погрязших в разврате и относящихся к своим подданным, как к свиньям... Поэтому в империи ромеев за короткое время уже дважды происходили волнения народа, в римских провинциях без конца восстают колоны, давно неспокойно и в самом Риме... В Галлии ждут не дождутся восстать сервы и сельская беднота. А также коренные жители — галлы... А скажи я своему народу — от мала до велика — умереть за меня, и они умрут, потому что не только боятся меня, но и любят; потому что не бедствуют... Я даю им всё: я даю им движение вперёд, а значит, даю жизнь...
Галлы... Вот где собака зарыта! Теодорих боится их, хотя они и помогли ему в последнем сражении. Сейчас верховодят галлами предсказатель Давитиак и его сын. И надо будет связаться с ними. А пока нужно отозвать войско Увэя. И готовиться к походу на Галлию... Я проучу короля вестготов и заставлю его, уж коль он не захотел быть моим союзником по-доброму, силой выступить на моей стороне против заклятого Рима. Но, захватав Рим, я не уйду, кате Аларих, из него... Возьму в жёны Гонорию и сяду в нём императором... И верну былую Римской империи мощь!» — так раздумывал Аттила, гостивший у своей последней жены Креки, которая расцвета, как бутон розы, и превратилась из служанки-массажистки во властную госпожу.
* * *
Увэй не совсем полностью разделял взгляды своих старейшин, свергших Бледу, иначе бы и ему отрубили голову, но всё-таки находился на их стороне. Полководец понимал, как трудно было Бледе управлять доставшимся ему по наследству разношёрстным народом. Увэй знал это по собственному опыту — войско его было тоже настолько неоднородно, что держать его в повиновении требовалось много сил и хитрости... Другое дело, войско у Аттилы, состоящее из потомков всего лишь двух старинных родов — биттугуров и хунугуров; к роду биттугуров принадлежали знаменитый предок Аттилы Модэ, Мундзук и дядя Ругилас.
В войске же Увэя, кроме перечисленных двух гуннских родов, имелись представители алпидзуров, савиров, ултзиндзуров, альциагиров, бардаров, итимаров, тункарсов, боисков. У каждого рода были свой вождь и жрец, и гунны слушались их не меньше, чем командиров.
Белая юрта Увэя с бунчуком из белых и чёрных конских хвостов стояла на высоком холме так близко от Константинополя, что в ясную погоду можно было видеть его длинную крепостную стену.
За дерзость нового императора Маркиана следовало бы наказать, но Увэй получил строгий приказ Аттилы не предпринимать никаких действий.
Непредсказуем Аттила, не то, что его брат, у которого даже маленькая хитрость, на какую если он и был способен, лежала на поверхности. Ответ Маркиана на письмо правителя гуннов был известен Увэю, и в самый раз показать бы заносчивому василевсу силу этого самого железа...» Мои богатуры устроили бы такой тарарам, что он громом бы отозвался далеко окрест! А тут вот полёживай на верблюжьей кошме...»
Молодая невольница повернулась во сне, подогнула колени и упругими, розовыми от тепла ягодицами упёрлась в коричневый тощий живот Увэя. Полководец шлёпнул по ним ладонью, девушка вскрикнула и проснулась.
— Чего разметалась?! — недовольно пробурчал старик.
Рабыня из белолицых иллириек преданно заглянула в глаза Увэю, как бы спрашивая: что от меня сейчас нужно?.. И в выражении лица её угадывалась готовность исполнить всё, что повелит полководец... Любую его старческую прихоть...
Но у Увэя перед рассветом болели ноги, ему было сейчас не до прихотей, хотя он и мастер был их придумывать; лишь позвал табиба[120], который начал втирать какие-то пахучие мази. Потом полководец велел одеть себя, как будто точно знал, что вскоре от Аттилы прибудет гонец... Тот вручил Увэю приказ.
Полководец собрал в свою юрту командующих тюменями.
— Согласно приказу Аттилы, будем сниматься и двигаться вдоль Дуная.
Увидев на лицах темник-тарханов недовольство, ибо их богатуры уже давно настроились пограбить в окрестностях Константинополя, Увэй резко спросил:
— Вы поняли меня?!
— Поняли, — был разом дан единый ответ полководцу.
— Вот и хорошо.
Надо было срочно поднимать весь лагерь, включающий в себе стада и табуны, воинские семьи, рабов и рабынь и перестраивать всю систему несения службы. Поэтому Увэй, когда стали выходить из его юрты командующие тюменями, попросил остаться начальников разведывательного и заградительного отрядов: их возглавляли тысячники — Кучи и Аксу.
Для того, чтобы ромеи побоялись преследовать лагерь, полководец тысячнику Аксу в заградительный отряд придал ещё одну тысячу воинов.
Но, слава богу Пуру, ромеи не кинулись вдогонку, как это они иногда делали, чтобы поживиться, и Увэй без потерь довёл свой лагерь до Истра. Правда, по дороге умерли от болезни несколько стариков и старух да пали три верблюда и одна лошадь. Лошадь и верблюдов бросили в степи, а умерших довезли до великой реки и гам предали огню, ибо останавливаться, чтобы похоронить, было не валено. Ехали даже ночью. Хорошо, что над фракийскими просторами всё это время по ночам светила полная луна.
Когда доложили императору Маркиану, что гунны отошли от столицы, он не сразу в это поверил. Вечером в сопровождении схолариев[121] сам лично выехал к Харисийским воротам Константинополя, доскакав до них по главной городской улице Месе; затем взобрался на построенную заново в этом месте префектом Киром стену, с высоты которой ранее можно было наблюдать огни лагерных костров гуннов. Но точно! — костры не горели, и в той стороне, где располагалось дикое становище, стояла тишина. Лишь внизу в кустах можжевельника стрекотали кузнечики, да разводящие дежурных смен на стенах отдавали приказы, и бряцали о щиты мечами стражники.
«Какую же хитрость готовит Аттила? — задал себе вопрос Маркиан. — Не должен он простить мои дерзкие слова... А тут вместо того, чтобы усилить войско Увэя, повелитель отдал приказ об его уходе. Странно...»
На всякий случай император приказал усилить городской гарнизон одним из семи своих конных полков личной охраны.
Прошло какое-то время, и о гуннах ничего не стало слышно, как будто их совсем и не было, и уже не верилось, что они подходили вплотную к столице и что им платили немалую дань... Впрочем, у кочевых народов внезапное нападение и такое же внезапное исчезновение являлось закономерным; страшные волны дикого нашествия не раз испытывал на себе Константинополь, но, как всегда, выстаивал и, если подвергался какому-то частичному разрушению, то быстро залечивал раны, становясь ещё краше, подтверждая своим видом распространённое в Византии мнение, что Константинополь — это второй и лучший Рим, «царь городов», «царственный город».
Может быть, поэтому в столицу Византии потянулись изгнанные из Римской империи учёные, историки, писатели, риторики, даже представители «халдейской мудрости», занимающиеся магией, демонологией, астрологией.
При Феодосии II их сюда бы и близко не подпустили, и в первую очередь на защиту христианского благочестия вставала грудью сама Пульхерия, но теперь и ей должно было чем-то поступиться, как поступился Маркиан, на людях изображая влюблённого супруга. Тем более и сам император начал увлекаться чтением эллинских книг, которые привели его к мысли Платона о том, что зиждитель (демиург) — создатель мира, это Нечто — исходящее свыше, то есть являющееся излучением (эманацией) божественного. И это был уже как бы не сам Бог... Может быть, подобные чтения привели в своё время императора Юлиана к отступничеству от христианства, который любил душистые курения и при этом не уставал повторять, что благовония, поднимаясь кверху, изгоняют дурных духов и замещают их в соответствующих материях добрыми, точно так же, как в иных случаях камни, травы и тайные обряды вызывают явления божества.
Но очень верна и, кстати, евангельская притча апостола Матфея: «...пришёл его враг и посеял между пшеницей плевелы, и ушёл...»
Поглощённый в самосозерцание, не верящий в то, что гунны могут вернуться, император Маркиан почти не при дал значение просьбе «последнего великого римлянина» Аэция, уже двинувшегося со своими войсками из Рима в Галлию, подослать подкрепление против Аттилы.
Но в храмах более трезвые люди и служители Бога всё настойчивее возносили молитвы к заступнице Деве Марии и Иисусу Христу: «Помогите нам и всему христианскому миру, о, Божественная Мать и непорочно зачатый Сын, возвеличенный терниями вокруг головы, иссопом[122] и крестом, на котором ты распластал руки свои, гордость и похвальба наша...»
И, как видно, просили не зря — слухи всё же доходили до «царя городов», будто затевается на Каталаунских полях что-то чудовищное, доселе невиданное — больше миллиона человек собираются здесь, чтобы сразиться между собою...
* * *
Увэй со своим лагерем шёл в Маргус, в город, расположенный в месте слияния Моравы и Дуная. Опасаясь, как бы по незнанию полководец не стал грабить славян и забирать к себе их красивых женщин, как это делалось иногда при Бледе, Аттила навстречу выслал сотника Юйби и десятника Хэсу.
Юйби — кривоногий гунн, с блестящим бритым затылком, мощной шеей, на которой плотно сидела большая голова, с глазами, широко расставленными и узкими, опущенными книзу усами и редкой бородой и руками, перевитыми толстыми жилами, являлся типичным представителем знати своего народа. Хэсу, хотя и тоже гунн, скорее походил на сармата — с копной рыжих волос, но не на такой большой, как у прочих, голове, зелёными, чуть продолговатыми глазами и скуластым красивым лицом. С сотником он не только разнился внешностью, но и возрастом, да ещё и характером — Юйби степенный, немногословный, пожилой мужчина, Хэсу — порывистый, любивший шутку и особенно женщин.
Раньше, как простому воину, Хэсу полагался гарем из двух женщин. Только какой же это гарем?! Одно название... Говорят, что гарем у персов состоит из ста, а у царя — пятисот и более жён. Правда ли это?.. Или люди всего лишь придумывают?.. Да когда же царь успевает всех жён оприходовать?! Вот когда Хэсу стал десятником и у него появились ещё две жены, из которых последняя оказалась моложе его на восемь лет (Хэсу шёл двадцать четвёртый год), и была она из гречанок, очень страстная, так что после проведённой с ней ночи десятник чувствовал себя как после сражения, в котором махал мечом несколько часов подряд... А тут — подумать только — пятьсот жён! Что-то не так; неправду говорят люди...
Конь Хэсу выскочил на высокий холм. С холма, теряя перья, тяжело поднялся орлан и, набрав высоту, скрылся в той стороне, откуда, медленно ворочая тёмными водами, тек Дунай. Отсюда, с высоты, открывался хороший вид на славянское селение, раскинувшееся на краю леса возле речки Дые. Рядом с селением возвышалась гора Девин; связанная с идеей неба, с культом славянского бога Сварога, она ещё называлась Красной горой и являлась как бы самой ближайшей к небу точкой земли; на ней и приносились жертвы...[123]
Вскоре на вершину холма прискакали десять всадников, десять подчинённых Хэсу, и он, приказав им оставаться здесь, начал спускаться вниз.
Десятник достиг подошвы холма и, скрываясь в высокой ковыльной траве, достающей метёлками лошадиной гривы, повернул коня к тому месту, где, утопая в зелени ив, река делала крутой поворот. Вскоре услышал красивое женское пение, частые удары будто бы доскою по влажной земле, плеск воды и взвиги... Хэсу присел, но по тому, как высоко летели брызги, он догадался, что в реке купались девушки; затем он увидел разостланные по берегу цветные дорожки, кладущиеся на полу7 в светлой избе славянина. Сейчас на них, высоко подоткнув за пояс юбки, девицы, почти юницы, лили из туесов воду, а женщины, стоя на коленях тоже с задранными подолами, били по дорожкам деревянными вальками и красиво тянули песню.
Хэсу и раньше приходилось иметь дело со славянами, он немного знал их язык; с трудом, но разобрал, что пели женщины о мужьях, ушедших на войну, и часто в песне повторялся вопрос: «Вернётесь ли вы?.. Вернётесь ли вы?.. А если вернётесь, — далее пелось, — то когда: на восходе солнца иль на закате дня?..»
Одна женщина подняла голову, вгляделась, но, кажется, Хэсу не заметила. А он привстал, перевёл глаза на купальщиц: льняные волосы, словно одуванчики, пузырились вокруг голов плывущих к берегу, и вот девушки начали подниматься на него — и у Хэсу мелко-мелко застучали от волнения зубы: обнажённые молодицы, одна прекраснее другой, ступали длинными стройными ногами на зелёную траву, и груди девушек, упругие, выпукло-гладкие, как животик ягнёнка, торчали сосками вперёд, а ягодицы лоснились, как круп сытого коня... Грациозно изогнувшись, они поймали на спине свои волосы и, зажав их в ладонях, стали отжимать. Некоторые повернулись лицом к Хэсу, и он бессовестно созерцал, то и дело сглатывая подступавшую к горлу слюну, тёмный треугольник их запретного места; волосы на лобках славянок были светлее волос его жён, и ему захотелось прикоснуться к ним пальцами... Но тут конь, фыркнув, замотал головой, звеня уздечкой, и девушки бросились бежать, на ходу натягивая через головы сарафаны. Хэсу, чтобы не быть позорно обнаруженным, повернул коня и снова оказался на вершине холма.
Потом со своим десятком как ни в чём не бывало выехал в селение, где стены изб были одинаково выбелены, и там узнал, что здесь остались лишь женщины, старики и дети, — все мужчины, способные носить оружие, со старейшиной Мирославом ушли вместе с Аттилой.
Принимая ковш воды из рук одной молодицы, которую недавно видел обнажённой, Хэсу, с улыбкой заглядывая ей в лицо, подумал: «Ты стоишь передо мной и не ведаешь, что я рассмотрел на теле твоём запретное место. Если бы только мужчины вашего селения были бы против нас, ты бы, милая, уже стонала на ложе, а я бы сжимал ладонями твои прелестные груди и терзал своими губами твои красные губы... Но чего нельзя, того нельзя... Так же, как нельзя трогать их вырезанного из ствола вековечного дуба усатого бога, унизанного драгоценными камнями и украшенного золотом, перед которым даже днём полыхали огни костров, поддерживаемые чёрными жрецами, истуканами сидящими на корточках... Иначе Аттила сделает нам всем, посягнувшим на добро славян, секир башка...»
Затем Хэсу со своими воинами объехал ещё несколько таких же славянских селений, также отличающихся белизною и чистотою изб, где тоже не оказалось мужчин, ушедших с войском Аттилы, но в одном селении, расположенном почти у берега Дуная, гунны обнаружили страшную картину.
Собственно, это чёрное пепелище вместо ухоженных изб, выстроенных среди раскидистых тополей, и селением-то нельзя было назвать; ещё дымились, испуская угарный чад, развалины домов, а между разбросанных мёртвых тел бродили унылые, в репьях собаки, иногда слизывая кровь с посинелых лиц убитых; правда, сюда ещё не успели слететься чёрные грифы и сбежаться шакалы. Иные погибшие лежали вповалку, все вместе: и женщины, и дети, и старики, страшно изуродованные; кажется» некоторые из них сражались — вон у женщины, что неестественно запрокинула голову, свесив ноги с груды тел, в руках так и застыл меч с окровавленным лезвием... Значит, перед тем, как умереть, она полоснула им кого-то из врагов; вон и старик зажал в предсмертной судороге накрепко ладонями ручку топора, предназначенного для мирной работы по хозяйству, а не для жестокой битвы, но необходимость заставила применить его в сражении... Даже у юноши, почти мальчика, Хэсу увидел на окровавленной груди лук, который он прижимал к себе.
Мысль похоронить убитых у десятника скоро отпала, когда в лощине он обнаружил ещё множество поверженных в бою славян-мужчин. Столько павших похоронить невозможно, для этого потребуется не один день... А Хэсу задерживаться нельзя.
Он обвёл поле боя глазами и увидел тела убитых амелунгов[124], носивших шёлковые рубашки и надетые поверх них выкрашенные в жёлтый цвет кожаные панцири.
Вдруг на краю лощины раздвинулись кусты и оттуда, боязливо озираясь, вышел в изорванной одежде мужчина. По наголо остриженной голове и жезлу с золотым набалдашником Хэсу сразу определил в нём жреца славянского бога Перуна. Жрец тоже признал гуннов, на стороне которых находились его сородичи. Жрец хорошо владел гуннским языком и объяснил, что здесь пал в сражении с амелунгами отряд славян, оставленный для защиты в селениях стариков, детей и женщин; он был мал количеством — старейшина Мирослав понадеялся на гепидов[125], которые владели переправой через Дунай, и думал, что они в случае чего помогут.
Но гепиды, как оказалось, во главе с королём Ардарихом, являющимся ближайшим советником Аттилы, ушли, ничего не сказав славянам. А амелунги переправились на этот берег и напали на славянское селение, не зная, что здесь находится вооружённый отряд. Поэтому и сами понесли немалые потери.
— Гепиды предали нас! — с вызовом заявил жрец. — Так не положено друзьям вести себя...
— Амелунги, надо полагать, не оставят вас и дальше в покое, — предположил Хэсу. — В окрестности среднего течения Дые стоит ещё не тронутых ими много богатых, но не защищённых ваших селений... Будем ждать сотника Юйби, а потом сюда скоро придёт войско Увэя, и мы возьмём всех жителей этих селений с собою.
— Но у нас нет в обычае того, чтобы женщины, старики и дети сопровождали войско... А как же быть с полями, на которых уже созрел урожай пшеницы, ячменя и проса?.. Его же надо убирать!
— Если хотите умереть, дело ваше... Но ты, старик, должен уговорить своих родичей срочно покинуть это место. Собирайтесь, грузитесь на подводы, а по прошествии времени примкнём к основному войску Аттилы, в котором сражаются и ваши воины...
— Попробую уговорить.
— Вот и ладно.
Хэсу, вернувшись в то селение, которое встретилось первым, узнал, что красавицу славянку, давшую ему напиться, зовут Любавой. Жрец ей успел сообщить, что погиб от рук амелунгов весь отряд, оставленный Мирославом.
— Хэсу, — обратилась Любава к десятнику, — отвези меня туда, я посмотрю, нет ли среди убитых моего мужа?
— А ты разве замужем?
— Да, но прожили мы вместе всего два месяца. Я знаю, что он был оставлен здесь с теми немногими, что пали, защищая нас.
— Хорошо, отвезу.
Чтобы не видеть, как женщина с плачем и причитаниями, распустив в трауре волосы, ищет среди поверженных в битве мужа, Хэсу отъехал к Дунаю, сел на берегу и всмотрелся в тёмные воды. Сколько ты всего, седой исполин, видел?.. И сколько ещё увидишь?! Вон и воды твои потемнели от вдовьих слёз и потоков крови, что льются из ран убитых на твоих берегах... Молчишь, исполин. Ты же не можешь сказать: «Бросьте убивать друг друга!» Ибо люди тебя не послушают. Как не послушают никого хищные звери, для которых убийство — добыча, а добыча значит продолжение жизни...
Перед глазами десятника неким видением возникло на миг некогда прекрасное лицо Валадамарки, а потом её отрубленная голова с закрытыми очами, искривлёнными синими губами и с запёкшимися в уголках рта не то кусочками грязи, не то каплями крови... Хэсу передёрнуло; он встал, вернулся и увидел Любаву, склонившуюся над телом убитого, уже вытащенного ею мужа из груды тел.
«Всё-таки нашла, несчастная», — пожалел молодую женщину Хэсу, но она уже не плакала и не причитала, а смотрела на мужа невидящими глазами и отрешённо гладила его руку.
Хэсу сбросил с себя кожаную рубаху и начал молча копать неподалёку могилу.
Потом, сидя в избе у ставшей вдовой Любавы, Хэсу и сотник Юйби, прискакавший сюда с остальными девятью десятками воинов, поминая мужа молодой женщины, тихо разговаривали между собой, хотя могли и не опасаться, что она услышит, так как их языка Любава не понимала.
— Неужели и вправду, как сказал мне славянский жрец, гепиды предали их... Почему они снялись, не предупредив соседей?
— Ты всегда, Хэсу, о чём-то начинаешь предполагать, раздумывать... — как бы в укор сказал пожилой сотник, боясь прямого, честного разговора. Как знать, не вызывает ли нарочно его на откровенность этот молодой да ранний десятник, а потом возьмёт да и доложит обо всём тысячнику, а тот Ислою... После того как Юйби получил в подчинение сотню, он узнал, что не все довольны его назначением, ссылаясь на пожилой возраст; среди десятников были и такие, которые давно сами ждали такого назначения... Но всё же Юйби по-прежнему доверял Хэсу; и он тоже получил повышение, да и немалое время находился в десятке — Юйби успел его изучить. Но, пожалуй что, осторожность не помешает, хотя и Юйби также хотелось прямо и честно поговорить... А тут молодая вдова всё подливала крепкого мёду и подливала. А медок вкусный! Хорошо его умеют варить славяне. И язык сотника потихоньку начал развязываться.
— Хэсу, ты же знаешь этих самых гепидов... Но Аттила сильно доверяет их королю. Да и как не доверять, если Ардарих не раз высказывал на совете дельные мысли, следуя которым Аттила выигрывал сражения... Но то, что сам король и его гепиды жадны до золота, уже ни для кого не является тайной... Ведь они, владея плодородной частью территории, ранее называемой Дакией, заняли ещё, с позволения, правда, Аттилы, богатый город Синдидун и дочиста его ограбили.
— Юйби, гепиды, держащие в своих руках переправу через Дунай, обеспечивали переход на другой берег, и это тоже уже не тайна, даже врагов, — с головы по золотому статиру. Вполне возможно, что гепиды переправили таким образом и отряд амелунгов...
— Но ведь известно, что Ардарих снялся раньше и ушёл с Аттилой, — возразил пожилой сотник, всё ещё осторожничая.
— Только тот же Ардарих мог для этой цели оставить на переправе часть своего войска. Думаю, что и Аттила знает об этом, только помалкивает, — начал горячиться Хэсу. — И понятно: у него в войске гепидов больше, чем славян. Славянами можно и поступиться...
— Уж не потому ли ты за них заступаешься, что присмотрел для себя, как я вижу, вот эту красивую молодку, — схитрил сотник.
— Ты же сам говорил, Юйби, во что амелунги превратили селение и как жестоко побили славянских мужей и простых жителей.
— Идёт битва, Хэсу, великая битва пародов.
II
После того, как мы впервые увидели Галлу Плацидию в императорских покоях в Равенне, прошло более десяти лет, а если быть точными — четырнадцать. Она чуть погрузнела, но лицо и фигура оставались по-прежнему привлекательными; мужское семя, которое она пила по утрам, действительно влияло на неё омолаживающе; это сказалось и в том, что Плацидию реже стали мучить головные боли, вызванные её скитаниями босиком под нещадным испанским солнцем.
Всё бы ничего, но под воздействием омолаживающих средств в организме Плацидии в то же время каждый день совершались изменения, которые привели к сильным физиологическим отклонениям: и раньше у неё в половом отношении наблюдались эти самые отклонения, теперь же они приняли ярко выраженный характер.
Плацидию уже не могли удовлетворять те два могучих раба, следовавшие за императрицей неотступно, и от которых она могла потребовать плотского удовлетворения в любую минуту. И тогда Плацидия сменила рабов на других, но и последние не подошли ей...
Императрица пожаловалась Ульпиану, и этот прожжённый негодяй и бывший развратник посоветовал ей приобрести искусственный фаллос.
— Я знаю, что наши патрицианские матроны для этой цели используют изделия из кожи и в виде стеклянных сосудов, наполняя их тёплой водой. Но больше всего, говорят, величайшая, подходят фаллосы из эбеновою дерева или отлитые из чистого золота[126].
Остановились на золотом, который и был отлит специально для императрицы под строжайшим секретом. Отдавая его, Ульпиан посоветовал Плацидии и другие способы возбуждения и удовлетворения: например, сечение розгами мужчины перед тем, как слиться с ним. Хорошо делала это Клеопатра, и, может быть, под её ударами стонал и сам Юлий Цезарь.
Плацидия улыбнулась, представив, как этот великий человек с голым задом извивался под розгами египетской царицы на императорском ложе.
— Кстати, порочные оргии сопровождали правление таких прославленных императоров Рима, как Август, Калигула, Нерон, Коммод, Гелиогабал, — далее развивал свою мысль Ульпиан. — Я вижу, ты насупилась, ненаглядная, и тебя будто терзает чувство вины. Отбрось всё это! Вспомни Клодию, которую воспел Катулл под именем Лесбии, или супругу императора Клавдия Мессалину... Как говорил Плиний Старший, Мессалина победу в совокуплении считала величественно-царской; она даже однажды вступила в состязание с самой известной проституткой и превзошла её, так как в течение двадцати четырёх часов имела двадцать пять сношений... А может быть, и тебе, величайшая, устроить по примеру Мессалины «комнату наслаждений» и тайно понаблюдать, как отдаются чужим мужьям знатные женщины на глазах своих супругов?.. От этого Мессалина получала неописуемое наслаждение.
— С одной стороны, мы желаем себе чистоты, а тело ввергает нас в грех... Отчего это происходит, Ульпиан? — вопросила Плацидия.
— Великая царица, противопоставление чистого и нечистого, души и тела замечается уже в греческой мифологии. Весьма поучительно в этом отношении понятие о небесной и земной любви. Это противопоставление можно найти между богом света Аполлоном и богом чувственной природы Дионисием. Это так всё естественно, что, пожалуй, не должно тебя волновать...
— Благодарю, мудрый Ульпиан.
Золотой фаллос успокоил желания Плацидии и, далее занимаясь с ним, её вдруг потянуло на написание трактатов на темы морали и чистой любви... Писала она страстно и вдохновенно, так же, как один из её сенаторов, в прошлом известный пьяница, писал и говорил о пользе трезвости для всей нации после того, как ему сделали хирургическую операцию...
Когда «последний великий римлянин» снова повёл войска в Галлию, Плацидия вспомнила о своей неразумной дочери, которую под бдительным присмотром привезли из Константинополя и которую мать в гневе своём приказала снова бросить в темницу.
Поглощённая плотскими терзаниями императрица совсем забыла о Гонории. Но золотой фаллос также настроил императрицу и на прежний интерес к жизни и делам; и вот дочь в изорванной одежде привели к матери и поставили перед её очи.
На руках и ногах Гонории проступали следы от оков; волосы молодой Августы были грязные и спутанные, лицо в синяках, лишь диковато, как у лесной кошки, светились зелёные глаза, так похожие на глаза отца-иллирийца. На теле ещё кровоточили ссадины и крысиные укусы...
— Милая, — прониклась жалостью к дочери мать и потянулась её обнять.
Гонория резко отстранилась от императрицы.
— Неужели тебя пытали? — в ужасе прошептала Плацидия. — Ульпиан! — громко позвала корникулярия.
И когда он явился, императрица строго спросила:
— Ты что сделал с моей дочерью, негодяй?!
— Согласно твоему указанию добивался от неё правды... — как ни в чём не бывало ответил Ульпиан. — Но правду она не говорила, пришлось применить некоторые меры воздействия.
— Вон отсюда, болван! Ты ещё ответишь за это... — топнула ногой Плацидия.
Оставшись с дочерью, императрица тихо спросила её:
— И что же ты сказала, когда к тебе применили меры воздействия?..
— То же, что и раньше, — не моргнув глазом, ответила Гонория. Кольцо и письмо я передала Аттиле под влиянием любви к нему... Но не потому, чтобы отомстить тебе и брату.
— И когда же ты успела полюбить его?
— После того, как мне рассказал о посещении его становища бывший секретарь василевса Феодосия Приск.
— Ты влюбилась, ни разу не видя этого кровожадного зверя?..
— Он не зверь, моя царственная мама, всё, что рассказывают об Аттиле, — полная чушь...
— Вот как?!
— Да, он защитник несправедливо обиженных.
— Ну, милочка моя, с тобой не соскучишься... Защитник!.. Да его воины вздымают на острия своих копий малых детей, выковыривают из чрева беременных женщин не родившихся младенцев и бросают в жертвенные костры.
— Тебе, наверное, писала об этом Пульхерия... Но по её же наущению твой племянник, а мой двоюродный брат перестал платить дань, грубо нарушив священный договор... Так же, как это сделал новый василевс империи ромеев Маркиан... Во устрашение гунны и применили столь дикое средство.
— Ладно, ты опять провоцируешь меня на принятие сильных мер. Иди в свою половину, там ждут тебя твои служанки и врач. Они приведут тебя в надлежащий вид, а потом видно будет, что с тобой делать...
Но, оставшись одна, Плацидия впервые задала себе вопрос: «А не опасным ли для нашей императорской фамилии становится корникулярий?! Рвение его настолько велико, что оно уже начинает переступать границы... Но на кого же в таком случае заменить его? Где найти такого человека?.. И найду ли?.. Пусть пока Ульпиан остаётся при своей должности...»
* * *
Хэсу и Юйби вышли из-за стола, слегка покачиваясь. На улице уже темнотою обволоклись избы, стоящие друг за другом в ряд, — в их окнах ещё светились огнями лучины; воины сотника, где по пять, где по шесть разместись в каждом доме, тоже ужинали.
— Ты, Хэсу, оставайся у молодки, а я обойду избы, посмотрю, как разместились мои богатуры, и тоже выберу себе место для ночлега... Утром увидимся.
— Возле переправы в ночную стражу нужно мне ставить своих? — спросил Хэсу.
— Не надо... Твои, будучи в разведке, сделали своё дело. Я дат распоряжение другим десятникам.
Окутанная сейчас чёрными силуэтами ив река Дые, сильно петляя, словно пьяная тоже, впадала в нескольких милях отсюда в Дунай, но сам Дунай находился почти рядом; и какое-то расстояние он и Дые текли близко в одном направлении, но потом Дые у селения делала, как отмечалось выше, такой крутой поворот, что течение её повёртывалось вспять течению Дуная, а затем Дые резко с ним разбегалась... А в том месте, где Дые вливалась в Дунай, в небольшой рощице затаился отряд амелунгов.
Днём германцы видели, как конные гунны рыскали по селениям, хотели перехватить десяток Хэсу и уничтожить, но, когда прискакала сотня Юйби, решили пока повременить вступать в бой. Тем более что награбленное добро не успели переправить через Дунай, а сейчас там стояла вражеская стража.
В уничтоженном славянском селении амелунги славно поживились: взяли в полон красивых девушек и молодиц. Германцы, кстати, могли не поджигать селение, но некоторые жители, почти безоружные, вступили в схватку; разозлившись, амелунги спалили избы и перебили всех до единого. Пусть другие знают, как бездумно сопротивляться силе...
Предводитель отряда, побочный сын короля, храбрый граф Валтарис, еле видимый в темноте, так как костров, чтобы не выдать себя, не зажигали, сидел на пне и думал, как поступить дальше. Пленницы лежали, не поднимая головы, на повозках, и Валтарис строго-настрого запретил подходить к ним, чтобы не делать никакого шума.
Да, появившаяся сотня Юйби спутала все планы предводителя отряда амелунгов. Побив и славянский отряд, граф решил прибрать к рукам все окрестные селения, для того и кинулся к переправе, чтобы перевезти награбленное и пленниц и вернуться назад.
«От отряда осталось шестьдесят человек... Конечно, я могу напасть на спящих гуннов. Но стоит ли рисковать?.. Лучше подождём», — раздумывал Валтарис.
К нему подошёл один из младших командиров; Валтарис поделился с ним своими мыслями.
— А чего ждать?! Я согласен, граф, что нападать на гуннов, даже и спящих, рискованно. Я разведал, что на переправе сейчас гуннских стражников — человек двадцать. Мы их побьём и переправимся на тот берег.
— Такая добыча ускользает из рук! Жалко... Сколько всего ещё в этих селениях склавенов богатства!
— А ничего... Гунны уйдут, и мы вернёмся.
— Судя по тому, что они разместились по избам, скоро не должны уйти. Что-то им надо здесь... Ладно, собираемся и двигаем, также не зажигая огней, — приказал граф.
Но тут вышла луна, осветила прибрежные дали и посеребрила их. Воды Дуная заиграли тоже серебряными блестками; стреноженные кони, хрумкая сочной травой, подняли головы, покосились глазом на полный диск ночного светила и снова принялись жевать.
Свет полной луны делает обеспокоенными, оказывается, не только людей. Где-то рядом прокричала пронзительно и звонко какая-то птица, вдали раскастисто протрубил олень...
Чтобы лошади неслышно ступали по земле, командиры повелели их копыта замотать овчиной. Для этой цели у каждого амелунга-воина в его мешке находилось по нескольку кусков кожи наряду с бобровой мочой, коей был наполнен бычий пузырь. Тряпку, смоченную ею, прикладывали к ране, и рана быстро затягивалась. Славяне, к примеру, использовали для заживления и медвежье сало.
Переправу гунны сторожили десятком: один — до полуночи, другой отдыхал в это время, потом должен был заступить на смену.
Наскочив неожиданно, амелунги быстро расправились и с бодрствующими стражниками, и спящими, затем стали налаживать переправу, пропустив поначалу повозки с пленницами.
Гунны Юйби, отдыхая в селении, и не подозревали, что понесли потерю. Правда, у Хэсу в момент, когда взошла луна, что-то встрепенулось внутри, а может быть, случилось это от того, что Любава стала призывно обращаться к ночному светилу:
— О, полноликая гостья, сойди в мою клеть, сойди и сними мою скорбь и унеси под облака.
Причитая, Любава поступала по древнему славянскому верованию: зазывая в избу луну, она тем самым зазывала к себе всю боготворимую силу природы; склавенка знает, что через дымоволок, например, может посещать огненный змей, и не дай бог, скажем, обидеть зашедшего в избу путника или выгнать его, то змей может ослепить хозяина или хозяйку дома, так же, как и луна своим полным светом...
Вот почему Любава ничего не сказала Хэсу, увидев, что он у неё остаётся. Она, правда, постарается уговорить не трогать её, ведь должен же он посчитаться с несчастьем, которое обрушилось на молодую теперь вдову... Но как поведёт себя гунн — неизвестно, хотя он до этого шёл навстречу её просьбам.
Попросила Любава защиты у луны, попросит её и у божества домашнего очага.
Молодица расставила вокруг очага зажжённые лучины, стала молиться; если раньше огонь, разведённый на домашнем очаге, почитался славянами божеством, охраняющим спокойствие и счастье дома и всех членов семьи или рода, то позже обожание огня перекинулось и на самый очаг; и оба эти понятия действительно слились в одно представление родового дома...
И когда Хэсу спросил, почему Любава молится какой-то остывшей печке, молодица строго заметила:
— Это тебе кажется она остывшей. А я думаю, что внутри её всегда присутствуют огонь и дым... Существует загадка: «Мать толста, дочь красна, а сын под облака ушёл». Это и есть печь, огонь и дым... Они всегда живые и находятся в родственной связи...
— Всё это непонятно для меня. Мы поклоняемся только Пуру, а с того времени, как нашли Марсов меч скифов, Аттила приказал поклоняться и мечу... И устраиваем скачки в честь богини коней Дарнвиллы.
— А страшный ваш Аттила? Сказывают, что у него вместо ступней копыта, на голове рога, и никогда он не слезает с лошади, так как прирос к ней...
— А как же он тогда живёт с жёнами?! Их у него более ста... Выдумки всё это... Такой же человек, как все, только необыкновенный... Сильный, умный и справедливый... Принцесса римская попросила защитить её от родственников, которые устроили ей тяжёлую жизнь, и он твёрдо пообещал защитить... Да что я тебя уверяю!.. Придёт время, может быть, и сама увидишь нашего правителя... Давай спать, и не бойся — трогать я тебя не буду.
Король амелунгов Ротари даже не мог и предположить, что Валтарис, оставшись без присмотра, начнёт своевольничать. Граф всегда был покладистым, ибо знал, что, как побочный сын, он может заслужить любовь отца только безоговорочным послушанием. Торопясь на встречу с Аэцием, как король гепидов на встречу с Аттилой, Ротари спешно двинул своё войско, а Валтарису приказал подождать со своим отрядом, пока жители-амелунги в посёлке не соберутся и не погрузятся на подводы, а потом граф должен их в пути охранять.
Но Валтарис впервые в точности не исполнил приказ отца, а решил, когда разведка ему доложила, что гепиды ушли и войско склавенов тоже, поживиться на другом берегу Дуная. Тем более что Валтарис знал: с теми из гепидов, кто остался на переправе, всегда можно сговориться, и граф, заплатив им, вскоре уже находился на берегу, где располагались селения славян.
Но старейшина Мирослав оставил тоже для их охраны отряд, на который и напоролся Валтарис; к счастью для амелунгов, отряд склавенов оказался малочисленным. Но кто знал, что после всею здесь неожиданно появятся гунны...
Вначале их было десять, потом подошли из сотни остальные девяносто гуннов. И через какое-то время Валтарис увидел, уже находясь на своей территории, как несметное их войско (а это было войско, ведомое Увэем), двигаясь вдоль Дуная, перекрыло отряду амелунгов путь к отступлению.
Граф сразу подумал, что обнаружив убитых своих людей на переправе, гунны обязательно станут искать тех, кто сделал это... И обязательно найдут, так как все дороги оказались отрезанными. И Валтарис решил схорониться со своим отрядом на острове, расположенном посреди топкого болота. Граф понимал, что оставляет своих сельчан на волю Вседержителя, но и другого выхода не видел.
Увэй, предупреждённый Юйби, повелел не трогать склавенов, более того, взял их с собой в обоз, но, узнав, что тут натворили амелунги, выделил в помощь сотнику свою сотню под командованием Чендрула, а сам, почти не останавливаясь, продолжил путь на Маргус, где предполагал зимовать.
Уже наступали холода. Аттила взял штурмом город Августу Вииделиков[127] и остановился, но цель его похода — Толоса, столица Аквитании, которой владеет Теодорих. Только повелителя гуннов так просто к Толосе не подпустит его «друг» Аэций. Может быть, они бы и оставались друзьями, если бы между Римом и Аттилой не встала молодая Августа Гонория...
Когда две сотни гуннов въехали в посёлок амелунгов, то увидели, что он словно вымер. Даже собаки не бродили по улицам. Но слышно было, как сторожевые глухо рычали, звякая цепью за высокими заборами богатых усадеб, огороженных ещё и валами.
Чендрул, с обритой головой, решительный и цельный, как кусок железа, долго раздумывать не стал, а приказал своим людям метать за глухие заборы горящие стрелы. В усадьбах запылал сильный огонь, его принялись тушить, но скоро вода кончилась, и пожары начали разрастаться. С воем и плачем, гремя дубовыми, обитыми медью задвижками, жители раскрыли двери ворот и высыпали на улицу.
Схватили седого как лунь старейшину рода, и тут же при всех Чендрул стянул его голову ремённой петлёй, а концы стал накручивать на рукоятку плётки, спрашивая, где прячется вооружённый отряд.
Старик упрямо молчал, и голова его, стянутая ремнями, в конце концов бы лопнула, так как он предпочёл умереть, нежели выдать своих сородичей. Но тут к Чендрулу метнулась с растрёпанными волосами молодка и завопила:
— Не убивайте отца! Я всё скажу... И покажу!
Гул неодобрения прошёлся по рядам жителей. Чендрул покосился на них налитыми кровью глазами:
— Шайтаны!.. Свиньи!..
Старика отпустили, а молодку посадил спереди себя на седло сотник Юйби, и вскоре прискакали к заросшему густым очеретом и плакучими ивами месту.
— Здесь болото, а там — остров, где скрываются сейчас наши воины, — показала рукой молодка.
— А не врёшь?! — вскричал Чендрул. — Я не вижу никаких переправ на остров...
— Граф Валтарис разрушил их за собой.
— Валтарис?! — снова воскликнул Чендрул. — Побочный сын короля Ротари... Встречались... За ним должок. — И сотник Увэя показал на зарубцевавшуюся рану, нанесённую мечом. — Отпустите молодку... Потом разберёмся.
Решительность Чендрула была столь велика, что он полностью завладел инициативой, и поэтому его стали слушаться и воины из сотни Юйби, да и сам сотник Юйби, кажется, тоже... Но командирский тон Чендрула всё же не всем нравился, особенно Хэсу. Десятник отъехал в сторону, увлекая за собой своего сотника, и начал с ним совещаться по поводу того, как лучше преодолеть трясину.
— Надо валить в неё деревья, но кругом степь. Придётся вырубать рощу на другом берегу.
— Это займёт много времени, — негромко сказал подъехавший к совещавшимся Чендрул, всё же сообразивший, что командир тут не один он...
— А что делать?
— Ха... Я покажу вам пример! — Чендрул натянул лук и, развернувшись, почти не делясь, выпустил стрелу в спину удаляющейся к посёлку молодки. — А теперь волоките её, — приказал своим воинам, — и бросайте в топь...
Это немедленно было исполнено, и вскоре гунны с воплем и боевыми кличами снова ворвались в посёлок и стали рубить, колоть, душить арканами жителей, а трупы сволакивать к краю болота.
Кровавая вакханалия, как обычно бывает, захватила всех; вскружила голову и Хэсу — он тоже без разбору — ребёнок ли это, немощный старик или старуха — колол и резал.
Целая гора трупов уже возвышалась на берегу. Начали кидать их в топь; трясина тут же засасывала, и казалось, что болото бездонно. Но вот грязная жижа становилось всё плотнее и плотнее, теперь трупы не тонули совсем: то в одном месте, то в другом они наполовину стали высовываться, и скоро по ним можно было ступать.
Пустили лошадей, но животные пугались идти, но ещё не остывшим телам. Тогда находчивый Чендрул верхние трупы велел перевернуть лицом вниз, а на их спины насыпать овса...
Переправившись на остров, гунны устроили дикую резню. Чендрул, весь забрызганный кровью, объезжая сражающихся, напоминал:
— Не убивайте графа... Я расправлюсь с ним сам.
Но побочный сын короля амелунгов, увидев полное истребление своего отряда, узнав Чендрула, от которого нельзя было ждать никакой пощады, кинулся грудью на меч.
Слух о невиданной и неслыханной дотоле жестокости, которую применил Чендрул, птицей полетел поперёд войска Увэя и вскоре достиг ушей Аттилы.
— Что ж... — задумался повелитель, дёргая себя за редкую бородку. — Жестокость?.. Хм... А может быть, то была необходимость, вызванная данной обстановкой... Как, говорите, зовут сотника? Чендрул... Сделайте его тысячником, и пусть он предстанет перед моими очами.
* * *
Рустициана полностью отдавалась природе и своим искренним чувствам восхищения ею, когда оставалась одна; когда, уставшая от бешеной скачки на буланом жеребце испанских кровей, садилась на издавна облюбованное, поваленное, но ещё крепкое дерево на самом краю леса, пускала коня пастись, а сама любовалась ячменным полем, начинавшемся сразу от могучих дубов-великанов, возле которых Рустициана сейчас находилась.
Сзади неё в ветвях на все голоса пели лесные птахи, а в вышине над полем, волновавшемся, как море, под уже ставшим прохладным ветром, заливался жаворонок. Его трели вначале глухо, потом всё настойчивее начали перебивать печальные крики, и Рустициана вскоре увидела высоко в небе длинный клин журавлей, тянувшийся на юг, к Африке... И будто по лицу молодой женщины снова полоснули ножом — до того явственно она представила то, что случилось с ней в африканском Карфагене.
«Неужели всё это сойдёт с рук хромому дьяволу?..[128] То, что отец носил власяницу из медвежьей шерсти из-за моего несчастья, ещё раз говорит в пользу его отцовских чувств... Но не утешится моё сердце, видно, до тех пор, пока за меня не наступит отмщение... Да, я христианка, я не требую этого, но уж так устроен человек — когда он видит, что за его кровную обиду возмездие состоялось, то успокаивается. Ладно, отец стар, а мои братья?
Хотя говорил мне брат, тёзка отца Теодорих, будто он хотел в Барцелоне, куда попросился встречать меня, устроить вандалам взбучку, да отец не пустил его туда. Разрешил ехать младшему послушному Эйриху, и к тому же строго-настрого приказал никого в Барцелоне не трогать, ссылаясь на то, что силы вестготов ещё малы, чтобы сразиться с Гензерихом, главным обидчиком её, Рустицианы... А вот на стороне Рима воевать против гуннов нашёл эти самые силы... Только королю вестготов принесёт ли эта борьба славы? Ведь предводитель гуннов Аттила пользуется теперь всемирной известностью как защитник обиженных женщин, не побоявшийся в пользу римской Августы Гонории, которую томили в застенках, выступить против двух империй сразу...
Думает Рустициана о своей несчастной судьбе и судьбе далеко находящейся сейчас отсюда римской принцессы; подставляет, скинув чёрную повязку, последним тёплым лучам солнца лицо, жмурится, будто маленький котёнок, наслаждаясь светом, и не заметила, как подкрался к ней наварх Анцал. Он давно выследил королевну, и не в первый раз из-за укрытия наблюдал с отрезанным кончиком носа её лицо. Но оно ему не показалось столь безобразным, чтобы пугаться... На нём так живо сияли бездонные, как два омута, тёмно-синие глаза, что сразу привлекали внимание, а уж только потом виделось остальное.
Анцал наконец-то решился и вышел из-за своего укрытия:
— Рустициана!
Женщина вскрикнула, резко поднялась с поваленного дерева, ища на груди скинутую повязку, но наварх успел ухватить её за руку:
— Не надо, не надевай... Прости меня, прости! Я много раз видел твоё лицо без этой повязки, но не находил в нём ничего противного... Тьфу, что за слово вырвалось из моих скверных уст!.. Лицо твоё так же красиво, как и раньше... Рустициана, милая, да разве будешь особенно обращать внимание на лицо, когда я впервые, ещё на корабле, отплывающем из Карфагена, через твои глаза заглянул в твою душу и увидел её настолько прекрасной, что готов на всё ради её обладательницы.
— Я помню, что ты спас меня... Но и ты не забывай, что меня наказали за то, что я хотела отравить своего свёкра... — чтобы охладить пыл и красноречие молодого человека, жёстко заявила королевна.
— Хотела, но почему не отравила?.. Вот что мне хочется знать.
— Ладно, оставим этот разговор. А ты зачем наблюдал за мной?.. И кто тебе разрешил? Если я пожалуюсь отцу, знаешь, что будет с тобой, чужеземец?
— Знаю...
— Знаешь и пошёл на это?
— Неужели ты не поняла, когда я говорил о твоей душе?
— А что я должна понять?
— Я люблю тебя...
— Меня или дочь короля?
— И ту и другую, — честно признался Анцал.
— Ладно, помолись своему Митре, что я тебя простила как своего спасителя... И уходи. А я посижу ещё...
Анцал, виновато опустив голову, ушёл. Оставшись снова одна, Рустициана задумалась: «Странно... Любовь... Да разве можно в моём положении думать о ней?! И этот наверх... Неужели вправду влюбился в меня?.. Не верю! А если бы я была дочерью простого колона?.. С таким лицом... Говорил бы он мне о любви?.. Но я видела его искренний взгляд и не обнаружила в нём и тени смущения, когда он высказывался о моей душе, неотрывно глядя на моё лицо... Неужели ему было всё равно, какое оно?! Но такого не может быть... Не может! Ибо, когда я сама смотрюсь в бронзовое зеркало, всякий раз содрогаюсь... Нет, даже если Анцал искренне и полюбил меня, женой я ему не буду... Это по первости он, может быть, не станет обращать внимания на моё лицо... Тем более что я как женщина умею хорошо вести себя на любовном ложе. Но придёт время, когда он, пресытившись мною, всё-таки начнёт приглядываться днём к моей чёрной повязке, а утром, проснувшись, к моему обезображенному лицу. И наступит момент, когда, глядя на него, содрогнётся... Нет и ещё раз нет! Мне уготовила судьба монастырскую келью. И только там я найду в молитвах своё успокоение...»
«Но ведь Анцал признался тебе в любви... — внушал ей внутренний голос. — Неужели ты не отзовёшься?.. Хотя бы временно». — «А как это временно?..» — «Там увидишь... И учти, он спас тебе жизнь».
А Анцал тихо брёл по пыльной дороге и с горечью думал о том, что Рустициана не поверила ему. «А чего ты хотел?! Признаться в любви к женщине с обезображенным лицом... И кто тебе сразу поверит?! Это же противоестественно! Но так могут думать люди, не любившие никогда... Но те, кто любили, поймут, что лицо и внешность не играет особой роли... Я разглядел её душу, как если бы разглядел самую Душу мира... А если это связано с колдовством?! Если бы Рустициане нужна была, таким образом, моя любовь, то она бы не отвергла меня после моего признания».
Наварх свернул к разгульному дому Теодориха-младшего. «Пойду, отведу теперь свою душу. А то я всё о другой... Только врёшь! Не желания чистой любви ты удовлетворишь сейчас, а мерзкую похоть своего тела... Хотя в моём положении это даже полезно».
Встречен был Анцал Теодорихом-младшим как всегда с распростёртыми объятиями. Из всех братьев Теодорих больше всех любил Рустициану, а узнав, что спас её от смерти этот человек — наполовину перс, проникся к нему добрым чувством.
— Проходи, Анцал. В моём гареме появились персиянки... Может быть, искупаешься с ними в бассейне?..
— Нет, Теодорих... Это всё равно, что пригласить садовника покушать яблоки с тех деревьев, которые у него в саду растут в изобилии.
— Хорошо сказано. Тогда бери белотелых славянок и забавляйся. Но вижу, что ты чем-то опечален... Я не прав?
— Ты прав, королевич... Но об этом я сейчас не хочу говорить.
— Не настаиваю, ибо уважаю твои чувства.
— Благодарю.
Но и забавляться со славянками через какое-то время расхотелось наварху, и он незаметно, потихоньку ушёл из разгульного дома.
Певчие птицы в оливковой роще оглушили Анцала. Они так выводили свои трели, стараясь превзойти друг друга, так изощрялись, что ему стало весело.
Осуждал ли Анцал, поклоняясь справедливому Митре, ненавидевшему ложь, лицемерие, неправду, образ жизни Теодориха-младшего?.. Скорее не осуждал. А за что?! Что имеет много наложниц... Экая невидаль! У персов, к примеру, их тоже немалое количество. Главное, что Теодорих младший относится к Анцалу с уважением по-прежнему, тогда как это не скажешь о самом короле вестготов и его старшем сыне Торисмунде. Казалось, с чего бы они охладели чувством к спасителю их дочери и сестры?.. А выходит, что есть с чего.
«Я ведь не только спас Рустициану от смерти, но и привёз на своём корабле галлов, которые помогли Теодориху-старшему в сражении против римлян... И как только галлов я снова отвёз на берег их океана и стал дружить с Давитиаком и его сыном Гальбой, то и увидел перемену в отношении ко мне короля и Торисмунда... В дружбе с галлами прослеживается эта причина, да и в дружбе с Теодорихом-младшим... Ведь между ним и отцом, кажется, давно пробежала чёрная кошка. Теодорих-младший своенравен, честолюбив, не во всём слушается отца. Да и со старшим у него также давно нет братского чувства... Чего, доброго, ещё не по праву заявит свои претензии на королевскую власть... Вот чего опасаются Торисмунд и Теодорих-старший... Но и это их дело, а не моё... Моё — это любовь к Рустициане. Ведь люблю я её искренне, а не по расчёту... Ты, Рустициана, ещё увидишь это!»
III
Римская империя ко второй половине II века, казалось, достигла пика своего могущества и расцвета. Историк, стоящий близко к официальным правительственным кругам Рима, так писал тогда: «Народы, когда-то побеждённые Римом, забыли уже свою самостоятельность, так как наслаждаются всеми благами мира и принимают участие во всех почестях. Города империи сияют красотой и привлекательностью, вея страна как сад. Вся земная поверхность благодаря римлянам стала общей родиной. Римляне вымерили весь свет, замостили реки, обратили пустыни в заселённые края, упорядочили мир законом и добрыми обычаями».
Уверенность высших слоёв общества в вечном и непоколебимом господстве Рима на свете поддерживалась превосходной организацией военной защиты на границах или так называемом лимесе.
На юге и западе империя достигла краёв океана и песков Сахары. Восточные области — Малая Азия и Сирия — были защищены естественными преградами — горами Армении и Аравийской пустыней. Оставалась северная — самая протяжённая и опасная; здесь римляне имели перед собой варварский мир, неисследованный и полный всяких неожиданностей.
И тогда римляне стали возводить оборонительную линию, тянувшуюся от Британии и Шотландии, от Северного моря вдоль Рейна, затем от Рейна до верхнего течения Дуная, и далее линия продолжалась по Дунаю.
От пиктов и скоттов защищал границу двойной ряд стен; на левом берегу Рейна были поставлены мощные крепости, а вдоль Дуная на его правом берегу возникло множество городов.
Соединяла эти города и крепости военная дорога, служившая для передвижения (пешком) легионеров с Рейна на Дунай и обратно.
На северной границе в крепостных лагерях римляне держали пятнадцать легионов — больше половины всей военной силы империи. Но с упадком её мощи в конце IV века стал трещать по швам и хвалёный лимес под напором варваров, которые уже тогда с боями стали переходить Дунай и Рейн и основывать свои государства.
Таким образом город Августа Винделиков в середине V века уже считался столицей германской) племени алеманов, и Аттила на пути в Галлию, переправившись через Дунай, этот город первым после взятия подверг разорению.
От него остались одни лишь развалины, заваленные трупами. Поэтому Аттила расположился лагерем далеко от Августы Винделиков, в огромной впадине, окружённой холмами. На их вершинах и склонах, покрытых лесом, повелитель поставил усиленные посты. Здесь он и решил зимовать, а может быть, и дождаться начала лета следующего 451 года, так как осенью и весной Рейн перейти почти было нельзя из-за сильных дождей и паводка.
Лагерь Аттилы был настолько велик, что тесно было даже в этой огромной впадине; вот почему повелитель не захотел, чтобы с ним снова соединялся Увой, приказав ему зимовать в Маргусе.
Впервые Аттила при взятии столицы алеманов применил тактику «лавины»: на город обрушился такой вал гуннов, что рвы вмиг наполнились мёртвыми, — и по ним, как по мосту, шли живые; с крепостных стен продолжали осаждённые метать брёвна и камни и лить кипящую смолу, но гунны не обращали на это внимания, всё шли и шли, а поднимавшаяся гора трупов позволяла им лезть всё выше и выше... И это действительно походило на дикую лавину, сметавшую всё на своём пути. Вскоре гунны облепили крепостные стены, словно пчелиный рой ветви дерева, другие ринулись к воротам.
В этой «лавине» участвовал тоже впервые и сын Аттилы Эллак. Вооружённый мечом и луком, с висевшим у седла арканом, он, не боясь, ступал на скакуне по трупам своих сородичей, нанося по врагу уверенные удары остриём лезвия, пока не оказался также у ворот, которые вышибали уже огромными таранами.
Эллак проник на одну из улиц, где жили ремесленники. Их мастерские, служившие и торговыми лавками, стояли наглухо закрытые. Их тут же разнесли в щепки: в воздух, поднимаемые копьями, полетели клочья тканей, овчин, рубашки, кафтаны, сапоги, сандалии, плащи, кожаные панцири. Кто-то рядом с Эллаком растерзал перину, и пух и мелкие перья закружились, словно зимою хлопья снега.
Пробиваясь вперёд, орудуя мечом слева направо, а где, пуская из лука стрелы, Эллак выскочил снова на другую улицу и в окне богатого дома увидел испуганное, но очень красивое лицо молодой женщины. Он ворвался во двор, зарубив выбежавшего навстречу с топором в руке мужчину. Подле Эллака оказалось человек десять воинов-гуннов, которые помогли ему проникнуть в дом.
Там эту молодицу он обхватил рукой за стан, краем глаза успев заметить, как воины взвалили на плечи других женщин и потащили в спальни... Девушка не сопротивлялась. Он содрал с неё одежду, распластал на богатом ложе молодицу, а потом долго и молча вминал её в перину, которая вскоре под сильным нажимом двух тел взбилась по краям, а в середине сделалась тонкой и жёсткой.
Молодица тоже вначале молчала, а потом, видно, испуг перед гунном у неё прошёл, и она, охваченная плотским пылом, стала отдаваться Эллаку со всей страстью.
Затем Эллак сел на ложе и спросил на греческом (девушка оказалась римлянкой, владела греческим, на котором хорошо изъяснялся и Эллак):
— Как твоё имя?
— Марцеллина.
— А моё — Эллак. Я родной сын Аттилы.
Девушка побледнела, и у неё задрожали губы.
Увидев, какое впечатление произвели эти два имени, скорее, последнее, имя отца, Эллак засмеялся:
— Не бойся... Ты же видела, что у меня нет рогов и ступни, как у всех, а не копыта. Знаю, что моего отца все представляют таким и думают, что и сыновья похожи на него. Естество у меня, как у германских или славянских мужей. А может быть, и лучше. Так это или не так?
— Так, повелитель.
— Ещё никто меня не называл повелителем, милая... Может быть, и буду им, но только не скоро... Отец ещё полон сил и умирать не собирается. А сейчас одевайся, я беру тебя в свой обоз.
На выходе римлянка увидела растерзанных служанок, которыми насладились, а затем их искромсали мечами.
— Сколько раз говорил не делать этого; попользовались и оставь в покое... Да разве можно остановить обезумевшего от крови гунна?! — как бы для себя сказал Эллак.
После взятия Августы Винделиков Аттила устроил пир.
Широкие столы в форме буквы «Т» ломились от изобилия разных кушаний и вин. Рекою лился медовый напиток — кам, который гунны переняли от славян, но он нравился всем — и германцам, и присутствующим знатным римлянам.
Были здесь уцелевшие от резни представители городских властей; они сидели на заднике длинного стола в одинаковых войлочных колпаках. Эти головные уборы служили им признаком свободы, их носили и вольноотпущенники.
Например, смерть императора Нерона вызвала в Риме такую радость, что народ (в знак освобождения от тирании), все до единого, надел войлочные колпаки и двигался в таком виде по улицам города.
Наблюдательный Аттила спросил у рядом сидящего с ним по правую руку Приска, что означают эти самые колпаки... Приск гут же разъяснил повелителю значение головных римских уборов и привёл пример, связанный со смертью Нерона.
— А не думают ли римляне, что я их спаситель?..
— Может быть, повелитель.
И, кажется, не было ни одного даже малого эпизода за столом, который бы не интересовал Аттилу... Если это касалось других обычаев, то повелитель спрашивал о них у мудрого горбуна Зеркона Маврусия, сидящего по левую руку; что касалось германцев, ромеев или римлян — у Приска.
Приск во избежании казни не стал возвращаться в Византию, так как императору Маркиану и Пульхерии стало известно, что он передал повелителю гуннов от Гонории кольцо и письмо.
Рядом с Приском сидели любимые у Аттилы военачальники — Гилюй, Шуньди, Огинисий, между Ислоем и королём гепидов Ардарихом разместился Эллак, возбуждённый, покрасневший от недавней похвалы отца, видевшего со своего командного места во время взятия города, как сын отчаянно пробивался к крепостным воротам... Не преминул тут же сказать Эллаку добрые слова и король Ардарих, не менее наблюдательный, чем Аттила.
Сейчас Ардарих в друзьях не только у повелителя, но и его старшего сына; они пьют, едят, перебрасываются шуточками и, конечно же, не ведают будущего... Да и на мгновение в мыслях у Эллака не может возникнуть то, что в скором будущем (через три года) на реке Недао, что течёт в Паннонии, сойдутся в сражении как злейшие враги король гепидов Ардарих и он — повелитель части гуннов, доставшейся ему после смерти отца, и в сражении этом будет убит... «Перебив множество врагов, Эллак погиб, как известно, — замечает Иордан, — столь мужественно, что такой славный кончины пожелал бы и отец, будь он жив. Остальных братьев, когда этот был убит, погнали вплоть до берега Понтийского моря».
Напротив Эллака за столом находились как раз два его брата — Эрнак и десятилетний Дзенгизитц. Последний выглядел зверёнышем — густые брови, маленькие злые глазки, еле видимые из-за набухших век, низкий лобик, совсем приплюснутый нос и узкий рот, кривившийся в злобной усмешке... По совету своей няньки Иданцы он уже попробовал кушанье, приготовленное из человеческого сердца, и не находил более лучшего блюда, чем это... Иданца верила в то, что после такой еды её любимца не возьмёт ни одна отрава, а Дзенгизитцу теперь казалось, что сострадание к людям, которое испытывает порой его старший брат Эллак, это очень глупая штука... Маленький зверёныш чувствовал самое большое удовольствие, когда наблюдал за казнью. Поэтому он бывал частым гостем у жрецов бога Пура, когда жертвы вначале подвешивались на крючья. А потом Дзенгизитц над повешенными за ребра издевался и плевал им в лицо...
Эрнак был не менее жесток, чем его младший брат, и он уже, как Эллак, имел своих воинов. Если Эллаку шёл двадцатый год, то Эрнаку только что исполнилось семнадцать.
Продолжая ряд по правую руку Аттилы, сидел за Ардарихом король остготов Аламер, за ним король ругов Визигаст и далее — три вождя склавенов — Дроздух, Милитух и Свентослав. Тут же разместился и старейшина Мирослав, который ещё не знал, что оставленный им отряд для защиты селений полностью погиб от рук амелунгов, а жители оказались в лагере полководца Увэя.
По левую же руку, начиная от Дзенгизитца, находились короли менее достойных, по мнению Аттилы, германских племён — маркоманов, квадов, герулов и скиров.
Вдруг прозвучал рог. Все подняли от еды головы, вытирая о штаны масляные руки. Из-за деревянного укрытия, расположенного за задником стола, вывели короля алеманов графа Гервальда в изорванном кожаном панцире. В левой и правой руках он нёс две части переломанного пополам меча.
Приблизившись к Аттиле. граф бросил обе половинки меча к ногам повелителя, упал на колени и поцеловал край его плаща. Только тут Аттила встал из-за стола; двигая скамейками, встали и пирующие.
— Признаешь ли ты, граф, единственного в мире, завоевателя Скифии, держащего в своей власти варварский мир, могущественного вождя гуннского союза племён, регнатора[129] Аттилу своим повелителем? — громко вопросил Зеркон Маврусий, уже одетый по такому случаю в расшитую золотом тогу.
И тогда граф Гервальд так же громко объявил собравшимся:
— Признаю!
Аттила поднял его с колен, обнял и усадил на место, которое только что занимал горбун...
Утром другого дня, когда в своей юрте Эллак ещё тешился с римлянкой, к нему прискакал Ардарих и передал, что его вызывает отец.
— Что случилось?
— Не ведаю того, — ответил король гепидов, пряча в усах весёлую усмешку.
Эллак понял, что Ардарих знает всё, только говорить не хочет или ему запретили.
«Ладно, разберёмся...» — Эллак тоже вскочил на коня, и через час, проехав немалое расстояние до юрты отца да ещё и пробившись через одиннадцать колец охраны, предстал перед повелителем.
У него сейчас находились Приск, Огинисий, германец Орест, Эдикон, Ислой и опередивший Эллака Ардарих. Эллак поздоровался со всеми и встал, играя плёткой, — держал её в левой руке и легонько посту кивал ею о ладонь правой.
— Хорошим богатуром стал у меня старший... Посмотрите!.. — обратился Аттила к собравшимся, а потом уж повернул лицо к Эллаку: — Сынок, у меня только что были члены местного магистрата... Во время взятия города ты захватил в плен женщину, которая является дочерью наместника Рима. Твоё право владеть ею... Да и власть наместника номинальна, так как здесь хозяйничали алеманы и их король граф Гервальд. Но я всё же как защитник угнетённых по закону справедливости вынужден попросить тебя отдать эту женщину отцу...
«Аттила стал называть себя защитником угнетённых с тех пор, как объявил себя человеком, ограждающим от всяких посягательств римскую Августу... — возникло в голове у Приска. — Для того и затеял он этот поход. А потом уж намеревается пойти на Рим...»
— Но она сама не пойдёт!
— Почему? — строго спросил Аттила Эллака.
— Я нужен ей.
— Хорошо, пусть остаётся, но она должна навестить отца. Если ей нужен ты, то она вернётся к тебе... В ином случае, насилие над ней и её отцом ты чинить не станешь... Обещай мне.
— Обещаю.
«А если не вернётся?.. — раздумывал, возвращаясь в свою юрту, Эллак. — Говорит, что я нравлюсь ей. А почему тогда не сказала, что является дочерью наместника Рима?..»
В юрте он прямо спросил об этом Марцеллину.
— Милый, я думала, что если скажу об этом, то ты отошлёшь меня в город.
— Тебя ждёт твой отец, сказал мне Аттила. А вернёшься ко мне?
— Обязательно.
Но Марцеллина не вернулась... По дороге в город в лесном распадке на неё напали неизвестные люди, перебили охрану и зарубили её.
Кто они — эти неизвестные?.. Что им сделала какая-то римлянка, пусть и приходившаяся дочерью наместника, у которого, по словам Аттилы, и власти-то никакой не было.
Но давайте в точности попытаемся восстановить картину происшедшего.
Когда в юрте сын повелителя громко заявил, что римлянка не поедет к отцу, так как он нужен ей, то король Ардарих вначале поразился самоуверенности Эллака, отличившегося всего один раз при взятии города Августы Винделиков... Да, Ардариху приходилось брать десятки городов, сколько раз рисковать жизнью, быть тенью великого повелителя, во всём потакать ему, но, где нужно, правда, и правильно советовать, — умный Аттила умеет ценить человека, ценил он за всё это и короля гепидов. Но вот так, чтобы повелитель при всех, как он сделал, хваля сына, восхитился бы или подвигами, или умом Ардариха, такого ещё не бывало...
«Всё равно у Аттилы мы, короли племён, не родственных гуннам, что кусты у дороги, надо затоптать — затопчут, если нужно, то и объедут... И ты на большее рассчитывать не можешь...» — раздумывал Ардарих.
Вдруг непонятная злость охватила короля гепидов, пока сын и отец говорили о дочери наместника Рима. Ему захотелось сделать сыну Аттилы какую-нибудь гадость, чтобы сбить с него самоуверенность и спесь... Разве кто может вот так запросто войти в юрту к регнатору, встать посреди и поигрывать плёткой?! Кто он такой?.. Да пусть даже и родной сын... Ты покажи себя много раз в деле, прояви мужество и отвагу, тогда и поигрывай!
Да и дочь наместника, если она полюбила его, то наверняка полюбила не как его самого, а как сына повелителя, перед которым склоняются многие народы.
Тогда король гепидов и решил убить Марцеллину, назло Эллаку, но и подумал ещё, что этим вызовет раздор между отцом и сыном и посеет семена ненависти между гуннами и римлянами, проживающими здесь... Хотя и понимал Ардарих, что гибель дочери наместника не произведёт сильного впечатления; разве что это сравнительно с тем, как если бы в пруд, заросший ряской, упал камень... Поначалу бы ряска раздвинулась, а потом снова замкнулась над канувшим на дно камнем. Но его всё-таки бросит он, Ардарих!
Вот таким образом можно, оказывается, успокоить себя... Далее Ардариху не составляло труда выследить Марцеллину, переодеть в лохмотья своих людей и покончить с ней.
Поначалу Аттила взъярился на Эллака, как будто бы он явился причиной гибели дочери наместника. Но отец очень любил старшего сына и мог простить ему и не это... Он лишь заставил Эллака поехать к наместнику Рима и сказать ему, что в убийстве Марцеллины нет никакой его вины.
Но, как вы помните, в юрте тогда находился и казначей Аттилы Орест. Будет интересно узнать и его мысли в тот момент.
Ещё раньше, как только повелитель принял кольцо от римской Августы, пообещав ей свою защиту, Орест тогда прикинул, что теперь гуннам придётся воевать сразу против двух империй... Сумеет ли повелитель одолеть, казалось, неодолимую силу?
И с тех нор начала зреть у Ореста задумка, как бы урвать хотя бы частичку того несметного сокровища, которым владеет Аттила? Ведь, кстати, сам он даже не заметит, что исчезла лишь малая часть... «Он, конечно, проверяет свои богатства, но я в приходной и расходной книгах так всё распределю, что комар носа не подточит... — подзуживат себя на отчаянный проступок Орест. — А если победа будет за Аттилой?! Что мне делать тогда с моей утайкой? А ничего... Аттила не вечен, он старше меня, а я ещё молод; не станет его — тогда и начну эту утайку расходовать...»
Вот так и вызревало у Ореста желание украсть хотя бы малую толику сокровища своего благодетеля. Малая толика, если считать её по отношению ко всему богатству, а на поверку она окажется очень большой... Вот она, человеческая благодарность!
И когда Эллак пошёл к выходу из юрты, Орест, глядя ему вослед, именно в этот момент окончательно укрепился в мысли: «Украду!»
И думается, это тоже произошло под впечатлением принародной похвалы Эллаку; хоть Орест и считается почти братом, а повелителю сыном, но такой похвалы ему вовек не дождаться. Так лучше о себе позаботиться загодя.
Затем повелитель и собравшиеся, подумав и зная, что второй сын короля вестготов в Голосе не совсем в ладах с отцом, решили послать к Теодориху Второму посла с письмом от Аттилы, в котором он обещал своё тайное покровительство. Это придаст сыну Теодориха-старшего в нужное время и при благоприятно сложившихся в будущем обстоятельствах уверенность в борьбе за власть.
Письмо такое было написано, и его поручили отвезти Приску, но так, чтобы он неузнанным и под большим секретом от короля вестготов передал это письмо Теодориху Второму.
* * *
Объяснение в любви капитана и её спасителя надолго выбили Рустициану из прежнего жизненного равновесия, но после долгих раздумий она, в конце концов, пришла к твёрдому убеждению уйти в монастырь, тем более что ей посоветовал это сделать и епископ Сальвиан.
Стараниями епископа и короля Теодориха монастырь открыли за год до приезда в Толосу из Карфагена Рустицианы, собственно, это стал первый арианский женский монастырь в Аквитании, и хитрая бестия Сальвиан предвидел немалую материальную выгоду, если бы Рустициана постриглась в монахини. Дочь свою король вестготов очень любит, рассуждал епископ, и тогда он ещё больше пожертвует на содержание монастыря. А в монастыре у Сальвиана имелись прямые интересы — настоятельница мать игуменья Олимпиадора является возлюбленной епископа.
Смущало Рустициану, что монастырь арианский, но епископ и игуменья пошли даже на то, чтобы для дочери короля установить особую службу, для чего будет приспособлена малая церковь. Рустициана тогда и согласилась, так как сразу замыслила обратить в истинную веру других инокинь, заблудших, по её мнению, в ереси. Рустициана как бы сразу увидела своё высокое предназначение: она в монастыре не просто станет проводить свои однообразные дни до своей кончины, а заниматься великом делом — делом спасения душ...
Окончательно утвердившись в своём решении, она в то же время пожалела страдающего от любви к ней Анцала: встречи, которые случались с ним после того памятного дня, убедили её в искренности его чувства.
И ещё она решила, что за любовь к ней и за её спасение она должна наварха отблагодарить как женщина, ибо как женщина после его признания стала испытывать к нему огромное влечение.
По ночам она просыпалась от того, что видела сны, как он жадно целует её, как обнимает её прекрасное тело, как нежно ласкает её с головы до кончиков пальцев, как доводит её до исступления, и Рустициана уже знала, что если наяву она не удовлетворит с ним свою страсть, то такие сны будут и впредь приходить к ней по ночам...
Она честно призналась в том Анцалу; он опечалился тем, что она уходит в монастырь, но и обрадовался её желанию отдаться ему.
В один из дней Рустициана навестила отца. После получения письма от римской императрицы он как-то сразу приободрился — никак не ожидал такого поворота событий. Казалось, после того, как он нанёс поражение Литорию и захватил его в плен, Рим должен объявить короля вестготов своим кровным врагом, а тут поступило предложение обратного свойства — стать союзником в борьбе против гуннов.
Теодорих, может быть, до конца бы и не доверился Плацидии, как не доверился он Аттиле, если бы на него не произвёл впечатление полководец Аэций, приехавший самолично на переговоры о выдаче из плена Литория. Уже тогда Теодорих решил, что лучше он будет в дальнейшем иметь дела с римлянами.
Король вестготов помнил хорошо рассказы о легендарном короле Германарихе, воевавшем против гуннов и окончившем жизнь на острие своего меча, и его прямом потомке Винитаре, погибшем от стрелы Ругиласа, родного дяди Аттилы.
К тому же, давая согласие Плацидии и Аэцию в совместной борьбе против Аттилы, Теодорих исходил из древней, как мир, поговорки: «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты...», которую можно перефразировать иначе: «Скажи, кто твой враг, и я скажу, кто является тебе другом...»
«А если у Рима кроме гуннов есть ещё кровный враг король вандалов Гензерих, то, значит, Рим — друг мне, так как с Гензерихом у меня особые счёты...» — думал король вестготов.
Рустициана вошла к отцу и объявила о своём окончательном решении стать монахиней.
— Но у меня есть к тебе, отец, одна просьба — позволить мне пожить у бывшего нашего садовника на мельнице на берегу Гарумны, перед тем как затвориться в монастырских стенах от мира...
— Дочь моя, ты снова рвёшь моё сердце, объявляя о добровольном затворничестве, но поделать ничего не могу... Знаю и то, что тебя любит твой спаситель наварх... Но право выбора я предоставляю тебе. И просьбу твою удовлетворяю.
— Но пожить я хочу на мельнице не одна, отец, а с навархом Анцалом, уж коль тебе ведомо о его любви ко мне... Мы бы не хотели никакой охраны. Только с ним вдвоём.
— Ты же знаешь, что я не могу тебе ни в чём отказать. Думаю, наварх сумеет тебя защитить.
— Благодарю, отец.
И сейчас Анцал и Рустициана ехали рядом верхом по берегу Гарумны в направлении ветряной мельницы, где, Рустициана сказала, живёт бывший их садовник, отпущенный на свободу и приобретший потом эту мельницу.
Королевна помнит этого человека с детства, который много уделял ей внимания, так же, как Теодориху-младшему, которого тоже любил.
Как далее сообщила Рустициана, бывший садовник — галл, но внешностью своей, несмотря на свою старость, походил и теперь скорее на сармата или германца: с голубыми глазами и такими же, как у второго сына короля, рыжими волосами, которые до сих пор не тронула седина. Повзрослев, Теодорих-младший поддерживал с бывшим садовником добрые отношения и не боялся поверять ему даже самые сокровенные думы.
Такое подробное сообщение о взаимоотношении её и второго по рождению брата с бывшим сервом, а теперь свободным человеком, мельником, навали бы наварха на какие-нибудь выводы, но он всецело был поглощён тем, что предстояло ему испытать с любимой женщиной.
Через какое-то время им встретился едущий тоже верхом галл Давитиак.
— Откуда? — спросил у него обрадованный этой встречей Анцал.
— Да так... — замялся Давитиак. — Ездил к одному другу.
— Он тебе не солдурий[130]? — уже наслышанный о некоторых галльских обычаях, снова спросил наварх.
— Нет-нет... А вы куда путь держите? — обратился Давитиак уже к дочери короля, слегка поклонившись ей.
— Гуляем по берегу Гарумны, — ответил за Рустициану наварх. Давитиака Анцал видел не раз у Теодориха-младшего. Когда был тот рабом, то встреча в разгульном доме вызвала бы у наварха некоторые подозрения, но теперь — нет: Давитиак после победы в сражении с римлянами Литория стал свободным гражданином и приближённым человеком ко двору. Сейчас уже и епископ Сальвиан на равных считался с ним.
А у Анцала с Давитиаком установились дружественные отношения во время пути на океан и обратно, и сын короля Теодорих знал об этом и намеренно способствовал их продолжению.
Глубокая осень... Но пока ещё держится, как это часто бывает здесь, лист на дубах, пока сопротивляется дуновению ветра и не падает на землю, а мохнатые ещё, зелёные ивы низко клонятся над рекою, и только зоркий глаз может узреть, как под их клубкастыми ветвями в вязком холоде иногда взблеснёт серебряной чешуёй огромная рыба.
Время, когда бортники, обхватывая стволы деревьев приспособленными для такого случая «когтями», лезут на самую верхушку, чтобы выбрать из дупла мёд, натасканный пчёлами весною и летом, а виноградари мнут спелые, налитые солнцем гроздья в огромных чанах, сливая сок, из которого сделают потом вино. Из убранного же ячменя сварят пиво, и попивать это пиво будут люди простые, те, кто «поплоше»...
Время, когда местные галлы-вольки режут свиней, устраивают свадьбы.
И как только утихнут осенние работы, тогда раба-серва можно купить за меру вина... Рабы-сервы нужны были везде — на работе в иоле, на оливковых и виноградных плантациях, в медных рудниках и каменоломнях, где добывается мрамор.
Сервы работали кузнецами, сапожниками, портными, жили в страшной нищете и бесправии: документы, подписанные сервами, считались недействительными; рабы не имели права жаловаться на господина.
Уход от него считался бегством, жениться без разрешения сервы не могли, дети рабов наследовали положение родителей. В судах похищение рабов расценивалось как кража, а похищение свободного человека — как убийство...
Господин не имеет права убивать раба, но не несёт ответственности, если серв умрёт во время наказания.
Рабы-сервы всё же бежали от своих господ — в леса, в горы, становились разбойниками, грабя и убивая богатых.
В Аквитании тоже было от разбойников неспокойно...
Уходили в разбойники не только сервы, состоящие из пленников и местных галлов, но и обедневшие крестьяне, ремесленники. Они образовывали вооружённые отряды, называемые в Галлии багаудами.
Были такие отряды и в угнетённой Северной Африке, которая находилась по соседству, где поначалу хозяйничали римляне, а затем вандалы. Эти отряды назывались здесь циркумцеллионами (название переводится дословно как «бродящие вокруг деревенских клетей»).
Циркумцеллионы немало хлопот доставляли королю Гензериху, так же как и багауды королю вестготов.
Хотя Гензерих и Теодорих I являлись смертельными врагами, но всё же роднила их эта борьба против разбойников внутри своих государств...
Давитиак тесно был связан с багаудами, и возвращался он, повстречавшись с влюблённой парочкой, едучи от одного главаря разбойников по имени Думнориг.
А Рустициана и Анцал, разминувшись с бывшим рабом и предсказателем, спустились в долину и пришпорили коней. Вскоре увидели ветряк старика Писона и его самого, стоящего чуть поодаль, высокого, с широкими плечами, с развевающимися на ветру медного цвета волосами.
— Смотри, Анцал!.. Хорош?
— Хорош! — искренне восхитился наварх фигурой мельника.
Подъехав поближе, Анцал действительно нашёл старика красивым: голубые внимательные глаза на худощавом лице, волевой подбородок, высокий лоб, а когда Писон улыбнулся гостям, то показал ряд белых здоровых зубов.
«А ведь ему пошёл восьмой десяток...» — сказала про себя Рустициана.
Мельник знал о несчастье дочери короля, был ошеломлён её чёрной повязкой на носу, но вида не подал, обнимая любимицу. Заинтересованно выслушал Анцала, который доложил ему, что он — капитан двухпалубного корабля и из Карфагена привёз Рустициану через Гадирекий пролив к берегам океана, а оттуда — по Гарумне в Толосу. От Давитиака и оруженосца Теодориха-младшего, часто бывавших на мельнице, Писон слышал эту историю; пожав крепко руку Анцалу, он также обнял наварха в знак благодарности...
Ни о чём больше не спрашивая, Писон повёл их в дом, стоящий рядом с мельницей, а слуги взяли лошадей Рустицианы и Анцала под уздцы.
У старика жены и детей не было: будучи сервом, не хотел жениться, чтобы не плодить себе подобных рабов, а когда получил свободу, был уже не молодым — вместо жены имел на содержании экономку, родом тоже из галльской семьи, — черноглазую бойкую бабёнку, у которой, как заметила Рустициана, всё горело в руках... Она не доверила слугам накрыть стол для столь высоких гостей, а сделала это сама, протерев полотенцем каждую миску, каждый прибор.
Патрисия — так звали экономку — украдкой взглядывала на лицо дочери короля, тоже зная, что произошло с ней в Карфагене, и так же украдкой утирала навертывавшиеся на глаза слёзы.
«Бог Огмий, помоги этой женщине! Испортить такую!.. Но и с чёрной повязкой она — красавица на загляденье... Какой стан! Какая походка! Одно слово — королевна... А вот, говорил Давитиак, собралась в монастырь... Бедная! Как не справедлива судьба и к представителям королевской фамилии... И ты, бог Баден, помоги этой женщине!» — про себя молила своих богов сердобольная возлюбленная мельника.
Когда гости пообедали, Патрисия отвела их в покои: только вначале спросила у хозяина:
— А как размещать?.. Судя по тому, как они относятся друг к другу, я бы поместила их вместе.
— Ну и помещай вместе... Окажешься неправа, тебя Рустициана поправит, — с улыбкой ответил Писон.
— Знаешь, остались довольны покоями... — через какое-то время докладывала Патрисия мельнику. — Анцал и Рустициана все перины на ложе хвалили... Они у меня и впрямь до небес!
— А может быть, им лучше бы без перин?! Помнишь, как мы с тобой, как помоложе были, в плотницкой на голом верстаке?
— Помню! Я потом свою служанку из спины занозы заставляла вынимать. Она вынимает и охает, а я смеюсь, вспоминая и угадывая, в какой момент та или иная могла впиться...
— Молодость!.. Да ничего, мы ещё с тобой занозиться можем... — засмеялся Писон. — Пусть будут у них перины, по ночам уже холодно; если что, на пол сползут.
— Вот бы хорошо, если бы у них всё это свадебкой закончилось.
— Вряд ли... Как задумала Рустициана, так и будет. С пути не свернёшь... Я её знаю, Патрисия. Видно, перед тем, как затвориться от людей, захотелось ей побыть среди них... Повеселиться, одним словом.
— Повеселиться?.. Нет, мой любый Писон, весельем тут и не пахнет... Посмотри на обоих... И то, понятное дело, ведь их потом ожидает разлука. Пусть напоследок любятся.
На другой день рано утром проснулся Анцал от скрипа подвод и громкого понукания — догадался, что это волы везли к мельнице смолоть пшеницу только что собранного урожая.
«Дел теперь у Писона будет невпроворот... А тут мы со своими хлопотами...» — наварх покосился на Рустициану. Она спала, разметавшись обнажённая, но даже во сне инстинктивно прикрыла локтем лицо; нежные перси её, округлые, как чаши, вздымались и слегка трепетали от ровного дыхания, в углублении на гладком упругом животе застыла капелька пота, не высохшая ещё, так как снова со всей страстью Рустициана отдалась Анцалу совсем недавно, может быть, за час до того, как разбудили его скрипы и крики погонычей. Перина, скомканная, лежала на полу...
Анцал, не одеваясь, голый подошёл к окну.
— Какой ты красивый, капитан! — сказала Рустициана, проснувшись и открыв глаза.
— Милая моя! И ты как утренний цветок, который в росе... Я только что видел на тебе росинку.
— Где, где? — воскликнула Рустициана, надевая повязку, а на виски — подвески.
Подошла тоже к окну, не одеваясь, всмотрелась:
— Жаркий предстоит на мельнице денёк. Смотри, подводы едут и едут.
К обеду их не уменьшилось, а стало больше. Выпряженные волы, но не освобождённые от ярма, гремя нашейными колокольцами, попарно паслись на склоне холма, спускающегося к реке. С другой стороны холма расположилась роща, состоящая из южного, так называемого пушистого дуба с зарослями вереска и ладанника.
Вот туда и отправился, вооружившись луком, поохотиться на оленя после обеда Анцал, оставив Рустициану на попечение Патрисии и её многочисленных слуг. Наварх удивлялся: «Откуда их столько у простого мельника?..» Но потом сообразил, что если навещают его члены королевской семьи, то понятно... Вот и теперь заметил, что на некотором расстоянии за ним следуют верховые — охранники... Сам король говорил дочери, что не будет никакой охраны. Ну и ладно, не мешают — и хорошо.
Пробираясь верхом через кусты ладанника, Анцал вскоре выехал на поляну; огляделся, слез с коня, — тут наварх и устроит засаду на оленя. Сейчас на стороне капитана должно стать терпение и ещё раз терпение.
Коня он отвёл в кусты, чтобы его не было видно, привязал к дереву, погладил лоснящийся лошадиный круп и в этот момент почуял запах дыма. «Может быть, неподалёку находится тайное капище жрецов-друидов?.. — И содрогнулся от этой мысли. — Если они кого и сжигают, то наверняка человека...»
Но, несмотря на внутренне неприятие этого и даже маленький страх, любопытство всё же погнало его узнать о происхождении дыма.
Анцал снова погладил круп коня, успокаивая животное, да и себя как бы тоже — прикосновение ладони к коже бессловесного, но родного существа придало ощущение уверенности, и капитан тихонько пошёл в ту сторону, откуда шёл дымный запах.
Но Анцал вышел не к предполагаемому капищу, а к землянке, застланной брёвнами; через отверстия между брёвен и шёл дым, значит, костёр кто-то развёл на полу обогреться или сварить ужин. Время клонилось к вечеру.
Капитан подкрался поближе и услышал голоса, доносившиеся снизу. Один из них Анцал узнал сразу — голос Писона, владельца мельницы.
«И когда он успел?. Уезжая, я видел, как он заводил очередную подводу с мешками пшеницы во двор».
— Думнориг, я обязательно передам письмо от Аттилы Давитиаку, а тот отдаст его прямо в руки рыжему Теодориху.
«Это они так величают второго сына короля вестготов. А почему ему, а не Теодориху-старшему?.. И почему такая таинственность?» — промелькнуло в голове наварха.
— И ещё, Писон, тот, кто доставил письмо, по имени Приск, пусть поживёт у тебя на мельнице. По крайней мере, до тех пор, пока не получит ответ от Рыжего.
— Но сейчас у меня гостит Рустициана со своим дружком.
— Я знаю... Спрячешь Приска на сеновале.
— Хорошо, Думнориг, всё будет сделано так, как велишь.
«Думнориг... Думнориг... Не тот ли, о ком слагают в народе легенды... Неуловимый вождь багаудов... Но его можно схватить, если я обо всём расскажу Теодориху-старшему. Но только не это! Если бы я стал зятем короля, то можно было на это решиться. А сейчас я здесь чужеземец... И только. Побудешь на мельнице, позабавится ещё денёк-другой Рустициана тобой, как игрушкой, и закончится твоё наслаждение от обладания ею... А сейчас нужно уносить отсюда как можно быстрее ноги...» — Анцал вскоре сел на коня и отъехал от опасного места. На краю рощи увидел, как повернули коней, не доехав до неё, и охранники.
«Гляди, и Рустициане ни слова! — внушал себе капитан.
Сделалось неуютно и холодно на душе оттого, что он частично проник в ненужную ему тайну. И ещё оттого, что всё хорошее, происходившее с ним, к сожалению, скоро кончится...
IV
В кабинете дворца в Карфагене за столом сидели двое: сам правитель вандалов Гензерих и король свевов Рикиарий. Здесь же прохаживались две огромные собаки, то и дело поглядывавшие на гостя.
Гензерих украдкой рассматривал лежащую на столе необычайно красивую золотую, с драгоценными камнями вещь в форме африканского льва, подаренную Рикиарием. Этот подарок являл собой явный намёк на могущество короля вандалов — в Средиземном море, портах Карфагена. Сардинии ходило и стояло у него множество быстро построенных кораблей, готовых отплыть к Риму в любой момент.
Рикиарий, молодой, горячий, торопил с походом: говорил, что его войска, хорошо вооружённые, готовы загрузиться на палубы грозного вандальского флота. И ещё он заявил:
— Вожди племени автригонов тоже пойдут с тобой, король. Они мои соседи — я приведу их.
— Это племя, кажется, обитает в северной Лузитании, в испанских горах, где начинается река Эбро. Я знаю эти места.
— Именно так.
— Рад тому, что ты сказал... Но с походом на Рим мы всё же погодим. Пусть Аттила в Галлии потреплет вестготов и римлян.
— А если потреплют его?
— Ну, это тоже нам на руку. Мне доложили, что у Аттилы численность войска больше четырёхсот тысяч. Столько же у Аэция и Теодориха вместе взятых. Скоро гуннский правитель переправится через Рейн, навстречу Аттиле уже идут римский полководец и король вестготов с сыном Торисмундом. И такая произойдёт кровавая битва, Рикиарий, — Гензерих впервые назвал короля свевов по имени, — что полягут сотни тысяч с одной и другой стороны... И не важно для нас, кто победит, мощь тех и других будет ослаблена... Вот тогда и скажем своё слово.
За дворцом плескалось море, громко отдавали команды капитаны кораблей, стоящих на приколе у самого берега.
— Я ведь тоже стал строить свои корабли, — как некую тайну сообщил правителю вандалов Рикиарий.
— А мне это известно... — улыбнулся Гензерих, и угрюмое лицо его осветилось.
«Хромой чёрт, всё ему известно, и всё-то он знает...» — подумал король свевов, а вслух сказал:
— Добродетель заключается и в том, чтобы всё знать...
— В чём заключается эта самая добродетель, я не совсем представляю точно... Только я бы добавил к твоему определению, Рикиарий, ещё несколько слов: не только всё знать, но и уметь... Кстати, добродетель в наше время очень редкая штука, и нужна ли она?
— А как же в отношении между друзьями?
— Здесь, я думаю, скорее нужна порядочность. — Лицо Гензериха снова сделалось угрюмым, как всегда, а взгляд колючим и подозрительным.
Наконец он взял отлитую голову льва в свои руки — всё же сказалась жадность к золоту и драгоценностям, — не вытерпел, чтобы в открытую не восхититься такой вещью, да и польстить гостю тоже:
— Какие прекрасные изделия льют ваши мастера!
— Да, король, а золото для этой головы добыли на реке Таг[131]. Река, смешивая золотой металл с илом и песком, влечёт его в океан...
— Жаль, что не влечёт она его прямо сюда, в Карфаген... — пошутил предводитель вандалов.
Рикиарий внутренне поёжился от такой шутки. К счастью, к Гензериху зашёл его старший сын Гизерих, и разговор короля вандалов с королём свевов пошёл на убыль и скоро закончился.
— Отец, ты просил доложить, как только судно будет готово к спуску на воду. Оно готово.
— Хочешь с нами пойти, Рикиарий? Я покажу тебе своих кормчих и корабельщиков. У меня ведь многие из них бывшие сицилийские пираты...
Король вандалов вылез из-за стола, хромая, но бодро вышел на середину кабинета и указал Рикиарию на дверь.
У входа во дворец на улице подали коней. Рикиарий подумал, что сейчас с королём вандалов они поедут к воротам, но Гензерих направил коня вверх по широкому, ограждённому каменным бортом спуску, и вскоре оба оказались на крепостной стене у огромной башни с бойницами. Тут они слезли с коней, которых приняли оруженосцы, и подошли к башне. Отсюда открывался великолепный вид на море, по которому сновали однопалубные корабли с круто загнутыми килями, изображающими своими формами то льва, то грифа, то орла; двухпалубные диеры с рядами вёсел и парусами и даже триеры наподобие римских либурн с таранами на корме.
— Это мой флот, — с гордостью скатал Гензерих, и глаза его сделались с «волчинкой» — из голубых превратились в жёлто-зелёные.
Он стоял, опершись одной ногой о выступ борта. Ростом Гензерих не выделялся, но гордо сидящая на плечах голова с густыми светлыми волосами, спускавшимися вниз ровными прядями, которые сейчас шевелил ветер, прямая широкая спина и гибкая тонкая талия, с висевшим на ней мечом с богато отделанной рукояткой, синий внакидку плащ из тонкой шерсти делали фигуру короля вандалов величественной.
— Как только взят Карфаген, я огородил его двойными стенами такой ширины, что они примкнули к самой воде, и теперь каждый корабль с моря швартуется вплотную к ним. В стенах устроил железные двери, и через них с палубы подаются различные грузы: то может быть зерно, которое перехватываем у римлян, или рабы — да мало ли что мы сейчас перевозим!..
Если другие города в Африке — Гиппон, Цирту мне пришлось штурмовать осадными орудиями и разрушать их, то Карфаген я брат при помощи деревянных, обитых железными листами башен, которые выкатывались вровень с каменными зубцами, и по перекидным мосткам мои воины перебегали на крепостные стены, а оттуда — на городские улицы и площади. Поэтому город остался целым, и я сделал его своей столицей. Говорят, что мы варвары... Разрушители. А римляне — нация созидателей. А не они ли в третью Пуническую войну специальным постановлением сената разрушили Карфаген — родину Ганнибала — до основания, даже разобрали стены и каменные здания, а остальное — спалили дотла?! И пятьдесят тысяч карфагенян продали в рабство... Я же не взял в Карфагене ни одного пленного. Конечно, убитых было много... Сколько времени прошло! А до сих пор на выжженных римлянами местах имеются провальные ямы... Созидатели! — презрительно процедил сквозь зубы Гензерих. — Вот как возьму Рим, устрою им такой же Карфаген, какой они здесь когда-то устроили...
Пока король вандалов говорил, к башне, на которой была укреплена стрела со спускающимися вниз двумя железными цепями с крючьями, подошли люди. Тут были и африканцы, и германцы, и даже римляне. Но все были одеты одинаково — в шёлковые рубахи и малиновые шаровары. Только на пятерых накинуты такие же синие из тонкой шерсти, как у Гензериха, плащи.
— Эти пятеро — мои сыновья. Пойдём, Рикиарий, я познакомлю тебя с ними: старшего Гизериха ты уже видел, второй по рождению — Гунерих, третий — Гунтамунд, четвёртый — Тразамунд и пятый — Ильдерих.
Последнего отец потрепал по щеке. Когда Рикиарий подавал руку Гунериху, король вандалов напомнил обоим:
— Вы не забыли, что являетесь свойственниками...
— Нет, не забыл... — ответил за себя Рикиарий.
— А после того, как пришлось подвергнуть казни Рустициану, её сестра не настраивает ли тебя, король свевов, против нас?
— Посмела бы только! Тем более я знаю, что справедливый из справедливейших король вандалов зря человека не накажет...
— Ты верно говоришь, мой союзник... Больше того, я хотел эту женщину, дерзнувшую меня отравить, предать смерти, но её спас наварх Анцал... Думаю, что мне всё же представится возможность отомстить ему за это.
— Суета сует... Так говорит наш епископ в Галлеции[132] Иероним Идаций, письменно зафиксировавший! ещё сорок лет назад переход из Галлии через Пиренеи трёх лучших племён — двух германских и аланов, — напомнил Рикиарий, чем также польстил Гензериху, ибо разговор в связи с жёнами стал уходить в нежелательную сторону. — Два германских племени — вандалов и свевов — остались верны своему слову — бороться до последнего вздоха с ненавистным Римом, от руки которого погибло много наших воинов; аланы же, как и вестготы, предали нас...
И упреждая вопрос, Рикиарий добавил:
— Не стану же в таком случае я искать союза с вестготами, хотя и Теодорих является моим тестем!
— Я верю тебе, Рикиарий. — Гензерих ткнул крепко сжатым кулаком в плечо-короля свевов. — Теперь смотри, как новый мой корабль будут спускать на воду. Строим мы корабли внутри крепости. Там ещё видны неприбранные щепки. А внутри для того, чтобы при неожиданном нападении враги не смогли запалить верфь. Так бы случилось, если бы она находилась снаружи.
Люди в малиновых шароварах и сыновья Гензериха подошли к огромному вороту и начали его вращать: стрела послушно поползла в другую сторону, и цепи с крючьями повисли во внутренний двор крепости, точно над кораблём. А внизу зацепили крючья за трос, которым был опутан весь корабль; затем люди внизу разошлись, но на палубе появился жилистый загорелый человек. Он дал знак находившимся у ворота наверху и, оставаясь на борту, приветственно помахал рукой Гензериху.
— Это будущий капитан сего корабля, — пояснил король вандалов. — Капитан присутствует на нём с момента касания днища воды, а при крушении на море (конечно, не дай Бог!) уйдёт с палубы последним.
Ворот снова начал работать, но видно было, как становится тяжело тем, кто вращал его. Корабль оторвался от земли и стал подниматься. Вот он достиг края стены, и все увидели его высокие борта с отверстиями для вёсел и закрученный спереди в форме змеи киль.
Корабль повис над стеною, капитан бросил с него что-то своему королю. Стрелу перевали, и судно, оказавшись за внешней стороной крепостной стены, начало медленно спускаться.
— Держи, Рикиарий! В знак дружбы от меня, — сказал Гензерих и подал королю свевов то, что бросил капитан — всего-навсего кусок красной материи, на котором белыми нитями было вышито: «Попутного ветра! Рим будет разрушен!»
— Благодарю, король! — Рикиарий растрогался.
Величие короля вандалов проявилось и здесь. Его последовательность в борьбе с римлянами только восхищала.
* * *
— Чендрул, я разрешаю тебе набирать в свою тысячу воинов из самых лучших гуннских родов, коими являются хунугуры, биттугуры и алпидзуры. А также можешь брать и германцев, но не всякий сброд, а лиц, приближённых к королям, графам и герцогам, а может быть, состоящих с ними в родстве... Я возлагаю на тебя в предстоящей битве великую обязанность по захвату короля вестготов Теодориха и самого полководца Аэция, — говорил Аттила представшему по его велению перед ним бывшему сотнику из войска Увэя.
О том, как Чендрул проявил себя при взятии среди болота острова, на котором засели амелунги, во всех красках расписали правителю полумира сотник Юйби и десятник Хэсу, когда они вернулись к своему начальнику Целою.
Хэсу привёз с собой склавенку Любаву: она по своей воле, а не по насилию отдалась ему в Маргусе, где они на какое-то время задержались с отъездом. Хэсу Любаве показался умным и терпеливым гунном, так непохожим на своих сородичей: его же внимательное отношение к ней окончательно покорило сердце молодой вдовы...
— Великий, а можно я возьму к себе в полном составе сотню Юйби, в которую входит десяток Хэсу?.. Мы вместе с ними переправлялись через болото, и я видел их в ратном деле.
— Чендрул, ты волен делать так, как считаешь надобным. И если нужна тебе эта сотня — бери.
— Как только я наберу тысячу, повелитель, мне бы хотелось, чтобы она дала клятву перед Марсовым мечом, а потом по обычаю принесём в жертвы грозному богу Пуру тех пленных, каких добудем ещё до начала великой битвы.
— Это хорошая мысль. И я тоже се одобряю. Действуй, Чендрул, — благословил Аттила на большое дело ранее безвестного сотника; в Каталаунской битве он действительно оправдает надежды повелителя.
Зима и весна для Чендрула ушли на то, чтобы отобрать в тысячу воинов, ибо каждого он испытывал сам, а затем поручил это делать Юйби и Хэсу, чем окончательно покорил последних, вначале недовольных его таким назначением и возвышением. Но они знали: воля повелителя — священная воля...
А для воинов испытание состояло в умении хорошо рубиться на мечах; стоя в полный! рост на скачущей лошади, метко стрелять из лука и кидать копьё; зацепившись за седло железными шпорами, находясь под брюхом лошади, поражать цель (если простые гунны, как мы отмечали ранее, к голой пятке привязывали колючку шиповника, то Чендрул распорядился к обувке нацепить настоящие шпоры, заимствованные у германцев); также нужно было уметь заарканить не только всадника, но и саму лошадь, да так, чтобы не только остановить её на полном ходу, но и повалить.
Гуннам из трёх названных повелителем родов это удавалось легче делать, нежели германцам. Но многих удивил Андагис — родственник королю, происходивший из рода Амалов, самого величественного рода (но родовитости Андагис превосходил даже короля вестготов Теодориха и его сына Торисмунда, ведших свою ветвь от Балтов). Андагис, сражаясь на мечах с Хэсу и Юйби, поочерёдно выбил из их рук оружие. Заарканил мчавшуюся диким галопом лошадь так, что не только её повалил, но чуть не удушил...
Набрали всего полтысячи воинов, и Чендрул понял, что, если так дело пойдёт и дальше, они не управятся и до осени. Поручил он отбор и проверку ещё и Андагису, но всё равно этого оказалось мало.
И тут добрая мысль пришла в голову Хэсу. Он посоветовал Чендрулу:
— Мы забыли об одном — в войске нашего повелителя самых храбрых и искусных награждают свистящими железными стрелами... Следует кликнуть клич, чтобы их обладатели собрались в указанном месте, а уж из их числа будет нетрудно отобрать недостающую полтысячу.
— Умница, Хэсу! — похвалил Чендрул.
Когда такой клич был дан, Аттила, не вмешиваясь в их дела, сейчас в знак одобрения поцокал языком.
Таким образом пятьсот воинов (да ещё каких!) быстро набрали. Теперь тысячу нужно было сплотить воедино, чтобы она действовала как сжатый кулак; поэтому Чендрул, Юйби, Хэсу и Андагис решили воинов опробовать в деле, а для этого следовало переправиться через Рейн, несмотря на бурливые его воды весною.
Было приказано выдолбить из стволов деревьев десятка два челноков: с трудом и некоторыми потерями преодолев на них злое течение реки, протянули за собой трос, и Чендрул вновь повелел, чтобы сделали плот длиной в сто локтей и шириной в двадцать. Одним концом накрепко привязали его к берегу и засыпали сверху толстым слоем земли — получилось что-то вроде моста. «Мост» продлили вторым, уже плавучим плотом, точно таким же по ширине, но вполовину короче, и к нему присоединили протянутый с того берега трос, который вделали в ворот. И когда всадники ступили на плавучий мост, то воротом потянули трос, и вскоре первая партия воинов с лошадьми оказалась по другую сторону Рейна.
Аттила и его военачальники, стоя на этом берегу, с таким же удовольствием наблюдали за действиями Чендрула и его подчинённых, с каким взирали ранее на их подготовку.
Вскоре вся тысяча, переправившись, углубилась в лес и достигла поселений бургундов. В мгновение ока разбив вооружённый отряд, а затем ограбив несколько богатых деревень, она вернулась назад, потеряв всего пятьдесят воинов, но зато хорошо пополнив сокровищницу Аттилы. Тем более что золото и серебро понадобились сразу в большом количестве: в глухом месте, о котором знати немногие, с согласия повелителя отливались для него три гроба — золотой, серебряный и железный.
Казначей Орест, по инициативе которого это делалось, на курултае посвящённых объяснил всё так:
— Римские императоры, как в прошлом египетские фараоны, строили себе гробницы ещё при жизни. Царствование нашего регнатора сопряжено с походными опасностями и грозными битвами (да продлит его жизнь ещё на многие годы величайший бог Пур!), но мы так же должны иметь то, что заменило бы нашему правителю гробницу. Поэтому я предлагаю отлить три гроба — золотой, серебряный и железный в знак того, что железом наш великий Аттила одолел другие народы, а золото и серебро доставил своему племени...
— Я бы хотел поправить названого сына, — снисходительно улыбнулся Аттила. — Доставил не только своему племени, но и тем, кто со мной дружит и служит мне...
Крики восторга всколыхнули юрту, а Орест (названый сын!) про себя отметил: «Кричите, кричите громче, глупцы! Только выгоду из всего извлеку я один... Кто теперь учтёт, сколько золота и серебра я отпущу на эти гробы?!»
Украденное из сокровищницы правителя гуннов Орест закопал по эту сторону Рейна в одном укромном месте в лесу у скалы, приметив клад валуном, а отлитые вскоре гробы были тщательно упакованы, и теперь они вместе с казной будут отныне перевозиться под ещё более усиленной охраной.
Между прочим, гроб, сделанный из прииртышского кедра, в то время, когда отец Аттилы предпринял поход на усуней[133], также возили за ним до того рокового часа, пока не зарезала его женщина...
Маленький Аттила знал, что за отцом повсюду возят гроб, и как-то спросил Мундузука: «Не страшно ли это?»
— Если ты великий воин, а тем более правитель, ты должен уметь против страха в своём сердце ставить щит... И ещё твоя сила проявляется в том, чтобы быть готовым умереть в любой миг.
Поэтому повелитель полумира без предубеждения отнёсся к отливке для себя трёх гробов, к тому же в последнее время по утрам у него стали случаться сильные носовые кровотечения.
Да, старость не радость, но всё же теперь есть кому наследовать власть: Эллак становился не только прекрасным воином, но и успешно обретал многие качества настоящего правителя, такие как терпение, ум, хитрость, железная воля, способность слушать подчинённых и быть выслушанным, чёткость в изложении своих мыслей, мужество, умение нравиться воинам, неприхотливость в походной жизни и ещё, что особенно в последнее время проявилось у Эллака после гибели Марцеллины и что считал Аттила не менее важным, — недоверие к женщинам. Да и не только к женщинам — недоверие ко всем! И это, пожалуй, самая верховенствующая черта характера любого правителя, будь он повелитель полумира, император, василевс, король или герцог какого-нибудь племени.
Когда в конце мая наступило сухое время и когда подошло стотысячное войско Увэя, Аттила приказал переправляться через Рейн. Проводники-галлы сообщили, что выше, где впадает в Рейн река Неккара, есть сравнительно мелкое место: водное течение разделяется здесь на два рукава, обтекая небольшой лесной остров. Легко добравшись до него на надувных кожаных мехах, можно там срубить плоты и преодолеть более широкий рукав.
Так и сделали!
Воины после переправы были сильно утомлены, но Аттила дал всего для отдыха один день и одну ночь. В обозах слышались крики и плач тех женщин, которые потеряли во время переправы детей, мужей или близких родственников.
Хэсу навестил своих пока бездетных жён — первой его встретила Любава; он очень обрадовался ей, также был рад видеть молодую гречанку. Ночью он остался с ними обеими...
А вот Юйби так устал, что своих жён после того, как они его встретили, тут же отослал обратно в обоз. Ему было не до них.
Положил голову на медвежью полсть и сразу заснул. Снился ему ужасный сон: будто он рубит головы своим жёнам, а тела их укладывает вместе с сотнями других поперёк течения Рейна. Хорошо, что сон прервал громкий трубный рёв оленя, раздавшийся неподалёку от палатки.
Проснувшись, Юйби лежал с открытыми глазами и слушал, как ветер завывал в пихтах. Так до самого рассвета сотник не сомкнул веки, а чуть заалело на востоке, вышел наружу.
«Какой тяжёлый мне приснился сон! Да и настроение духа моего становится день ото дня тяжелее. Предчувствие чего-то плохого?.. Или всё оттого, что обходят меня молодые?.. Чендрул. А там, глядишь, на моё место сядет Хэсу. Один раз он уже сел. Правда, и меня повысили. Только теперь мне уж тысячу не дадут. А чтоб место ему уступить, значит, надо погибнуть...»
Но Юйби почувствовал, как с рассветной прохладой легко взыграли в его теле мышцы; сотник подошёл к дереву, легко подпрыгнул, повис на ветке, потом с силой дёрнул телом и сломал её.
«Мы ещё повоюем», — весело подумал и стал наблюдать, как просыпается зарей некий лес.
Первым засуетился трудяга бурундук. Забегал по деревьям, завилял полосатым хвостом, что-то всё затаскивая в свою нору.
— Чив-чив-чив, — встрепенулась пичужка-синица.
— Иск-иск-иск, — завторила ей нежно и томительно другая лесная птаха.
Заволновалась, закурлыкала сойка, задолбил дятел.
Небо ещё больше заалело; сделавшись совсем зелёными листья буков, а туман, доселе висевший в ветвях пихт, сполз в долину.
Крадучись на кривых ногах, низкорослый, как кустарник, растущий у подножия деревьев, и сам, с взъерошенными на голове волосами, будто похожий на него, Юйби приблизился к лагерю своей сотни, чтобы проверить постовых, но опять беспокойные мысли, тревожившие перед рассветом, снова одолели его. Сотник начат сравнивать молодых и стариков, к коим причислял себя, и выходило не в пользу последних.
«Молодые командиры стали куда более сообразительнее, нежели мы в их пору. Да и внешне они отличаются от нас: ноги у них менее кривые, хотя тоже проводят в сёдлах не меньше времени. Выше ростом, и носы у них почти не приплюснуты, — усмехнулся Юйби. — И всё оттого, что берут в жёны девушек, молодок разных народов. Вот они и рожают гуннов другой формации... А то, что сообразительнее, потому как видят каждый день много интересного — другие земли, города, узнают другие нравы и обычаи...
Взять меня... До того, как идти с Ругиласом в дальний поход, лет десять я провёл в становище у карпатских венедов, делая лишь мелкие набеги на чужие племена... Существовали для меня одни и те же горы. Мозги и костенели...» — снова усмехнулся Юйби, но вывод о том, что «ещё повоюем!», снова отдался в голе волнением дикой крови, когда сотник услышал привычные ржание стреноженных коней и блеяние стада.
Вот и возницы, стуча оглоблями, начали закладывать повозки, чтобы сразу по приказу командиров тронуться в путь.
Ветер уже пошумливал верхушками буков и пихт, а не как спозаранку — ветвями; и брызнули первые лучи солнца...
Аттила в своей юрте собрал совет, на котором было решено — войско Увэя и племя гепидов во главе с Ардарихом пойдёт брать Августу Трсвиров,[134] Шуньди — город Аррас, Гилюй — Мец, сам же повелитель с тюменями Огинисия, Эдикона, Ислоя и Эллака, германскими племенами остготов, ругов, скиров, маркоманов, квадов, герулов, алеманов и славянским племенем склавенов отправится к Амьену.
Все названные города, построенные римлянами на лимесе Романус, представляли собой сильно укреплённые крепости. И это хорошо понимал Аттила — поэтому повелел командирам для их взятия применять любую тактику вплоть до обмана и подкупа. А во устрашение жителей, чтобы они не смели после ухода гуннов подняться в тылу с оружием, оставлять от городов и селений одни пепелища, не щадить никого и истреблять всех, даже малолетних детей.
Когда Аттила подходил к Амьену, он получил сразу три донесения: от Увэя, Шуньди и Гилюя — города Августа Тревиров, Аррас и Мец не только взяли, но сровняли их с землёй. Аттилу эти известия обрадовали ещё и потому, что начало похода складывалось как нельзя лучше.
После взятия Амьена повелитель сделал с ним то же самое и пошёл на Аврелиан[135], оставляя за собой кучу мёртвых тел, наваленных друг на друга так, что они образовывали как бы холмы.
Пылали пожары с достающими до неба узкими яркими языками пламени и, если в них попадали птицы, то они, опалив крылья, комками падали на землю. А дым густыми чёрными космами метался над лесом и полем, и издали казалось, что развевались огромные гривы бешено мчавшихся гигантских коней, на которых ездит по ночам богиня Даривилла.
«Поистине пылала костром большая часть Галлии, и не было ни у кого упования на стены», — читаем у историков.
Но как раз стены Аврелиана остановили почти безостановочный бег конницы Аттилы.
В этом городе проживало много ремесленников-оправщиков, ювелиров, у которых имелись богатые запасы серебра, золота и драгоценных камней, и Аттиле не хотелось поджигать его, как Амьен. Повелитель предпринял три штурма, применив для этого таранные машины, а в проломы в крепостных стенах пускал конницу. Но городской гарнизон успешно отбивал эти атаки, а проломы тут же быстро заделывались.
Городской гарнизон состоял из храбрых аланов, руководимых королём Сангибаном. Аданы считались преданными римлянам воинами; ещё три года назад с помощью отца Сангибана короля Гоара Аэций нанёс поражение восставшим в Галлии багаудам, да, видно, не такое сокрушительное, если это восстание перекинулось сейчас в Испанию, а в Галлии слилось с восстанием «армориканцев» под предводительством Думнорига и Давитинка, охватив побережья от устья Соммы до устья Гарумны, угрожая королю вестготов Теодориху.
Обложенный гуннами со всех сторон, Аврелиан начал испытывать недостаток в продовольствии. Аттила и рассчитывал на это, к тому же, он понимал, что теперь Сангибану без вылазок из города, чтобы пополнить съестные припасы, не обойтись. И тогда гуннский правитель вызвал к себе Чендрула и сказал:
— Настал твой час, тысячник. Как только король аланов предпримет вылазку, ты должен отсечь его и его охрану от основного отряда, но оставь живым...
— Будет исполнено, мой повелитель!
Когда довольно многочисленный отряд аланов во главе с королём через отворенные ворота вымахнул за городские стены и когда первые ряды осаждающих приняли на себя его мощный удар, тысяча Чендрула рванулась вперёд, вгрызлась в неприятельский отряд и стала отсекать от него Сангибана. Внезапный наскок тысячи произвёл на аланов настолько ошеломляющее действие, что большинство их растерялось. Правда, охранники короля рубились, как на цирковой арене гладиаторы, теснимые разъярёнными львами.
Но это ничего не дало, вскоре, отрезанный от основного отряда аланов, которого гуннская конница загнала обратно в город, Сангибан остановился.
Аттила демонстративно подъехал к нему на виду у всех, кто находился на крепостных стенах Аврелиана: повелитель знал, что об этом во всех подробностях будет доложено Аэцию...
Правитель предложил королю сдать город — Сангибан отказался, но вместо того, чтобы схватить последнего, отрезать ему уши, бросить в тулум[136], а затем отрубить и голову и сделать из неё для себя габалу[137]. Аттила приказа! короля аланов отпустить.
Аэцию доложили, что Сангибан, видимо, принял какие-то условия Аттилы, если вернулся в город целым и невредимым.
И тогда римский полководец поспешил к Аврелиану. Узнав об этом, Аттила отошёл от города, но теперь он был уверен, что в предстоящей битве Аэций, как прежде, королю аланов полностью доверять не станет...
Так оно позже и случилось: «последний великий римлянин» приказал войску Сангибана на поле боя находиться между римскими легионами и отрядами вестготов, чтобы аланы не могли вырваться ни вправо, ни влево, а продвигались, сражаясь, только вперёд. К тому же Аэций к королю аланов приставил своего сына Карпилиона и велел следить за ним в оба.
Два великих человека, некогда друживших между собою, и между которыми когда-то были чуть ли не братские отношения, Аэций и Аттила, выбрали для своего противостояния Каталаунские поля, и на них сошлось невиданное и неслыханное дотоле количество воинов — почти миллион.
Каталаунские поля, или иначе Мавриакские, — это равнина в Шампани к запасу от города Труа и левого берега верхней Сены. Она тянется на 100 левов в длину и на 70 в ширину. Галльская лева измеряется 1500-ми шагами. Этот равнинный кусок земли длиной примерно в 75 римских миль и шириной в 50, и стал местом сражения бесчисленных племён, «и не было тут, как говорит Иордан, никакого тайного подползания, но сражались открытым боем».
Но если внимательно посмотреть на равнину, то всё же она как бы вспучивалась в центре, вырастала вершиной отлогого с двух сторон холма. На правой Аттила разместил своё войско с союзниками, на левой располагались римляне также со своими союзниками.
Противники выстроились друг против друга, каждый уверенный в том, что именно ему удастся занять для себя выгодную вершину холма, откуда удобно станет наносить по врагу ощутимые удары.
Римляне как всегда расположились на поле когортами каждого легиона — по десять-одиннадцать в три линии: на правой — по четыре, на второй — по три. Между собой линии имели также промежутки, что позволяло в начале сражения легко им соединяться друг с другом или сужаться, а при энергичной атаке или обороне образовывать или круг, или каре, или клин, или, наконец, «черепаху». В последнем случае первый ряд держал щиты перед собой, а второй и третий — над головами.
Отдельные легионы тоже стояли так, что образовывали равные промежутки. А на их флангах располагались вспомогательные войска из варваров и своя, римская, конница.
Левый фланг занимали вестготы, франки, арморициане, литициане, бургунды, саксы, рипариолы, а также отряд, состоящий из ветеранов (бывших римских воинов), называемых брионами и носящих пышные бороды[138].
Многим было уже шестьдесят лет, но в битвах они не уступали молодым. Конечно, ветераны давно имели право на свой участок плодородной земли, но вот тех, кто стоял сейчас на поле битвы, земледелие не прельщало, и они, привыкшие к звону мечей, испытывали свою боевую судьбу до конца...
Почти каждый из них был одет в жёлтую шёлковую тунику, поверх неё — серебряная кольчуга, а на кольчуге — воинский плащ, застёгнутый на правом плече большим аметистом. На голове золочёный шлем, на поясе висел меч (gladius). Бёдра брионов опоясывала широкая алая лента, а на груди надета золотая цепь с портретом цезаря Валентиниана, но не третьего, а второго... Да и к Валентиниану II они относились снисходительно; для них авторитетом и родным отцом являлся полководец Арбогаст, франк по происхождению, чьё поведение вызываю некогда среди них восторги.
Избранный солдатами своим полководцем и пользующийся их любовью, Арбогаст, как пишет историк Зосим, был велик, держал себя свободно даже с императором и не давал ему делать то, что, по его мнению, было неправильным и неполезным.
Многие брионы, стоящие сейчас на Каталаунских полях, помнят, когда Валентиниан II, не выдержав, отрешил его от должности. Арбогаст прочитал документ и воскликнул, глядя в глаза цезарю: «Не ты дал мне власть над солдатами и не ты можешь её отнять!» Сказав это, он порвал документ, швырнул его на пол и ушёл.
Через несколько дней Валентиниана II нашли во дворце мёртвым. Арбогаст распространил слух, будто тот покончил с собой...
И для Аэция этот полководец также служил примером, поэтому «последний великий римлянин» из своих союзников больше всего жаловал короля франков.
По-иному Аттила построил своё войско. Сам он с храбрейшими гуннскими племенами хунугуров, биттугуров, алпидзуров, ултзиндзуров, савиров, альциагиров, бардоров, итимаров, тункасов и боисков занял срединное место: при таком расположении скорее обеспечивалась забота о своём повелителе, поскольку до него было трудно добраться... Крылья гуннских конников окружали многочисленные народы: герулы со своим умным храбрым королём Визандом, руги во главе с Визигастом, который был больше известен как отец красавицы Ильдико, совершенство которой воспевали поэты в своих сагах; квады с королём Дагомутом и его сыном Дагкаром, потерявшим голову из-за дочери короля Визигаста, но на поле боя умевшим сражаться как лев; далее гуннов окружали склавены со своими вождями Дроздухом, Милитухом и Свентославом; тюринги, скиры, лангобарды, или «длинные копья»; маркоманы, швабы и алеманы. Три последних германских племени Аттила выставил впереди всех; он не особенно надеялся на них — знал, что к вестготам эти народы стояли ближе по происхождению, и считал, что, если и перебегут на другую сторону — не беда, так как были малочисленны. Зато многочисленное войско союзников гуннов составляли остготы, самые надёжные воины, которыми предводительствовали их король Валамир, и его братья Теодомир и Видемер.
Аттила по-настоящему любил Валамира и доверял ему так же, как королю гепидов Ардариху. А Ардарих, по замыслу повелителя, должен будет сражаться против злейших своих врагов — франков.
Германцы, как с той, так и этой стороны, отличались высоким ростом и статью; силой своих мышц они превосходили даже римлян.
Приученные с детства к труду и суровой жизни, германцы с годами постоянно закаляли свой характер и тело: сохранение целомудрия как можно дольше для них было возведено в степень славы, и считалось позором, если кто узнал женщину до двадцати лет... Каждый был уверен, что женщины отнимают его рост и мускульную силу. Поэтому юноши и девушки безбоязненно и без стыда купались обнажёнными в реках, прудах и озёрах, не обращая друг на друга внимания. Ели сытную пищу — молоко, сыр и мясо.
Сражались германцы храбро. Первая атака, как правило, производилась ими конницей, но если не удавался первый удар, то боевые порядки германцев расстраивались, и воины тут же обращались в бегство. Бежали и конные, и пешие, а последние проявляли такую быстроту, что, держась за гривы коней, не отставали от всадников.
Эту их особенность знали хорошо и Аттила, и Аэций, поэтому заранее старались предвидеть всё на поле сражения...
С вершины холма подул ветер, качнул знамёна римлян и конские хвосты на пиках гуннов. Аттила проследил взглядом полёт орла и стал говорить...
Не знаю, на самом ли деле произносилась повелителем перед битвой «всех народов» такая длинная эмоциональная речь, но историк привёл её полностью. На мой взгляд, было бы интересно и нам ознакомиться с нею.
Вот она, эта речь:
— После побед над таким множеством племён, после того, как весь мир — если вы устоите! — покорен, я считаю бесполезным побуждать вас словами как не смыслящих, в чём дело. Пусть ищет этого либо новый вождь, либо неопытное войско. И не подобает мне говорить об общеизвестном, а вам нет нужды слушать. Что же иное привычно вам, кроме войны? Что храбрецу слаще стремления платить врагу своей же рукой? Насыщать дух мщением — это великий дар природы! Итак, быстрые и лёгкие, нападём на врага, ибо всегда отважен тот, кто наносит удар. Презрите эти собравшиеся здесь разноязычные племена: признак страха — защищаться союзными силами. Смотрите! Вот уже до вашего натиска поражены враги ужасом: они ищут высот, занимают курганы и в позднем раскаянии молят об укреплениях в степи. Вам же известно, как легко оружие римлян: им тягостна не только первая рана, но сама пыль, когда идут они в боевом порядке и смыкают строи свой под черепахой щитов. Вы же боретесь, воодушевлённые упорством, как вам привычно, пренебрегите пока их строем, нападайте на аланов, обрушивайтесь на вестготов. Нам надлежит искать быстрой победы там, где сосредоточена битва. Когда пересечены жилы, вскоре отпадают и члены, и тело не может стоять, если вытащить из него кости. Пусть воспрянет дух ваш, пусть вскипит свойственная вам ярость! Теперь, гунны, употребите ваше разумение, примените ваше оружие! Ранен ли кто — пусть добивается смерти противника, невредим ли — пусть насытится кровью врагов. Идущих к победе не достигают никакие стрелы, а идущих к смерти рок повергает и во время мира. Наконец, к чему судьба утвердила гуннов победителями стольких племён, если не для того, чтобы приготовить их к ликованию после этого боя? Кто же, наконец, открыл предкам нашим путь к Меотидам[139], столько веков пребывавший замкнутым и сокровенным? Кто же заставил тогда перед безоружными отступить вооружённых? Лица гуннов не могло вынести всё собравшееся множество. Я не сомневаюсь в исходе — вот поле, которое сулили нам все наши удачи! И я первым пущу стрелу во врага. Кто может пребывать в покое, если Аттила сражается, тот уже похоронен!
Стоящий рядом Чендрул отметил, как возбуждён и чрезмерно взволнован повелитель, и не потому, что он произносил речь... Какая-то неуверенность проскользнула в его словах, потому никто не сдвинулся с места, никто сразу не ринулся в бой. А сам Аттила глубоко дышал, короткий ус у него топорщился, на лбу выступил пот и в глубоких вырезах носа показалась кровь. «Уж не болен ли он?.. — предположил сармат Огинисий, и нехорошее предчувствие сжало его сердце.
А скиф Эдикон спросил Эллака:
— Твой отец перед битвой не обращался к авгурам или «святому епископу»?.. Те могли ему сказать такое, что сильно повлияло на нашего регнатора.
— Ты же знаешь, перед сражениями он редко гадает, ведает сам, что выиграет.
— Странно... Ну да ладно... Смотри, Аэций тоже закончил говорить. Сейчас он взмахнёт рукой...
Первые ряды римлян, вестготов и стоящие между ними аланы ещё сильнее заколотили копьями и мечами по щитам, затем главный знаменщик-драконарий поднял знамя из жёлтого шёлка, на котором был изображён страшный, не знающий жалости дракон, и тут взыграли трубы, металлические значки легионов с орлами звякнули. Вначале ровным шагом, который вскоре перешёл в беглый, пошли ветераны-брионы с громким криком:
— За Юла и Рею[140]!
Затем ринулись в бой воины храброго, стоящего на правом фланге легиона самого Аэция — десятого.
Повелитель тоже дал знак рукой, и кто-то в ответ брионам заорал что было мочи:
— За Аттилу и Юсту Грату Гонорию!
Гуннская конница на бешеном галопе стала обтекать римское войско, одновременно стараясь оттеснить железную силу противника от вершины холма.
Представьте, как топот сразу миллионного войска потряс землю! Сошлись врукопашную.
Завязалась доселе невиданная битва, страшная, «лютая, переменная, зверская, упорная», отмечал Иордан.
Надо сказать, что первыми на поле битвы сошлись гепиды со стороны Аттилы и франки со стороны Аэция. Сойдясь, они устроили такую мясорубку, что погибло сразу тридцать тысяч человек: пятнадцать — у гепидов, пятнадцать — у франков. Король гепидов Ардарих, сражаясь в первых рядах, был тяжело ранен, но остался в живых.
Небольшая река, протекающая по равнине, вскоре вышла из берегов от крови. Те, кого раны влекли к ней напиться, тянули губами не воду, а кровавые струи, ими же, ранеными, и пролитые...
Безумно, с выпученными от испуга и ярости глазами ржали кони, кусая, словно звери, и своих, и чужих, и растерзывал! копытами на части убитых и раненых. Было так тесно, что всадники, прижатые друг к другу, порою не могли даже взмахнуть мечом, не говоря уже о том, чтобы бросить копьё. Остготы, будучи рослее римлян, оттягивали руками их щиты и поражали врага в голову сверху вниз, а иные взбирались по трупам, как в гору, и метали оттуда дротики.
Кругом раздавались предсмертные крики и стоны; взревывали римские трубы, в ответ им отзывались рога варваров, ещё бешенее кричали гунны, прославляя Аттилу и грозного Пура.
Кровь лилась весь день.
А поздним вечером сын Теодориха Торисмунд, выбивший гуннов с вершины холма, думая, что там теперь его воины, делая обход, заблудился и напоролся на вражеские повозки. Отбиваясь, он сражался подобно матерому волку, застигнутому врасплох, но был ранен в голову, свалился с коня, — слава Вседержителю, в которого он неистово верил, что его подобрали римляне и умчали в свой лагерь... Рана оказалась лёгкой. Увидев Торисмунда, Аэций спросил его, почему не было видно на поле боя днём королевского знамени вестготов и где сейчас сам король? Сын тоже не знал, где находится отец и что случилось на поле боя с их знаменем.
А случилось следующее... Получив от Аттилы приказ захватить короля вестготов Теодориха и его знамя, Чендрул воскликнул:
— Воины моей железной тысячи! В неприятельском войске, словно в лесу, мы должны прорубить просеку... Вон к тому знамени! Там сражается король вестготов. Мы захватим его и знамя тоже. За мной!
И он первым ринулся вперёд, рядом оказался богатырь-остгот Андагис. Кинувшийся за ними сотник Юйби тут же был сражён стрелой, попавшей ему точно в глаз. Место сотника занял Хэсу. Круша врагов налево и направо, тысяча действительно прорубала себе как бы просеку. Это хорошо виделось сверху орлам, несмотря на страшный ад, что вершился внизу, летавшим медленными, спокойными кругами над Каталаунскими полями...
Андагис и метнул копьё в грудь Теодориха, но выхватить мёртвого короля, чтобы привезти его Аттиле, не смог: Теодорих вместе со своим знаменосцем тут же был похоронен под грудами поверженных тел, которые мгновенно вырастали курганами.
На рассвете короля вестготов обнаружили, и. чтобы отомстить за смерть отца, Торисмунд предпринял такой мощный натиск, что гунны, не выдержав его, скрылись за связанными между собой повозками и нагромождёнными, как валом, вокруг лагеря. Из-за них пустили рой стрел, и Торисмунд вынужден был остановить своё войско.
«Ещё один подобный натиск, и разношёрстное войско Аттилы побежит, как стадо баранов... — подумал Аэций. — Торисмунда ещё до полудня воины поднимут на щит, провозгласи его королём. И воодушевлённые, снова пойдут в бой, и тогда их уже ничем не остановить. Они раздерут голыми руками эти чёртовы гуннские повозки... И все плоды победы достанутся вестготам. И как это воспримут в Риме?.. Да сам знаешь как! И над моими легионами в Галлии нависнет смертельная опасность, ибо после своей победы вестготы осмелеют; к ним примкнут бывшие враги империи бургунды, которых я не раз усмирял огнём и кровью... Нельзя допустить, чтобы Торисмунд погнал Аттилу. Нельзя! Надо предпринимать что-то ещё до того, как сын погибшего Теодориха наследует его власть... Время идёт на часы... Нет, на мгновения!»
И вдруг Аэция осенило: «Багауды! И жадный до власти Теодорих, подзуживаемый Аттилою...»
Полководец сам поспешил в палатку к Торисмунду. Тот сидел опечаленный посреди неё на каком-то деревянном обрубке, глаза сухо блестели... «Лучше бы, чтобы они были мокрыми от слёз...» — на мгновение подумал Аэций.
— Храбрый Торисмунд, я видел — ты сражался как лев, мстя за своего отца. Прими от меня искреннее соболезнование. — «Последний великий римлянин» откинул полу плаща и, преклонив колено, дотронулся рукой до плеча старшего сына короля вестготов. — Ещё несколько натисков, таких, как тот, который ты предпринял ранним утром, и Всевышний дарует нам победу... Теперь я могу и сам управиться с ненавистным нам, кровожадным Аттилой. Тебе же нужно возвращаться домой. Я получил известие, что багауды вновь подняли головы, пользуясь твоим отсутствием в Аквитании, и предлагают на трон твоего коварного брата Теодориха...
— Да, второй по рождению брат мой коварен, и, видимо, достоверны твои сведения... Хорошо, я снимаюсь и ухожу со своим войском с поля битвы, так как, видимо, мне предстоит поле битвы другое, — неожиданно быстро согласился Торисмунд.
Но утром следующего дня и Аттила увёл свои войска от Каталаунских полей, хотя целый день, сидя за повозками в своём лагере, он как бы демонстрировал силу: бряцал оружием, трубил в рога, угрожал набегом; «он был подобен льву, прижатому охотничьими копьями к пещере и мечущемуся у входа в неё: уже не смея подняться на задние лапы, он всё-таки не перестаёт ужасать окрестности своим рёвом».
Но, увидев, что вестготы, с песнопениями и рыданиями оплакав своего погибшего короля и выбрав нового — Торисмунда, ушли тоже, Аттила снова воздвиг свой лагерь, предполагая некую хитрость со стороны врагов. Но дух великого правителя гуннов уже обретал прежнюю уверенность, и на хитрость Аттила уже готов был ответить хитростью... А ведь раньше, уверовав, что противник прорвёт оборону и наступит вероятность того, что его захотят захватить живым, Аттила приказал из конских седел соорудить костёр, чтобы войти в него и сгореть...
О своих величественных похоронах в трёх гробах он уже и не думал — главное, не попасть в руки врага, а если случится такое, то этот страшный позор падёт на головы и его сыновей, и они не смогут далее управлять своим народом. А гунны как великие племена ещё должны существовать, и многие народы ещё падут перед ними на колени.
Аттила помнит, как тщательно скрывали ото всех позорную гибель от рук женщины Мундзука, отца. Но его сыновьям нечего будет скрывать и стыдиться за отца. Он сам взойдёт в огонь, и пламя нежно обнимет великого воителя и повелителя... Вот тогда-то и станет его самосожжение началом победы всего народа!
Но подвоха со стороны вестготов не произошло: они действительно покинули поле битвы — об этом вскоре сообщили Аттиле разведывательный и заградительный отряды Кучи и Аксу. И тогда повелитель снова поверил в свою могущественную судьбу и, не предпринимая больше никаких сражений, снялся окончательно и повёл своё войско... на Рим.
Надеясь опередить Аэция, он хотел первым прийти в Италию и опять потребовать к себе Гонорию с её приданым...
Дорогою Аттила стал подсчитывать свои потери: из его славных полководцев погиб Шуньди. сармат Огинисий, гунн Ислой, сотник Юйби, а славу великого воина приобрёл Андагис... Он и стат тысячником по велению повелителя вместо Чендрула, а сам Чендрул принял Тюмень погибшего Ислоя.
Хэсу тоже за свою храбрость был отмечен: получил в награду сотню Юйби, всех его жён в придачу и ещё одну железную свистящую стрелу.
У склавенов погибли Дроздух, Милитух и старейшина Мирослав. Да и от их войска осталось совсем немного.
Склавены на удивление стойкие воины, храбрые до безумия. Если склавенов определить на место, то они его не покинут, не побегут, как, скажем, германцы, римляне или даже гут мы, а будут биться до последнего своего ратника...
Об этом их качестве хорошо знал Аттила, и поэтому войско Свентослава поставил впереди всех... С гепидами вместе. Полегла большая часть гепидов и очень много склавенов. Пока они стояли насмерть, конница гуннов сумела тем временем взять небольшую выпуклость на Каталаунских полях, которую, правда, скоро и потеряли.
Аттила тех, кого из погибших начальников сумели забрать с поля битвы, приказал, переправившись снова через Рейн, с почестями сжечь на погребальном костре. Пепел раздул ветер, а повелитель двинулся дальше.
V
— Аттила, как леопард, сделал прыжок через Альпы и уже находится под городом Аквилейей, на берегу Адриатического моря, — радовался король вандалов Гензерих в кругу своих сыновей. — И это нам на руку, как была на руку Каталаунская битва, в которой погибло по сто шестьдесят тысяч человек с обеих сторон... И знаете, мои любимые сыновья, мы поможем гуннскому владыке...
Узрев на лицах сыновей изумление, Гензерих добавил:
— Мы устроим в Римской империи ещё больший голод. Мы ещё чаще будем захватывать корабли с хлебом, идущие из Сицилии. Тогда император станет сговорчивее, и Аттила возьмёт то, что требует в приданое за Гонорией.
— Неужели, отец, она действительно хочет стать женой этого тёмного, с приплюснутым носом дикаря-язычника? — спросил Гунерих.
Сколько бы Гензерих не учил второго от рождения сына не задавать отцу лишних вопросов, а молча слушать, как другие его братья, во всём доверяясь, — как об землю кокосовые орехи, что падают с пальмы... Отскочили — и всё! Так отскакивают от Гунериха и поучения отца. Но раз вопрос задан — надо отвечать.
— Любопытный сынок, — слегка пожурил Гунериха. — А почему ты думаешь, что Аттила тёмный дикарь?.. И ставишь ему в вину, что он язычник... А разве мы не были язычниками до того, как возникло арианство, и мы приняли в качестве веры это учение александрийского пресвитера, истолковавшего нам христианство как исповедание Единого Бога?! И разве мы не собирались в лунные ночи в Вандальских горах[141], не приносили, как жестокие дикари, своим богам человеческие жертвы?! А ведь с того времени прошло всего два столетия...
Старший сын Гизерих слушал отца с понимающей улыбкой, Гунерих хмурился, набычив лоб.
— Что же касается твоего вопроса о Гонории... Да, она хочет стать женой Аттилы, и ничего ей больше не остаётся. Ведь она живёт как в темнице, а порой её за гонористый характер — недаром её зовут Гонорией, — Гензерих захохотал и мелко забегал, хромая, по кабинету, как подраненный хохластый петух, — заключают и в настоящую темницу. А потом её брат собирается выдать её за безродного человека и отправить далеко от Рима... В какую-то глушь.
Говоря об этом, Гензерих явно никакого сочувствия к Гонории не испытывал.
— Обо всём этом мне доносят мои люди, которые находятся по всей Римской империи. Конечно, Валентиниан — полный дурак, а когда не стало его матери Галлы Плацидии, он такое вытворяет, что даже мне стыдно становится за римлян... Но они достойны этого. Какой народ — такой и правитель... Мне только жалко красавицу императрицу Евдокию и двух её дочерей Евдоксию и Плацидию... Кстати, Гунерих, одна из них могла бы быть твоей женой...
— Чтоб ты ей тоже, как Рустициане, обрезал уши и нос! — с вызовом, угрюмо и настойчиво произнёс Гунерих[142].
Братья испуганно взглянули друг на друга, зная крутой нрав отца, и каждый задался вопросом: «Что будет?!»
Но Гензерих ничего не сказал; лишь сурово взглянул на сына, в глазах которого узрел слёзы, и они-то остудили его вскипевшие было гнев и ярость, — и он взял себя в руки...
«Я понимаю, Гунерих любит Рустициану до сих пор, но это не должно быть веской причиной того, что он мне, королю, может заявлять такое!.. Благодари, паршивец, что и у тебя, как мужа предполагаемой отравительницы, я не обрезал тоже уши и нос! — И вдруг поймал себя на мысли: — Ты подумал — «предполагаемой»... Да, вина её полностью так и не была доказана...»
— Мы о гуннах и Риме продолжим разговор в другой раз... А сейчас все уходите. Я хочу остаться один.
Братья недовольно покосились на Гунериха, а тот был взбешён не менее отца. Он выбежал из покоев короля и направился на корабельную верфь. Только там, взяв в руки топор и начав работать им, почувствовал себя спокойнее.
В открытые в стене двери было видно, как жемчужилось море у берега, но солнце жарило так, что на горизонте вода имела белый, выцветший вид...
* * *
Когда императору Валентиниану III донесли, что воины Аттилы на Каталаунских полях бросились в сражение с именем его сестры на устах, он испугался... А узнав, что его солдаты шли в битву, упоминая Юла и Гею, расплакался, как ребёнок... И велел позвать Евдоксию.
Жена явилась. Он припал головой к её бедру и проговорил сквозь рыдания:
— Евдоксия, милая, меня не любят... Никто из солдат на поле битвы не произнёс моего имени, а это плохой признак. Значит, их настраивает против меня «последний великий римлянин»... Когда жива была мама, он боялся её, теперь, вернувшись, он всё будет делать для того, чтобы от меня избавиться... Ты видела вчера, какими непослушными глазами он смотрел на меня!
— Успокойся, дорогой мой. Про глаза не сочиняй... Тебе показалось, он по-прежнему внимателен и вежлив...
— Врёшь ты все! Внимателен и вежлив он с тобой, и не больше! Ты тоже сучка хорошая! Уходи! — вдруг взвизгнул император и, схватив за руку любимую служанку, с которой надувал мыльные пузыри, потащил её в спальню. Оттуда крикнул: — Была бы мама со мной, она бы вам всем показала, как нужно со мной обращаться...
«Скотина, совсем ополоумел... Удержу никакого! Господи, как он мне надоел, ненавижу его! — зло кусая губы, почти бежала в свой кубикул Евдоксия. — То, что он развлекается со служанками у меня на виду — это ладно... Но мне донесли, что недавно, пользуясь неограниченной властью, он принудил жену сенатора Петрония Максима, вечного противника Галлы Плацидии, к сожительству... Бедняжка хотела отказать, но Валентиниан пригрозил, что обезглавит её мужа, а саму с семейством сошлёт куда подальше. Испугавшись, чистая, великодушная женщина уступила. а потом покончила с собой... Петроний сразу обо всём догадался... Вот от кого надо ждать отмщения!.. Хотя сам Петроний Максим — подлец из подлецов, склонный к мужеложству...»
Грязно насытившись служанкой и прокусив ей щёку, Валентиниан лежал на спине, раскинув руки, так что локоть левой покоился на женском животе, и прислушивался к шуму, доносившемуся с улиц Рима. Какие-то постоянные крики раздавались там; потом объяснили императору: это люди, как собаки, дерутся из-за куска хлеба, отнимая его друг у друга... С Форума тянуло дымом — там ежи гати чумные трупы...
«Я чувствую, как душит меня этот город... Он словно живой призрак с железными пальцами подбирается к моему горлу. Он доконает меня... Равенна! Вот где я чувствовал себя хорошо... Если бы не Гатла Плацидия, моя добрая милая мама, то я бы ни за что не уехал оттуда...»
За два года до Каталаунской битвы Галлу Плацидию стати снова одолевать дикие головные боли, и уже не помогали никакие средства. А ночью так отдавало в затылок, что Плацидия начинала громко кричать, и никакие врачи ничего не могли поделать... Гонория, опять оказавшись в дворцовой темнице, слышала крики матери, поначалу к ним она оставалась равнодушной, но потом как дочь, несмотря на перенесённые по вине Плацидии муки, стала жалеть. Гонория почему-то сразу уверилась в то, что к матери подступает смерть...
С равеннских болот поднимались зловонные испарения, они были гуще по утрам, когда боли у Плацидии немного утихали, но не так, чтобы дать уснуть; к тому же через плотно закрытые окна всё равно проникал едкий запах, лез в ноздри и мешал даже вздремнуть. А тут ещё начинали орать выпи — их в последнее время развелось в болотах видимо-невидимо. Однажды поздно вечером несколько десятков этих птиц приблизились ко дворцу. Покрытые серовато-жёлтыми перьями, с грязно-жёлтыми клювами, жёлтыми глазами и такими же жёлтыми ногами, они были настолько отвратительны, что стражники тут же постреляли их из луков...
Плацидия уговорила сына и сенаторов переехать из Равенны со всем двором в Рим, — Августе казалось, что там ей умирать будет спокойнее (если это слово вообще применимо к умирающему человеку!). А то, что она умирает, Плацидия знала, как знала об этом Гонория, которую, кстати, в связи с переездом двора освободили из темницы.
И как только двор переехал в Рим, Плацидия скончалась: 27 ноября 450 года.
Когда её хоронили, искренне скорбел весь Рим. Хотя она не была истинно православной веры, но на участие в похоронной процессии дал согласие сам папа Лев I. Несмотря на свои скромные способности правительницы, Галла Плацидия, которую нельзя нажать великой, всё же более двадцати пяти лет удерживала в своих руках разваливающуюся с каждым днём империю.
Шагая в похоронной процессии, Лев I с любопытством, искоса бросая взгляды, рассматривал рядом с ним шагавшего Валентиниана III, оставшегося без опеки. Он видел его всего один раз в Равенне, куда ездил, как только в 440 году заполучил тиару. Там ему представили императора, как показалось папе, худенького отрока, хотя этому отроку, отцу семейства, было тогда уже двадцать два года. Позже, убедившись в его слабоумии, папа призвал Бога и Иисуса Христа, чтобы они как можно дольше продлили жизнь матери Валентиниана, несмотря на её пороки...
И вот Плацидии не стало. А что касаемо пороков, то это свойство человека, наделённого разумом, плодить их и приумножать. Заметьте, что они отсутствуют в среде животных, дьявол и рассчитывает всегда на умение человека думать и, «прозревая», творить грех.
Совсем недавно доложили папе, что в Риме возникла новая христианская секта, так называемое «братство адамитов», в которую входили представители обоих полов. Обедни, молитвы, молебны они совершали ночами, а приступая к святому причастию, предавались непристойнейшим объятиям и блуду.
«Грехи наши тяжкие!» — воздыхал папа и, когда процессия проходила мимо Латеранского дворца, где находилась его резиденция, вдруг неожиданно возникло перед глазами лицо старого священника Присциллиана... «Вот он и мой великий грех!» — с ужасом подумал Лев I.
Святой отец Присциллиан не хотел признавать, что папа Лев I есть наместник Христа на Земле. Тогда Присциллиана схватили, заковали в цепи и бросили в темницу. Потом монахи бросились выяснять: согласен ли он отречься от своих заблуждений?..
Так как несчастный отказывался отвечать, палачи вложили его ноги и руки в тиски, а когда лопнула кожа и начали выходить кости из суставов, подтащили его к огню.
— Отрекись от своих ошибок, Присциллиан, и прославь Льва, отца верующих!
В страшных мучениях Присциллиан возносил молитвы к небу и отказывался славить папу.
Тогда приступили к пытке огнём. Несчастному спалили волосы и кожу на голове, прижигали тело раскалённым железом, капали на открытые раны горячим маслом, и, наконец, палач влил в него кипящую жидкость; после двух часов нечеловеческих мучений Присциллиан испустил дух...
О пытках священника папа знал и не остановил казнь. В назидание другим. Разве папа не наместник Христа на Земле?! Пусть попробует кто ещё усомниться.
Рим, и в тебя скоро также вольют кипящее масло...
* * *
Бежал-бежал зверь исполинский, неведомо какой породы, и достиг Адриатического залива, в небе блеснула молния, пала на землю и впилась зверю между рогов. Замертво упал он на берегу и далеко в море высунул свой огромный язык. Из него и образовался языкообразный выступ, а на нём уже со временем возник город Аквилейя — главный город провинции Венетии, город, омываемый не только морем, но ещё и с востока рекой Натиссой.
Аквилейя, окружённая двойными каменными высокими стенами, представляла собой неприступную крепость: тактика её взятия «лавиной», которую применил Аттила при сокрушении Августы Винделиков, тут не подходила. С одной стороны только и можно было подступиться к крепости, со стороны суши.
Аттила, посовещавшись со своими начальниками, переправился через Натиссу и стал медленно подбираться к Аквилейе; для этого сосредоточил огромное количество метательных машин и несколько таранов. Вначале заработали метательные машины, кидая за стены горшки с горящей смесью, зажжённые факелы, многопудовые камни, что откалывали пленные от рядом стоящей скалы, а потом подвинули тараны... Но как только они оказались у ворот, ворота распахнулись, и римляне с диким рёвом выхлестнулись через них, перебили тех, кто обслуживал эти машины, порубили поддерживающие отряды гуннов, закатили тараны в город и ворота за собой с лязгом железным захлопнули.
— Гарнизон Аквилейи храбрый и хорошо обучен, — сказал Аттиле стотысячник Гилюй. — Много у нас, повелитель, войска, но количеством здесь ничего не сделаешь... Скажи, великочтимый, а зачем он тебе нужен, этот город?
— Тебе бы. Гилюй, всё по степям скакать... Я хочу иметь его как защиту у себя в тылу. Пойдя на Рим, буду знать, что спина моя также хорошо закрыта, как грудь и живот...
Наблюдая за неудачными попытками повелителя взять почти неприступную Аквилейю, в голову к Ириску приходили мысли, что уже четыре года Аттила вот так же безуспешно бьётся за несчастную женщину, стремясь вызволить её из плена, четыре года с того дня, как он передал Аттиле письмо от Гонории с просьбой взять её в жёны. И четыре года Приск также находится рядом с правителем гуннов, ведя свои записи обо всём, что тот делает и говорит... (В скобках замечу, что потом писатели Иордан и Прокопий Кесарийский многое используют из того исторического материала, к сожалению, мало до нас дошедшего, которым поделился со своими современниками фракиец Приск, бывший секретарь византийского императора Феодосия II. Использовали Иордан и Прокопий из записок Приска в своих трудах и эпизод с аистами...).
Ещё несколько приступов предпринял Аттила на Аквилейю, и снова неудача... Уже начали роптать воины.
— Боги отступились от нашего повелителя, — говорили они.
Зеркон Маврусий пришёл к грозному владыке и сказал ему:
— Поставленный солнцем и луной, ты велик, Аттила. Но всё же человек... Наверное, ты тоже устал... В последнее время мне снится, что я несу на спине вместо горба целую гору. Твоя же гора на спине — это бремя забот целого мира. Подумай, рождённый землёй и небом, над тем, не повернуть ли нам вспять от этого города?..
Ничего не ответил мудрецу Аттила, лишь угостил его из своей чаши напитком кам. Вышел повелитель из палатки и, окружённый военачальниками, стал прохаживаться недалеко от каменных стен крепости, раздумывая над словами горбуна. И вдруг обратил внимание, что белоснежные аисты, которые обычно устраивают свои гнезда на крышах домов, тащат птенцов из города и, вопреки своим привычкам, уносят их куда-то за поля... И тогда он повернулся к Гилюю, с которым тоже недавно спорил, и поделился соображением.
— Посмотри, — сказал Аттила, — на этих птиц: предвидя будущее, они покидают город, которому грозит гибель, они бегут с укреплений, которые падут, так как опасность нависла над ними. Это не пустая примета, в предчувствии событий, в страхе перед грядущим меняют птицы свои привычки...
Аттила был очень проницательным и пытливым, отмечает Приск.
Повелитель придумал соорудить несколько деревянных башен, поднимавшихся выше зубцов стен, и поместить их на крепко связанные три больших плота. Затем все эти громоздкие сооружения столкнули в реку и подвели вплотную к крепостной стене. Наверх башен он послал тысячу Андагиса. Воины тут же перекинули на крепостные зубцы мосты и бросились по ним на стену, а оттуда к воротам. И вскоре распахивают их... Гуннская конница яростно врывается в город, грабит, делит добычу, разоряет всё с такой яростью, что, как кажется, не оставляет от города никаких следов... И уже Иордан сообщает далее, что «ещё более дерзкие после этого, всё ещё не пресыщенные кровью римлян, гунны вакхически неистовствуют по остальным венетским городам. Опустошают они Медиолан (Милан), главный город Лигурии; равным образом размётывают Тицин (Павию), истребляя с яростью и близлежащие окрестности, наконец, разрушают чуть ли не всю Италию.
Но когда возникло у Аттилы намерение идти на Рим, то приближённые его...»
Вот здесь мы вместе с приближёнными Аттилы переведём дух... И вспомним, читатель, кое-что из прошлого, может быть, уже и слегка подзабытого.
410 год. В тот год происходят впервые разрушение Рима королём вестготов Аларихом. Вестготы, как известно, были христианами, исповедуя веру Ария, и Аларих запретил своим воинам убивать мирных жителей и грабить святыни апостолов Петра и Павла; папа Иннокентий бежал из Рима в Равенну, покинув всё на произвол судьбы. Но от убийств варвары не удержались и кое-какие святыни утащили, за что папа из Равенны проклял Алариха...
И что же произошло дальше? Аларих увёз из Рима огромные сокровища и увёл с собой Галлу Плацидию, но по пути в Африку внезапно скончался...
Власть перешла к его родственнику Атаульфу, который взял в жёны Галлу Плацидию, затем вернулся в Рим и разрушил его во второй раз. Папа перед лицом Бога проклинает и этого варвара. Через пять лет Атаульфа и его шестерых детей убивает Сингерих, а Плацидию выдворяет из барцелонского дворца и далее гонит её под нещадным испанским солнцем вместе о другими пленниками, а сам, торжествуя, едет верхом. Вот тогда-то с Плацидией случается удар, от которого она много позже и умерла...
Через неделю Сингерих был убит Валлием, который обменял Плацидию на шестьсот тысяч мер пшеницы. И Валлия настигает проклятие: когда его корабли шли в Африку, налетела буря и разметала их в щепки... Да, ты правильно догадался, читатель! Когда возникло намерение у Аттилы идти на Рим, то приближённые его, как передаёт историк Приск, отвлекли правителя от этого, однако не потому, что заботились о городе, коего являлись врагами, но потому, что имели перед глазами пример Алариха, Атаульфа, Сингериха и Валлия... (Я уверен, что о постигшем их несчастье в результате проклятия Аттиле красочно поведал Приск; всё же сколько бы он ни находился у гуннов, как бы ни восхищался их умным грозным владыкой, допустить на этот раз уже полного уничтожения самого красивого города на земле учёный не мог).
Аттила, как и многие в то время правители, да и люди вообще, не лишён был суеверия. Более того, он возил с собой, вы помните, разного рода прорицателей, гаруспиков, авгуров и «святого епископа»; когда повелитель спросил последнего: как ему быть? — тот ответил:
— На Рим не ходи!
Тогда Аттила обратился к авгурам, гаруспикам и прорицателям. И сын его Эллак, зная, что отец прибегает к их помощи только в крайнем случае, с тревогой наблюдал, как колеблется могущественный дух отца относительно этого опасного дела — идти на Рим или не идти?.. И Эллак сделал для себя печальный вывод: «Колебание его души есть следствие неудачи на Каталаунских полях...»
Как-то Приск и Эллак спросили Аттилу, почему он верит предсказаниям авгуров, которые гадают по полёту птиц...
— Разве птицы знают будущее?..
— Да, птицы не знают будущего... Вы правы! Но направляется их полёт так, что исходящий из клюва звук и быстрое или медленное движение крыльев открывает будущее. Точно так же гаруспики, умеющие исследовать вещие внутренности животных и открывающие несчётное разнообразие их изменений, узнают по ним будущее.
— Отец, ты веришь и прорицателям, которые в припадке вдохновения изрекают божественные слова?..
— Да, сын мой, верю, и ты должен им тоже верить... Потому что солнце, этот мировой разум, источает наши души из себя, как искры, и когда оно сильнее их воспламенит, то делает их способными познавать будущее... Кроме того, много чего человеку могут сказать случайно раздавшиеся голоса и природные явления, особенно удары грома, блеск молний и падающие звёзды...
Пока Аттила пребывал в раздумьях и пока войско его буйствовало, подоспело посольство из Рима во главе с напой Львом I. На Амбулейском поле, там, где течёт река Минций, возле переправы[143], Аттила встретился с папой, и тот стад уговаривать грозного владыку оставить затею с походом на Рим.
— Иначе и ты, как твои предшественники, подвергнешься проклятию...
Но только после того, как Аттила узнал, что в Риме свирепствует голод и появилась чума, он спросил Льва I:
— Если я отменю своё решение идти на Рим, пришлёте вы мне Августу Гонорию, которая хочет стать моей женой?
— Непременно пришлём, сын мой.
— Хорошо, отец мой, — съязвил Аттила.
Думается, что только чума и голод остановили Аттилу... К тому же на помощь Риму шли византийские войска императора Маркиана.
После разговора с папой Львом I, которому приписывают «чудодейственное влияние на дикаря» (Лев I значится святым в католических святцах), Аттила повернул назад и ушёл в своё дунайское становище.
Папа, обещая прислать Гонорию, обманывал Аттилу: её уже выдали замуж за безвестного чиновника и отправили на Капри, где она через год, узнав о смерти Аттилы и таким образом лишившись моральной поддержки, которая питала её силы, увяла и умерла лета 454-го.
Вернувшись в Паннонию, гунны снова поставили Марсов меч скифов на то самое место, где нашёл его пастух. «А как звать того пастуха?» — поинтересовался Аттила. Тогда начали искать пастуха, но так и не нашли. Знать, сгинул в пыли дальних дорог, странствуя вместе с войском...
Но сидеть в становище и чего-то ждать — не в характере Аттилы. Он позвал секретаря Ореста, сына Эллака, скифа Эдикона, стотысячника Гилюя, Зеркона Маврусия, Приска и сказал:
— Надо посылать посольство в Константинополь к Маркиану и выговорить ему его же словами: если для друзей у него золото, а для врагов железо, то мы, как друзья, требуем от него, должника, золото, а если он считает нас врагами, то мы придём к нему и дадим железо...
В июле 453 года скончалась императрица-девственница Пульхерия, так и не осуществив свою месть до конца в отношении жены брата Афинаиды-Евдокии; несколько раз она подсылала в Иерусалим убийц, но безрезультатно. Наоборот, Афинаида-Евдокия сама «возвращала» сполна этим убийцам. Скорее всего её сам Бог хранил: после того, как она написала поэму о святом Кинриане, эта талантливая женщина героическими стихами перевела места из Ветхого Завета: книги Моисея, Иисуса Навина, Судей, Книгу Руфь. Она перевела также Пророчество Захарии и Даниила, и грамматик Цец в свою очередь высоко ценил талант «золотой императрицы, очень премудрой дочери великого Леонтия». Она сочинила также «Hoinerocentra, или Гомеровские центоны», в которых пыталась рассказать эпизоды из жизни Христа гомеровскими стихами, искусно подобранными. Это, впрочем, был род сочинений, крайне любимый в её время, и, прилагая тут своё старание, она только продолжала, как сама в том признавалась, дело одного из своих современников, епископа Патрикия...
Через два месяца после похорон Пульхерии Маркиану приснился сон: будто едет он верхом по незнакомой степи, один-одинешёнек. Но не боязно василевсу, едет с радостно бьющимся сердцем, хотя небо над степью заволокли тучи... И вот над головою Маркиана небо очистилось, лишь вдали оно тёмное, и там полыхают молнии. И вдруг слышит над собой громовой голос:
— На вас, погрязших в пороках и блуде, отступивших от моих заповедей, наслал я грозного владыку, чтобы он жестокостью своей напомнил о смысле жизни... Вы прозвали его «Бичом Божьим», и он был в руках моих действительно бичом, загоняющим непослушное стадо в стойло. Таким непослушным стадом виделись вы мне... Теперь он выполнил свою миссию на земле, и я показываю вам его сломанный лук... Взгляни сюда, император!
Маркиан поднимает голову и видит в очистившемся клочке неба Божество, которое держит в руках сломанный лук...
«Что бы это значило?» — думает император, проснувшись. Через несколько дней всё прояснилось: гонцы доложили, что в ту ночь, когда василевсу приснилось Божество со сломанным луком, умер гроза христиан всего мира Аттила...
* * *
Когда в первый раз Аттила увидел дочь короля ругов Визигаста Ильдико, он на очаровательного подростка тогда не обратил особого внимания. Потом всё чаще и чаще слышал, что у Визигаста растёт прекрасная принцесса, правда, Визигаст пообещал королю квадов выдать дочь свою за его сына Дагкара, но, может быть, всё же стоит посмотреть на неё самому Аттиле, чтобы взять в жёны Эллаку.
Аттила согласился посмотреть. Узнав, что будут делать смотрины Ильдико, Эллак весь так и вспыхнул, он видел эту шестнадцатилетнюю красавицу, завидовал Дагкару, с которым дружил, а тут выходило так, что обладать ею станет он сам... Одно дело — пленные красавицы, даже девственницы, другое — нежная, как китайская фарфоровая ваза, царская дочь, законная жена... Сказал об этом Ириску, с которым ещё больше сблизился и который много чего дельного советовал ему на правах старшего друга...
— Что ж, в добрый путь, как говорят у нас во Фракии, — с улыбкой похлопал Эллака по плечу Приск.
Но вот тот день, когда Визигаст с дочерью Ильдико предстал перед повелителем, стал для Эллака чёрным днём в его жизни, ибо, увидев юную нежную красавицу, Аттила решил взять её себе в жёны. Когда ему доложили, что сын сильно переживает его решением, он ответил:
— Ничего, ещё много таких красавиц, как Ильдико. встретится на его пути, а у меня, может быть, она — последняя...
И как в воду глядел... Или вычислил по полёту птиц, или сказал ему о том, что Ильдико будет его последней женой, обильно падающие в конце августа с неба звёзды...
Связанный с королём квадов словом, король Визигаст попросил Аттилу, чтобы «святой епископ» освободил его от этого слова.
Повелитель мрачно пошутил:
— Считай, что я тот самый «святой епископ» и есть... Освобождаю.
Свадьба проходила так же степенно-размеренно, как в прошлый раз, когда Аттила женился на Креке. Та уже родила ему дочь, но тем не менее повелитель за столом сажал Креку по левую руку от себя — он очень уважительно относился к этой преданной ему женщине, бывшей массажистке. Думали, что женитьба Аттилы на ней всего лишь маскарад, который был необходим, чтобы умертвить Бледу и его жену Валадамарку... Да и Крека искренне любила, в отличие от многих жён повелителя, своего господина.
На свадьбе, как всегда, попросили талагая Ушулу спеть свои дурацкие песни. Он не отказывался, встал посредине, и вместо того, чтобы спеть, вдруг по-волчьи завыл, завыл так, как волчица-мать воет, когда охотники или пастухи разоряют её нору и уносят волчат. Ушулу наддали пинком под зад, и он выкатился со свадьбы, и больше его не пускали. Кажется, про выходку дурачка все скоро забыли, но только не горбун Зеркон Маврусий... Он сидел как-то тихо, никого не касаясь, и внимательно смотрел на правителя; тот был чересчур весел, постоянно обнимал, прижимая к боку, молчаливый, закутанный во всё белое, женский комочек тела, что-то рассказывал Гилюю и всё пил и пил из габалы вино... И горбун уже наяву, а не во сне чувствовал, что у него на спине не горб, а целая гора...
Вечером Аттилу и Ильдико проводили в отдельную, приготовленную для этого случая палатку и приставили ко входу тургаудов. Тургауды слышали ночью, как плакала Ильдико, как она что-то говорила повелителю, тот даже накричал на неё, потом всё стихло... Перед утром слышно было, как наливал Аттила себе вина.
Уже солнце поднялось: яркие лучи впились в золотой набалдашник, которым украсили палатку повелителя и его юной жены. Внутри палатки всё ещё было тихо.
— Утомился правитель, — пошутил кто-то из тургаудов.
Повелитель и Ильдико продолжали спать, поэтому приказано было поставить возле палатки очередную смену телохранителей.
Прошло и ещё время, а в палатке никто не шевелился... Солнце уже высоко встало; первым забеспокоился Эллак, прибежал к горбуну.
— Зеркон, чует моё сердце что-то неладное... Я в свадебную палатку к отцу как сын, сам понимаешь, зайти не могу... Вдруг они лежат обнажённые... Иди, посмотри.
Зеркон Маврусий, откинув полог белой кошмы, проскользнул внутрь. Пробыл там недолго. Как только появился, произнёс три загадочных слова:
— Не стало горы...
Повернулся к сыну повелителя и тихо добавил:
— Иди теперь ты, Эллак...
Вскоре в палатке раздался громкий крик, и тогда уже другие приближённые Аттилы ворвались в неё. Они увидели своего владыку, плавающего в крови, и рядом плачущую Ильдико с опущенным лицом под покрывалом...
Табиб объяснил потом, что ослабевший от великого наслаждения юным телом, а затем отяжелённый вином и сном, Аттила уже под утро, когда вставал, чтобы налить вина, упал и потерял сознание. Из него хлынула кровь, но пошла она не как обычно, через ноздри, а стала изливаться по смертоносному пути — через горло и задушила его.
Опьянение принесло постыдный конец прославленному в войнах повелителю полумира. Знать, так угодно было великому Божеству...
Когда объявили воинству и всем гуннам о смерти правителя, мужчины отрезали на голове часть своих волос и взбороздили ножами лица глубокими ранами, чтобы их повелитель был оплакан не воплями и слезами женщин, а кровью мужей...
Прошло первое оцепенение. Кровь на лицах мужей запеклась. Стали думать, как и где почтить останки Аттилы.
Эллак, Приск и Орест предложили поставить шёлковую палатку возле пещеры дикого быка, там, где в дереве до сих пор торчит копьё Повелителя.
С ними согласились. В шёлковую палатку поместили мёртвое тело Аттилы, и отборнейшие всадники всего гуннского племени, объезжая её вокруг, в погребальных песнопениях поминали его подвиги. А Великий жрец, избранный Великим плакальщиком, произнёс такие слова:
— Поставленный на землю Солнцем и Луной, великий король гуннов Аттила, рождённый от отца Мундзука, господин сильнейших племён! Ты, который с неслыханным дотоле могуществом один овладел скифским и германским царствами, который захватами городов поверг в ужас обе империи римского мира и — дабы не было отдано и остальное на разграбление — умилостивленный молениями, принял ежегодную дань. И со счастливым исходом, совершив всё это, скончался не от вражеской раны, не от коварства своих, но в радости, веселии и опьянении, без чувства боли, когда племя пребываю целым и невредимым. Кто же примет это за кончину, когда никто не почитает её подлежащей отмщению?!
После того, как Аттила был оплакан, возвели курган, на котором гунны весь день и целую ночь справляли страву[144], сопровождая её громадным пиршеством. Сочетая противоположные чувства, выражали они похоронную скорбь, смешанную с ликованием.
И пока шла поминальная страва, ночью же труп тайно вывозят из шёлковой палатки в глухую степь. Там заключают его в три гроба — золотой, серебряный и железный; сюда присоединяют оружие, добытое в битвах с врагами, драгоценные фалеры[145], сияющие многоцветьем камней, и всякого рода украшения, снятые со стен дворца Аттилы, и много всего золотого и серебряного из сокровищницы.
Орест уже мог не беспокоиться о своём зарытом кладе в прирейнском лесу — пропажу части казны теперь уже никто не мог бы определить ни по каким расходным книгам: когда клали в могилу к Аттиле всё дорогое — не записывали... Таким образом сделаюсь украденное Орестом как бы невидимым!
Всякого богатства было положено рядом с Аттилой действительно очень много, поэтому совет военачальников распорядился всех тех, кто хоронил Аттилу, обезглавить, чтобы не стало известно место его погребения, скрывавшее и крупные сокровища...
И как отмечал Иордан, «мгновенная смерть постигла погребавших так же, как постигла она и погребённого...».
* * *
Как растут в лесу грибы-поганки? Еле держатся вначале на тонкой ножке, еле тянутся кверху, но достаточно какого-то дождя, чтобы они мигом окрепли, растолкали рядом растущие полезные грибы и вот уже прочно заняли своё место в тени деревьев.
Смерть Аттилы и явилась тем самым дождём, который позволил до сего момента ничем себя не проявившим многочисленным наследникам, родившимся от семидесяти жён повелителя, войти в крепкий рост и заявить о своих правах.
Эллак, к которому по закону старшего должна была перейти от отца власть, растерялся; оказалось, что есть у него братья даже старше его, но они ни в одном сражении не участвовали, да и на глаза отцу при его жизни не показывались, а заявились в главное становище уже после его смерти...
Скиф Эдикон с прямотой решительного воина предложил Эллаку всех их обезглавить. Эдикона поддержал и его повзрослевший сын Одоакр. Осторожный Орест заметил, что никто из этих поганок власть не получит — не позволят сами гуннские воины, которые только и ждут, чтобы поднять Эллака как шаньюя на белой кошме при всеобщем стечении народа.
Но получилось по присказке — «твоими бы устами да мёд (кам) пить», или, как ещё говорят: «Человек предполагает, а Бог располагает»... Вдруг тот же Орест, Эдикои, Одоакр и другие, которые не сомневались, что власть обязательно будет у Эллака, ощутили в какой-то момент такое, что стало мешать осуществлению их добрых намерений в отношении старшего сына Аттилы. То вдруг Гилюй на какое-то время отдалился от них, что-то неопределённое сказал Увэй... И вот уже дело дошло до того, что уже многочисленные наследники правителя начали требовать разделения между собой племён поровну путём жеребьёвки...
Когда об этом узнал гордый король гепидов Ардарих, он воскликнул:
— Неужели я, приносивший славу великому Аттиле, который считал меня чуть ли не равным себе, теперь нахожусь в таком презренном рабстве, что можно с моим племенем обращаться, как со стадом баранов в загоне, отделяя столько-то и столько-то голов тому или другому... Такому не бывать!
Он снялся и ушёл и своим отпадением освободил не только своё племя, но и подал пример другим королям, которые тоже отпали от гуннов и присоединились к Ардариху.
И вот уже единое тело обращается в разрозненные члены, которые уже неистовствуют друг против друга.
Вооружившись, они сходятся в конце 453 года в Паннонии близ реки, название которой — Недао[146], где и происходит снова кровавая бойня племён, которые совсем недавно дрались вместе, организованные могучей волей Аттилы, против общего врага... Теперь они беспощадно истребляли друг друга, и король Ардарих на берегу тихой речки смертельно поразил копьём Эллака. Остальных его братьев погнали вплоть до Понтийского моря.
Так отступили гунны, перед которыми, казалось, отступала вселенная...
VI
Время — и великий лекарь, и великий гробовщик. Одного уврачует, другого угробит мигом.
Поначалу смерть сына Евгения так подействовала на Октавиана-старшего, что распорядительница дома вместе со служанками не раз поселила загородную гробницу, что бы приготовить её к приёму господина: там они всё приводили в порядок — мыли, чистили, по-новому расставили скульптурные изображения богов и, наконец, водрузили на место рядом с белой урной жены бывшего сенатора и его урну. Пока пустую...
Клавдий завещал, чтобы после смерти тело его сожгли, как того велит древний римский обычай, а пепел замуровали в гробнице.
Но Октавиан-старший пошёл на поправку (правда, побелевшие волосы так и остались белыми), перестала трястись голова, недаром что был гвардейцем, сильный организм справился с недугом. Клавдий окреп, приободрился, снова по вечерам стал ходить на крышу дома, попивать фалернское вино с молодым мёдом и приглашать в спальню распорядительницу, свою давнишнюю любовницу...
Тоска и боль по сыну всё равно тревожили сердце, но теперь они как бы существовали отдельно от его тихих обыденных радостей, не задевая их...
Клавдий, когда узнал, что вместе с императорским двором переехал в Рим и сенатор Себрий Флакк, решил не пускать его к себе в дом: чувствовал, что самоубийство прекрасного друга Кальвисия Тулла, сын которого, капитан миопароны, погиб в Сардинии вместе с Евгением, не обошлось без предательства Флакка...
Правда, распорядительница, когда Клавдий объявил ей свою волю насчёт сенатора Флакка, сказала ему:
— Дорогой Октавиан, а ведь ты выдвигаешь против бывшего друга страшное обвинение... И учти — бездоказательное!
— Милочка, о том, что он виноват в смерти Кальвисия, мне говорит моё сердце.
— Конечно, к голосу сердца прислушиваться надо, но оно не есть справедливый судья... Только неопровержимые факты докажут его вину, а у тебя их нет, Клавдий...
— И то верно. Ладно, откройте Флакку двери, как только он придёт. Я выясню у него всё лично сам.
Флакк знал, что Клавдий непременно станет искать причину самоубийства Кальвисия Тулла, может быть, в чём-то будет подозревать и его, но сенатор рассчитывал на природную доверчивость Клавдия и поэтому решительно однажды постучал медным кольцом в дверь его дома.
Красноречиво изложив обстоятельства того дела, недаром в сенате после Петрония Максима Себрий считался лучшим оратором, он убедил Клавдия в том, что самоубийство Кальвисия не было простым уходом от ответственности, а являлось следствием каких-то запутанных домашних дел, его душевного настроения... Если бы он боялся палачей евнуха Антония Ульпиана, то наложил бы руки на себя один, а ведь с ним вместе ушла из жизни какая-то служанка... В конце концов, Клавдий поднял фиал примирения, и они выпили, снова довольные друг другом.
Теперь Клавдий был в курсе всех дел, творимых и в Сенате, и в императорском дворце: сидя за чашей фалернского или греческо-хиосского, Себрий подробно рассказывал, чтобы окончательно войти в прежнее доверие, обо всём, что касалось империи. То, что она больше и больше погружалась во тьму, было ясно Клавдию и без рассказов друга. Но откровения его лишний раз подтверждали уверенность бывшего гвардейца, что империя должна скоро окончательно развалиться, ибо давно всё шло к этому — мельчали люди и императоры, вырождаясь в откровенных придурков, которым стало наплевать на всех... Им бы самим урвать кусок пожирнее, а что касается их подданных, то пусть дохнут, как без пойла свиньи, в грязи и навозе...
— Ты бы видел Аэция, — говорил Себрий Флакк. — И этот «последний великий римлянин», три раза возведённый в консулы, что, как ты понимаешь, является редкостью для простого патриция, тоже ворует и слева, и справа. Я понимаю, у него теперь два сына — Карпилион и младший Гауденций, им в наследство надо кое-что оставить, но не откровенно же хапать! Сейчас у него три виллы на Адриатическом море, две на Тирренском... Вместе с другими военачальниками разворовал воинскую казну, бессовестно устраивает кутежи. Как говорят, сорвался с цепи после смерти Галлы Плацидии...
И вдруг через неделю поднимается взволнованный Себрий к Клавдию на крышу дома и восклицает:
— Убит Аэций! Самим императором... По чьей-то подсказке, и скорее всего по подсказке Петрония Максима, этого хитрого змея, который добродетель воздвиг в ранг своей политики, хотя от его добродетели разит, как от тухлой капусты. Валентиниан стал укорять Аэция в беспутстве и воровстве...
— И это ты мне говоришь, щенок?! — возмутился Аэций. — Мне, который, если захочет, дунет на тебя, и ты, как мыльный пузырь, слетишь со своего трона...
С императором чуть не случился припадок. Но он как-то обрёл себя и, ни слова не говоря, зайдя сзади, нанёс полководцу сверху вниз удар коротким мечом в шею. Тот упал, обливаясь кровью, и скончался.
Пока во дворце относительно тихо, продолжал далее рассказывать Себрий, но за его пределами дружинник Аэция гот Оптила поклялся отомстить Валентиниану... И этим не преминет воспользоваться всё тот же Петроний. Если император думал, что на его трон метил Аэций, то он ошибался... Метит Петроний Максим.
Он никогда не простит императору позора и смерти своей жены. Нет, не простит!
Оставаясь один, Клавдий всё чаще и чаще задумывался о судьбе так и не ставшей ему невесткой Гонории, которую любил сын и погибший фактически из-за любви к Августе... И она уже сошла в могилу... Об этом сейчас не принято распространяться, но о её кончине поведал Клавдию старый мудрец-стоик Хармид, верящий в богиню, у которой зри имени: Афродита, Урания и Анадиомена...
Как-то весенним днём, когда звёзды крупно зависли над Римом, Клавдий вышел из своего таблина и, миновав парадные комнаты, сад с фонтаном, пинакотеку, по лестнице поднялся по обыкновению на плоскую крышу дома. Там уже на столике стояли вина и закуски. Стемнело. Как и в прошлый раз, когда появилась Гонория, Клавдий услышал стук колёс тяжёлой) фургона по мостовой. И сейчас фургон остановился напротив огороженного места, где была «похоронена молния». При свете уличных фонарей Клавдий разглядел закутанного в лацерну старика, который с кряхтеньем слез с козел.
Потом он подошёл к двери и звякнул медным кольцом. Вскоре на крышу распорядительница привела чернобородого старика, от которого Клавдий узнал о смерти Гонории на Капри, где Хармид со своими детьми и зятем давал цирковые представления. Это он тогда помог Гонории, её слуге анту Радогасту и служанке Джамне добраться из Анконы в Рим.
— Со смертью Аттилы у Гонории отняли надежду, и она увяла, как цветок осенью... — говорил Хармид.
— Всю жизнь провести в темнице — это страшная кара богов... Только в чём она провинилась? — спросил мудреца Клавдий.
— Может быть, это кара за деяния предков?
— В таком случае она полностью искупила их вину, и теперь восседает, надеюсь, вместе с сыном моим на природе Элисиума в подземном мире, где эфир и поля облекаются пурпурным светом, а леса благоухают лавром, где своё солнце и свои звёзды, а на лугах пасутся белые кони.
— Ты поместил, Клавдий, души родных тебе людей — сына и Августы — в те луга, поля и леса, которые изобразил Вергилий в своей бессмертной «Энеиде», отправив Энея в царство Аида... Но тот же Вергилий в своих эклогах предсказал рождение некоего младенца, который принесёт с собой на землю мир... Не пророчествовал ли Вергилий о рождении Христа?.. Тогда души твоего сына и Гонории должны будут восседать в небесном раю, а не в подземном Элисиуме...
— Я язычник, Хармид... И предпочитаю для них Элисиум, туда я отправлюсь сам и там обитает душа моей жены, матери Евгения.
...16 марта 455 года, спустя полгода с того дня, как Аэция убил император, погиб он и сам от меча гота Оптилы, и уже на второй день императором Рима был провозглашён сенатор Петроний Максим.
Вдовствующий император вскоре захотел жениться тоже на вдовствующей Евдоксии, та оказала некоторое сопротивление, но всё-таки сделалась его женой.
Однажды Петроний Максим, зная, что Евдоксия не любила своего покойного мужа, признался, что это он подстроил убийство Валентиниана... Но Евдоксия не любила и Петрония Максима; она тайно отправляет к королю вандалов Гензериху гонца с письмом, в котором просит прийти ей на помощь и защитить от произвола тирана...
Звёздный час Гензериха настал!
Не дожидаясь своего союзника Рикиария — короля свевов, который в это время затеял тяжбу с вестготами, Гензерих в мае 455 года появился со своим флотом в устье Тибра и высадился в Остии. Рим не был готов к защите; Петроний Максим, переодевшись, бежал из дворца, но на улице его узнали и стали бросать в него камнями. Один камень попал в колено, император, который, узурпировав власть, сидел на троне два с половиной месяца, за что теперь и расплачивался, упал, но, превозмогая боль, поднялся и побежал, сильно хромая, к Тибру, надеясь найти там лодку.
Он оглянулся и увидел, что его догоняет, держа в одной руке щит, в другой меч, воин, в котором он с ужасом узнал бывшего начальника охраны Валентиниана III Урса, брата влиятельного при дворе человека Рицимера.
Урс лёгкими длинными прыжками настиг тяжёлого Петрония и вонзил ему остриё меча между лопаток; тот крякнул, как боров, и свалился на мостовую... Он был ещё жив. Но Урс не стаз добивать его. Тут же собравшаяся толпа разглядела в упавшем человеке ненавистного им императора-самозванца и загорланила:
— А ну, римляне, поволокли его к Тибру... Тем более тут недалече. Пусть кормит своим жирным телом на дне раков.
Раскачали, взявшись за руки и ноги, и бросили тяжело раненного Петрония Максима в древнюю, как сам Рим, реку...
Спустя три дня после гибели Петрония Максима на улицы Рима вступили вандалы. И настали дни жуткого разграбления «вечного города»... Вандалы грабили ровно две недели — столько было отпущено Гензерихом своим воинам для удовлетворения их низменных страстей... Да и сам король чувствовал себя так, что он наконец-то «добрался до Рима»...
Поначалу вандалы стучались в богатые дома патрициев. И когда им открывали двери, они врывались как бешеные и устраивали дикие вакханалии: во-первых, тащили из домов всё, что представляло какую-то ценность; затем выкатывали из подвалов во дворы бочки с вином; выволакивали женщин, и патрицианок, и их служанок, заставляли их нить, напивались сами и тут же во дворе до одури насиловали молодиц.
Надо сказать, что вандалы сразу уничтожили городской гарнизон, который почти и не сопротивлялся. Но теперь сами горожане начали оказывать вооружённое сопротивление.
В доме Клавдия Октавиана рядом с ларами стояла мраморная, чуть ли не во весь человеческий рост дева-охотница Диана. За её спиной на стене висели лук и топор с серебряной рукояткой. Когда ворвались в дом к бывшему гвардейцу вандалы, он смахнул со стены топор и раскроил череп одному бородатому воину, тот, пятясь, задел Диану и вместе с ней рухнул на мраморный пол. У Дианы отбилась голова и покатилась в сторону таблица хозяина, которого тут же закололи мечами, а распорядительнице, бросившейся на помощь господину, заломили руки и тут же, прямо на мраморном полу, стали насиловать... К ней, уже обессиленной, с блуждающим взглядом, закушенными от боли губами и почти потерявшей сознание, всё подходили и подходили вандалы, поднимая полу короткой одежды из волчьих шкур, доставали свои огромные предметы и в наказание за то, что женщина посмела прийти на помощь хозяину, снова и снова над ней надругивались; и это продолжалось до тех пор, пока она не умерла, изойдя кровью.
Затем ограбив всё дочиста и согнав остальных служанок и слуг за ворота, вандалы подожгли дом. Так для Октавиана-старшего и распорядительницы, ставшей ему в последнее время почти женой, дом их и стал общей гробницей...
Хотя вандалы Гензериха особо не разрушали здания, но огонь бушевал повсюду. С храма Юпитера Капитолийского король приказал содрать половину крыши. Это была замечательная и великолепная крыша из лучшей меди и вся густо вызолоченная. Также в императорском дворце Гензерих не оставил ни меди, ни какого-либо другого металла... И, нагрузив свои корабли золотом, серебром и драгоценными вещами из императорского имущества и имущества патрициев, король с сыновьями вернулся в Карфаген.
Вандалы пригнали с собой в Африку тысячи римлян, обратив их в рабов, увезли с собой также императрицу Евдоксию, двух её дочерей и Гауденция, младшего сына полководца Аэция. Одну из дочерей, носившую имя матери, затем отдали в жёны Гунериху.
Гунерих её не любил — в сердце он всю жизнь хранил образ Рустицианы; Гунерих не только относился к римской принцессе невнимательно, но и грубо. Евдоксии удалось через шестнадцать лет убежать от него в Иерусалим, как в своё время убежала от своего мужа, византийского василевса, её бабушка Афинаида-Евдокия; там Евдоксия-младшая и окончила свои дни...
За сорок пять лет, которые прошли со времени вторжения Алариха в Рим, его население к 455 году убавилось на сто пятьдесят тысяч, если не больше. Многие древние роды исчезли совсем, другие находились в бедственном положении и гибли, как гибли многие языческие храмы. Дворцы опустели, в базилики народ ходил с неохотой — он просил помощи от Бога, но не получал.
Люди двигались как привидения, всюду было мертво. Если раньше Рим, застроенный храмами, дворцами, аркадами, вызывал восхищение, то теперь он представлял картину торжественного развала...
Майориан, при поддержке варвара Рицимера ставший новым императором, попытался было защитить Рим от... самих же римлян, так как они бездумно стали использовать существующие здания как каменоломни для добывания строительного материала, и издал грозный эдикт. Однако никакие эдикты нового императора не могли остановить стремительной» развала античного Рима, тем более что подлинным хозяином его являлся Рицимер, которому вскоре слишком энергичный Майориан стал надоедать.
Возможно, что Рицимер вступил в тайный сговор с вандалами: когда Майориан двинул флот к берегам Африки, чтобы отомстить Гензериху за разграбление Рима, римский император потерпел поражение и был обезглавлен.
Но это уже другая история.
Список исторических персонажей, действующих или упомянутых в романе

Август (23.09.63 до н. э. — 19.08.14 н. э.), сын Гая Октавия и Атии, дочери сестры Цезаря, Юлии; внучатый племянник Гая Юлия Цезаря. С 27 г. до н. э. император Цезарь Август. Сопровождал Цезаря во время походов в Испанию. После победы в морском сражении при Акции в 31 г. до н. э. над войсками Антония стал единоличным правителем империи. Был обожествлён при жизни. Являлся Верховным жрецом и Отцом отечества, а также главнокомандующим римской армии. Провёл ряд реформ, направленных на укрепление внутри- и внешнеполитического положения Империи. В правление Августа наблюдался заметный расцвет науки и искусства, подъём строительной деятельности.
Августин (354—28.08.430) Блаженный. Выдающийся деятель христианской церкви, один из «учителей» церкви Запада. Получил хорошее образование, был знаком с идеями стоицизма и неоплатонизма. Принял христианство в 387 г. Епископ Гиппона с 395 г. Автор множества произведений, из которых наиболее известны «Исповедь» и «О граде Божьем». Выдвинул новую концепцию развития мировой истории, на которой основывались построения средневековых учёных и историописателей. Замечателен и как автор полемических сочинений, направленных против донатистов и манихейства.
Аларих (ок. 370—410), вестготский король. Первоначально являлся сторонником Феодосия I, но при Аркадии стал наместником Иллирии. В 401 г. вторгся в Италию. В 409-м провозгласил королём Аттала и в 410 г. захватил Рим, что ознаменовало собой начало фактического развала Римской империи.
Аммиан Марцеллин (ок. 330 — до 400), позднеримский историк, предположительно уроженец Антиохии. Участник многочисленных кампаний на Востоке; принимал участие в походе Юлиана Отступника в Персию. С 80-х гг. живёт в Риме, где написал своё сочинение «История», в которой описывает историю римских императоров от Нервы (96 г.) до смерти Валента в сражении с готами при Адрианополе в 378 г. До нас дошла вторая половина его труда, в которой описываются события с 353 по 378 г. Приверженец классической греко-римской образованности и культуры.
Антонин Пий (19.09.86—7.03.161), римский император с 19.07.13, выходец из галльского сенаторского рода. Основатель династии Антонинов. Консул со 120 г. Став императором, обратил внимание на внешнюю безопасность государства. При нём был сооружён вал его имени в Шотландии, укреплены границы в Германии и Реции. Усыновил Марка Аврелия, который и стал его преемником.
Апулей (ок. 124 н. э.), древнеримский писатель, адвокат, философ-платоник и софист. Уроженец Африки. Из произведений Апулея наиболее известны роман «Метаморфозы» («Золотой осёл») и «Апология». В «Апологии» автор защищается от обвинений в применении чар, с помощью которых он околдовал богатую вдову и женился на ней. В «Метаморфозах» описываются приключения Люция, у которого с помощью колдовства появились ослиные уши.
Аркадий (377 — 1.05.408) Флавий, восточноримский император с 17.01.408 г. Сын Феодосия I, соправитель и август с 383 г. Первый император Восточной Римской империи с 395 г. Являлся слабым и малоспособным человеком, находясь в постоянной зависимости от придворных чиновников — Руфина, евнуха Евтропия, а позднее и от супруги Евдоксии. Его правление ознаменовалось ожесточёнными оборонительными сражениями с гуннами и германцами, а также гонениями на язычников.
Архелай (413 — 399 до н. э.), македонский царь. Способствовал развитию Македонии — провёл денежную, военную реформы. При его дворе проживали Еврипид, Херил и Агафон.
Атаульф, король вестготов в 419 — 415 гг., преемник Алариха. Был женат на Галле Плацидии, попавшей в плен во время взятия готами Рима в 410 г. Вывел вестготов из Италии в Галлию.
Аттила (ум. 453), царь гуннского союза племён с 434 г. Во время Великого переселения народов его войска, разгромив императорские армии на Балканах, принудили Феодосия II платить гуннам дань. Во время похода 451 г. в Галлию потерпел поражение от римских войск под предводительством Аэция. Отказался от взятия Рима в связи со вспышкой эпидемии в войске и военной опасности, грозившей с тыла. Умер в своём лагере в Паннонии в ночь после свадьбы с Ильдико (предполагается, германкой по происхождению). Существует версия, что смерть настигла его от руки супруги, отомстившей за уничтожение своих соплеменников.
Аэций (ок. 390 — 454), полководец, один из последних защитников Римской империи. В 425 г. при поддержке гуннов избирался на многие руководящие должности империи: получил звание патриция, неоднократно становился консулом. С 432 г. главнокомандующий императорской армией. Стремясь свергнуть его, императрица Галла Плацидия отозвала в Италию командовавшего в Африке Бонифация. В 451 г. на Каталаунских полях одержал победу над войсками гуннской коалиции. Убит императором Валентинианом III.
Бледа (ум. 445), один из вождей гуннов, сын гуннского предводителя Мундзука, брат Аттилы. Убит последним.
Бонифаций, один из высших военачальников при императоре Гонории и особенно при Галле Плацидии и её сыне Валентиниане III (425 — 455). Деятельность его развивалась в Африке, где он занимал пост стратега Ливии, командуя войском готов-федератов. Был способным полководцем и пользовался успехом у населения. Причина начала активных действий римских войск против Бонифация заключалась якобы в том, что он стал самостоятельным правителем этого региона.
Валентиниан II Флавий (2.07.371 — 15.05.392), римский император с 22.11.375. Под опекой брата Грациана и матери правил Италией, Иллириком и Африкой. В своей деятельности испытывал влияние франка Арбогаста, которым и был убит. В вопросах религии руководствовался идеями миланского епископа Амвросия, одного из учителей западной церкви.
Валентиниан III Флавий Плацид (2.07.419 — 16.03.455), император Западной Римской империи с 23.10.425. Сын полководца Констанция и дочери Феодосия I Галлы Плацидии. Стал правителем Запада после смерти Гонория при содействии Феодосия И. До 437 г. регентшей при нём была Галла Плацидия. До 454 г. находился под влиянием Аэция. Резиденция Валентиниана находилась попеременно то в Равенне, то в Риме. При нём распад Римской империи шёл быстрыми темпами, несмотря на активную деятельность Аэция. В 445 г. император признал за папой высшие судебные полномочия. Был последним представителем династии Валентиниана-Феодосия.
Валлия, король вестготов в 415 — 419 гг., преемник Сегериха. Был настроен враждебно по отношению к Империи.
Василий Великий (ок. 330 — 379), великий деятель христианской церкви и знаменитый восточный богослов. Брат Григория Нисского. Происходил из богатого патрицианского рода, с 370 г. епископ в Кесарии (Палестина). Автор множества произведений на богословскую тематику, из которых наиболее известен «Шестоднев», а также писем, монастырских уставов и порядка богослужения.
Вегеций Ренат Флавий — автор написанного ок. 400 г. «Краткого изложения военного дела», своего рода устава римской армии. Составил также учебник по ветеринарии.
Веспасиан Тит Флавий (17.11.9 — 24.06.79), римский император с 1.07.69. Был сыном откупщика и стал первым императором несенаторского происхождения. Командовал одним из рейнских легионов, участвовал в завоевании Южной Британии. В 51 г. консул; в 67-м Нерон поручил ему подавление восстания в Иудее. Летом 69-го восставшие легионы провозгласили его императором. В декабре того же года признан сенатом. Восстановил гражданский порядок в империи. Соправителем сделал своего сына Тита. При Веспасиане велось большое дорожное и общественное строительство (Колизей).
Винитар, король остготов, внучатый племянник Германариха.
Галла Плацидия (388 — 450), римская императрица, дочь Феодосия I, сестра императоров Аркадия и Гонория. В 414 — 415 гг. жена вестготского короля Атаульфа, в 421-м — жена императора Констанция III, мать императора Валентиниана III.
Гелиогабал (Элагабал; 204 — 11.03.222), римский император с 88.06.218. Настоящее имя Марк Аврелий Антонин. Происходил из сирийской крупнопоместной аристократии. С 217-го был жрецом бога солнца Элагабала. Стаз императором благодаря влиянию своей бабки Юлии Месы. Ошибки в политике и хозяйничание фаворитов вызвали к жизни широкую оппозицию. В 221 г. цезарем провозглашён его двоюродный брат Александр Север. Гелиогабат вместе со своей матерью был убит преторианцами.
Гензерих (Гейзерих; ум. 477), вождь вандало-аланского союза с 428 г. После занятия Карфагена в 439 г. основал там суверенное государство, которое в 442 г. было признано Западной Римской империей и в мирном договоре с Византией (474 г.). В 455 г. разграбил Рим, затем завоевал принадлежавшие Риму части Сев. Африки и о-ва западного Средиземноморья. В 468 г. отразил нападение обоих римских государств.
Германарих (ум. 375), король остготов из рода Аманов, возглавивший союз племён, который иногда называют «державой Германариха».
Гомер (ок. VIII века до н. э.), греческий поэт и сказитель, стоявший у истоков европейской поэзии, с чьим именем связывают эпические поэмы «Илиада» и «Одиссея».
Гонорий Флавий (09.09.384 — 15.08.423), император Западной Римской империи с 17.01.395. Младший сын Феодосия I, его соправителе и август с 393 г. До 408 г. правил при опеке полководца Стилихона, которого позднее, подозревая в измене, приказал убить. Правительство Гонория не смогло сдерживать проникновения германцев в империю: в 409 — 411 годах вандалы, аланы и свевы поселились в Испании, вестготы, бургунды и франки вторглись в Галлию, гунны в Паннонию, в 407-м фактически оставлена Британия.
Гонория (Юста Грата Августа; ок. 418 — ?), племянница императоров Гонория и Аркадия. После провозглашения императором Западно-Римской империи Валентиниана в 425 г. вернулась в Италию и была заперта во дворце для соблюдения обета девства. В 450 г. переслала через евнуха Гиацинта своё кольцо Аттиле, предлагая ему руку и приглашая прийти за ней в Италию.
Гораций Флакк Квинт (08.12.65 до п. э.—27.11.8 до и. э.), римский поэт. Получил разностороннее образование в Афинах и Риме. В гражданской войне выступал на стороне республиканцев. С 38 г. до и. э. благодаря подарку Мецената получил возможность спокойно заниматься поэзией. Автор сатир, посланий, песен.
Гунерих, король вандалов в 477 — 484 гг., сын и преемник Гейзериха. Сторонник арианства и противник Византии.
Гунтамунд, король вандалов в 484 — 496 гг., сын Гейзериха. Продолжал политику противостояния Византии, безуспешно пытался завоевать Сицилию, которая была в итоге отнята у вандалов остготами.
Демосфен (384 — 322), греческий оратор и политический деятель, уроженец Афин. Был идейным вождём борьбы против Филиппа Македонского, в котором видел врага греческой свободы. Отравился, не желая попасть в руки македонцев. Его речи были известны во всём античном мире как образец риторики и красноречия. По ним учился Цицерон, другие выдающиеся ораторы древности.
Децебал, последний выдающийся царь даков, который в 85—86 гг. вторгся в Мезию и угрожал римскому государству. Используя помощь греческих и римских специалистов, Децебал провёл перевооружение и укрепление своего государства. Во время 1-й Дакской войны достиг определённого успеха, но во время 2-й Дакской войны потерпел поражение. Пытался спастись бегством, но был убит.
Диоклетиан Гай Аврелий Валерий (245 — 03.12.316), римский император с 17.11.284 по 01.05.305. Происходил из Далмации, сын вольноотпущенника. В 80—90 гг. вёл успешные войны в Персии, Египте, на рейнских и дунайских рубежах. Для стабилизации управления ввёл территориально -административное разделение власти — тетрархию. Таким образом, в Империи имелось два августа и два цезаря. Началась эпоха Домината. Среди проведённых Диоклетианом реформ — попытка установить фиксированные цены на основные виды продуктов, новое административное деление Империи на диоцезы и провинции и т.д. На рубеже веков проводил политику преследования христианства.
Евдокия (Афинаида-Евдокия), супруга императора Феодосия II, дочь профессора риторики из Афин. Сторонница классического образования, она поддерживала христианство. Являлась автором светских и церковных поэтических произведений.
Елена Флавия (ум. ок. 326 г.), римская императрица, святая. Была наложницей Констанция Хлора, мать Константина Великого. Всячески поддерживала христианство и способствовала его распространению богатыми дарами и постройкой церквей. С её именем связано предание об обретении Креста Господня.
Иордан, готский историк VI в., автор знаменитых «Истории готов» и «Римской истории», созданных в середине этого столетия.
Ипатия (370 — 415), греческий математик и философ, дочь математика Феона из Александрии, руководительница Мусейона. Последовательница неоплатонизма, писала комментарии к сочинениям Аполлона из Перш и Диофанта. Убита христианскими фанатиками.
Калигула Гай Цезарь Германии (31.08.12 — 24.01.41), римский император с 188.03.37, сын Германика и Агриппины. Своё прозвище получил от названия солдатской обуви — калиги, которую носил с детства. Правление Калигулы отличалось деспотизмом, произволом, конфискациями, ростом налогов. Требовал, чтобы его чтили как бога. Возможно, впал в т.н. «кесарево безумие». Был убит участниками заговора трибунов преторианской гвардии.
Катон Старший (Марк Порций Цензорий; 234 — 149 до н. э.), римский политический деятель. Прославился как цензор (отсюда прозвище), в 195 г., будучи консулом, подавил восстание в Испании. Выступал против греческого влияния в Риме. Во внешней политике постоянно требовал разрушения Карфагена, видя в нём главного экономического и политического противника. Написал учебники по медицине, с/х, риторике, праву и военному искусству.
Катулл Гай Валерий (87/84 — ок. 54 до н. э.), римский поэт-лирик. Выходец из состоятельной семьи Автор 116 стихотворений и эпиграмм.
Клавдий Тиберий К. Нерон Германик (1.08.10 — 13.10.54), римский император с 41 г. Фактически власть находилась в руках его жены — Мессалины и её любовников. Погиб от руки своей очередной жены Агриппины, которая отравила его. В правление Клавдия были дарованы полные нрава неиталикам, внесены изменения в своды законов, были основаны многочисленные колонии, присоединены Южная Британия и Мавретания.
Коммод Марк Аврелий К. Антонин (31.08.161 — 31.12.192), римский император с 17.03.180, сын Марка Аврелия. Цезарь со 166 г., а в 177 г. провозглашён августом и соправителем. Вступив на престол, отказался от агрессивной политики в придунайском регионе. Внутренняя политика отличалась жёсткостью, поощрением ближневосточных культов, стремлением к установлению неограниченного самодержавия. В 192 г. любовница Коммода Марция, вольноотпущенник Эклект и префект претория Лет убили его. Сенат одобрил их поступок и объявил Коммода «врагом отечества». Последний император из династии Антонинов.
Константин I Великий Флавий Валерий (27.02.272 — 22.05.337), римский император с 25.07.306, сын Констанция I Хлора и Елены. Был провозглашён августом в Эбораке (Йорке). В 312 г. в союзе с Лицинием одержал победу над Максенцием в битве у Мульвиева моста в Риме. Сконцентрировал всю власть в руках своего семейства. Поделил государство на 4 префектуры, 14 диоцезов (епархий) и 114 провинций. В 326 г. избрал столицей империи Византий, который в 330 г. переименовал в Константинополь. Проявлял терпимость по отношению к христианской церкви, используя её в государственных интересах. Участвовал в её внутренней жизни, вмешиваясь в решение спорных вопросов догматического и административного характера. Умер во время похода в Персию.
Констанций II Флавий Юлий (7.088.317 — 3.11.361), римский император с 9.09.337 г. Сын Константина I. Цезарь с 324-го, август с 337 г. Вёл успешные войны с персами, с 352 г. единоличный правитель Империи. В 355 г. назначил своего двоюродного брата Юлиана цезарем западных провинций. Вероятно, с его правления (354) христианская церковь официально празднует Рождество.
Лисий (ок. 445 — 380 до н. э.), афинский оратор. Ему приписывается авторство в отношении 425 речей, из которых до наших дней дошли 34. До появления Демосфена считался образцом ораторского искусства.
Лукреций Кар (ок. 96 — 55 до н. э.), поэт и философ, представитель теории атомистики в Древнем Риме. В поэме «О природе вещей» излагает основные положения философии Эпикура.
Маркиан, римский император в 450—457 гг. Пытался прекратить практику ежегодных выплат Аттиле и федератам-союзникам.
Мессалина (ок. 25 — 48 н. э.), третья жена Клавдия, одна из наиболее известных развратниц эпохи Империи. Снискала репутацию жестокой, коварной и властной женщины. Составила заговор по смещению Клавдия, который был раскрыт главой одной из императорских канцелярий Нарциссом. Казнена по приказу Клавдия.
Нерон Клавдий Друз Германик Цезарь (15.12.37 — 9.06.68), римский император с 13.10.54.
Несторий (после 381—после 451), константинопольский патриарх с 428 г., ересиарх. В 431 г. по результатам Эфесского собора был лишён сана и в 439 г. отправлен в ссылку. Выдвигал в качестве догмата определение Марии как родительницы Христа, а не Богородицы, называя её Христородицей. В 484 г. сподвижники Нестория окончательно отделились от основной церкви. Секта несториан существует и поныне.
Петроний Арбитр Гай (ум. 66 н. э.), римский писатель, чиновник. От творчества Петрония до наших дней дошли фрагменты романа «Сатирикон», в котором автор высмеивает недостатки современной ему римской действительности эпохи правления Нерона. Покончил жизнь самоубийством по настоянию последнего за предполагаемое участие в заговоре Пизона.
Петроний Максим (ум. 455), римский император в 455 г. после смерти Валентиниана III. Выдал дочь своего предшественника Евдокию, которая уже была обручена с сыном Гейзериха Гунерихом, за своего сына, что привело к походу Гейзериха на Рим. Во время паники, начавшейся в связи с получением известий о высадке вандалов, Петроний был убит.
Плиний Старший Гай (23/24 — 79), римский политический и государственный деятель, писатель и учёный. Погиб при спасательных работах во время извержения Везувия. Из его многочисленных трудов сохранилась «Естественная история», своеобразная энциклопедия в 37 книгах. В них он, используя труды 400 греческих и римских авторов, рассматривает вопросы географии, этнографии, истории, биологии, медицины и т.д. Его исторические труды, ныне утерянные, были использованы римским историком Тацитом.
Помпей Великий (106 — 48 до н. э.), полководец и государственный деятель. В 70 году был консулом, в 67 году прославился тем, что за три месяца очистил Средиземное море от пиратов. В 66—64 гг. одержал победу над понтийским царём Митридатом VI Евпатором. В 60 году вошёл в соглашение с Крассом и Цезарем, создав вместе с ними триумвират. После поражения от Цезаря в 48 году при Фареале бежал в Египет, где был предательски убит по приказу Птолемея XIII.
Приск Панийский (ум. после 448), участник посольства от императора Феодосия II в ставку Аттилы в Паинониго Оставил записи о посольстве, которые до нашего времени дошли лишь в фрагментах (см. приложение).
Прокопий Кесарийский (ок. 490 — после 565), византийский историк, государственный деятель, юрист. Происходил из консервативно настроенной аристократии. Занимал должность секретаря великого византийского полководца Велизария. Прославился как автор «Истории войн», трактата «О постройках», «Тайная история», в которых описал эпоху правления византийского императора Юстиниана I.
Проперций Секст (ок. 47 — ок. 15 до н. э.), один из наиболее значительных римских элегиков, возможно, из всаднического рода. Автор четырёх книг элегий, в которых описывал любовные переживания, рассуждает на темы современной морали и т.п. Стихотворения Проперция оказали большое влияние на творчество Гете.
Рикиарий (Реккиарий; ум. 456), король свевов в 448 — 456 гг. Во время его правления свевы приняли христианство в ортодоксальном варианте. Воевал с Теодорихом II.
Рицимер (ум. 472), полководец и государственный деятель Западно-Римской империи. Был сыном вождя свевов и дочери вождя вестготов. Будучи офицером, в 456 г. отразил нападения вандалов на Сицилию, за что получил звание военачальника. Впоследствии сверг императора Авита. Став с 457 г. патрицием, до конца жизни являлся фактическим правителем Западно-Римской империи. В этом же году возвёл на трон Майориана, однако в 461 г. приказал его казнить, подозревая в намерении полностью захватить власть. В 467—472 гг. пришлось разделить власть со свергнутым им впоследствии Антемием. Незадолго до смерти успел сделать марионеточным императором Олибрия.
Ругилас (Роа, Руас, Руа; ум. 434), вождь гуннов, дядя Аттилы. По договору, заключённому с Римом в 430 г., империя обязывалась платить ежегодную дань в размере 350 фунтов золота.
Саллюстий Гай Крисп (86 — 35 до н. э.), римский историк и политический деятель. Будучи сторонником народной партии, активно поддерживал Цезаря, выступал против Цицерона. В 50 г. был обвинён в аморальности и вычеркнут из списков сенаторов. Во время гражданской войны сражался на стороне Цезаря. Автор ряда исторических и публицистических сочинений, из которых наиболее известны «Югуртинская война» и «О заговоре Каталины».
Сальвиан Массилийский (ок. 400 — 480), христианский писатель. С 425 г. монах Леринского монастыря, с 439-го — священник в Массилии (Марселе). Известен прежде всего как автор труда «О божественном управлении», в котором систематически изложил христианский взгляд на судьбы мировой истории, проблемы морально-этического содержания. Противопоставлял Рим и варварский мир, считая последний выше и чище, чем угасающая империя.
Сапфо (ок. 650 до н. э. — ?), выдающаяся древнегреческая поэтесса, родилась в аристократической семье на о-ве Лесбос. После установления на родине тирании удалилась в Сиракузы. В Митилене Сапфо собрата вокруг себя кружок знатных девушек, которых обучала умению вести себя, музыке, стихосложению, танцам. Стихотворения Сапфо объединены в 9 книг. Её высоко чтили в античности, называя десятой музой.
Сократ (470 — 399 до н. э.), древнегреческий философ, жил в Афинах. Письменных трудов не оставил. Его взгляды дошли до нас в изложении Платона и Ксенофонта, а также произведениях его учеников. Назначением философии Сократ считал совершенствование человека, в связи с чем большую роль отводил самопознанию.
Солон (ок. 640 — 560 до н. э.), афинский политический деятель. Происходил из знатного, но обедневшего аристократического рода. Прославился как автор патриотических стихов во время греко-персидских войн. Став в 594 г. архонтом, Солон принял меры к разрешению кризиса афинского государства: он освободил всех граждан от залогов, отменил рабство за долги и т.д. Заменил родовые привилегии имущественными (ввёл ценз). В античное время Солон был причислен к числу «семи мудрецов».
Теодорих (ум. 451), король вестготов с 418 г. В 20—30 гг. вёл переменчивую политику в отношении Римской империи, постепенно занимая части её территории. В 439 г. имперские войска оттеснили готов до Тулузы. В битве на Каталаунских полях выступил на стороне Империи.
Теодорих II (ум. 466), король вестготов с 451 г. Помогал войсками Империи для подавления восстания багаудов в Испании. В 455 г. помог командующему войсками римлян Авиту захватить императорский трон. В 462 г. захватил Арль.
Тиберий Клавдий Нерон (42 до н. э. — 37 н. э.), римский император с 17.09.14. Считался после Агриппы первым полководцем в армии Августа. С 20 по 7 гг. вёл успешные войны с германцами, армянами, паннонцами и др. народами. Был женат на дочери Августа Юлии. Во время его правления были укреплены позиции по Рейну, увеличилась гос. казна, улучшилась система управления в провинциях.
Тразамунд, король вандалов в 495 — 523 гг., сын Гензериха, преемник Гунтамунда. Пытался привлечь на свою сторону католическое духовенство, проповедуя вместе с тем превосходство арианства над католицизмом. Около 500 г. женился на сестре остготского короля Теодориха Амалафриде.
Траян Марк Ульпий (53 — 117), римский император с 28.01.98. Родился в аристократической семье. Командовал в Испании легионом. Стал первым римским императором — выходцем из провинции. Подчинил даков, построил первый постоянный мост через Дунай. Присоединил Армению и Месопотамию, в своих устремлениях дошёл до Персидского залива. В правление Траяна в империи велось активное строительство, были значительно укреплены границы, основаны новые колонии.
Ульфила (311 — 383), готский епископ. По некоторым данным происходил из Каппадокии. Знал готский, латинский и греческий языки. В конце 30-х гг. был направлен с проповедью христианства к придунайским готам. Изобретатель готской азбуки; осуществил перевод Библии на готский язык.
Феодосий I Флавий (347 — 395), римский император с 379 г. Сын полководца армии Валентиниана I. Сторонник единства империи, поддерживал ортодоксальную христианскую церковь. Преследовал приверженцев язычества. Перед смертью разделил империю между сыновьями Аркадием и Гонорием.
Фридерих, сын Теодориха I, прославился как талантливый военачальник, в 454 г. осуществил завоевание ряда районов Испании.
Фукидид (460 — 396 до н. э.), афинский историк, владелец золотых приисков во Фракии. Принимал участие в Пелопоннесской войне, события которой описаны им в его знаменитой «Истории».
Эйрих, сын Теодориха I, король вестготов в 466—484 гг. В его правление готы захватили большую часть Испании и Галлии, заключили договор с Римом о признании королевства на этих землях.
Ювенал Децим Юний (ок. 60 — после 127), римский поэт, автор 16 сатир в пяти книгах, в которых обличал пороки своего времени. В средние века был одним из самых читаемых авторов. Его перу принадлежит известная фраза «В здоровом теле здоровый дух».
Юлиан Отступник (332 — 363), римский император с 361 г. Племянник Константина Великого. Получил хорошее образование, как классическое, так и в достаточной степени христианское. Друг и ученик известного антиохийского ритора Либания. Пытался вернуть к жизни (в реформированном виде) некоторые институты античного общества. Погиб во время похода против персов. Автор писем и ряда полемических произведений.
Юлий Цезарь Гай (100 — 44 до н. э.), римский политический деятель и полководец. Политическая карьера началась в 78 г. после смерти Суллы. В 63-м стал верховным жрецом, с 62 г. управлял провинцией Испания, в результате чего достаточно быстро расплатился с долгами. В 58—51 гг. вёл войны в Галлии и Британии, которые описаны им в «Записках». В 49 г. начал гражданскую войну в Риме, выступив против Помпея. После победы в Александрийской войне сделал Клеопатру царицей Египта. От неё имел сына Цезариона. Пал жертвой заговора, возглавляемого Брутом и Кассием.
Светлой памяти друга
Аскара Нурманова посвящаю
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ПОБЕГ ИЗ РАВЕННЫ
I

В Равенне, городе на северо-востоке Италии, дни короче, чем в Риме, и поэтому они тянутся долго. Особенно зимой.
Из окна своей опочивальни, кибикула, Гонория видит широкую площадку на высокой крепостной стене, по которой взад-вперёд вышагивают римские солдаты в железных шлемах, кожаных панцирях, обитых металлическими пластинами, с поддетыми под них шерстяными туниками, и плащах, застегивающихся медной пряжкой на правом плече.
Среди солдат есть несколько варваров в овчинах и кожаных штанах. Воины вооружены дротиками и мечами на перевязи, украшенной медными бляхами. В трёх милях[2] от стены тянутся сплошные болота, через которые врагам не пробраться, разве что можно перелететь.
Но Всевышний не дал людям крылья, и летать они не умеют как птицы... С болот, как стемнеет, а стемнеет скоро, раздастся жуткий стон выпи.
«Почему не идёт мой желанный Евгений? — думает римская принцесса. — На его груди я спрячу лицо и слезами облегчу душу...»
Сегодня по воле матери, регентши при императоре-сыне Валентиниане III, и сената, будто с небес на Гонорию свалился титул Августы, поднявший её до огромных высот. Но она не только не обрадовалась столь значительному событию в жизни, наоборот, сильно опечалилась. Титул приравнивал её к званию императрицы, но не давал реальной власти — лишь ставил Гонорию в разряд людей недосягаемых, а значит, отнимал всякую надежду на замужество. «Хитрая бестия!.. — Так о матери было грешно думать, но Гонория ничего с этим не может поделать. — Брат слабоумен, ещё очень молод, врачи сказали, что пока неизвестно, будет ли у него потомство[3]... Правит империей мать, поэтому она и оберегает власть, боится, что я, выйдя замуж, рожу наследника трона...»
Сама Юста Грата Гонория явилась плодом короткой, всего лишь в четыре года, супружеской связи двух разных, испытывавших нелюбовь человек; вернее нелюбовь-то к себе испытывал лишь один — отец Гонории, мужественный полководец Констанций, родом дикий иллириец, давно добивавшийся руки Галлы Плацидии, дочери императора Феодосия I Великого.
После смерти отца Плацидию всё же насильно выдали за Констанция, хотя она всю жизнь любила короля вестготов Атаульфа, «выдающегося и внешностью, и умом, и красотою тела, и благообразием лица», как характеризовал историк Иордан этого варвара.
Может быть, рождение Гонории в нелюбви матери к отцу и предопределило её не очень счастливую судьбу, хотя в этой судьбе и будет заключаться главное и славное достоинство этой женщины, из-за которой грозный властитель гуннов Аттила будет вести очень долгую, великую битву... Единственную битву, которая не принесла ему победы; другие он выигрывал!
Как это сравнимо с тем, что произошло в своё время с Галлой Плацидией!.. Гонория, кажется, повторила судьбу матери, с разными, правда, вариациями...
Плацидия имела двух братьев — Аркадия и Гонория; первый царствовал в Константинополе, другой — в Равенне в Италии, сама же она жила в Риме. Красивой римской принцессе исполнилось двадцать один год, когда вестготы под предводительством Алариха в 410 году захватили Рим и взяли её в плен; они увели её с собой, однако обращались хорошо.
Аларих вскоре умер, и власть над вестготами перешла к Атаульфу, который пожелал жениться на Плацидии; свадьба состоялась вопреки воле принцессы, но брак оказался удачным. На свадьбе пятьдесят вестготских юношей преподнесли невесте подарок от жениха — сто чаш, до краёв наполненных золотом и драгоценными камнями, награбленными в Риме... Но, несмотря на это, прожив какое-то время с мужем, она влюбилась в него без памяти и даже переняла от Атаульфа арианство[4], ставшее после гибели короля Германариха[5] национальной верой христиан-вестготов.
Отрицая божественность Иисуса Христа, а, следовательно, и вселенское смирение, Атаульф в силу этого и характера своего не выносил спокойного существования, и когда из-под власти римлян стала выходить Испания, он яростно включился в борьбу. Король вестготов захватил Барцелону[6] и обосновался в ней; там в одной из христианских базилик был похоронен рано скончавшийся сын Атаульфа и Галлы Плацидии Феодосий.
В 415 году вестготского короля убил один из его приближённых Сингерих и захватил барцелонский трон. Узурпатор немедленно умертвил шестерых детей Атаульфа от первого брака, а Галлу Плацидию выгнал из дворца. Вместе с другими пленниками и пленницами ей пришлось шагать босиком с непокрытой головой под палящим испанским солнцем более двенадцати римских миль, а варвар-победитель, торжествуя, ехал на коне рядом.
Но через семь дней Сингериха зарезали, и повелителем вестготов стал Валлия. И с этого момента Галла Плацидия явилась той самой разменной монетой в начавшейся дружбе между её братом Гонорием и новым королём вестготов: за шестьсот тысяч мер пшеницы Валлия обменял вдову-королеву, и она была отправлена в Равенну. Далее Валлия в качестве союзника римского императора очистил весь Испанский полуостров от аланов[7], вандалов и свевов и с согласия Рима занял земли Аквитании Второй (область «золотой Гарумны»[8], «жемчужину Галлии») от Толосы[9] до океана.
После того как Галла Плацидия родила двух детей — Гонорию и Валентиниана, её муж Констанций внезапно скончался. Распространилась молва, что его отравили, ибо Гонорий к ещё красивой и статной Плацидии возымел преступную страсть... Менаду родными братом и сестрой дело действительно зашло так далеко, что Гонорий, вняв наконец-то голосу разума, отослал её с детьми в Константинополь.
Там, в православной столице Восточной Римской империи, у своего второго брата Аркадия своенравной еретичке жилось не сладко. Но вскоре пришло известие — умер Гонорий, и Плацидия поспешает в Италию. Здесь при своём слабоумном сыне Валентиниане она становится регентшей.
Однако Галла Плацидия не обладала должными качествами характера, чтобы удержать в своих руках разваливавшуюся империю (это уже никому не было под силу). Поглощённая дворцовыми интригами, она даже не заметила, как от империи отпала провинция Африка, и Италия стала страдать от недостатка хлеба...
Цена на модий[10] пшеницы поднялась с одного денария до пятидесяти; эдилы, в обязанности которых входило обеспечение города продовольствием, ввели «тесееры» — так назывались жетоны, по которым бедняки, чтобы не умереть с голоду, могли получить хоть какой-то хлеб при бесплатных раздачах.
В это самое время Рим стал особенно заметно клониться к упадку и в интеллектуальном плане. Историк Аммиан Марцеллин чуть ранее с болью в сердце писал: Людей образованных и серьёзных избегают как людей скучных и бесполезных». «Даже те немногие дома, которые в прежние времена славились серьёзным вниманием к наукам, теперь погружены в забавы позорной праздности, и в них раздаются песни и громкий звон струн. Вместо философа приглашают певца, а вместо ритора — мастера потешных дел. Библиотеки заперты навек, как гробницы, зато сооружаются водяные органы, огромные лиры, величиной с телегу, флейты и всякие громоздкие орудия актёрского снаряжения.
Дошли, наконец, до такого позора, что когда ввиду опасения нехватки продовольствия принимались меры к быстрому удалению из Рима всех чужеземцев, то учёные и образованные люди, хотя число их было весьма незначительно, были изгнаны немедленно без всякого снисхождения, но были оставлены в городе прислужники мимических актрис и те, которые выдавали себя за таковых; беспрепятственно остались также три тысячи танцовщиц со своими музыкантами и таким же числом хормейстеров...»
Сейчас этот пёстрый люд, среди которого особенно выделялись своими «распутничьими тогами» женщины[11], перекочевал в Равенну, куда окончательно переехал с Палатинского холма в Риме императорский двор под защиту крепких стен и болот.
А если здесь, в Равенне, двору стала бы, скажем, угрожать какая-нибудь опасность, то в Адриатическом море, не столь удалённом отсюда, на этот случай всегда наготове стояли выкрашенные в чёрную краску, с белыми спереди глазами несколько миопарон и либурн[12] мизенского флота, переправленных с юга Италии.
...По громким возгласам в соседних помещениях Гонория поняла, что к ней шествует сама императрица-мать, и вскоре без стука, как всегда, обе половины двери распахнул сопровождающий Плацидию корникулярий (помощник) Антоний Ульпиан и тонким голосом возвестил:
— Повелительница Великого Рима!
Евнух Антоний, сверкнув недобро глазами в сторону Гонории, повернулся рыхлым одутловатым лицом к тому месту, откуда должна появиться императрица, а Гонория с тоской в сердце подумала: «Где он, куда подевался этот великий Рим?! Рим, действительно Великий, времён Юлия Цезаря, Веспасиана, Траяна, пусть даже Антония Пия...»
Она с долей снисхождения и лёгкого презрения вспомнила императора Пия, потому что тот могущество Рима пытался удержать лишь с помощью изображений на монетах...
На одних была вычеканена картина того, как прародитель римлян Эней и его сын Асканий Юл высаживаются на берег Тибра в том месте, где будет воздвигнут великий город, на других монетах изображены богиня Минерва и Вулкан за изготовлением молний. С помощью этих картин «благочестивый» (так переводится имя «Пий») пытался ещё и укрепить староримскую религию в противовес усиливающемуся влияния христианства.
Антоний пропустил мимо себя императрицу и поудобнее поправил висевший на боку ящичек, внутри которого хранились пергамент, бронзовая чернильница и стило — сипух исполнял ещё и должность писца-скриба.
Вся в сиянии драгоценных камней и жемчужных нитей, вплетённых в волосы, стоящие тёмной башней, в лёгкой тунике, несмотря на зимнее время (хотя дворцовые покои хорошо отапливались), с гордо поднятой головой и высокой грудью, округло-вызывающе трепетавшей в тонких складках шёлка, Галла Плацидия появилась перед дочерью. Глаза императрицы горели агатовым огнём и чуть припухлые губы пунцовели — не зря говорили, что она по нескольку раз в день вкушает эруку, дикую капусту, действующую как возбуждающее средство. Поэтому при ней неизменно находились два могучих полураздетых раба из Греции, готовых в любой миг на всё... Также ходили слухи, что Плацидия не раз пыталась соблазнить возлюбленного дочери Евгения Октавиана, красавца смотрителя дворцовых покоев. Но Гонория эти слухи отметала напрочь.
Она встала со скамьи и поспешила навстречу матери; остановилась рядом с ней, и сразу выявилась их несхожесть — дочь возвышалась над императрицей почти на голову, в светлых волосах девушки сверкало меньше драгоценных камней, но они, казалось, горели ярче, а глаза цвета зелёного изумруда, как у отца, смотрели спокойно и внимательно.
Приветствуя и кланяясь, Гонория тонкой талией, бёдрами с более выразительными, чем у матери, формами и такою же высокой грудью производила на первый взгляд плавные движения, но всё равно в них чувствовалась некая порывистость, присущая только её отцу. Она всё же походила больше на него, дикого иллирийца, нежели на мать — типичную римлянку.
— Милочка, какая ты красивая! — воскликнула императрица-мать и левой рукой легонько потрепала по щеке дочери.
Гонория по взгляду её глаз не уловила в этом восклицании никакого лицемерия — похвала ей показалось искренней, от души. И в свою очередь она хотела тоже сказать царственной матери комплимент, но что-то остановило Гонорию, отвлекло её внимание... Может быть, жест рукой евнуха Антония, показавшего куда-то в сторону, — и точно, из глубины покоев императорского дворца вышел так долго ожидаемый ею возлюбленный Евгений — в синей тоге и сандалиях, расшитых тоже синими узорами. От неожиданности того, что он увидел у Гонории императрицу, растерялся и застыл возле двери, где, отставив чуть в сторону правую ногу, ехидно ухмылялся евнух. Тогда Евгений начал пятиться назад.
— Препозит Октавиан! — громко объявил евнух, отрезая смотрителю дворца путь к отступлению. И теперь Евгению ничего не оставалось, как уверенно и почти торжественно приблизиться к Галле Плацидии, чтобы поцеловать руку императрице, пожелать ей здоровья, а Римской империи вечности.
— Тебе не хотелось, Евгений, видеть здесь меня?.. Я права?
— Не совсем, величайшая... Если вдруг кто и захочет видеть тебя, а вряд ли в империи найдётся такой человек, то ему о твоём присутствии, повелительница, напомнит твой незримый дух, что носится по дворцовым покоям...
Нот так всегда: остроумный ответ Октавиана сродни то ли насмешке, то ли восхищению...
«Мало нам, мало всего! Ведь нас по богатству лишь ценят!». Не так ли, милый Евгений?
Находчивый распорядитель дворца также стихами из Горация ответил Галле Плацидии:
Вот оттого мы редко найдём, кто сказал бы, что прожил
Счастливо жизнь, и, окончив свой путь, выходил бы из жизни.
Точно как гость благодарный, насытясь, выходит из пира...
На удивление всем, расхохоталась Гонория. Этот смех привёл и смущение не только императрицу, но и Октавиана. Обоим им он показался странным, а Гонория подумала: «Наверное, оставшись наедине, они также пробуют друг на друге своё остроумие, оттачивая жало его, словно камень косу... Может, слухи об их интимной связи вовсе и не слухи... Почему я до сих пор их отметала, словно метлою мусор?.. Ишь как возгорелось лицо у матери, глядя на Евгения! Да и он, отвечая стихами, любовно и преданно смотрел ей в глаза, слегка наклонив свою прекрасную голову. Боже, как он красив!» — даже в такую минуту не могла не восхищаться возлюбленным Гонория.
— Дитя моё! — обратилась Галла Плацидия к дочери, и в голосе её появились тёплые нотки. — Ты же знаешь, как я люблю тебя и твоего брата. Вы для меня, как пальцы на руке, одинаково дороги. — Плацидия вытянула ладонь, пальцы которой были унизаны кольцами с драгоценными камнями разной величины... — Поэтому я, не только как мать, а, прежде всего, как женщина, страдала от несправедливости того, что ты, дитя моё, умница и красавица, обделена была почестями, кои все по праву наследства достались брату... И чтобы это исправить, я испросила волю сената даровать тебе титул Августы, и сегодня сенат дал своё согласие... Поэтому я пришла поздравить с грандиозным событием в твоей жизни... Ибо ты стала сегодня по званию равной твоему царственному брату Валентиниану. К сожалению, из-за своего нездоровья он не смог навестить тебя...
— Благодарю, повелительница, — тихо ответила принцесса, а евнух при этих словах громко хмыкнул.
Но императрица-мать даже не бросила осуждающий взгляд в его сторону. Гонория поняла — сговор налицо. Поэтому, ссылаясь на своё недомогание, попросила всех оставить её... кроме Евгения Октавиана.
— Да, да, милая... Хорошо. А не послать ли нам за лекарем? Хотя... Евгений тоже хороший врачеватель... И утешитель... — Уходя, императрица повернулась и добавила: — Потихоньку собирайся в Рим. Народ империи должен видеть свою новую Августу.
— В Рим?! — воскликнула, не владея собой, Гонория, и лицо её воспылало гневом. — В город, разрушенный твоим первым мужем!.. Я не поеду туда! Не поеду!
— Это ещё мы посмотрим! — грозно пообещала Плацидия и громко хлопнула половинкой двери. Зато корникулярий Антоний издевательски осторожно притворил обе.
— Ты зачем её дразнишь, любимая? — спросил Евгений.
— Любимая... А не говоришь ли ты и ей это слово?.. Любимый... Я давно замечаю, как ты преданно глядишь ей в глаза.
Почувствовав, что внутри принцессы всё закипает, Евгений (а он хорошо знал её нрав, когда всё то дикое, необузданное, отцовское, скрывающееся до поры до времени под оболочкой внешней величавости, начинает клокотать и выходить наружу) попросил рабынь принести ужин, а потом крикнул им вослед:
— Да побольше вина! Родосского... Сейчас, Гонория, возложим тела и выпьем чудной влаги из фиалов за твой титул Августы.
— Ты — осёл, Евгений, — всё ещё раздражённо, но уже тише сказала «новоиспечённая» Августа. — Да не тот осёл, который родом из Фессалии[13]... Неужели ты не понял — мать посмеялась надо мной... Высокий титул ничего мне не даст, кроме безбрачия.
— Ты преувеличиваешь, Гонория. Я всеми силами буду добиваться, если ты только не будешь возражать, у императрицы твоей руки.
Принцесса уловила в его голосе неподдельную искренность, улыбнулась и, вконец остывая, улыбнулась:
— Дурачок мой, ещё раз говорю, что мать никогда не позволит мне выйти замуж... Никогда. Тем более за тебя... Если она ещё не принудила тебя спать с собой, то скоро сделает это. Ладно... Гнев мой остывает, а вот и вино подают. И роскошный ужин — жареную индейку со сливами. Джамна, — обратилась она к любимой чернокожей рабыне из Александрии, — зажги побольше свечей и позови арфисток. Сегодня у меня всё-таки праздник...
Джамна незамедлительно выполнила всё, что повелела госпожа, а затем, устроившись у изголовья её ложа, веером из страусовых перьев стала обмахивать головы Гонории и Евгения. Рабыню называли чернокожей потому, что отец у неё был африканец, на самом же деле кожа у неё светлая, цвета финика и, хорошо умащённая, пахла приятно; вообще-то Джамна, гибкая, как пантера, длинноногая, с маленькими грудями девственницы, с чувственными губами и выразительными глазами, была очень чистоплотной девушкой, и зачастую Гонория, когда долго не могла заснуть, приглашала се к себе на ночь на ложе... Иногда принцесса вместе с Евгением также брали её к себе, и Джамна в их любовных утехах служила третьим лицом.
Новые зажжённые свечи горели плохо, фитили то и дело приходилось поправлять рабыне постарше; игра арфисток Гонории быстро надоела, и она с возлюбленным скоро отправилась в спальню. Но Джамну на этот раз с собой не взяли.
— Ничего, милая, — говорил Евгений, видя настроение возлюбленной и помогая ей раздеться. — Думай сейчас о том, как лучше насытиться нашей любовью.
Когда легли на прохладные чистые покрывала, Евгений крепко обнял Гонорию, и её тело, казалось, утонуло в его мощных руках; оно, как всегда, податливо отозвалось на ласки, но в то же время Евгений почувствовал сегодня некую холодность и почему-то испугался...
— Что с тобой?
— Подожди... Скоро я буду готова.
Но готовность отдаться со всей страстностью не приходила к ней; тогда Евгений стаз кончиком языка ласкать ставшие твёрдыми соски её дивных грудей. Пышные волосы Гонории рассыпались и, чуть завиваясь, лежали на красной кайме подушки. Евгений, целуя, переместил губы с сосков на то место, откуда волосы зачёсывались на самую макушку. Груди возлюбленной возбуждённо качнулись, но сама она пока ещё прикрывала рукой гладко выбритое женское место...
Уловив сразу, как внутри римской принцессы, а теперь уже и Августы, всё затрепетало, Евгений встал на четвереньки, коленом отжал её ноги и сразу погрузил свою плоть в горячий влажный источник... Женщина вскрикнула и потянулась к нему, и тогда Евгений сильными ударами стал пронзать возлюбленную то сверху вниз, то из стороны в сторону. На каждое движение она отвечала ритмичным подбрасыванием своего тела, вскрикиваниями и царапаниями ногтей по спине возлюбленного.
Принцесса в конце каждого вскрикивания начала тихо рычать и, когда всё закончилось, в бессилье повалилась на ложе. Но глаза не закрыла; Евгений взглянул в них и увидел, как они зелёными, огоньками, словно глаза хищницы, светились в темноте. В изумлении прошептал:
— Ах ты, моя «волчица»[14]!
— Да, жаль, что я могу только рычать, но не кусаться... Может быть, ты и прав: я скорее похожа на тех, кто в мужских тогах, разрезанных спереди, с вечера выстаивается на берегах Тибра.
— Нет уж, милая, я знаю тебя. Кусаться ты умеешь, да ещё как умеешь!
— Мне стыдно сейчас на то, что я как последняя истеричка стала крикливо отказываться на приказание матери поехать в Рим.
— А ведь ехать всё-таки придётся... Я прошу тебя, Гонория, благоразумно отнестись к этому. Ради нас с тобой. Ради нашей любви.
— Хорошо, любимый.
Евгений встал, подошёл к двери, ведущей на балкон, чуть приоткрыл её и тут услышал, как глашатай на находящемся вблизи дворца форуме прокричал:
— Третья стража[15]!
«Будет что приятное сказать императрице, — подумал Евгений и довольно улыбнулся. — Без слёз и яростных сцен Гонория на удивление быстро согласилась... А ведь в эту женщину порой вселяется дьявол...»
Когда препозит вернулся к ложу, то увидел, что Гонория спит как убитая.
«Почему она скоро передумала и почти охотно выразила желание поехать в Рим?..» — раздумывал Евгений, покидая на рассвете спящую молодую Августу и шагая в кубикул императрицы.
По утрам, как и полагается смотрителю дворца, он обязан был являться к Галле Плацидии, чтобы наметить с ней на предстоящий день дела, а с тех пор, когда стал и любовником её, посещал покои императрицы и как доносчик... Любовником Плацидия считала его неважным, да и куда ему, пусть и красавцу, до тех двух греческих жеребцов, что обслуживали её по нескольку раз в день!
Евгений нужен был для тайных дел, и затащила она его в постель с этой целью, ибо, по мнению императрицы, уста разверзаются откровенными речами только после любовного утомления...
Так и было: у Галлы Плацидии на ночном ложе перебывало немало влиятельных государственных лиц; их откровения и доносы помогали ей править разваливающейся на глазах империей, а надо сказать, что она благополучно (для себя!) делала это, исполняя обязанность регентши при своём сыне, более двадцати пяти лет...
В это слегка туманное утро, когда ещё Гонория спала, Евгений и императрица размышляли о быстром её согласии ехать в Рим, но так и не пришли на сей счёт к какому бы то ни было определённому выводу.
— Узнай, почему она передумала, — строго сказала Галла Плацидия, и глаза её снова вспыхнули агатовым пламенем.
Перейдя в уборную, которая размещалась на нижнем этаже, как раз под парадными комнатами дворца, Плацидия велела позвать четырёх юношей. Вскоре перед её взором предстали четыре чистеньких, как ангелы, отрока. Совсем недавно из Галлии их прислал своей госпоже-императрице полководец Аэций.
Плацидия указала юношам на столик перед круглым зеркалом из гладко отполированной бронзы, где стояли четыре голубые чашки. Каждый из отроков взял в правую руку по одной; левой, отвернув тунику, высвободил фаллос... Как только у юношей низвергнулось в чашки семя, одна из рабынь перелила содержимое из чашек в фиал, такой же голубой, и подала императрице. Та выпила из него.
Каждое утро Плацидия делала это, надеясь таким образом сохранить молодость и красоту. И не только она прибегала к подобной практике, а и многие женщины из патрицианских семей, ещё не полностью вступившие на путь следования православной вере или же, как Плацидия, исповедовавшие не само христианство, а всего лишь его ересь. Мужчины к принятию женщинами такого средства омоложения относились снисходительно, так как делало их возлюбленных не только молодыми, но и горячими на ночном ложе...
Потом Плацидия села перед зеркалом и отдалась во власть рабыни, умеющей хорошо убрать волосы. Такая рабыня звалась ornatrix. Под ногами императрицы лежал ковёр, постеленный на мозаичный мраморный пол, чуть поодаль стоял другой столик, с серебряным тазом, в полумраке уборной выделялись стены яркой живописью, изображающей танцующих восточных красавиц и отдыхающих купидонов под ветками миртовых деревьев.
Уборные богатых или царствующих римлянок были намного просторнее, чем их спальни; тот, кто впервые попадал в комнату, где стояло их ложе, дивились миниатюрности помещения и сразу могли составить понятие о тех крошечных голубиных гнёздах, где женщины любили проводить свои ночи... Да и само ложе походило на узкую кушетку, нежели на широкие кровати под балдахином, как у персидских царей; узкое лёгкое ложе в зависимости от времени года, соответствующего освещения и должного отопления, а также других обстоятельств могло переноситься куда угодно, и совершаться на нём могло что угодно...
Пока ornatrix собирала локоны императрицы, искусно переплетая фальшивые с настоящими, в огромную башню, Плацидия сочиняла в уме своё сегодняшнее выступление в сенате, хотя теперь, после смерти патриция и консула Бонифация и когда нет в Равенне полководца Аэция, она уже не так тщательно обдумывала каждое слово, которое предстояло произносить, потому как раньше приходилось выступать то на стороне одного, то другого... Эти два влиятельных человека в империи враждовали между собой, и каждому надо было угождать. Однажды Бонифаций сильно разозлился на императрицу и в отместку призвал в Африку из Испании вандалов. В конце концов ссора между двумя полководцами вылилась в кровавую дуэль. Победил Аэций, провозгласив себя также патрицием и консулом. Императрица и сенат не возражали, более того, назначили его главнокомандующим войсками империи. И сейчас, находясь в Галлии, Аэций одержал свою вторую победу над восставшими варварскими племенами.
В сенате Галла Плацидия поблагодарила в первую очередь оптиматов[16] за дальновидность и единодушие в выборе главнокомандующего войсками, который уже должен возвращаться и, пользуясь случаем, связанным с титулованием её дочери (Плацидия повернулась в сторону, где сидели популяры[17], поддержавшие эту идею, и кивнула им), просит сенаторов о разрешении на выезд всего царственного двора в Рим, о триумфальном прохождении легионов Аэция по Марсову полю и об увенчании полководца лавровым венком победителя. По выражению лиц сенаторов императрица поняла, что её просьба будет удовлетворена.
Вернувшись во дворец, Плацидия позвала помощника-евнуха. Когда тот явился, она сказала ему:
— Антоний, как можно быстрее сочини для Аэция послание. При обращении к нему не жалей таких слов, как «ты последний великий римлянин, потому на тебя вся надежда и опора»... Пусть он готовит войска к триумфальному шествию по Марсову полю в Риме... И ещё вот что, мой друг... — Так Плацидия обращалась к корникулярию, когда дело касалось чего-нибудь секретного: — Моя дочь отказывалась ехать в Рим. Но в этот же вечер она согласилась, проявив покорность овечки... А я не верю в покорность волчиц, даже если они рядятся в овечьи шкуры... О её согласии сказал мне её возлюбленный. Кто такой — тебе известно... На вопрос, почему она так быстро согласилась, ответа он не получил. Но обещал получить... Зная его характер и характер Гонории, сделать ему, думаю, это не удастся, так как дочь мою обмануть очень трудно.
— Да, Гонория — твёрдый орешек, — согласился помощник.
— Поэтому прошу тебя выведать всё самому.
— Постараюсь... Чего бы мне это ни стоило! — В глазах евнуха сталью вспыхнули зрачки, и губы собрались в тонкую беспощадную щёлку.
— Но не забывай, Антоний, что Гонория — моя родная дочь, и к крайним мерам не прибегай...
— Конечно, моя госпожа, превосходительная жена и величайшая Матерь отечества.
— Ладно, ступай.
Упомянутый ранее историк Марцеллин писал о евнухах, что «всегда безжалостные и жестокие, лишённые всяких кровных связей, они испытывают чувство привязанности к одному лишь богатству, как к самому дорогому их сердцу детищу...»
У сына императора Константина Великого Констанция II в услужении находился евнух Евсевий, придворные остроумно говорили, что «Констанций Второй имеет у Евсевия большую силу». Подобным образом строились отношения между Галлой Плацидией и её помощником евнухом Антонием.
II
Гонория почувствовала перемену в поведении самых близких ей людей — особенно Джамны, слегка затаилась и начала присматриваться. Нет, неспроста, пришла она к выводу, что чернокожая рабыня, как бы по-прежнему любя госпожу, стала много задавать вопросов относительно её поездки в Рим... И однажды, когда Джамна чересчур пристала к ней, Гонория повалила её на скамью, а рабу повелела принести медный таз и короткий меч.
Гонория обладала не только буйным нравом, но и силой, существенно выше той, которая присуща женщинам, а в момент, если принцесса ожесточалась, то могла запросто справиться со средним по мощи мужчиной. Джамна это хорошо знала, поэтому сразу перестала сопротивляться, ждала, что будет дальше...
Раб принёс медный таз и короткий меч, и тогда Гонория приступила к расспросу:
— Кто тебя, милушка, купил и велел всё у меня выспрашивать?
— Не покупал меня никто, госпожа... Позволь мне встать, я поклянусь Богом, и ты увидишь, что я говорю правду...
Гонория отпустила её; Джамна, такая же арианка, как и сама принцесса, поклялась Всевышним.
Но это ещё больше разозлило Гонорию.
— Святотатствуешь?! — вскричала она. — Раб, а ну попорти ей тёмное красивое личико...
Гонория стиснула ладонями голову Джамны, чтобы она не мотала ею из стороны в сторону. Ещё чуть-чуть, и раб, взявший в руки меч, действительно исполнил бы приказание своей повелительницы, и тут Джамна, не на шутку испугавшись, крикнула, что она всё расскажет...
Всхлипывая, она поведала, что, поклявшись, говорила правду — её никто не покупал, но расспросить Гонорию велел корникулярий Антоний; оба они родом из Александрии, в своё время, когда Антоний был ещё красивым мужчиной, он выкупил её из рабства, и Джамна долгое время жила у него в качестве любовницы. По натуре авантюрист, мечтавший иметь землю в Западной Африке, Антоний участвовал в походе вандалов против Римской империи. Попал в плен. Антония оскопили, и за сметливый ум оставили во дворце.
— Ты всё, что происходило на моей половине, сообщала Антонию?
— Не всё, госпожа...
— Негодница! Прогнать от себя — этого мало... Тебя надо зарезать, а кровь выпустить в медный таз.
Бедная рабыня приняла всерьёз угрозы принцессы, тем более что раб уже занёс над Джамной меч, повторяя:
— Прикажи, госпожа! Прикажи!
И тогда Джамна, повернув к Гонории в слезах лицо, взмолилась:
— Пощади.
Как ни была взбешена принцесса, но она увидела в её глазах кротость и обречённость и искренне пожалела рабыню, к тому же такую искусную на спальном ложе... И очень милую.
— Уходи, раб, — приказала Гонория. — И забирай всё, что принёс.
Затем принцесса усадила Джамну к себе на колени и, поглаживая по её вздрагивающей от рыданий спине, стала успокаивать. Наконец рабыня пришла в себя, тихо сказала:
— Прости меня, госпожа. Только тебе одной с этого дня буду служить. Только одной!
— Хорошо, я верю. А безбородому скажешь, чтобы он отстал от тебя, что я быстро передумала, потому как решила навестить мавзолей отца. Скажи, а хорош был на спальном ложе Антоний, когда росла у него борода?
— Очень хорош, госпожа... Тем более я любила его. Как ты своего Евгения.
— Думаешь, одну он любит меня?
— Ходят разные слухи.
— О них и я знаю... Ты мне только всю правду... Поняла?
— Но всей правды я не знаю, повелительница, — честно призналась Джамна.
— Ладно, оставь меня.
Отослав Джамну, Гонория с тяжким грузом на душе стала слоняться по царским покоям, затем наведалась к брату и застала его за любимым занятием — надуванием мыльных пузырей... Император делал это с удовольствием вместе со служанкой, к которой испытывал нежную привязанность. Но эта привязанность не походила на ту, которую испытывает мужчина к женщине, — скорее всего, она была сродни любви ребёнка к красивой игрушке... Или надуванию пузырей. В надувании их Валентиниан достиг огромных успехов. Он мог делать пузыри не только разных размеров, но помещать в них, не нарушая целостности, различные предметы. В этот раз в большом пузыре, который находился на маленьком столике, соприкасаясь с его поверхностью нижней частью, лежал отрубленный чей-то палец руки, и кровь, ещё капавшая с него, рубиново отблёскивала на мыльных изнутри стенках, затейливо искрясь в лучах солнца, только что проникших через узкие окна сумрачных императорских покоев.
Брата своего Гонория не видела несколько недель и отметила, что за это время он ещё больше побледнел и огрузнел. И дотоле его сырое, рыхлое тело не отличалось стройностью, но сейчас оно показалось даже полным, и волосы на голове Валентиниана заметно поредели... Только по-прежнему каким-то затаённым и болезненно углублённым в себя светом горели его тёмные глаза, как две капли воды похожие на материнские... «Может быть, и любит его Плацидия за эти глаза, раз так печётся за своего сынка...» — подумала Гонория.
Глядя на игру света и крови на мыльных стенках, император и служанка забавлялись вовсю и Гонорию не сразу заметили. А Гонория хотела спросить, у кого это они отрубили палец, да разве о таких пустяках спрашивают?.. Поэтому промолчала. Увидела лежащий на полу меч, на остром лезвии которого засохли уже потемневшие точечки, поняла, что сам Валентиниан отхватил у какого-то раба или рабыни этот злополучный палец, ненужным вопросом засевший в голове новоиспечённой Августы...
— Ты пришла, сестра, чтобы я поздравил тебя с титулом? — спросил брат.
— Если хочешь, поздравь... Но вижу, вы хорошо забавляетесь.
— Да, хорошо, — подтвердил слабоумный Валентиниан.
— Ты не видел Октавиана?
— Смотрителя и утешителя?.. Нет, не видел.
— Почему же утешителя? — При этом Гонория быстро отметила про себя, что так Евгения назвала недавно и Плацидия.
— А его так все во дворце зовут. Ведь он не только твой утешитель...
— Чей же ещё?
— А этого тебе говорить не велено.
Кровь жарко ударила в виски Гонории, и молодая Августа в гневе махнула рукой по мыльному пузырю, который выдувала служанка, и почти выбежала из покоев императора.
«Значит, есть основание верить слухам, о которых говорила Джамна и которые доходили до меня, но всякий раз я гнала их от себя прочь... Значит, Евгений принадлежит не только мне... Ну, погоди... смотритель!»
Для Джамны светлыми днями были дни, проведённые в Александрии в доме Ульпиана, после того, как Антоний выкупил её из рабства. Раз в неделю они смотрели на городской площади потешные представления. Наиболее интересные давали заезжие канатоходцы: они обладали каким-то особым бесстрашием и легко бегали на большой высоте по канату, скрученному из воловьих жил и протянутому между столбами. Иногда, глядя на канатоходцев, кружилась голова... Но Джамна любила смотреть на них, и сладостно щемило сердце, когда опытный актёр, чтобы пощекотать нервы публике, на середине каната изображая свою неуверенность, соскальзывая ногой, готовый вот-вот упасть, — но это был лишь хорошо продуманный трюк, и зрители знали, но всё равно дружный и радостный крик восклицания вырывался у них, когда канатоходец благополучно достигал столба.
Однажды на большую высоту взобрался юноша и начат бодро идти по канату, помогая себе длинным шестом, который он держал для равновесия в обеих руках. Уже пройдена середина, но вдруг шест заходил быстро вверх-вниз, юноша покачнулся... Некоторые зрители, ничего не подозревая и думая, что это очередной розыгрыш, даже засмеялись, но вот юноша делает ещё один шаг, пятка передней ноги у него соскальзывает, шест летит вниз, а следом за ним и он сам.
Крики ужаса теперь огласили площадь: юношу унесли с разбитой окровавленной головой в крытую повозку, где молодой человек вскоре скончался.
Своё пребывание во дворце Джамна не раз сравнивала с работой тех, кто на большой высоте ходит по канату, рискуя жизнью. И жизнь в императорских покоях тоже постоянно подвергалась опасности: одно неверное движение, одно необдуманно произнесённое слово, и ты летишь вниз и разбиваешься насмерть, как тот несчастный юноша.
Теперь перед девушкой неотступно встал жёсткий вопрос: как быть? Она дала слово Гонории — верно ей служить, и не только готова, но и на самом дате сдержит это слово; Гонория нравилась Джамне... Несмотря на вспыльчивый и даже жестокий нрав, у молодой Августы в груди билось доброе сердце, и эта доброта заключалась и в том, что она полюбила такого вообще-то скверного, хотя и красивого человека, каким являлся Евгений... К тому же он был сластолюбец.
Корда Гонория, уставшая от любовных утех, крепко засыпала, Евгений с Джамной проделывал то, что наверняка бы не понравилось молодой Августе... Но и у Джамны его действия, которые не иначе как извращениями нельзя было назвать, вызывали неприятие... И раньше они также не нравились Джамне, когда к этому принуждал её до кастрации Антоний; но тогда девушка и не подозревала, что какие-то излишества в половом соитии можно было назвать извращениями, ибо до принятия христианства сие считалось вполне нормальным — пробовать ли языком на вкус семя любимого или любимой, ласкать ли губами чувствительные части тела, не говоря уже о различных позах, коими изобиловали у язычников эти самые соития... Только с распространением христианства начала меняться философия интимных отношений между мужчиной и женщиной, хотя и ранее существовали понятия любви и нежности... И если мужчина-язычник брал женщину как обыкновенное животное, то именовалось всё это низменной страстью... Вот почему Джамна так реагировала на «ласки» возлюбленного Гонории и ненавидела его, который проделывать подобное ни за что бы не посмел с молодой Августой... В душе Евгений был трусом; чернокожая рабыня знала об этом, знала Плацидия, знал и проницательный Антоний...
Лишь Гонория, ослеплённая своею любовью, ничего не ведала и ведать не хотела, хотя внутреннее чувство подсказало ей заподозрить Евгения в измене. У Гонории было много хороших душевных качеств (доброту её мы уже отметили), которые она не успела растерять, находясь в императорском дворце, так как мало с кем общалась... А потом, она унаследовала черты характера своего отца, присущие иллирийцам вообще и выраженные в грубой форме, но не могущие не вызвать симпатий, а именно: прямота, честность, смелость, решительность и благородство. Поэтому Гонория представляла смесь дикой кошки с благородной ланью, за всё это и любила рабыня свою госпожу. И в душевном отчаянии и смятении наряду с вопросом: «Как быть?» Джамна задавала себе и другой: «А что теперь делать мне? Тут ведь главное не ошибиться, не поскользнуться, как малоопытный юноша на канате... Не упасть и не ушибиться... Я должна быть предана Гонории, — рассуждала далее Джамна, — я дала ей слово, я уже шпионить в пользу евнуха не смогу... А если буду вести двойную игру, то проницательный Антоний сразу её распознает... Я хорошо знаю себя и хорошо знаю Антония... Он всегда был змеем... А тем более сейчас, когда ему приходится незримой тенью проникать во множество дверей царского дворца и из этого множества в определённый момент угадывать нужную... После кастрации он всё же изменился не только внешне, что вполне естественно, но и внутренне. Когда он был настоящим мужчиной, ради красивой женщины шёл на всё: щедрой рукой раздавал подарки, чтобы завоевать её. Сейчас во дворце вряд ли можно отыскать человека жаднее его... И от благородства, которое присутствовало в его душе, не осталось и следа. А место его прочно заняли злобство, коварство и жестокость. Ради своей цели он не пожалеет никого, ибо такое чувство, как жалость, ему теперь неведомо...»
И, пожалуй. Джамна принимает верное в её положении решение — рассказать Ульпиану обо всём том, что приключилось с ней в покоях молодой Августы и под каким нажимом Джамна вынуждена была признаться и дать слово верно служить своей госпоже...
После этого сообщения евнух долго молчал. Рыхлое, полное лицо его в нескольких местах дёргали нервные тики, глаза затуманились бешенством, но Антоний взял себя в руки и сказал:
— Джамна, я ведь когда-то любил тебя... И душой, и телом... Телом теперь я любить не могу, но душой продолжаю любить.
Эти слова он произнёс, как показалось Джамне, так искренне, что у неё на глаза навернулись слёзы, и ещё это были слёзы воспоминаний о давно ушедшем, милом, ставшем призрачным прошлым...
Джамна обняла евнуха, поцеловала его и лишь тихо вздохнула.
Угадав её состояние, хитрый змей произнёс:
— Джамна, золотко моё, иди... А я хочу побыть один.
Теперь он знал, что она без всякой на то его просьбы прибежит снова к нему и выложит всё, что никогда бы не выложила, если бы он стал умолять её об этом, а тем более угрожать... И хорошо, что он сдержался и не проявил по отношению к ней жестокость и силу. Потом бы он мог, конечно, и убить!
А Джамна, уверенная, что Антоний всё-таки, любя, пожалел её, успокоенная, почти счастливая, прибежала к Гонории и ещё раз, дурочка, заверила молодую Августу служить ей преданно до самого гроба... Она всё верно сказала — «до самого гроба», ибо, будучи теперь арианкой, её после смерти обязательно похоронят в нём, забросав землёю, а не сожгут на погребальном костре, как верующих в Хроноса, Посейдона или бога Митру, храмы которых, несмотря на строгий эдикт императоров Гонория и Феодосия II, ещё стоят незыблемо в Александрии — родине Джамны. Этот город знаменит и своей библиотекой, содержащей 700 тысяч книг, и, наконец, громадным мавзолеем Сома, где в массивном золотом саркофаге, помещённом в другой, стеклянный, почивал Александр Македонский — сам почти как Бог, который взвесил в своих ладонях жизнь и смерть и узнал, что они имели иной вес, чем обычно...
Александрия — это город Птолемеев; каждый царь династии воздвигнул здесь дворцы и поставил статуи, посадил боскеты из акаций и диких смоковниц и вырыл бассейны, где цвели на воде кувшинки и голубые лотосы.
В течение многих веков здесь образовалось и множество колоний; отвернув края занавески носилок, в которых доставляли Антония Ульпиана и Джамну на форум, где стоял храм Митры (до принятия арианства они поклонялись, как и многие в Александрии, этому богу), можно было увидеть разношёрстную, шумную толпу греков, евреев, сирийцев, персов, иллирийцев, италиотов, финикян: говоря на разных языках и поклоняясь богам разных религий, иностранцы по своему количеству не уступали туземцам.
Мать Джамны в качестве рабыни привезли сюда из Галилеи, и здесь она родила дочь от нумидийца. Мать Джамны молилась Яхве, но она не успела приобщить дочь к своей вере, а отец, поклонявшийся Митре и покинувший белый свет позже, — успел... Но сердце Джамны перекачивало кровь, смешанную наполовину с кровью ветхозаветного народа, и, может быть, поэтому Джамна, став взрослой, легко и непринуждённо пришла к пониманию другого религиозного учения — арианства, избравшего, как и иудейство, единобожие...
Став арианкой, девушка также чувствовала себя хорошо, как и прежде, посещая храм Митры... Джамна до сих пор помнит этот храм, изящный, отделанный паросским мрамором, и жрецов, произносящих слова, обращённые к божеству. И эти слова были поистине замечательны, ибо менее туманные и таинственные, чем говорившиеся в других храмах, они, приспособленные также и к отдельному человеку и данным обстоятельствам, быстрее доходили до сердца... А когда, к тому же, говорил посвящённый в степень «бегунов солнца» с золотой короной на голове жрец Пентуэр, то народ валил валом в помещение храма Митры, чтобы его послушать. Да ещё этот жрец являлся и главным лекарем в Александрии, бесплатно раздающим больным беднякам лекарство.
Как врачеватель, Пентуэр не делал различий среди больных, но ему не нравилось это поистине вавилонское смешение народов не только в Александрии, но и других городах, подвластных Империи ромеев[18] и Риму, которое, по мнению посвящённого жреца, отрицательно влияло на древнюю цивилизацию.
А сейчас как на дрожжах уже восходит религия Иисуса Христа; и ей суждено, по предложению умного Пентуэра, завоевать сердца многих народов. Человечество должно было избрать в конце концов для себя единую веру, пропитанную высоконравственностью, ибо давно оно погрязло в алчности и разврате, словно в трясине, — и ещё век-другой, и эта болотная жижа поглотит его с головой...
Но уже строились христианские базилики, две такие воздвигнуты у ворот Канопа и Некрополя в Александрии, и, когда Пентуэру представилась возможность перевестись в Рим, где поспокойнее и где ещё чтут Митру в отличие от таких богинь, как Изида и Венера, он не раздумывая перевёлся туда.
Вот почему Джамна обрадовалась, когда узнала, что молодая Августа по настоянию матери должна поехать в Рим, — значит, ей, Джамне, бывшей поклоннице Митры, предстоит встреча с Пентуэром, которого она не только почитала, но и любила за чистосердечие и доброе отношение к ней, как к дочери... И к Ульпиану посвящённый жрец питал такие же отеческие чувства. Только помнит ли Антоний Пентуэра?.. И как жрец Митры отнесётся к Антонию в его новом качестве?..
Такие мысли сильно стали занимать Джамну, и она, не выдержав, снова нашла Ульпиана и поведала ему обо всём. Но не это сейчас беспокоило евнуха, да и какое дело ему, царскому помощнику, до стареющего жреца бога Митры, того бога, который тоже уходит из людского сознания в область забвения?..
Реакция Ульпиана огорчила служанку, но по прошествии некоторого времени он сам уже захотел встретиться с бывшей возлюбленной и долго расспрашивал о Пентуэре... Теперь же Джамне надлежало не огорчаться, а удивляться. У евнуха на счёт жрицы храма Митры в Риме появился, как говорится, свой интерес.
Уже несколько дней Галлу Плацидию мучили жестокие голодные боли: снова обострилась болезнь, которая приключилась с ней после убийства в Барцелоне мужа — вестготского короля Атаульфа. Тогда разом навалились на молодую королеву все беды — и недавняя смерть первенца Феодосия, и гибель мужа, и умерщвление шестерых его детей от первого брака. Но явной причиной болезни Плацидии явилась всё же «прогулка» босиком с непокрытой головой под нещадно палящими лучами испанского солнца.
Плацидия прошагала тогда, изгнанная из Барцелоны убийцей её мужа Сингерихом, более двенадцати римских миль, а победитель ехал рядом на коне и издевался над нею. Вот и ударило королеве в голову, и она, ставшая по вине этого надменного варвара пленницей, упала в конце своего скорбного пути и потеряла сознание.
Потом лучшие врачи Рима лечили её, но не вылечили, а лишь загнали внутрь болезнь, которая время от времени давала о себе знать... И всегда она обострялась в самые критические моменты правления: теперь вот, накануне поездки в Рим, и когда снова в сенате против матери-императрицы и её сына плетёт заговор опасный их враг Петроний Максим... Да только бы один Петроний! Стоит только Плацидии отойти на какое-то время от государственных дел, как тут же головы дружно поднимают и другие... Они" давно хотят провести через сенат закон о запрещении регентства как таковой, и тогда вся эта свора сразу накинулась бы на бедного Валентиниана, который и так обижен природой, отчего матери жалко его до острой боли в сердце... Плацидия знает, что сенат (по крайней мере, нижняя его часть, состоящая из популяров), настаивал бы на передаче власти наследнику её дочери (если бы таковой имелся) или тому же Максиму, пользующемуся непререкаемым авторитетом не только у народных трибунов, но и оптиматов.
Плацидия вскоре разобралась, почему так легко удалось уговорить патрициев и популяров, тяжёлых на подъём, о выезде всего императорского двора в Рим и проведении триумфального шествия войск Аэция по Марсову полю. В сенате тоже рассчитывают на дружбу с прославленным полководцем, у которого в руках находится реальная сила в виде хорошо обученных и вооружённых легионов. Поэтому Петроний настроил настоящих последователей веры Иисуса, которых сейчас в сенате большинство, на то, чтобы вынесенное Плацидией предложение прошло. С одной стороны, они шли ей как бы навстречу, а с другой — отстаивали только свои интересы, тем более что интересы эти совпали. Но обе стороны знали, что это лишь случайное совпадение, ибо взгляды и нормы поведения их в корне различны. Императорская семейка, исповедовавшая арианство, недалеко ушла от язычества, поэтому во дворце процветали разврат, угодничество, казнокрадство, взяточничество... И как ни странно, но именно пороки — человеческие и государственные — и позволяли Плацидии удерживать власть — регентша-императрица, как кормчий на полузатопленном корабле, коим стала теперь Великая Римская империя, с помощью этих пороков, служащих вёслами, и продвигает его вперёд. Галла Плацидия уяснила для себя одну истину, что посредством пороков легче править разваливающимся государством, нежели посредством всяких достоинств... Хотя дело и безнадёжное, но в сложившейся ситуации (и в этом Плацидии надо отдать должное) она умело указывала, как веслать, чтобы ещё как-то оставаться на плаву. А матросы — её приближённые, находясь с ней рядом на борту, тоже хорошо усвоили, что если потонет судно, то потонут и они, поэтому из последних сил сражались с бурными волнами вместе со своим капитаном и пойдут на всё, чтобы отдалить от себя неминуемую гибель...
Ужасная боль снова пронзила виски Плацидии и отдалась в правую часть затылка. Императрица откинулась и застонала. Антоний, оказавшийся здесь, попросил одного из её слуг, более могучего, чем остальные, грека, подать ему лёд. Ульпиан сменил на голове императрицы повязку, и тут вошёл вместе с лекарем Евгений.
Пока врачеватель колдовал над больной, царский помощник спросил смотрителя дворца:
— Ничего нового не узнал?
Евгений сразу смекнул, что имеет в виду хитрый евнух... Но ответил, как бы ничего не понимая:
— Узнал... — и увидел, как насторожился корникулярий, вернее, насторожились его глаза, превратившиеся из серых в тёмные. Но продолжал говорить, как ни в чём не бывало: — В сенате снова поднимался вопрос о полномочиях нашей повелительницы... Петроний Максим ссылается на её повторяющуюся болезнь... Но, слава Богу, среди оптиматов есть разумные люди, и его пока не поддерживают.
— Об этом, Октавиан, я уже знаю. Я ведь спрашиваю тебя о другом... — И, узрив по лицу Евгения, что тот больше ничего не скажет, снова спросил: — А в какого Бога ты веруешь, препозит?
— Как в какого?! — удивился смотритель. — Как и ты, наша повелительница, император Валентиниан, молодая Августа — в Вездесущего Зиждителя нашего. Разве не так?..
— Да, так. Но всегда ли ты верил в него?
— Всегда.
— А я, представь, — нет... В Александрии вместе с Джамной я поклонялся богу Митре, хотя мать у Джамны была иудейкой...
— Мать-иудейка у этой чернокожей рабыни?!
— Ну, положим, что у этой рабыни не чёрная кожа, и тебе это хорошо ведомо... А Джамну я не только знал, но и состоял с ней в интимных отношениях. Мать у неё — еврейка, она рано умерла, а отец — нумидиец из Африки, покинул сей белый свет, когда дочери едва исполнилось двенадцать лет... С этого возраста я и знаю Джамну. Тогда я был здоровым и привлекательным мужчиной...
— Вот так новость! — воскликнул смотритель дворца.
— Да, новость... А поделился я с тобой ею, так как нам вместе спасать свою госпожу. Без неё погибнем и мы... Поэтому мы должны быть откровенными между собой, — упрекнул евнух препозита.
«Ишь ты, об откровенности заговорил... Только где она была раньше, эта твоя откровенность?! Помнится, как ты старался заводить против меня всякие интрижки... Верны твои слова о том, что без своей госпожи погибнем и мы... И следовало бы нам быть откровенными друг с другом, но откровенничать с тобой, кастрат, всё же погожу...» — быстро промелькнуло в голове Евгения.
Плацидия простонала снова. Октавиан взглянул на императрицу, не в силах более видеть её искажённое болью лицо, вышел, а корникулярий положил на плечо лекаря руку. Тот поднял склонённую над больной лысеющую голову:
— Тс-с... Августа засыпает. Но, думаю, сон у неё будет непродолжительным. Чтобы облегчить её страдания, я рекомендую ей эруку.
— Эруку?.. Сколько я нахожусь во дворце, столько и помню, что императрица постоянно употребляет её... — сказал Антоний.
— Ничего не поделаешь. Ибо эрука не только возбуждающее средство, но и болеутоляющее.
Через какое-то время ушёл и лекарь. Антоний поближе подсел к спящей императрице и стал изучать каждую чёрточку на её лбу, щеках, шее, подбородке, вокруг рта и глаз. Августа, несмотря на уже немолодые годы, выглядела и сейчас очаровательно в своей беспомощности; сон расслабил все члены, и она походила на взрослое дитя, — Ульпиан даже пожалел её... Ведь у Плацидии, как и у него самого, во дворце нет друзей, есть только сомышленники и подельники, знающие, что они живы до тех пор, пока жива их госпожа. Поэтому алчут золота, драгоценностей, приобретают на южном побережье Италии виллы, заводят свой штат обслуги, далее покупают корабли и берут для охраны надёжных славянских наёмников; но спасут ли они их, когда поменяется власть или когда хвалёная Римская империя окончательно улетит в Тартар. Туда, ей, конечно, дорога, ибо эта империя в целях выживания и укрепления себя пролила реки и моря крови разных народов. Одних она уничтожила совсем, и от их пусть малой, но цивилизации не осталось и следа, а других заставила, как затравленную охотником дичь, рыскать повсюду в поисках безопасности и куска насущного хлеба. Поначалу таким народом был израильский, потом империя с невероятной жестокостью стала истреблять христиан; добралась она и до африканских, галльских и средиземноморских колоний, но времена меняются, уже вера Христа завоевала сердца и самих римлян, малые народы и колонии перестали безропотно подчиняться издыхающему зверю и меньше теперь кормят его, и он, полуголодный, очумевший, способен лишь огрызаться. Не более того. И какая жуткая доля уготована тому, кто по воле судьбы должен ещё управлять этим полудохлым огромным чудовищем!.. И вот одна из таких несчастных, лежащая недвижимо, сама больная, тоже почти умирающая...
Но, жалея императрицу, Антоний жалел и себя, и одну женщину, ещё любимую где-то в глубоких тайниках его души, — Джамну. А молодую Августу тоже бы надо пожалеть?.. Но какое дело ему, Антонию Ульпиану, евнуху, до этой безумной вакханки, которая не знает, что делает... Душа её пока отзывается на доброту и любовь. Но лишь пока. Эти чувства нужны только ей; в деле управления государством они вредны... Хотя молодой Августе никогда не сидеть на троне, да и женщина, лежащая перед Антонием, покуда она дышит, не допустит того, чтобы дочь вышла замуж и родила... Гонории давно уготована незримая тюрьма, и она уже сама поняла это... Несчастных жалеют, но не всегда помогают им. Помогать же Гонории не в интересах Антония, а в его интересах верно служить Галле Плацидии.
Лекарь оказался прав — императрица проснулась и пристально теперь взирала на задумавшегося Ульпиана. Боли утихли, лишь тупо ныло в затылке. И императрица сейчас внимательно могла изучать то, что отражалось на одутловатом лице Антония. Друг он её или враг?.. Нет, не враг: он предан ей и ни разу не дал повода усомниться в этом.
— Антоний, я, кажется, видела здесь Евгения и лекаря? Но, может быть, они явились мне в бреду или во сне?
— Нет, величайшая, они были наяву у твоего ложа. Евгений, взирая на тебя, почему-то поспешно удалился, а лекарь, снова порекомендовав принимать эруку, тоже покинул твой кубикул.
— А почему остался ты?
— Я думал, моя госпожа... О твоей несчастной судьбе.
— Ты считаешь, что моя судьба несчастна?
— По крайней мере, что она счастливая, я сказать не могу... Так же, как и сказать о своей.
— Да, тебе не повезло... Когда из Африки Аэций привёз пленных, ты и Джамна мне понравились: тебя я оставила при себе евнухом, а Джамну отдала в услужение к дочери. Я ведаю о тебе многое, вижу, что хорошо служишь, и никому о твоей прошлой жизни не рассказываю.
— Благодарю, благочестивая Августа.
— Ты назвал меня благочестивой. И думаешь, польстил мне?.. Нет. Благочестие в моём положении, как на шее камень, который потянет сразу на дно... Лекарь говорил об эруке... Прикажи подать её. А потом ты, Ульпиан, можешь присутствовать при моём соитии с этими силачами и смотреть, как я стану управляться с ними...
— Нет, госпожа... Когда-то и я управлялся одновременно не с двумя, а с большим количеством женщин... Так что ничего нового не увижу... Желаю, повелительница, чтобы болезнь твоя совсем от тебя отступилась, а её место заняла вечно юная страсть к любовным утехам... И позволь мне удалиться.
Но вспомнил, уже подходя к двери, о разговоре с Евгением, в котором препозит продемонстрировал явное неоткровение. Сказал об этом императрице и далее добавил:
— Мне недавно передали, величайшая, что пираты Сардинии перехватили несколько наших судов с хлебом, шедших из Сицилии и, чтобы досадить Риму и тебе, госпожа, потопили их вместе с зерном. Во многих городах Италии цена одного модия зерна с недавних пятидесяти денариев поднялась до семидесяти и более. Мы уже выслали из Равенны очередную партию философов, писателей и поэтов, ненужных нам, но потребляющих хлеб, который мы распределяем по крохам. Только эти меры вряд ли что изменят... Одобренное в сенате предложение послать часть флота, расположенного в Мизене, на борьбу с пиратами как раз было бы кстати... При разговоре с Октавианом я чётко уяснил для себя, что ничего от молодой Августы он узнать не сумеет... Видно, мозги его нуждаются в проветривании, чтобы лучше соображали. А вот и моё предложение — вместе с главнокомандующим мизенским флотом Корнелием Флавием на разгром сардинских пиратов послать и Октавиана.
Плацидия приподнялась с ложа; опершись на локоть, слегка призадумалась. Да, в последнее время она узрила перемену в поведении Евгения, не говорящую в его пользу, и уловила по отношению к себе отчуждённость, хотя и хорошо скрытую, но опытную женщину не обманешь... И какое-то непонимание всё больше возникало между ней и препозитом, когда они оставались наедине.
«Действительно, пусть проветрит мозги...» — решила императрица.
— Хорошо, Ульпиан... Готовь указ, я подпишу его.
III
Через три дня Евгений Октавиан получил этот указ. При нём ещё находилась пояснительная записка, касающаяся не только его, но главнокомандующего мизенским флотом Корнелия Флавия. Евгений не стал вникать в содержание этой записки, знал примерно, какие распоряжения последовали ему и Флавию; зато суть их действий чётко сформулирована в указе, а этого пока вполне достаточно. Евгений сразу поспешил к Гонории, которая давно ждала его, так как он не появлялся уже несколько дней, хотя понимала, что в связи с болезнью матери у него, как смотрителя дворца, должно было прибавиться немало хлопот. На самом деле её предположения оказались неверными — как раз болезнь императрицы Октавиана мало заботила, было кому и без него ухаживать за ней. Больше беспокоило положение при дворе его самого... Евгений ещё тогда, находясь в покоях Плацидии и рассматривая её искажённое болью лицо, вдруг почувствовал по отношению к себе приступ омерзения; он как бы посмотрел на себя со стороны и увидел вместо красавца мужчины какого-то жалкого человека, играющего двойственную роль любовника матери и дочери и их шпиона. До какой низости может дойти человек, а ведь Евгений не просто смотритель дворца, препозит, он прежде всего представитель при дворе древнего патрицианского рода... И не подобает ему быть грязным наушником, соглядатаем и бесчестным любовником, — роль, скорее приглядная для раба или мелкого чиновника. К тому же он любит одну Гонорию, и любит искренне... А тут ещё эти вопросы хитрого змея Антония, касающиеся откровенности, — тонкая интуиция Октавиана подсказала, что они заданы неспроста, и они как бы служили намёком, прелюдией тому, что за этим непременно последует... В отчаянии и с презрением к себе Октавиан выбежал из покоев императрицы. И вот итог — указ, который в первую очередь подразумевал его удаление из дворца.
Поэтому Евгений сразу бросился к молодой Августе, которая, увидев своего возлюбленного, тут же позабыла все обиды, накопившиеся за дни, в которые он не приходил, отбросила в сторону все подозрения и ревность. Вот он перед нею, её милый, хороший Евгений!.. «Господи! — взмолилась Гонория, — даруй нам тихие мгновения налюбоваться друг другом».
— Но почему у тебя такой вид, как будто ты не рад нашей встрече? — спросила Гонория у Октавиана.
— Родная моя, я очень рад... Я скучал по тебе, но не мог прийти по причине занятости.
Сказал и снова почувствовал к себе омерзение; эти дни, пока не был у молодой Августы, проводил в пьянке, со своими служанками. Хотя женщины-аристократки никогда не воспринимали служанок любовницами-конкурентками, также, как и мужья-патриции слуг, состоявших в штате обслуживания их жён... Если жёны употребляли внутрь семя своих рабов, то какая разница, каким местом тела супруга делала это?! Ох уж этот Рим!.. И чем ближе дело его шло к упадку, тем пакостнее он становился, и законы, направленные на обуздание прелюбодейства и разврата, принимаемые сенатом, на него не действовали. Надежда была только на новую религию, но не на ересь её, вроде арианства, а на истинное христианство... Если бы это понималось всеми! Когда устраивались цирковые представления со зверями и кровью, народ валом валил на них — и христианские храмы разом пустели. А голодные люди, раздетые и разутые, ревели в цирке и хохотали до слёз... По этому поводу пресвитер Сальвиан из Масеалии (современный Марсель) выразил своё прискорбие и изумление: «Кто может думать о цирке, когда над ним (народом) нависла угроза плена (нравственного). Кто, идя на казнь, смеётся?! Объятые ужасом перед рабством, мы предаёмся забавам и смеёмся в предсмертном страхе. Можно подумать, что каким-то образом весь римский народ наелся сардонической травы: он умирает и хохочет...»
Гонория прильнула к груди Евгения, склонив голову, а он нежно поцеловал в то место на шее возлюбленной, откуда её волосы собирались кверху в высокую башню, какую носили все модницы-патрицианки в Риме. Почувствовал, как трепетно вздымались обтянутые шёлком её упругие груди. Слегка отстраняясь, Гонория снова спросила, внимательно взглянув в глаза Октавиана:
— Так всё-таки что с тобой?
— Вот указ, где говорится, чтобы я послезавтра выехал из Равенны. В бухте Адриатики уже стоит готовый к отплытию чёрный корабль, на котором я должен обогнуть южное побережье Италии и достичь места, где базируется мизенский флот. Не мешкая, с большей частью кораблей вместе с Флавием мы должны будем вести охрану судов с хлебом, которые выйдут из Сицилии. И конечно, нам предстоит сражение с пиратами, кои не упустят снова момент, чтобы напасть на нас...
— А если они побоятся?.. Ведь кораблей-то у вас будет немало.
— Милая, у пиратов у самих есть целый флот, есть и свой друнгарий[19]... В конце концов, как говорится в указе, если пираты не нападут, то мы должны сами напасть на их главную базу в Сардинии и уничтожить.
— Я далека от военного и тем более морского дела, но думаю, что это осуществить будет нелегко... Ясно, что указ составлял Антоний. Тебя, Евгений, он ненавидит, это понятно... Но чем же ему досадил Корнелий Флавий?
— Змей и тут, мне кажется, рассчитывает на какую-то выгоду. Для него будет лучше, если мы от пиратов потерпим поражение...
— Мне призналась Джамна, что она Антония знала ещё до того, как его оскопили. Она состояла у него с двенадцати лет в любовницах. Может быть, Джамна у Антония сумеет что-то выведать?..
— Ульпиан и мне сказал о его прошлой связи с Джамной. Не существует ли между ними, бывшими в любовной связи, некий сговор?
— Не думаю... Я верю служанке. — Молодая Августа, сложив на груди руки и сильно прижав их, вдруг в волнении заходила по комнате. По её лицу, на котором проступали то одни черты, то другие, Евгений понял, что у Гонории сейчас зреет какое-то отчаянное решение. Она внезапно, как и начала, прекратила ходьбу, взяла за руку возлюбленного и крепко сжала её. На лбу и щеках у молодой Августы заалели пятна, и она ошарашила Октавиана неожиданным предложением:
— Милый, здесь я, как в заточении... И ничего мне более не остаётся, как последовать за тобой...
— Но...
— Не перебивай. Выйти замуж за тебя мне никогда не позволят, и ты знаешь сам об этом. Мы завтра же отправляемся к морю, сядем на чёрный корабль, а там подумаем вместе, что делать дальше...
— Не годится твой план, радость моя... Спасибо за любовь и доверие, но при твоём исчезновении придворные и особенно Ульпиан поднимут шум, поймут, с кем и куда ты сбежала, и пошлют наперерез нам один из тех кораблей, что базируются в бухтах, расположенных на всём восточном побережье Италии.
— А что же делать?
— Надо подумать... Если придумаем что-то хорошее, возьмёшь с собой раба-скифа[20] Радогаста и, конечно, Джамну, но пока их ни во что не посвящай.
— Значит, ты одобряешь моё решение уехать из Равенны! — с жаром в голосе воскликнула Гонория.
Родовой патрицианский дом Октавианов, находившийся на Капитолийском холме в Риме, сверху донизу тонул в венках из мирта и плюща. По колоннам портика рабы развесили гирлянды виноградных листьев, нарядные ковры, а воду в фонтанах подкрасили цветными красками, дорожки в саду усыпали песком, просеянным через сито. Убирали дворец почти неделю ко дню рождения знатного владельца дома, отца Евгения Клавдия, которому завтра исполняется шестьдесят лет.
Рано поутру дом его распахнёт ворота настежь для всех друзей, родственников и даже простых людей. Только не будет среди гостей официальных представителей императорского дворца — ещё при цезаре Гонории Клавдий впал в немилость, так как являлся ярым приверженцем старых богов, да и Галла Плацидия бывшего сенатора и начальника императорской гвардии не жалует за прямоту его суждений: хорошо, что взяла на службу к себе его сына, но Клавдий подозревает — сделала она это из-за бросающейся в глаза внешности Евгения.
Но вот и приехавший из Равенны четыре дня назад лучший друг Клавдия Кальвисий Тулл сообщил, что перед отъездом в Рим встречался с Евгением, и тот показал ему указ императрицы и предписание отправиться на миопароне, на которой служит навархом (капитаном) сын Кальвисия Рутилий, на юг Италии в распоряжение главнокомандующего мизенским флотом Корнелия Флавия. Затем они должны сопроводить хлебные суда, идущие из Сицилии, а позже напасть на главную базу пиратов в Сардинии и уничтожить... Поэтому Евгений просит прощение у отца, что не сможет приехать на его день рождения.
— А знаешь, Клавдий, послать сейчас корабли на разгром пиратов — это всё равно, что выпустить плохо вооружённого гладиатора на борьбу с десятком львов, — предположил Кальвисий, обеспокоенный и судьбой своего сына: — Думаешь во дворце этого не понимают?!
— К тому же, какой мой Евгений моряк?! Смешно...
— Но он молодец... — И Кальвисий сказал, что застал Евгения, сидящего за книгами военного теоретика Вегеция.
Хорошие книги, они есть в библиотеке Клавдия; бывший сенатор их тоже читал. В них Вегеций подробно и доходчиво излагает тактику и стратегию морских сражений. Ай да Евгений! Значит, сын не только умеет шаркать ногами по мраморному полу императорского дворца...
А что касается пиратов, то стратегия римлян в борьбе с ними и раньше заключалась в нанесении удара по главной их базе. То же самое предлагают и дворцовые «умники»... Но такой приём снова даст морским разбойникам возможность, маневрируя своими кораблями между многочисленными мелкими базами, избежать решительных сражений с флотом и тем самым сохранить свои силы, а потом исподтишка смертельно ударить.
А Вегеций предлагает применить на море иную стратегию и иную тактику. Скажем, такие, какие применил в своё время великий Помпей. Его задумка состояла в том, чтобы, рассредоточив свои силы по нескольким районам, нанести одновременный удар по всем базам пиратского флота и тем самым лишить его возможности уклоняться от встреч в открытом бою. Всё Средиземное море было разделено на 30 районов. Сначала Помпей решил очистить от пиратов западную часть Средиземного моря. В каждый из районов западной части моря он направил сильные отряды римского флота, а сам с 60 крупными и быстроходными кораблями остался крейсировать в Тирренском море, откуда он лучше мог действовать в случае надобности, в любом направлении. В течение 40 дней западная половина Средиземного моря была очищена от пиратов. После этого силы римлян Помпей перебросил в восточную часть моря. И всего за 49 дней было уничтожено и захвачено в плен около 10 тысяч пиратов, разрушено 120 пиратских крепостей и захвачено более 800 судов. Но то был флот Великой Римской империи, а сейчас не флот, а неведомо что!.. Бывший сенатор поморщился; Кальвисий поведал и ещё об одной «новости»: римские моряки голодают, просят милостыню (Помпей или, скажем, Юлий Цезарь, если бы их, как христиан, похоронили в гробу, наверняка бы в нём перевернулись, спрятав лицо вниз от стыда), не хватает парусов, да и сами корабли не чинили уже несколько лет... К тому же Корнелию Флавию указано выйти в море только с частью кораблей мизенского флота... Вот почему болят души у старых воинов! А Клавдия к тому же беспокоят мысли о любовной связи Евгения с дочерью императрицы, об этом тоже поведал Кальвисий; зная Плацидию и нравы её двора, бывший сенатор предполагает, что до добра эта связь сына не доведёт. Она-то, наверное, и стала первопричиной его «высылки» из Равенны, обставленной необходимостью его присутствия на кораблях мизенского флота, только всё это, как говорится, шито белыми нитками. Но дворцовыми интриганами главное сделано: они не только удалили из дворца Евгения, но, можно сказать, послали его на гибель... «Богиня Кибела, помоги моему сыну! Хотя он и принял другую веру, но ты, Кибела, недаром зовёшься могучей и любвеобильной, Матерью всех богов... Помоги и его возлюбленной!»
Вчера из Равенны приехал ещё один друг Клавдия, Себрий Флакк, и ошарашил ещё одной новостью: как только отъехал Евгений, из дворца исчезла и дочь Галлы Плацидии молодая Августа Гонория, которой вместе с императорским двором предстоит поездка в Рим. И сколько её ни искали, так и не нашли... Представляете, какой случился переполох!
Над Римом опустился поздний вечер — уже и звёзды зависли над притихшим городом, но не спится старому гвардейцу, всё ему думается. Он плотнее запахнулся в тогу, вышел из таблина[21] и, миновав парадные комнаты, оказался в перистиле, представлявшем собой квадратный зал с колоннадой, заставленный вазами с цветами на пьедесталах. Здесь посреди был вырыт бассейн. Обогнув его, Клавдий по мозаичному полу вдоль стен, покрытых живописью, прошёл далее в другую сторону перистиля, где находились столовые (для прислуги хозяина и особо важных гостей) и спальни. Хотел заглянуть в две из них, чтобы в одной разбудить Флакка, который отдыхал после дороги, но раздумал. Не стал заходить и во вторую, где любитель вина и женщин Кальвисий наверняка упражнялся со служанками, которых он привёз из Равенны.
Далее, оказавшись в саду, где стояли статуи, Клавдий послушал тихое, успокаивающее журчание фонтана; пройдя библиотеку и часть картинной галереи, или пинакотеки, которая сообщалась с атриумом[22], по лестнице поднялся на плоскую крышу дома. Но тут же следом за ним поднялась и одна из служанок бывшего сенатора, довольно ещё молодая, полногрудая, свежая, кровь с молоком. После смерти жены Клавдий сделал её главной распорядительницей дома, она же состояла с хозяином в интимных отношениях и искренне его любила. Протянув ему плащ, она сказала:
— Хотя уже и весна, а можно простудиться. Ты недолго тут будь, ветер ещё не успокоился на ночь, поверху гонит облака, оттого и звёзды мигают...
— Благодарю за заботу, милая, иди, а я, как иззябну, приду. Ты потом пожалуй ко мне и приготовь спальное ложе...
Сверкнув белозубой улыбкой, служанка спустилась вниз. Надев ещё сверху плащ, Клавдий поудобнее умостился на скамье. Отсюда, с Капитолийского двугорбого холма, Рим был виден как на ладони. После разрушения город всё больше и больше застраивался инсулами — дешёвыми многоэтажными, грязными, кишащими крысами домами, построенными наспех, лишь бы где жить... Справа по красным фонарям угадывалась Субура — улица, обильная притонами и проститутками, которых можно было купить на ночь всего лишь за кусок хлеба...
Сейчас город затих, но скоро по его улицам застучат колеса возвращающихся с рынков подвод, колесниц тех отдельные лиц, которым дано почётное право пользоваться ими вечером и ночью, и фургонов бродячих актёров. Ибо существовал запрет на пользование днём любыми повозками и другими, кроме носилок, средствами передвижения.
Перед домом напротив Клавдий увидел место, огороженное изгородью, — значит, сюда когда-то попала молния и её здесь «похоронили», обнеся частоколом, и теперь каждый, кто ещё верит в старых богов, может поклониться этой святыне... Поклонился и Клавдий. Но встают то туч, то там базилики с крестами на куполах. Их уже много, и, как ни старался цезарь Юлиан, прозванный христианской церковью Отступником, ввести в империи старую языческую веру, ничего у него не вышло; умирая от смертельной раны, полученной в сражении с персами, он в безумной ярости бросал к солнцу комья грязи со своей запёкшейся кровью и восклицал: «Ты победил меня, Галилеянин!» Да, Галилеянин победил теперь почти весь Рим.
Готы под водительством Алариха со знамёнами и хоругвями, на которых было начертано имя Единого Бога «Summus Deus», напали на Рим. Они верили в этого Единого Бога, считая Иисуса Христа таким же сотворённым Существом или такой же Тварью, как они сами. И сколь бы история не клеймила готов, изображая их как неотёсанных, грубых варваров, они прежде всего были христианами, пусть преемля всего лишь ересь, поэтому следует, может быть, их нападение на Рим рассматривать как борьбу христиан с недавними язычниками, в прошлом испытавших от последних страшные гонения и казни (а самая страшная казнь, применяемая римлянами по отношения к христианам, считалась распятием на крестах). Может быть, оттого и были готы жестоки? когда захватили «вечный город»...
Всё это происходило на глазах у Клавдия, который к тому времени по приказу императора Гонория охранял в Риме Галлу Плацидию, родную сестру Августа. Гонорий же находился в Равенне.
Аларих, предводитель готов, долго осаждал Рим, но взять его ему не удавалось. Тогда он придумал такую хитрость: среди воинов выбрал триста молодых людей, которые выделялись красотой и храбростью, и тайно сообщил им, что он, Аларих, намерен подарить их в качестве рабов знатным римлянам и велел юношам вести себя достойно и скромно и быть послушным во всём господам. Потом же, в назначенное время, в полдень, когда знатные римляне погружаются в послеобеденный сои, молодые готы должны будут устремиться к городским воротам, называемым Соляными, перебить стражу и быстро распахнуть их. А дальше за дало примется всё войско Алариха.
Сделав такое сообщение молодым людям, предводитель готов отправил послов к сенату с заявлением, что он удивлён и восхищен преданностью римлян своему императору, которые, находясь в осаде без воды и хлеба, не сдаются. В знак уважения к их мужеству он отходит со своим войском от Рима и дарит на память каждому сенатору по нескольку рабов.
Римляне обрадовались такому повороту событий, приняли дар и, увидев приготовления готов к отступлению, возликовали, не заподозрив коварства. К тому же исключительная покорность, которую проявили преданные Алариху молодые люди, совсем уничтожила всякую подозрительность... И вот настал назначенный полдень, всё произошло так, как и намечал Аларих, — варвары ворвались в город...
Историк Прокопий Кесарийский, рассказывая об этом случае и называя готов диким воинством, всё же подчёркивал необыкновенный ум их предводителя и восхищался выдержкой и смелостью молодых готов и умением их держаться, находясь в услужении у знатных римлян, ничем не выдавая себя. В войске Алариха, видимо, такими чертами характера обладали не только одни эти воины...
Конечно, бывшему языческому городу они тоже сотворили жуткую казнь: три дня варвары буйствовали в Риме, грабили его сокровища, разбивали статуи, сожгли здания возле Соляных ворот, в том числе дворец Саллюстия, древнего римского историка, соратника Юлия Цезаря. Слава богам, считал Клавдий, что этих людей давно не было на свете и они не стали свидетелями этого позора...
Сам Клавдий был тяжело ранен, отбивая свою повелительницу; провалялся в какой-то грязи, под обломками, а когда очнулся, то ему сообщили, что готы из города ушли и что молодую и красивую Галлу Плацидию в качестве пленницы Аларих увёл с собой.
Узнал Клавдий и другое и в душе посмеялся над затаившимся в Равенне Гонорием в то время, когда враги грабили и разрушали Рим. Один придворный евнух, выполнявший обязанность птичника, сообщил императору, что Рим погиб. «Да я только что кормил его своими руками!» — воскликнул Гонорий (у него был любимый петух по кличке Рим). Евнух, поняв ошибку императора, пояснил, что Рим пал от меча Алариха. Тогда Гонорий, успокоившись, сказал: «Друг мой, я подумал, что околел мой петух Рим»[23].
Покинув «вечный город» Аларих далее со своим войском направился на юг Италии, намереваясь переправиться в Африку. Но в пути около города Козенцы у слияния рек Крати и Бузенто Аларих скончался от какой-то внезапной болезни.
Похоронили его пышно. Сохранилась легенда: чтобы обезопасить гробницу от разграбления, приближённые предводителя приказали отвести воды реки Бузенто и схоронили его в её русле; затем убили рабов, принимавших участие в сооружении гробницы, а воды реки вернули в прежнее русло[24]. Вот вам и дикие варвары! Вот как они умели чтить своего мужественного предводителя!..
И осенью 410 года власть над готами перешла к родственнику Алариха Атаульфу, который взял в жёны Галлу Плацидию, захваченную в плен сестру императора. И вот как далее пишет историк Иордан: «Атаульф, приняв власть, вернулся в Рим и, наподобие саранчи, сбрил там всё, что ещё осталось, обобрав Италию не только в области частных состояний, но и государственных, так как император Гонорий не мог ничему противостоять».
Атаульф легко мог отобрать трон у Гонория, но делать этого он не стал, хотя, по утверждению одного человека, хорошо знающего этого варвара и бывшего с ним в хороших отношениях, он (Атаульф) пламенно желал, изничтожив само имя римлян, превратить всю римскую землю в империю готов, чтобы, попросту говоря, стало Готией то, что было Романией, и Атаульф сделался бы тем, кем был некогда Цезарь Август, однако на большом опыте убедился, что готы в силу своего необузданного характера никоим образом не будут точно повиноваться законам империи, как это делали римляне, а государство без законов — не государство, в конце концов Атаульф предпочёл иметь славу благодетеля и восстановителя Римского государства с помощью сил готов, дабы в памяти потомков остаться инициатором возрождения империи, после того как он не смог сделаться её преобразователем. Поэтому Атаульф не стал далее воевать с римлянами, а предпочёл мир, поддавшись уговорам и советам своей жены Галлы Плацидии.
А сам император Гонорий?.. Он всё так же сидел, сложа руки в Равенне, превратившись фактически в парадную куклу, где в августе 423 года скончался от водянки в возрасте тридцати девяти лет.
IV
Теперь обратимся к событиям, которые произошли несколько дней назад, в Равенне.
Евгений сидел в таблине рано утром, закутавшись в тогу, — было прохладно: раб, отвечающий за отопление, проспал. И только что затапливал камин. Раба следовало бы вздуть, но Октавиан даже не обратил на это внимания, все его мысли были обращены на другое: «Что делать дальше?»
Препозит знает свою возлюбленную: если она решила бежать, то её не отговоришь...
Вчера с помощью Джамны Гонория сложила в кожаный мешок самые необходимые вещи, а слуга-ант по имени Радогаст незаметно перенёс этот мешок в таблин к Октавиану. Никто ничего не заподозрит, если Евгений со своими вещами заберёт завтра и этот мешок. В конце концов остановились на следующем: они сядут на чёрный корабль, на котором, слава Богу, капитаном служит Рутилий, сын бывшего, как и отец Евгения, сенатора Кальвисия, и поплывут, а там видно будет... Корабль, называемый миопароной, маневренный и быстроходный, и не так-то просто с береговой базы перехватить его.
Всё, решено, больше Евгений об этом думать не станет; он снова взял в руки книгу[25] Вегеция, начал читать: «От навархов прежде всего требуется осмотрительность, от кормчих — опытность, от гребцов — сила их рук, потому что ведь морская битва происходят обычно при спокойном море, либурны, как бы огромны они ни были, двигаясь не под дуновением ветра, а ударами вёсел, своими носами поражают противников, а в этом случае победу дают сила рук гребцов и искусство управляющего рулём».
«Допустим, что мы благополучно достигнем базы мизенского флота, но я должен идти снова в море... — отвлёкся от Вегеция Октавиан: всё же не смог побороть себя и не думать. — Гонорию со служанкой и слугой можно устроить жить в укромном месте в порту, я знаю где, я бывал там, поможет и Рутилий Они подождут меня. А если я не вернусь?! Ведь неизвестно, чем закончится наша «охота» на пиратов... Гонория вообще хочет уехать из Италии... Но это потом. А Галла Плацидия поднимет на ноги не только свою гвардию, но и всю тайную службу. Всех своих секретарей[26]! Они наверняка выследят молодую Августу, которой надо ехать в Рим. Землю станут рыть носом... Хотя дело-то не в молодой императрице, а в приуроченном к приезду всего императорского двора в «вечный город» триумфальном шествии легионов полководца Аэция. И конечно же, мать предпримет всё, чтобы обнаружить дочь и вернуть её во дворец. Тогда мне головы не сносить...»
Вдруг он поймал себя на мысли, что по-прежнему любит Гонорию и снова разделяет её симпатии и убеждения. И будто не было у него жарких ночей с Плацидией, он сейчас думает о ней с такой же ненавистью, как и Гонория. Да, он виноват перед молодой Августой. Он не только ей изменял, но и делился с Плацидией тем заветным, в которое посвящала его Гонория. И подозревает, что потому и нужен был императрице. Всё это должно быть в прошлом, и надо, чтобы всё это отошло от Евгения и растворилось, как отходит весной лёд от берега и тает на середине реки... Былые нежные чувства к Гонории вернулись, теперь он любит её ещё больше, ибо увидел, что ради бескорыстной любви она способна на многое, это бескорыстие подкупило Октавиана, и его душа снова потянулась Ас сердцу возлюбленной...
В дверь постучали. Вошёл Кальвисий, поздоровался.
— Ладно, что в такую рань не спится нам, старикам, а почему молодым? — сделав удивлённое лицо, воскликнул друг Клавдия.
— Дела... — Евгений кивнул на лежащую на столе книгу.
Показал указ и предписание, Кальвисий стал читать, затем сообщил ему, что едет в Рим на юбилей его отца. Молодой Октавиан смутился: честно говоря, он даже забыл, что отцу исполняется шестьдесят лет.
Старый сенатор всё понял, постарался придать своему лицу такое выражение, что будто ничего не заметил.
— Как приеду к Клавдию, скажу, что ты хотел поехать, но не позволили дела государственной важности... Вот и сын мой тоже поплывёт с тобой. Передай ему, чтобы был осторожен и помогал тебе во всём...
Евгений быстро поднял глаза: «Интересно, что Кальвисий имеет в виду, сказав, чтобы Рутилий помогал мне во всём... Уж не известно ли бывшему сенатору о решении молодой Августы покинуть равеннский дворец?!»
Во взгляде Кальвисия не уловил даже намёка на какую-то тайну и успокоился.
— Благодарю, Кальвисий. Я с детских лет ощущал твою заботу обо мне.
— А как же?! Ты являешься сыном самого лучшего моего друга. И твой отец также всегда относился к Рутилию; было время, когда наши дома стояли рядом, ты и мой сын жили и общались как родные братья.
— Да, хорошее было время...
— Правда, оно грустно омрачалось безвольным правлением Гонория. Но и сейчас не особенно весело. — Оглянулся, не подслушивает ли кто?..
— Свой таблиц я, как видишь, завесил толстыми коврами, и звуки голосов тонут здесь.
— Вот так и живём... Я потом всё объясню твоему отцу. Желаю удачи.
Они обнялись, и Кальвисий вышел.
«Наподобие сухопутных сражений, бывают и здесь внезапные нападения на малоопытных моряков, или устраиваются засады поблизости от удобных для этой цели узких проходов у островов... — принялся опять за Вегеция Евгений. — Если осторожность врагов дала им возможность избежать засады и заставляет вступить в бой в открытом море, тогда нужно выстроить боевые линии либурн, но не прямые, как на полях битвы, но изогнутые, наподобие рогов луны, так чтобы фланги выдавались вперёд, а центр представлял углубление, как бы залив. Если бы враги попытались прорвать строй, то в силу этого построения они были бы окружены и разбиты. На флангах поэтому должны быть помещены главным образом отборные корабли и воины, составляющие цвет и силу войска...»
Евгений поднял голову, подумал: «Где они, эти отборные корабли и воины, составляющие цвет и силу войска?!» Стал читать далее:
«Кроме того, полезно, чтобы твой флот всегда стоял со стороны свободного глубокого моря, а флот неприятельский был прижат к берегу, так как те, которые оттеснены к берегу, теряют возможность стремительного нападения».
«Возможность стремительного нападения... А если всё же миопарону перехватят с берега? Допустим, не сразу, а потом. Какой же выход? — этот мучительный вопрос снова стал волновать Октавиана: душа не успокаивалась... И вдруг Евгения осенило, и он чуть не вскрикнул от радости: — Есть выход!.. Надо отправить Гонорию к отцу, в Рим... Может быть, сделать это незамедлительно. Нанять повозку с лошадьми. Но не доедут беглецы. Когда их хватятся, все дороги, выходящие из Равенны, будут перекрыты... А если Гонорию отправить с Кальвисием? Согласится ли он?» В том, что он согласится, Евгений не сомневался... Но он не станет подвергать опасности жизнь отца Рутилия. Достаточно и того, что Октавиан, сажая на корабль молодую Августу, будет подвергать опасности жизнь самого наварха... Значит, Евгений сделает так: завтра на исходе ночи, пока все спят, он вывезет из Равенны возлюбленную со слугой и служанкой, к утреннему времени они уже приедут к стоянке кораблей. Проберутся на миопарону. В порту знают, что судну Рутилия надлежит выйти в море, и задерживать не станут.
Молодую Августу хватятся во дворце только после обеда, когда она не выйдет в столовую, — утром Гонория завтракает у себя. А тогда уже миопарона пройдёт по морю достаточное количество миль, а вечером пристанет к берегу, и под покровом темноты Гонория покинет борт корабля с тем, чтобы потом по малоизвестной дороге, затерянной также в малоизвестной кому прибрежной местности, добраться до Рима. Дело и тут рискованное (на этой дороге могут напасть разбойники), но зато есть хоть какая-то уверенность в том, что молодая Августа, Джамна и Радогаст благополучно доберутся до дома Клавдия. А Евгений подробно расскажет, как найти этот дом в Риме, где они обретут приют, тепло и защиту.
Лошадей и крытую повозку купят, возницей станет скиф, парень он не пробах, к тому же силач.
«Я дам ему акинак, пусть спрячет в одеждах. Джамна — смышлёная храбрая девушка, — улыбнулся Евгений, вспомнив, что хороша она и на любовном ложе... — Если улыбаюсь, значит, не так уж плохо», — подумал весело.
Во дворце тоже прошло всё гладко. Стражники, зная о дружбе препозита и молодой Августы, ничего не заподозрили, увидев их вместе, выходящими из дворца. Не обратили внимания и на то, когда они садились в повозку.
В порт прибыли утром, на набережной их уже поджидал Рутилий, заранее извещённый обо всём одним из слуг Евгения. С корабля на берег были давно поданы сходни, капитан приказал морякам не выходить на палубу, чтобы кто ненароком не узнал Гонорию; по сходням она и Джамна быстро поднялись на борт, и Рутилий отвёл их в специально приготовленную каюту. Там они затаились.
Радогаст помог разгрузить повозку и занести на корабль вещи. Рутилий вернулся на набережную, где ещё стоял Евгений.
— Ну, брат, заварил ты кашу...
— Не я, дорогой Рутилий, а сама Гонория... Ты знаешь её дерзкий характер.
— Кашу-то, если что, вместе будем расхлёбывать. — Рутилий только сейчас обнял своего друга и поздоровался с ним.
— Отец твой сказал, чтобы ты помогал мне во всём.
— Как он себя чувствует?
— Выглядит отлично, едет к моему отцу на шестидесятилетие.
— И повезёт с собой кучу служанок для увеселения... Когда мама скончалась, веришь, Евгений, целый год он не притрагивался ни к одной женщине, а потом, будто с цепи сорвался...
— Пусть их!.. По крайней мере, о добродетели речи они не ведут и задницей не крутят[27]... Мой отец, кстати, после смерти мамы тоже прилепился к молодой служанке. Я видел её, слава Бору, она хорошая женщина.
— Нам ли осуждать или хвалить отцов... Ты в пример перефразировал строку из «Сатир» Ювенала, а я вспомнил строчки из «Сатирикона» Петрония:
Кто же не знает любви и не знает восторгов Венеры?
Кто воспретит согревать в тёплой постели тела?
Посмеявшись, они взошли на корабль, а следом за ними моряки убрали сходни.
На мачте взвился вымпел; вначале нижние вёсла, окрашенные в красную краску, ударами по воде отвели чёрную миопарону от берега и поставили её чуть боком, при этом нарисованные краской глаза на носу как бы слегка скосились. Потом заработал другой ряд вёсел — миопарона крутнулась на месте и встала кормой к набережной.
Через какое-то время судно подняло паруса и поймало в них ветер.
Рутилий пригласил в свою каюту друга.
— Пусть женщины отдыхают... А ты, Евгений, здорово рисковал, посылая ко мне слугу с посланием... Но да лад но. Что дальше делать будем?
И снова этот вопрос, который не выходил из головы Евгения.
— Вот и давай ещё потолкуем... А что касается моего слуги, то скорее он бы умер, нежели позволил отобрать у него послание к тебе.
— Нашли бы у мёртвого.
— Я наказал при возникновении опасности изжевать и проглотить.
— Ты прав, когда писал, что на судне везти Гонорию до самой базы мизенского флота опасно, и я опять согласен с тем, чтобы высадить её где-нибудь на полпути. Лучше это сделать в Анконе... Во дворце хватятся и пошлют погоню в двух направлениях — по Фламиниевой дороге, которая ведёт из Равенны в Рим, и по морскому берегу, не без основания полагая, что ты увёз молодую Августу на моём корабле... Но всадник, какая бы резвая лошадь под ним ни была, раньше нас в порту Анконы не окажется. И Гонория до особой проверки успеет покинуть судно. К тому же у неё будет возможность затеряться среди поклонников богини Изиды. Да и потом, купив лошадей и крытую повозку, не так опасно вместе с повозками почитателей этой богини добираться до Рима, так как и из столицы приезжают сюда, ибо там храм Изиды давно разрушен... В Анкону мы прибудет поздно вечером. Повезло нам с попутным ветром. Вот таков мой план, Евгений.
— Блестящий план, брат! — воскликнул Октавиан. — Теперь мне не терпится поделиться им с Гонорией. Думаю, что она не спит...
Треволнения прошедшей ночи не позволили Гонории даже вздремнуть; она лежала с открытыми глазами, зато рядом Джамна спала как убитая.
Евгений, зашедши в каюту к ним, поцеловал возлюбленную, разбудил Джамну. Вошёл в каюту и ант Радогаст, которому препозит велел тоже поприсутствовать. Вчетвером они обсудили план, предложенный Рутилием, и нашли его годным к исполнению.
Ант очень обрадовался, когда ему Евгений подарил византийский меч акинак: ведь Радогаст снова, как воин, оказался при оружии. Но всё же сказал:
— Я на лук со стрелами больше надеюсь...
На судне нашли и лук с тетивой из лошадиных волос, и колчан со стрелами. Ант заметил, что у него на родине, в низовьях Днепра-Славутича, или Борисфена, как называют эту реку греки, тетиву для лука обычно делают из сухих бычьих кишок... Спросили у него, не выделить ли ему в помощь ещё одного человека. Радогаст выпрямился во весь рост, тряхнув русыми волосами, ответил:
— Справлюсь сам! — и погладил дугу лука, сделанную из крепкого дерева.
Столько смелости и отваги было у анта во взгляде, такой мужественностью и решимостью веяло от его сильной фигуры, что никто не возразил ему. К тому же чем больше людей станет сопровождать госпожу, тем подозрительнее...
— Хорошо... Но запомни, а лучше я скажу так, пусть и покажусь грубым: заруби, Радогаст, себе на носу — сторонитесь больших дорог, особенно Фламиниеву... А окажетесь на берегу Тибра, не вздумайте продать повозку и лошадей, чтобы сесть на барку и плыть по реке... Хотя это было бы удобнее, но на пристани в Риме вас могут выследить... — напутствовал Евгений.
В Анкону прибыли благополучно, ошвартовались, и вскоре под покровом густой темноты Гонория, Джамна, снабжённые деньгами, и Радогаст с кожаным мешком за спиной, в который спрятали ещё и лук (акинак у анта незаметно висел под одеждами), сошли на берег.
Глядя им вслед до тех пор, пока они, сойдя с набережной, совсем не растворились во мраке ночи, Евгений почувствовал на щеке слезу: он ещё раз убедился в своей сильной любви к молодой Августе; в этот момент очень жалел, что на месте Радогаста не оказался сам...
Миопарона, отойдя от берега, снова взяла курс на юг; хотя Рутилий к Евгению питал братские чувства и ради него, как мы видели, готов был пойти на всё, но он всё же с облечением вздохнул, когда корабль покинула Гонория... Рутилий понимал, что радоваться этому кощунственно, но он как капитан отвечал и за команду, которой в случае разоблачения не поздоровилось бы, хотя она почти вся осталась в неведении происшедшего. Знати об этом лишь кормчий, рулевой и два матроса, подающих сходни. Но они поклялись молчать обо всём до своего смертного часа. Евгению для этого тоже пришлось раскошелиться.
Сердце Рутилия предчувствовало, что корабль непременно должны проверить, и рано утром, когда подул южный ветер австр, при котором наглухо закрывались двери в корабельную кухню, потому что он вредил пище, вперёдсмотрящий, находившийся наверху, в «вороньем гнезде» — мачтовой корзине, закричал:
— По правому борту — судно! Различаю корабль береговой охраны. Сигналит, чтобы сушили вёсла.
Так как встречный ветер не давал возможности поднять паруса, то миопарона шла на вёслах. А «сушить вёсла» — значит вынуть лопасти из воды, то есть скорость снизить до нуля.
Евгений и Рутилий подошли к борту.
— Что мы предполагали, то и случилось... — сказал капитан.
Такой же, как миопарона, быстроходный и маневренный корабль, называемый скафом, приблизился. Передали, чтобы с миопароны выбросили верёвочную лестницу. Старший и с ним четыре матроса вскарабкались по ней на борт, показали распоряжение начальника охраны о проверке. Не найдя никого из посторонних, спустились с лестницы и вскоре оказались на своём корабле. Увидев на лице Евгения волнение, Рутилий пошутил:
— Думаю, брат, что много дал бы тому, кто превратил бы тебя сейчас в одного из летающих Зевсовых слуг[28], чтобы сверху видеть, как станет добираться до Рима твоя возлюбленная.
— Ты угадал, мой верный друг, — не стал скрывать свои чувства Октавиан.
Гонория ещё в каюте миопароны переоделась в платье госпожи среднего достатка, а Джамна убрала с её головы башню, какую носили женщины очень богатых патрицианских семей; на лбу и по бокам уложила длинные волосы молодой Августы валиком, а сзади собрала их в тугой узел.
Радогаст быстро в центре Анконы рядом с храмом Изиды отыскал гостиницу; не без труда они втроём устроились в ней, так как она была заполнена паломниками. Правда, многие из них спали на улице в своих крытых повозках.
Нашёл расторопный ант и еду — жареную цесарку, холодную, но с жадностью набросились и на такую. Запивая фалернским терпким вином, Радогаст пошутил:
— Курица вдвойне по вкусу нашей нумидийке[29].
— Почему вдвойне? — не согласилась Гонория. — Не забывай, Радогаст, что наша Джамна нумидийка наполовину...
— Есть больше нечего, госпожа. Ложитесь спать. У нас на родине говорят: «Утро вечера мудренее».
Гонория и Джамна легли вместе на одном ложе; ант, бросив тюфяк на пол, устроился у самых дверей комнаты, положив в изголовье акинак.
Утром, добыв для женщин завтрак, ушёл покупать, взяв деньги у молодой Августы, лошадей и повозку, наказав им из комнаты до его прихода не выходить.
Радогаст, когда ему исполнилось пятнадцать лет, попал вместе с отцом в плен к готам: отца продали в рабство в греческом Херсонесе, а их, молодых, привезли в Кафу и там погрузили на римский корабль. Так молодой ант оказался в Равенне, за красоту, силу и сообразительность его взяли во дворец, и он стал прислуживать Гонории. За прошедшие пять лет научился не только говорить, но и писать по-латински. Конечно, скучает но родным местам, но преданно служит госпоже. И, надо сказать, любит её; если будет нужно, не задумываясь положит за неё свою голову...
Радогаст, оказавшись возле храма Изиды, был оглушён громкой речью собравшихся здесь, несмотря на очень ранний час, ромеев, греков, евреев, африканцев и даже славян, приехавших сюда с другого берега Адриатики. Место перед храмом служило и торжищем: продавали конскую сбрую, буйвол иную кожу, мёд, вино, в урнах — белый перец, чёрную соль[30], пшеницу; на длинных лавках лежали устрицы, рыба: щука, осётр, скар[31], но в большинстве своём — камбала, называемая здесь ромбом.
Анту недосуг было рассматривать другие торговые ряды, наполненные всякой всячиной; минуя их, натолкнулся на воткнутое в землю копьё — знак публичного торга рабами, но пока место пустовало. Зато чуть в стороне Радогаст нашёл то, что искал, — лошадей. Он с детства хорошо разбирался в них: для антов лошади являлись любимыми животными — на них пахали землю и сеяли хлеб, возили на топку дрова и сено на корм скоту, с помощью лошадей корчевали под пашню лес и месили глину для изготовления самана, из которого клали дома, а в сёдлах защищали свои родные селения и рубились в битвах с врагами.
Радогаст выбрал двух самых лучших, на его взгляд, лошадей, купил четырёхколёсную, как у галлов, повозку с верхом, сплетённым из ивовых прутьев, полотняной только спереди занавесью и сиденьем также спереди, висящим на крепких ремнях, провизию на дорогу и корм животным. Запряг их и лихо подкатил к гостинице. Затем усадил женщин и выехал из Анконы.
Уже спускались в череде других повозок под горку, когда гелиос поднялся из-за восточных холмов, как бронзовый, пущенный рукой дискобола диск, но который упадёт за горизонт лишь к вечеру, совершив свой полёт по небесному кругу.
Джамна откинула занавесь.
— Госпожа приказала оставить открытой, будем обозревать окрестности... Да и ты с нами можешь перекинуться словцом...
Радогаст улыбнулся и чуть левее от дороги увидел странную процессию: шли с громким пением, ударяя в систры, обритой макушкой в белых тогах мужчины. Двое из них впереди несли огромную живописную картину. Подъехав поближе, ант уже смог разобрать, что на ней нарисовано. А нарисовано было тонущее судно в бушующем море и усталые, лежащие в разных позах на берегу моряки.
Встретив удивлённый взгляд слуги, молодая Августа охотно пояснила:
— Это идут в храм Изиды поклониться богине, покровительнице мореплавателей, спасшиеся после кораблекрушения люди. Они обязательно бреют макушки и нанимают художника, который с их слов рисует картину их спасения. Каргину они поставят в храме к ногам статуи, изображавшую Белую Ио, как называют Изиду греки, принесут ей жертвы, а сами останутся в храме на девять дней, чтобы поклоняться спасительнице и назначать там любовные свидания.
— Можно подумать, что в Анконе живут одни только язычники, — подала голос молчавшая до сих пор Джамна.
О чём она думала?.. Может быть, о своей судьбе?.. Этим морякам, спасшимся после бури, есть чему радоваться: они поют, бьют в систры, их ожидают дни, полные женских ласк и наслаждений. А что ожидает её, бедную сироту, полунумидийку, полуеврейку?.. Страх и, скорее всего, смерть?.. Да, она тоже любит свою госпожу не меньше, чем этот красивый ант... Только сейчас девушка обратила на него внимание, раньше она смотрела на этого раба как на пустое место. А сейчас Радогаст проявлял совсем не рабские навыки, а умение свободно держаться, распоряжаться, быть хозяином своего и их положения. Он уверен в себе, не глуп, рассудителен, не зря Евгений выбрал его как мужчину в сопровождающие Гонории. А что делает Антоний?.. Джамна дала бы многое, чтобы увидеть во гневе евнуха, которого так ловко провели... Провели и Галлу Плацидию. Но оба они умеют мстить...
Поделилась мыслями с молодой Августой. Та лишь ответила:
— Радогаст правильно сказал: «Утро вечера мудренее...» Не будем гадать, милая... Что было — увидели, что будет — увидим...
По мере продвижения на запад, к Риму, Джамна заметила, что всё больше и больше стали попадаться христианские базилики с крестами на золочёных куполах крещален, блистающих ярко, как и само гелиос-солнце.
Поздно вечером вместе с другими Радогаст остановил лошадей у ручья, выпряг их, задал корм, поужинали сами и заночевали. Отдохнув, рано утром снова выкатили на дорогу, а ближе к обеду им предстояло пережить настоящий страх.
Акинак Радогаст держал при себе, лук он положил под сиденье, чтобы в случае надобности быстро выхватить его и колчан со стрелами. Ант уже привычно правил лошадьми, Гонория и Джамна подрёмывали; вдруг впереди Радогаст заметил какое-то движение — повозки подались правее к обочине дороги, и вскоре из-за холма вынырнули навстречу вооружённые всадники. «Стражники! — пронеслось в голове у анта, и он непроизвольно схватился свободной рукой за рукоять короткого меча, спрятанного под паллием[32].
Вот уже первый всадник (по золочёному шлему и богатой конской сбруе видно было, что это начальник) почти поравнялся с их повозкой, и тогда Гонория с облегчением вздохнула, узнав в начальнике не командира стражи, а декуриона турмы — конного воинского подразделения, состоящего из сорока верховых.
Оставив после себя густое облако пыли, они ускакали в сторону Анконы.
Через два дня повозка перевалила скалистые Апеннины, и на этой стороне гор беглецы оказались будто в самой середине лета, хотя ещё только наступала весна: солнце грело так, что если бы верх повозки был полотняным, то Гонория и Джамна задохнулись бы от духоты, а плетёнка из ивовых прутьев пропускала воздух и не накалялась от жары... Кстати, эти повозки употреблялись не только у галлов, но и у восточных славян — поэтому Радогаст и выбрал такую...
Дорога вдруг сделала резкий поворот, проехали ещё две-три мили и очутились на самом берегу Тибра; берег оказался крутой, поросший деревьями с редкими кронами, в промежутки которых можно было узреть снующие по воде рыбацкие челны и степенно плывущие под равномерными ударам вёсел барки, перевозящие строительные песок и глину, уголь, бочки с солониной, зерно.
Через какое-то время повозки обогнали пассажирское судно — та же барка, на которой раньше возили пшеницу, но теперь переоборудованное и годное на то, чтобы на нём плавали люди. Высыпав на палубу внушительных размеров, они, смеясь, махали руками вослед повозкам. Не выдержала Джамна, тоже в ответ помахала шарфиком из китайского шёлка, но Радогаст, полуобернувшись, сказал:
— Джамна, больше не делай этого... Не привлекай к нам внимание.
Девушка поджала пухлые губы, обиделась, но, поразмыслив, решила: «Он прав». Гонория, наблюдавшая за ней, незаметно улыбнулась. За время езды, постоянно находясь рядом, между ними установились иные отношения, нежели как между госпожой и рабыней, они сейчас напоминали отношения двух хороших подруг, а скорее даже сестёр; ант видел и радовался... Видимо, то была радость пленного, обнаружившего, что попал к господину, который относится к рабам не как к «говорящим вещам», да и раньше Радогаст испытывал к девушке особое чувство и был доволен, что Джамна находилась на особом положении, но всё же господа не забывали, что она — рабыня, как и раб он сам... А за эти дни, проведённые в пути, многое изменилось. Радогаст чувствовал это по разговору с молодой Августой и по её взгляду: теперь она обращалась к нему как к равному ей; даже больше того, ибо видела в нём свою защиту, надеясь на него и доверяя ему... А он всё делал для того, чтобы эти надежда и доверие крепли, и не только в глазах госпожи, но и Джамны тоже.
Но как бы то ни было, а встреча с турмой напугало его, и его состояние заметили женщины; за этот мимолётный страх он ругал себя, прошедшие без всяких приключений и не грозившие им ничем дни и ночи расслабили его, поэтому он и не готов был к такой встрече, поэтому и испугался... Теперь он будет всегда начеку, теперь уж его нельзя будет застать врасплох.
Радогаст хотел об этом сказать женщинам, но передумал — какой он тогда мужчина, если начнёт оправдываться и в чём-то их заверять?! Как надо при возникновении настоящей опасности себя вести, он им лучше покажет на деле. Но было бы лучше, чтобы она не возникала.
Встретилась им и ещё одна процессия, но не весёлая, как раньше, а скорбная. Вели закованных в цепи беглых рабов, клеймённых на лбу и щеках первой латинской буквой слова «беглый»; им из жалости стали бросать из повозок куски хлеба; те, кто, гремя цепями на руках и ногах, успевал схватить, жадно, давясь, поедали. Куски, что падали на землю, некоторые рабы хотели поднять, но получали по голой спине и плечам сильные удары бичом надсмотрщика.
Джамна выразительно посмотрела на Гонорию, та отвернулась... Хотя минуту назад они хорошо понимали друг друга. Всё-таки преграда и отчуждение между рабыней и госпожой, рабом и хозяином будет существовать всегда, пока есть и будет рабство...
Джамна подумала, что христианский Бог учит воспринимать всех как братьев и сестёр, он говорит — люди равны на этой земле, ибо одинаково сотворены Им по своему подобию. А почему тогда процветает рабство?.. Кажется, впервые девушка задала себе этот вопрос... И ужаснулась. И выразительно посмотрела на каменный крест у придорожной часовни...
Кстати, в заслугу римского права нужно поставить то, что римляне были терпимы в религиозном плане, и рабы, которые являлись выходцами из разных стран, могли сохранять свои верования. Так что Джамна, не будь она, как и её госпожа, арианкой, могла бы по-прежнему поклоняться своему Митре.
За часовней начались поля, даже человеку городскому бросалась в глаза их неухоженность; сейчас наступила пора весенних работ, но не виднелось ни одного сельского труженика. Это приметил не только ант, выросший в деревне, но и молодая Августа. По рассказам придворных она знала, в каком запустении пребывали пахотные земли, но теперь ей пришлось увидеть это самой.
А вчера на ночлеге она слышала разговор двух колонов[33], возвращающихся из Анконы в своё селение, о том, как их соседи благодаря воинам, размещённым у них на постой, чинят произвол и насилие: они захватывают чужие участки земли, вырубают деревья, уводят скот, режут его и поедают. Хозяева, видя это, льют слёзы, а те насмехаются, не боятся того, что кто-либо узнает об учинённом разбое, и даже угрожают захватить остальное. И всё потому, что они содержат у себя воинов, да ещё и платят им, так как само государство уже не в силах содержать армию...
Гонория, заинтересованная этим разговором, спросила у того, кто постарше:
— Чем объяснить повсеместное на селе запустение и упадок?
— Дело в том, что издаваемые законы сейчас ничего не значат... — ответил старик колон. — Это и превращает земледельцев в разбойников, влагает им в руки железо не для обработки земли, а для убийства и делает их непокорными властям.
И далее крестьянин поведал, как происходит у них на селе сбор податей... Когда являются люди, коим вменено в обязанность собирать подати, то они требуют их спокойно и тихо, но встречают презрение и насмешки. Тогда сборщики с раздражением повышают голос, затем они изрекают угрозы в адрес сельских властей, но бесполезно. Наконец, они хватают их и тащат за собой, но те сопротивляются и пускают в ход камни. И вот сборщики возвращаются в город с ранами вместо податей, и кровь на плащах их говорит о том, чему они подверглись. Несчастные сборщики узнают, что если они подати не доставят, то, сами подвергнутся бичеванию. Тогда они, не имея нужного количества золота и серебра, со слезами продают своих рабынь и рабов, которые тщетно обнимают колени продающего их хозяина. Затем сборщики приезжают в свои поместья с целью продать их, и с ними приезжают покупатели. И цена за землю идёт на уплату податей. Затем наступает для сборщиков забота о пропитании себя, жены, детей, и наконец, когда нет уже более никаких возможностей, они вынуждены просить милостыню. Так, сенатор (член городского совета) вычёркивается из списков по причине отсутствия имущества. Вот почему тают городские советы, вот что является бедствием для городов, а вред, причиняемый городам, пагубно отражается и на военных силах.
— Где же такие люди ищут защиту? — снова спросила Гонория.
— Я знаю одного сборщика, который, разорившись, ушёл в монахи-отшельники, — начал снова отвечать старик. — Живёт в пещере, и ранее, кто не платил ему подати, ругал его и унижал, теперь приходят к нему за словами утешения... Этих самых христианских отшельников развелось в наших краях много. И народ с благоговением к ним относится.
Раньше римское общество строилось на подчинении личного начала общественному, гражданина — государству... Сейчас всё наоборот: рвут государство в своих личных интересах на части. Теперь высочайшим идеалом человека в народном представлении, думала Гонория, стал отшельник, полный презрения ко всему земному и погруженный в религиозное созерцание; стали такими идеалами банкир и торговец (коммерсант, от латинского слова — commercium). Эти идеалы пришли на смену древнему идеалу самозабвенного героя-патриота, готового пожертвовать жизнью на благо своей родины.
V
К человеку, умирающему в одиночестве в степи, горах или лесу, обязательно прилетят или прибегут хищники: будь то грифы или шакалы... Они могут появиться со всех сторон света: с запада, востока, севера и юга.
Сядут рядом и будут наблюдать за предсмертной агонией, чтобы потом пожрать труп.
Великая Римская империя агонизировала долго и медленно, пока с севера не пришли к её умирающему телу готы, с юга — вандалы, с востока — гунны. Существует в природе закон, что хищники-стервятники чуют на расстоянии не только сам распад, но и его зарождение... Ведь великие просторы Прибалтики, южного Прибайкалья и Урала так далеко находились от Рима, что казалось, пройдёт не одно тысячелетие, прежде чем они (готы, гунны, вандалы и римляне) хоть что-то узнают друг о друге. А прошло два столетия, и как только появились первые признаки гниения могущественной империи, то дикие полчища ринулись многочисленной ордой на запад, сметая всё на своём пути, устремляясь к бедному Риму, погрязшему в разврате и коррупции. Последнее слово тоже латинского происхождения, оно, означающее подкуп и порчу, уже было известно с тех пор, как родился из греческою латинский язык, а затем это слово с успехом перекочевало и в русский. Ибо под коррупцией мы понимаем ещё и распад, разложение умирающего тела, собственно то, что наблюдается сегодня в России.
И ещё одна закономерность существует в природе — зарождение распада и гниения происходит на стыке смены богов: в Римской империи — это время смены язычества на христианство, а в России — когда веру Христа заменил атеизм. Ибо отрицание всех религий тоже религия. К слову сказать, в России безбожники, придя в начале XX века к власти, устроили кровавую гражданскую войну, когда, ненавидя православный народ, они натравливали брата на брата, сына на отца, и потом эти же безбожники мучили и разоряли россиян весь век двадцатый.
А нашествие варваров и гуннов, как осенние листья, поднятые ветром, вначале шелестом отозвалось в сумрачных покоях королевских домов. Затем прозвучало звоном монет, падающих на мраморный пол... И вскоре грохнуло каменным обвалом, что повлекло за собой так называемое Великое переселение народов (в их числе — славянские племена венедов и склавенов), которое привело в конечном итоге Рим к гибели...
Размышляя на эту тему, можно прийти к, может быть, спорному, но весьма любопытному выводу — недоброе, а точнее, настороженное и недоверчивое отношение к нам Европы есть следствие не только экономических условий, а и той «кровной» обиды, возникшей очень давно, ещё в конце IV — в начале V веков, когда мы не только не защитили её (Европу), как это произошло во время нашествия Батыя, но более того, вместе с дикими племенами, пришедши ми из-за Рифейских гор[34], приняли участие в разрушении западных цивилизаций.
В сознании европейского обывателя, в его потомственных генах славяне так и остались такими же варварами и гуннами, предводители которых были куда могущественнее и грознее, чем Батый; готские писатели происхождение, например, гуннов на полном серьёзе объясняли рождением их от ведьм, вступивших в брак с нечистыми духами...
«Они (гунны), — далее рассказывали готские писатели, — когда родятся у них дети мужского пола, то взрезывают им щёки, чтобы уничтожить всякий зародыш волоса. Однако, у всех у них коренастый стан, шея толстая, члены сильные, голова большая. Скорее это двуногие животные, а не люди, или каменные столбы, грубо вытесанные в образе человека; на своих лошадях, нескладных, но крепких, они точно прикованы и справляют на них всякого рода дела. Начиная битву, они (гунны) разделяются на отряды и, поднимая ужасный крик, бросаются на врага. Рассыпавшись или соединившись, они нападают и отступают с быстротой молнии.
Но вот что особенно делает их наистрашнейшими воинами на свете, это, во-первых, их меткие удары стрелами хотя бы и на далёком расстоянии, а во-вторых, когда в схватке один на один дерутся мечами, они с необыкновенной ловкостью в одно мгновение накидывают на противника ремень и тем лишают его всякого движения...»
Продвигаясь от Уральских гор, гунны натолкнулись на так называемые Змиевы валы, которыми росоманы, живущие по берегам реки Рось, впадающую в Днепр-Славутич, отгородили свои границы, протяжённостью 670 римских миль[35].
Несколько раз враги пытались взять валы приступом, но так и не смогли это сделать и, наконец оставив их в покое, ринулись дальше на запад, прихватив с собой с нижнего течения Вара (так гунны назвали Днепр) славянские племена склавенов, а с северных склонов Карпат — венедов, и достигли реки Прут. Здесь сидел храбрый готский король Винитар, из рода Амалов, по прозванию Витязь, или Воитель венедов (Wind-havi). После гибели Германариха он яростно защищал готскую независимость от других славянских племён — антов.
Предводитель гуннов Ругилас знал о суровом нраве Винитара: рассказывали, как готский король в одной из вылазок захватил вождя антов Божа и, чтобы навести ужас на врагов, распял его вместе с сыновьями и семьюдесятью старейшинами на крестах.
Ругилас был не робкого десятка — он смело напал на Винитара, но готский король устроил такую ужасную резню в войске гуннов, которую невозможно вообразить... Гунны напали во второй раз, и в другой раз Винитар выиграл битву.
В третий раз готы и гунны сошлись возле реки Прут. Меткая стрела Ругиласа сразила короля готов, витязя Винитара. Победив, царь гуннов взял в жёны молоденькую племянницу Винитара Валадамарку, которая потом досталась после смерти Ругиласа Бледе, одному из двух племянников. Другого звали Аттила...
Пока ехала, качаясь в повозке, молодая Августа, беглянка из Равенны, к отцу своего возлюбленного в Рим, она и знать не знала, кто такой Аттила, но придёт время (через 14 лет!), и оно так закрутит Гонорию и будущего грозного повелителя гуннов в водовороте исторических событий, что их имена на протяжении нескольких лет будут восприниматься как одно целое.
У каждого римлянина в доме находился сундук, в котором хранился запас грецких орехов. Детям они служили вместо игрушек, но шло время, дети становились подростками, и наступала пора жениться им или выходить замуж[36]. Вот тогда они выходили на улицу и раздавали орехи всем желающим: взрослые лакомились ими особенно охотно, так как, по поверью, грецкие орехи сохраняли уходящую молодость...
Ореховые деревья сажали сами, за ними ухаживали, собирали урожай, но по всей Италии в те времена росли целые рощи диких, и крона этих деревьев была настолько густа, что только сильный ливень способен её пробить.
Такой ливень и ударил, ибо все эти дни небо оставалось ясным, но солнце палило нещадно, испаряло с земли воду: на небе собрались наконец-то тёмные тучи, и они пролились...
Сидящего на козлах Радогаста словно выкупали в реке, ни одной сухой нитки не оказалось в его одежде; через плетёнку верха повозки вскоре протекло. Тут слева от дороги увиделась дикая роща ореховых деревьев. Недолго думая, ант свернул в неё, меньшая часть повозок последовала за ним, а большая в другую рощу — буковую.
Пока заехали, пока выбрали нужное дерево, ибо под кроной не просто было разместиться, так как она низко над землёй начиналась, прошло немало времени: сгустилась темнота, и Гонория, Джамна и Радогаст решили переночевать здесь.
Ореховые деревья стоят редко — шагов на тридцать одно от другого. Но между ними нет пустого места — произрастают яблони, сливы, боярышник, шиповник, ежевика; их ветви хорошо задерживают ветер — здесь хорошо устраивать ночлег ещё и потому, что вокруг орехового дерева нет ни одного грубого сорняка, так как падающие с дерева листья выделяют вещество, называемое по-латински «югланс», которое и переводится как «орех», уничтожающее всякие вредные растения.
Сам по себе орех высок и не уступает иной раз по высоте лучшей сосне, но ствол его не имеет сосновой стройности, — наоборот, может внезапно утолщаться, будто перевязанный тугим узлом.
Утром выехали, но заблудились в густых зарослях, попали, оказавшись одни, в какую-то длинную лощину, и здесь на них напали разбойники.
Тогда водилось их повсюду премножество, и ряды грабителей и губителей душ человеческих постоянно пополняли разорившиеся колоны, те же «прогоревшие» сборщики податей, беглые рабы, другие же, настроенные романтически, множили корабельные команды морских пиратов — эти другие состояли в основном из писателей, поэтов и философов, ставших вдруг ненужными властям и изгнанных ими из городов.
Радогаст на краю лощины увидел вначале высунутую из-за ствола дерева руку с коротким мечом, будто кто погрозил, а затем всего разбойника. Он крикнул анту, чтобы остановился. Лощина была длинной, глубокой, она скорее походила на яруг — овраг или большую промоину, с пологими склонами, густо поросшими маквисом[37].
Радогаст и ещё узрел стоящих впереди по краям лощины трёх вооружённых мечами; эти трое не прятались, не опасаясь никого и ничего.
«Развернуть лошадей нельзя... Внизу слишком узко. Остаётся одно — разогнать повозку, проломиться через суеты и — вперёд!» — лихорадочно заработала мысль у анта. — А если у них луки?! Но хорошо уже то, что разбойники пешие и, кажется, не так их и много. Вон ещё один показался... Неужели только пятеро?! Остановлюсь и подожду...»
Радогаст натянул вожжи. Джамна и Гонория, видимо, тоже увидели разбойников, потому как притихли. Ант крикнул им, чтобы они легли на самое дно повозки.
Трое, стоявшие кучкой, рассредоточились. Теперь они находились шагах в двадцати друг от друга.
«Я их по очереди снимать буду... Хорошо, что не зачехлил утром лук, а стрелы лежат рядышком». Радогаст выхватил лук, послал стрелу, — разбойник, что был ближе к повозке, взмахнув руками, упал. Ант следом послал другую, сразив и ещё одного... Третий, подпрыгивая, побежал, но не успел он сделать нескольких прыжков, как стрела точно впилась ему в шею. Оставшиеся два разбойника заорали и, не сговариваясь, подняв кверху мечи, ринулись вниз, проламываясь через кусты маквиса. Разбойники должны были обязательно сблизиться с возницей, который стрелял из лука как отменный воин, бежать от него они не могли — их бы тоже настигли меткие стрелы: надо сблизиться с ним и вынудить его сразиться на мечах.
Радогаст выхватил акинак, подаренный ему Евгением, и спрыгнул на землю. Его счастье, что это были не воины-профессионалы, коих бы ему не одолеть ни за что; ант, извернувшись, рубанул по голове одного, не очень расторопного, или бывшего колона, или раба, — тот с раскроенным черепом упал возле колеса, да ещё сильно ударился о бортовые доски повозки.
Джамна не вытерпела и подняла голову, но поняла, что после того, как ант покинул сиденье, нужно срочно занять его, иначе перепуганные лошади могут понести. Она пересела и взяла в руки вожжи.
А тем временем ант и огромного роста разбойник сошлись в поединке. Как ни у одного, так и у другого не было щитов, то приходилось отражать удары и наносить их только оружием. Радогаст умело наступал, будто вою жизнь тем и занимался, что участвовал в сражениях или гладиаторских боях...
Но и верзила не уступал анту, он зорко следил за каждым движением противника, стараясь предугадать все его хитрости. Более того, разбойник решил от обороны перейти в наступление — сделал выпад, но Радогаст с быстротой молнии ушёл всем телом влево и кончиком лезвия акинака полоснул по плечу верзилы, — тот взревел от боли, как бык, которого на скотном дворе ударили в лоб колуном.
Джамна, засмотревшись на бой, ослабила вожжи, расслабилась и сама, — лошади, вконец испуганные страшным криком, дёрнули вбок: рабыня слетела с козел, а животные как сумасшедшие рванули повозку, в которой сидела ни жива ни мертва Гонория, и вынеслись наверх, на край лощины. Далее, гремя колёсами, повозка скрылась.
Джамна, преодолевая боль в руке, встала и побежала; миновав кустарники, она нашла только одну, запутанную в привязных к дышлу ремнях лошадь, другая, порвав их, убежала. Джамна бросилась к повозке, которая лежала чуть на боку, уткнувшись передком в землю, так как колесо сломалось, натолкнувшись на дерево. Слава Богу, Гонория не ушиблась!
Джамна помогла ей выбраться наружу, потом успокоила подрагивающую боками лошадь, велела госпоже подождать здесь и снова спустилась в лощину.
Там она нашла лежащих без движения Радогаста и разбойника. Ант дышал, но на груди у него зияла рана. Из неё лилась кровь, а верзила оказался мёртв. Видимо, в последнем усилии они одновременно сильно ударили друг друга: ант убил противника, а тот его тяжело ранил...
Джамна, как сумела, перевязала раба, чтобы остановить кровь; тот находился в бессознательном состоянии. Девушка поднялась, стёрла со лба пот, оглянулась, оценив обстановку: наверху рядом с поломанной повозкой и одной оставшейся лошадью находится до смерти напуганная и неспособная к действиям госпожа, а на дне лощины лежит тяжелораненый ант... Но ей-то, здравомыслящей, надо что-то предпринимать! Джамна попробовала Радогаста потащить: она взяла за локти, но удалось лишь сдвинуть его с места... Положила снова на землю и вернулась к госпоже. Та, уткнув голову в руки, сидела на траве, ко всему безучастная; единственное, что оставалось рабыне, выйти на дорогу и попросить помощи.
Вскоре на дороге показался странный фургон с огромным чёрным верхом; сбоку бежал такой же чёрный, как верх фургона, привязанный верёвкой козёл; правил лошадьми старик с большой, тоже чёрной бородой. Увидев на обочине дороги чем-то встревоженную чернокожую девушку, остановил фургон. Из него тут же высунулась женщина, и показались два мужских лица.
— Что случилось, отец? — спросила женщина.
— Сейчас узнаю, — ответил старик.
Джамна, сбиваясь, со второго на третье, как могла, объяснила, что произошло, и старик в знак сочувствия покачал головой.
— Взбирайся ко мне, — сказал он Джамне. — Показывай, куда сворачивать...
Двое мужчин из фургона (а это были сын и зять старика) принесли со дна лощины так и не пришедшего в себя Радогаста, выпутали из ремней лошадь, привязали её, как и козла, к фургону, внутрь положили раненого, и старикова дочь, достав с полки какие-то мази, занялась им.
— Она у нас умелица! Сын и зять на потеху площадной публике, изображая гладиаторские бои, иной раз наносят себе серьёзные раны, и она их врачует вмиг. Думаю, дочь, помолясь Афродите, и вашего человека вылечит... Мы бродячие актёры. А вы куда ехали?
— В Рим.
— Ездили в Анкону на поклонение Изиде? — расспрашивал старик.
— Да, — соврала Джамна, так как вела разговор только она — молодая Августа никак ещё не могла оправиться от пережитого. Старик, усмехнувшись, указал на Гонорию: — Пусть твоя госпожа в фургон залезает... А ты, бойкая, садись рядом, всё мне веселее будет...
«Госпожа слышала, что я сказала... Значит, и она, если что, станет говорить, что мы ездили в Анкону поклониться Изиде...» — подумала Джамна и попросила сына старика перенести из повозки вещи. Затем опять легко вспорхнула на козлы, усаживаясь рядом со стариком. Вскоре фургон тронулся. Он, как и их оставленная на краю лощины повозка, тоже наглухо закрыт сзади; сейчас спереди полог был откинут, и Джамна, иногда оглядываясь, видела, как дочь старика возилась с раной Радогаста, а ей помогал муж. Сын старика что-то говорил Гонории, начинавшей, кажется, приходить в себя.
Джамна стала приглядываться к старику. «Для римлянина слишком он череп... Неужели раб, если судить по бороде и по тому, что не носит тоги?![38] Тогда и дети его тоже рабы...» Пригрело солнце, и старик снял головной убор, похожий на колпак.
И тут Джамна улыбнулась — у старика была наголо обрита голова.
«Значит, он стоик, киник, философ[39]... Как Диоген».
Старый мудрец всё понял:
— Думала, что я раб, моя милая...
— Борода, вместо тоги — лацерна[40].
— Да, ты права. Но был рабом, и вот уже тридцать лет, как мне сделали поворот[41]... Так что дети мои родились свободными. Хотя все люди рабы, один мудрец свободен[42]... Но дети мои стали жалкими потешниками, как и их мать, которая умерла. А я им вместо возницы, но, если надо, могу сплясать Циклопа[43]...
Джамна почувствовала, что кто-то тронул её рукой за плечо. Потом рука соскользнула вниз, легла на полуобнажённую правую грудь, рабыня дико вскрикнула, так как увидела, что рука вся густо заросла шерстью...
— А ну, негодница, прыгай обратно в фургон! — приказал старик вылезшей оттуда обезьяне. — Не пугайся, моя милая, — обратился к девушке. — Это наша обезьяна по имени Галла Плацидия... Вместе с козлом она представляет номер: «Императрица Плацидия верхом на своём очередном любовнике». Публика умирает с хохоту и бросает им дешёвые плоды.
Джамна громко рассмеялась, засмеялась и Гонория... Старик недоумённо пожал плечами: «С чего это женщины, не видевшие этот номер, вдруг развеселились?..»
— Сейчас, говорят, у неё новый любовник — смотритель дворца Евгений Октавиан... — продолжил говорить старик.
— Неправда это, — подала голос Гонория.
— Согласен... Я знаю, что его отправили на борьбу с пиратами, а любовники живут при дворе... И ещё говорят, что с ним сбежала и Гонория, дочь Плацидии. Но проверили корабль, на котором плыл препозит, а Гонорию не обнаружили...
Джамна при сих словах не смела даже обернуться и посмотреть на госпожу, чтобы ненароком выдать себя и Гонорию. Поэтому умница-рабыня повернула разговор на другую тему. Спросила старика:
— А ты, как и я, из другой страны будешь?
— Из Греции, моя милая. Продали меня сюда, в Гесперию[44], ещё мальчишкой. Хорошо служил хозяину, получил свободу. Верю в богиню, у которой три имени: Афродита — Урания — Анадиомена... И дети мои тоже верят в неё, зять...
— Значит, как и мы, вы тоже язычники, — снова соврала Джамна и, повысив голос, чтобы хорошо слышала Гонория, сказала: — Моя госпожа владеет в Риме несколькими инсулами...
— Нам приходилось в них жить. Крысы там бегают размером с кошку.
— Только не в моих инсулах, — поддержала игру Джамны Гонория.
— Тише, тише, — предупредила дочь старика. — Мы перевязали раненого, и он уснул... Пойдёт на поправку.
Встретились крестьянские телеги, в которые были впряжены быки; у некоторых на рогах привязано сено.
— Вишь, как бодливых отмечают... Чтоб люди не подходили к ним. Я бы чиновникам, которых нужно опасаться, ко лбу тоже что-нибудь привязывал, чтоб таких обходили. Да разве их стороной обойдёшь?!
Гонории к вечеру показалось душно в фургоне, да во сне стонал Радогаст. Попросилась наружу, и Джамна уступила ей место.
Помолчав, старик сказал:
— По имени я, госпожа, Хармид. Дочь моя Трифена, муж её Полемон, сын Филострат. Он ещё эфеб... — Увидев на лице римлянки удивление, пояснил: — По-эллински значит молодой гражданин от восемнадцати до двадцати лет. Ему девятнадцать.
— А я Дорида, — громко, чтобы тоже слышала Джамна, сказала Гонория. — Рабыню мою зовут Джамной, раба из Скифии[45] — Радогастом.
— Почему, милая моя, ездишь одна, без мужа?
— Нет у меня его... Вернее, был... Мы разошлись.
— О, нравы, нравы! Был, да сплыл... — улыбнулся старик. — А ты, госпожа Дорида, когда-нибудь страстно любила? — спросил Хармид без всяких обиняков.
Но Гонория восприняла этот вопрос как должное.
— Не только любила, но и люблю. У меня есть жених...
— Какой я дурак, моя милая!.. Надо было вначале всмотреться в твои глаза и разглядеть в них «любовные огоньки», можно было бы и не спрашивать.
— Но раз ты спросил, я и ответила...
— Да... И страдала, наверное?
— И страдаю...
— Я ведь тоже страстно любил их мать. — Хармид кивнул на фургон. — И сильно страдал оттого, что возлюбленная, ставшая моей женой, изменяла мне... Дети, конечно, не догадывались об этом.
— А где она сейчас?
— Я похоронил её в Сицилии. Она была родом оттуда.
— Как это печально, Хармид!
— Да, моя милая... Так же, как в элегиях поэта Проперция о своей любви к красавице Кинфии и её измене... Я хоть и грек, а хорошо знаю римских поэтов.
— Но, по словам Апулея, имя возлюбленной Проперция было Гостия...
— Проперций вначале пишет о счастье любить и победу свою над красавицей ставит выше победы принцепса[46] Августа над парфянами...
Эта победа моя мне ценнее парфянской победы,
Вот где трофей, где цари, где колесница моя.
— Да, но не забывай, Хармид, что Август обидел семью Проперция. Он у отца поэта отобрал в пользу ветеранов часть его земли.
— Это ничего не значит, моя милая, ведь стихи Проперция говорят о его страстной любви, а не об отношении к Августу... Хотя далее поэт в своих элегиях осуждает современное ему общество, где царит алчность и отсутствуют честь, права и добрые нравы.
— Ты имеешь в виду эти вот строки:
Ныне же храмы стоят разрушаясь, в покинутых рощах.
Всё, благочестье презрев, только лишь золото чтут.
Золотом изгнана честь, продаётся за золото право.
Золоту служит закон, стыд о законе забыв.
— Ты, моя милая, носишь на своих плечах умную головку.
Гонория громко рассмеялась; к тому же ей нравилось и забавляло обращение к ней чернобородого философа, выраженное в словах «моя милая»...
— Но потом Проперций, избавившись от душевных страданий и боли, вызванных изменой Кинфии, или Гостии, начинает безудержно хвалить Августа, особенно его победу при Акциуме...
— Человек всё же слаб, госпожа... Не забывай, что Сократа казнили, присудив ему самому выпить яд за ту же критику нравов...
— Но Проперций мог же поступить, как Сократ?
— Значит, не мог... Во времена Сократа жили герои, сейчас только золоту служат, «стыд о законе забыв»...
— Наверное, ты прав... — задумчиво промолвила Гонория, вспомнив, что именно так подумала сама после беседы на ночлеге со старым колоном. — Ты молодец, Хармид...
— Если судить по соломе... Может быть, и был молодец...
Я лишь солома теперь, во соломе, однако, и прежний.
Колос легко распознаешь ты; ныне ж я бедный бродяга[47].
Когда устраивалась в фургоне на ночь Гонория, она нечаянно задела ногу раненого, и тот, слегка пошевелившись, произнёс какие то слова. Молодая Августа и Джамна не на шутку испугались: а вдруг Радогаст начнёт бредить и выдаст их и себя?!
Ант снова что-то сказал. Если он и в самом деле бредил, то говорил, слава Богу, на своём языке.
Гонория и Джамна успокоились, да ещё гречанка Трифена сказала:
— Не бойтесь, жара у него нет и не будет. Так хорошо действуют на больного целительные мази...
И впрямь уже на следующий день ант открыл глаза, а ещё через день смог подняться. И стат заметно набирать силы.
Джамна заранее успела шепнуть, как по-новому зовут их госпожу и что она владелица нескольких инсул в Риме и ездила в Анкону на поклонение богине Изиде...
— Понятно, — протянул догадливый раб. — А греки, значит, потешники... Я, грешным делом, любил бывать на форумах и глядеть на них. Забавные люди.
— Ты только со стариком говори поменее... Он человека с первого раза насквозь видит, — предупредила Джамна.
— Да ничего, мы тоже не лыком шиты.
— Как это?
— А так... В Риме сандалии из ремней делают, у меня на родине примерно такую же обувку плетут из лыка, то есть из внутренней части коры липы. Дерево такое растёт у нас — липа... Получается самая простая обувка. Самая простая... А я не прост. Значит, не лыком шит...
Джамна засмеялась:
— Старику при случае об этом скажи. Он любит всякие премудрости... Философ, — с уважением заключила рабыня.
Обычно римские некрополи располагались вдоль дорог, там «кого пепел зарыт...», как выразился поэт Ювенал. И эти некрополи выглядят скорее произведениями архитектурного искусства. Нельзя было проехать мимо, чтобы не остановиться.
По пути из Анконы беглецы уже однажды пересекали знаменитую Фламиниеву дорогу, но тогда им и в голову бы не пришло рассматривать встретившиеся им гробницы.
Другое дело сейчас, когда на козлах фургона сидел старик философ, ко всему любопытный: он и остановил лошадей и пригласил желающих посетить обиталище мёртвых...
Компанию ему составили Джамна и сын. Радогаст хотел было пойти тоже с ними, но его остановила дочь старика.
Хармид приблизился к небольшому надгробью и прочитал:
Был я законом лишён свободы, мне, юноше, должной.
Смертью безвременной мне вольность навеки дана.
И тут вышел конфуз... Джамна перечитала сама эту эпитафию на смерть раба по имени Нарцисс, который прожил всего двадцать пять лет, и слёзы выступили у неё на глазах: столько печали и трагизма содержалось в этих строках! И так они были созвучны её судьбе, что Джамна не выдержала и заплакала. Обрела свободу, а затем снова потеряла её. Неужели только смерть даст ей, как Нарциссу, вольность навеки?
— Успокойся, моя милая... Успокойся... — гладил рукой старик по её вздрагивающему плечу. — Я вот возьму и скажу твоей госпоже, чтоб дала она тебе свободу... Хочешь?
— Нет, не надо, Хормид... Она сама обещала, — соврала девушка. — Спасибо тебе, добрый человек, ниспосланный нам богами... Век буду о тебе помнить. И о сыне твоём, и дочери, и о муже её!
— Вот что... Вы лучше приходите к нам на представление. С госпожой вместе. И с Радогастом, когда он совсем поправится...
— Непременно придём, — врала далее девушка и верила в то, что сейчас говорила.
— Отец, Джамна! — воскликнул Филострат. — Смотрите, какой усталостью веет от эпитафии другого раба...
Хармид и девушка подошли к другому надгробию. На нём вначале сообщалось, что этот человек, захороненный здесь, благополучно прошёл свой жизненный путь и соорудил себе надгробие при жизни (хотя у древних римлян это было в обычае, так как, по их представлениям, самое страшное несчастье для человека — остаться непогребённым). Далее говорилось:
«Гай Юлий Мигдоний, родом парфянин, рождён свободным, захвачен в плен во взрослом возрасте и привезён на римскую территорию. Когда он благодаря судьбе сделался римским гражданином, то соорудил себе гробницу, имея 50 лет от роду. Я старался пройти весь путь жизни от зрелости до старости; теперь прими меня, камень, охотно; с тобой я буду свободен от забот».
— Видимо, этот раб и был завезён после победы Августа над парфянами, о которой писал Проперций. Мы говорили об этом с твоей госпожой, моя милая... — обратился старик к девушке. — Здесь похоронены рабы и вольноотпущенники. А я видел в Риме настоящие мраморные пирамиды, в которых погребены люди состоятельные. Помню мавзолей Эврисака, булочника... Он по поручению государства выпекал хлеб для раздачи его неимущим римским гражданам. Эврисак гордился своим делом, так как соорудил мавзолей в виде хлебной корзины. А поверху мавзолея был показан весь процесс выпечки: на муллах привозят зерно, перемалывают его в муку, месят тесто, пекут хлеб, и продавец в лавке продаёт или выдаёт его людям.
На уровне ниже середины пирамиды на всех четырёх стенах сделаны надписи, гласящие, что эта гробница принадлежит Марку Вергилию Эврисаку. На одной стене — мраморные горельефы[48] самого булочника и его жены Атиссии, которая умерла раньше своего мужа.
— А вот и ещё надгробье. Прочитаем на нём эпитафию и уйдём, — сказал старик. — Читай, сын, ибо скоро ты тоже должен сделать и мне надгробие...
Филострат громко продекламировал, как умел он это делать на публике:
Кто мы? О чём говорить? Да и жизнь наша что же такое?
С нами вот жил человек, а вот и нет человека.
Камень стоит, и на нём только имя. Следов не осталось.
Что же, не призрак ли жизнь? Выведывать, право, не стоит.
Как ни боялись Гонория и Джамна Фламиниевой дороги, но фургон за несколько десятков миль до Рима свернул на неё. Не скажешь же старику, почему это для них опасно... Всё же Джамна попросила Хармида спрятать их троих, как будут въезжать в городские ворота; во избежании якобы всяких недоразумений — едут-то они в цирковом фургоне и мало ли что о госпоже могут подумать?! А в вещах, которых полно в фургоне, можно легко зарыться... Слова Джамны старика не совсем убедили, но он согласился провезти всех троих незаметно. «Для своего же блага!» — поразмыслив, решил Хармид.
Стража, увидев цирковой фургон, особенно не была придирчивой; начальник, заглянувший внутрь и узревший обезьяну, которая скорчила ему рожу, зло крикнул старику:
— Проезжай, проезжай!.. Не задерживай!
Наступил вечер, а когда выехали на Священную дорогу — центральную улицу Рима, ведущую с востока к Форуму, где старик решил остановиться и дать там несколько представлений, стало уже темно... Но Джамна и Гонория, заплатив старику и отдав ему ещё лошадь, попросила отвезти их на Капитолийский холм, туда, где стоял дом отца Евгения Октавиана.
VI
Кальвисий Тулл и не думал уезжать из Рима, хотя после юбилея Клавдия Октавиана уже прошло двадцать дней. Себрий Флакк уехал в Равенну сразу же на третий или четвёртый день — он ещё служил, и его ждали дела. А Кальвисий и его римский друг — вольные птицы, да и жён нет, одни любвеобильные служанки. А сыновья воюют.... Пока Кальвисий находится у друга в Риме, он тем самым отвлекается от мыслей о сыне, отвлекает и друга от дум по-своему... Как они там, на море, что с ними?
Сколько ни беспокойся, сколько ни задавай себе дурацких вопросов, этим им не поможешь, не ободришь, хотя оба бывших сенатора верили в силу внушения на расстоянии.
К вечеру, слегка перегруженные вином, они посетили тепидарий[49], а оттуда — комнату для растирания, называемую ункторием.
После того как бальнеатры — рабы-массажисты — промяли тела бывших сенаторов, головы у них посветлели, ибо кровь веселее побежала по жилам. По приезде домой они сразу пошли не в столовую, а в элеотезий — помещение для умащения, которое Клавдий расположил рядом с лаларием[50].
В элеотезии за тела друзей принялись их любимые служанки; Клавдий предложил Кальвисию целый букет умаслительниц, состоящий из рабынь-нумидиек, но тот отклонил это предложение.
— Нет-нет! Они напоминают мне жирных кур нумидийских.
— Полно врать, Кальвисий... Посмотри, какие гибкие у них тела, словно точёные фигурки из эбенового дерева!.. Хорошо... Тогда над тобой могут похлопотать фригийки.
— Я предпочитаю своих рабынь, — стоял на своём Кальвисий.
Когда они из элеотезия теперь свернули в столовую, то Кальвисий уж который раз восхитился лаларием Клавдия:
— А ведь моих ларов в Равенне приказали выкинуть из дома... И подумать только, кто приказал!.. Ничтожный евнух, бывший александрийский раб... Антоний. Зверь с пустой мошонкой, злой гений, ибо сумел взять Плацидию обеими руками и крутит ею, как хочет... Мне он сказал, чтобы я поклонялся Единому Богу... Во дворце, друг мой Клавдий, все подражают Плацидии, все до одного поменяли веру, которую она восприняла от варвара-мужа... Называются христианами, а ведут себя хуже всяких скотов... Я не хотел говорить тебе, но сейчас... И Себрий Тулл, друг наш, тоже примеривается к новой религии, в последнее время всё меньше и меньше стал доверять ему... Охлаждение моё он почувствовал. Меня и это, кроме судьбы наших сыновей, тоже волнует... Пойдём перед ларом-спасителем затеплим огонёк и помолимся за твоею Евгения и моею Рутилия...
— Помилуй, Кальвисий, они же христиане...
— Не забывай, что они ариане... А ариане такие же христиане, как мы с тобой — племенные жеребцы... — грубовато, чтобы скрыть своё душевное волнение, сказал Кальвисий.
— Я ещё не жалуюсь, мой драгоценный друг... Служанка очень даже мой довольна.
— Не обольщайся. После того как заснёшь, не спускается ли она на половину рабов-массажистов?.. Проверь... Ладно, ладно, я пошутил, — увидев нахмуренное чело друга, проговорил Кальвисий и положил примирительно ему на плечо руку. — Идём на крышу, полюбуемся звёздным небом.
Далее Кальвисий, усаживаясь на скамейку, продолжал говорить:
— Не знаю, правда ли, что христианский Бог живёт на небе, а наши присутствуют везде... Дыханием своим они согревают окружающий нас мир, пробуждают к жизни на небе звёзды, что мигают нам лучами, заставляют играть красками утренние и вечерние зори, по велению богов восходит солнце и наступает ночь... Если захочет Венера, то пошлёт нам красоту и любовь. А грозный Юпитер спалит души дотла и превратит в пепел наши дома... При дворе все говорят о Едином Вездесущем Боге... Да разве может он один управиться со всем?.. Нет и ещё раз — нет! Лары я сохранил, но прячу всякий раз, когда кто-нибудь, кому я не доверяю, заходит ко мне из дворца...
— Слушай, Кальвисий, перебирайся сюда, в этот разграбленный Рим, но здесь пока оживём мы по законам свободы...
— Я думал об этом, Клавдий, подумаю ещё раз.
Кальвисий подошёл к бортику крыши, взглянул влево от себя и узрил в отблесках полыхающих факелов знаменитую колонну Траяна. Она высоко вознеслась[51] и словно вонзилась в звёздное небо, омытая его холодным царственным светом. Она стояла как символ победы человеческого духа...
— Клавдий, я вчера стоял у этой колонны и изучал на ней изображения. Ведь что интересно, скульптор-художник высек по спирали не отдельные эпизоды войны, а целую войну... На четырёхстах квадратных локтях мрамора... Это же грандиозная была идея — дать зрительное представление о всей войне, и эта идея не имеет себе равных по масштабам и воплощению... Египетские фараоны также стремились запечатлеть свои победы, но там лишь часть её, а тут она вся — от перехода наших войск через Истр[52] по мосту из кораблей до самоубийства царя даков Децебала[53]. И с какой точностью воспроизведено наше оружие и оружие противника! Больше того, художник стремился передать далее чувства людей...
Вот вначале изображён поднимающийся из волн, полуобнажённый старик. Он смотрит вослед легионерам. Это божество реки Истр. В глазах божества тревога и ожидание. Оно ещё не знает, чем кончится эта война...
А в заключительной сцене рельефа рядом с упавшим с коня Децебалом художник изобразил дерево — символ дикой, заросшей лесами Дакии, которую так страстно и самозабвенно защищали царь и его народ...
И я подумал тогда, что в этой войне не было побеждённых... Римляне во главе с императором Траяном захватили территорию даков, но не взяли в плен их души...
Может быть, в этом и есть назначение колонны Траяна — воспеть гимн не императору, а стоическому человеческому духу.
— Друг мой Кальвисий, ты, наверное, прав... Хотя стоиков в наше время всё меньше и меньше, их сейчас можно скорее встретить среди простого народа, нежели, как раньше, среди учёных...
— Тише, тише! — поднял кверху руку Клавдий. — Кажется, к дому подъехала повозка... А ну, посмотри ещё раз с бортика.
— Точно, остановился цирковой фургон. Вижу привязанного к нему козла... Какой-то бородатый старик в колпаке помогает выбираться двум женщинам; следом за ними тихо спускается на мостовую юноша с мешком за плечами... Вот они прощаются с бородатым человеком — тот садится и трогает лошадей...
И тут до слуха Клавдия явственно донеслось:
— Кажется, этот дом, Джамна... Мне хорошо обрисовал его Евгений, и детали сходятся...
«Евгений!.. Да это же мой сын! И почему каким-то цирковым бродяжкам он говорил о нашем доме?» — разом промелькнуло в голове бывшего сенатора.
Кальвисий и Клавдий поспешили вниз, так как уже стучали медным кольцом в наружную дверь атриума.
У евнуха Антония как корникулярия императрицы все нити розыска её дочери были сосредоточены в его руках: это он рассылал во все концы тайных секретарей, но до сих пор от них приходили весьма неопределённые и неутешительные вести — Гонория как в воду канула...
Но особенно вызывало в нём глухое раздражение, порой переходящее в яростный гнев, поведение чернокожей рабыни. Он мог понять, что Джамна по приказу госпожи последовала за нею, но ведь должна же она была по старой дружбе как-то предупредить его... «Чёрная стерва!.. Обугленная головешка!» — ругал её про себя.
Антоний, хотя и ведал — никакая она не чёрная головешка: кожа у неё финикового цвета, гладкая и приятная на ощупь, — помнил, но ругал стервой. И по-своему был прав, ибо она обещала ему обо всём, что касаемо Гонории, докладывать.
«Может быть, не успела... Или не смогла: помешали какие-то непредвиденные обстоятельства...» — утешал себя Антоний. Надежда на то, что Джамна вот так бессовестно не могла его обмануть, тлела в его душе... Хотя он вращался в среде людей, которым совесть и честь не то чтобы были в тягость — этим людям они попросту мешают жить.
«Джамна не такая. У неё чистая душа. Очень честная девушка. Но уже прошло много времени, и если бы рабыня помнила о своих обязательствах передо мной, то непременно известила бы о своём и госпожи местонахождении... С ними, правда, ещё раб-славянин...»
Антоний славянам никогда не доверял и всегда опасался их. Хотя для этого у него не было особых причин... Просто эти люди для Антония были как бы с других, непонятных ему земель... Когда он поймает Гонорию, то, не церемонясь, прикажет отрубить рабу-славянину голову... И вся недолга! А что сделать с Джамной, Антоний ещё посмотрит...
«Поймает... Легко сказать, беглецов ещё надо обнаружить. Но я уверен, что Гонория сбежала с Евгением... Он вывез её в своей повозке из дворца... А дальше она скитается где-то сама... Я приказал перекрыть все дороги... Но что толку, если я не знаю и никто из секретарей не знает, в какую сторону Гонория наметила свой путь... — раздумывал наедине с собой Антоний. — Первое, что приходит мне в голову, что она должна отправиться на юг, где сможет потом встретиться с Октавианом. Там в каждом морском порту мои люди выслеживают её до сих пор... Кампания по преследованию пиратов заканчивается. К моему сожалению, у Евгения всё пока идёт хорошо... Часть мизенского флота благополучно сопроводили суда с зерном, а часть вместе с миопароной Рутилия, на которой находится Октавиан, шала пиратские корабли до самой их главной базы, расположенной в Сардинии, и разгромила её. Теперь надо ждать возвращения наших либурн и миопароны, а значит, необходимо усилить наблюдения по всем намеченным мною пунктам и ждать появления где-нибудь молодой Августы... Где-то она обязательно объявится.
А Галла Плацидия рвёт и мечет... Пора ехать в Рим, чтобы показать римскому народу молодую Августу и провести на Марсовом поле триумфальное шествие войск Аэция... Но Гонория ещё не обнаружена, следовательно, пока отменяется и триумфальное шествие... Замкнутый круг! А Плацидия не может дольше держать в Галлии войска в бездействии. Нужно подсказать императрице, чтобы она заняла полководца Аэция каким-нибудь делом, покудова мы эту чёртову дикарку с её рабами ищем... А ведь троица-то заметная! И первая, кто выдаёт их, это чернокожая Джамна... Могли ведь они направиться и в Рим к отцу Евгения — Клавдию Октавиану, кстати, у него был юбилей — шестьдесят лет бывшему сенатору и преторианцу исполнилось... Стражники, стоящие на всех городских воротах, тоже получили подробное описание внешности всех троих, а уж Джамну они не могут не заметить... Только в город такие не въезжали...
На юбилей в Рим, кажется, ездил Себрий Флакк. Кое о чём я расспрошу его... Пошлю за ним».
Ближе к полудню рабы принесли во дворец на носилках одетого в тогу с широкой пурпурной каймой, что носили сенаторы, Себрия Флакка.
— Я знаю, что ты ездил в Рим. — Евнух исподлобья и остро взглянул на сенатора, который вначале принял перед корникулярием вольную позу, отставив левую ногу, а правую руку заложил за складки одежды, откинув голову, как и подобает истинному патрицию. Но под колючим взглядом Антония Себрий отставленную ногу подобрал и голову слегка наклонил.
— Да, ездил, — нехотя произнёс Флакк, всё же недовольный тем, что бесцеремонно прервали его занятие греческим языком и заставили срочно явиться во дворец перед очи безродного евнуха.
«Безродного, но могущественного... — подумал Себрий и решил быть с ним почтительнее. — Неизвестно, что там у него...»
Далее Антоний спросил, кто ещё из гостей был у старого Октавиана, как проходило празднование дня рождения и не заметил ли он, Флакк, в доме ничего подозрительного...
«Как я не догадался сразу?! Значит, евнух подозревает, что в доме бывшего сенатора в Риме могут прятать молодую Августу, которую безуспешно ищут почти три недели...»
Себрий, глядя прямо в глаза Антонию, заявил, что не заметил ничего подозрительного, да и был он в гостях у Октавиана всего три дня, а потом уехал.
— Правда, оставался Кальвисий Тулл, — охотно доложил Себрий, и евнух, даже не скрывая, усмехнулся.
Хотя Себрий Флакк и считался другом Кальвисия, но они были слишком разными людьми, чтобы дружить бескорыстно. Кальвисий, несмотря на видимую мягкость своего характера, всегда использовал упрямое честолюбие Себрия в свою пользу... И об этом хорошо знал корникулярий.
Вообще-то, о придворных, окружавших его и Плацидию, евнух ведал, если не всё, то, по крайней мере, многое. Он хорошо изучил все их слабости и этим в нужный момент умел пользоваться. Антонию уже давно доложили, что Флакк, чтобы войти в ещё большее доверие к Плацидии, решил принять арианство. Поэтому евнух несколько прямолинейно спросил:
— Кальвисий, этот отпетый язычник всё ещё по-прежнему занимается развратом со своими рабынями?..
Самый подходящий ответ вдруг закрутился на языке Себрия: «Как и наша повелительница со своими рабами...», но, скромно опустив книзу очи, заметил:
— По-прежнему... Старый, но сильный ещё.
— Ничего, мы эту силушку ему поубавим! — пообещал Антоний, зная, что эти слова так и останутся между ним и Себрием и что Флакк об этом разговоре никому не скажет...
Когда выносили Себрия Флакка рабы из императорского дворца, сенатор всё же подумал, что по отношению к Кальвисию он совершает пусть не прямое, но косвенное предательство; поначалу это его слегка устыдило, но, вспомнив греческую поговорку, которую он недавно выучил, успокоился и улыбнулся: «В Риме каждый пьёт по-своему...»[54]
Выходец из Александрии евнух Антоний тоже знал эту греческую поговорку и давно сделал из неё определённый вывод. Он думал, что душа римлянина для него уже больше не является загадкой... Это касалось и самой императрицы, и её «последнего великого римлянина» Аэция...
Но когда корникулярий предложил занять пока «каким-нибудь» делом полководца в Галлии, то последовала со стороны императрицы такая реакция, какую Антоний явно не ожидал.
— Что значит «каким-нибудь» делом?! — вскричала Августа, передразнивая евнуха. — Аэций не «какой-нибудь» мелкий сборщик податей, он человек великий, и он оскорбится... Я понимаю, что ты не можешь найти мою скверную дочь, но это не довод задерживать далее полководца в Галлии...
— Величайшая из порфироносных, но его следует и нужно задержать!.. Я уже совсем близок к разгадке местопребывания Гонории. — И помощник императрицы пересказал свой разговор с сенатором Себрием Флакком.
— Я уверен, что она прячется в доме отца Евгения, я уже послал в Рим людей осуществлять слежку и жду со дня на день прибытия в Равенну ещё одного друга Клавдия Кальвисия Тулла, который тоже ездил к нему на юбилей.
— Отца Рутилия Тулла — наварха миопароны, на которой отплыл на юг Италии молодой Октавиан?
— Да, несравненная!.. Теперь я знаю, каким делом занять последнего великого римлянина, пока мы станем доставлять ко двору твою дочь... В стане гуннов воспитывается, как когда-то воспитывался и сам Аэций, его старший сын Карнилион. Пусть полководец и навестит его, а командование войсками передаст своему легату Литорию, который отличился в сражении с готами за город Нарбонну[55]. Об этом, как ты помнишь, сообщал и сам «последний великий римлянин», восхищаясь храбростью Литория, когда тог близко подошёл к Нарбонне, находившейся в осаде, приказал кавалеристам привязать к седлу два мешка муки и вместе с ними бесстрашно пробился сквозь укрепления противника к умирающим от голода горожанам. Воодушевлённые жители Нарбонны пришли на помощь римским легионам, и готы сняли осаду, потеряв при этом в сражении восемь тысяч человек...
— Да, помню, Антоний... — улыбнулась императрица. — Твоя голова, мой любезный друг, хороша тем, что в ней неожиданно появляются очень умные, свежие мысли... К тому же посещение Аэцием лагеря гуннов пойдёт на пользу всем нам; сейчас дикари успокоились и не продвигаются, но каково их дальнейшее намерение?.. Не плохо бы и преуспеть в разрешении этого вопроса... Только ты, Антоний, прямо не предлагай Аэцию шпионить — обойди стороной сей щекотливый предмет, а только как бы намекни... А далее пусть он сам догадывается... И последнему великому римлянину не обидно станет, и дело будет сделано. Иди, составляй хартию... А Кальвисия хорошо попытай словами, но если друга своего римского начнёт прикрывать, примени способ построже... Я разрешаю.
Возвращаясь от императрицы, Антоний Ульпиан был доволен собой. Кажется, давно он не испытывал такого удовлетворения от того, что ему удалось. Да, он теперь смело может сказать, что хорошо всё-таки знает римских патрициев: им бы в великих поиграть, но времена-то героев давно кончились!.. Если где-то и проявится этот самый героизм, то он обязательно будет соседствовать с какой-нибудь подлостью. Взять того же «последнего великого римлянина», от которого Плацидия без ума. Разве его борьба с Бонифацием велась открыто, по-геройски?.. Да конечно же нет, и закончилась победой Аэция только благодаря предательству...
«Необходимо отдать должное, что Аэций и Бонифаций, — размышлял корникулярий, — военачальники, достойные друг друга, вмещающие в себя также боевые достоинства знаменитых римских полководцев прошлого... Может быть, даже Бонифаций чем-то превосходил Аэция, но, по крайней мере, лучшими чертами своего характера — это точно...» — решил Антоний.
Правда, епископ Гиппонский святой Августин одно время оплакивал нравственное падение своего друга Бонифация, который, давши торжественный обет целомудрия, вторично женился на арианке, и которого подозревали в содержании у себя на дому нескольких наложниц... Но Бонифаций — герой защиты Массалии и освобождения Африки, и тот же Августин, вконец разобравшись, впоследствии восхвалял его христианское благочестие, народ уважат Бонифация за честность, а солдаты боялись его неумолимой справедливости. Один пожилой крестьянин пожаловался на одного солдата, который силой и смертельными угрозами жизни маленьких детей принудил красивую невестку старика к интимной связи. Приняв жалобу, Бонифаций приказал крестьянину явиться на следующий день в лагерь, а сам, старательно разузнавши, где происходит это преступное свидание, вечером сел на коня и, проехав несколько миль, застал врасплох своего солдата, совершающего над молодой крестьянкой насилие. Полководец немедленно казнил солдата и на следующий день предъявил крестьянину голову злостного прелюбодея...
Дарования этих двух полководцев могли бы пойти на пользу общему делу, если бы Плацидия подходила к каждому из них умно, с учётом особенностей характера этих людей и обстоятельств. Заранее зная, что на командование Ливией в Африке претендует Аэций, императрица тем не менее назначает Бонифация полководцем-наместником этой страны.
Аэций, разумеется, не смог смириться с таким назначением; какое-то время он терпел, но когда стало невмоготу от нанесённой ему обиды, то пошёл на явную подлость. Он попросту оклеветал Бонифация перед императрицей, доложив ей, что якобы тот уже присвоил себе всю верховную власть в Ливии и скоро случится так, что он объявит колонию независимой от Рима. А императрице нетрудно будет в том убедиться, если она отзовёт Бонифация к себе во дворец и увидит, что тот явиться к ней не захочет. Мнение Аэция показалось Плацидии основательной, и она последовала этому совету.
Между тем Аэций отправил тайно к Бонифацию послание, в котором извещал, что Плацидия злоумышляет против него и хочет погубить. Верными доказательствами такого умысла, писал Аэций, есть то, что Бонифация без всякой причины отзывают из Ливии. Бонифаций не оставил без внимания это послание и, когда перед ним предстали послы от императрицы и начали по её повелению звать полководца в Рим, то он отказался.
По получении такого отказа Плацидия посчитала Аэция человеком весьма к ней приверженным и стала обдумывать, как поступить с Бонифацием.
А тот, понимая трагичность своего положения и зная, что не в силах противостоять целой империи, решил заключить союз с вандалами, которые во главе с королём Гензерихом обосновались в Испании.
Бонифаций послал верных ему людей, предлагая Гензериху войти в Ливию, чтобы владеть её третьей частью и совместно отражать нападения римских легионов. По заключению такого договора вандалы переправились через Гадирский пролив[56] и вступили в пределы Африки.
Но римляне не хотели верить в случившееся, они даже не могли представить, что доблестный герой Массалии, получивший столько наград и оказавший столько услуг империи, вдруг нарушил долг верноподданничества и призвал варваров на разорение вверенной его управлению провинции. Друзья Бонифация, всё ещё державшиеся того мнения, что преступный образ действия полководца вызван какими-то честными мотивами, испросили, в отсутствие при дворце Аэция, позволение вступить в переговоры с правителем Ливии, и с этим важным поручением был отправлен один из видных сановников по имени Дарий.
Дарий имел при себе и ещё одно письмо, которое, в отличие от других, было огорчительным для Бонифация, — это письмо Августина, снова усомнившегося в честности полководца. Строгий епископ, не пытаясь даже разобраться в истине, благочестиво убеждает своего друга исполнить обязанность христианина, предлагая немедленно выпутаться из своего опасного и преступного положения и обречь себя на безбрачие и покаяние в монастыре, если только ему удастся получить на это согласие своей жены...
На первом свидании Дария и Бонифация в Карфагене выяснились причины воображаемых обид, были предъявлены и сличены между собой противоречивые письма Аэция, и подлог был обнаружен.
Но содеянного это уже не могло изменить, кроме разве того, что было реабилитировано доброе имя Бонифация. Неумолимый король вандалов не шёл ни на какие уступки и решительно отказался выпустить из рук свою богатую добычу.
Африка основательно считалась хлебной житницей, и все семь плодородных провинций, лежавших между Танжером и Триполи, были внезапно залиты потоком вандалов; благородная душа Бонифация терзалась невыразимою скорбью при виде этого нашествия, причиною которого был он сам...
Отряд ветеранов, выступивший под знаменем Бонифация против своего недавнего союзника, и собранные на скорую руку провинциальные войска были разбиты со значительными потерями. А победоносные вандалы Гензериха ещё больше стали опустошать ничем не защищённую Ливию, и единственными африканскими городами, спасшимися от разорения, пока оставались Карфаген, Цирта и Гиппон.
После поражения Бонифаций удалился в Гиппон, где его тревожные размышления, как-то сглаживаясь, перемежались назидательными беседами с другом Августином, епископом Гиппонским, считавшимся светилом и опорой христианской церкви. Но город, в котором находились двое друзей, вскоре также подвергся осаде со стороны вандалов. На третьем месяце осады в возрасте семидесяти шести лет скончатся Блаженный Августин, причисленный церковью к лику святых, хотя юность этого святого, как он сам чистосердечно признавался не раз, была запятнана пороками и заблуждениями. Но с той минуты, как он обратился на истинный путь, до самой смерти отличался чистотою и суровостью своих нравов, а самой выдающейся его добродетелью являлась пылкая ненависть к еретикам христианства. После себя Блаженный Августин оставил двести тридцать два тома, написанных на богословские темы, а также книги обширных толкований Псалтыря и Евангелия и множества посланий и проповедей...
А Бонифацию удалось сесть на корабль, заполненный побеждёнными солдатами, и отплыть в Италию. Полководец, нанёсший республике своим пагубным легкомыслием неизлечимую рану, не мог войти в равеннский дворец без тревожных опасений за свою жизнь. Но эти опасения были рассеяны приветливым обхождением Плацидии, ибо она ведала всю подноготную содеянного Бонифацием...
Пока Бонифаций по вине Аэция участвовал в позорной «африканской одиссее», тот находился в лагере гуннов. Дело в том, что отец Аэция Гауденций был родом из Скифии и оказался в Паннонии[57] вместе с гуннами, где эти дикие воины основали на плодородных берегах Тизии[58], населённых местными пастухами и охотниками, свою ставку.
Под знамёнами гуннов Гауденций участвовал в их завоевательных походах, проявил себя как искусный воин и командир и особенно понравился вождю Ругиласу.
Одно время у Рима и гуннов общими врагами оказались готы. И судьба распорядилась так, что Гауденция отослали в Рим, и он стал служить в императорских войсках начальником кавалерии, но дружбу с Ругиласом не прекращал.
Когда у Гауденция и богатой знатной римлянки подрос сын Аэций, то отец определил его на суровое воспитание в лагерь к гуннам, и мальчик воспитывался там наравне с племянниками Ругиласа Аттилой и Бледой.
Вот как характеризуют Аэция историки: он был небольшого роста, но очень сильный. Хорошо ездил в седле, стрелял из лука, метал дротик и кидал аркан. Он мог по нескольку суток голодать, не спать и оставаться бодрым. Он был одарён мужеством.
Надо сказать, что эти качества подходили для полководца, и в конце концов Аэций стал им, заслужив у современников в то смутное для Римской империи время героическое звание — «последний великий римлянин». И это звание было дано не на пустом месте. Если Бонифаций считался героем защиты Массалии, то Аэций был герой защиты города Арелата (Арля) — богатого торгового центра в Галлии, который полководец отстоял от завоевания вестготов короля Теодориха.
Узнав, что Бонифаций находится уже в Италии и прощён императрицей, Аэций не стал больше сидеть в ставке Ругиласа и с выделенным ему вождём сильным гуннским отрядом тоже вернулся на свою родину.
Плацидия должна была немедленно арестовать Аэция, но она делать этого не захотела, а избрала выжидательную тактику. В конце концов, как и предполагала императрица, эти два непримиримых полководца сразились между собой; Бонифаций получил от Аэция глубокую рану копьём, от которой через несколько дней и скончался.
Плацидия объявила Аэция бунтовщиком, зная, что она его простит. Догадывался об этом и Аэций, когда снова убежал к гуннам и, став во главе шестидесяти тысячного войска дикарей, начал слёзно просить прощение у императрицы... Та, разумеется, простила, апеллируя к сенату, ибо страна оказалась в плачевном положении после отпадения Африки. Вот тогда-то Аэций и выторговал себе звание патриция и консула; он был назначен главным начальником кавалерии и пехоты и сосредоточил в своих руках всю военную власть.
Скорее из благоразумия, чем из сознания своего долга, Аэций оставил порфиру на плечах Феодосиева внука, так что Валентиниан III под патронажем своей мамочки мог наслаждаться спокойствием и роскошью в то время, как патриций выдвигался вперёд во всём своём блеске героя и патриота.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ ТРЕВОЖНЫЕ БЕРЕГА ГАРУМНЫ
I

Никто бы сейчас в старике, голова которого посыпана пеплом, а на голое тело надета власяница из грубой медвежьей шерсти, ставшем согбенным, с глазами, красными от недосыпания и горя, не смог бы признать всесильного короля Теодориха.
Раньше с ним рядом по утрам гуляли по берегу Гарумны или возле священного пруда, расположенного недалеко от королевского дворца, шесть его сыновей-молодцов; теперь он воспретил им сопровождать себя, только два оруженосца-телохранителя где-то маячили у подошвы одного из холмов, окружающих Толосу, ставшую с 419 года на подвластной Риму территории, называемой Галлией, столицей вестготов.
Если бы кто захотел покуситься на жизнь их короля, то сделать это не составило бы никакого труда: оруженосцы из-за расстояния, отделявшего их от повелителя, не успели бы защитить его, да и у самого Теодориха, кроме дубовой палки, служившей ему посохом, ничего в руках не было.
Но о жизни своей король не думал, она для него сейчас представляла малую цену: если и погибнет, то есть кому возглавить созданное в Аквитании новое государство вестготов, омываемое с востока морем, а с запада — океаном.
«Старею... И горе меня придавило... Разве подобные мысли могли бы прийти в мою голову, скажем, двадцать пять лет назад?! Наоборот, тогда свою жизнь я ценил высоко, ибо мы с королевой должны были обязательно заиметь наследника трона. А рождались все дочери... А потом, точно из корзины, из которой галльские жрецы-друиды высыпали цветы на головы своих богов — или Белена[59], или Огмия[60] — вырезанных из дерева, «посыпались» также из чрева жены один за одним шесть сыновей, голубоглазых, со светлыми волосами. Истинные германцы! Радость неописуемая...»
Теперь король в образе страдающего старика на своих прогулках не может близко подпустить даже телохранителей, чтобы они не видели потоки слёз, хотя, возвращаясь во дворец, придворные зрят белые полосы на грязных щеках, сочувствуя его великому горю.
Никогда Теодорих не мог представить, что страдать его заставят не сыновья, если бы что случилось с каждым из них, а дочери, вернее, старшая — Рустициана, выданная замуж за второго сына Гензериха — короля вандалов, чьи владения расположены по соседству, в Испании, тоже находящейся под патронажем Римской империи, и в Африке, завоёванные Гензерихом при содействии Бонифация, а правильнее сказать, по его вине.
Теодорих посыпал голову пеплом и надел власяницу, чтобы скоро встретить её, едущую к нему в обезображенном виде, — ей, молодой, высокой, статной красавице, по приказанию самого короля вандалов отрезали нос и уши и отправили назад к отцу в толосский дворец...
Слава Единому и Вездесущему, слава епископу Ульфиле, переведшему на готский язык Библию, последователю учения Ария, что не дожила до этого страшного дня королева, хотя в молодости Теодорих и она любили шутить, что обязательно достигнут оленьей старости. Считалось, что олень живёт девять вороньих веков, а ворона — три человеческих. Умерла любимая, а значит, как родителю, горе горевать теперь ему одному!..
А сыновья?.. Что они? Души их лишь охвачены жаждой мщения. «Давай, отец, превратим Барцелону, столицу вандалов в пепелище...» — предлагают они, как будто это фиал вина выпить, и невдомёк им, что не одолеть сейчас вестготам вандалов. Поэтому и осмелел Гензерих, не посчитался с отцовскими чувствами короля-соседа, обезобразил дочь его... А вся-то вина Рустицианы, что заподозрили её в намерении отравить свёкра. Теодорих знает, напраслину на его дочь возвели, и горше ему ещё оттого, что не сможет он сейчас отомстить за неё и тем самым утихомирить и свою сердечную боль.
В мрачных раздумьях король не заметил, как оказался у священного пруда, заросшего кое-где цветами лотоса; для него и придворных этот пруд всего лишь природный бассейн, наполненный водой, а когда-то для галлов он считался священным, ибо в нём обитало их божество. А сейчас уже никто не вкладывал в это название никакого смысла.
«Осушить бы его и найти на дне золотую казну, как нашёл римский консул в этом пруду 15 тысяч талантов золота — золотое сокровище, вошедшее в поговорку как aurum tolosanum («золото толосатов»), которое галлы запрятали на дне пруда перед самым сюда приходом римлян... Да за это золото не то что армию, а целое государство купить можно[61]. Тогда бы я показал подлецу Гензериху, откуда у него начинается голова...» (То есть отделил бы голову от шеи).
«Тешусь несбыточными мечтами, словно дитя. — Обветренные в походах губы Теодориха сложились в тонкую усмешку. — Ты король, повелитель, а думаешь о сокровищах и кладах, как какой-нибудь обнищавший общинник на своём «sortes»[62] или обедневший галл-скотовод, подправляющий обветшалую хижину с надеждой при ремонте обнаружить спрятанное где-нибудь предками состояние... А я ведь не просто предводитель вестготов, а потомок королей — разрушителей великого Рима! Да и самому есть чем гордиться! Моё нападение на город Арелат — важный город всех семи галльских провинций, место ежегодных собраний нотаблей Галлии, ключ к долине Роны, ещё долго будут помнить не только в Аквитании, но и в Риме. Я бы взял город, если бы не Аэций... Этот любимец диких гуннов очень умён, бесстрашен и умеет руководить войсками! Он как злой демон всегда вырастает на дороге моих устремлений... Однажды мне удалось войти в доверие к противнику Аэция Бонифацию. Этот полководец тоже обладал бесстрашием и мужеством, но он был слишком честен, и когда я выступил на его Стороне не только против Аэция, но и Гензериха, то проиграл... Вот она разгадка того, почему король вандалов обезобразил мою дочь... Бедное дитя! Она мне написала сама, что её на морском судне отправляют из Карфагена, нынешнего местопребывания короля вандалов, в Барцелону. Нужно направить в Барцелону, чтобы встретить там Рустициану, кого-то из её братьев и епископа Сальвиана. Боже, помоги ей и мне, отцу! Единый Всемогущий, Создатель Мира и Всего Сущего, молюсь тебе и призываю Тебя! — Теодорих сел на скамью у пруда, поднял лицо к небу, уже начавшему трепетать зарею, потом перевёл взгляд в сторону парковых насаждений и за стволом фиги заметил прячущегося старшего сына: — Думает, что не увижу его... Белый плащ с красной каймой, который высовывается из-за дерева, выдаёт. Лишь такой плащ есть у Торисмунда. Щёголь... Несмотря на строгий запрет, сопровождает меня на прогулках. Боится за жизнь отца, хотя, с другой стороны, должен желать смерти мне... Ибо тогда вся власть перейдёт к нему... Эх ты! — укорил себя Теодорих. — Ты, как Гензерих, ищешь причину... Кстати, если бы его отравили, то править Испанией и занятой вандалами Африкой не стал бы по праву наследства муж моей дочери Гунерих... Не могла Рустициана подмешать свёкру яд, ещё раз говорю — не могла! — Доводы его, основанные на отцовских чувствах и интуиции, показались ему убедительными, а при воспоминании о дочери перед ним всякий раз вставало её милое детское личико в обрамлении светлых волос и чувствовал её доверчивый взгляд тёмно-голубых, почти синих, цвета васильков глаз, как у матери-королевы, любившей его, Теодориха, без памяти... — Но тебе представляется лишь наивное дитя, а оно выросло в красивую своенравную женщину... И я не видел Рустициану с того дня, как отдал её в жёны к вандалам, уже пять лет... За эти годы многое могло произойти и измениться...»
Но что-то такое поднималось из глубины души короля и снова говорило о невиновности его дочери.
— Торисмунд! — позвал Теодорих сына. — Выходи, я вижу тебя...
Из-за дерева вышел старший сын. Его чуть удлинённое, отцовское лицо с крепкими скулами и прямым носом было слегка смущённо, но рука твёрдо сжимала боевой топор на длинной рукоятке. Белый плащ из тонкой шерсти, застёгнутый на правом плече золотой застёжкой, широкими складками спускался до самых колен, ниже которых на ногах Торисмунда шло крестообразное переплетение тоже из белых ремней, крепящих к подошвам сандалии. Густые золотистые волосы, падающие двумя туго заплетёнными косами по обе стороны лица и спереди доходившими до пояса, были завязаны внизу тугими узлами.
Сын подошёл к сидящему отцу и опёрся другой свободной рукой о копьё.
— Ты чего это, сынок, спозаранку при полном вооружении?.. Правда, щита в чехле у тебя за спиной не хватает... Вроде бы в поход не трубили рога... — И неожиданно повысив голос, Теодорих громко спросил: — Почему приказ мой нарушаешь?
Ни один мускул не дрогнул на лице сына, это сразу отметил король и в душе похвалил Торисмунда, но стоял на своём, ожидая ответа.
— Как всегда, утром проходил выучку... Метал копьё, рубил топором на берегу реки одинокое дерево; ты, отец, наверное, видел его, проходя мимо, — соврал сын.
— Дерево видел... Но тебя узрил лишь здесь, и не у реки, а у пруда, за фиговым деревом... — остывая, уточнил Теодорих.
Но тут из-за густых зарослей мирта появился также при оружии ещё один сын, самый младший, Эйрих, дотоле незаметно прятавшийся, в отличие от брата.
Его схожесть со старшей сестрой всякий раз отмечал про себя отец, когда тот представал перед ним: чуть застенчивая улыбка и такие же тёмно-голубые васильковые глаза.
— О, гляди, ещё один сынок рубил топором одинокое дерево... Ну, погодите, как сниму власяницу!.. — погрозил Теодорих обоим.
Эйрих угрозу отца расценил как шутку и улыбнулся.
Это не ускользнуло от внимания отца, но он ничего больше не сказал, не рассердился, лишь внимательным оком окинул младшего сына с ног до головы.
На Эйрихе тоже накинут белый плащ, но без красной каймы, и выглядел он проще, поэтому скорее походил на праздничный плащ готского крестьянина; на голове блистал стальной шлем, из-под которого выбивались прямые русые волосы, доходившие только до плеч и ровно подстриженные. На поясе висел скрамасакс — длинный нож с тонким лезвием внизу и широким у рукоятки. В руках Эйрих тоже держал боевой топор.
— Если вижу вас во всеоружии, то готов послать обоих навстречу сестре... Вы понимаете, как ей тяжело. А увидите Рустициаиу — ободрите... С вами поедет и епископ Сальвиан, с ним я ещё не говорил, но он, думаю, согласится. Ты, Торисмунд, возьмёшь с собою дружину свою, а Эйрих под начало примет часть моих дружинников... Но как только окажетесь в Испании, приказываю вести там себя не враждебно по отношению к вандалам, какая бы злоба на них ни охватывала ваши сердца, и никаких ссор с ними не затевать, и на провокации не поддаваться... Обуздывать чужие страсти Сальвиан умеет, поэтому я и буду просить его поехать с вами... Главное же, ко дворцу как можно быстрее нужно доставить мою дочь и сестру вашу...
— Будет исполнено, повелитель, — с жаром воскликнули сыновья Теодориха и упали разом перед ним на колени, целуя края его пыльной власяницы.
— Ладно, поговорить об этом мы ещё успеем. Отправляйтесь во дворец, а я последую за вами.
У входа во дворец Теодорих увидел лошадь второго по рождению после Торисмунда сына, названного в честь него, короля, Теодорихом. Теодорихом Вторым...[63] Лошадь его под уздцы держал оруженосец. Животное ещё не остыло от бега: кожа у него на боках и широком крупе лоснилась от пота — сын только что на этой лошади закончил скачку в цирке, примыкающем ко дворцу и построенном ещё римлянами.
Но цирк уже давно не использовался по своему прямому назначению, он зарос травой, зрительские трибуны пришли в негодность, поворотные столбы тоже были полуразрушены. Сейчас его королевские дружинники приспособили для ежедневных военных тренировок — метания на полном скаку копья или дротика в импровизированную цель, рубки на мечах и упражнений в стрельбе из луков. Вот и Теодорих провёл только что со своей дружиной такое занятие. Но почему не заводят его лошадь в конюшню?
Король хотел спросить, но раздумал, увидев, как низко склонил оруженосец свою голову, когда повелитель вестготов проходил мимо, направляясь в атриум.
Дворец короля представлял собой огромный дом, какие строились в «вечном городе» во времена расцвета Римской империи знатными патрициями. А здесь, в Толосе, его возвёл для себя на месте старого галльского дома вождя племени толосатов первый римский наместник в Южной Галлии Сервилий Цепион, нашедший клад и не стеснявшийся тратить его по своему усмотрению (за что был наказан позднее императором, который конфисковал и здесь, и в Риме всё его имущество).
Цепион построил дом с шикарными термами, бассейнами, большим числом столовых, с огромным лаларием, в котором сейчас Теодорих Первый устроил свои покои, с массажными комнатами и комнатами для умащений. Ко дворцу со стороны парка примыкало не менее великолепное здание, тоже возведённое первым наместником для своей преторианской гвардии. Сейчас в нём проживали готские дружинники. Рядом с этим зданием находились конюшни с мраморными колоннадами. Цепион был большой любитель скаковых лошадей и поэтому тоже не жалел средств на украшения конюшен: их внутренние стены были отделаны чёрным мрамором, а по нему шли огромные живописные картины, выложенные светлыми цветными фресками.
Теодорих проследовал в свои покои и, не ополаскивая рук и не снимая по данному себе обету пыльную власяницу, приступил к еде, поданной королю сюда. И тут с поклоном, но не таким низким, как бы полагалось по этикету, вошёл сын Теодорих. Он не походил ни на старшего брата, ни на младшего, и вообще на всех остальных — рыжие волосы его горели медным пламенем, а глаза, зеленоватые с желтизной, как у лесного волка, излучали дерзость и непокорность. Да и вся его огромная фигура дышала неуёмной энергией.
— Отец, — начал он говорить с порога, нажимая на слова. — Мне братья сказали, что ты посылаешь их встречать нашу бедную сестру с предупреждением не встревать ни в какие склоки с вандалами... Твой приказ они, разумеется, выполнят, но пошли с ними и меня...
— Чтобы ты не подчинился моему приказу... — продолжил за него король и почувствовал, что прежняя воля повелителя возвращается к нему и как во все члены тела остро толкается кровь... Вот так любимый некогда сын стал чуть ли не противником его, и сейчас он снова будет предлагать разграбить Барцелону, но Теодорих Второй сказал следующее:
— Отец, я тоже буду вести себя благоразумно. Но как только мои братья — Торисмунд и Эйрих — вывезут из столицы вандалов сестру и как только её нога ступит на землю твоего королевства, я со своей дружиной и дружиной Фридериха, который уже скоро должен вернуться из разведки, вернёмся в Барцелону и отомстим за Рустициану... — Глаза Теодориха Второго загорелись бешенством, а руки ещё сильнее сжали рукоять меча, висевшего у него на поясе.
«Неужели он, баранья башка, не понимает: сделать подобное — равносильно, что объявить войну Гензериху, который вслед за моей дочерью приплывёт со всей своей силой в Барцелону и нападёт на Южную Галлию... Если нападёт только он один, а то ведь и римский легат Литорий после отъезда Аэция в лагерь гуннов к сыну ждёт не дождётся, чтобы подвергнуть Толосу разграблению и ещё раз прославиться...
Король мрачно выслушал сына, потом, не глядя на него, медленно встал из-за стола, склонился над ним угрожающе и, не повышая голоса, произнёс:
— Мой приказ касается только старшего сына и младшего... Ты здесь ни при чём, запомни это и уходи!
Теодорих-сын демонстративно поклонился и, не встречаясь взглядом с отцовским, вышел из покоев короля, а очутившись за дверью, побежал, громко стуча подошвами по мраморному полу; миновав атриум, оказался на улице, вырвал из рук оруженосца повод, вскочил в седло и рванулся галопом с места, направив коня к оливковой роще, где стоял его дом для отдохновения, в который он поселил большое количество наложниц...
По расчётам короля-отца корабль с Рустицианой должен успеть прийти в Барцелону до начала в Адриатическом океане сильных штормов, ибо они не оставляют в покое и Средиземное море. Сведение от дочери, что она уже отплывает из Карфагена, Теодорих получил через гонца, который на торговом судне прибыл в Барцелону, а через двое с половиной суток бешеной скачки, почти насмерть загнав коня, уже входил в покои Толосского дворца. В послании дочь короля писала о сроках прибытия. Но ни она, ни сам Теодорих не могли даже предположить, что король вандалов, обезобразив невестку, уготовил ей и гибель возле Балеарских островов, где находятся базы пиратов, от рук морских разбойников... Роль их исполнят на борту лёгкой миопароны, отбитой у римлян, воины-вандалы, переодетые в белые рубахи и малиновые шаровары, успеющие к этому времени отрастить бороды[64]... Поэтому перед отплытием судна, специально выделенного для Рустицианы, Гензерих вызвал к себе наварха, изложил ему (только одному) этот план и далее сказал, что он, король вандалов, якобы вынужден прибегнуть к этому, потому что пожалел отцовские чувства короля вестготов, ибо лучше будет, если Теодорих никогда не увидит своей обезображенной дочери...
Сейчас трудно что-либо сказать о том, действительно ли король вандалов говорил правду в отношении отцовских чувств, хотя можно и объяснить его поступки: под влиянием ярости, когда ему обманно сообщили об измене невестки, он приказал обрезать у неё уши и нос, но потом одумался и поставил себя на место Теодориха, ибо сам имел дочерей...
А зачем тогда понадобился этот спектакль с переодеванием и нападением, как в самых плохих римских пьесах? Не проще ли в пути лишить Рустициану жизни, а судно возвратить... Но королю вандалов хотелось, чтобы всё выглядело правдоподобно... Ибо слухи о захвате корабля пиратами и гибели Рустицианы обязательно дойдут до короля вестготов...
И вот в один из тёплых дней подул из пустынь Северной Африки в сторону Испании попутный знойный сирокко. Наварх приказал поднять паруса, а когда двухпалубный корабль повернул на северо-запад, то за вёсла уже взялись гребцы, ибо сирокко стал дуть под углом...
Капитан был полукровка. Мать-персиянка воспитывала его одна после гибели вандала-мужа в одном из сражений. И наварх многое в своих убеждениях воспринял от матери и даже веру её в бога света Митру, хранителя правды и противника лжи.
Капитан молился этому богу как всегда перед самым восходом солнца, потому как Митра предвещает появление небесного светила, ибо он мчится по небу на своих белых конях даже ночью; он вечно бодрствующий, и поэтому отблеск его света даже ночью чуть освещает землю... В предсолнечный миг на палубу корабля вышла из своей каюты Рустициана, и тогда увидел её наварх в широких белых одеждах и белом широком шарфе, закрывающем голову и лицо, лишь одни глаза были видны высокой женщины, и они сразу поразили Анцала, так звали капитана: они были настолько синие, глубокие и живительные, словно оазисы в пустыне. В Африке говорят, что между двумя оазисами и находится жажда твоей жизни... «А в чём жажда твоей жизни, Анцал? — задал себе вопрос капитан. — Неужели в том, чтобы стать пособником смерти ни в чём не повинной, которая уже однажды подверглась глумлению и казни?!»
И наварх принимает решение повернуть судно, пока не поздно, к Гадирскому проливу, пройти между африканским Танжером и испанским Кадисом, войти в Атлантический океан, обогнуть западный берег Испании и выйти к устью Гарумны. Надо сказать, что капитан принял смелое решение — ведь выйти в океан на двухпалубном корабле не каждый отважится... Но Анцал в первую очередь полагался на волю Митры, который на стороне правдивых и справедливых, к тому же знал, что пока океан будет оставаться спокойным; и в точности наварх рассчитан, что к устью Гарумны корабль прибудет в то время, как только начнутся сильные ветры, а, следовательно, и большие приливы, которые станут лишь на руку...
Наварху приходилось бывать в тех местах и проводить суда по Гарумне до самой Толосы; река опасная, со множеством каменных перекатов — их приходилось, когда река совсем мелела, обходить посуху, перевозя суда на катках. В некоторых местах берега Гарумны близко сходились и считались тревожными, ибо по ним шастали, нападая, разбойничьи шайки, состоящие в основном из беглых рабов-сервов, а также вконец разорившихся крестьян-колонов.
Главная река юго-западной Галлии Гарумна берёт начало в испанских Пиренеях на высоте римской мили над уровнем моря. Проходя через глубокое поперечное ущелье, Гарумна покидает Пиренеи и в северо-восточном направлении течёт к Толосе, где вступает в широкую долину, ограждённую двумя рядами холмов. От Толосы поворачивает на северо-запад и мчит свои воды к древнему галльскому поселению Бурдигале[65], а далее впадает в Атлантический океан. При устье Гарумны стоит маяк.
Но из океана самым быстрым способом можно попасть в столицу вестготов во время приливов, называемых здесь маскаре. На них-то и рассчитывал наварх Анцал. Эти приливы образуют целые водяные горы, нужно только не бояться, чтобы эти горы подняли твоё судно и помчали на своём гребне вверх против обычною течения, минуя такие притоки Гарумны, как с правой стороны, так и с левой. Тогда эти притоки в приливы как бы захлёбываются, а в обычное время они мешают идущему вверх судну своими потоками.
Океанские суда на гребнях водяных гор поднимаются только до Бурдигалы, а меньшие, вроде двухпалубною корабля Анцала, доплывают до самой Толосы.
Корабль уже полным ходом резал носом волны Средиземного моря в сторону пролива; так же рано утром на палубе Анцал снова повстречал Рустициану. Сегодня в её глазах наварх прочитал вопрос, дочь короля вестготов явно недоумевала, почему корабль вдруг изменил курс — по маршруту в Барцелону мимо Балеарских островов ей однажды пришлось проходить.
— Госпожа, позволь мне докончить поклонение богу Митре, а потом я зайду к тебе в каюту и всё объясню...
— Да... Здесь объясняться не следует... Стены и палуба тоже имеют уши... — И вдруг она смутилась и замолчала: хотела как бы уязвить наварха, ибо палуба на корабле всё-таки открытое пространство... Анцал всё понял и поспешил устранить возникшую неловкость при упоминании об ушах...
— На корабле стены называют переборками. Но это не меняет суть тобой сказанного, госпожа... — И наварх глазами показал на вышедшего из-за высокой канатной бухты матроса-уборщика.
— Хорошо... — оценила Рустициана возникшую обстановку и отзывчивую душу капитана. — Я тоже помолюсь своему Богу и Богородице.
Рустициана, как и в прошлый раз, закутанная во всё белое, с таким же широким шарфом, закрывающим лицо, повернулась на восход солнца и стала налагать на свою грудь крест, кланяться и молиться, произнося слова молитвы:
— Царица моя преблагая, надежда моя Богородица! Приятельница сирых и странных... Обидимых покровительница!..
Анцал слышит полные скорби слова, прерываемые глубокими вздохами, и теперь молча задаёт и свой вопрос: «Какой Богородице молится она?..»
— Зришь мою беду... Зришь мою судьбу и скорбь... Помоги мне, немощной...
В глазах госпожи появляются слёзы, и Анцалу до глубины души становится жаль эту женщину: он искренне обращается с просьбой к Митре, чтобы бог везде и всюду помогал несчастной...
А обращаясь к богу, Анцал потрясал в руке связкой священных прутьев-баресман. Но, совершая затем возлияние в море смесью молока, масла и мёда, наварх снова услышал:
— Обиду мою... разреши... — И опять долгая-долгая пауза. — К Тебе... О, Богомати!.. К Тебе взываю... Во веки веков... Аминь.
Перекрестилась ещё раз госпожа, повернулась и пошла, развевая скорбными складками белой одежды. А Анцал вдруг представил обезображенное, без ушей и носа, некогда прекрасное, судя по глазам, лицо этой женщины и содрогнулся...
— К тебе, бог солнца, непобедимый Митра, к тебе, юноша в персидской одежде, убивающий быка, занимающий середину между небом и землёй, к тебе, рождённый из камня на берегу реки в тени Священного дерева, к тебе, с пылающим в руке факелом, озарившим тьму, тоже взываю... О Митра, возьми под защиту эту бедную женщину, возьми под защиту и мой корабль, чтобы я смог доставить её перед очи отца и родных... Тем самым, бог Митра, мы с тобой восстановим правду и отринем ложь, а ведь к этому ты всегда призываешь...
А через какое-то время Анцал уже стучался в каюту к госпоже. Ему открыла служанка, смуглая, как и он сам, с вьющимися на голове тёмными волосами. Сверкнув белозубой улыбкой, она впустила наварха.
Анцалу как-то пришлось побывать в африканском городе Гиппоне, и в один из дней зашёл в храм с золочёным куполом, заканчивающимся таким же золочёным крестом. Зашёл из праздного любопытства и увидел внутри храма много нарисованных красивых икон; вёл службу высокий священник с кадилом в руках, в ярком окружении, как показалось Анцалу, зажжённых свечей. Ему сказали потом, что священника зовут Блаженный Августин, он является епископом Гиппонским и имеет славу человека учёного, писателя и человека, отличающегося воздержанием и благочестием ...
«К воздержанию и благочестию призывает и бог Митра», — подумал тогда Анцал.
А теперь, перешагнув порог каюты, наварх будто снова попал внутрь храма в Гиппоне, здесь также горели свечи, а переборки каюты были увешаны иконами: и сразу наварху бросилась в глаза нарисованная красивая женщина в красном покрывале, со слегка склонённой к младенцу головой. На лице её особенно выделялись глаза, чем-то схожие с глазами Рустицианы, только они были другого цвета, но такие же выразительные...
— Вот к ней ты обращалась недавно, моя госпожа? — спросил Анцал.
— Да, к Ней... — тихо ответила Рустициана. — К Матери Бога...
И тогда наварх, помолчав, начал рассказывать. Женщина слушала и... не удивлялась, видимо, она хорошо знала характер своего свёкра, лишь бросала взгляды на стоящее в углу распятие...
После того как наварх всё ей поведал, напоследок сказав, что те, кто должен был убить её, арестованы и сидят в нижних трюмах, Рустициана поблагодарила его и снова перекрестилась... А когда он ушёл, женщина упала на колени перед иконой Богородицы и подняла на неё свои очи:
— О, Богомати, значит, Ты услышала мои молитвы и в лице этого наварха послала мне спасителя... Кланяюсь Тебе, Богоневестная, начальника тишины, Христа родившая. Единая Пречистая... — И, повернувшись в сторону распятия, воззвала: — Иисусе Предвечный, грешников спасение, Иисусе Сыне Божий, помилуй меня...
Заглядывая вперёд, поведаем, что истинную христианку Рустициану ждало ещё немало испытаний. Преодолев их, она удалилась в православный монастырь, где и окончила свой, предназначенный ей свыше, скорбный жизненный путь...
Свойство любой империи таково, что необходимым условием её существования должны быть или завоевание чужих территорий, или политика диктата другим народам. Третьего попросту не дано...
В этом ряду Римская империя не была исключением, поэтому одно из великих её целей являлось покорение Галлии.
Именем Галлия римляне называли две обширные области — Северную Италию, заключённую между Альпами, Апеннинами и рекой Рубиконом, и страну, ограниченную Средиземным морем, Пиренеями, Атлантическим океаном, Рейном и снова Альпами. Здесь проживали племена — лигурийские, иллирийские, иберийские, гельветские, племена бельгиков, секван, лингонов; достаточно познакомиться с записками Юлия Цезаря и узнать названия других. Из записок, кстати, можно почерпнуть много любопытных подробностей из жизни этих племён, их обычаев и нравов. Ещё Марк Порций Катон (Старший) отмечал приверженность галлов «к двум вещам — военному делу и красноречию».
Умение галлов воевать подчёркивал и знаток военного дела Цезарь, но он ещё характеризовал их людьми любопытными; всех прохожих они останавливают и заставляют рассказывать всевозможные были и небылицы. Недаром в почёте у галлов был бог Огмий, от языка которого, как отмечалось выше, отходят к слушателям золотые нити...
Но главными богами в Галлии оставались Тейтат, Таранис и Езус. Первый подобен римскому Марсу, второй — Юпитеру, а третий — Меркурию. Им приносились в жертву только человеческие существа — военнопленные, осуждённые злодеи и разного рода преступники.
В лунную ночь косматые люди[66] собирались на поляне в лесу перед вырезанными из дерева грозными богами и под удары барабанов и низких звуков труб отрезали головы обречённым; жрецы-друиды, напившись жертвенной крови и опьяняющего напитка, громко пели священные гимны, а потом кидали головы и тела жертв в огонь...
Несмотря на строгие запреты римлян (вплоть до казни), галлы продолжали устраивать свои кровавые вакханалии; делали они это и тогда, когда арианская церковь, ставшая национальной церковью следующих за римлянами завоевателей Галлии — готов, производила на лесные сборища облавы и «в качестве кары за невыполнение обетов целомудрия», как было записано в одном арианском источнике, пойманных с поличным обращала невзирая на личности в сервов, то есть рабов, которые пополняли число рабов в королевских доменах или церковных поместьях.
Сервами становились также и те свободные граждане, которых присудили к смертной казни, но которые до свершения её успели каким-то образом найти защиту у алтаря. Существовал и такой церковный закон...
Без рабов не обходился, разумеется, и толосский епископ Сальвиан. Среди них находился один, предсказывающий судьбу и осуждённый за это, галл Давитиак, обладающий огромной силой; епископ совсем недавно сделал его своим главным телохранителем, а после случая с разрушением храма и своим... предсказателем.
Поначалу, став рабом, Давитиак освоил работу пахаря. В Южной Галлии пахота производилась весною и зимою. Пахали землю железным лемехом. На одном пергаменте сохранился рисунок — мужчина в короткой тунике пашет плугом, в который впряжена пара волов. Плуг имеет вид «плута с зубом». Ярмо находится на затылке волов; правя ими, рука пахаря с палкой поднята вверх, левой ногой он сильно надавливает на пятку лемеха. Кстати, этим мужчиной мог быть и Давитиак... У галлов, а затем и готов на полях применялись и тяжёлые колёсные плуги, как у римлян.
Сальвиан заметил трудолюбивого, исполнительного, сильного серва Давитиака и перевёл его к себе в дом. А затем раб, когда епископ Сальвиан собирался служить в храме, стоящем на высоком берегу Гарумны, по ту её сторону, сказал, что господину не следует туда ехать, так как храм во время литургии разрушится... Сальвиан обругал Давитиака:
— Снова за старое... Забыл, что за свои предсказания осуждён в рабство?..
— Да я ради тебя, епископ...
Храм действительно разрушился, придавив насмерть нескольких прихожан; епископ только чудом избежал смерти... А произошло следующее: воды реки сильно подмыли берег, в конце концов он и «поехал» и потянул за собой всё, что на нём стояло.
После этого Сальвиан приблизил Давитиака, и тот стал ему жизненно необходим.
Давитиак, естественно, сопровождал Сатьвина и в поездке в Барцелону, предпринятой по приказу Теодориха вместе с его сыновьями Торисмундом и Эйрихом.
Но все они очень удивились, когда к положенному сроку судно с Рустицианой не вошло в порт. Подождал день-другой, но корабля так и не было, хотя карфагенские купцы, прибывшие в Барцелону, заверили, что судно с невесткой короля Гензериха отправилось в море и взяло курс на Балеарские острова... Тогда епископ отозвал в сторону Давитиака и тихо сказал ему:
— Погадай на корабль и жизнь Рустицианы.
Лунной ночью Давитиак пришёл на причал (как раз стояло полнолуние), воздел руки к небу, что-то начал шептать, плеваться, растирая плевки подошвами сандалий, снова шептать, а утром доложил Сатьвиану:
— На Средиземном море судна, на котором плывёт Рустициана, я не увидел... Но она жива, я это знаю точно...
— Откуда тебе известно, на каком судне она плывёт? строго спросил епископ.
— Мне поведали об этом духи... Судно двухпалубное гребное и с парусами. Скажи, господин, Торисмунду и Эйриху, что нам нужно возвращаться обратно. Сюда корабль с их сестрой не придёт... Скоро подуют сильные ветры, и они на своих крыльях доставят в Толосу отцу его несчастную дочь...
И снова предсказание Давитиака сбылось — на гребне океанской приливной волны, как и задумано было навархом Анцалом, корабль с Рустицианой вошёл в столицу вестготов.
Когда дочь короля сошла с палубы на берег, то плач раздался со всех сторон. И тут она увидела старика, давно немытого, согбенного, в пыльной власянице, и с трудом уз нала в нём своего отца. И тогда-то, не удержавшись, она тоже заплакала...
Сальвиан, прибыв во дворец, обратился к королю:
— Повелитель, нами управляет Бог. И правда его нравственного управления такова: бедствия, постигающие людей благочестивых, есть суть испытания, а бедствия, постигающие негодных людей, есть суть обвинительного приговора... В твоём случае, король, видна суть испытания благочестивого... Прими сие и молись Вездесущему!
Но недалёк тот день, когда правду нравственного управления Божества изложит Сальвиан и римскому легату Литорию...
II
Хорошо бы ехал ось Кальвисию Туллу в такую солнечную погоду по Фламиниевой дороге из Рима в Равенну в окружении красивых рабынь, если бы его не тревожили мысли о дочери императрицы Плацидии Гонории... Да, и если бы не эти мысли, то и думалось бы бывшему сенатору хорошо, вспоминая дни, проведённые у своего лучшего друга Клавдия. Когда ещё выпадет такая встреча?.. Хотя, не соверши Гонория этот побег из равеннского дворца, то такая встреча состоялась бы снова, когда весь императорский двор приехал бы в Рим, и тогда Кальвисий опять обнял бы друга и на крыше его римского дома выпил бы в вечернюю прохладу по фиалу вина из холодного подвала. Но Гонория выкинула такое, что тут пока не до хороших воспоминаний. Поймают её — отвечать придётся не только другу, но и ему, Кальвисию, потому как дознаются, что вместе прятали беглецов в храме Митры. Да и сам посвящённый служитель бога Пентуэр, которого хорошо знала ещё в Александрии рабыня Джамна, узрев, кого надобно спрятать, растерялся поначалу, сообразив, чем это Грозит ему, но быстро взял себя в руки и согласился помочь. Только, скорее всего, на его быстрое согласие подействовали высыпанные рабом Клавдия из туго набитого мешочка драгоценные камни и золото...
Успокаивало лишь то, что Гонория, её рабыня Джамна и раб-ант находятся в надёжном месте, под защитой самого Митры... А там скоро должен вернуться из морского похода сын Клавдия Евгений, и влюблённые придумают сами, что им делать дальше... Оставаться им в Италии нельзя. Существуют страны, куда можно поехать, — например, в Грецию, Причерноморье или Ливию, которая после призвания Бонифацием туда вандалов стала независимой от Римской империи...
Едущих с севера колесниц и повозок сегодня встречалось немного, и вообще в последнее время мало кто стремился в полуголодный Рим, хотя в Равенне тоже жилось не сладко. Тревожные думы о Гонории постепенно стали вытесняться из головы бывшего сенатора другими — мыслями о положении в империи; они стали занимать Кальвисия по привычке, хотя он давно человек не государственный...
Вспомнив недавно о сыне Клавдия, Кальвисий не мог не вспомнить о своём... Рутилий — военный. А что служба на море, что служба в армии — одно и то же: тяжёлая служба, ничего не дающая... Слава богам, что сын уже наверх, начальник... А простому матросу или солдату приходится нелегко — побои и раны, суровые зимы в походах или изнуряющее трудами и жарой лето, беспощадная война и не приносящий им никаких выгод мир — вот их вечный удел...
Казалось бы, самое выгодное положение в империи быть императором, но и он не всегда наслаждался безмятежным счастьем. Как часто он боится потерять власть или стать уничтоженным. Сколько цезарей было убито — тайно и явно!
Правда, и в императоры попадали разные люди — и знатные, и Простолюдины. Одни из них являлись серьёзны ми государственными деятелями, другие — бесталанными честолюбцами, с явными признаками скудоумия, вроде нынешнего Валентиниана III. Были и мрачные злодеи и даже сумасшедшие, как Калигула. А некоторые совсем не занимались делами империи, перелагая их на плечи своих подчинённых; такие, с позволения сказать, правители становились тщеславными актёрами, ловкими гладиаторами, самозабвенными танцорами и мнимыми великими художниками...
Чтобы нарисовать в стихах, по задумке Нерона, вселенский пожар, этот император приказал поджечь Рим, правда, потом он в поджоге обвинил первых христиан и подвергнул их жесточайшей казни, вначале распнув на крестах, а затем ещё живых сжёг...
Рим знал и других сумасбродов — Коммода, Гелиогабала, дававших простор беззаконию, что также влекло за собой гибель множества невинных людей.
Прослеживая таким образом путь императорской власти, можно выявить одну закономерность: чем ближе Римская империя подходила к своему упадку, тем всё бессовестнее становились её правители... С каждым поколением они имели свойство как бы вырождаться и быть ничтожнее. Разве нынешнего Валентиниана III можно сравнить с Августом или Юлием Цезарем?! Ну ладно, нынешний император, как говорится, судьбой пришибленный, чего с него взять?! А император Гонорий, спутавший Рим со своим петухом, чем он лучше своего племянника-недоумка?! А всё же власть-то в их руках, и от воли таких правителей (если только она есть у них!) зависят жизни подчинённых, в том числе и моя, не говоря уже о жизни моего сына, человека военного, и жизнь сына Клавдия... Прошло уже немало с того времени, как поступили о них первые сведения, а теперь снова мы ничего о своих сыновьях с Клавдием не знаем...
Как ни отговаривали друзья — Рутилий и Евгений, ссылаясь на военного теоретика Вегеция, не предпринимать нападение на главную базу пиратов в Сардинии, главнокомандующий мизенского флота Корнелий Флавий стоял на своём, проявляя отчаянное упрямство, несмотря на свой маленький рост и такие же по размеру ручки, которыми он размахивал, как крыльями ветряной мельницы.
— Я — солдат! И сделаю так, как мне приказано... Пусть даже я поплачусь собственной жизнью... — твердил он одно и то же.
— Если бы речь шла только о твоей жизни! — также решительно сказал Рутилий.
— Как ты смеешь, наварх! — взревел Корнелий и снова завращал руками.
Кому-то могло показаться, что они приделаны к туловищу главнокомандующего с помощью верёвочек, как у театральной куклы, и кто-то, дёргая за эти верёвочки, заставляет и руки так отчаянно крутиться...
На этот раз Корнелий Флавий взревел с такой яростью, что и глаза его выпучились так, что ещё миг-другой, они выскочат из орбит и повиснут на таких же верёвочках возле носа... И всё-таки им повезло, что, разгромив главную базу морских разбойников, они потеряли два корабля, но отпраздновать победу как следует им не пришлось; с других более мелких баз, как и предполагали Евгений и Рутилий, подошли корабли пиратов и зажали их на выходе в Тирренское море: суда противника быстро выстроились крутой дугой, а когда начался бой, то концы дуги сомкнулись, как клещи. Из них смогли только вырваться лёгкие суда, вроде миопароны Рутилия, а флагманская либурна одна из первых вместе с главнокомандующим пошла ко дну, разрезанная острозаточенными и окованными железом носовыми брусами двух пиратских кораблей...
Как ни сердились на Корнелия Флавия Рутилий и Евгений, но его стало жалко. В сущности, он был неплохой человек, но привык повиноваться любому приказу, хотя знал, чем всё это могло кончиться...
Может быть, их миопарона вослед хлебному каравану, кстати, умело организованному погибшим Флавием, тоже благополучно вошла бы в порт, находящийся в двадцати милях от «вечного города», если бы сами не допустили оплошность — им, пробившимся через кольцо, надо было бы взять курс резко на восток, а они, взяв направление на Рим, оказались не так уж далеко от берегов Сардинии, и корабли пиратов, базировавшиеся на севере острова, вскоре преградили им дорогу... После короткого боя пятнадцать судов мизенского флота морские разбойники взяли снова в окружение и привели их уже под конвоем в свой порт. Евгения вскоре в качестве раба продали местному владельцу оливковой плантации, а Рутилия, узнав, что он наварх, повесили на рее.
Остров Сардиния являлся удивительном местом — его населяли в основном пираты и их семьи; владелец оливковых деревьев тоже был когда-то морским разбойником. Хотя Сардиния официально и находилась под властью Рима, но она плевала на все его законы и распоряжения.
Был на острове и свой римский наместник с преторианской гвардией. Но пока Евгению заявить ему о себе не было никакой возможности...
Жив человек — он надеется. Главное, что возлюбленный Гонории жив.
Один из митреумов (храмов в честь бога Митры) в Риме находился на правом берегу Тибра, в районе «грязных промыслов», там, где селились и работали кожевенники, гончары, землекопы и часть кузнецов, хотя их труд не приравнивался к грязному... И посетители здешнего митреума тоже были в основном люди этих профессий. Вот сюда и спрятал Пентуэр Гонорию, её рабыню Джамну и раба-анта Радогаста под надзор посвящённого жреца Митры Виридовика.
Судя по имени, этот служитель персидского бога был из потомственных галлов, и когда Гонория с ним познакомилась поближе, то оказалось, что это так. Галла Виридовика на служение богу посвятили в четвёртую степень, степень льва, тогда как Пентуэр имел степень шестую — бегунов солнца. Но это не мешало им дружить и во всём доверять друг другу.
Выходили они служить в одежде, соответствующей той или иной степени посвящения: Виридовик — в шкуре льва, Пентуэр с солнечной короной на голове и в одежде с нарисованной на ней огненной колесницей. Помогал Виридовику вести службу его напарник, имеющий всего лишь первую степень посвящения — воронов, поэтому во время поклонения Митре ему приходилось хлопать крыльями, приделанными к рукам. Кстати, Блаженный Августин и по этому поводу сказал своё гневное слово:
«Некоторые (то есть участники богослужения Митре), подобно птицам, хлопают крыльями и подражают карканью воронов, другие рычат, словно львы; и видим мы, как те, которые считают себя мудрыми, позорнейшим образом превратились в глупцов».
Митреум теперь окружали базилики. Христианские священники пока терпимо относились к служителям персидского бога, правда, как и Августин, называя их глупцами, но знали, что те тоже придерживались нравственных аспектов морали, не как, скажем, жрецы, в храмах Изиды или Венеры, где налицо творилось прелюбодеяние.
Храмы Венеры в Риме были разрушены, а единственный храм Изиды по приказу императора Тиберия был разобран по частям, когда в нём один знатный патриций с помощью жрецов совратил уважаемую римскую матрону.
Патриций давно домогался этой не менее знатной, чем он, женщины, но она постоянно отвергала его. Тогда он подкупил жрецов, и те внушили матроне, что она сегодня должна отдаться богу Анубису — таково желание богини Изиды[67].
Матрона вечером явилась в храм, жрецы отвели её в отдельные покои, и тогда туда пожаловал патриций, напялив на себя маску Анубиса; позже домогатель признался матроне, что это был он в маске Анубиса; матрона пожаловалась императору, и тот приказал храм Изиды разобрать, жрецов в Тибре утопить, а патриция из Рима выслать...[68]
Христианские священники относились к жрецам Митры снисходительно ещё и потому, что в их рассказах о персидском боге находили много такого, что было в Библии.
...Родившись из камня, юный бог Митра обрезал с фигового дерева листву и сделал из неё себе одежду, он сорвал и фиг, и это была его первая еда. Тотчас Митра вступает в борьбу с богом Солнца и побеждает его. Но, побеждая, протягивает правую руку дружбы и надевает на бога Солнца лучезарный венец, в котором тот ежедневно в колеснице совершает свой бег...
Но не дремлет главный демон зла Ариман, он напускает на Митру разъярённого быка. Митра схватил левой рукой за голову быка, погрузив пальцы в ноздри, а правой рукой вонзил ему глубоко в шею нож. И тут произошло великое чудо — из спины быка выросли хлебные злаки и целебные травы, а из пролитой крови — виноградные лозы.
Во время борьбы Митры с быком появились на земле и первые люди. Но Ариман решает погубить их и насылает на землю потоп. Только двое — мужчина и женщина — спасаются в ковчеге, сделанном Митрой, и от них пошли уже новые люди...
Ариман не успокаивается, он посылает на землю всепожирающий огонь. И опять на помощь приходит Митра и на этот раз и сам бог Солнца. Они тушат этот огонь, устраивают пир, а после пира Митра возносится на небо.
А вознёсшись, Митра становится защитником людей от злых демонов и владыки их Аримана, но защищает он только тех, кто живёт благочестивой жизнью и ревностно поклоняется ему...
Об этом рассказал жрец Виридовик Гонории, Джамне и Радегасту, когда их навестил. Они жили в самом дальнем помещении митреума, из которого шёл подземный ход, спускающийся к Тибру. В помещении стояли два ложа — для госпожи и рабыни, Радогаст спал перед входом, положив, как всегда, под голову акинак, подаренный Евгением; Джамне — бывшей поклоннице Митры — иногда очень хотелось присутствовать при богослужении, проводимом посвящёнными, но Виридовик запретил, ибо внешность её была слишком заметной... А гулять и дышать свежим воздухом было разрешено только ночью и только на крыше храма, куда они поднимались по ступенькам. Пока ни Гонория, ни бывший сенатор Клавдий не знали, когда кончится это заточение: ждали Евгения и надеялись, что он разрешит создавшуюся ситуацию...
Жрец Виридовик приходил к ним всегда закутанный в паллий, не доверяя никому, сам приносил еду. Но как-то, то ли забыл переодеться, то ли ему было некогда, он пришёл в львиной шкуре, в которой проводил богослужение. Гонория понаслышке знала, что у жрецов восточных богов существуют разные степени посвящения, а всего этих степеней семь, и поэтому спросила Виридовика:
— А почему только семь, а не больше или меньше?
— Потому как они приравниваются к семи планетным сферам, через которые проходит душа умершего, прежде чем она достигнет восьмого неба и полного блаженства, — ответил жрец. — Но посвящённые только с четвёртой степени могут участвовать в таинствах посвящения, жрецам первых трёх степеней делать это запрещено...
— А тебе дозволено? — спросил Радогаст, явно заинтересованный этим разговором, ибо на его родине жрецы приносили жертвы вырезанным из дерева идолам, поддерживали на капище денно и нощно огонь, и только...
— У меня четвёртая степень посвящения — степень льва, значит, дозволено, — с гордостью ответил Виридовик.
— Расскажи, как происходят таинства? — попросила Гонория.
Жрец насупился и уже хотел уходить, но Джамна остановила его:
— Прости, Виридовик!.. Я госпоже не успела сказать, что об этом спрашивать нельзя...
— Да, Августа... Знаешь, почему Сократ принял смерть? А всё потому, что имел неосторожность открыть непосвящённым некоторые тайны мистерий Озириса...
— Но я думала, что принял он яд в наказание за то, что зло высмеивал нравы... А казнь совершил над собою сам...
— Отчасти, госпожа, отчасти... Кстати, о ритуальном кольце посвящения — так называемом символическом прохождении через смерть и воскресение можно прочитать у Апулея в его книге «Метаморфозы»... Ведь в конце своей жизни Апулей стал жрецом богини Изиды в Карфагене, и ему даже была поставлена статуя... Только граница между символической и реальной смертью при посвящении весьма условна... Но, кажется, я сам сказал больше того, что полагается говорить... Будьте осторожны, а я приду завтра. — Предупредив узников словами, ставшими обыденными, жрец вышел.
— Что же там написано у Апулея? — задала сама себе вопрос Гонория, когда Виридовик скрылся за дверью: — A-а, вспомнила!.. Слушай, Джамна: «Итак, внимай и верь, ибо это — истина. Достиг я рубежей смерти, переступил порог Прозерпины и вспять вернулся, пройдя через все стихии, в полночь видел я солнце в сияющем блеске, предстал пред богами подземными и небесными и вблизи поклонился им...» Виридовик сказал, что при посвящении разница между символической и реальной смертью и воскресением весьма условна. Значит, они происходят как бы на самом деле...
— Госпожа, вижу, что тебя очень интересует этот вопрос... Однажды в Александрии я случайно подслушала разговор Пентуэра с другим жрецом — посвящённым служителем Митры. Они говорили о какой-то лодке, которую надо им отправить в море, говорили о буре, и что эту лодку нужно пустить в открытое море именно в бурю... Говорили и о человеке, коего тоже надо поместить связанным в лодку.
«Если лодка не утонет и её прибьёт к берегу вместе с тем человеком, — сказал другой жрец, — тогда мы продолжим испытания». Мне кажется, госпожа, что Пентуэр и жрец говорили о посвящении того человека в какую-то степень. Хотя я точно не знаю...
— Почему меня это интересует, Джамна?.. Нет! Нет! Я не собираюсь стать жрицей... Не собираюсь принимать участие в каких-то мистериях... Зачем мне это?! Я просто думаю, что всё, что происходит с нами, — это тоже в своём роде посвящение... Посвящение в степень независимости... — Гонория помолчала, покусывая губы, отчего они сразу сделались пунцовыми, и добавила: — И может быть, в степень любви...
В Равенне тоже установилась хорошая солнечная погода. Любимой служанке Кальвисия Тулла Техенне, уроженке Ливийской пустыни, больше по душе длинные солнечный лучи, нежели бесконечные нити дождя, который часто случается на севере Италии.
Проехали южные городские ворота. Кальвисий поздоровался с начальником стражи — знаком с ним уже не один год, поинтересовался: не слышно ли что о сбежавшей дочери Плацидии? Тот ответил:
— Как в воду канула... Евнух Антоний ищет, но пока никаких следов... Ты сам знаешь, Кальвисий, если он взялся за дело, то доведёт его до конца... А императрица вне себя от злости...
— Ничего, позлится и перестанет... — сказал Кальвисий, но так вышло, что сказал как бы для себя, потому что повозка оказалась уже внутри города (а может быть, на это и рассчитывал) и крепостная стена осталась позади.
Проехав с полмили по булыжной мостовой центральной улицы, возница ввернул на более тихую, обсаженную по обеим сторонам пиниями. Увидев их, Техенна пришла в восторг:
— Кальвисий, я не раз себе задавала вопрос, что напоминает мне серебристая крона этих деревьев... Смотри, Смотри! Я нашла ответ! Напоминает стеклянную вазу на тонкой ножке, в которую можно положить виноградные гроздья...
— У тебя, милочка моя, поэтическая душа, как у Сапфо... «Я негу люблю, юность люблю, радость люблю и солнце. Жребий мой — быть в солнечный свет и в красоту влюблённой», — процитировал бывший сенатор строки из стихов знаменитой поэтессы с острова Лесбос.
— Говорят, что она будто бы бросилась с Левкадской скалы из-за неразделённой любви к красавцу Фаону? — произнесла красавица гречанка Алкеста.
— Случись что, вы, мои хорошие, со скалы не станете бросаться из-за меня... — утвердительно проговорил Кальвисий Тулл.
— Умирать из-за любви?.. Нужно было... А потом, Кальвисий, ты же не Фаон... — подал кто-то из женщин голос из глубины повозки.
— Эй, гляди у меня! — погрозил пальцем бывший сенатор.
— Так ведь Сапфо любила только девочек... — сгладила острый угол Алкеста.
— А мы любим Кальвисия Тулла! — дружно провозгласили рабыни.
Повозка остановилась у входа в сад перед высоким патрицианским домом. Выбежал слуга и, помогая хозяину вылезти из повозки, сказал ему:
— Господин, тебя с раннего утра дожидаются посланники из императорского дворца.
Из атриума вышли два человека, истинность профессии которых угадывалась при первом взгляде на них: оба были одинакового роста, наглухо запахнутые в паллии, топорщащиеся сбоку от рукоятей мечей: секретари...
— Не распрягай лошадей! — приказали они вознице. — Кальвисий, едем к корникулярию.
— Прямо сейчас?.. — удивился бывший сенатор, уже догадываясь, для чего его вызывает Антоний Ульпиан. — Так надо бы умыться с дороги, почиститься...
— Во дворце мы тебя и умоем, и почистим... — нагло пообещали секретари.
«Это всё по поводу Гонории... Буду молчать как рыба. Но они же, сволочи, выбьют всю правду... — Кальвисий взглянул на секретарей, расположившихся в повозке напротив, ухмыляющихся, со стальным блеском в глазах... — От таких «посланников» пощады ждать не приходится... Но ты погоди, не хорони себя раньше времени... — И, вспомнив разговор с рабынями, тоже ухмыльнулся. — Я ведь давеча сказал им, будто в зеркало гадателя смотрел: «Случись что со мной...» Вот, кажется, и случилось...»
В таблине Антония, куда доставили бывшего сенатора, сидел Себрий Флакк...
«Не ожидал его здесь увидеть! Хотя почему не ожидал?! Он же тоже ездил на юбилей к другу в Рим... Значит, и Себрия пытали... Надеюсь, только вопросами... Иначе он бы не сидел тут, а гремел цепями в «крысиной норе» — в подземной темнице», — сразу промелькнуло в голове Кальвисия, и он поздоровался:
— Здравствуй, Себрий. Какими судьбами?
— И тебе здоровья, Кальвисий... Сейчас всё узнаешь.
Вошёл Антоний, за ним — скриб с деревянным ящичном на боку. Если евнух при императрице исполнял ещё и должность писца, то у себя он имел своего...
— Кальвисий Тулл, — обратился Антоний к бывшему сенатору, — твой друг Себрий Флакк ранее сообщил мне, что ты после праздника оставался у Клавдия ещё двадцать дней и можешь знать больше его, так как Себрий из Рима сразу уехал... Правильно я говорю? — Евнух неожиданно повернулся лицом к Себрию Флакку. Тот как-то сразу смутился, нервно заёрзал на скамейке.
— Правильно, — ответил Себрий, опуская глаза.
«Пёс... Уже что-то успел наговорить на меня...»
— А ты ничего не знаешь, Кальвисий? — Евнух снова обратился к бывшему сенатору.
— А что мне следует знать? — вопросом на вопрос ответил Кальвисий.
— Я говорю о Гонории, которая, по нашим сведениям, находится в Риме.
— Если она находится в Риме, так и задержите её там.
— Задержим... Она остановиться в Риме могла только у отца своего возлюбленного.
— Я даже не ведаю, кто у неё возлюбленный. Меня такие вещи не интересуют. У меня свои возлюбленные... — заявил Кальвисий Тулл.
— Дойдёт дело и до них, — пообещал евнух, явно недовольный ответами бывшего сенатора. — Всему своё время...
«Слава богам, что рабыни не знают, куда спрятали Гонорию...» — успокоил себя Кальвисий.
— Значит, ты о Гонории ничего не знаешь и ничего не ведаешь... Ладно. Я пока отпускаю тебя. Приедешь домой — подумай. Со своими возлюбленными-рабынями переговори. И скажи им, что в «крысиной норе» даже немые начинают говорить, — хохотнул Антоний, а скриб посмотрел на него, молча спрашивая: писать ли это или не писать?
— Пиши, пиши! Пусть всё читает наша императрица. У нас от неё тайн не существует...
«Ах, паршивец, злодей без яиц!.. Тайн, видите ли, не существует... Да ты окружён ими, как на подносе жареный кролик маринованными оливками, фигами и каперсами... Без этих тайн тебе и дня не просуществовать... Когда надо, ты перед Плацидией выдёргиваешь то одну, то другую, как шулер при игре в кости мечет нужную или «шестёрку», или «сучку».
— Хорошо, Антоний, я подумаю.
— Думай, да недолго. Сроку я даю тебе, любезный, два дня.
«А Себрий Флакк?.. Каков негодяй! Я оказался прав, не доверяя ему... И верно сделал, что сказал об этом Клавдию... А ведь Антоний своих секретарей, поди, уже и в Рим послал... К Октавиану-старшему... Правильно, что о друге думаешь. А сам-то как?» — снова тревожные мысли стали одолевать Кальвисия. А вернувшись в свой дом, подумал о сыне. Не ведал отец, что сына уже нет в живых... В конце концов, решение, которое он принял, может быть, и не пришло бы в голову бывшего сенатора, если бы он точно знал, что Рутилий погиб... Нет, не принял бы Кальвисий такого решения! Он бы потягался ещё с «пустой мошонкой» и не испугался бы его «крысиной норы»... И было не страшно в этом случае патрицию Кальвисию Туллу, что, засадив в тюрьму, его объявят государственным преступником и конфискуют всё имущество. Сына нет в живых, а тогда о чём беспокоиться?! Но Кальвисий думал, что Руталий ещё здравствует, и поэтому всё надо сделать так, чтобы не испортить ему карьеры и чтобы всё, чем владеет бывший сенатор, досталось его единственному наследнику... А это возможно, если Кальвисий... или примет яд, или в тёплой ванне вскроет себе вены...
«Впереди у меня ещё два дня... Я успею выразить свою неукротимую любовь к моим милым пташкам... Потом отпущу их на свободу. Расправляйте крылышки — летите!.. А то ведь и за ними придут, пообещал же евнух... — Кальвисий задумался. — Но вдруг завтра будет поздно?! От Антония можно ожидать всего... Сегодня, а не завтра я дам моим любимым рабыням «вольную». И пусть они идут, куда позовёт их душа... Дам на дорогу и золота. Они заслужили это, утешая меня на любовном ложе...»
Кальвисий дома в первую очередь смыл с себя дорожную грязь, а затем позвал ливийку Техенну:
— Милочка, у нас неприятности... Сегодня ты со своими подругами должна покинуть мой дом, я отпускаю всех на свободу, иначе вас замучают в подземной темнице... — И Кальвисий изложил ей всё, о чём речь шла в таблице помощника императрицы.
Ливийка поначалу не поверила словам господина, но потом только до неё дошла жестокость их смысла, и она ощутила со всей страшной силой безысходность положения, в котором они все оказались.
— Иди, позови тех служанок, кто был со мной в Риме.
И когда они собрались, Кальвисий также поведал им всё, о чём только что сообщил ливийке.
Рабыни сидели не шелохнувшись, до конца ещё не осознавая того, что может с ними случиться, если их отвезут во дворец.
— Но мы ведь ничего о Гонории не знаем. За что же будут нас-то пытать? — удивилась гречанка Алкеста, а у самой на глазах уже выступили слёзы...
— Об этом я тоже сказал корникулярию. Но ему это и неважно... Ему надо делать вид перед императрицей, что он прилагает все усилия по поимке Гонории...
— Кальвисий, а сам-то ты знаешь, где она находится? — спросила Техенна.
— Я знаю, моя хорошая, но даже тебе не скажу, чтобы не подвергать опасности, ибо в «крысиной норе» палачи вытянут из тебя это клещами...
— Кальвисий, чтобы спасти нас всех, в том числе и себя, иди и укажи корникулярию на местонахождение императорской дочери... Всё равно её найдут, — снова подала голос та из служанок, которая пряталась в глубине повозки.
— О тебе я думал всегда, что ты мерзавка, — серьёзно сказал Кальвисий. — Но всё равно и тебя я тоже отпущу на свободу... Вы сегодня же все уберётесь из моего дома... Все!
Бывший сенатор позвал своего помощника и велел писать на них «вольные».
— Обойдёмся без всяких у претора «поворотов», женщинам это и надо... Моей печати и подписи будет достаточно.
Затем он снова собрал рабынь, а их было шестеро; каждой вручил «вольную» и дал золота и каждую обнял и крепко поцеловал:
— Отныне вы не принадлежите мне... И никому, ибо отныне свободны... Идите, милые, и чем раньше покинете мой дом, тем лучше станет для вас.
Недолго думая, пять из них упорхнули сразу. Какая судьба их ожидает в дальнейшем?.. Они красивые, ухоженные, пока с деньгами... Как только они кончатся, эти бывшие рабыни, привыкшие ничего не делать, а только лишь ублажать господина, выйдут на улицу и потихоньку начнут осваивать самую древнюю профессию, которую легализовал и организовал великий афинский законодатель Солон, предоставивший мужчине полную свободу удовлетворения полового инстинкта до и вне брака. Так что место красавицам Кальвисия уготовано заблаговременно — в публичном доме. И об этом хорошо представлял бывший сенатор, но поступить иначе не мог... Осталась с ним ливийка. Она сказала: ехать некуда. В Ливии дома у неё никого не осталось, все умерли. Техенна заявила прямо, что вместе с господином тоже примет яд или в ванне вскроет себе вены.
— Я тебе разрешу принять вместе со мной смерть только потому, чтобы ты не повторила судьбу только что ушедших из моего дома бывших рабынь, которые в конце концов окажутся, и ты сама это понимаешь, в лупанарии... Хотя именно ты не только красива, но и умна и можешь выйти за кого-нибудь замуж... Родить детей.
— Иметь детей я мечтала... Но кому я нужна? Господин замуж меня не возьмёт... Возьмёт или ремесленник, или колон... Но я не умею трудиться. Я могу только ублажать мужчин... Служить им утехой... А я не хочу больше этого, поэтому приняла решение умереть тоже... И спасибо, что разрешил.
— Нет, всё-таки женщины... дуры... Я позволил ей умереть, и она ещё благодарит меня... — сказал, как бы для себя Кальвисий, а Техенна крепко обняла его и поцеловала.
Всю ночь, только на чуть-чуть засыпая, они отдавались друг другу со страстью молодожёнов на любовном ложе, а перед самым рассветом, помня о том, что Антоний может не сдержать слова и в любой момент прислать за ними, Кальвисий приказал слугам срочно готовить тёплую ванну. Закутавшись в белые одежды и взяв в руки острый нож, Кальвисий Тулл обнял за плечи ливийку и спросил её ещё раз:
— Может быть, передумаешь?..
— Нет, господин.
— Не зови меня так... С этой минуты ты для меня не просто возлюбленная, ты жена моя, Техенна...
— Благодарю тебя, муж мой! Идём, не будем медлить.
— Да, милая, медлить не будем...
Они прошли в ванное помещение и скинули с себя покрывала. Затем он снял со стены, расписанной цветными фресками, висевшие на золотых цепочках два изображения жука-скарабея, сделанные из драгоценных камней; одно надел на себя, другое протянул ливийке:
— На, тоже надень и твори молитву своему богу Митре, а я помолюсь Изиде... О несравненная, о великая богиня Изида, дочь неба и земли, ты, которая вместе со звёздами делаешь ночи радостными, сделай так, чтобы и моя смерть стала для меня лёгкой и радостной... О прекрасная Изида, прими меня в свои объятия и отнеси меня в твои зелёные сады по ту сторону жизни...
Закончила молиться и Техенна.
Кальвисий поцеловал только что надетое на шею изображение скарабея, близко поднёс его к глазам и громко начал читать надпись на камне, кстати, касающуюся и той, которая тоже готова была умереть...
— Наши сердца, полученные нами от матери и которые были у нас, когда мы пребывали на земле, — о наши сердца, не восстаньте против нас и не дайте злого свидетельства о нас в день суда!
Кальвисий и Техенна, обнажённые, приблизились к мраморной ванне, в которой голубела вода. Они ступили в неё и легли рядом, тесно прижавшись друг к другу. Кальвисий взял руку наречённой жены, заглянул в глаза, хотел что-то спросить, но раздумал. увидев в зрачках уже отражение Другого мира; ливийка как бы видела его, Кальвисия, и не видела, она уже была на другом конце жизни, находясь на границе со смертью; Техенна уже чувствовала дыхание последнего мига, отделяющего день от ночи, свет от мрака, лишь только лезвие коснётся сейчас места сгиба локтя и — всё... Нож перерезал вену, и кровь толчками полилась из неё, окрашивая голубую воду... Техенна закрыла глаза, опершись затылком о мраморное ребро ванны, и замерла. И Кальвисий скоро увидел на её побелевших губах улыбку...
Тогда он сам быстрым движением полоснул ножом вначале на одном сгибе, затем на другом и прошептал:
— Рутилий, сынок, ты, когда узнаешь обо всём, простишь меня. Ради тебя я делаю это... Ради тебя...
А душа Рутилия, может быть, в это время смотрела на Кальвисия с небесной высоты и плакала, удивляясь неосведомлённости своего отца, который обращался к нему как к живому...
III
Известие о самоубийстве бывшего сенатора застало евнуха за чтением послания из Южной Галлии от легата Литория, в котором он сообщал, что Аэций благодарил императрицу за предоставленную ему возможность съездить в Паннонию в лагерь гуннов, где воспитывался его сын. Далее Литорий испрашивал у Плацидии позволение напасть на Толосу, так как воля короля вестготов сломлена страшной вестью о несчастье, происшедшей с его старшей дочерью — король вандалов Гензерих, заподозрив невестку в попытке своего отравления, отрезал ей уши и нос и отправил к отцу...
Антоний начал размышлять, как лучше изложить императрице просьбу Литория, чтобы она удовлетворила её. Евнух стоял на стороне легата, потому что ненавидел Аэция. Собственно, причин как таковых, чтобы ненавидеть полководца у корникулярия не было, просто люди, к которым питала Плацидия всего лишь благосклонные чувства, сразу становились в ряд неугодных Ульпиану.
Сие обстоятельство объяснялось не только ревностью или завистью, но и политическими соображениями. «Разделяй и властвуй!» — эту фразу приписывают одному монарху, правящему намного позже описываемых нами событий, но такое правило, возведённое в догму, негласно существовало уже с того времени, когда стали выделяться свои «монархи» в виде всяких вождей племён...
Подобную мысль и постарается евнух изложить Плацидии, чтобы она поняла, что усиление одного только полководца Аэция в Южной Галлии недопустимо, ибо он опасен ещё и тем, что издавна водит дружбу с гуннами... А Плацидия должна помнить то шестидесятитысячное войско дикарей, которое он привёл в Италию после размолвки с Бонифацием...
А взятие Толосы укрепит славу Литория, уже однажды отличившегося при штурме Нарбонны, и потеснит безоговорочный авторитет «последнего великого римлянина»... Двумя же выдающимися полководцами управлять легче, поощряя то одного, то другого, щекоча по очереди их самолюбие и потихоньку натравливая друг на друга.
Когда это изложил корникулярий Плацидии, то она согласилась со всеми доводами, но тут же спросила:
— А не противоречит ли сказанному тобой нами задуманное триумфальное шествие Аэция по Марсову полю? Мы как бы этим поощряем только его возвышение...
— Так это и входит, владычица, в правило твоего управления. Возвышай одного и пользуйся сама плодами сего возвышения, а в следующий раз возвысим другого...
— И то верно... Вот тебе записка, можешь взять у казначея в моём фиске столько золота, сколько прописано здесь...
— Благодарю, несравненная!
— Но не поощряю ли я тебя, Антоний, раньше времени? Ведь о Гонории всё ещё пока не слыхать?..
— Не только слыхать, но и запах её следа уже чуем. Скоро она, голубка, предстанет перед твои приветливые очи...
— Я её, мерзавку, очень хорошо привечу! А о нашем препозите нет никаких известий?
— Хлебный караван из Сицилии, слава Всевышнему, благополучно пришёл; уже из гавани Остии в устье Тибра отправились в Рим первые барки с зерном, но среди кораблей, охранявших караван в Тирренском море, миопароны Рутилия нет, значит, она в составе мизенского флота ушла на разгром главной базы пиратов в Сардинии. А Евгений находится на палубе этого судна... Сражение с пиратами произошло, но полных сведений пока не поступало. Как поступят, сразу доложу твоей милости.
Врал корникулярий — вырвавшиеся лёгкие суда из окружения пришли в свой порт, но пока евнух не хотел огорчать императрицу известием о гибели почти всего мизенского флота, пусть об этом ей скажут в сенате... У него хватает своих дел, связанных с поимкой Гонории.
Антоний понял, что с бывшим сенатором Кальвисием Туллом допустил оплошность: зачем надобно было пугать его?.. Зачем сказал, что и рабынь подвергнет пыткам?.. В результате одна из них вместе с ним приняла добровольно смерть, а другие, получив «вольные», исчезли, о чём не замедлил сказать помощник бывшего сенатора, стоило его слегка припугнуть.
Правда, двух рабынь удалось изловить, но как ни бились палачи, как ни пытали их, они так и не смогли ничего выведать. Значит, на самом деле Кальвисий не посвятил в свои тайны служанок...
Евнух догадывался, что бывший сенатор наложил на себя руки не из боязни пыток, а чтобы тень изменника не легла бы на его сына. И если Антоний начнёт донимать вопросами в Риме Клавдия, то и этот упрямец сделает то же самое, что и его друг. Эти патриции старой закалки ещё дорожат не только своей честью, но и честью наследников... Поэтому не лучше ли усилить скрытое наблюдение за домом Октавиана-старшего, хотя оно ведётся уже и так хорошо.
«Но пока никаких результатов... Куда он мог спрятать Гонорию, раба и Джамну. Джамна... Бывшая поклонница бога Миры... Может быть, Клавдий тут ни при чём? В Риме сейчас служит жрец из Александрии Пентуэр, которого хорошо знает Джамна, и она ведь могла обратиться к нему за помощью? Могла... И тот, я уверен, ей не откажет... Но даже если и спрятал жрец беглецов, то он их ни за что не выдаст, хоть жарь его на костре... Он, посвящённый в мистерии богу Митре и осенённый великой тайной, никогда не пойдёт на предательство... «Единственный выход в этом видится мне — устроить наблюдение и за Пентуэром, и за всеми митреумами, со жрецами которых он встречается...» — опять новое решение принял корникулярий.
Клавдий, когда оставался без гостей, то к обеденному столу в качестве жены по правую руку приглашал свою распорядительницу. Если жена со временем начинает предъявлять мужу разного рода претензии, то любовница всегда чувствует грань дозволенного, за которую, она хорошо знает, переступать нельзя, и поэтому между хозяином и такой женщиной всё ладилось...
Октавиан-старший любил возлежать на ложе у стола, возле высоких бронзовых канделябров, высотою в три локтя, стоящих на полу рядом с подсвечником, изображающим голого мальчика. Обычно с распорядительницей он обсуждал за едою хозяйственные дела — о заготовке продуктов, поведении рабов и рабынь да и разных домашних мелочах.
— Сегодня решили отключить тёплый воздух в гипокаустерии[69]...
— Так давно бы пора! На улице уже жарко.
— Но раб, — продолжала распорядительница, — очень боится крыс. Пришлось мне самой с ним спускаться в подвал.
— Надеюсь, вы там недолго пробыли? — хитро сощурил глаза хозяин.
— Как отключили, так и поднялись, — не поняла подвоха распорядительница. Потом только до неё дошло: — Клавдий, типун тебе на язык...
— Смотри! Если заподозрю — сразу выгоню...
— Уж который год подозреваешь...
— Наверное, умеешь хорошо заметать следы.
— А вот ты не умеешь!.. Вчера рабыня-массажистка тебе должна была спину помять, а говорят, что ты ей намял!
— Будет тебе всякого и всякую слушать...
— Если бы слушала, то без конца слёзы проливала.
Слуги убрали стол и подали другой[70]. На нём уже находились любимые на десерт кушанья хозяина — жареные раки, африканские улитки, венункульский изюм, хорошо засушенный в дыму, и массикское вино. Клавдий к нему ещё придумал подавать кидонские яблоки[71].
Он взял стеклянный фиал с вином и посмотрел его на свет:
— Это вино хорошо ставить под чистое небо ночью, прохладный воздух очистит его и мутность отнимет.
— Клавдий, оно и так чисто играет.
— Мне Кальвисий говорил, что, к примеру, в суррентское вино стоит только голубиное яйцо выпустить — вскоре мутность его яичный желток оттянет на днище... Интересно, что мой друг сейчас в Равенне поделывает?.. Наверное, как всегда, со служанками забавляется...
(Да невдомёк было Клавдию, что прах его друга Кальвисия уже замурован в гробнице, заготовленной им загодя, ещё при жизни).
— Сегодня с утра я закупила на Тукской[72] старого фалернского вина с молодым мёдом три модия, греческого хиосского урну и вейского[73] для рабов три урны. Начали грузить в повозку — она приедет ночью, и тут я увидела мужчину, который внимательно наблюдал за нами... Взгляды наши встретились, лицо у него сразу переменилось, и ничего лучшего он более не придумал, как чесать по-бабьи голову[74], но этот жест мне показался нарочитым, хотя он и стал затем показывать на нашего раба-гиганта Асклепия...
А позавчера другая рабыня тоже видела, как кто-то прятался за каштановым деревом, наблюдая за нашим домом... — распорядительница оглянулась и, убедившись, что поблизости никого нет, добавила: — Клавдий, уж не Гонорию ли ищут?..
— По всем правилам её уже должны были давно искать...
— Значит, тайные сыщики до Рима добрались.
— Выходят, так... Будь осторожна и язык держи за зубами.
— Мог бы и не предупреждать.
— Это я на всякий случай, любовь моя... Скажи, а на раба-гиганта можно положиться?
— Что ты имеешь в виду?
— Можно в случае чего даже посвятить его в нашу с тобой тайну?.. Надёжный он человек?
— Вполне.
— Хорошо... После обеда пришли его в мой таблиц... Хотя, любовь моя, пойдём в мои покои, отдохнём пока...
После любовных утех Клавдий сразу заснул: всё-таки шестьдесят лет — это не двадцать и даже не сорок... Но силёнки у Октавиана старшего ещё имелись. Проспав часа полтора, он разбудил распорядительницу, которую тоже сморил сон, и сказал, чтобы она нашла Асклепия.
— А потом покажешь ему, за каким деревом прятался человек, которого видела рабыня.
Через какое-то время в таблин к хозяину вошёл раб, росту в нём было семь футов[75]. Клавдий Асклепия ещё не успел хорошо узнать, распорядительница купила его совсем недавно. В доме нужен был такой гигант для тяжёлых работ.
— Ты родом откуда? — спросил его Клавдий.
— Из Корсики.
— Был я там однажды. Скажу — прескверное место! Болота... Комары... Дикие нравы. С Сардинии южным ветром занесло туда травку. Помню, нашёл пучок между камней, сорвал былинку, растёр, понюхал и... захохотал. Сардоническая травка... Говорят, император Калигула её нюхал; однажды так нанюхался, что своего жеребца захотел ввести в сенат...
— Знатные люди на Корсике её тоже любят пробовать.
— А сам пробовал?
— Приходилось.
— Вот что, Асклепий, хочешь получить свободу?
— Хочу, хозяин.
— А для того, чтобы её заработать, нужно избавить наш дом от тайных наблюдателей... Они на Тукской улице следили за вами и за домом наблюдают...
— Много их?
— Пока двоих видели.
— Управлюсь и с большим количеством... Я их выслежу и удавлю. — Гигант показал на свои ладони, похожие на лопаты для выпечки хлебов... — Трупы же покидаю в Тибр...
— Вот и молодец! Но дам я тебе «вольную», как только приедет мой сын, а он, по моим предположениям, должен объявиться со дня на день.
— Согласен, хозяин.
Через два дня Асклепий доложил, что управился с теми двоими — и они уже кормят собой раков на дне реки.
— На нас не падёт подозрение?
— Всё шито-крыто, хозяин; тихо, без шума...
Антоний находился вне себя от злости — такого не бывало, чтобы два секретаря, самых хитрых и осторожных, бесследно исчезли... Бывали случаи, что тайные сыщики погибали по разным обстоятельствам, но так пропасть, чтобы никто и ничего про них не знал, — этого ещё не происходило. Словно в воду канули! (И тут Ульпиан в своих предположениях был рядом с истиной...).
В Риме что-то творится неладное... Если бы можно было бы поехать туда самому и оценить обстановку на месте. Но ехать туда нельзя: беглецы знают евнуха, да и человек он теперь заметный...
«Главное — спокойствие, во злобе решать такие вопросы не годится, поэтому, Антоний, успокойся, — приказал себе корникулярий. — Промахов допущено тобой и так немало... А Плацидия заранее не пожалела золота... За что, спрашивается?.. Знает, чем меня умаслить... Нужен я ей. Ведь по сути дела нет у неё, кроме меня, особо преданных людей во дворце. Подхалимов сколько угодно! И Плацидия это понимает... Положение у неё не из завидных... И здесь хватает проблем, и в провинциях... То тут, то там вспыхивают восстания обедневших колонов, беглых рабов. Как можем — тушим вспышки... А тут ещё беда — на юге распространилась чума... Пока ею охвачены два острова — Корсика и Сардиния... Наверняка туда завезли морские разбойники... У какого писателя я читал описание этой страшной болезни?.. Господи, помоги вспомнить! У Лукреция... Точно — у него: Тита Лукреция Кара...
Антоний прошёл в библиотеку, достал несколько его поэм, развернул: вот оно — изображение чумы в Афинах в начале Пелопоннесской войны...
«У людей поднимается огромная температура, наливаются глаза кровью, гортань изрыгает чёрную кровь, затекает шершавый язык. От человека исходит смердящий запах падали. Безысходная тоска соединяется с мучительными стонами. Мышцы охватываются судорогой, тело покрывается язвами, распаляются внутренности человека нестерпимым огнём. Иные бросались в воду, чтобы охладить распалённое тело. Многие низвергались вниз головой в колодцы. Люди бессильно корчились на своих ложах, а врачи, видя перед собой дико блуждающие взоры больных, что-то бормотали про себя и сами немели от страха. А люди, у которых уже путались мысли, хмурили свои брови, имея дикое и свирепое выражение лица, в ушах у них раздавался несмолкаемый шум, прерываюсь дыхание, и тело покрывалось потом. С хриплым кашлем брызгаю солёная слюна шафранового цвета. У несчастных тряслись руки и ноги, а после жара их охватывало холодом. С наступлением смерти разевался рот, заострился нос, растягивалась кожа на лбу, выпадали глаза и виски, твердели и холодели губы. Люди мучились по восьми или девяти дней, а если кто и выживал, то язвы по всему телу и чёрный понос всё равно приводили больного к роковому концу. Болела голова, из ноздрей текла гнилая кровь, люди лишались рук, ног и других частей тела, а иной раз и зрения. Люди валялись на улицах, издавая такой смрад, что к ним не решались приближаться даже хищные звери и птицы. Родные покидали друг друга, спасаясь от болезней, но и это ни к чему не приводило. Умерших хоронили кое-как или вовсе не хоронили. Прекратились все работы на полях и в самом городе. Всё было завалено трупами, не исключая и храмов, и часто один труп лежал на другом. Весь город был набит стекавшимися отовсюду людьми; и все они погибали от грязи, смрада и скученности жилья. Везде пылали похоронные костры, из-за которых обречённые люди дрались, желая сжигать своих, а не чужих».
«В этом мрачном описании Лукреций совместил методы монументальности и художественного изображения человеческой жизни во всём её ничтожестве, бессилии и тупике... — подумал корникулярий. — Методы, свойственные показу не только того давнего времени, но и нашего, ибо человеческая жизнь во все века была и остаётся плевком, который легко растирается ногою...»
Снова мысли Антония перекинулись к Риму: «Посылаю туда ещё людей... И пусть они больше наблюдают в храмах бога Митры... Думаю, что я в поисках Гонории встал на верную стезю... Так, по крайней мере, подсказывает мне моя интуиция... А классическое её определение таково, что оно есть безотчётное, стихийное, непосредственное чувство, но основанное на предшествующем опыте, на постижении истины всё же путём доказательств, а не просто так, с бухты-барахты... Думал, что характер Плацидии я изучил до конца, оказывается — совсем не так; в эти дни она проявляет завидное терпение и понимание ситуации... И это хорошо, иначе её нервозное вмешательство внесло бы лишь сумятицу в мои планы...»
Владелец оливковой рощи, расположенной на берегу озера Когинас в Сардинии, грек Клисфен был большеносый зануда. Но занудливость его находилась в прямой зависимости от количества выпитого им вина: после двух фиал он становился весельчаком и добряком. Добряком, конечно, в том смысле, чтобы пошутить или проявить к рабу снисхождение. А вообще-то у этого «добряка» на счету сотни загубленных жизней...
В прошлом грек Клисфен начальствовал над пиратской тахидромой, которая промышляла не только в Тирренском, но и Средиземном и Ионических морях, «Свистать всех наверх!» — до сих пор в ушах большеносого грека стоит пронзительный свист боцманской дудки, и он видит, как палубу моментально заполняют его бородатые матросы в малиновых шароварах с заткнутыми за широкие матерчатые пояса кривыми ножами. А уж если тахидрома тесно прижималась к чужому кораблю, как блудливая женщина к богатому вдовцу, то капитан орал во всю мощь своей глотки: «На абордаж!» и сам был непрочь помахать акинаком, взобравшись на чужую палубу, и поживиться.
Своего бывшего боцмана, имеющего пудовые кулаки, он сделал управляющим, когда приобрёл на острове оливковую рощу. Управляющего звали Адраст, земляк, тоже родом из Афин, имел музыкальное образование, а сам Клисфен в бытность писал стихи. Но в Афинах, как и Риме, когда наступал голод, то первым из города гнали в шею поэтов и музыкантов, музыкантов серьёзных, а не тех, кто на арфах или кифарах подыгрывал матронам, занимающимся с рабами любовными утехами...
Нет необходимости рассказывать, как эти изгои мыкались, пока не попали к морским разбойникам, отрастили бороды и надели малиновые шаровары...
Убить первого... Это поначалу было сделать непросто музыканту и поэту, а уж потом пошло-поехало: но тут произошло следующее — с каждым убитым далее от них начал уходить талант... Иногда бьётся Клисфен сочинить строфу и не может, а у Адраста пальцы рук, сжимающие меч или дротик, утолщились в суставах, ладони расширились и, когда пробует играть на арфе, спотыкаются пальцы о струны... А управляющий из него получился отменный. Новая профессия его тоже требовала жестокости, но понапрасну он рабов не истязал, хотя по части истязаний старались другие — надсмотрщики...
Когда однажды с торгов привезли новых рабов, Адраст обратил внимание на высокого стройного римлянина — и в конце концов разобрался с ним: матросы, проданные с миопароны, сказали, что этот красавец — не простой человек и на корабле вёл себя так, как будто он выше стоял по званию капитана...
— Братья наши, разбойнички, кажись, ошиблись, Клисфен, что не повесили вместе с навархом и этого человека, а всучили нам как рабочий товар...
— Трудится он хорошо? — спросил у Адраста владелец оливковой рощи.
— Да так себе... К физическому труду не приучен: ты знаешь, что он являлся смотрителем императорского дворца в Равенне?..
— Да ну?! — искренне удивился Клисфен. — Вон какая непростая птичка к нам залетела, и я понимаю, что обменять мы его на кого-нибудь не можем, и отдать властям, чтобы разоблачить себя, тоже не можем...
— Нам остаётся одно — прятать его у себя и не давать возможности улизнуть с острова. Поэтому я приказал усилить за ним наблюдение.
— И правильно сделал.
Нежданно-негаданно на Сардинию обрушилась страшная болезнь — чума. «Чёрная смерть» безжалостно начала косить всех подряд. Но природа на удивление в это время, наоборот, пыталась показать себя с самой лучшей стороны, во всей красе: май и июнь были необыкновенными месяцами цветов; благоухал боярышник, не было в садах никогда ещё столько роз, столько жасмина и жимолости, фиговые деревья готовы были плодоносить в году не по два или три раза, а все четыре, оливы зрели на глазах... И везде гудели многочисленные пчёлы, таская к себе в изобилии мёд и усваивая свои ульи повсюду: в дуплах старых деревьев, прорехах крыш, выброшенных ящиках из-под плодов; а кто ещё мог ходить и работать, кого ещё не свалила страшная болезнь, делал сам для пчелиных роёв прибежища из тростника, так как к востоку от озера Когинас простирались болота, делал также из соломы, ивовых прутьев, а то и просто из травы. Но вдруг пчёлы разом исчезли, и чума с новой силой принялась за людей. Добралась она и до владений грека Клисфена...
И раньше голову Евгения Октавиана посещали мысли о побеге, но он видел, что за ним ведётся усиленный надзор. А находиться на острове, где вовсю уже гуляла чума, он уже не мог: или «чёрная смерть» настигнет его здесь, или, в конце концов, забьют палками надсмотрщики.
И он решился...
По утрам рабов будили раньше, чем вставало солнце; полусонных, в цепях, их колонной гнали к оливковой роще через густые кусты маквиса. Надсмотрщики тоже выглядели не отошедшими ото сна: зевали, лениво переговаривались, и всегдашняя бдительность у них притуплялась в это ещё полутёмное время.
И Евгению Октавиану удалось незаметно упасть в кусты и схорониться... Когда колонна ушла, он выбрался и, поддерживая руками цепи, чтобы они громко не звенели, спустился к болоту. Евгений подумал так: если его быстро хватятся и снарядят за ним погоню, то он лучше утопится в болотной жиже, потому что страдать от частых побоев он уже был больше не в силах...
Остановился на краю трясины, взглянул на небо: оно ещё оставалось окутанным тёмными тучами; но уже там, где небо смыкалось с землёю, стала пробиваться синева и постепенно расширяться, но Евгений знал, что солнечные лучи сквозь неё ещё нескоро проглянут...
Через какое-то время он услышал конский топот: для верности приложил ухо к земле... Звук шёл пока издалека, со стороны оливковой рощи.
Евгений заметался: «Погоня!.. Иди в трясину, топись... Ты же недавно так думал...» — и представил, как болотная вонючая грязь со всякой мелкой живностью лезет в рот, ноздри и уши, забивает горло, проникает в желудок, и содрогнулся... Но тут он увидел неподалёку яму, до краёв наполненную древесными листьями, и слава Богу, что они оказались не слежалыми, а свежими, и если он сейчас спрячется и накроется этими листьями, то со стороны не станет видно, что их ворошили...
Он так и сделал, укрывшись в них с головой: лошадиный топот шёл теперь как бы изнутри, эхом отдаваясь в глубокой яме, и вскоре Евгений различил голоса: говорили о нём, хотя бывший смотритель дворца плохо разбирался в языке, на котором изъяснялись те, кто сидел в сёдлах. Они были уроженцами Сардинии и общались между собой на так называемом кампиданском наречии... Но всё же Евгений кое-что понимал, так как на этом диалекте говорили и в Сицилии, где он бывал не единожды...
Кто-то сказал прямо над его головой:
— Давай поскачем в сторону моря... Оно недалеко, всего восемь миль. Наверняка он направился туда...
Когда лошадиный стук копыт затих, первое, что Евгению пришло в голову, — скорее выбраться из этой ямы, ибо дышать становилось всё труднее: листья на дне ямы издавали гнилостный запах. Но воздух сверху проникал сюда, терпеть можно было, и как бы ни хотелось выбраться отсюда, а надо ждать, когда назад вернутся преследователи. Надёжнее хорониться укрытым в яме, нежели на открытой местности, пусть даже в кустах или за деревьями...
Согревшись, Евгений задремал и открыл глаза, услышав снова конский топот, который приближался... И тут будто кто стал ворошить палкой сухие листья, затем раздался шорох и что-то холодное и гладкое скользнуло ему под рубаху и сползло к низу живота... «Боже, змея!» — мелькнуло в его мозгу, и ему захотелось закричать от охватившего его ужаса и впрыгнуть из этой ямы... Но топот лошадей уже рядом; неимоверным усилием воли Евгений сдержал себя: «Уж лучше быть ужаленным этой тварью, чем погибнуть под палками и пытками... Или же быть заживо сожжённым в костре, куда кидают умерших от чумы...» — решил он.
— Как сквозь землю провалился... А не мог он в темноте забрести в трясину и утонуть? — спросил один из преследователей.
— Так и есть! Поехали, скажем управляющему, что беглец погиб...
— Поехали.
Когда всадники удалились, Евгений не дыша, чтобы не вздымался живот, так как тварь улеглась на нём, не проскочив ниже (сделать это не давал туго обтягивающий матерчатый пояс), потихоньку разрыл яму, размотал осторожно пояс, и змея сползла по ноге на землю... Вдруг она проворным тонким шнуром скользнула на край ямы — только и видели её!
«Она даже меня не тронула!» — радостно заколотилось сердце у Евгения, он увидел в этом для себя благоприятный знак свыше и улыбнулся.
«К морю, надо двигать к морю... Ну а если по приказу управляющего погоню возобновят? Лучше в этой яме отсидеться... — Но живот ещё хранил на себе холодное прикосновение змеи, и Евгения снова всего передёрнуло... Тем не менее он заставил себя опять зарыться в листья: — Нужно дождаться темноты, а ночью пойду...»
Он вылез наружу, когда небо вызвездило, а луна в своей четверти уже висела рожками вниз — в небе на севере Италии они слегка приподняты.
Кругом стояла тишь, но когда Евгений пересёк заросли маквиса и оказался в поле, то услышат беспрерывный звон цикад... Душисто запахло разнотравьем, воздух после удушающего, гнилостного запаха стал пьянить.
«Господи, Единый Бог, это ты наполняешь жизнью землю и небо, не дай и мне умереть, спаси и помилуй!» — взмолился Евгений.
Этот дрожащий звёздным и лунным светом небесный мир и земной, наполненный звоном и душистым запахом трав и цветов, позвали Октавиана из неволи... Так, по крайней мере, казалось ему, а вовсе не страх быть забитым двигал его к желанию побега...
Всю ночь, вспугивая угнездившихся ко сну птиц, Евгений шёл и шёл, и, несмотря на гремящие на ногах цепи и высокие травы, ему шагалось легко... К утру он вышел к морю. Недолго думая, забрёл в воду, постоял, чувствуя, как гудящая истома наполняет всё его измученное тело, а когда поднялся на берег, то увидел стоящего на нём старика.
Им оказался одноногий сторож маяка, выложенного из белого камня.
Старик привёл Евгения к себе, поставил возле ложа столик с едой и стал потчевать гостя (если так можно назвать беглого раба)...
Старик не расспрашивал ни о чём Октавиана: и так всё было ясно, начал рассказывать о себе...
Ногу потерял в битве с вандалами, сражаясь на стороне римского императора Бонифация. (На самом деле этот старик служил на пиратской тахидроме Клисфена, и ранили его в одном рукопашном бою копьём в ногу, которую позже пришлось отнять.) Но, несмотря на убогость, каждый вечер поднимается с зажжённой лампой на самый верх маяка и ставит её под колпак, освещая путь кораблям; на одном из них капитаном является товарищ сторожа, и он попросит его взять Евгения на борт...
— Спасибо, спасибо! — в порыве благодарности кивал головой Евгений старику, доедая остатки пищи и думая теперь лишь о сне.
— Пока ты будешь жить у меня, без моего разрешения из помещения маяка никуда не выходи... — предупредил сторож.
Октавиан заснул и, разумеется, не видел, как одноногий вывел лошадь и поскакал в противоположную от морского берега сторону...
Проснувшись и не найдя сторожа, Евгений подумал, что ничего страшного не произойдёт, если он нарушит запрет; он вышел из помещения маяка и снова побрёл к морю. Снял рубаху, штаны, подтянул цепи, нагнулся, чтобы зачерпнуть ладонями воду и ополоснуть лицо, как вдруг почувствовал сильный удар палкой по голой спине. Евгений упал, но его выволокли из воды и стали избивать. Били жестоко и хладнокровно, а потом взвалили на лошадь и повезли.
По приказу управляющего Евгения бросили в барак, стоящий на отшибе и предназначенный когда-то для скотины: затем он обветшал и прохудился, и сюда теперь свозили заболевших чумой и клали на деревянные топчаны.
Когда Евгений пришёл в себя и открыл глаза, то ему показалось, что лежит он здесь целую вечность...
«Неужели я успел заразиться страшной болезнью и меня бросили к чумным?! — Евгений кое-как повернулся на живот, так как очень сильно болела спина и голова в затылке. Уткнулся горячим лбом в доски.
Но ему было невдомёк, что его не просто наказали за побег, а решили избавиться насовсем: держать в рабах человека большого государственного Звания — дело опасное, тем более который стремится убежать. Клисфен и Адраст рассудили так — отвезём раба в чумной барак, он там скоро заразится, помрёт, а потом сожжём в костре. Был человек — и нет человека!..
Евгений помнит, что нашёл в себе силы отодвинуть свой лежак от топчана соседа, который бредил, сгорая от жара, и повторял постоянно, что вода в озере, куда он зашёл, не остужает его тело, наоборот, горячит ещё больше...
«Если бы я не выходил из помещения маяка, тогда бы меня не обнаружили... Сторож был внимателен ко мне, обходителен... Надо было его слушаться, — размышлял Евгений, не подозревая, что этот внимательный и обходительный сторож и предал его. — А я мог бы насовсем покинуть остров... Одноногий старик пообещал посадить меня на корабль, капитаном на котором служит его давний товарищ...»
Евгений, кажется, снова погрузился в сон, потому что привиделся ему на высоком морском берегу белый маяк с колпаком наверху, внутри которого светила яркая лампа... Привиделся и такой же белый корабль с белыми парусами, который пробивался сквозь свирепые волны. Ветер крепчает, срывает один парус, другой... По воде ударяют вёсла, и корабль смело идёт снова вперёд, держа курс на маячный огонь... Но вдруг лампа гаснет, корабль наталкивается на прибрежную скалу, трещит палуба, обшивка... Люди прыгают в бушующее море и гибнут с отчаянным криком...
Евгений вздрагивает во сне и просыпается, и уже наяву слышит этот отчаянный крик соседа, который всё горел в огненной воде... В дальнем углу барака заплакал ребёнок.
Несмотря на то, что барак был очень худой, смрад от гниения человеческого тела стоял здесь нестерпимый. Он беспрерывно лез в ноздри. Не перебивал его и запах жжёного мяса, когда через какое-то время приходили в барак закутанные в чёрное люди и раскалёнными железными прутами прижигали на ещё пока живых людях трупные гниющие пятна. Чёрные люди подошли и к Евгению, долго рассматривали его, а потом убрались в другое место барака, откуда вскоре послышались нечеловеческие вопли...
«Такого даже, наверное, и в преисподней не случается... — подумал Евгений и обнаружил, что он накрепко привязан одним концом цепи, снятым с руки, к топчану; ночью, когда вставал, чтобы отодвинуть лежак от соседа, этого ещё не было. — Значит, боятся, что я снова убегу...»
Опять закрыл глаза, ладонью зажал нос, задышал ртом.
К вечеру ему нестерпимо захотелось нить. В горле жгло. Пошарил рукой возле себя в поисках воды. Но ничего не нашёл. Стал звать, но никто не подходил.
— Воды! Воды! — закричал Евгений.
Видимо, кто-то из чумных, находящихся пока в сознании, сжалился и подал ему глиняный фиал, из которого пил сам... Евгений жадно припал губами...
А через три дня его уже в бессознательном состоянии бросили в повозку вместе с умершими и повезли к огромному костру, что полыхал днём и ночью на краю оливковой рощи. Возле него орудовали так называемые «ангелы смерти» — в белых балахонах и колпаках, в которых находились лишь прорези для глаз, в длинных по локоть рукавицах.
«Ангелы смерти» кидали в костёр привезённые трупы, обхватывая их клещами на длинных рукоятках.
— Гляди, он ещё, кажется, шевелится... — обратил внимание на Евгения один из «ангелов».
— Думаешь, живой?.. Эк, бедняга, да из него вонь какая прёт! Всё равно не жилец... Бери клещами за шею, а я за ногу ухвачу... А ну, в огонь его на счёт раз, два, три-и-и! Ишь как искры взметнул в костре... Потому как живой... — Помолчал, глядя, как огонь окутывает только что брошенное тело человека. И «ангел смерти» заключил: — Думаю, что душа чумных сразу уходит на восьмое небо, не станет она маяться по семи небесным сферам, ибо тут, на земле, настрадалась крепко...
IV
Молодую красивую вдову, оставшуюся после смерти повелителя гуннов великого Ругиласа, один из его племянников, Бледа, взял в жёны, не спросясь Аттилы, и этим окончательно подорвал дружбу с родным братом.
Своенравный и обидчивый, который тоже имел виды на Валадамарку, племянницу короля остготов Винитара, погибшего в битве на реке Прут (как мы уже упоминали выше), Аттила с народом, доставшимся ему при разделе власти, откочевал к реке Тизии и в Паннонии учредил свою главную ставку. Но он редко в ней находился, а всё больше ездил по малым кочевьям, ночуя в походных шатрах, всё время заботясь о пополнении войска и его лучшей организации.
При нём всегда находился воспитанник Карпилион, сын римского полководца Аэция. К нему и ехал отец. Аэцию было сейчас нелегко угадать, в каком месте искать неугомонного Аттилу, к которому питал дружеские чувства, как равно и Аттила к «последнему великому римлянину», хотя был намного моложе Аэция.
В сопровождении отряда кавалерии, состоящего из двухсот хорошо вооружённых всадников, римлянин проехал озеро Балатон, где, знал Аэций, любил бывать Аттила. ибо оно рождало добрые воспоминания о множестве озёр, мимо которых правитель гуннов проезжал в детстве. Из них он пил прозрачную воду и поил своего коня. Напоив, трёхлетний Аттила подводил верного скакуна к камню, вскарабкивался и садился с него в седло. И продолжал далее скакать и бросать аркан. Об этом будущий предводитель гуннов рассказывал будущему римскому полководцу, когда тот, как и Карпилион, находился на воспитании в гуннском лагере.
— В три года ты уже сидел в седле и бросал аркан? — переспросил тогда Аэций Аттилу.
— А мы уже проделываем это, находясь ещё в утробе матери, — довольный своей шуткой, сказал Аттила, шмыгнув приплюснутым длинным носом и шевельнув густым левым усом. Правый у него был короче[76]... — У тебя в Риме растёт сын, присылай его к нам, и он научится всему, чему научился здесь ты...
Теперь сыну двадцать, только что состоялось его посвящение в воины, и Карпилиона можно забирать к себе...
Вот уже несколько дней едут и едут, и кого ни спроси: «Чьи это владения?», отвечают: «Аттилы!»
Чем ближе подъезжали к Тизии, тем тревожнее становились думы Аэция. Как военный человек, он сразу отметил выгодность положения ставки одного из племянников Ругиласа: она как бы разместилась на вершине треугольника, образуемого тремя владениями народов — гуннов, византийцев и римлян.
«Неспроста этот человек, которого величают жестоким дикарём, хотя я знаю его совершенно другим, избрал место для главной ставки на вершине этого треугольника... Сейчас он уже отсюда достаёт владения Империи ромеев, придёт время, Аттила посягнёт и на Рим. Пока он наш союзник... Но такие, как Аттила, не останавливаются, а идут до конца, как и его предшественники — правители гуннов, прошедшие с мечом и огнём, вселяя всем ужас, огромный путь от синих холмов Монголии до ковыльных степей Паннонии...»
Показалась Тизия: река, разлившись от обильного таяния снегов и вспухнув, словно квашня, несла на себе остатки ноздреватого грязного льда, хворост, клоки соломы и камыша, вздутые трупы погибших в половодье лесных и степных животных.
Аэций и всадники остановились, но тут в задних рядах возникло какое-то движение, и вскоре перед полководцем предстал завёрнутый в волчью шкуру верховой гунн, который сообщал, что его зовут Таншихай, он есть посол и будет сопровождать великого римлянина до временной стоянки Аттилы.
— Вон у тех гор, — показал куда-то в сторону плёткой Таншихай и белозубо улыбнулся. Но сколько ни вглядывался Аэций, пока никаких гор не увидел...
Они свернули к ещё одной реке, которую позднее назовут по-мадьярски Бодрог, являющейся правым притоком Тизии, и поехали вдоль неё.
Таншихай, оказывается, владел многими языками: помимо готского, на котором свободно изъяснялся и Аэций, посол Аттилы знал романский, греческий и скифский. На какое-то время Аэцию стало стыдно: он — сын скифа Гауденция, женившегося на знатной римлянке, почти забыл язык своих предков по отцовской линии. А после того, как Гауденций определил сына на воспитание к Ругиласу, Аэций совсем не говорил по-скифски, зато хорошо освоил язык гуннов.
Я, как автор, и раньше в других произведениях высказывал своё предположение, со временем перешедшее в уверенность, что в то время почти каждый человек, живя в окружении людей разных наций, чтобы общаться с ними, обязательно овладевал и их языками — для него это становилось такой же необходимостью, как иметь при себе нож или лук, — этим оружием он защищался и нападал... Языкам того человека никто не учил, он осваивал их, вырастая среди иноплеменников, сам. Но наиболее усиленное взаимопроникновение языков происходило во время Великого переселения народов, почти в эпоху описываемых нами событий, когда разные племена, воюя между собой, мирились, объединялись, нападали на другие, брали их в плен и снова нападали, передвигаясь по планете Земля в разных направлениях и оседая потом во всех её концах... Впрочем, такое (правда, менее интенсивное) переселение мы наблюдаем и в другие столетия, когда хазары в VII веке пришли с Северного Кавказа на Волгу; тогда болгары, спасаясь от них, ушли за Дунай, а чуть позже и угры покинули Приуралье и осели в Паннонии и Норике[77].
Также некоторые племена славян и аланов переселились за Дунай, на Африканский континент, в Испанию и даже Италию и до сих пор живут там; да и те хазары, разгромленные в X веке русским князем Святославом, разбрелись по разным местам.
Таншихай обратился к Аэцию на латинском.
— Можешь говорить со мной на своём родном языке, — сказал Аэций гунну. — Постой-постой... А не сын ли ты старика Хелькала?
— Да, сын... — удивился Таншихай. Ему захотелось узнать, откуда римлянин это знает, но у гуннов не принято было задавать гостю много вопросов. И сын Хелькала промолчал.
Аттила встретил римского полководца сдержанно, но по тому, как радовались его придворные приезду Аэция, было видно, что повелитель гуннов тоже был доволен. Римлянину показалось, что на лице Аттилы как-то по-особому светились глубоко посаженные глаза, а правый короткий ус топорщился ещё сильнее. Вскоре Аэций проник в тайну преображения Аттилы — тот женится и ждёт на свадьбу брата своего Бледу, давшего наконец-то согласие к нему приехать... Зато оставшись один на один с Аэцием, Аттила дал волю своим чувствам:
— Аэций, друг мой, дай я обниму тебя! Сколько времени не виделись?.. Твой уж сын смелым и ловким богатуром стал, скоро во всей красе он предстанет перед тобой.
— Благодарю за него, повелитель.
— Обижаешь, великий римлянин. Разве мы с тобой не братались, когда в жестокой борьбе клали на лопатки друг друга?!
— Было дело...
— Так зови по имени меня, Аэций... Аттила... Даже родному брату Бледе я не позволяю так называть меня... Только ты имеешь право. Потому как ты ближе мне брата родного.
Что-то такое пока скрывал от него Аттила, но, зная отношение его к Бледе, подумал: «Уж не хочет ли Аттила один властвовать над гуннами?.. Значит, он воспользуется приездом брата на свадьбу для того, чтобы... Погоди... Погоди... Следовательно, ему необходимо в моём лице заручиться поддержкой всего Рима... Ну чем не змей?! Ведь знал, что я еду к нему. К моему приезду и свадьбу задумал, и тем самым брата-соправителя завлёк к себе...»
— Ты, Аттила, какую же жену себе присмотрел? Каких царских кровей?.. И какую по счёту?..
— А зачем они мне... эти крови?! Когда у меня самого течёт своя царская кровь. А жён я не считаю. Очень много у меня их.
— Значит, долго не выбирал себе невесту?
— Не выбирал... — увидев, что Аэций совсем близко находится к разгадке его женитьбы, резко переменил разговор: — Ты, наверное, устал с дороги... Иди, выбирай себе шатёр. Сейчас пришлю к тебе банщиков. Учти, что я не в корыте моюсь, как мои подчинённые, а, следуя твоему совету, переносную баню вожу с собой... Деревянную, с железным котлом. Надо мне куда переехать, сруб банный раскатывают, котёл из кладки каменной вынимают, а потом сооружают снова... Иди, а после бани я массажисток пришлю... Между прочим, они подруги будущей моей жены, которую зовут Крека...
(В скобках заметим, что выбрал себе Аттила жену из массажисток, думая лишь бы свадьбу справить ко времени приезда Аэция и чтобы брата завлечь, да Крека тоже женщина оказалась не промах, самой любимой женой (и не временной) сделалась у Аттилы; и сама очень любила мужа. Она, кстати, приняла живейшее участие в похоронах Аттилы, когда он умер...).
После бани и отменного массажа проспал Аэций почти целые сутки, а когда проснулся, увидел сына, сидящего в изголовье. Вскочил, обнял родную кровинушку, потом вытолкал на середину шатра и залюбовался им: выше отца на две головы (если учесть, что Аэций был небольшого роста), крутолобый, с упрямыми, как у отца, скулами, широкоплечий... Тут уж отец шириной плеч с сыновьими мог бы поспорить...
— Скажи, Карпилион, ты доволен был жизнью в гуннском лагере?
— Ты же сам в нём находился, знаешь...
— А всё же? — допытывался полководец.
— Поначалу тяжело приходилось... Не слезал с коня сутками, даже научился справлять свои надобности, сидя в седле...
Отец улыбнулся, вспомнив, как у него самого это смешно получалось, потом освоил хитрую науку... Главное, чтоб седло и коня не замочить и не замарать... Простых гуннов за подобное наказывали жестоко плетью.
— Также усердно, отец, учился и военному делу. Могу навскидку метнуть нож и попасть не только в шею врага, но даже в глаз... Стреляю из лука с обеих рук на полном скаку... Копьё могу метнуть с такой силой, что пробиваю любой толщины дубовый щит. Могу...
— Ладно, сынок, а то всё это похоже на хвастовство... В дате покажешь. — И, узрив, как нахмурился сын, похлопал его по плечу: — Не обижайся... Я рад за тебя. Молодец!.. А скажи, Аттила делился когда-нибудь с тобой сокровенными мыслями ?..
— Что ты имеешь в виду?
— О брате своём, о Бледе, говорил с тобой?
— Он однажды выразился так: «Приелся, как сухой ячмень беззубой кобыле...» Так Аттила сказал после того, как Бледа взял себе в жёны красавицу Валадамарку...
— Ну ладно... Чему быть, того не миновать... Значит, Аттила шкуру брату хочет отдать, только чтоб тот пропал с нею!.. Пошли к повелителю, я поблагодарю его за твоё воспитание... И будем готовиться к свадьбе...
Сидя в дальнем мрачном помещении митреума, Гонория часто думала о Евгении — что-то долго нет его и нет, и там, в своём далеке, вспоминает ли он о ней?.. Конечно, ей было бы обидно узнать, что ещё в плавании, находясь на борту миопароны, изредка вспоминал о ней, но потом, попав в плен, был настолько занят собой, так переживал своё ужасное положение и побои, что забыл совсем про свою возлюбленную... Даже перед гибелью своей не вспомнил.
Да любил ли он её вообще?.. А если нет, то почему взял на себя ответственность за побег и принял в нём живейшее участие?
Учтите, что Евгений — не плебей, он представитель древнего патрицианского рода, воспитан на примерах чести, совести и сострадания. Хотя мы знаем о подобных представителях многое и другое, и дело тут даже не в патрицианских родах... Понятие чести и совести было привито Евгению с детства, но надо отметить, что по натуре своей он не был героем; впрочем, как заметила Гонория, героизм остался где-то в прошлом, и у человека того времени резко поменялись ориентиры. Видимо, с крушением империи и рушатся идеалы... Ибо всякое крушение — это обвал, хаос, обломки, под которыми гибнут люди, и их стремления направлены на то, чтобы выжить. А тут уж, как говорится, все средства хороши.
Когда Гонория находилась на миопароне, Евгений испытывал от её присутствия неловкость и очень обрадовался, когда возлюбленная согласилась сойти на берег, чтобы потом добраться до Рима. И, посылая её к Клавдию, Евгений должен был бы тоже знать, чем это грозит отцу... Да к тому же в пути беглецов могли изловить... Но он не стал размышлять на эту тему.
Отправив Гонорию, молодой Октавиан как бы и забыл о ней на какое-то время. Не надо теперь заботиться об устройстве возлюбленной в порту назначения... Мне кажется, всё это было продиктовано Евгению обыкновенной трусостью. Но... О мёртвых только хорошее или ничего... Мы-то знаем, что Евгения уже нет в живых; возлюбленная же считает минуты до его возвращения, а любимого всё нет и нет, и разные мысли приходят в её голову, как и те, которыми мы поделились...
Тяжело беглянке, а тут ещё запретили гулять поздно вечером по крыше митреума; Клавдий предупредил жреца Пентуэра, что соглядатаи находятся в Риме и надо быть предельно осторожными. Пентуэр эти слова передал посвящённому Виридовику, и тот вечерние прогулки по крыше отменил.
Гонория заметно стала сдавать — раньше ждала позднего вечера с нетерпением, теперь она не приходила в возбуждённое состояние, наоборот, испытывала к наступлению ночи вялость. Единственное, что могло её как-то взбодрить, — это когда из норы в полу появлялась крыса... Гонория прикормила её, и та позволяла вначале трогать себя, потом гладить, а затем сама взбиралась к ней на колени. Джамна смотрела на эту тварь с явным отвращением, но Гонория и рабыню приучила брать крысу на руки.
Только после того, как жрецы бога Митры узнали, что на Корсике и Сардинии разразилась чума, они заделали в храме все дыры в стенах и полу, чтобы крысы или ещё какие разносчики не смогли больше показываться.
По уверению Джамны, крыса по ночам теперь верещала под досками пола, но ни Гонория, ни ант Радогаст это не слышали.
Как только вспыхивала на небе первая звезда, Гонория смежала веки и засыпала, и спала она, почти не дыша... И однажды Джамна и Радогаст, зная о подземном ходе, отважились выйти по нему к Тибру, чтобы искупаться и подышать свежим воздухом, пока госпожа видела свои тихие сны. Только, может быть, Гонория делал вид, что спит?!
— Смотри, как младенчик... — произнёс Радогаст, залюбовавшись своей госпожой.
— Тс-с... — Джамна заглянула ему в лицо, взяла анта за руку и приложила пальцы к своим пухлым губам. Жесты её можно было расценить двояко — они, с одной стороны, предупреждали вести себя и говорить потише, а с другой — как бы переводили восхищенный взгляд Радогаста с госпожи на неё, Джамну... Ревновала ли она красивого голубоглазого раба к молодой Августе?.. Кто знает... Хотя не раз Радогаст ловил на себе пристальный, изучающий взгляд темнокожей девушки, в котором присутствовали не только интерес, но и теплота.
Анту Джамна, стройная, как лань, с большими, чуть раскосыми и слегка выпуклыми глазами, в коих светился живой ум её ближневосточных предков по матери, всё больше и больше нравилась. Он внутренне трепетал, когда она по утрам, делая и ему массаж, ласково дотрагивалась до его плеч; затем пальцы её твердели, и Джамна начинала крепко растирать его мышцы, — тогда жаром обдавало виски Радогаста. Она и сама подставляла спину, чтобы и он помял её тело, заставляя бодрее течь по жилам кровь; иногда он прижимался к девушке, и она чувствовала волнение его плоти... Не могла не замечать этого и Гонория, тоже скучавшая по мужским ласкам, но строго блюла свою верность возлюбленному.
Радогаст тихонько отодвинул засов, приоткрыл окованную железом дверь настолько, чтобы просунуться, и снова затворил; так они оказались в тёмном затхлом туннеле. Огня, договорились, не зажигать, чтобы с другого конца подземного хода никто их не обнаружил.
Тихо. Лишь капает поблизости вода. Вот вверху случился шорох, и кто-то мазнул по лицу Джамны — та тихонько вскрикнула.
— Не бойся, это летучие мыши... Дай руку и сожми пальцы... Пошли! Осторожно ступай. Вот так.
Пройдя несколько футов, Радогаст споткнулся о какой-то камень, предупредил девушку: она по-прежнему сильно сжимала его ладонь, но уже меньше боялась темноты.
Туннель стал сужаться, пришлось по нему протискиваться, под ногами что-то хрустело, и свод стал ниже, — вскоре они встали на четвереньки и поползли; Джамне было легче, а анту при его росте мешал акинак, но расстаться с ним он не смел.
Проползли несколько десятков локтей, и вдали забрезжил свет ночного неба.
— Гляди, звёздочки... — над ухом приятно пропела девушка.
Туннель вдруг снова расширился, стал выше, в лицо пахнул прохладный воздух с реки; несмотря на то, что подземный ход со стороны Тибра был завален двумя валунами, между ними оставалось довольно широкое отверстие, поэтому и виделись изнутри через него звёзды.
Прислушавшись, Радогаст навалился плечом на валун, сдвинул его с места и выскользнул наружу. После стольких дней заточения, оказавшись на воле, ант почувствовал, как закружилась голова и задрожали ноги. Заглянув внутрь, позвал Джамну. Но никто не ответил... Лишь слабый свет почудился ему. «Что за колдовство?!» — воскликнул про себя Радогаст и хотел было кинуться снова в туннель, сжимая в руке меч, но вдруг сбоку увидел обнажённую фигуру женщины, в которой узнал Джамну. Она шла от реки и выжимала на ходу волосы.
— Ты как это?.. Успела когда? — пробормотал Радогаст.
Джамна вся в сиянии мелких водяных брызг, облитая звёздно-лунным светом, теперь стояла в двух шагах от раба и смеялась:
— Ты стал валун отодвигать, а я в отверстие вперёд тебя выскользнула и сразу — к воде, ополоснуться...
— А если бы кто наблюдал за нами? — строго укорил девушку Радогаст и сам, не теряя времени даром, побежал к реке. Положил на землю акинак, разделся тоже догола.
Ближе к тому берегу проплыла доверху груженная барка, вёсла в уключинах тяжело скрипели.
Рим находился в освещении вечерних факелов, особенно ярко они горели на Субуре; огни, кстати, не погаснут на этой улице до самого утра. Там веселье будет царить до первых криков петухов, коих держали вместо будильника в каждом римском доме.
Радогаст погрузился с головой в воду, подождал, почувствовал, как охлаждает она всё тело, вынырнул. Гремя колёсами по булыжной мостовой улицы, примыкающей к реке, проехала повозка. Возница грубо ругнулся на бросившуюся под ноги лошадей бродячую собаку.
«Надо поостеречься... Опять из виду пропала шаловница Джамна... Как она хороша... обнажённая! Груди — нежные персики, гладкий живот стройные ноги... И дивная шея!» — Радогаст завращал головой, ища глазами девушку на берегу, и тут, его схватили за ногу; ант дёрнулся, поймал чью-то руку, потянул и выловил Джамну, которая незаметно под водой подплыла к нему.
Сейчас её мокрые волосы висели прядями, зубы в улыбке жемчужно блестели, груди вздымались волнующе, — и тогда ант притянул к себе тело темнокожей рабыни и зажал её смеющийся влажный род своими губами. В ответ кончик языка Джамны прошёлся по его зубам, как бы требуя, чтобы он разжал их, а когда это сделал, то трепетное щекотание нёба возбудило анта до предела... Он стал гладить правой рукой её нежную шею, затем груди, сдавливая их всё сильнее и сильнее, а левой постепенно достигал её запретного лона... Джамна тоже своими проворными пальчиками начата ласкать ставшее большим и крупным его естество... Потом девушка, стоя на мелководье, приподнялась на носки и со стоном вобрала в уже не запретное для Радогаста лоно сладкую плоть...
Звёзды на небе, казалось, замигали ещё ярче, ночная вода в реке будто потеплела разом, а луна пролила на их тела, слившиеся в одно целое, ещё больше света.
— Ты мой!.. Ты мой!.. — задыхаясь, шептала Джамна, обвив руками его мускулистую шею и повиснув на ней.
Позже они зашли в туннель, ант завалил выход, как было раньше, валуном, и вернулись тем же путём.
Гонория также тихо спала, но на губах у неё блуждала улыбка...
Обследуя местность возле митреума, где жрецом служил Виридовик, один из секретарей Антония спустился к Тибру, пошёл вдоль реки и вдруг ему бросились в глаза кусты розового тамарикса, росшие на песчаном берегу. Подошёл ближе и увидел два валуна, приткнутых друг к другу, один из которых, кажется, недавно сдвигали в сторону. Заглянул в отверстие между ними: далее — пустота... Хотел валун отодвинуть, не хватило силёнок, пошёл звать на помощь товарища.
Вдвоём они проникли в подземный ход и потихоньку стали обследовать его — убедились, что он ведёт к храму... Не зажигая огня, приблизились к окованной железом двери; она была закрыта, но через неё, хотя и слабо, проникали голоса. Сразу узнали голос Гонории. Всё ещё не веря своим ушам, они тем не менее молча крепко пожали друг другу руки: «Удача!»
Теперь не только оплаченный отпуск им обеспечен, но кое-что перепадёт из рук самой императрицы. Так, по крайней мере, уверял их корникулярий, посылая в числе ещё одной партии шпионов в Рим... Только радоваться пока рано, беглецов ещё следует арестовать и доставить целыми и невредимыми в Равенну.
За дверью заговорил мужчина, он уверял, что сидение их в заточении скоро кончится.
«Это уж точно! — злорадно подумали секретари. — С Гонорией ещё должна быть чернокожая рабыня... Да, верно. Вот и она что-то сказала. Значит, вся компания в сборе... Прав оказался корникулярий, предположив, что беглецы должны скрываться в одном из храмов бога Митры...»
Секретари отошли от двери, посовещались — нужно ли ещё привлекать к предстоящей операции других товарищей, решили, что нужно... К укрывательству Гонории причастны жрецы этого митреума, с ними тоже нелегко будет справиться, вчера они видели одного из них — высокого, с могучей грудью.
...В храм ворвались шесть человек в защитных шлемах, кожаных панцирях и с мечами наголо. От неожиданности Виридовик даже не оказал им сопротивления, его сразу скрутили, связали и его напарника. В голове Виридовика промелькнуло: «Измена!», но он даже крикнуть не мог — рот ему, как и другому, забили тряпкой.
Радогаст, увидев, что навстречу бегут вооружённые люди, схватил меч и приготовился к сражению. Рослый секретарь, бежавший первым, сразу упал, захлебнувшись кровью, так как ант полоснул его лезвием по горлу, другого проткнул насквозь; вытащил из тела лезвие, отбежал в сторону и зарычал, словно лев, — силы Радогаста будто утроились. Наверняка он бы справился и с этими двоими, но на помощь им, узрив, как храбро сражается славянин, на время оставив связанных и лежащих лицом вниз жрецов, пришли ещё двое. Всё-таки вчетвером они одолели Радогаста, зарубив его у входа в помещение, в котором сидели ни живы ни мертвы молодая Августа и Джамна.
Через несколько дней дочь императрицы и её чернокожую рабыню секретари тихонько доставили во дворец.
Привезли они в Равенну для суда и следствия и трёх жрецов бога Митры — Пентуэра, Виридовика и его напарника. Жрецов сразу бросили в подземную темницу и надели на них цепи: сколько посвящённых ни жгли огнём, сколько ни дробили им железом кости, они не проронили ни слова — в конце концов Ульпиан приказал служителей убить, а трупы выбросить в крепостной ров на съедение собакам.
Хотел он поступить так и с Джамной, на которую был сильно зол, но Гонория строго заявила матери, что если с чернокожей рабыни упадёт хоть один волосок, то она покончит с собой...
Плацидия, удовлетворившись полуправдивым рассказом дочери о том, что она, приревновав к ней Евгения, по собственной воле сбежала из дворца и по совету Джамны с помощью Радогаста добралась до Рима и укрылась в храме бога Митры, оставила Гонорию на время в покое... Не разрешила императрица и трогать Джамну.
А вскоре пришла страшная весть о гибели Рутилия Флакка от рук пиратов и смерти от чумы Евгения Октавиана. Работающие на оливковой плантации в Сардинии, куда смотритель дворца был продан в рабство, все до единого вместе со своим хозяином-греком и его земляком-управляющим вымерли от этой страшной болезни.
Гонория после такого сообщения забилась в истерике, и сама Плацидия искренне огорчилась, лишь радовался этому корникулярий...
Антоний всё же был уверен в том, что укрывательством Гонории занимались не только жрецы, но и бывший сенатор Клавдий и его сын.
Если бы вернулся из плавания Евгений, то евнух учинил бы им допрос с пристрастием... Но смерть Октавиана-младшего всё в корне меняла, поэтому старшего уже не было смысла пытать и его не тронули, оставив наедине с горем...
V
Валадамарка была похитрее своего последнего мужа; приготовляясь на свадьбу к Аттиле, она засомневалась:
— Не кажется ли, Бледа, что тебя у брата ничего хорошего не ожидает...
— Ты глупая женщина! Аттила первым после размолвки позвал меня к себе, а я ещё буду колебаться... Собирайся, да поживее!
— Как повелишь, ты пока владеешь полцарством гуннов...
— Почему «пока»?! Моя ставка простоит ещё сотню лет.
«Мозги петушиные...» — сказала про себя Валадамарка; выданная замуж за Бледу насильно, она ни капельки его не любила.
— Как знаешь... Хотела тебя вразумить, да разве такие, как ты, способны что-то понять.
Рассуждая так, она мало боялась за себя: знала, что Аттила не даст её в обиду, ибо у него с ней в прошлом были близкие отношения. А Бледа боялся Аттилы.
На подарки родному брату Бледа не поскупился: обоз его состоял из повозок, груженных мехами, коврами, китайским шёлком, бочками с мёдом, верблюжьим кумысом. А в возке, в котором ехали Бледа и Валадамарка, в углу стоял чудесной работы ларец, где лежали драгоценные украшения для очередной будущей жены Аттилы.
Чтобы переправиться на другой берег Тизии, нужно было переехать по деревянному мосту, построенному готами по римскому образцу: под углом друг к другу в дно вбивались две сваи, — и таких угольников ставилось поперёк реки столько, сколько позволяла её ширина. Сверху настилались доски, затем возводились перила. Мост выдерживал не только весеннее половодье, но и ледоход.
Обоз сопровождали триста верховых; ехали под звон бубенцов, висевших на шеях волов, коней и верблюдов. По мосту преодолели Тизию, и на этом берегу Бледу и Валадамарку громко приветствовали всадники Аттилы.
— Смотри, как встречают! — разулыбался Бледа. — А ты сомневалась.
— Хлеб в руки, а камень в зубы... — недовольно проговорила Валадамарка.
— Ты, конечно, знаешь, что говаривал твой покойный муж, а наш дядя Ругилас о женском норове... «Это как глиняный горшок: вынь из огня, а он пуще шипит». Норов ваш и на коне не объедешь.
«Пусть болтает, что хочет. Только сердце мне нехорошее вещует», — подумала Валадамарка и вконец замолчала.
Впереди показались белые стены крепости; через подъёмный мост миновали наполненный водой глубокий ров и оказались внутри её. Увидели отделанный мрамором древнеримский дом, предназначенный когда-то для наместника императора. Но Аттила не жил в нём; как все, он обитал в просторной юрте, увенчанной чёрными конскими хвостами. Рядом стояли юрты поменьше — для приближённых. Остовом их служили медные или серебряные кереге (в зависимости от богатства и знатности их владельцев). Кроме дома бывшего наместника, из камня и мрамора была сложена большая красивая купальня, построенная по желанию одной из жён повелителя.
Такие же чёрные конские хвосты на своём верху имела юрта старика Хелькала, тоже довольно просторная, так как в ней любил проводить в разговорах время сам Аттила; Хелькал ещё от Мундзука — отца повелителя — унаследовал доверие к себе.
А вокруг шумели и волновались несметные полчища гуннов, готовые, как показалось Валадамарке, в любой миг ринуться в любую сторону света по зову своего предводителя .
«Не то что в ставке Бледы: тишь да гладь... А какая здесь купальня!» — восхитилась женщина.
Всадники обоз и охрану Бледы провели через два «кольца стражей». Знаменитые одиннадцать сторожевых колец, постепенно суживающихся и состоящих из преданных и отборных многих сотен только гуннских воинов будут стоять возле любого местопребывания Аттилы позже, когда он станет полновластным властителем всех гуннов.
Но всадники не остановились возле юрты повелителя, а проследовали к жилищу Хелькала, где за дастарханом уже сидели сам старик, его сын Аэций, Аттила и другие приближённые. Прислуживали им только рабы, женщин сюда не допускали. Исключение сделали для гостьи, поэтому с появлением Бледы и его жены хозяева поднялись, все, кроме Аттилы, и усадили по распоряжению повелителя Валадамарку на почётное место.
Бледу это покоробило...
Валадамарка успела обратить внимание на богатые одежды собравшихся, но в то же время они, и даже знатный римлянин, были... босиком. Вообще, гунны предпочитали ничего не надевать на ноги. Лишь находясь на коне, они привязывали к пятке колючку от шиповника вместо шпоры; седло имелось только у знатных кочевников, но даже сам Аттила часто пренебрегал им.
Молча ели парившее мясо, лежащее сочными кусками на серебряном блюде, и пили тэке — кислое молоко, любимый напиток Аттилы. Лишь Бледа, щуря свои и так заплывшие глазки, предпочёл другой напиток — крепкий хмельной кумыс.
Вскоре появился в жилище Хелькала горбун Зеркон Маврусий; все почтительно потеснились, и горбун сел рядом с Валадамаркой. Он помог ей снять тяжёлый головной убор, волосы её мелкими косичками упали на плечи, лицо женщины слегка раскраснелось — оно стало ещё прекраснее, и Аттила, не скрывая, смотрел на жену брата с вожделением... А тот, уже осоловев, пытался раза два петь, но ему никто не подтянул.
«Почему Аттила ничего не говорит о своей предстоящей свадьбе?» — задала себе вопрос Валадамарка.
— Как они, должно быть, счастливы! — восхитился кто-то, бесцеремонно показывая обглоданною костью в сторону Бледы и его жены.
— Талагай! — сказал Маврусий и, чтобы было понятно Валадамарке, перевёл: — Дурак! Счастье — это призрак. Знаешь, милая, легенду о птице призрачного счастья... Арманды.
— Нет, Зеркон, не знаю.
Валадамарка со стороны горбуша испытывала к себе доброе отношение, когда ещё являлась женой старого Ругиласа. Через него она, ещё совсем молодая и жаждущая сильных мужских ласк, однажды дала знать Аттиле, чтобы тот в летнюю ночь пришёл к её юрте, притворись пьяным... Аттила знал, что он ей нравится, так же, как и она ему, но удивился: зачем притворяться напившимся кумысу?.. Всё же сделал так, как она велела.
Якобы пьяный Аттила не вызвал никаких подозрений у охраны; завалился возле юрты жены своего дяди. Охранники пошутили: «Проспится племянничек и уйдёт...» Вскоре он услышал нежный шёпот из юрты:
— Аттила, подними кошму.
Он придвинулся вплотную к юрте, приподнял кошму, через кереге просунул руку и нащупал голое бедро Валадамарки.
— Я лягу спиной, согнувшись, близко к кереге... А ты через кереге... Понял меня?
Как не понять!..
— Расскажи, Зеркон, о птице Арманды, — попросила Валадамарка.
— Прежде чем рассказать, милая, о птице Арманды, я поведаю другую легенду, которая прямо относится к первой...
Все замолкли, собираясь слушать мудрого Зеркона Маврусия. Только Бледа бормотал что-то; по знаку Аттилы могучего сложения раб положил Бледе на плечо огромную волосатую руку, и тот тоже замолк.
— Один статный луноликий богатур много раз бился с врагами, но всегда оставался жив, в каком бы несметном количестве они на него ни нападали. Этому чуду богатур был обязан красавцу-коню Акбару, всякий раз выносившему хозяина из лютой свалки... Богатур очень любил коня, также любил и свою нежную жену, похожую на тебя, моя милая, только у той глаза были чёрные, а у тебя синие, как воды Байкала, — ещё ниже клонил свой горб перед Валадамаркой Зеркон. — Жену богатура звали Гаухар. Однажды её богатур вернулся без коня. Но ничего не сказал жене, лишь грустью подёрнулось его лицо. А потом так сильно затосковал по Акбару, что занемог и слёг. Увидев это, Гаухар отправилась на поиски коня. Пришла поздно вечером и запричитала:
— Коке! Ат жок!.. Коке! Ат жок!..
«Нет, мол, коня... Нет!»
На следующий день то же самое. И так продолжалось долго, пока раздосадованный богатур не вскричал в сердцах:
— О Пур[78], да забери ты её! И пусть она кричит одно и то же: «Коке! Ат жок!..»
С того момента как сквозь землю провалилась Гаухар, а появилась серая невзрачная кукушка, которая и поныне кричит, словно причитая и тревожа души людей: «Коке! Ат жок! Коке! Ат жок!..»
— А почему я не вижу среди нас талагая Ушулу?! — воскликнул Аттила. — Пусть разыщут его.
Привели юродивого юношу. Аттила протянул ему кусок мяса:
— Ешь, а потом спой свои глупости.
Ушулу поел, масляные руки вытер о свою волосатую грудь и вдруг запел несуразности:
— В поле — ветер, в жопе — дым, я родился молодым ...
Аттила довольно захохотал. Зеркон ещё ниже склонил свой горб и захихикал тоже. Лишь римлянин Аэций пристально посмотрел в стальные глаза Аттилы...
Но Маврусий скоро выпрямился и, заглянув в лицо на миг растерявшейся женщины, сказал:
— Милая Валадамарка, настало время рассказать и вторую легенду. — Зеркон сделал паузу и снова начал: — И летала по небу одна распрекрасная птица... Возгордилась она своей красотой. Задумала покинуть Землю, чтобы оттуда, из неземной выси, стать великим зрителем и наблюдать за тем, что делается внизу. И вот она взмахнула крыльями и поднялась...
Сколько продолжался этот полёт, никто не знал. Долго, долго она летела... Может быть, сто или тысячу лет... И столько же времени ей понадобилось, чтобы обозреть сверху отныне холодную для неё и далёкую Землю...
Но однажды стало птице не по себе. Ей вдруг почудились крики одинокой кукушки, которые она слышала не раз, летая над земными просторами:
— Коке!.. Ат жок!.. Коке!.. Ат жок!..
Эти крики стали преследовать красивую птицу днём и ночью; она сильно затосковала по живущим на далёкой Земле, и тоска стала подтачивать её силы... Теперь гордая птица была уверена в том, что если она не вернётся на Землю, то погибнет, запахнув вдали от неё. «Там мои корни, — подумала птица. — Там они напитают меня соками. Вдохнут жизнь. А что я делаю здесь, глупая?..» — Зеркон при этих словах заглянул в глаза Валадамарки, и у той дрожь прошлась по всему телу.
— И птица ринулась вниз, но силы её были уже не те... Ярким живым костром занялось её тело... И на Землю упали сгоревшие остатки. Проходя мимо и увидев, как сгорела гордая, но глупая птица, один мудрец, убелённый сединами, сказал просто:
— Это птица — Арманды! Птица призрачного счастья...
И тут Ушулу пропел ещё одну несуразицу:
— По долинам, по горам идёт сильный тарарам, в душе хрен сидит, на лысого глядит, на лысого, на белого — чёрта загорелого...
Все разом глянули на лысого горбуна и захохотали пуще прежнего. Серьёзность сохранили Валадамарка и Аэций.
— Почему тэке мало пьёшь? — спросил римлянина Аттила. — Помнишь, как хорошо было запивать им полусырое мясо, которое мы клали под ягодицы и нагревали до парения во время скачек...
— Помню.
— Хорошо... Завтра поскачем на дальнее кочевье. Там и справим мою свадьбу...
С самого рассвета лагерь Аттилы заволновался: рабы укладывали вещи в колёсные кибитки, запрягали в них волов и верблюдов; конные, чтобы разогреть лошадей, с голыми пятками носились по кругу. Слышались рёв ослов и ослиц, лай собак, блеяние коз и овец, пронзительные окрики хозяек на нерасторопных слуг. А с восходом солнца этот кишащий муравейник, состоящий из конных и пеших гуннов, и покорённых народов — сарматов, антов, аланов, германцев, угров, славян и даже римлян — устремился на юг, следом за своим повелителем.
Но Аттила, прежде чем пуститься в путь, когда в лагере шла ещё суматоха сборов, вызвал к себе старика Хелькала и его сына, которые и явились к нему незамедлительно.
— Таншихай, — указывая на какой-то предмет, завёрнутый в холстину, обратился Аттила к сыну Хелькала. — Это топор. Но перед тем, как скажу, для чего он будет предназначен, я напомню тебе, Хелькал, и тебе, Таншихай, о тайне, которой владеем только мы трое... О тайне смерти моего отца Мундзука... Ты, Хелькал, захватил грозного повелителя всего в крови, которая лилась из его ран, нанесённых ножом... женщиной. И она, подлая тварь, ползала по распростёртому телу отца, перемазанная этой кровью, не совсем веря в то, что сделала... Ты, Хелькал, сразу же позвал меня и своего сына, чтобы замести следы... Чтобы никто из гуннов не мог узнать о великом позоре, что великого сына бога Пура умертвила какая-то ничтожная женщина, мы незаметно убрали её, а народу объявили, что Мундзук убил себя, так как был уже болен и стар. Правитель гуннов или погибает в битве с врагами, или лишает себя жизни сам, когда становится немощным...
Ты, Хелькал, тогда не позвал моего брата Бледу, хотя он и старше меня, потому что, зная его характер, не надеялся на его молчание... Узнай, что повелитель не смог справиться с женщиной, и она заколола его, степь взбунтовалась бы и никогда мы, сыновья Мундзука, не стали бы ею править... Но ты, Хелькал, знал и ещё одно — Мундзук недолюбливал моего брата и сколько раз высказывал тебе мысль, что власть отдал бы мне; но коль нельзя было этого сделать в виду наследства, так как мой брат старше меня, то он заповедовал, чтобы правили мы гуннами вместе... Правда, тут вмешался дядя Ругилас и, пока мы были маленькие, он взял власть в свои руки... Но теперь это не имеет никакого значения. Двумя пол царствами гуннов владеем мы — я и Бледа. Но Бледа много пьёт, ничего не предпринимает для завоевания чужих земель, лишь тучнеет, у него даже наследника нет. Такой соправитель мне больше не нужен...
Аттила засмеялся и подёргал свой левый длинный ус: лицо его сразу смягчилось, но глаза оставались прежними — льдисто-холодными.
— Я люблю тебя, Хелькал, как второго отца. А сына твоего считаю за брата. Этим топором, как мы уедем на дальнее кочевье, Таншихай должен подрубить у моста сваи. Вот почему я и увожу отсюда весь лагерь... Я не хочу, чтобы даже волос упал с головы твоего сына, поэтому оставляю Ушулу: если вдруг откроется тайна, то ты, Таншихай, всё свалишь на голову талагая... А он ведь может сделать всё, что взбредёт в его дурацкую башку... Как только подрубишь сваи, выставь с обеих сторон моста охрану и никого, до тех пор пока не будет снова переезжать обоз Бледы, не пускай... А я уж постараюсь тяжело загрузить его подарками. Ради такого случая не поскуплюсь...
— Аттила, значит, в водах Тизии должна умереть и Валадамарка?
— Да, жаль эту красавицу, она бы и мне ещё послужила, но... Где дым, там и огонь!
— А где тэке, там и гуща, — закончил за повелителя старик Хелькал.
На том и порешили.
Аэций ехал чуть позади Аттилы и видел его мощный толстый затылок, большую голову почти без шеи, плотно сидящую на широких плечах, и коренастую фигуру, слившуюся с крупом коня.
«Кентавр», — подумалось римлянину. И тут он с изумлением увидел то, чего раньше как-то не замечал, — дотоле виденные им утопающие в зелени садов селения и дома были разрушены, деревья вырублены, а на месте их и некогда богатых пажитях пасся теперь многочисленный скот гуннов, уничтожая, словно саранча, всякую растительность и копытя всё вокруг до голой земли. Увидел и ужаснулся: «Да ведь эти... кентавры могут превратить в развалины не только селения, но и целые города... Если дать им волю, если не сдерживать их!.. Ведь они ничего больше не умеют, как только разрушать. Я жил с ними рядом и знаю, что за всё время они не построили ни одного добротного жилища (для жён Аттилы строили дома пленные греки и аланы), не посадили ни одного деревца, не вырастили ни одного злака... Почему я раньше не обращал на это внимание?..»
Ехали долго на запад, до тех пор, пока там не зашло без лучей и света красно-кровавое огромное солнце. Оно даже не зашло, а как-то задвинулось за плоскую, ставшую тёмной степь, но зато тут же весь небосвод над нею вызвездился ярко мигающими жемчужными хрусталиками.
По приказанию Аттилы не разводили костров, а поужинали кто чем мог, сам правитель и его приближённые, в том числе и знатный римлянин с сыном, поели полусырой) мяса. Видимо, Аттила ограждал свой лагерь от чьего-то внезапного нападения...
Укладывались спать на разостланных на земле бурках, подложив под головы сёдла, а у кого их не было, просто свои кулаки. Ночью Аэций проснулся от приступа сухости и жжения во рту — в последнее время с ним это часто стало случаться. Он встал, чтобы попить воды, и увидел на холме две тёмные фигуры — женщины и мужчины. В них он узнал Валадамарку и Аттилу. «Бледа с вечеру напился и спит, как верблюд после гона», — подумал весело Аэций, узрив, как Аттила повалил Валадамарку на землю...
Римлянину было ведомо, когда жил в становище гуннов, как Аттила через кереге с женой своего дяди удовлетворял свою и её плоть...
«Вот и сейчас уговорил...»
Эта беспутная красивая германка нравилась и Аэцию в своё время за смелость: ведь дознайся Ругилас, чем занимаются его племянник и жена через кереге по ночам, то в первую очередь казнили бы её.
«Не хочет ли Аттила отнять Валадамарку у брата?.. Его-то участь решена!» — Напившись воды, Аэций заснул и проспал до того момента, пока воин-стражник громко не протрубил подъём.
К обеду они уже находились во дворе сарматского военачальника, любимого Аттилой за смекалку, удачу и смелость, Огинисия. Встречать гостей вышла из бревенчатого просторного дома сама хозяйка, жена военачальника, со многими служителями. Одни несли кушанья, другие хмельные напитки. Они приветствовали Аттилу и его брата и просили их вкусить того, что им подносят во изъявлении своего почтения.
Бледа сразу потянулся к хмельному, а Аттила, в угодность жене своего любимца-сармата не слезая с коня, стал медленно пробовать все кушанья на серебряном блюде, высоко поднятом служителями.
Хозяйка, раскрасневшись от такого почёта, хлопнула в ладоши, и из-за угла дома вышли рядами девы. Они были статные, голубоглазые, под тонкими покрывалами просвечивали их полные ноги и круглые груди. Эти девы, приветствуя гостей, пели протяжные сарматские песни... Если бы у Аттилы было больше времени, он бы с удовольствием позабавился с некоторыми из этих дев. Но надо было ехать к своему дворцу, построенному тоже из брёвен. Таких дворцов в Паннонии для повелителя полуцарства гуннов было воздвигнуто больше пятидесяти; в них жили его жены.
Надо видеть, как, по-лебединому выгнув шею, белый скакун с сидящим на нём Аттилой вступал в ворота дома самой младшей жены повелителя из древнего тюркского рода сабиров, некогда населявших Западную Сибирь и затем растворившихся в среде гуннов, когда последние завоевали эту землю.
Как только конь миновал ворота и оказался на подворье, Аттила натянул поводья, и тут на резном крыльце появилась молодая женщина в белом шёлковом одеянии в сопровождении служанок. На руках она держала грудного ребёнка.
Увидев грозного владыку, для устрашения поводящего туда-сюда расширенными глазами и крутящего пальцами левый ус, и коня, нетерпеливо бьющего копытами, у молодицы чуть не подкосились ноги; служанки помогли ей спуститься по ступенькам. Она, трясясь всем телом, приблизилась к всаднику и положила на землю ребёнка, закутанного в тёмное покрывало. Все со страхом, в том числе и молодая женщина, воззрились на повелителя: признает ли он за своего этого ребёнка, родившегося в его отсутствие, или нет?..
Комья земли, отскакивая от копыт коня, летели на малыша, который начал кричать. Аттила молча кивнул женщине. Тогда только она подняла ребёнка, поцеловала его и, низко-низко поклонившись Аттиле, возвратилась в дом.
Аэций, тоже молча наблюдавший за этой картиной, облегчённо вздохнул: он помнил, как однажды Ругилас не признал в ребёнке своего отпрыска и копытами лошади растерзал и его, и молодую мать... Хотя римлянина жестокостью нельзя было удивить, но он почему-то сейчас не хотел бы повторения подобной сцены... Слава Всевышнему, что всё обошлось!
Младенца тут же нарекли Дценгизитцем, и отец повесил на его шейку ожерелье из волчьих зубов...
В этом дворце и решили сыграть очередную свадьбу Аттилы, а также отметить рождение его третьего сына. Двух других повелитель тоже привёз сюда. При них в качестве старшей мамки неотступно находилась любимая и единственная жена старика Хелькала Траста.
А их сын Таншихай, как только за ускакавшим лагерем улеглась пыль, пришёл к отцу и спросил его:
— Неужели окончательно решил Аттила насчёт Валадамарки?.. Она такая красивая! Жалко, если умрёт...
— Не твоё дело — жалеть... Это забота его, великого повелителя.
— Отец, а ты вправду думаешь, что Аттила великий повелитель?
— Да... Ибо его поступки похожи на поступки его далёкого предка Модэ... Такие же неоднозначные и непредсказуемые.
— А кто такой Модэ?
— О-о, это был великий шаньюй![79] Изобретатель свистящей стрелы... И жил он за двести лет до начала нынешнего тысячелетия. Таким образом, со времени его царствования сменилось лето на осень шестьсот пятьдесят раз[80]. Вот послушай...
Модэ приходился старшим сыном от первой жены шаньюю Туманю. Последний имел и ещё младшего сына от другой жены, которого очень любил и хотел бы отдать ему свою власть. Поэтому, когда победители-юэчжи (согдийцы) потребовали от вождя хунну в заложники сына, тот, не задумываясь, отдал старшего... Но при этом задумал извести его, чтобы власть перешла к младшему. Тумань рассудил так: «Нападу на юэчжей, нарушу слово, и тогда они убьют Модэ...»
Но Модэ угадал намерение отца, и, когда шаньюй начал набег, сын вождя убил стражника, похитил коня и вернулся домой. Отец, искренне восхищенный удалью Модэ, дал ему в управление Тюмень, то есть десять тысяч семейств. Модэ немедленно приступил к обучению военному делу свою конницу. Для этого он изобрёл, как я говорил, свистящую стрелу. В её наконечнике делались отверстия, и при выстреле из лука она свистела, подавая сигнал. Воины должны были пускать стрелы вслед за свистящей стрелой Модэ: невыполнение этого приказа каралось смертной казнью... Приказал и вдруг выпустил стрелу в... своего любимого коня. Все ахнули: «Зачем же убивать прекрасное животное?!» Но тем, кто не выстрелил, Модэ отрубил головы... Через некоторое время он выстрелил в свою красавицу-жену... Некоторые из приближённых в ужасе опус тили луки, не находя в себе сил стрелять в беззащитную молодую женщину. И их немедленно обезглавили.
А потом, во время охоты, Модэ встретил отца и... выпустил стрелу в него. Тумань в мгновение ока превратился в подобие ежа — так утыкали его стрелами воины Модэ, ибо не стрелять уже не рискнул никто...
Воспользовавшись замешательством, Модэ покончил с мачехой, братом и старейшинами, не захотевшими повиноваться отцеубийце, и объявил себя шаньюем. Но сказание о Модэ на этом не кончается... — перевёл дух Хелькал. — Он сразу договорился о мире с юэчжами, но от него потребовали дань восточные кочевники, которые назывались дун-ху. Сначала они пожелали получить лучших «тысячелийных коней»[81]. Некоторые хунну сказали: «Нельзя отдавать скакунов». — «Нельзя воевать из-за коней», — не одобрил их Модэ и тем, кто не хотел отдавать животных, отрубил, по-своему обыкновению, головы. Затем дун-ху потребовали прекрасных женщин, в том числе и любимую жену шаньюя. Тех, кто заявил: «Как можно отдавать наших жён!» — Модэ тоже казнил. «К чему жалеть женщин?.. Мир дороже их...» — сказал повелитель.
Тогда дун-ху потребовали полосу пустыни, неудобную для скотоводства и необитаемую. Старейшины сочли, что из-за неё незачем затевать спор: «Можно отдать и не отдать». Но Модэ воскликнул: «Земля есть основание государства, как можно отдавать её?!» — и всех, советовавших отдать, лишил головы[82]...
После этого он пошёл походом на дун-ху, они не ожидали нападения и были наголову разбиты. Потом Модэ напал на юэчжей и прогнал завоевателей далеко на запад. Затем шаньюй вступил в войну с Китаем. Казалось бы, эта война была не нужна хунну, они кочевали в степи, а китайцы жили южнее, за своей недавно построенной Великой стеной[83] во влажной и тёплой долине. Но у хунну были причины воевать с Китаем. Но это уже сказание иного рода... А теперь бери лучше вот этот инструмент, а не топор, который дал тебе Аттила, и иди, делай своё дело.
Таншихай развернул полотнище и увидел одноручную пилу.
— Ты, как всегда, прав, отец... Лучше мост подпилить, чем подрубить, будет незаметнее и произведёт меньше шума.
Таншихай вышел из жилища отца и начал искать глазами придурка Ушулу: увидел, как тот верхом на большой собаке ездил вокруг соседней юрты.
— Эй, Ушулу, скачи к мосту и подожди меня на берегу, — приказал ему Таншихай.
Когда на середину моста направился сын Хелькала, Ушулу хотел было последовать за ним, но Таншихай остановил талагая:
— Ты сиди тут у всех на виду... И сочиняй свои песни.
Ушулу сел и что-то начал бормотать про себя. Прошли мимо какие-то люди (в это время укрытый от посторонних глаз настилом моста, Таншихай пилил сваю) и спросили юношу-дурачка:
— Ты что здесь сидишь, Ушулу?
— Сочиняю песни.
Зная, какие песни он сочиняет, прохожие разулыбались:
— Сочиняй, Ушулу, потом послушаем...
Таншихай вскоре окончил работу7 и остался доволен тем, как ловко он проделал её, — умело подпиленные сваи могли выдержать верхового на коне, но уж если поедет тяжёлая повозка, то мост обязательно рухнет...
Сын Хелькала вернулся на берег, спросил Ушулу:
— Сочинил?
— Сочинил. — И дурачок пропел: «Ветер дует, разбибует, бабам шкурки заворачивает[84], заворачивает и захреначивает...»
— Правильно, Ушулу... Захреначивать бабам — это самое хорошее дело!
Вернувшись домой, Таншихай спросил у отца:
— А где наша мать? Я не видел её с утра.
— Она с детьми Аттилы уехала на свадьбу... Разве не знаешь?
— Скажи, отец, а почему у тебя только одна жена?.. Многие гунны имеют их по нескольку...
— Потому, сынок, что я люблю только одну женщину... Твою мать.
— Скажи это германцам — засмеют... Гунны и любовь... Разве такое может быть?
— Значит, может...
— Да, а ведь это они, германцы, придумали про нас отвратительную песню. Помнишь её?
— Как не помнить?! Могу пересказать... Когда-то над готами властвовал якобы их благородный Амбль, прародитель племени амелунгов. Как-то отбили они у врагов финских женщин, финки были искусны во всём, кроме того и в чародействе. Они губили скот, посевы, посылали на жилища пожары, на людей мор и болезни... Но что всего хуже, они сделали так, что у молодых готок-кормилиц груди наполнялись кровью, а не молоком... Дети рождались чудовищно безобразными. Объятые ужасом и гневом, готы решили изгнать из лагеря финок. Убивать их побоялись, чтобы не осквернить свою землю... Прогнали ведьм, которых называли алиарумнами, в пустыню, думая, что там они умрут с голоду. Но случилось иначе... Злые духи соединились с алиарумнами, и не на брачном ложе, а на спинах коней зачали детей ужасного племени. Германцы говорят, что то были наши предки, предки гуннов: дикие, как волки, — племя алчное, желтолицое, лукавое и прожорливое... И якобы мы в давние времена только лишь из-за еды воевали с китайцами, которые в битвах терпели от нас поражения. Они тоже со страху придумали про нас, как и готы, ужасные вещи... Китайцы говорили, что мы едим только полевых мышей, хотя у нас бродили по степи огромные отары овец, тучные стада коров и верблюдов и имелись лучшие кони.
Придумали китайцы и другое: будто наши собаки кормились свежим человеческим калом, потому что они худые и поджарые... Да они были такими, так как много бегали, загоняя в многочисленные стада отбившуюся скотину... Если славяне и скифы, эти справедливейшие народы, видели в нас равных себе противников, то в конце концов мы сделались в некотором роде друзьями, и сейчас в нашем войске немало сражается их, и сражается, надо сказать, отменно... А готы, китайцы...
— Отец, так мы ведь действительно много сражаемся с готами, а наши предки долго воевали с Китаем...
— Правильно... Но воевали хунну с Китаем в основном из-за шёлка... — Хелькал гордо взглянул на сына и продолжил: — В те времена, когда властвовал Модэ, китайцы научились изготовлять шёлк — драгоценный товар древности. Спрос на него сделался сразу огромным, ибо людей мучили паразиты насекомые, а спасением от них и явились шёлковые одежды... Если какая-нибудь хунка получала шёлковую рубашку, то ей уже не приходилось всё время почёсываться.
Такая же беда была и у других народов, в том числе и у римлян. Римляне натирали тело маслом, затем счищали его скребками (вместе с грязью, а после распаривались в ванне. Однако мелкие паразиты появлялись вновь.
Римлянки-красавицы требовати у мужей всё больше и больше шёлковых туник, также как и влиятельные и знатные хунки шёлковых рубашек... Поэтому и возникали у наших предков с Китаем войны. И хотя в Китае жило много народу, а хунну около трёхсот тысяч, но борьба, вызванная потребностью в шёлке, а также в муке и железных предметах не утихала... Кони у китайцев были намного хуже, а у хунну имелись «небесные жеребцы» — породистые скакуны, на которых они носились, словно на крыльях...
Вот я и поведал тебе второе сказание... Уже наступает вечер, ложись спать. Ты славно потрудился сегодня, мой любимый единственный сын...
На свадьбе, когда все пили и веселились, Аттила вместо того, чтобы обнимать очередную молодую жену, поставил перед собой двух сыновей: Эллака — от первой жены-германки и Эрнака — от второй жены из древнего рода хионитов тобасского племени[85], держал их пальцами за щёки и время от времени подёргивал...
А возвращались намного быстрее, чем ехали на дальнее кочевье. Правителя ждали государственные дела... По приезде он сразу позвал к себе Хелькала и его сына, спросил:
— Всё сделали?
— Как и велел ты, шаньюй... — ответил старик.
Никто доселе Аттилу так не называл, но повелителю это понравилось.
— Ты, наверное, рассказывал Таншихаю о моём предке Модэ?
— Рассказывал... И сравнил с ним тебя, наш повелитель.
— О Модэ я тоже поведал по пути сюда знатному римлянину Аэцию. Кажется, это произвело на него впечатление... Ладно... Теперь будем кончать с Бледой.
Назавтра соорудили обратный поезд, в повозку к Бледе и Валадамарке поместили много даров. И когда обоз приблизился к мосту, сам Аттила лично направил по нему повозку брата первой.
При расставании ещё в юрте, увидев на глазах Валадамарки на миг блеснувшие слёзы, Аттила пожалел её и чуть поколебался: «А не отменить ли всё это?..», но вдруг перед мысленным взором встал образ его дальнего предка Модэ, и повелитель подавил в себе всякую жалость.
Вот кони, запряжённые в повозку Бледы, зацокали по деревянным настилам. Таншихай с замиранием сердца ждал, когда они приблизятся к месту подпила свай; вот они всё ближе и ближе... Вот достигли! Сейчас в этом месте рухнут сваи, и повозка с лошадьми, Бледой и Валадамаркой канет в бурлящие воды Тизии. Но... Кони миновали место подпила и вскоре оказались на другом берегу...
Таншихай покачнулся и чуть не упал. Отец, стоящий рядом, прошипел:
— Ты что натворил, подлец!
Когда лишь третья повозка оказалась на мосту, тогда-то он и рухнул... В Тизию полетели вслед за ней несколько конников охраны. Троим ударило по голове брёвнами и, оглушённые, они пошли ко дну, остальные вскоре выплыли вместе с лошадьми на другой берег.
Аттила, пылая гневом, ударил плёткой коня и, ничего никому не объясняя, умчался в свою юрту. Хелькал сразу понял причину промаха: это он, старый дурак, во сто крат глупее Ушулу, оказался виноват во всём, а не его сын... Надо было сваи подрубать топором, как велено повелителем, а не подпиливать... Пока ехали две повозки, подрезанные пилой, сваи оставались лежать друг на друге, только когда они сдвинулись, произошло то, что должно было произойти...
Старик помчался к юрте Аттилы, чтобы объяснить: «Сын мой тут ни при чём... Казни меня!» Если раньше Хелькат свободно заходил в юрту к Аттиле, то сейчас, когда старик сунулся ко входу, охрана вытолкала его взашей. Аттила уже знал, что случилось... Он послал за Ушулу, и тот сказал, что у Таншихая в руках была пила, а не топор.
Ночью за Хелькалом и Таншихаем пришли стражники, они скрутили им руки и отвели к кровожадным жрецам бога Пуру. Пур требовал только человеческих жертвоприношений: но людей, предназначенных в жертву, вначале подвешивали крючьями за ребро. Эти крючья были вбиты в столбы, стоящие рядом с каменным идолом бога... И висели жертвы перед его лицом, мучаясь, до тех пор, пока не умирали; тогда жрецы снимали их с крючьев, а уж потом сжигали...
Подвесили за ребра крючьями Хелькала и его сына. Нужно отдать должное их мужеству: они не кричали от боли. Лишь старик прохрипел:
— Прости, сынок...
— Прощаю, отец.
Когда Тцаста увидела подвешенных за ребра любимых мужа и сына, волосы у неё вдруг сделались белыми, — она дико закричала и бросилась в степь... Больше её никогда никто не видел.
Аэций, собираясь в дорогу, посетил жертвенное место каменного бога гуннов и недоумевал: за что были казнены самые близкие люди Аттилы, за какие такие провинности?..
Спрашивать у Аттилы Аэций не посмел...
По обыкновению того времени при расставании не только прощались, но давали какие-то советы. И повелитель гуннов знатному римлянину посоветовал следующее:
— Аэций, есть три правила, которым непременно нужно следовать в жизни... По крайней мере, я следую им неукоснительно. Первое — если твоя сердечная тайна известна другим, сделай так, чтобы она была известна только тебе одному... Второе, бойся женщин и не считай их беззащитными существами... И третье — клочка земли своей, даже паршивой, не отдавай никому...
И Аэцию припомнился страшный рассказ Аттилы о своём далёком предке Модэ, рассказ, скорее похожий на легенду.
Когда Аэций и его сын Карпилион отъехали на порядочное расстояние, полководец спросил:
— Что ты скажешь, сынок, об Аттиле?
— Он очень хитрый, справедливый и неожиданно коварный человек... Как Модэ...
— И ты знаешь об этом Модэ?
— Да, отец... Аттила мне о нём рассказывал. И не раз... Он любит рассказывать о Модэ.
VI
Давитиак не видел своего сына Гальбу шесть лет: по галльским обычаям сын не мог появляться на глаза отца до тех пор, пока в совершенстве не овладевал оружием. До двенадцати лет Гальбу в семье воспитывали женщины, а потом его отдали в лесную школу к жрецам-друидам, где он и обучался военному делу. Школу никто из родственников не имел права посещать — дети вырастали вдали от родных жалостливых глаз крепкими и мужественными; кроме того, они постигали там своеобразную философию своей религии — в частности, бессмертие души галлы связывали с переселением её из одного человеческого организма в другой, и не в ином свете, а здесь, на земле. Галлы, умирая, как бы отдавали свою душу живым взаймы под условием уплаты в ином мире... Поэтому почти каждый галл являлся носителем не только своей, но чужой души... И, отвечая за неё и свою, он совершал поступки только достойные.
Давитиак был рад встрече с сыном, и ещё его радовала мысль, что Гальба идёт служить к вестготам не в качестве раба, а как воин. Епископ Сальвиан похлопотал за сына своего предсказателя, и того взяли в преторианскую гвардию короля — рост, сила, умение владеть оружием, красота Гатьбы покорили самого Теодориха.
К тому же в миг озарения Гальба тоже мог, как отец, предсказывать события; видимо, это свойство являлось наследственным в их роду, — и когда Гальба открылся с этой стороны Давитиаку, последний строго-настрого запретил ему, ссылаясь на свою несчастную судьбу, не то что бы предсказывать, а даже и виду подавать, будто умеет делать подобное...
Сын хорошо воспринял слова отца, и, если, допустим, спросили бы Гальбу, когда вернётся из разведки сын короля Фридерих, он бы теперь не сказал вслух, а только подумал: «Не скоро...» Ибо знал это. Но сам Теодорих и Теодорих Второй думали иначе. Но случилось всё так, как думал Гальба: прошло немало времени, прежде чем тот вернулся. И сразу поспешил к отцу. Поэтому король упрекнул сына в долгом отсутствии.
— Литорий со своими легионами двинулся из Нарбонны. Он пробирается лесом, думая незамеченным напасть на Толосу. Я видел его приготовления к походу и ждал, когда он тронется с места. Вот так долго и не мог предстать перед тобой, отец...
— Как велики силы Литория?
— Может быть, не столь многочисленны, но хорошо вооружены. Они везут подвижные галереи и башни, деревянные «черепахи» с таранами, баллисты и катапульты для бросания камней и балок, «скорпионы» для метания стрел и зажигательных факелов.
— Ты, сын, снова собирайся в разведку, следи за каждым шагом Литория и почаще посылай ко мне гонцов.
Доселе вялый взгляд короля наполнился решимостью, обвисшие плечи, на которых болталась медвежья власяница, распрямились; Теодорих преображался на глазах сына, а когда они вместе сходили в терму и смыли грязь: сын — походную, отец — траурную, короля уже было не узнать совсем... К нему наконец-то возвратились силы полководца и правителя. И это не могло не обрадовать его подданных, тем более что сие произошло перед решающими событиями.
Король сразу же велел позвать к себе епископа Сальвиана.
— Ты, преподобный, не так давно просил за сына телохранителя своего... Этот галл обязан тебе... И мне... Говорят, что перед тем, как Давитиак был осуждён и продан в рабство, он пользовался огромным влиянием у местных племён как предсказатель... Я хочу послать его на берег океана, чтобы Давитиак привёл на помощь нам населяющих этот берег осимов, куриосолитов, эсубиев, аулерков, редонов, лексовиев. Справится Давитиак? Не убежит?..
— Справится, повелитель... А как ему убежать, если в заложниках у нас остаётся его сын, — усмехнулся епископ.
— Скоро случится маскаре. А за ним — отлив. Судно наварха Анцала, который доставил мою несчастную дочь, стоит наготове. Пусть Давитиак садится на это судно и ждёт отлива... С Богом!
— С Богом, мой великий король! — с жаром воскликнул Сальвиан, зажигаясь энергией от своего повелителя.
— Фридерих, — снова обратился король к сыну. — Но Литорин не должен появиться под стенами Толосы до тех пор, пока не придёт помощь с берегов океана. Но, а если и появится, чтоб только за сутки до маскаре... Поэтому я посылаю конницу под командованием младшего Эйриха, который будет подчиняться тебе. Пусть он постоянно наносит удары по римлянам везде: в походе, на привалах, и тем самым будет сковывать их движение.
— Хорошо, отец. Всё исполним так, как велишь.
Обладающий от природы самонадеянностью — качеством, которое непомерно разбухло после взятия Нарбонны, да ещё поддержанный в своём решении взять столицу вестготов в Галлии императрицей и её евнухом Ульпианом, Литорий, выступая в лагере легионеров перед тем, как отправиться в поход, сказал:
— Мужественные сыны мои! Мы с ходу возьмём главный город галльской Аквитании... Несчастье, обрушившееся на дочь короля вестготов, парализовало его волю. У него мало войска, и мы, взломав стены Толосы, проникнем внутрь и захватим все её богатства... Вспомните выражение «Aurum tolosanum»... На территории города есть немало кладов, захороненных жрецами-друидами... Мы перероем всю землю, найдём и обогатимся... Вперёд, орлы!
— Вперёд! — взревели тысячи глоток. И этот рёв тут же заглушили сильные удары копий о щиты.
Литорий рассчитывал густым лесом достигнуть Толосы, с ходу занять два холма возле неё, господствовавших над местностью, и начать готовить штурм крепости. Для этого он и взял с собой большое количество осадных и таранных машин...
Поначалу у Литория всё шло неплохо. Легионы, предводимые опытными командирами, двигались почти без задержки: лес вблизи Нарбонны и чуть дальше был проходимым. Но как только миновали Каркасов, тут-то и пришлось заниматься рубкой деревьев, чтобы пробить в них полосу для дальнейшего хода. К тому же разведка доложила, что неподалёку появилась германская конница, правда, она пока не тревожила римлян, но Литорий, чтобы обезопасить себя от её нападений врасплох с флангов, приказал все срубленные деревья повёртывать верхушками к врагу и, накладывая их одно на другое, устраивать с обеих боков своего рода вал. Но скоро полили такие беспрерывные дожди, что солдаты уже не могли дольше жить в палатках, — пришлось отвести войска из леса на равнину и разместить их в селении.
А когда снова собрались в поход, то неожиданно и напала германская конница, которая порубала немалое количество римлян и отбила две подвижные башни и несколько баллист.
Но самонадеянность Литория и здесь нисколько не уменьшилась; наоборот, он верил в успех и в своих мужественных «орлов». Правда, незамеченным ему не удастся теперь, как видно, провести их к Толосе, но Литория это особенно не беспокоит, он знает, что у Теодориха не так много сил и, если король вестготов даже упредит его и займёт господствующие высоты, то Литорий всё равно вышибет его оттуда и, может быть, покончит всё разом и, не производя штурма города, войдёт в него как победитель...
После удачного нападения конницы младшего брата Фридерих отправил к отцу гонца с подробным отчётом. Король в позднее время находился на крыше дворца, любуясь вечерним пейзажем, что открывался сверху. Там он и принял гонца и ещё раз понял, как долго сам бездействовал, ибо теперь каждое незначительное сообщение оттуда приятно будоражило кровь. Теодориху казалось, что также приятно будоражило бы кровь и сообщения не столь хорошие, так как и в этом случае они заставляли бы его не сидеть сложа руки, а действовать... Действовать! Вот то состояние, в котором он бывал всегда. А то вынужденное пребывание в трауре будто согнуло его и состарило.
Король поблагодарил гонца, одарив его несколькими золотыми, велел накормить и отправить спать; и снова остался один...
Оливковая роща вдали, где располагался разгульный дом Теодориха Второго, подёрнулась мраком. Но сейчас король об этом доме думал уже не с ненавистью; второй от рождения сын умеет тоже, как и другие братья, неплохо воевать и, не задумываясь, отдаст жизнь во имя победы.
Думы о сыновьях согрели сердце короля-отца. Он встал, подошёл к самому краю крыши, огороженному мраморными перилами, опёрся о них, поглядел на медленно текущие воды Гарумны; они пока были ещё видны в темноте...
Стальной, чуть взблескивающей полосой река изгибалась за городом круто на юг, тянулась дальше.
По берегам Гарумны глаза короля ещё различали мукомольные мельницы, винодельческие заводы, то тут, то там растущие буковые и дубовые рощи. И как только высыпали над головой яркие звёзды, окрестности словно накрылись непроницаемым для света пологом; но зато из рощ и лесов раздались громкие голоса ночных птиц — хорошо различимые на слух, наглые вскрики хищников, а потом — слабые стоны их жертв... Сливаясь затем воедино, они составили своеобразный тревожный хор, звучащий на обоих берегах Гарумны.
Лишь безучастно мигали с великой небесной выси звёзды, только человеческое сердце не могло быть равнодушно, оно впитывало в себя эту тревожность, отвечая на её проникновение гулкими ударами, раздававшимися в груди чаще обычного...
Галльские племена, населявшие берег океана, до сих пор никем не завоёвывались: ни римлянами, ни вестготами, ни вандалами, — они оставались свободными. Дело в том, что свои города и поселения эти галльские племена обыкновенно ставили на конце косы или на мысу, и к ним нельзя было подойти ни с суши, потому что два раза в сутки, через каждые двенадцать часов, наступал морской прилив — маскаре, ни с моря, так как при возникновении отлива корабли противника терпели большие повреждения на мели. Таким образом, то и другое затрудняло осаду городов и поселений.
Бывало и так, что противник сооружал плотины, которые отбивали волны, или возводил огромную насыпь вровень с городской стеной. Тогда местные жители пригоняли суда, которые имелись у них в изобилии, увозили все пожитки и укрывались в ближайших селениях. Там они снова оборонялись, пользуясь теми же выгодами своего местоположения.
Надо сказать, что их собственные корабли строились и снаряжались так, что намного превосходили вражеские: они были лучше приспособлены к местным условиям. Их киль делается несколько плоским, чтобы легче справляться с мелями и отливами, носы, а, равно, как и кормы, целиком мастерились из дуба. — Они выносили какие угодно удары волн; ребра внизу связывались прочными балками и скреплялись гвоздями в палец толщиной; якоря укреплялись не канатами, но железными цепями; вместо парусов на кораблях натягивалась грубая или же тонкая дублёная кожа, может быть, из-за недостатка льна и неумения употреблять его в дело, а ещё вероятнее потому, что полотняные паруса представлялись непрочными для того, чтобы выдерживать сильные бури и порывистые ветры океана.
Галльские суда также строились высокими, и вследствие этого их нелегко было обстреливать, по той же причине их не очень удобно и захватывать баграми. Наносить повреждения острыми носами при столкновении вражеские корабли тоже не могли — до того прочная была у тех судов обшивка. Сверх того, когда начинал свирепеть ветер, последние легче переносили в море бурю, а если их захватывал отлив, то они безопасно держались на мели и не боялись скал и рифов. Наоборот, все подобные неожиданности трагически оборачивались для кораблей противника.
Узнав, что плывёт Давитиак-предсказатель, многие жители берега океана высыпали из своих домов, чтобы поприветствовать его. Давитиак бывал у местных племён не раз, и их вождей он своими предсказаниями также не раз избавлял от некоторых непродуманных действий.
Не сразу, правда, пришлось Давитиаку уговорить вождей выслать подмогу Теодориху, и только то обстоятельство, что король вестготов при завоевании Аквитании обошёл берег океана стороной и даже не пытался его покорить, сыграло, пожалуй, главную роль — правители осимов, куриосолитов, эсубиев, аулерков, редонов и лексовиев после совместного совещания на лесной лунной поляне выделили по три корабля от каждого племени, на палубах которых можно было разместить около трёхсот человек. И вскоре судно Давитиака встало во главе двадцати одного корабля с разместившимися на них более двух тысяч вооружённых воинов.
Хорошо налаженная Фридерихом разведка, регулярная посылка гонцов к отцу, которые докладывали о каждой задержке римлян, вызванной умелыми наскоками конницы Эйриха, позволили королю вестготов и его сыновьям Торисмунду и Теодориху Второму своевременно занять господствующие высоты на холмах и ещё надёжнее укрепить крепостные стены Толосы, для чего на них подняли котлы со смолой, чтобы, если всё же случится штурм, лить её, раскалённую на огне, на головы неприятеля, и завезли заострённые с одного конца брёвна и тяжёлые камни для пролома вражеских «черепах» и выведения из строя осадных машин.
Король Теодорих, облачаясь во дворце в воинские доспехи, чтобы ехать к холмам, где тоже полным ходом шли оборонительные работы, велел позвать свою дочь. Вошла высокая статная Рустициана с чёрной повязкой на лице, закрывающей нос, а две массивные подвески, спускающиеся по обе стороны головы, прятали уши.
Король гордился тем, что он принадлежал к древнему роду Балтов; женщины из этого рода отличались высоким ростом и особенной статью, а мужчины обладали силой и умением сражаться с врагом. Наиболее типичным представителем Балтов являлся, по мнению отца, его сын, тёзка Теодорих, огненно-рыжий, горячий в любви и в битве. «Был я когда-то и сам такой», — с удовлетворением подумал король.
Но удручало его лишь то, что Теодорих был дерзок, любил делать всё по-своему и подчинялся королевским приказам явно с неохотой.
Рустициана вопросительно посмотрела на отца. И невольно вырвалось у неё из уст:
— Отец, ты такой красивый в боевом облачении!
Теодорих отвернулся, чтобы скрыть от несчастной дочери свою довольную улыбку... Потом взял руку Рустицианы, благодарно прижал её к своей груди, обнял дочь за гибкую, тонкую, словно лоза, талию:
— По нашему древнему обычаю женщины перед решительным сражением кидают жребий — кости. Если бы была жива твоя мать-королева, ей полагалось бы сделать это. Ты заменишь её. Выйди в комнату, кинь кости и скажи, что выпадет мне, отцу, и братьям твоим...
Рустициана вскоре вернулась очень взволнованная.
— Отец, я кидала три раза. Больше, как ты понимаешь, кидать нельзя... И все три раза жребий-кости становились на ребро, ничего не предвещая...
«Ладно, лучше неведение, чем заранее знать, что проиграешь», — подумал король, вскочил на коня и в сопровождении телохранителей умчался к холмам, дав указание коллегии городского сената, что и как делать, если враг прорвётся к крепостным стенам.
Почти одновременно с отцом к холмам подскакала конница Эйриха, а через какое-то время вернулась и разведка Фридериха. Они доложили, что римские войска уже на подходе и скоро покажутся на равнине их передовые легионы.
Литорий, к этому времени потерявший от ударов конницы Эйриха несколько деревянных «черепах» и баллист, а также больше сотни солдат, был уже не в таком радужном настроении, как раньше. Но тем не менее самонадеянности не терял: он назначил командирами отдельных когорт квесторов, чтобы каждый солдат имел в их лице свидетелей их храбрости.
Когда Литорий приблизился к холмам, то увидел, что германцы воздвигли свои лагеря на возвышенностях, постепенно поднимающихся снизу на протяжении одной мили. Покатые склоны холмов облегчали римлянам задачу по взятию их, но было бы лучше заманить германцев в долину... Только те не дураки и спускаться вниз не намерены. Следовательно, сражение развернётся на высотах. И будет непросто пробежать милю до германских лагерей с полной выкладкой; силы у легионеров могул стать на исходе... И Литорий придумывает следующее — он пустит вперёд всадников, а пехотинцы ухватятся за гривы коней.
Сутки римский полководец, утвердившийся в двух милях от холмов, дал отдохнуть своему войску после длительного и изнурительного перехода в густых лесах. Он не знал, что этим обрекает себя на поражение, ибо по истечении суток случится маскаре, и суда прибрежных жителей океана, словно по волшебству, огромные волны прилива перенесут прямо в Толосу...
Рано утром другого дня квесторы приказали пехотинцам набрать хворосту и сделать фашинники[86], чтобы завалить ими рвы вокруг лагерей вестготов, и, разделившись, пустили конницу. Пешие солдаты, держась за гривы коней, тоже бросились бегом к высотам и добежати, еле переводя дыхание. Они стали забрасывать фашинником рвы, но германцы не дремали — выскочили из ворот лагерей и отчаянно атаковали римлян. Со своей стороны римляне также внезапно и быстро кинулись вперёд, что ни те, ни другие даже не успели пустить друг в друга копий... Тогда, отбросив их, обнажили мечи. И начался рукопашный бой. Вестготы, по своему обыкновению, выстроились фалангой.
У германцев стати падать первые ряды, но это не привело их в замешательство, наоборот, следующие пошли по трупам и сражались, стоя на них; когда и эти падали и из трупов образовывались целые груды, то уцелевшие стреляли из луков, точно с горы...
Но уже заметно было, как дрогнули левые фланги германцев, всё-таки сказалось численное превосходство римлян. Правые фланги всё ещё стойко держались. И тогда Литорий, чтобы сломить их сопротивление, двинул в подкрепление резервную линию.
И тут появились корабли, принесённые волнами с океана; с них спешно сбегали косматые галлы и под предводительством Давитиака кинулись на помощь вестготам.
Вначале римляне не поняли, откуда вдруг появилась внезапная помощь германцам. А те, ободрённые ею, быстро начали теснить резервную линию врага. Да ещё в лоб римлянам ударили галлы: через какое-то время всё было кончено... В плен попали не только квесторы, но и сам Литорий...
Вскоре он предстал перед очами короля Теодориха и епископа Сальвиана, который сказал, обращаясь скорее к своему повелителю:
— Помнишь, я говорил тебе, что бедствия, постигающие негодных людей, — Сальвиан кивнул в сторону Литория, — суть обвинительные приговоры Божества, а бедствия, постигающие людей благочестивых, суть испытания...
Литорий своей необдуманностью в деле нападения на Толосу в конце концов даже вызвал сочувствие у германцев.
...Вечером, когда смеркалось, Давитиак с сыном Гальбой взобрались на самый высокий холм, с которого открывались обширные дали. Ещё предстояло убрать наваленные после жестокой битвы трупы; они пока не испускали запахов, и грифы и шакалы ещё не начали своего зловещего пиршества...
Отдельными рядами лежали мёртвые галлы. Всматриваясь в них, Давитиак вдруг почувствовал как бы укол в сердце... Это ведь он упросил их прийти на помощь германцам. Собственно, на помощь кому?! Своим же завоевателям!.. И вот теперь вдали от светлых вод океана они, бездыханные и непогребённые, лежат здесь... А похоронят их, навалив друг на друга, засыплют землёй и утрамбуют. И никто из родных и близких не проронит по ним слёзы...
Давитиак окинул взглядом окрестности. Вот она его родина, его бедная Галлия, завоёванная не дважды и не трижды, а уже несколько раз — бургундами, вестготами, а ещё раньше всех — римлянами... Враги изгнали местных богов из священных рощ, озёр и рек, оставив простому галлу неверие и рабство. А ещё и предательство... Разве это не предательство, что он, Давитиак, привёл сюда соплеменников, чтобы они были убиты за чужие интересы?.. Вестготы такие же римляне.
Где-то в тёмных чащобах жрецы-друиды молятся за то, чтобы на землю Галлии пришло освобождение, но молчат поруганные боги... Друиды в своих лесных школах воспитывают воинов, но попадают они потом в боевые ряды завоевателей... Ибо нет великого вождя, который смог бы объединить вокруг себя галлов, способных носить оружие, и поднял бы их против угнетателей. Пока не родился такой вождь. Но Давитиак верит, что он скоро появится. Сердце вещует ему об этом.
Сын Давитиака стоит, опершись о копьё, смотрит на отца: Гальбе ведомо, о чём думает сейчас его бедный родитель... Полы белого плаща молодого галла, забрызганного кровью, треплет ветер и клонит книзу верхушки деревьев...
Вот зажглись факелы в городе, а в долине пастухи развели костры. Жизнь продолжается. И показалось отцу и сыну, что добрые духи галлов зареяли над головами... Если живы предвестники богов, то будут жить и сами боги. И несмотря на боль в сердце, губы Давитиака складываются в счастливую улыбку.
Когда вернулся в Аквитанию от гуннов полководец Аэций, король Теодорих отдал ему Литория в обмен на пленных вестготов, находящихся в Нарбонне.
По пути в Италию Аэций ещё раз нанёс жестокое поражение восставшим бургундам, отобрав у них ряд городов, и вступил в Рим действительно истинным победителем и единственным в своём роде. Теперь уже его легионы готовы были к триумфальному шествию по Марсову полю.
Гонория давно не видела такого скопища людей: особенно много было иноплеменников. В первых рядах на Марсовом поле в нарядных одеждах сидели на скамьях патриции с жёнами и детьми. А в самых последних рядах, но как бы возвышаясь над знатью, находился простой народ — плебс, рябивший в глазах своей пестротой, среди него можно увидеть нищих и калек... Все ждали появления войска.
Плацидия, сидя на красном сафьяновом стуле, сделанном наподобие трона, держала за руку стоящую рядом дочь, рядом с ней на таком же стуле расположился император Валентиниан с женой-красавицей Евдоксией. Плебс иногда орал сверху здравицы императору и Плацидии. Но вот кто-то надумал прокричать здравицу молодой Августе. Ульпиан повернул лицо к Гонории и, неестественно улыбнувшись, захлопал в ладоши. Его поддержали первые ряды патрициев, а рабыня Джамна крепко сжала вторую свободную руку своей госпожи.
«А всё-таки приятно, когда тебя величают!» — со светящимися глазами на лице подумала Гонория.
Отсюда, с небольшой возвышенности, просматривался Тибр, который быстро нёс тёмные воды, просматривались также каменный мост через него и бухта Остия со стоящими в ней кораблями.
Вскоре плебс, которому сверху было виднее, заволновался и стал кричать:
— Золотая колесница Аэция!
И вот показался сам полководец Аэций, прямо стоящий на колеснице, запряжённой белыми лошадьми, отделанной золотом и драгоценными камнями, игравшими на солнце переливающимися бликами.
Сзади Аэция колыхался длинный ряд знамён и драконов, привязанных к копьям, блистающих пурпуром, развеваемых ветром; пасти драконов были раскрыты, и они словно шипели, разъярённые, а хвосты их длинными изгибами вились по воздуху.
В два ряда шли воины в блестящих, искрящихся панцирях, со щитами и в шлемах, на которых переливчатым светом играли султаны.
Закованные в железо, рысили клибонарии, и всадники казались не людьми, а статуями; тонкие железные колечки, скреплённые между собой, охватывали их целиком, приноравливаясь к изгибам, так что доспех сливался с телом.
Трубили трубы, воины кричали: «Да здравствует Аэций!», а когда ряды поравнялись с императором, солдаты начали кричать здравицу и ему.
Только «последний великий римлянин» оставался невозмутимым и величавым. Будучи малого роста, он тем не менее наклонялся при въезде в высокие ворота, но зато не поворачивал головы ни влево, ни вправо; при толчке колёс он не подавался вперёд, не делал руками никаких движений. Эта усвоенная им внешняя величавость являлась следствием его большой выдержки, на которую он один был способен...
Но гут Гонория уловила краем глаза сзади себя движение: она обернулась и увидела, что рабы принесли носилки с каким-то знатным стариком. Когда его вынули наружу, то Гонория еле узнала в нём Октавиана-старшего, отца её возлюбленного Евгения: волосы бывшего сенатора побелели ещё больше, голова тихонько тряслась, взор бесцельно блуждал по головам собравшихся. Неужели это тот самый шутник, любитель вина и женщин?! Куда всё ушло?.. Вот так смерть сына в короткое время преобразила отца...
Плацидия, держащая за руку дочь, почувствовала, как ладонь последней задрожала и, когда Августа установила причину волнения Гонории, она больно дёрнула её за кисть и показала евнуху глазами на бывшего сенатора.
Гонорию обозлила не столько боль, сколько реакция матери и её корникулярия на появление отца Евгения; она другой рукой бесцеремонно разжала материнские пальцы и, освободившись от них, шагнула к немощному старику и наклонилась над его лицом.
— Тебя, милая, значит, схватили? — с трудом узнав Гонорию, спросил старик.
— Да, отец, — тихо ответила молодая Августа. — И заставили присутствовать на этом шествии...
— Так же, как и меня... Больного старика, скорбящего по своему единственному сыну...
Гонория взглянула на мать: кажется, гневный огонь в глазах Плацидии готов был испепелить дочь даже на расстоянии. Императрица сквозь зубы сказала Ульпиану:
— Эту негодницу мы завтра же отправим в Константинополь... Пусть там ею займётся благочестивая Пульхерия. Она ей обломает рога.
Евнух довольно улыбнулся.
А воины Аэция всё шли и шли, и громко трубили трубы.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ УЗНИЦЫ КОНСТАНТИНОПОЛЯ
I

Константинополь из Рима в те времена можно было попасть по суше через Венецию и Триест, а далее по древнему Великому Западному торговому пути через Виндибону, Синдидун, Сердику и далее через Филиппополь[87] и Андрианополь, а можно — морем: мимо островов Родос, Кос, Самое, Хиос, Лесбос, через проливы — Дарданеллы и Босфор.
Такими дорогами любил некогда путешествовать градостроитель Ирод Великий, воздвигнувший второй после Соломона храм в Иерусалиме, часто ездивший в Рим по делам, а оттуда в Византию, тёзка того самого Ирода Антипы, правителя Галилеи, который печально известен тем, что однажды приказал отрубить голову Иоанну Крестителю или иначе — Иоанну Предтече.
С именем этого святого, в День его Рождества, 24 июня, несколько воинов — истинных христиан, сопровождавших до Константинополя Гонорию с её служанкой и евнухом Ульпианом, взошли на палубу корабля (Плацидия решила отправить дочь морским путём) и начали молиться Иоанну. А воины-ариане, тоже сопровождавшие Гонорию, стали над ними подшучивать, потому что не признавали святых.
Следуя богослужебному тексту: «Там, где Бог хочет, побеждается естества чин», ариане были твёрдо убеждены, что один только Бог господствует над порядком природы. Сара родила Исаака, Анна родила Самуила, когда всё это было невозможно по человеческим понятиям. Жена священника Захарии, его престарелая Елизавета, будучи неплодной, родила Иоанна. Но ариане не знали, что родила она Иоанна за шесть месяцев до Иисуса, поэтому Иоанн и назван Предтечей; не знали и не интересовались. Но примеры непринуждённого Божьего вмешательства находились и перед их глазами, так как далее ведомый и охраняемый Духом Божиим Иоанн избегнул участи младенцев, убитых Иродом Антипой. Елизавета успела скрытый с младенцем.
И только через несколько лет снова появится Иоанн. Мы увидим его как грозного и последнего ветхозаветного пророка, проповедника покаяния, человека, проведшего путём своего избранничества Крещение Иисуса Христа и погибшего святой мученической смертью...
Но далеки воины-ариане, а также сама Гонория, Джамна и Ульпиан от почитания Иоанна Предтечи. Писала Плацидия в хартии к Пульхерии:
«Я сознаю, милая моя племянница, что все мы впали в непозволительную ересь, ибо живём здесь, как на вулкане, содрогающим все наши члены и нашу духовную жизнь. Только в вашем царстве, спокойном и сильном, достигается истинная вера в Бога. Помоги обрести её моей своенравной дочери.
И было хорошо, если бы ты, Пульхерия, посредством истинности и святости, коими изобилует твоя душа, изменила печальный, необузданный норов моей дочери — замкни её, и пусть она молится во славу Божию. Помоги, ибо Гонория приносит мне лишь одни несчастья. И не только мне, но и многострадальному разваливающемуся Риму... А остальное доскажет тебе словами мой корникулярий евнух Ульпиан, который сопутствует Гонории в этой вынужденной к тебе поездке...»
Галла Плацидия ошиблась — в Византии Пульхерия уже ничего не значила и сделать ничего не могла; всем заправляла жена василевса Феодосия II Евдокия, и Гонория, как сестра её зятя Валентиниана III. была встречена как дорогая гостья и сразу попала не в монашескую келью, на что рассчитывала её мать, а гинекей — женскую половину Большого императорского дворца...
Здесь я позволю себе некоторое отступление.
Когда Феодосию исполнилось двадцать лет, он задумал жениться и стал просить свою старшую сестру Пульхерию, воспитавшую его и управляющую от его имени империей, чтобы нашли ему жену. Но не просто жену, а девушку необыкновенной красоты, какой нет в целой империи. Ему всё равно, какого она рода — бедного или знатного, богата или нет... Только красота должна быть показателем её достоинства.
Чтобы угодить своему воспитаннику, Пульхерия разослала по всей империи гонцов, больше того, они рыскали в поисках невесты василевсу по всему восточному миру. В дело вступился и самый лучший друг Феодосия, воспитывавшийся с ним с детства, его поверенный Павлин. Но вдруг одно неожиданное обстоятельство натолкнуло на желанную встречу...
В Афинах проживал преподаватель местного университета по имени Леонтий, имеющий двух сыновей и дочь.
Он был богат, но, умирая, завещал, по довольно странному капризу, всё своё состояние сыновьям Валерию и Гезию.
«Моей же дочери Афинаиде, — писал он в завещании, — приказываю выдать сто золотых. Её от всех житейских забот избавит счастливый случай, удача, какой не выпадало на долю ни одной женщине».
Что это?.. Предвидение афинского язычника?.. Или озарение умирающего, пред взором которого открылась необыкновенная судьба его дочери?.. Ибо бедность её привада к тому, что она, обиженная чёрствостью братьев, которые не захотели хоть малой частью поделиться богатством, сколь она ни умоляла, покинула родной дом и отправилась искать приюта у сестры матери, а та увезла её в Константинополь, где жила другая тётка Афинаиды, сестра Леонтия, которая была вхожа во дворец. Она и посоветовала искать при дворе поддержки против её братьев. Наконец Августа Пульхерия согласилась её принять. И дала ей аудиенцию.
Афинаиде тоже исполнилось двадцать лет. Как только сестра императора увидела её, то на некоторое время потеряла дар речи и сразу подумала: «Вот передо мною та, которую мы ищем по всему миру... Девушка поразительной красоты, удивительного сложения и высокого роста».
Белокурые вьющиеся волосы золотистыми прядями обрамляли лицо Афинаиды, оттеняя ещё больше свежесть и нежность её кожи, а чудесные глаза с большими пушистыми ресницами были живые и умные; благородная поступь дополняла обаяние молодой девушки, к тому же она умела хорошо говорить. Свою просьбу она изложила в совершенстве — сказалось греческое образование.
Отец девушки преподавал риторику. Он познакомил дочь с шедеврами древней литературы, с Поэтом и Историком (так называли тогда Гомера и Фукидида), с трагиками, с Лисием и Демосфеном; согласно требованиям школы, Леонтий научил Афинаиду блестяще импровизировать на заданные темы, слагать звучные стихи, изящно говорить. Она знала также астрономию и геометрию, была посвящена в тайны философии неоплатоников.
Пульхерия была очарована не только красотой девушки, но и её учёностью. В другой раз Пульхерия позвала брата и его друга Павлина, и они, сидя за драпировкой, наблюдали за девушкой и слушали её речи. Павлину она очень поправилась, а император сразу в неё влюбился. После этого, тщательно наставленная в вере Иисуса Христа патриархом Аттиком и омытая от грехов язычества водою Крещения, Афинаида, получив христианское имя Евдокия, стала императрицей Византии.
Как состоялось это довольно удивительное бракосочетание между неизвестной провинциалкой и всемогущим василевсом?.. Очень просто: то был брак по любви, история в духе романтических повестей. И так же, как в такого рода повестях, эта любовь закончилась трагически... Произойдёт сие позже, и в подходящий момент об этом тоже будет рассказано.
А Феодосий, пожелавший как можно быстрее жениться, преследовал и ещё одну цель: в видах политических упрочить будущность своего положения, ибо честолюбивая Пульхерия прочно держала власть в руках. Она рассчитывала сохранить её и дальше, поэтому охотно содействовала браку, в котором новобрачная являлась бы обязанной ей. Таким образом, брат и сестра играли, будто в зернь, одними и теми же «козырными» костями...
Пульхерия пожелала быть Афинаиде крестной матерью, затем матерью приёмной. Теперь она могла ожидать, что в Большом императорском дворце ничто не изменится. Но случилось всё иначе...
Семь лет во дворце заправляла всеми делами Пульхерия. Умная, энергичная, это была главным образом женщина, преданная только политике. В пятнадцать лет она приняла титул Августы, освятивший её власть. В шестнадцать, желая всецело отдаться государственным делам, да, видно, не хотевшая ни с кем делить эту власть, она дала обет безбрачия, или обет девственности.
Очень благочестивая, преданная истинному православию, Пульхерия превратила дворец в монастырь. Её обе сестры, Аркадия и Марина, также дали обет девственности. Царедворцы старались подражать царевнам, поэтому с утра до вечера вместо церемониальных маршей слышалось только однотонное псалмопение, вместо великолепных парадных костюмов виделись повсюду тёмные одеяния священников и монахов.
Таков был дух, в котором Пульхерия воспитала юного Феодосия, красивого молодого человека среднего роста, белокурого, с чёрными глазами. Он всецело обязан старшей сестре такими чертами характера, как вежливость, любезность, кротость, добросовестность. Домосед, он любил проводить время у себя во дворце и не чувствовал влечения к войне и сражениям, хотя обладал завидным здоровьем и крепким телосложением. Охотно пел божественные гимны, раздавал нищим милостыню. Однажды на Ипподроме он устроил вместо ожидавшихся зрителями ристаний грандиозный молебен, которым лично дирижировал. Историки писали, что «никто не видел его разгневанным. Некто из ближних спросил его: почему ты никогда не наказываешь смертью человека, тебя оскорбившего?» — «О, если бы, — отвечал василевс, — возможно было мне и умерших возвратить к жизни... Не великое и не трудное дело убить человека, но, раскаявшись, воскресить умершего не может никто, кроме Бога».
Какая же участь ожидала Афинаиду, очутившуюся между такой властолюбивой невесткой, как Пульхерия, и таким благонравным человеком, каким являлся муж?..
Только не следует забывать, что Афинаида получила чисто языческое воспитание, и даже Крещение в христианскую веру не способствовало поначалу забвению того, чему научили её в юности. Поэтому в определённых кругах женитьба императора на юной афинянке могла казаться победой язычества, во всяком случае, залогом терпимости. И действительно, императрица оставалась пока тем, чем была дочь Леонтия... Она любила стихи, охотно слагала их; в окружавшем её обществе она нашла разделявших и поощрявших её вкусы. Чтобы понравиться Феодосию и окончательно завоевать любовь своего просвещённого супруга, она после свадьбы слагает героическую поэму на войну с Персией, только что счастливо для Византии оконченную.
Афинаида-Евдокия принимает деятельное участие в открытии в Константинополе университета. В нём стали, как в языческом университете в Афинах, изучать философию. Но этот предмет всё же носил здесь христианский характер... И это проливает свет на ту эволюцию, какая медленно совершалась в душе императрицы Евдокии... Ибо, живя в набожной христианской среде, она помимо своей воли не могла не воспринимать её. Она всё больше и больше пристращалась к богословским спорам. Когда Несторий, патриарх Константинопольский, начал распространять свою ересь, получившую от него своё имя, когда честолюбивый Кирилл, патриарх Александрийский, не столько радея о православии, сколько из зависти к сопернику, дал возгореться страшному спору в восточной церкви, Евдокия стала на сторону мужа, чтобы поддержать патриарха столицы против его недругов, взгляды которых разделяла Пульхерия.
В частности, спор шёл о словесном выражении — «Богородица». Несторианцы видели в этом противоречие литургическому богословию, чтившему Деву Марию только Богородицей, и говорили, что Дева Мария — и Богородица, и вместе с тем — Человекородица. Поэтому правильнее бы Деву Марию именовать — Христородица. Ведь всякая мать рождает только тело, а душа от Бога...
Кирилл упорно возражал патриарху Константинопольскому, в этот спор всё глубже влезали и Афинаида-Евдокия, и Пульхерия. Между прочим, этот спор показывает нам ещё и нечто другое: увеличивающееся влияние молодой женщины и возникающее несогласие между ней и Пульхерией. Думается, последняя стала жалеть, что выбрала для своего брата именно эту девушку и расчёт на её пожизненную благодарность не оправдался...
Отголоски этих несогласий стали чувствоваться за стенами дворца, и более ловкие пользовались ими, направляя одну женщину против другой. В особенности к этому прибегал Кирилл; с одной стороны, он писал императору и его жене, с другой — обращался к Августе Пульхерии, зная, что она враждебно относится к его сопернику Несторию.
Феодосий в самых энергичных выражениях порицал недостойность такого поведения. «Ты мог думать, — писал он патриарху Александрийскому, — что мы были в несогласии, я, жена и моя сестра, или ты надеялся, что письма твоего святейшества посеют между нами раздор».
Так оно и случилось. И верх в этом раздоре взяла Евдокия; звезда её постепенно, но уверенно восходила над горизонтом. И она уже светила подле василевса и его друзей: Евдокия покровительствовала Павлину и префекту Константинополя (епарху) египтянину Киру из Панополиса, любившему, подобно ей, литературу и писавшему стихи. У неё были уже свои льстецы, своя партия при дворе. К тому же, лелеемый Евдокией четырнадцать лет проект женить римского императора Валентиниана III на своей дочери Евдоксии стал действительностью. Некогда безвестная провинциалка находилась теперь во славе: её безумно любил василевс, её друзья с каждым днём становились влиятельнее при дворе. И Евдокия осмелилась на большее...
Во дворце традиционно евнухи имели немалую власть. И Евдокия нашла общий язык с одним из них — Хрисанфием, чтобы окончательно отстранить Пульхерию от дел. И это ей удалось также не без помощи одного влиятельного при дворе человека, секретаря императора по имени Приск. Под общим нажимом, в том числе и василевса, Пульхерия благоразумно покинула двор и удалилась в свою загородную резиденцию.
Вот в такую обстановку попала приехавшая сюда из Рима Гонория...
Ульпиан пожалел, что в такое время, не разведав заранее об истинном положении вещей в Большом императорском дворце, привёз в Константинополь дочь Галлы Плацидии. Письмо, предназначенное Пульхерии, он, естественно, никому не стал показывать; лишь на словах изложил Феодосию просьбу тётки относительно её дочери. Присутствующая при этом разговоре Евдокия близко к сердцу приняла судьбу Гонории, ибо эта судьба в чём-то напоминала её, когда во дворце безраздельно правила Пульхерия, как в Римской империи — мать этой красивой молодой принцессы... Приняла близко к сердцу, пожалела и определила Гонорию в число своих самых близких приближённых, а иначе говорится — ввела в свой круг. А корникулярия Плацидии не без ехидства заверила, что всячески поспособствует возрождению девушки...
Ульпиану ничего более не оставалось, как поблагодарить и раскланяться, оставив Гонорию со служанкой Джамной на попечение восточной императрицы. Но хитрый дворцовый интриган до тех пор не убыл в Равенну, пока не встретился в загородной резиденции с Пульхерией й не передал ей письмо от своей повелительницы. Добиваясь этой встречи, Ульпиан рассуждал так: «Впавшие в немилость получают прощение, как это нередко бывает в царских домах, а те, кто был наверху, падают вниз... Это называется колесом власти... Думаю, что в конце концов всесильная сейчас Евдокия тоже потеряет доброе расположение к себе императора. Он уже, как я заметил, потихоньку ревнует её к своему другу Павлину... Поэтому письмо Плацидии нужно передать обязательно по назначению, и та участь, которая уготована Гонории, должна её постигнуть...»
Римской царевне хорошо жилось под крылышком образованной афинянки, которая понимала её, — и Гонория хорошо представляла, что бы стало с ней, если бы во дворце верховодила благочестивая Пульхерия...
Гонория помнила, хотя была тогда маленькой, как они с матерью и братом уже однажды побывали в Константинополе в качестве ссыльных, когда в Равенне распространился слух, что Плацидия состоит в любовных связях со своим братом императором Рима Гонорием. Галла Плацидия и её дети приехали сюда после смерти другого её брата — правителя Восточной империи Аркадия, и всем во дворце заправляла регентша сестра Феодосия Пульхерия. Вот она-то, узнав о похотливости своей тётки, устроила ей и её детям настоящее узилище: в тёмной дворцовой, ещё недостроенной церкви они молились Богу, не вставая с колен, с утра до вечера. Но эти моления, кстати, не поколебали арианской веры Плацидии и её отпрысков...
Тогда-то и возник проект брака между императорскими детьми — только что родившейся дочерью Афинаиды Евдокии и пятилетним Валентинианом, который по смерти Гонория, не имевшего наследника, должен стать императором Рима. И когда Гонорий умер, Феодосии II приложил все усилия, чтобы заставить признать в Италии, под опекунством Галлы Плацидии, власть своего будущего л ятя. А Афинаида-Евдокия дала себе обет: если состоится желанный брак, который возведёт её дочь на трон Западной Римской империи, то она, как некогда святая Елена, совершит паломничество в Иерусалим, чтобы возблагодарить Бога.
По разным причинам паломничество откладывалось, но теперь, кажется, наступил такой момент, когда никто ей уже не помешает сделать это... Евдокия, зная, что Гонория арианка, решила взять её с собой, чтобы там, в Священном граде всех христиан, выбить из неё эту ересь. Хотя сама она была несторианкой, тоже исповедовала ересь, но нашла в себе силы после III Вселенского собора в Эфесе отринуть её... И тем самым как бы встала в один ряд с последователями Кирилла Александрийского, но до конца своих дней она не воспринимала его как личность... Помнила его письма к себе, мужу и Пульхерии. И знала, что провокаторские способности Кирилла проявлялись и ранее, как, например, в деле погрома иудеев в Александрии...
В Александрии до эпохи василевса Юстиниана I (VI век) ещё не сложилось господство единой имперской религии. Знамя язычества ещё высоко держалось в Египте. Поэтому префект Египта Орест обязан был охранять фактическую свободу веры, и это сильно раздражало христиан, сознававших себя монопольными хозяевами страны.
Кирилл находился в открытой борьбе с Орестом. Среди трудных задач префектуры была и неизбывная задача спасения иудеев от погромов. Христиане преследовали их с такой же беспощадностью, как в своё время последние первых.
И вот на погром иудеев поднял христиан некий Перак. Орест арестовал предводителя и наказа! его. Кирилл был возмущён наказанием Перака, и приверженцы Кирилла стали угрожать местью иудеям. Но иудеи не утерпели и сами ночью устроили погром христиан с поджогом и убийствами. Христиане отбили атаку, и по наущению Кирилла сожгли утром синагогу и все дома еврейского квартала. Орест поэтому имел все основания считать не Перака, а Кирилла предводителем бунтарских сил. Так оно и было на самом деле... Ибо ему повиновалась ещё целая армия нитрийских монахов, которые вышли из пустыни и оказались перед зданием префектуры. Их было около пятисот человек. Они начали открыто бранить Ореста, что он язычник и пособник иудеев. Орест заявил им:
— Ошибаетесь, святые отцы... Я — христианин, крещён по обычаям своего времени в зрелом возрасте патриархом Константинополя Аттиком.
Погромщики были сбиты с толку, но одному из них, монаху Аммонию, кто-то вложил в руку камень, и монах этим камнем раскровенил Оресту голову. Аммоний потом был арестован и во время допросов забит ликтором до смерти. Кирилл Александрийский демонстративно устроил Аммонию торжественные похороны и объявил его мучеником с переименованием в Фавмасия Чудотворца.
Но этим дело не кончилось. Ответом на смерть Аммония явилась страшная казнь известной учёной, философессы неоплатонической школы и математика Александрийской Академии Ипатии. Христиане считали её вдохновительницей Ореста в пользу его религиозной терпимости. Всегда звереющая при науськивании толпа напала на идущую в Академию Ипатию, сорвала с неё одежды, волочила за волосы голую по улицам и затащила в церковь.
Тут фанатик-чтец Пётр насмерть забил замученную Ипатию. Оскорблённое её тело затем рассекли на куски, даже мясо с костей Ипатии было содрано устричными раковинами и сожжено на костре...
Готовилась императрица Византии к поездке в Иерусалим тщательно, с добрым настроением; её настроение передалось и другим — и прежде всего Гонории, её служанке Джамне и сопровождающему Приску, который был выделен им в дорогу по велению Феодосия.
Фракиец Приск по натуре был сдержан, но ум так и светился в каждом его взгляде. Он свободно говорил на латинском, хорошо владел еврейским, знал язык, на котором говорили гунны, ибо, попав к ним в плен, когда находился во Фракии, прожил у них более пяти лет. Потом его обменял Феодосий на других пленных, а когда узнал, что Приск знает многие языки, сделал его своим секретарём. Там же, в плену, Приск изучил и славянский, так как в войске Аттилы воевали многие выходцы с Причерноморья, Борисфена, Танаиса[88], Истра.
Пожелал поехать в Иерусалим и белокурый красавец Павлин. Феодосий поначалу согласился: после участия в устроении свадьбы императора с Афинаидой-Евдокией Павлин имел свободный доступ к царственным особам, обладал изящными манерами и величавой осанкой, слагал стихи, тоже знал несколько иностранных языков. Феодосий доверял своему другу и лучшего спутника жене в Святой град и желать не мог. Но случилось непредвиденное...
Император собрался в церковь. Павлин, всегдашний его сопроводитель, плохо себя чувствовал и остался во дворце. По дороге Феодосий увидел у одного нищего необыкновенной величины фригийское яблоко и решил купить его, чтобы подарить любимой жене. Но Евдокия, не подумав, в свою очередь послала яблоко Павлину как дружеский подарок больному.
Последний, не зная, от кого Евдокия получила это яблоко, решил, что оно не может не понравиться василевсу и распорядился отправить яблоко Феодосию. Василеве, немало удивлённый, велел позвать Евдокию. И сразу спросил её:
— Где то яблоко, которое я послал тебе?
Заподозрив что-то неладное, Евдокия необдуманно соврала:
— Я его съела.
Всё ещё влюблённый в жену, Феодосий просит её сказать правду: императрица упорствует. Тогда, вынув яблоко из-под полы порфиры[89], василевс показывает его обманщице. Последовало бурное объяснение. Взбешённый Феодосий, мучимый ревностью, отсылает Павлина в Кесарию Каппадокийскую, откуда тот родом.
Евдокия тут же почувствовала другое отношение к себе Хрисанфия. Ей, прожившей уже немало лет во дворце, этому удивляться бы и не стоило, но всё же она с чувством гадливости подумала о евнухе, помогшем ей одолеть Пульхерию: «Отменный плут! Теперь и Пульхерия снова будет входить в доверие к брату... Господи, хороший человек Феодосий, но подвержен влиянию... Как сие плохо, ибо приносит трудности самым близким ему людям, а негодяям благоденствие!»
Всё же Евдокия была прощена мужем, но выезжала в Иерусалим с тяжёлым чувством, хотя виновата она перед василевсом в том, что проявила неосторожность. Много позднее, лёжа на смертном одре, перед тем, как предстать перед Богом, она клялась, что в деле с Павлином была совершенно невинна. Но Феодосий после случая со злополучным яблоком, как прежде, ей уже перестал доверять...
И кто тот нищий, продавший императору яблоко?! Не было ли сие колдовством?.. Или происки недоброжелателей ...
Дорога отвлекла и Евдокию, и Гонорию от мрачных мыслей, одолевавших и ту и другую. После каменного мешка, коим представлялась столица Византии, кишащего нищими и публичными домами, езда под открытым, высоким, голубым и спокойным небом казалась счастьем...
Лошади неторопко бежали, мягко скрипели рессоры «carpentum» — двухколёсного экипажа с дышлом и полуцилиндрической крышей, в котором сидели Евдокия с двумя служанками, Гонория с Джамной, — Приск и его слуга находились в наглухо крытой четырёхколёсной повозке, где хранились царские драгоценности, золото и была припасена еда; верховые охранники численностью в сто человек скакали по обеим сторонам экипажа и повозки.
Евдокия, выглянув, посмотрела, как вертится колесо, и процитировала древнейшие стихи Вед:
Как за конём катится колесо,
Так оба мира за тобою...
Двустишие растрогало Гонорию, и она рассказала вкратце об их суматошной езде с Джамной и рабом Радогастом до Рима в качестве беглецов, не преминув упомянуть о том, что причиной их побега явились происки Галлы Плацидии и евнуха Ульпиана.
— Евнухи — это такие двуногие существа, место которым только среди четвероногих... — И Евдокия в свою очередь поведала, как изменился по отношению к ней евнух Хрисанфий, узнав о случае с злополучным яблоком, а потом, внимательно взглянув в глаза Гонории, добавила: — А твоя мать — бессердечная, жестокая женщина...
— Она любит власть, — ответила римская Августа.
— А кто её не любит?! — воскликнула византийская императрица.
И обе замолчали. Придёт время, и Гонория проявит себя не менее властолюбивой, чем другие.
Первый город на пути в Иерусалим, где предстояло остановиться и передохнуть, была Антиохия, находящаяся в Пизидии. Другая Антиохия расположилась на берегу Средиземного моря, в Сирии. В первой они пробыли совсем мало времени, а вот во второй Евдокия задумала остановиться надолго, чтобы оттуда навестить сирийских монахов-пустынников.
Их аскетическая жизнь стала интересовать жену василевса с тех пор, как она сделалась истинной христианкой... Монахи-аскеты считали, что важным показателем постижения Бога служит состояние высшего духовного наслаждения — блаженства, которое резко противопоставлялось ими чувственным наслаждениям обыденной жизни.
— Это есть эстетика аскетизма, — сказала Евдокия.
Гонория вначале не поняла, о каком высшем духовном наслаждении души идёт речь: по пути в Рим во время своего бегства она видела монахов, удалившихся от мира и тем самым выразивших протест против его жестокости и угнетения; видела путешествовавших философов-стоиков, похожих на аскетов. Но вот то, что существует так называемая эстетика аскетизма... Чрезвычайно любопытно!
— Да, милая, пустынники-аскеты вожделеют получить неизглаголанные[90] блага, которые выражаются в презрении всякой земной красоты, славы и богатства царей и архонтов; монахи-аскеты стремятся уязвиться божественной красотой, чтобы в души их вошла жизнь Небесного бессмертия... Но приходят они к этому не сразу, а через демонические искушения и языческие заблуждения, ценою невыразимых мук и раскаяний... Как в своё время прошёл через это святой Антоний[91].
А был и ещё такой блаженный Арсений, — продолжала рассказывать Евдокия. — В бытность свою при императорском дворе взмолился он к Богу таковыми словами: «Господи, настави меня на путь спасения!» И был ему глас, глаголющий: «Арсение, беги человеков, и спасёшься».
Арсений же, отойдя к монашескому житию, денно и нощно молился и прославился как авва[92]. Но однажды снова услышал глас, глаголющий ему: «Арсение, авва, затворяйся ещё больше! Сие бо суть корни безгрешности».
Говорили о старце, что как при дворе никто не одевался лучше его, так и в обители никто не имел ризы более скудной... В конце концов он ушёл в пустыню и стал жить один среди жёлтых песков. Там он поборол все демонические искушения и сделался святым.
Последние слова Евдокия произнесла как-то особенно, углублённо, как бы про себя, но вслух... Гонория посмотрела на императрицу и увидела её отрешённое на миг лицо.
«Она изложила всё это так, будто что-то созвучное своей душе увидела в жизни пустынников...» — подумала Гонория.
И тут Евдокия улыбнулась.
— Я ведь собираюсь об этом написать поэму, — призналась она. — Вот почему хочу навестить сирийских пустынников и поговорить с ними... Думаю, что и тебе, Гонория, это тоже будет полезно...
Но авва — прежде всего монах, «старец».
II
Луна должна была вот-вот взойти и окрасить в мертвенно-бледный свет спокойные воды Пропонтиды[93] и стоящую в гавани, которую позже назовут гаванью Юлиана, небольшую по размеру хеландию без мачт. Капитан — среднего роста рыжий грек, усатый боцман и широкоплечий рулевой стояли возле борта и негромко перебрасывались словами:
— Пора бы и отчаливать, а гостей всё нет... — нервно упрекнул кого-то капитан.
— До восхода луны можем и не успеть прийти к месту... — в тон ему сказал рулевой.
— A-а, морские волки, о чём ведёте речь?! Наверстаем всё в пути. Скажу надсмотрщикам, они крепко погуляют бичами по спинам гребцов, и судно полетит как птица. Нам ведь хорошо заплатили...
Но вот на набережной появились трое, закутанные в паллии, и скоро стушили на палубу судна. Один из них, небольшого роста, закрыл капюшоном даже лицо.
Капитан дал команду, и хеландия отошла от берега. До восхода луны всё-таки причалил напротив Большого Императорского дворца. Незнакомцы сошли на берег и тут же растворились в темноте.
Со стороны Босфора в проёме скалы двое отодвинули камень и открыли за ним дверь. Третий зашёл в проем, и тут из темноты туннеля появились опять двое... А те снаружи заперли дверь и придвинули камень на прежнее место.
— Слава Господу, наша снова берёт, — сказал один из них, спускавшихся к водам Босфора.
— Не кричи «Слава вознице!», пока его колесница не обогнёт мету[94]...
— И то верно.
А те, что находились в туннеле, зажгли факелы. Летучие мыши с писками шарахнулись под своды.
Двое довольно быстро зашагали вперёд, и гость, несмотря на свой небольшой рост, не отставал, лишь высвободил нос и рот, чтобы было легче дышать.
Вскоре все трое оказались на мраморной площадке; здесь повсюду высились колонны огромного диаметра и большой высоты, подпирающие пол какого-то здания.
Послышался плеск весел, и показалась лодка. Она ткнулась в край мраморной площадки; незнакомец и двое, что сопровождали его по туннелю, сели, и лодка, лавируя между колонн, коих тоже немало стояло, но теперь уже в воде, причалила к такой же мраморной площадке, только по другую сторону этой загадочной подземной ёмкости.
Для посвящённых (а таких в Большом императорском дворце было немного) существование этого по сути водного туннеля объяснялось просто: Константин Великий при строительстве императорской резиденции приказал на случай непредвиденной опасности прорыть под нею подземный ход, ведущий к морю, и укрепить его колоннами.
Однажды, рядом тянувшийся водопровод прорвало, и подземный ход полузатопило. Если раньше его можно было одолеть пешком, то теперь без лодки не обходилось.
С мраморной площадки вела наверх каменная лестница, по которой незнакомец, двое с факелами и лодочник поднялись к огромной железной двери. По условному стуку её отворили, и все четверо оказались в галерее, освещённой настенными огнями. Факелы затушили.
Как только вышли к концу галереи, трое, сопровождавшие незнакомца, будто растворились, и, словно по волшебству, возник евнух Хрисанфий...
— Позволь, высочайшая императрица, поцеловать твою руку, — обратился он к человеку небольшого роста.
Последний откинул капюшон паллия, и перед евнухом предстала... Пульхерия. Вскоре прояснилась и та таинственность, с которой она сюда прибыла.
— Хрисанфий, это все твои выдумки, чтобы я таким образом проникла во дворец.
— Несравненная, ты же знаешь переменчивость настроения твоего брата, и неизвестно, как бы он отреагировал, если бы ты официально прибыла в его резиденцию.
— В нашу, Хрисанфий, в нашу...
— Прости, величайшая.
— Прощаю... Теперь ты — со мной, а ведь тоже я по твоей милости оказалась за городом...
— Кто прошлое помянет, тому глаз вон.
— Ишь, болтун!.. Глаз-то я у тебя в случае чего выну... Запомни!
— Теперь запомню. И на век!
— А что делает сейчас василевс?
— Как всегда... Читает... И допоздна. Только вот та сконструированная им самим световая лампа упала на пол и сломалась.
— Ничего, теперь мы ему новую сделаем. По своей задумке...
Жирное тело Хрисанфия затряслось в безвучном смехе. Хихикнула своей шутке и Пульхерия.
— Мои покои готовы?
— Готовы, великая. Из покоев покуда не выходи. Как только я подготовлю василевса к твоей встрече, дам знать.
— У тебя умная голова, Хрисанфий...
— Благодарю, порфирородная, я буду служить тебе верой, правдой и честью.
«Ну, насчёт твоей чести я сомневаюсь...» — подумала императрица.
Когда византийской Августе поведали про случай с фригийским яблоком и что Евдокия, внешне прощённая мужем, отбыла в Святой город, взяв с собой Гонорию, Пульхерия тут же захотела поехать к брату. Без жены Феодосий снова становился податливым, тем человеком, которого она знала много лет и который позволял ей над собою командовать. Да и нет теперь во дворце Павлина — его тоже слушался василевс.
С одной стороны, Пульхерия радовалась такому развитию событий, только жаль, что она не увидит больше белокурого величавого красавца; красота и осанка Павлина поразили с первого взгляда даже её, набожную девственницу, и много раз, лёжа в постели, она думала о его жарких объятиях, наводя себя на великий соблазн, потом, правда, часами замаливали свой грех.
Однажды вошла Пульхерия как обычно с докладом в помещение бассейна, где плавал брат. В это время он всегда плавал один, и Пульхерия безбоязненно входила, ибо голое тело брата, виденное ею с детства (часто они бултыхались вместе в ванне), не вызывало в ней никаких эмоций и чувств. Но тут она увидела стоящего на краю бассейна совершенно обнажённого Павлина, сложенного, как Аполлон (в своё время Пульхерия читала греческих и римских писателей), и остолбенела... На какое-то время от неожиданного появления императрицы потерял способность двигаться и фаворит василевса. Ему бы в воду сигать, а он стоял, словно мета на Ипподроме, такой же высокий и красивый. Да и Пульхерии следовало бы повернуться и бежать, но она продолжала пялиться на обнажённого Павлина; особенно её поразило огромных размеров чуть покачивающееся естество... «Боже! А какое оно будет, если?..» — как-то непроизвольно пронеслось в голове девственницы, и только тут она вскрикнула и выбежала из бассейна.
— Ну, брат!.. Смотри, как наша девственница на тебя зрила! Искушение святого Антония, да и только! — Феодосий захохотал.
Павлин виновато склонил голову и что-то промямлил в оправдание.
Василевсу шёл двадцатый год, и он уже понимал, что такое жуткое стремление властвовать и... девственница, молящаяся до исступления каждый день... В этом есть много чего противоестественного: ведь власть — это больше, чем гордыня!..
Пульхерия, как и брат, красива, с выразительными тёмными глазами, с правильным, слегка овальным лицом, с пунцовыми, страстными, чуть вывернутыми губами, которыми только возлюбленных целовать, вот его, например, Павлина... Детей рожать!
— Чего зажурился, Павлин? — ещё не отойдя от смеха, подначил друга Феодосий. — Теперь она, не вставая с колен, будет грех неделю замаливать. А я её видел тоже обнажённую... Ох и хороша она, брат, да, видно, не для земных мужиков... Христова невеста!
С появлением Афинаиды-Евдокии во дворце, видя, как крепнут отношения её и Павлина, Пульхерия возненавидела последнего и порою желала ему смерти. И сейчас она твёрдо знала, что с Павлином ей, как и Евдокии, не суждено больше встретиться... Теперь-то она, Пульхерия, приложит все усилия, чтобы сделать это...
И настал такой день, когда Феодосий повелел экскувиторам привести в тронный зал дворца сестру из её покоев. Сам он находился там без величественной порфиры, но в обязательных красных башмаках-кампагиях. Чтобы показать всё ещё своё недовольство, Феодосий хотел принять сестру официально, сидя на кафизме[95], но, увидев в проёме дверей её строгое лицо, не сдержался, покинул трон и поспешил к ней навстречу.
— Здравствуй, присночтимый братец, — поприветствовала Пульхерия Феодосия.
Только она одна во всей Византии так могла обратиться к всемогущему правителю с такими словами.
— Много лет здравствовать и тебе, моя сестра...
— Здравствовать?! В глуши, одиночестве, особо не поздравствуешь, — укорила Пульхерия Феодосия.
Последний на её укор никак не прореагировал — сделал вид, что ничего не понял.
— Слышала, что твоя любимая жёнушка отправилась в Святой город. Только не надо было с ней отпускать Гонорию, которую прислала к нам на полное попечение всесильная Галла Плацидия... Поездка её дочери в Иерусалим вряд ли понравится римской императрице.
— Иерусалим сейчас — колыбель христиан всего мира, посещение его угодно и самому Всевышнему... Пусть сие послужит утешением всякому и смирит того гнев... — оставался невозмутимым василевс.
В определённые моменты он чётко осознавал свою силу, знал, что простой народ любит его, хотя и подшучивает над ним, особенно на скачках.
Но, как всегда, сестра в эти самые моменты чётко «сбивала Феодосия с катушек». Она прямо заявила ему:
— Мой царственный брат, смотри не промахнись... Как промахнулся с фригийским яблоком. Это хорошо, что ты услал Павлина подальше от двора, на его родину — в Кесарию Каппадокийскую. А подумал ли ты над тем, почему сразу после его отъезда Евдокия запросилась в Иерусалим?.. Путь до Святого города длинный, и на этом пути Павлин и твоя жена могут не раз встретиться... Не лучше было бы Павлина подержать в Константинополе и отпустить его в Кесарию тогда, когда твоя жена уже достигла бы «колыбели христиан всего мира»?..
Лицо Феодосия покрылось красными пятнами; сейчас до него дошло, какую очередную ошибку он допустил. Нет, без советов Пульхерии ему не обойтись...
— А что ты предлагаешь, сестра?
То, что хотела она предложить, противоречило его нравственным принципам, да и её тоже, — ведь эти принципы она закладывала в брата с детства. А потом, как быть с евангельской заповедью «Не убий»?!
Но Пульхерия переступила через себя и через эту заповедь, ибо знала, что политика делается руками не всегда чистыми; и сказано в Библии; «Богу — богово, кесарю — кесарево». Значит, есть оправдание от Божества в деяниях Цезарей...
— Павлин должен умереть... Иначе он снова тебя, повелителя полумира, выставит в смешном виде... Охлос по поводу яблока уже распевает на улицах и форумах сочинённые кем-то стишки неприличного содержания... Кем-то? — задала как бы себе этот вопрос Августа: — Теми, кто окружает Евдокию... Стихоплётами... Они горазды.
Феодосий в волнении забегал по тронному залу — больнее его могла ужалить только змея... И тогда он приказал позвать начальника экскувиторов Ардавурия.
...Обширная область Византии Каппадокия в переводе означает «земля хороших лошадей». Бегали ли здесь на самом деле хорошие лошади, Павлин не ведает, но то, что земля эта состоит из нагромождений вулканического туфа, сие очевидно. А ветры и солнечный зной придали мягким туфовым породам формы причудливых конусов, пирамид и впадин. Издавна жители Каппадокии высекали себе в этих пирамидах жилища, церкви и целые пещерные города (до семи этажей!). А во время нашествий врагов они закрывали все входы и выходили на поверхность только для обработки полей.
«Когда-то эта земля была сердцем империи хеттов... Может быть, и мои предки происходили от них», — думает Павлин, любуясь причудливыми формами вулканических камней.
Но Каппадокию населяли разные народы, и их последний царь Архелай, будучи приглашённым императором Тиберием в Рим в 15 году по Р.Х., был изменчески взят в плен, и его владения вошли в состав Римской империи. Павлин как истинный христианин гордится тем, что Каппадокия несколько раз упоминается в Библии: её жители, вместе с другими, присутствовали в Иерусалиме, куда отправилась красавица Евдокия, в день Пятидесятницы, а родной город Павлина Кесария является родиной Василия Великого — знаменитого церковного деятеля, автора популярного «Шестоднева», в котором изложены принципы христианской космологии.
Конь тихо бредёт, слегка нагнув голову, — жара донимает и его. Павлин обрадовался, когда увидел на краю пещерной деревни из-под кустов каперса прозрачной струйкой вытекающий родник. На каменной плите, лежащей рядом, высечены две мужские фигуры, а надпись на греческом гласила о том, что этот живительный источник посвящён братьям Диоскурам — Кастору и Поллуксу. Каменная плита с изображениями языческих богов осталась нетронутой, но теперь считалось, что на ней вырезаны христианские святые Косьма и Дамиан.
Павлин перекрестился, прочёл молитву, набрал в пригоршню студёной воды, почёл, ополоснул лицо.
Кожаной торбой зачерпнул живительной влаги, напоил коня. Затем, отстегнул колчан со стрелами, меч, положил на землю. Конь неподалёку потянулся, выпрямив шею, к траве, которая пробивалась между камней, ухватывал оттопыренными губами и звенел удилами.
Павлин пожалел животное, вынул у него изо рта удила, отстегнул седло. Когда прилаживался сесть на положенное возле каменной плиты седло, вдруг услышал грохот валунов, скатившихся со скалы, и увидел взметнувшегося вверх орла, подумал, что это он свалил когтями, поднимаясь, камень с вершины, который, скатываясь, и вызвал сей незначительный обвал...
Павлин потянулся к кустарнику, сорвал плод каперса — продолговатый, похожий на сливу, с толстой, мясистой шелухою. Потёр его между большим и указательным пальцами и вспомнил, что отец, наместник василевса в Каппадокии, любил употреблять в пищу эти ягоды как приправу. Они приготовлялись в уксусе и служили врачебно-укрепляющим средством.
И пришли на ум Павлину слова из Екклезиаста: «...и рассыплется каперс»; подразумевалось под этим — сильный упадок сил и совершенную потерю аппетита в глубокой старости, так что уже ничто не могло более возбудить человеческий организм... И даже плоды... Но додумать свою мысль до конца Павлин не успел: стрела, пущенная убийцей со скалы, метко впилась ему в левый глаз, и смерть наступила мгновенно...
В сером плаще, рослый, с широкими плечами мужчина, стоящий на вершине, торжествующе поднял в правой руке лук и издал клич на языке, не похожем ни на латинский, ни на итальянский, да и ни на один из тех, на котором изъяснялись сарматы, гунны, славяне, анты, германцы... И неудивительно, ведь этот мужчина был мавром...
Он спустился вниз, слегка пнул свалившееся с седла тело Павлина, начал внимательно рассматривать его, прикидывая, что бы такое взять в доказательство того, что бывший царский любимец убит... Значит, нужно найти такую вещь, которую мог бы опознать сам василевс. И мавру бросился в глаза массивный золотой перстень на среднем пальце левой руки. Он потянул его, но перстень не снимался; мавр с силой дёрнул его — снова ничего не вышло. Тогда убийца вынул из ножен акинак — обязательное оружие каждого византийского солдата — и отхватил им палец с перстнем... Увидел на шее убитого платок, предназначенный от пота, сорвал и замотал в платок окровавленный палец.
«Теперь это будет передано Ардавурию, а тот покажет или Пульхерии, или Хрисанфию... А уж потом — василевсу... Кстати, я обязан евнуху, что оказался в сей поездке, которая сулит мне немалую выгоду... Вон красавец конь Павлина... Теперь он мой, могу продать или его, или свою лошадь, которая осталась с тремя экскувиторами, дожидающимися меня у развилки дорог... Начальником над ними меня назначил Ардавурий, так как я умею стрелять, попадая в глаз. Этому меня научили с детства на юге Африки, в самом конце Великого африканского разлома... А местные шаманы посвятили меня в тайны чародейства... Будучи уже воином, я попал в плен, был продан в Константинополь, благодаря воинскому искусству да и чародейству тоже попал в гвардейцы... Ардавурий приказал мне убить Павлина, а потом скакать в Иерусалим и следить за каждым шагом императрицы и молодой римской Августы...» — пронеслось в голове у мавра.
Он покопался в перемётной суме, обнаружил пояс с золотыми монетами. Затем стал ловить коня, но тот не давался: косил фиолетовым глазом, оттопыривал верхнюю губу, показывая широкие зубы. Тогда мавр вперил взгляд, ставший пронзительным, в этот лошадиный глаз и сам, как конь, оскалил зубы, и последний послушно дал себя оседлать и взял в рот удила...
Мавр вскочил на него и вскоре подъезжал к трём всадникам, держащим в поводу свободную лошадь. «Всё-таки продам её...» — снова подумал мавр; конь Павлина выглядел по сравнению с лошадью мощным, грудастым красавцем.
Похвалили коня и товарищи мавра. Но один из них, что помоложе, обратился к мавру:
— Ману, ты, наверное, оставил труп непогребённым? Может, мы зароем его?
— Времени у нас в обрез... Труп лежит возле источника, на краю деревни. Придут люди за водой, скоро обнаружат и похоронят. А ты, жалостливый сосунок, бери вот это, — Ману сунул молодому воину окровавленный платок с пальцем и перстнем Павлина, — и живо скачи во дворец к Ардавурию! Да смотри не потеряй, иначе тебе не сносить головы...
— Будет сделано, — виновато опуская глаза, пообещал молодой воин, сообразив, что в платке находится предмет, подтверждающий гибель бывшего царского любимца.
Оставшись втроём, мавр и его подчинённые посовещались, как лучше спрямить дорогу на Антиохию Сирийскую, и быстро помчались. Красавец конь ходко и легко нёс своего нового хозяина.
Через какое-то время им встретился купеческий караван; толстому хозяину-персу чёрный Ману и продал лошадь...
А тем временем верховая охрана, повозка с Приском и экипаж, в котором сидели две царственные особы со своими служанками, въезжали в крепостные ворота Антиохии. Затем лошади вступили на мост через реку Аси, возведённый ещё в период правления римского императора Диоклетиана. Хорошо сохранился и акведук, тянувшийся к каменным стенам, окружавшим город.
Проехав улицу, наши путешественники оказались на широком форуме, где, как на любой из площадей Афин, стояло много античных статуй. Любуясь ими, в душе императрицы Евдокии проснулись языческие воспоминания минувшей юности, что нельзя было сказать о Гонории, которая всегда жила как бы в замкнутом пространстве равеннского дворца. И далее она никуда не заглядывала до самого своего бегства. А в Риме, сидя в темнице храма Митры, она гоже ничего не видела, только страх постоянно сковывал её душу...
У дворца сената собравшиеся жители Антиохии, в большинстве своём греки, шумно приветствовали свою императрицу, свою землячку, красавицу Афинаиду-Евдокию.
Также шумно приветствовали они её и на всём протяжении полуторамильного пути от центра города до апостольской пещеры Петра, когда Евдокия со своими спутницами и спутниками захотела увидеть то место, где, прячась от языческих глаз, молился святой Пётр. Здесь же, в Антиохии, образовалась потом христианская община, главой которой одно время состоял апостол Павел, в бытность свою фарисей Савл...
Но было заметно везде и во всём, что эллинский дух и сейчас вольно витал над этим городом. И, сидя во дворце сената на золотом троне, сверкающем драгоценными камнями, принимая с достоинством чиновников и знатных граждан, уроженка Афин Афинаида-Евдокия вдруг вспомнила снова уроки отца, и она произнесла блестящую речь в честь восторженно принявшего её города и, напомнив о далёких временах, когда греческие колонии разносили по всему Архипелагу вплоть до берегов Сирии эллинскую цивилизацию, закончила свою импровизацию цитатой из Гомера:
— «Горжусь, что я вашего рода и что во мне ваша кровь».
Жители Антиохии были люди слишком культурные, слишком большие любители Поэта, чтобы не оценить это. И, как в славные дни Древней Греции, муниципальный сенат вотировал[96] воздвигнуть в честь императрицы золотую статую, которая и была позже поставлена в курии, а на бронзовой плите, помещённой в музее, была вырезана надпись в воспоминание о посещении Евдокии.
Кажется, только тогда Гонория поняла, что такое быть настоящей царицей... Когда с полным правом можно заявить своему народу, что «я вашего рода и что во мне ваша кровь». С того момента мысли эти стали часто посещать римскую Августу, имеющую титул, а не власть, и проведшую почти половину своей жизни словно узница... Будто невольно сподобилась отцам-пустыннослужителям...
И понимала, что Евдокия, находящаяся тоже длительное время под присмотром Пульхерии, тоже вела в Константинополе жизнь узницы. Это сейчас она свободна как райская птичка, но что будет дальше — одному Богу известно.
Пока обе не знали, что длинные руки Пульхерии дотянулись до них; трое, посланных из дворца, уже наблюдают за ними.
И как удивилась Евдокия, когда Гонория первой изъявила желание посетить в сирийской пустыне старцев.
Сенат, у которого Евдокия попросила разрешение на встречу с аввами, отказать ей не мог, хотя понимал, что путешествие в пустыню не из лёгких. Сопровождать царских особ вызвался сам епископ Антиохийский.
На горбах пяти верблюдов приспособили специальные носилки с балдахинами. Там и поместились Евдокия, Гонория, их служанки, епископ. Приск и его слуга ехали на лошадях вместе с охраной.
Они прибыли к пещере, где жил знаменитый тогда авва Данила. Когда он вышел навстречу епископу, которого знал в лицо, то удивился двум богато одетым женщинам, представшим перед ним. Поправляя на теле верёвки, которые уже начали въедаться в кожу, спросил:
— Кто такие? Что надо?
Епископ ответил, что одна из них византийская царица, другая — римская царевна.
— Божие слово они хотят услышать от тебя, отче.
Авва Данила был страшно худ, ибо всё сильнее и сильнее умерщвлял и порабощал своё тело. Он часто не спал ночами, ел один раз в сутки после захода солнца, а нередко и в четыре дня. Пищей ему служили хлеб, соль и вода. Спал он на рогоже, а чаще всего на голой земле. Но лицо Данилы сохраняло необычную красоту и приятность, а в глазах отражались полное душевное равновесие и покой. Такие лица были у настоящих праведников, проводящих всё своё время в молитвах и раскаянии.
А раскаиваться бывшему богачу и знатному человеку в Антиохии было от чего: изменившую ему жену он сам предал смерти, всё своё богатство роздал бедным и ушёл в пустыню.
Когда Евдокия и Гонория приблизились к нему, авва Данила, пристально всматриваясь в их глаза, вдруг взял за руку Гонорию и резко сказал:
— А вот тебе, милая, я сплёл бы невод... Непременно, сплёл! И не един...
Узрев на лицах царственных особ удивление; он попросил их сесть и рассказал притчу.
«Пришли к авве Ахиллу, который живёт в пещере со мной по соседству, на берегу небольшого озерца, в сорока милях отсюда, три монаха-старца, на одном из коих лежала дурная слава... И сказал Ахилле первый старец:
— Авва, сплети мне хоть единый невод.
Ахилла ответил:
— Не могу того сделать.
И другой старец попросил:
— Сотвори милость, чтобы иметь нам в обители нашей о тебе память.
Авва и тут сказал:
— Недосуг мне.
Говорит ему третий, на ком лежала дурная слава:
— Для меня-то сплети хоть единый невод, чтобы получить его из рук твоих, отче.
Ахилла же поспешил отозваться:
— Для тебя сделаю.
Те два старца и говорят ему, когда остались с ним наедине:
— Как же мы молили тебя — и не захотел ты для нас сделать, а этому говоришь: для тебя, дескать, сделаю?
Отвечает им авва:
— Вам я сказал: не могу, дескать, того сделать, — и вы не оскорбились, но так и поняли, что недосуг мне. Ему же если не сделать, он и подумает, что Ахилла наслышан о грехе моём, вот и не захотел сделать. Соплету ему неводочек сей же час.
Так ободрил он душу падшего брата, дабы тот не впал в уныние...
В таком же неводочке и я нуждался... Молитесь, дети мои, ибо молитва есть исцеление от печати. Кто молится в духе и в истине, тот уже в не тварях чествует Создателя, но песнословит Его в Нём Самом».
Глаза старца возгорелись, лицо его просветилось ещё больше. Глядя на него, Евдокия поду мата, вот этот отшельник и есть главный образ для её задуманной поэмы, образ раскаявшегося грешника, возвысившегося до высот небесных...
А на прощание авва Данила произнёс следующее:
— Как рыбы, промедлив на суше, умирают, так иноки, оставаясь вне обители своей или беседуя с мирскими, разрушают в себе внутреннее устроение тихости. Итак, надо мне, как рыбе в воду, спешить назад в пещеру, дабы, промедлив вдали от неё, не позабыли мы стеречь сердце своё...
Этими словами Данила выразил суть подвижнической жизни многих монахов, которая есть отшельничество, ставшее образцом и подразумевающее полный уход от мира, отказ от всяких чувственных удовольствий, борьбу с телесными вожделениями, постоянно одолевающими человека, укрепление своего духа.
Входило тогда в византийскую жизнь и так называемое юродство.
Евдокии и Гонории показали на улицах Антиохии первого такого юродивого — блаженного Сисоя.
После двадцатидевятилетнего пребывания в пустыне Сисой сознает, что его долг не только спасти самого себя, в чём и состоит цель отшельнической жизни, но попытаться также спасти и людей, погрязших в плотских наслаждениях. И вот он покидает пустыню и приходит в мир для того, чтобы смеяться над миром. И такую дерзость мог позволить себе человек, который достиг высот духовного совершенства и полного бесстрастия. Но жестокий мир не позволит смеяться над собой простому смертному, а только тому, кто находится как бы вне этого мира, кто недостоин его и сам служит объектом постоянных издевательств и насмешек, то есть безумцу и изгою. И поэтому Сисой является в этот мир, надев личину глупости и шутовства.
Жизнь Сисоя в городе — это сознательная игра, в которой он исполнял роль шута и безумца. То он представлялся хромым, то бежал вприпрыжку, то ползал на гузне своём, то подставлял спешащему подножку и валил с ног, то в новолуние глядел в небо, и падал, и дрыгал ногами, то что-то выкрикивал, ибо, по словам его, тем, кто Христа ради показывает себя юродивым, как нельзя более подходит такое поведение. Он сознательно нарушает все правила приличия: оправляется на виду у всех на форумах, ходит голым по улицам, врывается обнажённым в женскую купальню, водит хороводы с блудницами.
Напоминаем ещё раз, что всё это — игра, оставлявшая совершенно бесстрастной и спокойной его душу. Блаженный достиг такой чистоты и бесстрастия, что подобно чистому золоту, нисколько не оскверняется от этого. То он, надев монашеское одеяние, демонстрирует несоблюдение христианских обрядов: ест мясо и сладости во время поста, кидается хлебом в верующих в храме и совершает множество других поступков, которые люди считали безумными.
Но вместе с тем своим поведением пародируя, утрируя, окарикатуривая порочную жизнь окружавших его людей, Сисой изобличал эту жизнь, высмеивал её, заставлял людей задумываться над своим поведением. Более того, он был наделён даром творить чудеса, пророчествовать и предвидеть ход событий. С помощью этого он оказывал помощь многим людям, исцелял их и направлял на путь истины.
И таким образом, «любезное Богу юродство» византийское христианство уже начинало почитать превосходящим «всякую мудрость и разум»...
Среди юродивых можно было увидеть и женщин — первая по времени юродивая (в 365 году) Исидора была инокиня Тавенского монастыря.
Но жизнь обыкновенная, не святая, шла своим чередом. В Антиохии Сирийской Гонория узнала, что созданный вандалами Гензериха хорошо вооружённый флот, разбив пиратов, захватил Сардинию, на которой чума вроде бы закончилась.
Сообщение об этом всколыхнули уже как бы ставшие затихать печальные воспоминания молодой римской Августы о её возлюбленном Евгении и несчастной его судьбе.
Теперь на острове вовсю хозяйничали вандалы — они задерживали суда с хлебом, идущие в Рим, как раньше делали это пираты. И если с последними можно было как-то справиться, то флот Гензериха, ставшего всесильным королём после захвата Северной Африки, победить уже было нельзя...
«Да пусть подыхает без хлеба! — воскликнула про себя Гонория, имея в виду свою империю, изгнавшую её на чужбину, но тут же сама себе и возразила: — Умрут ведь простые люди, их дети, а такие, как евнух Ульпиан, моя мамаша или скверный капризный братец без хлеба и изысканной нищи не останутся... Мерзко всё это и несправедливо. Вот она, что в Риме, что в империи ромеев, жизнь, которую обличают отшельники, монахи и юродивые...»
— Но пора и в Иерусалим, — напомнил увлекающимся царским особам Приск, который до этого совсем не вмешивался ни в какие дела императрицы и молодой римской царевны. Он, оказывается, не только охранял золото и драгоценности Евдокии и ведал их распределением, учитывая каждую, даже серебряную монету, но и не забывал свои обязанности, исполняемые им при дворе, — быть секретарём василевса... Хотя и был предан его жене, и относился к ней с особой симпатией; за время пути подружился и с Гонорией: ему нравились в девушке спокойный ум, римская строгая красота и сдержанность. Но и подозревал, что за внешним хладнокровием прячутся бурные страсти. Да и не походила она на изнеженную принцессу...
«Она уже хлебнула горя», — заключил Приск, пока непосвящённый в её судьбу. Как и многие придворные в Константинополе, он думал, что римская молодая Августа просто приехала погостить к своим родственникам, а заодно и повидать мир.
Со своей стороны и Гонория всё больше и всё внимательней приглядывалась к молодому фракийцу и как-то призналась Джамне, которая стаза ей настоящей подругой, что сопровождающий их в дороге секретарь Феодосия нравится ей.
— Только ничего такого не думай... Я ведь просто... Нравится, как человек, — слегка смущаясь, добавила Гонория.
— А я и не думаю, — засмеялась Джамна, радуясь тому, что. может быть, мысли госпожи, пусть пока и поверхностные в направлении Приска. как-то помогут рассеять её тягостные думы о своём возлюбленном Евгении, о котором она до сих пор вздыхает и плачет...
Молодая Августа ото всех это скрывает, но только не от темнокожей рабыни-подруги.
«Боже, как я люблю свою госпожу, жизнь за неё отдам!» — не раз восклицала про себя милая, преданная Джамна.
А вспоминала ли она сама Радогаста, анта, убитого в темнице храма бога Митры секретарями Антония Ульпиана?.. Может быть, иногда... Прошёл ли этот раб так же мимо её души, как и те, кто обладал её когда-то не по любви, а потому, что она рабыня?.. Нет... В случае с Радогастом, и она осознавала это чётко, кажется, всё было не так.
И вот наступил день, когда обоз двинулся из Антиохии в Святой город. Поодаль за верховой охраной, повозкой и экипажем скакали трое всадников, бывших всегда начеку.
III
Аттиле уже несколько ночей снился могильник отца Мундзука, могильник, представлявший собой квадрат, одна из сторон которого равна почти пятидесяти локтей, выложенный внутри из глыб гранита. На глубине десяти локтей находится с настилом бревенчатый сруб, куда и был помещён гроб из кедрового дерева с телом когда-то великого воителя. Рядом с гробом отца, помнится, положили много китайских драгоценных тканей с изображениями драконов, также много лакированных чашечек для вина и керамической посуды для еды, уздечку с серебряными удилами, снятую с любимого коня повелителя, и трёхлопастные с дырочками железные наконечники для стрел[97].
Гунны хоронили своих вождей скромно, не так, скажем, как тавро-скифы; если последние хоронили своего повелителя в кургане, а не сжигали, то в яму валили ещё убитых рабов и служанок, лошадей. Они думали, что вождю рабы, рабыни и лошади будут служить и по ту сторону жизни, — гуннскому же правителю в ином мире всё это даст сам грозный Пур...
Аттила дважды вызывал своего верховного жреца и говорил ему о своём повторяющемся сне, — колдун день и ночь до изнеможения колотил в бубен, но из него толком так и не смог выбить объяснение сновидению повелителя. Тогда Аттила приказал привести «святого епископа» Анувия[98]. Тот сразу сказал, что Аттила наяву скоро увидит гроб с телом знатного вождя... «Кто же такой этот знатный вождь, которому суждено умереть?» — подумал темнолицый правитель и спустился в подвал своего мраморного дворца, где хранились его несметные сокровища.
Половина богатства, честно разделённого с братом, Аттиле досталась от отца и дяди, а потом он сам кропотливо, изо дня в день, накапливал их, памятуя о том, что ему надо кормить и содержать огромную по тем временам армию... В одном окованном железом сундуке хранились слитки серебра — гривны: дань от сарматов, скифов, актов, дунайских славян, в другом — лежали золотые монеты на сумму в 6000 либров — откуп Византии в 441 году, когда Аттила двинулся на Фракию и Иллирик, трижды нанеся поражение посланным против него войскам империи, и занял множество городов, в том числе Сирмий[99], а позже Филиппополь и Аркадиополь... При византийском дворе решили не рисковать и откупиться, тем более увидели, как отменно «резвились» в окрестностях Константинополя всего лишь передовые конные отряды, грабя церкви и монастыри, топя в крови живое и неживое, оставляя после себя пожары с чёрными клубами дыма, ибо поджигали всё, что могло гореть, нефтью...
Вот тогда-то византийцы не понаслышке, а наяву познали, что такое жестокость гуннов... Так как последние, убивая даже беременных женщин, вспарывали им животы, выковыривали копьём материнский плод и поднимали его на острие во устрашение сопротивляющихся на крепостных монастырских стенах...
Кроме откупных, в третьем сундуке лежали золотые ежегодной дани также от Византии на сумму в 700 ливров. Германцы свою дань предпочитали платить тоже золотом, а от Аттилы уже зависят многие их племена — руги, скиры, герулы, лангобарды, квады, маркоманы, швабы. У степного правителя с королями этих племён разговор короток — нечем платить дань, давай хорошо вооружённых воинов в его войско.
А в других сундуках находятся разные драгоценности, золотые и серебряные украшения, чаши и кубки, добытые в бою воинами, и всякая мелочь, имеющая ценность, ибо по установленному издревле закону десятую часть добытого в бою гунн оставлял себе; остальное же шло в казну, из которой выплачивалось жалованье.
Казначеем и секретарём у Аттилы являлся Орест, германец по происхождению. Только у него одного был такой же ключ от подвала, как у Аттилы. Он ведал этим богатством и вёл расходные и приходные книги. С детства воспитав Ореста как сына, правитель доверял ему, но потом, как оказалось, напрасно...[100]
Германец из своей юрты увидел, как в сопровождении телохранителей Аттила достиг мраморного дома, в котором он летом не жил, и спустился в подвал с внешней стороны, оставив тургаудов у входа, и сам поспешил туда. Миновал стражников, даже не взглянувших на Ореста. Но это была одна лишь видимость: они замечали всех и вся и, как только возникала непредвиденная ситуация, реагировали на неё мгновенно, пуская, если надо, в ход не только кинжалы, но и луки. Били, как правило, без промаха.
Вход в подвал с внешней и внутренней стороны охраняли, по приказу Аттилы, только гунны.
От золотого ошейника германец отцепил ключ, открыл им наружную дверь, которую запер за собой правитель, закрыл её снова и миновал деревянные ступеньки лестницы, идущей вниз. Невольно остановился перед полуоткрытой второй дверью, более лёгкой, чем первая — дубовая, окованная железом.
В подвале в настенных поддонах горели факелы. Орест в щель увидел повелителя, извлекающего на свет золотые монеты и рассматривающего их с необычайным блеском в глазах; короткий ус у него слегка подёргивался, и казалось, что тёмная кожа лица слегка побелела... В таком возбуждённо-жадном состоянии Орест своего, можно сказать, отца-покровителя зрил впервые, хотя и ранее наблюдал за ним в такую же щель полуоткрытой двери, когда Аттила думал, что находится в подвале один и его никто не видит. Тогда в окружении золота и драгоценностей повелитель пребывал спокойным, совершенно бесстрастным, а тут — такая перемена... «И чем она вызвана?.. Не согласно ли поговорке, что душа не принимает, а глаза всё больше просят?.. А может быть, и душа принимает тоже... Ишь как любуется драгоценными китайскими вазами. А вон с тем же жадным блеском в глазах рассматривает золотые скифские кубки и чаши. Золото скифов... Кажется, у Геродота есть такое выражение. Недаром обязательной принадлежностью одежды скифских царей был золотой пояс с золотым колокольчиком... — Германец усмехнулся: — То было давно, сейчас мы этот народ обобрали до нитки...»
Не надо думать, что гунны были сплошь кровожадные, безграмотные, похожие на животных... Аттила. изымая из книгохранилищ книги, хранил их в другом подвале дома, и там лежали наряду с книгами греческих и римских писателей пособия по медицине, математике и астрономии. А в окружении повелителя находились и люди, которые могли научить читать и разбираться в этих книгах. Тоже не думайте, что в войске у Аттилы были одни лишь гадатели, жрецы и «святой епископ»... Старшего сына Аттилы Эллака учил читать и писать по-гречески и латыни один философ из Александрии, он же научил этим премудростям и Ореста... Занимался философ и с сыном знаменитого римлянина Аэция Карпилионом, когда тот здесь приобретал навыки ведения гуннского боя. Кроме литературы, Карпилион хорошо знал астрономию. А знание звёзд на небе необходимо для выбора сторон света и для того, чтобы правильно определить направление в походе. Были в войске Аттилы и астрологи.
Орест кашлянул перед тем, как зайти к Аттиле; тот ссыпал с ладоней золотые монеты в сундук, которые тускло и приятно-тяжело блеснули при свете чуть потрескивающих факелов, обернулся:
— Орест! Проходи. Как наши дела с приходом и расходом?
— Повелитель, ты меня учил, что первое всегда должно превышать второе, ибо это есть непреложный закон, установленный ещё твоими предками...
— Да, закон хорош, предки были не талагаи, коль придумали его. Золото даёт возможность тому, кто владеет им, управлять людьми и даже целыми народами... Только не все потомки следуют этому закону владения.
— Кого ты имеешь в виду, повелитель?
— Своего брата Бледу... Вчера ко мне из его становища прискакал гонец по поручению старейшин; гуннский народ там унижен и страдает от голода, ибо казна Бледы пуста... Сам он и его жена погрязли в пьянстве и ничегонеделании. Старейшины просят меня взять их народ, пока не поздно, под свою защиту. Думаю, что возьму... И вот пришёл навестить сокровища: ведь золото — не только средство купли и продажи, оно даёт силу и вселяет уверенность. Оно избавляет людей от голода...
«Так вот почему с такой возбуждённостью он рассматривал его», — догадался Орест.
— Я хотел послать за тобой, и хорошо, что ты явился сам... Мы должны отрядить два тюменя в ставку Бледы, и ты наполнишь походную казну для поддержания наших братьев... Но это не сейчас и даже не завтра. А завтра рано утром мы собираемся с холзанами[101] и тазами[102] охотиться на волков. Позавчера ночью они задрали в стаде двух верблюдиц и несколько овец. Сторожевые собаки вспугнули их, и поэтому волки унесли только одну овцу. А вчера их видели на краю дубовой рощи, а потом возле каменных пещер. Я беру на охоту Эллака и тебя, Орест.
— Благодарю, повелитель... Но у меня нет холзана.
— У Эллака тоже нет. Вы с ним будете скрываться в роще с борзыми.
— Понял, повелитель, и буду готов.
Эллаку шёл семнадцатый год. Это был уже не тот мальчик, которого отец на своей свадьбе с Крекой держал за щёку и больно её подёргивал: как и отец, он имел широкие плечи и унаследовал ею силу. Светловолосый, с серыми, как у кречета, глазами, но не тёмными, как у Аттилы, Эллак и кожей лица походил на мать-германку. С прямыми ногами и стройной фигурой, он всегда выглядел подтянутым, лёгким на подъём и был со всеми приветлив. Особенно любил бывать у своего почти названого брата Ореста. Орест тоже любил Эллака; у них и пристрастия имелись одни — любили бешеные скачки на лошадях и стрелять тяжёлых белых гусей из дальнобойных луков в протоках и озёрах Дунайской равнины. Орест и Эллак также занимались астрономией, но под руководством пленного сарацина, который владел этой наукой в совершенстве.
Звёзды помогали им находить родное становище всегда, на какое бы расстояние они с сотней, а то и с тысячей воинов ни удалялись от него, чтобы попромышлять гусей или набить руку в сечах с амелунгами, отличающимися свирепостью среди германских племён... Хотя Эллак и Орест помнили, что их полукорни и корни оттуда, но они ощущали себя только гуннами.
С утра возле озёр и на берегах многочисленных притоков Дуная: Рабы, Дые, Тизии высокие травы покрываются так густо росою, что девушки местных славянских племён раздеваются догола и купаются в ней. И конечно, девушки проделывают в траве широкие густо-зелёные неровные полосы, но когда проходят волки, то они оставляют после себя прямые чёткие узкие лазы. По ним охотники и определяют, в какую сторону подались звери.
Вначале Аттила Ореста и Эллака без собак поел аз поездить по пустошам, где пребывали или добытчики железной руды, или пастухи, и поспрашивать их, откуда им слышался вчера волчий вой.
Вскоре Орест и Эллак наехали на одного такого пастуха, пасшего с сынишкой баранов. Оба — пастух и пастушок — косматые, как галлы, одетые в шкуры непонятных зверей, наперебой стали рассказывать, как на краю вон того леска, парнишка показал рукой в сторону Тизии, когда спускаются сумерки, и начинается вой.
Матёрый заводит заунывную песню медленно, высоким голосом, а затем переходит на более грубый.
— О-о-о, — несётся с краю леса.
— У-у-у, — гнусаво и переливчато вторит волку волчица. Её набирающий высоту голос наиболее дик и наводит тоску.
В хор тогда вступают переярки[103], которые воют с перебрёхами, наподобие собак, а прибылые[104] визжат и взлаивают.
— Езжайте туда, — теперь уже старший пастух взмахивает рукой на край леска, — там ещё лощина есть. А за ней — равнина. Если вы охотитесь с беркутом, самое дело...
Когда Эллак и Орест вернулись к группе охотников, то присоединился и скиф Эдикон. В одной руке у него длинное копьё, такое же, как у Аттилы, за спиной лук, у бедра колчан. Он не имел привычки охотиться с холзаном, и вообще, в гуннском лагере не боялся проявлять свои скифские привычки, за что, кажется, повелитель любил этого отважного до безумия, но очень умного хитрого командира тюменя своих соплеменников ещё больше...
На породистых нетерпеливых конях ждали начала охоты с вытянутыми левыми руками в рукавицах, на которых сидели мощные пернатые хищники с колпачками на головах, гунн Ислой, тоже командир десяти тысяч конников; Адамий, управляющий делами в доме Креки, последней супруги Аттилы; в одежде охотника, вооружённый лишь луком, горбун Зеркон Маврусий. Должен был приехать сармат, тоже любимец Аттилы, Огинисий, под началом которого находились два тюменя, но он к началу охоты не успел, а прибыл со своего дальнего становища только к обеду.
Кажется, Аттила задумал охоту на волков не для того, чтобы их уничтожить, а скорее всего собрать на совещание нужных и преданных ему людей. Так потом и оказалось.
На коротких поводках с трудом удерживаемые тургаудами, поскуливали от голода и всё рвались куда-то вбок поджарые тазы — остромордые борзые собаки. Можно было подумать, что они боялись переступавших с ноги на ногу на руках охотников пернатых хищников, но это было не так, ибо не только собак приучают к беркуту, но и самого холзана к собакам, содержа его в одном помещении с тазами.
Эллак поведал отцу о разговоре с пастухами, и повелитель принял такое решение — сам он с охотниками, у кого на руках дремали беркуты, выедет на равнину за лощиной, со стороны же леска начнут заходить тургауды с борзыми и погонят волков в лощину. А может быть, как раз в ней они и скрываются.
Оресту и Эллаку повезло — они сразу увидели в лощине в густой траве свежие беспорядочные лазы. Значит, волки, почуяв запах борзых, заметались; а сами тазы сильнее задёргали короткие ремни... И тогда Орест, как старший, взмахнул рукой и крикнул:
— Отпускай!
Борзятники отстегнули ремни, и собаки рванулись вперёд. И вскоре они выгнали волков на равнину.
У Ислоя сидел на руке ещё сравнительно молодой, не совсем подготовленный к охоте беркут — это был его первый выезд, и гунн беспокоился, как он поведёт себя... Холзан, как и многие другие хищные птицы, довольно быстро привыкает к человеку, а в результате настойчивых дрессировок становится отличной ловчей птицей.
Для охоты на волков годятся только самки беркутов, которые значительно крупнее и сильнее самцов. Дрессировку, как правило, проводят на волчьем чучеле. В шее чучела около головы делают разрез, через который рукой в глазные впадины вставляют куски мяса. После длительной голодовки беркут начинает клевать мясо из глазных впадин. Такая кормёжка проводится каждый день, причём расстояние между птицей и чучелом постоянно увеличивают.
Окончательно подготовленным беркут считается тогда, когда он с налёта клюёт мясо из глазных впадин чучела, которое быстро тащат за верховой лошадью.
Ислой увидел, как почти одновременно, вспугнутые борзыми, выскочили из лощины сразу несколько волков. Гунн взмолился богу Пуру: «Пожертвую тебе того хищника, которою скогтит мой холзан... Только бы не оплошал, а взял «своего»...»
Ислой сдёргивает колпачок с головы и, указав рукой в сторону зверя, резким окликом посылает птицу в угон. Послали в угон своих опытных ловчих Аттила, Зеркон Маврусий и другие охотники. Их беркуты сразу выбрали себе «своего» волка и, молча, неумолимо, как сама судьба, стали настигать жертву... Вот мощная птица парит над нею... Холзан выпускает когти, какой-то миг — и он вцепляется ими в круп зверя, парализуя его движение, и тут же выклёвывает ему глаза... Зверь падает, орёл бьёт его мощными крыльями и прижимает к земле.
Беркут Ислоя, выбрав матерого, кажется, не рассчитал в себе силы. Настигнув зверя, он хотел было вцепиться в него когтями, но опытный волк увернулся от них и успел даже куснуть птицу за крыло, правда, не причинив никакого вреда; лишь вырвал перо и стремглав помчался снова к тому месту, где стояли, отпустив борзых, Орест и Эллак. Зверь наскочил на них неожиданно, но, не раздумывая, в страшном оскале, с дикими горящими глазами, прыгнул на Ореста; тут-то и сработала реакция хорошо подготовленного воина, не важно, что он исполнял обязанности писца и казначея, но как боец тренировался постоянно... Перед лицом Ореста — и он это запомнил на всю жизнь! — возникли яростные, не знающие пощады звериные глаза и жуткие волчью клыки, но Орест успел, когда волк оказался на взлёте, погрузить в его мягкое брюхо меч, с которым воин не расстаётся никогда. Клыки зверя лишь царапнули подбородок охотника, и матёрый, упав на землю, вскоре затих, обливаясь кровью.
Охота прошла удачно: не пострадали ни один холзан, ни одна восточная борзая. Убитых волков оказалось пять, вместе с матерым, которого завалил германец Орест. Довольны остались все; Аттила подъехал к Эллаку, взял его ладонью за щёку, как на свадьбе, и ласково подёргал, как бы хваля сына за то, что он вёл себя на охоте хорошо и правильно...
Волчьи туши свалили в специальную повозку, которая сопровождала охотников от самых юрт становища; иначе пришлось бы тела зверей перекидывать через сёдла и тем самым пугать лошадей. Ибо лошадь боится даже мёртвого волка, чуя его запах.
Повозка направилась в сторону каменных пещер, справа от неё ехали Аттила и Орест, слева — все остальные; тургауды рысили позади, так велел повелитель.
Когда из каменного огромного разлома с диким рёвом выскочил пещерный бык, может быть, раздражённый и разъярённый запахом волчьей крови, стекающей с туш, и ринулся в бешенстве, нагнув огромную башку с острыми рогами, на лошадь повелителя, то только один из телохранителей сумел хоть что-то мгновенно предпринять, а именно: он плёткой огрел по крупу своего коня и тот прыгнул вперёд, чуть не наскочив на жеребца Ореста.
Жеребец прянул вбок, и поэтому германец лишь краем глаза заметил, как исказилось яростью лицо Аттилы, на котором явственно обозначился оскал, какой Орест недавно видел у матерого волка: теперь германец сколько угодно мог утверждать, что у Аттилы вместо зубов проступили самые настоящие клыки... Пущенное повелителем с огромной силой копьё ударило в могучую шею быка в тот самый момент, когда голова его поравнялась со стволом вековечного дуба: копьё пробило шею и глубоко вошло в толстое дерево... Бык захрапел и как-то неудобно, запутываясь тремя ногами, стал оседать задом на землю, а четвёртой, передней, так сильно ударил острым копытом по толстому скрученному корню, что пересёк его.
Аттила, даже не взглянув на пещерного быка, бросил оказавшимся рядом тургауду и Оресту:
— Я поскакал, а вы привезите моё копьё.
К Оресту и тургауду подъехал Эллак. Они слезли с коней. Подошли к стволу дуба, к которому приколот был дикий бык, вернее, его голова, с морды которой всё ещё стекала кровавая пена.
Орест потянул за копьё, но оно не поддалось. На помощь пришёл сильный, судя по телосложению, телохранитель; вдвоём они снова потянули за древко, но оно лишь хрустнуло. Боясь сломать его, а они понимали, что это не просто копьё, а копьё повелителя Аттилы, решили вначале отделить шею быка от туловища. Всем троим пришлось попотеть прежде, чем они это сделали... Мечи вложили в ножны.
Если туловище как-то давило на воткнутое копьё, то освобождённое от основной тяжести, оно должно теперь выдернуться... Да не тут-то было! Начади обрезать вокруг древка мясо, измазались кровью, словно чёрные ночные мангусы, которые прилетают в табун пить из жил лошадей питательную для них жидкость...
Стали раскачивать опять копьё: снова оно в месте его соприкосновения с дубом хрустнуло. Тронь ещё — и сломается.
— Ладно, я обо всём скажу отцу сам, — заявил Эллак.
Так и осталось в дубе том вековечном копьё Аттилы.
За тушей дикого пещерного быка вернулась повозка, а затем его принесли в жертву богу Пуру.
После хорошей охоты, будто бы для того, чтобы её отметить, собрались, даже не переодеваясь, в юрте Аттилы. Повелитель велел подать мёд и особый напиток — кам, но не хмельной.
— Может быть, что покрепче? — спросил повелитель на правах радушного хозяина: — Вино, кумыс?
Собравшиеся хмельное отвергли: знали, что дело будет решаться очень важное, ибо о посещении гонца из становища Бледы уже были наслышаны...
По правую руку от Аттилы сидел сармат Огинисий, бородатый, с соломенными на голове волосами, с серыми, как у холзана, глазами и спокойно лежащими на коленях руками; по левую — Ислой, коренастый, как все гунны, с мощной шеей и затылком, без бороды, но с усами, концы которых были низко опущены. Рядом с ним находился скиф Эдикон, улыбчивый и такой же нетерпеливый, как Ислой, но Аттила их любил, ибо в бою они преображались: становились такими же спокойными и рассудительными, как Огинисий. А храбрость, сообразительность и мужество лежали в основе всего их существа.
Потом подошли Орест и Эллак. Эллак вызвал дружный смех сообщением о том, что они втроём так и не смогли выдернуть из дуба копьё повелителя...
— Жаль... Доброе было копьё, — улыбаясь, сказал Аттила. — Ну да ладно, пусть оно так и торчит из дерева.
Затем он поведал об озабоченности старейшин брата, собственно, о том, что он говорил вчера своему казначею и секретарю.
— Надо навестить становище Бледы... И на месте принять решение, — предложил Ислой.
— Решение мы должны принять здесь! — отрубил Огинисий.
Предложение сармата Аттиле понравилось.
— Можно я скажу, — поднял руку ладонью кверху скиф Эдикон. — Идти к Бледе только с охраной, думаю, нельзя. Мы должны понимать, если у старейшин заговор сорвётся, он встретит нас мечами и стрелами... Поэтому нужно идти в его становище во всеоружии. Посылай мой Тюмень, повелитель. Я готов...
— Ия готов! — вскочил на ноги гунн Ислой.
— Ну что ж... Эдикон и Ислой, вы и поведёте два тюменя... Останьтесь. Я поделюсь с вами кое-какими соображениями и укажу на то, что делать... А остальные — свободны. Благодарю за охоту!
Потом, оставшись один, Аттила подумал: «Вот о каком знатном гунне в гробу говорил мне святой епископ Анувий...»
Через день походные колонны вступили на мост через Тизию, уже вновь восстановленный по приказу Аттилы. Эдикон, зная об истории с подпилом свай, подумал: «Все приближённые вначале удивились той жестокости, с которой повелитель поступил с самыми верными ему людьми — Таншихаем и Хелькалом... Теперь я понимаю, почему он так поступил... Убейся до смерти Бледа, не было бы потеряно столько времени, за которое Аттила как единоличный правитель смог бы ещё больше того сделать. Хотя за это время он и так много преуспел... К тому же не было бы и этого похода, который не знамо как ещё закончится... И значительно не расходовались бы на него...»
Как всегда, провожал воинов Ушулу. Но на этот раз он не смеялся, а был очень серьёзным; бежал вослед им и пел две лишь строчки из не до конца сочинённой им песни, в которых выражалась просьба:
Привезите ко мне белокурую женскую голову,
Я её при луне буду нежно ласкать...
— Это о чём он? — спросил молодой конник старого десятника.
— Да талагай... Чего с него возьмёшь?! Поёт, дурачится... Тьфу, какая-то женская голова... Белокурая... Придумает же!
А ведь голову Валадамарки, отрубленную Ислоем, чтобы показать её Аттиле, повезёт обратно как раз сам десятник... И молодой воин напомнит старому: «Вот о какой белокурой голове шла речь в песне придурка... Только на самом деле придурок ли он, Ушулу?.. Другие, может быть, и подураче его будут...»
Молодой воин присутствовал на свадьбе Аттилы, которая проходила на дальнем становище, и любовался сидящей за столом красавицей-германкой.
— Ты бы видел её в последнее время... — ответил на это десятник. — Она много пила вместе с Бледой, растолстела, лицо её стало как квашня... Поэтому Аттила приказал обезглавить и Валадамарку.
Возвращаясь, везли голову и самого Бледы: её отрубили сами заговорщики-старейшины ещё до прихода войск Аттилы и поставили возле юрты своего бывшего правителя два шеста с натянутой на них овчиной, выкрашенной в красную краску.
Целой и Эдикон, завидев этот знак, очень обрадовались, значит, отпадала необходимость в каком бы то ни было сражении, значит, всё обошлось мирно... Ненавидели Бледу многие.
Таким образом Аттила в 445 году стал полновластным правителем всех гуннов. Тогда-то он и начал отращивать бородку...
А через несколько недель произошло знаменательное событие, повлиявшее на самомнение и не без того уже высокомерного единоличного правителя не только степи, но и всего левобережного Истра, а также земель, которые почти доходили до крепостных стен Константинополя.
Историк Иордан, воздавая дань его организаторскому и военному таланту, пишет, что Аттила «был мужем, рождённым на свет для потрясения народов, ужасом всех стран, который, неведомо по какому жребию, наводил на всё трепет, широко известный повсюду страшным о нём представлением... Любитель войны, сам он был умерен на руку, очень силён здравомыслием, доступен просящим и милостив к тем, кому однажды доверился. Хотя по самой природе своей всегда отличался самонадеянностью, но она возросла в нём ещё...»
А возросла вот отчего.
Тот самый пастух, который указал Оресту и Эллаку на логово волков во время охоты, заметил, что одна телка из его стада хромает. Он долго не мог найти причину ранения, пока не догадался проследить с помощью собаки кровавые следы, сделанные молодой коровёнкой.
Дело было под вечер. Собака быстро взяла след, и пастух, сдерживая её на кожаном поводке, поспешил за ней. Скоро они спустились в ту лощину, откуда восточные борзые выгнали волков, поднялись наверх: слева тёмной стеной стоял лес, справа — окрашенное в багровый цвет вечерней зарей озеро. Взглянув на него, пастуху вдруг почудилось, что это озеро было наполнено не водой, а кровью...
Только он так подумал — и тут же услышал из лесу донёсшийся страшный рык, который не могло исторгнуть из глотки ни одно лесное животное, — лишь туча ворон с громким криком взметнулась к небу. Но пастух был не робкого десятка: он тоже упорно, как и собака, шёл по следу. И вот на краю леса увидел из земли торчащий кончик лезвия...
Начат копать. Думал, что, может быть, это лезвие византийского акинака или франкского меча, но оно оказалось почти в рост человека, шириной в две ладони и заканчиваюсь золотой крестообразной рукоятью.
Пастух взвалил этот поистине богатырский меч на плечо и пошагал обратно; когда он поравнялся с краем лощины и мельком взглянул на озеро, то показалось ему, что его содержимое, похожее на кровь, пришло в движение...
Несмотря на поздний час, пастух отнёс меч к юрте повелителя, получив лично из его рук щедрое вознаграждение, так как Аттила сразу узнал этот меч. Меч являлся священным у скифов, они называю его Марсовым. Но прошёл слух, что в одном из сражений скифы его потеряли. И это оказалось правдой.
Находка потрясла Аттилу, ибо в этом он увидел проявление небесной воли, направленной к тому, чтобы быть ему владыкой всего мира, и что через Марсов меч гуннам, а не скифам даровано могущество в войнах...
Аттила велел поставить рядом с каменным идолом бога Пура Марсов меч золотой рукояткой вверх, и два раза в день (утром и вечером) всё в становище должно было мечу поклоняться.
IV
По приезде в Иерусалим с Джамной, темнокожей рабыней Гонории, стали твориться странные вещи: в голове у неё время от времени происходило как бы просветление памяти, и она могла уноситься мыслями в далёкое прошлое — и то прошлое явственно вставало перед глазами, как будто она жила в нём и до мельчайших деталей запомнила всё, что тогда делалось...
Да, она сама была участницей тех далёких событий; ходила по тем улицам Иерусалима; разговаривала с теми его жителями, которые совсем были непохожи на нынешних... Стоило только Джамне на ночном ложе закрыть глаза, как сразу же она погружалась в реальный сон. Девушка понимала, что, может быть, эти сны ей навевает душа матери с её воспоминаниями: ведь мама родилась к северу от Иерусалима, в Назарете — городе, где жили родители Сына Божьего Иисуса Христа и где маленьким бегал он сам. И однажды Джамне на ум вдруг пришли стихи, будто сочинила она их сама, сочинила легко и непринуждённо, как это делает византийская царица Евдокия. Но чьи это стихи?.. И откуда они — из прошлого или будущего?..
«Назарет... Тут жил Христос. Один по горным склонам бродил Он в предвечерний час, когда сияют травы от росы, и свет зари плывёт над Ездрилоном[105].
Здесь ветерок ласкал Его власы. Ему кадили лилии с поклоном. Но мерк закат. Созвездья над Геоном качались, как небесные весы.
Тогда Христос по узенькой тропинке спускался в тёмный, бедный Назарет. Его лица касались паутинки, и в том лице такой струился свет, как будто мудрость жизни без усилий дитя Христос принял от белых лилий».
«Я уже знаю кое-что об Ездрилоне, — размышляла потом Джамна. — Наверное, и моя мама, будучи маленькой, рвала цветы и собирала плоды на этой равнине. А Геон?..»
И будто кто-то невидимый, но сидящий рядом, сообщил, что Геон — это вторая река рая, вытекающая из Эдема. Рай?.. Эдем?.. «Это одно и то же», — сказал голос, и он поведал Джамне о рае.
Боговидец Моисей говорит, что когда Господь творил мир, то он насадил на Востоке «рай сладости», куда и поместил первых двух человеков... Праотцы преступили заповедь Божию... Тогда Бог изгнал человека «из рая, и изринул» на землю, «и вселил» их на ней «прямо рая сладости». Слова: «прямо рая сладости» приводят к мысли, что земная природа подобна раю красотами своими и напоминает его собою падшему человеку... Боговидец Моисей изображает рай изящнейшим и обширнейшим садом. Но вещество его и природа тонки, соответствуют естеству его жителей — духов, и потому недоступны для наших чувств, огрубевших и притупевших от падения...
Древа этих садов постоянно покрыты цветами и плодами.
Апостол Павел был восхищен в рай, и потом до третьего неба — «в теле ли — не знаю, вне ли тела — не знаю», — говорит он, — и слышал там неизречённые глаголы, «которых нельзя человеку пересказать». Природа рая, благолепие небес, изобилие там благодатного блаженства так превышают всё изящное и приятное земное, что святой Апостол для изображения виденного им в священном исступлении употребил следующие выражения: «Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог открыл это Духом Своим».
В этих словах Апостола заключается печальная истина: падение человека так глубоко, что он не может получить понятие о потерянном рае. Но слова эти возвещают и радостную истину: обновление Духом Святым тех людей, которые верою и покаянием вступили в духовное племя Господа нашего Иисуса Христа.
«Я, верившая в бога Митру, а затем ставшая арианкой, разве попаду туда?» — вопрошает Джамна. И голос ей прочитал молитву «Плач грешника».
«Повторяй за мной, дитя, — сказал он. — Повторяй и запоминай»:
«Оплачьте наготу мою, возлюбленные братья и сёстры мои. Прогневил я Христа порочной жизнью своей. Сотворил Он меня и дал мне свободу, я же злом воздал Ему. Господь сотворил меня совершенным и соделал орудием славы Своей, чтобы я служил Ему и святил Имя Его. Я же, несчастный, сделал члены свои орудиями греха и творил ими неправду. Увы мне, потому что будет Он судить меня! Неотступно умоляю Тебя, Спаситель мой, осени меня крылами Своими и не обнаруживай скверен моих на великом Суде Своём, чтобы прославлял я благость Твою. Злые дела, какие содеял я перед Господом, отлучают меня от святых. Теперь постигает меня горе, чего и достоин, ибо служил я страстям своим, потому и не принадлежу к сонму победителей, а стал наследником гиенны огненной. Тебя, пронзённый гвоздями на Кресте Победитель, неотступно молю. Спаситель мой, отврати очи Твои от нечестия моего, страданиями же Твоими уврачуй язвы мои, чтобы прославлял я благость Твою».
Однажды Джамна видела, как рыдали у Стены Плача несколько иудеев, и подумала, что это плакали грешники... Но Евдокия уверила её: нет, они плачут по разрушенному Соломонову храму.
И приснился Джамне этот храм с такой отчётливостью, что она могла воспроизвести его по памяти со всеми мельчайшими деталями. Кто навеял на неё этот сон, ведь она никогда не видела этого храма?.. Да и мама тоже не видела его и не могла поэтому навеять это видение... Кроме того, что лицезрел во сне грандиозное Соломоново сооружение, Джамна ещё слышала тот же таинственный голос, поясняющий о том, как этот храм строился...
К самой постройке храма Соломон приступил на четвёртый год своего правления, а именно во втором месяце, носящем у македонян название Артемизия, а у евреев Ияра или Зифа (цветение), пятьсот девяносто два года спустя после выхода израильтян из Египта и тысячу четыреста сорок лет после потопа... Тот год, когда началось грандиозное строительство в Иерусалиме, являлся одиннадцатым годом правления Хирама в Тире[106].
Но перед этим Соломон царю тирскому Хираму отправил письмо следующего содержания: «Тебе известно, что отец мой (Давид) имел намерение воздвигнуть Господу Богу храм, но ему воспрепятствовали привести это намерение в исполнение ведение войн и постоянные походы. Что же касается меня, то я возношу благодарность Предвечному за ныне наступивший у меня мир, благодаря наличности которого мне представляется возможность исполнить свою мечту и воздвигнуть храм Господу Богу. Ввиду всего прошу тебя послать нескольких твоих мастеров на подмогу моим мастерам на гору Ливан, чтобы там совместно с ними валить деревья. Что же касается вознаграждения этим дровосекам, то я им выдам такое, какое тебе благоугодно будет назначить».
Получив и прочитав письмо, Хирам ответил Соломону: «Следует вознести благодарственную молитву к Всевышнему, что Он даровал тебе, человеку мудрому и во всех отношениях достойному, родительский престол. Радуясь этому, я с готовностью исполню все твои поручения. А именно, я прикажу срубить множество крупных кедров и кипарисов, велю людям моим доставить их к морю и распоряжусь, чтобы те немедленно затем составили из них илоты и пригнали их к любому пункту твоей страны, куда ты пожелаешь. Затем уже твои люди смогут доставить строительный материал в Иерусалим. Вместе с тем предлагаю тебе взамен этого позаботиться о доставлении нам хлеба, в котором мы нуждаемся, потому что живём на острове».
Царь Соломон набрал со всего своего народа тридцать тысяч работников, а руководителем их назначил Адонирама, присланного также царём тирским. Из представителей податных сословий, которых оставил после себя царь Давид, семьдесят тысяч были назначены носильщиками камней и прочих строительных материалов, а восемьдесят тысяч стали работать в каменоломнях. Над всеми же надзирало три тысячи триста человек.
Соломон поручил рабочим наломать для фундамента храма огромных камней и, предварительно обтесав и примерно пригнав их друг к другу ещё на месте, в горах, велел доставить уже в таком виде в город.
Само здание до самой крыши затем вывели из белого камня. Высота этого двухэтажного сооружения доходила до шестидесяти локтей. Фасадом оно было обращено к востоку. Построили и преддверие к храму. Оно имело двадцать локтей в длину сообразно ширине главной постройки и десять локтей в высоту. Кроме того, царь велел возвести с трёх сторон храма ещё три здания. Они имели по три этажа, в каждом из них помещалось по тридцать комнат, предназначенных для ризниц, сокровищниц и кладовых.
И всё это накрыла сделанная из кедрового дерева крыша, которая покоилась на огромных, проходивших по всей постройке балках, причём средние части этих балок, сдерживаемые деревянными стропилами, крепко упирались друг в друга и образовывали прочное основание.
Стены храма обшили вызолоченными кедровыми досками, так что внутри его всё сверкало и ослепляло взоры обилием всюду разлитого золота.
Ещё внутри здания сделали лестницу, ведущую на верхний этаж. Затем помещение храма разделили на две части; царь определил заднюю часть, длиной в двадцать локтей, для Святая Святых и переднюю, длиной в сорок локтей, для Святилища. В стене, отделявшей обе эти части, по просьбе Соломона вырезали отверстие и поместили двери из кедрового дерева, которые были богато расписаны золотом и покрыты резьбой.
В Святая Святых поставили две фигуры херувимов из чеканного золота, вышиною в пять локтей. Каждая фигура имела по два распростёртых крыла длиною тоже по пяти локтей. Пол храма выложили золочёными плитами. Вообще, ни внутри сооружения, ни вне его не было ни одной вещи, которую бы не вызолотили...
По задумке Соломона соорудили у дверей храма две бронзовые колонны. На верхушку каждой поставили по литой лилии в пять локтей, а каждую такую лилию окружили тонкой бронзовой, сплетённой как бы из веток, сетью, и к каждой подвесили по двести гранатовых яблок, расположенных двумя рядами. Одну из таких колонн, поставленную с правой стороны главного входа, царь назвал Иахин, а другая колонна с левой стороны получила имя Воаз. Эти колонны, водружённые одна против другой, означали силу и слабость, разум и веру, власть и свободу. Каина и Авеля, право и обязанность. Они символизировали свет и тень, силу и сопротивление, но различие между этими противоположностями, по мнению Соломона, совершенно сходит на нет. а сходство их достигается путём единства и гармонии, точно так же, как при отсутствии ночи был бы невидим дневной свет и наоборот...
Затем на глазах многотысячного народа было произведено литье «медного моря» в форме полушария для омовения ног священников и поставлено на спины двенадцати медных волов, обращённых по трое во все четыре стороны света и примыкавших друг к другу задними конечностями.
Затем соорудили медный алтарь для жертв всесожжения длиной и шириной в двадцать локтей и высотой в десять. Вместе с тем вылили из меди также все приборы к нему — лопаты, ведра, кочерги, вилы и всю прочую утварь, которая красивым блеском своим напоминала червонное золото. Далее царь распорядился поставить множество столов, в том числе один большой — золотой, на который клали священные хлебы. На столы поставили необходимые сосуды, чаши и кувшины, — двадцать тысяч золотых и сорок тысяч серебряных.
Ко всему этому царь велел сделать ещё восемьдесят тысяч золотых кувшинов для вина и сто тысяч золотых чаш и двойное количество таких же сосудов из серебра; равным образом восемьдесят тысяч золотых подносов для принесения муки и оливкового масла и двойное количество таких же серебряных подносов также было отлито; г: этому было присоединено ещё двадцать тысяч золотых и вдвое более серебряных мер, подобных мерам Моисеевым, которые носят названия «гина» и «ассарона», было сделано и двадцать тысяч золотых сосудов для принесения (и сохранения) в них благовонных курений и пятьдесят тысяч золотых кадильниц, с помощью которых потом переносили огонь с большого жертвенника (на дворе) на малый алтарь в самом Святилище. Были сшиты тысяча священнических облачений из виссона для иереев с золотыми наплечниками, нагрудниками, украшенными драгоценными камнями и служившими для гаданий. Изготовили к священническим облачениям и десять тысяч поясов из пурпура.
Царь велел также заготовить двести тысяч труб и столько же одеяний из виссона для певчих из левитов[107]. Наконец, он приказал соорудить из электрона[108] сорок тысяч музыкальных инструментов, а также таких, которые служат для аккомпанемента при пении, так называемых набл.
Была сооружена и храмовая сокровищница для помещения богатых пожертвований. Храм окружили зубчатой с выступами стеной, которая достигала трёх локтей высоты и преграждала народной толпе доступ, оставляя вход свободным для священнослужителей. Снаружи этой стены Соломон оставил четырёхугольную площадь для священного внутреннего двора, окружив эту площадь обширными портиками, вход в которые был через высокие ворота, запиравшиеся золотыми дверями.
Увидев во сне этот храм и наутро проснувшись, Джамна воскликнула: «Господи, какое небесное великолепие!.. Какое поистине царское богатство! Теперь понятно, почему Навухудоносор — царь вавилонский приказал своему военачальнику Навузардану, захватившему Иерусалим, разграбить храм!..»
Навузардан не только предал храм разграблению, похитив священную и золотую и серебряную утварь, великий сосуд для омовений, бронзовые колонны и их венцы, золотые столы и светильники, но затем и зажёг его.
Военачальник приказал также поджечь и царский дворец, разрушить город до основания и, поражённый богатством многих еврейских семей, с целью завладеть им, ибо если просто здесь отнять все эти богатства, то перевезти их даже войску не под силу, велел переселить эти семьи в Вавилон, оставив в Иерусалиме лишь бедных и тех, кто добровольно покорился вавилонянам.
Навухудоносор так объяснил свою жестокость по отношению к Иерусалиму попавшему в плен царю Седекии, потомку Соломона:
— Великий Бог, которому ты стал ненавистен по всему своему складу, отдал тебя во власть нам.
Почему ненавистен Великому Богу стал царь еврейский Седекия?..
Как сказал Джамне во сне голос, потому что Седекия крайне пренебрежительно относился к требованиям справедливости и долга; все окружавшие его придворные также были безбожниками, развратничали и занимались лишь накопительством, да и народ отличался крайней распущенностью и делал что хотел. Вследствие этого пророк Иеремия неоднократно посещал Седекию и заклинал его оставить своё безбожие и свои заблуждения и подумать о справедливости; не прилепляться к знатнейшим (в большинстве своём эти люди гнусные) и не верить обманывающим его пророкам, что вавилонский царь уже больше не предпримет похода на Иерусалим, и будто египтяне начнут с ним войну и победят его.
Они говорят неправду, внушал Иеремия. Но не послушался Седекия истинного пророка, за что и поплатился.
В один из дней Гонория послала Джамну вместе со служанками. Евдокии на иерусалимский базар купить фиников, оливкового масла и разных пряностей. Пока ходили по торговым рядам, девушки держались вместе, потом Джамна пошла за оливковым маслом, налила в греческую гидрию, вернулась и служанок Евдокии не нашла. Чуть не плача, стала возвращаться назад, но дорогу, понадеявшись на подруг, плохо запомнила. На базар собрались после обеда, и пока Джамна тыкалась то в одну узкую улочку, то в другую, начало смеркаться.
В одном тёмном переходе с портиком к ней подошёл закутанный во всё белое с капюшоном, закрывавшим лицо, человек, бесцеремонно взял её за руку и куда-то повёл. Джамне бы в пору закричать, но у неё онемел, язык; попробовать бы вырваться, но руки не слушались, а ноги так и несли вослед за незнакомцем...
Вскоре они остановились у какого-то двухэтажного дома, поднялись по тёмной лестнице и очутились перед железной дверью. Незнакомец толкнул её, она распахнулась, и Джамна зажмурилась от обилия огней, язычками светящихся на толстых свечах, расставленных по комнате.
Человек подвёл девушку к ложу, посадил её, откинул капюшон, и Джамна легонько вскрикнула: перед нею предстал мавр с лицом чуть темнее, чем у неё. У мавра какой-то неземной страстью блистали глаза, и от одного их взгляда Джамна содрогнулась и на какой-то миг будто потеряла сознание, так как ей показалось, что чувство реальности ей отказало; девушка не понимала, как она попала в эту комнату со свечными огнями и зачем она здесь...
— Меня зовут Ману. Тебя — Джамна... Не удивляйся, я всё про тебя знаю... Я слежу за тобой с тех пор, как ты с госпожой появилась в Константинополе. Как только увидел тебя, я влюбился... Да. Да! И подумал, было бы хорошо, если гы, темнокожая, стала бы мне женой. Эту мысль я лелеял и ночью и днём... И вот ты передо мной... Спасибо нашим африканским богам и магам за это. Они. эти боги и маги, научили меня многому — угадывать будущее, знать про человека всё, что я захочу... Я знаю, что ты. Джамна, верила в бога Митру, потом была арианкой... Сейчас тебе Бог евреев, в которого верила твоя мать, навевает сны о Соломоновом храме, а голос поясняет, как его строили. Но поверь мне, что всё это было не так...
— Как это не так? — удивилась Джамна, за всё это долгое время только сейчас раскрыв рот.
— A-а, ты ожила! — радостно воскликнул Ману. — Мои предки, жившие на дальней границе Великого африканского разлома, не раз бывали в Иерусалиме и слышали рассказ о великом мастере Адонираме...
— Который руководил работами по строительству храма? — снова спросила Джамна. Вообще-то, она сама не хотела говорить, тем более задавать вопросы, но кто-то помимо её воли толкал на общение с этим человеком.
— Да, тот... Сядь поудобнее и послушай рассказ, который я слышал ещё в детстве. И ты узнаешь всю правду, такую, какая она есть...
Царица Савская, Балкида, когда слух о мудрости Соломона и его строительстве великого храма достиг её уха, решила поехать в Иерусалим. По прибытии, её сразу повели во дворец, и она увидела на троне из позлащённого кедрового дерева царя Соломона. Весь тоже в золоте, он сидел словно статуя, руки, лицо и ноги которой выточены из слоновой кости. И вот ожила статуя, встала и направилась к Балкиде, приветствуя её... И царица Савская поняла, что это сам царь Соломон, премудрый и великий.
Приняв великолепные дары и поблагодарив, Соломон повёл царицу Савскую к храму, который он возводил в честь Бога евреев. И когда пришли к основанию Святая Святых храма, то увидела Балкида на месте том вырванную с корнем лозу виноградную и с небрежением отброшенную в сторону...
За царицей, куда бы она ни пошла, летела птичка удод, которую звали Юд-юд. Жалобно закричала птичка при виде вырванной с корнем лозы. И по тому крику поняла Балкида, что должен знаменовать вырванный корень и что за сокровище скрывалось под тою землёю, которую осквернила Соломонова гордость...
— Ты, — воскликнула Балкида, — воздвиг свою славу на могиле отцов твоих!.. Лоза же эта...
Царицу Савскую немедля перебил Соломон такими словами:
— Да, я велел вырвать эту лозу, чтобы на месте её воздвигнуть жертвенник из порфира и оливкового дерева. Жертвенник я повелю украсить четырьмя серафимами из чистого золота.
Но царица продолжила прерванную речь:
— Лоза же эта посажена отцом твоего рода Ноем. И как ты посмел вырвать её с корнем?! Видно, кощунство позволило тебе пойти на такую дерзость...
В гневе своём царица была ослепительно хороша, и сердце Соломона воспламенилось любовью к Балкиде, несмотря на её дерзкие речи... И стал он перед нею, как слуга, как раб перед госпожой своей, от которой зависит и его жизнь, и его смерть... И стал он молить Балкиду, чтобы она согласилась стать ему супругой, а народу еврейскому царицей. Тронулось сердце женщины любовью мудрого Соломона, и она через какое-то время дала согласие...
Но где бы ни была царица Савская: осматривала ли она дворец Соломонов, воздвигаемый храм, любовалась ли чем-либо иным из чудес и диковин, так высоко превознёсших Соломонову славу, её волновал вопрос, кто это всё исполнил?.. Она спросила, и ей ответили:
— Творец всему этому великий мастер Адонирам. Его прислал добрый царь, владыка тирский...[109]
Показали Балкиде и невиданные по красоте колонны храма, статуи херувимов и престол из золота и слоновой кости. Когда стали говорить «о море медном», которое должно быть скоро отлито, царица Савская вновь вопросила:
— Кто воздвиг эти колонны? Кто чеканил эти статуи? Кто воздвиг престол сей? И кто будет отливать «медное море»?
И услышала снова:
— Великий мастер Адонирам.
И тогда Балкида захотела увидеть великого мастера и велела, чтобы его представили перед её очи. Адонирам являлся человеком нелюдимым и странным, таинственно-мрачной личностью; никто не ведал ни его отчества, ни рода, ни племени, но во взоре этого человека было такое, что отличало его от простого смертного; гений великого мастера возвышался над людьми настолько, насколько вершина высочайшей горы возвышается над малым камнем... А был ли он человеком вообще?! Ибо глубочайшим презрением ко всему человеческому роду дышит эта личность и законно презрение её: хотя прародительница Адонирама мать была матерью обоих первородных братьев Каина и Авеля, но не Адам являлся отцом Каина, а Эблис-Денница[110]; огнистый херувим, падший ангел света не мог зреть красоты первой жены, чтобы не возжелать её. И не могла Ева устоять перед любовью высшего ангела... Тогда-то и родился Каин... Душа его, сына Люцифера-Денницы, бесконечно возвышалась над душою Авеля, сына Адама, но Каин был добр к Адаму, служил опорой его немощной старости; был он исполнен благожелательности и к Авелю, охраняя первые шаги его детства.
Но Бог из ревности[111] к гению, сообщённому Эблисом-Люцифером Каину, изгнал Адама и Еву из рая в наказание им и всему их потомству за любовь Евы.
По изгнанию из Эдема возненавидели Адам и Ева Каина, как невольную причину жестокого приговора, и всю свою родительскую любовь перенесли на Авеля.
У первородных братьев была сестра именем Асклиния, и соединена она была с Каином узами глубокой взаимной нежности. По воле ревнивого Бога она должна стать супругой Авеля. Созданный из глины, Адам имел душу раба; такая же душа имелась и у Авеля, но душа Каина, как искра Денницы, являлась свободной, и Бог убоялся свободной души Каина. Несправедливость Адонаи-Бога, Адама, Евы и Авеля переполнили чашу терпения Каина, и Каин смертью наказал неблагодарного брата. Тогда Адонаи-Бог, который уже замышлял в грядущем погубить весь род Каина, смерть Авеля вменил ему в преступление; но не смутилась этим душа Каина, и в искупление горя, причинённого им Адаму и Еве, сын Денницы посвятил себя служению их потомкам.
Каин научил их земледелию; сын его Енох посвятил их в тайны общественной жизни; Мафусаил обучил письменам; Ламех — многожёнству; сын Ламеха Тувалкаин наставил их в искусстве плавить и ковать металлы; Поэма, сестра Ту вал каина, познавшая своего брата, обучила их прясть пряжу и ткать одежды.
Адонирам — прямой потомок Каина, отпрыск Вулкана, сына Тувалкаина, рождённого сестрой его Поэмой. Ковач металлов Вулкан в расщелине Этны, что на Сицилии, сохранил себя от потопа и впоследствии познал жену Хама, родившую ему Хуса. отца Нимврода. Таков род Адонирама, таков и сам Адонирам, создатель плана построения того храма, который гордостью Соломона воздвигается Адонаи-Богу, преследующему из рода в род, из поколения в поколение свободнорождённых детей Каина... И живёт этот сын гениев огня одинокий среди детей Адамовых, никому не открывая тайны своего высочайшего происхождения. Когда же великий мастер, создатель стольких чудес предстал перед царицей Савской и поднял на неё свой взор, исполненный огня, тогда потрясена была душа Балкиды и царица едва могла вернуть себе самообладание. И пожалела она о поспешном обязательстве, которым она связала себя с Соломоном.
Но как ни было велико могущество гения Адонирама, но при отливке «медного моря» ему пришлось испытать неудачу тем более что она произошла на глазах уже любимой им царицы...
Сириец по имени Фанор — «товарищ-каменщик», финикиец Амру — «товарищ-плотник», еврей Мафусаил из колена Рувимова — «товарищ-горнорабочий» потребовали себе звание и жалованье мастера. Адонирам отказал им, ибо они не дошли до степени искусства быть мастерами. И «товарищи» решили отомстить Адонираму: Фанор подмешал извести к кирпичу; Амру удлинил балки под формой отливки «медного моря» и тем самым уменьшил действие огня во время литья; Мафусаил из отравленного моря Гоморрского набрал серы и примешал к литью.
О предательстве стало известно молодому рабочему, которого звали Беннони, и он кинулся к Соломону, чтобы тот приказал остановить отливку «медного моря», но царь, узнав, что Балкида воспылала любовью к великому мастеру, обрадовался случаю посрамить Адонирама. Соломон не внял мольбам Беннони и велел далее производить литье. И когда жидкая медь яростным потоком полилась в предательски испорченную форму, то под сильным напором форма разорвалась; брызнул жидкий огонь из всех трещин огромного бассейна и пролился на народ, собравшийся бесчисленными толпами на невиданное зрелище, сея повсюду ужас и смерть. В огне погиб и молодой рабочий Беннони.
Чувствует Адонирам, что посрамлён в нём великий мастер, и впервые он растерялся, не знает, как остановить эту огненную стихию. Но вдруг из глубины клокочущего пламени слышит Адонирам чей-то громовой голос:
— Приблизься, сын мой, подойди без боязни. Я дуну на тебя, и пламя не будет властно над тобой...
Адонирам шагнул в пламя, оно объяло великого мастера и понесло его: и от этого он испытал неслыханное блаженство.
— Куда влечёшь меня? — вопрошает Адонирам.
— К центру земли, в Душу мира, — слышит в ответ.
— Кто ты? — снова вопрошает великий мастер.
— Я — отец отцов твоих, я — сын Ламеха, внук Каина. Я — Тувалкаин. Для возбуждения в тебе новой силы и мужества я дам тебе молот, отверзший когда-то кратер Этны, и ты с помощью его доведёшь до конца литье «медного моря».
Сказав это, Тувалкаин вручил ему молот и исчез в огненной бездне. И молотом Тувалкаина Адонирам исправил все погрешности в литье, и «медное море», как чудо из чудес, под первыми лучами утренней зари осветилось ослепительным блеском гения великого мастера...
И весь народ израильский содрогнулся от неописуемого восторга, и воспылало сердце царицы Савской огнём торжествующей любви и радости. Но мрачно было и ненавистью исполнено сердце Соломона.
И пошла Балкида с кормилицей Сарахиль за стены Иерусалима. Влекомый тайными предчувствиями, отправился туда и Адонирам. И видит, как на плечо ему садится птичка Юд-юд, сопровождавшая царицу Савскую. И воскликнула Сарахиль, обращаясь к Балкиде:
— Исполнилось пророчество оракула! Юд-юд узнала супруга, предназначенного тебе. Его одного можешь познать ты, не преступив закон.
И без колебаний отдалась Балкида Адонираму...
Но как уйти от ревности Соломона? Как освободиться Балкиде от слова, данного царю евреев?
И решила царица, что первым из Иерусалима уедет Адонирам, а за ним, обманув бдительность Соломона, тайно покинет город и Балкида, чтобы уже навеки соединиться в Аравии с возлюбленным своим супругом.
Но бодрствует предательская злоба и следит неусыпно за великим мастером: она и подстерегла тайну любви его и царицы. Бегут три «товарища» к Соломону. Говорит Амру:
— Царь! Адонирам перестал ходить на постройки.
— Но зато я видел его в конце третьей стражи[112], как он крался к ставке царицы, — сказал Фанор.
А Мафусаил добавил:
— Я прикрылся темнотою ночи и вмешался в толпу евнухов царицы Савской. И видел, как к ней в опочивальню прошёл Адонирам и пробыл наедине с нею до восхода зари, и тогда я тайно удалился.
Взбешённый этими сообщениями, Соломон приказывает «товарищам» убить великого мастера, что они и сделали; труп его зарыли на одиноком кургане, а Мафусаил в свежевзрытой земле посадил ветку акации.
Балкида же сумела обмануть Соломона и незаметно покинула его. А когда царю доложили и об этом, то он распалился яростью и вознёс было в гневе страшную угрозу на Бога своего Адонаи.
Но предстал перед ним пророк Ахия Силомлянин и укротил ярость его словами:
— Знай, царь, что тому, кто убил бы Каина, должно было быть отмщено всемеро, за Ламеха же — семьдесят раз всемеро; тот же, кто дерзнёт пролить соединённую кровь Канна и Ламеха в лице Адонирама, наказан будет семьсот раз всемеро.
И чтобы не понести на себе последствий такого приговора, Соломон приказал выкопать тело Адонирама из кургана и предать его погребению под жертвенником храма.
Но с того дня преследует Соломона страх, и тщетно царь заклинает силы Мировой души снискать ему пощаду и оказать милость... Но нет Соломону пощады, а величию его трона из золота и кедра грозит древесный клещ.
Это упорное и терпеливое насекомое в течение двухсот двадцати четырёх лет точило трон царя Соломона, пока трон этот, наконец, не рухнул с грохотом, наводящим ужас на всю вселенную...
Ману кончил свой длинный рассказ, отёр рукавом одежды лоб и снова обратился к Джамне:
— Вот она правда о Соломоне и строительстве его храма, а не та, о которой нашёптывал тебе во сне голос... Скоро ты узнаешь и почувствуешь другую правду... Правду о жизни своих предков по отцовской линии... И о наших богах тоже... Я поведу тебя рано утром на юг Африки, где мне суждено стать царём... А ты будешь царицей. Ты пойдёшь со мной, Джамна?
— Да, — тихо ответила девушка, всё ещё заворожённая его рассказом.
— Это очень мило с твоей стороны.
— А как же моя госпожа? — спросила через какое-то время бывшая рабыня.
— Отныне ты, как Адонирам при жизни, — свободный человек! А госпожа быстро найдёт себе служанку. Не беспокойся. Так же, как и мой командир в Константинополе... Хотя такого, как я, стреляющего метко в глаз, мага и чародея, найти ему будет нелегко, — хвастливо заявил Ману. — Да ничего... И он стерпит... Джамна, как только я оказался в Иерусалиме и вспомнил, что на юге живут мои предки, мысль уйти к ним завладела мною... «Тогда я буду свободным человеком», — сказал я себе. Решил и тебе предложить стать тоже свободной...
Затем мавр велел Джамне переодеться, переоделся сам; вскоре они сели на лошадей и выехали через южные ворота Иерусалима и направились в сторону пустыни Син.
Великий африканский разлом — это огромная трещина на земле и, если бы можно было взлететь на Луну, то её бы хорошо было видно оттуда. Начинаясь в северной части Израиля, в долине реки Иордан, и пересекая значительную часть Африканского континента, «трещина» тянется на четыре тысячи двести семьдесят римских миль... Образовалась она по причине оседания пород в полосе разлома, тогда как прилегающая земля оставалась неподвижной. Будто кто из Атлантов проехался здесь на колеснице огромной тяжести... Но не смял растительный покров, а наоборот — за проехавшими колёсами словно вставали тут же травы и леса, удивляя своим богатством. Да и животный мир здесь также отличается своим разнообразием.
Но встречаются и зловещие места, вроде гигантской впадины Данакиль. Она граничит с Красным морем и представляет собой солончаковую пустыню на глубине одного стадия ниже уровня океана. Воздух здесь настолько горячий, что, если бы Ману не поливал заготовленной заранее водой одежды и попоны коней, они бы не преодолели эту впадину...
Потом мавр и Джамна стали взбираться на Эфиопское нагорье на высоту одной мили, а некоторые вершины здесь достигали двух миль.
Отсюда были видны вулканы самых разных очертаний, видны и малые нагорья, пересекающие ровные долины, а также горные массивы Рувензори и Вирунга. Молодые вулканы время от времени выбрасывали дым и извергали огненно-красную лаву. А древние вознеслись так высоко, что белые шапки доставали светлых облаков, но удивительно то, что даже палящие лучи солнца не могли растопить их льдов и снегов.
И повсюду Джамна и Ману встречали горячие источники и, судя по тому, что из них вырывается пар и бьют обжигающие струи воды, в недрах Земли кипело и клокотало... Не в эти ли недра спускался Адонирам за молотом Тувалкаина?..
— Ману, ты привал меня в край, где творение природы чудеснее творений рук человеческих... Даже таких, как храм Соломонов, который я видала во сне.
— Я рад этому, милая, — гордился мавр. — А вон там. — Ману показал рукой вниз, — простирается покрытая лугами равнина. Травы этой равнины служат кормом множеству диких животных.
На кочующие здесь стада антилоп-гну Джамна могла бы смотреть от восхода до заката, такое это красивое зрелище. Но смотреть было некогда, надо ехать вперёд и вперёд. «Слава богам, что лошади наши выносливы и здоровы», — повторял Ману.
Миновали цепочку озёр с водой, стекающей с вулканических склонов, и поэтому некоторые из этих озёр на многие мили окружены унылой пустынной растительностью и никаких рыб, кроме крохотной тилапии, в них не водится. А тилапиям вулканическая соль не страшна, они снуют даже вблизи гейзеров, где вода настолько горячая, что до неё нельзя дотронуться рукой.
Джамна видела, как перелетают с озера на озеро изящные розовые фламинго. Иногда они собираются гигантскими стаями, и тогда от них вода озёр приобретает розовый цвет...
Но зато сколько всякой живности водится в пресных горных озёрах, обрамленных кустами жёлтой акации. В кристально чистой воде живёт самая разная рыба, нежится множество бегемотов. А на мелководье буйно разрастаются водоросли и папирус"— жилище для многих птиц.
В сухих, безводных местах обитают зебры, сернобыки и страусы. По лугам бродят жирафы, носороги и слоны, грациозно, большими прыжками скачут антилопы. На открытых равнинах охотятся пятнистые кошки — леопарды и гепарды, а когда стемнеет, нередко слышишь рык царя зверей — льва.
В горах же живут гориллы, а внизу — в самой впадине — по холмистым низинам бродят в поисках насекомых, семян и скорпионов полчища бабуинов. Высоко в небе, расправив крылья невиданного размера, в восходящих потоках тёплого воздуха парят орлы и грифы.
В зарослях колючего кустарника перелетают с ветки на ветку птицы турако, бородастики, птицы-носороги и попугаи. Здесь можно встретить самых разных ящериц всех размеров и цветов, которые снуют с такой скоростью, словно за ними кто-то гонится.
Джамне кажется, что жизнь на этих равнинах и горах течёт как бы вне времени, основательно и спокойно, а само время измеряется лишь восходом и заходом солнца. «Может быть, это и есть Эдем, рай божественный...» — думает девушка, и ни капельки не жалеет, что покинула тот мир, который совсем не похож на этот, где встреченные ими люди тоже основательны и спокойны, с размашистой и вместе с тем горделивой походкой, и где богатство человека измеряется не золотом, а количеством верблюдов, коз, коров и овец да числом детей в семье...
Как-то Ману и Джамна подошли к одному дому, чтобы пополнить съестные припасы, и девушка вновь подивилась простоте и оригинальности его постройки... Из согнутых и связанных вместе веток деревьев был сделан каркас в форме купола. Снаружи каркас укрыт переплетённой травой и кожами животных. В доме сооружён очаг для приготовления пищи, а спальней служила пушистая шкура... В таких жилищах комаров и мух, как правило, не бывает.
Ещё один перевал, и Many сказал:
— Там, внизу, моё селение.
И как только они спустились, кто-то, узнав Ману, закричал:
— Великий воин Ману вернулся! Наш вождь Ману! Наш царь!
Забили барабаны, затрещали трещотки. Джамна невольно улыбнулась: «Я — свободна... И я теперь — царица!»
V
Пульхерия по совету Хрисанфия принимает решение в деле с Павлином и Евдокией не щадить чувств императора: она передаёт ему перстень, даже не сняв его с отрубленного пальца... При виде знакомого перстня и безжизненно сморщенного пальца у василевса мелко-мелко задрожали губы, как у обидчивого мальчика; лицо покрылось красными пятнами — признак сильного волнения...
Сестра с ехидной усмешкой наблюдала за Феодосием, даже не стараясь скрыть своего злорадства. И было от чего — годы, проведённые на загородной вилле, словно в заточении и в удалении от государственных дел, которым она посвятила всю себя без остатка, очерствили её сердце и притупили её некогда нежные чувства к брату. Но, слава Богу, она понимала, что в происшедшем с нею Феодосий виноват настолько, сколько виновато человеческое существо в возникновении, скажем, бури на суше или сильных отливов и приливов на морском берегу...
Она кляла Афинаиду-Евдокию и тех, кто состоял в тесном окружении императрицы, в таком тесном, что побудило её к измене мужу. Чуткое сердце женщины говорило Пульхерии обратное, но злоба всё перевешивала. И Пульхерия знала, что душа её не успокоится, пока она не изведёт всех врагов своих, в том числе и покаявшегося Хрисанфия... А её враги — это друзья Евдокии...
Вчера у входа на Ипподром она встретилась с ещё одним лучшим другом Евдокии префектом Киром из Египта. Ему бы согнуться перед Августой в низком поклоне, всё-таки после её заточения виделись впервые, а он слегка наклонил голову: в глазах так и забегали насмешливые искорки. «Тоже мне — восстановитель константинопольских стен!.. У нас есть время и возможность создать для тебя иную славу... Пусть не в глазах любящего тебя народа, но зато в глазах василевса», — подумала Пульхерня.
В 412 году энергичный и умный Анфимий, будучи префектом при императоре Аркадии, отразив натиск гуннов, приступил к сооружению новых укреплений разросшейся со времён Константина Великого столицы Византии. Сначала была построена мощная и длинная стена, шедшая от Пропонтиды к бухте Золотой Рог. Но через тридцать лет случилось землетрясение, часть стены разрушилась, и уже префект Кир не только починил пострадавшую эту часть, но и возвёл ещё одну линию стен и приказал выкопать ров; особенно надёжно он закрыл дотоле не защищённый болотистый участок у Влахернского дворца. Девяносто две грозные башни, значительные высота и толщина стен, глубокий ров и обилие боевых машин обеспечивали безопасность Константинополя. Только надолго ли?..
Аттила, убив брата и обретя Марсов меч скифов, обнаглел вконец: прислал Феодосию письмо, в котором грозит столице штурмом, если василевс вместо семисот золотых либров ежегодной дани не будет выплачивать по две тысячи... Ещё этот окровавленный палец с перстнем, говорящий о смерти любимца... И ставшая снова свидетельницей сильного волнения и растерянности Феодосия при чтении письма гуннского правителя, Пульхерия сказала:
— Дорогой мой брат, на то и существуют бури, чтобы им утихать... Что касается Аттилы, то как-нибудь мы это дело уладим. А гибель твоего любимца, хотя ты и разрешил его умертвить, я знаю, потрясло тебя... Это и понятно, потому что ты благочестивый христианин, и было бы ужасно, если бы радовался... Чтобы отвлечь тебя, Хрисанфий по моей просьбе готовит ристания на Ипподроме. Давно народ не приветствовал тебя на скачках, в коих нет тебе равных. На пару с тобой согласился участвовать в ристаниях префект Кир. Он — достойный противник.
— Хорошо, сестра.
Пульхерия тут же посылает людей к евнуху, который и думать не думал об этих скачках, но велено ему было готовить их... Посылает Августа своего человека и к Киру, которому объявляют, что на предстоящих ристаниях василевс Феодосий изъявил желание соперничать с ним...
И наступил день скачек. Если в ночных кутежах в состязании с императором, кто больше выпьет, можно было как-то схалтурить, чтобы не вызвать гнев всемогущего, то на скачках сделать подобное практически невозможно, ибо собравшиеся на трибунах тут же заметят любое поползновение проиграть.
Но и выиграть прилюдно у порфирородного — это всё равно что заранее сунуть голову в петлю виселицы, что стояла на площади Тавра, где предавали казни воров. Может быть, «сунуть голову в петлю» сильно сказано, скорее всего, это подобно тому, как если бы позволить привязать себя добровольно к одному из столбов, которые с пучками розг у их основания тоже находились на форуме Тавра для того, чтобы любой прохожий смог отхлестать тебя ими.
Так наказывали более мелких воришек и мошенников.
Ничего не оставалось Киру, как положиться на волю судьбы... На скачках египтянин выиграл у василевса.
Обойдя победную мету и возвращаясь, префект слышал, как Ипподром ревел:
— Восстановителю городских стен слава! Константин построил, Кир восстановил! Слава! Слава!
И снова неслось:
— Константин построил, Кир восстановил!
Об этом приветствии немедленно было доложено Феодосию, ещё не остывшему от скачек и переполненному чувством злобы потому, что проиграл и получил за это от толпы одни лишь насмешки.
— Слабак, Поэтому-то и жена от тебя сбежала! — кричал в пьяной запальчивости охлос.
— То, что орёт охлос по поводу бегства твоей жены, наплевать, — убеждал Феодосия Хрисанфий. — Неспроста другое... В славословиях народ рядом с Константином Великим ставит только имя Кира, но нет твоего, величайший... Повторяю, что это неспроста... Я слышал, что кричали «Константин построил, Кир восстановил» и некоторые патриции... Я их взял на прицел. А вообще-то, великий, Кир более язычник, нежели христианин... Он сочиняет песни, но они не отличаются христианской добродетелью, такова и его музыка.
Вскоре Кира постригли в монахи и конфисковали всё его имущество[113].
Это кощунственное решение василевса и смерть Павлина переполнили чашу терпения сторонников Афинаиды-Евдокии, и тогда два близких ей человека священник Север и диакон Иоанн решают тайно отправиться в Иерусалим, чтобы уговорить императрицу не возвращаться пока в Константинополь, где засилье в делах государственных снова оказалось в руках Пульхерии. А помогает ей теперь во всём Хрисанфий, как некогда помогал он Евдокии...
Да разве поведение евнухов, о беспринципности которых знал каждый в обеих империях, укладывалось в какие-то строгие рамки морали?! Разумеется, нет... И об этом говорилось выше.
Вскоре василевс призвал к себе Ардавурия и строго спросил:
— Почему нет никаких известий из Иерусалима? Почему чернокожий не шлёт гонца?.. Я должен знать, что поделывает Евдокия, которая остаётся пока моею женою...
— Я всё проверю, порфирородный, — заверил Ардавурий. — Там Приск, но доносить он не будет...
— Ладно, я посоветуюсь с сестрою. И как быть, мы решим. Пока в Иерусалим никого не посылай.
«Куда исчезла Джамна?» — Гонория вся извелась, ища ответ на этот вопрос. Спросила служанок Евдокии, с которыми та ушла на базар, но служанки сказали, что они вместе ходили по торговым рядам, а потом Джамна захотела купить пряностей и оливкового масла, куда-то направилась, и они её больше не видели...
— А никто за вами и за ней не следил?
— Если б следили, мы бы заметили, — ответила бойкая востроглазая девушка.
— Хоть у тебя и глаз зоркий, только опытного наблюдателя засечь нелегко. — Гонория, с одной стороны, слегка укорила служанок, а с другой — как бы делилась своим опытом бывшей беглянки и узницы...
«И почему случилось так, что пошли служанки без сопровождения солдат?! Это всё — наша беспечность, которая и обернулась несчастьем... — оставшись наедине, думала Гонория. — Вон и Евдокия, никого и ничего не боясь, в сопровождении одного Приска и его слуги ездит по Христовым местам, занимаясь благотворительностью... То она едет в Вифлием. где родился сын Божий, то присутствует на всеобщем крещении в реке Иордан, уговорила и меня войти в воду... То она всю ночь стоит на молитве в Гефсиманском саду. И где бы она ни была, лицо у неё светится счастьем, глаза пылают огнём; она как бы заражается некой энергией, которая недоступна мне... Я спокойно чувствую себя в Святом граде, и, к сожалению, он на меня не производит того впечатления, какое производит на императрицу. И даже недавнее посещение Гроба Господня не вызвало во мне стольких эмоций, на какие я рассчитывала... Видно, надо очень глубоко верить в Христа, чтобы, как некоторые, при прикосновении к камню, к которому был прикован Иисус, ожидая страшной казни, можно было потерять сознание... Конечно, судьба Богочеловека интересна, жизнь его и смерть скорее похожи на легенду... И поверить в Его воскресение не так-то просто обыкновенному человеку... Но подкупает любого то, что Он добровольно принял муки за грехи человеческие, чтобы искупить их и приблизить человека к Всевышнему. И тут возникает вопрос, который я слышала с детства: «Зачем Предвечному посредники?..» Если он захочет, то и сам может поговорить с людьми напрямую, и Его дело отторгать их или приближать к себе... И Его полное право — прощать грехи и не прощать... Всё же я остаюсь арианкой... Может быть, это тоже грешно, не знаю...» — заключила свои раздумья Гонория.
Этими мыслями она поделилась как-то с Евдокией, та её осудила и добавила с горечью:
— Думала, что Святой город преобразит тебя, но сие не случилось... Правильно сказал авва Данила, что для тебя нужно сплести не один, а два невода.
Гонория рассмеялась. Может быть, неуместен бью её смех, но смеялась она громко и весело.
Евдокию тоже волновала пропажа служанки Гонории. Она поручила расследование Приску, и вряд ли бы он что-то сумел прояснить, если б к нему не пожаловали те двое экскувиторов, которые, оставшись без командира, долго ломали головы, как быть дальше, и, ничего не придумав, решили обратиться к секретарю императора. Узнав, что бесследно исчез и мавр, всё сопоставив, Приск теперь мог с уверенностью заявить обеим царицам, что Джамна убежала с ним: оба — темнокожие, хотя рабыня и наполовину африканка, но она вполне подходила Many; главные же её достоинства — красота и образованность. Приск также узнал от экскувиторов, что мавр не раз хвастался, что у себя на родине он, сын вождя, может заполучить жезл царя...
— В этом случае я желаю Джамне счастья! — воскликнула Гонория, и Приск увидел в её глазах слёзы...
Двоих экскувиторов Приск отослал к императору, чтобы они поведали обо всём, что случилось, а на другой день пожаловали священники из Византии — Север и Иоанн. Императрице они в категоричной форме заявили, что пока ей возвращаться в Константинополь нельзя.
Но Евдокия, увлечённая своими духовными делами, и сама, кажется, не намерена была уезжать из Святого града. Тем более что наступала христианская Пасха... И поэма писалась легко, и Евдокия думала, что скоро закончит её.
Императрица свою поэму выстроила так, что она получилась в трёх песнях о святом отшельнике Киприане Антиохийском...[114] Пока были написаны две песни, и императрица пригласила в один из вечеров Гонорию, Приска, священника Севера, диакона Иоанна, правителя Иерусалима Сатурнина с женой и некоторых его приближённых на чтение пока одной песни.
В стихотворной форме поэма начиналась с сообщения о том, что Киприан являлся знаменитым магом. Однажды молодой язычник по имени Аглаида пришёл к нему и попросил с помощью таинственной науки побороть сопротивление христианской девушки, которая отвергла любовь юноши. Девушку звали Юстина.
При произнесении Евдокией этого имени Юста Грата Гонория невольно вздрогнула...
Далее следовали стихи о согласии Киприана. Как восторжествовать над Юстиной? И магу ничего не остаётся делать, как прибегнуть к силе демонов.
Киприан пустил в ход всю свою власть с таким рвением, что скоро сам влюбился в сияющую красотой девушку. Но вызванные Киприаном демоны бежали, как только Юстина сделал знамение креста. Маг попробовал ещё раз вызвать демонов... И воскликнула девушка-христианка: «Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его ненавидящие Его! Как исчезает дым, да исчезнут, как тает воск от лика огня, так погибнут бесы от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением...»
И снова побежали демоны. И тогда, убеждённый в тщете своего преступного знания, Киприан решается сжечь свои волшебные книги, раздаёт своё имущество бедным, принимает христианскую веру и уходит в пустыню. Влюблённый юноша, увидевший также напрасные потуги мага, делает то же самое...
В конце концов пустынножитель Киприан, проведший в отшельничестве много лет, становится епископом Антиохийским и вместе с Юстиной мужественно претерпевает мученическую смерть за свою веру...
Окончены стихи первой песни. Евдокия обводит глазами лица слушающих. Какое впечатление произвели стихи? И с удовлетворением отметила: «Кажется, хорошее...»
Слёзы текут по щекам жены правителя Иерусалима. У Гонории особым блеском светятся глаза, она неестественно напряжена... Многие черты её характера Евдокия использовала, рисуя образ Юстины. Доволен первой песнью и умница Приск. Только Сатурнин хранит на сытом лице равнодушие: да что ожидать от холодного сердца чиновника?!
«Ах, как жаль, что нет Павлина...» — думает Евдокия, уже зная о его гибели; слёзы выступают и на её глазах.
К сожалению, на чтение первой песни поэмы не присутствовал патриарх Иерусалимский, полюбивший обеих цариц: всё это время он был занят подготовкой к встрече Страстной недели и христианской Пасхи. А узнав, что Гонория исповедует арианство, он лично взял над ней опекунство, не отпуская её от себя ни на шаг, за исключением, когда дел было невпроворот.
Просвещать римскую Августу насчёт Богочеловека начал с того, что объяснил ей происхождение имён Иисус Христос, Сын Божий.
Сын Божий — Второе лицо Святой Троицы. Архангелом Гавриилом назван Иисусом, когда Тот родился на земле как человек: Иисус означает Спаситель, а назван Христом, когда ожидалось пришествие Его.
Христос — значит Помазанник. Так издревле называли царей и пророков. Иисус, Сын Божий. Помазанник потому, что Его человеческой природе безмерно сообщены все дары Духа Святого. Он — Господь, в том смысле, что есть Истинный Бог...
Почему, подходя к Иерусалиму, Иисус заплакал, когда весь народ радостно встречал Его как царя?.. Иисус, зная, что иудейский Иерусалим, который сегодня кричит Ему: «Осанна!» — завтра будет кричать: «Распни!» Иудеи не узнали в Нём Богочеловека...
Плакат Иисус, предвидя скорую гибель Иерусалима в наказание за то, что он ополчился на Господа и дошёл даже до Богоубиства...
И в Страстную седмицу, в понедельник, на утрене звучит лишь отдалённый, но твёрдый клик в ноши: «Сё Жених грядёт...»
И приходит Святой Великий вторник... В основе воспоминаний итого дня лежит евангельская притча о десяти девах, но предлагаются и два других символа: притча о талантах и пророчество о Страшном Суде.
Душа — неплодная смоковница, душа — злой виноградарь, душа-дева неразумная, душа — лукавый и ленивый раб, сокрушаясь и трепеща стоит перед своим Судьёй, созерцает свои дала и помышления.
Во вторник продолжается ветхозаветное чтение. Проходят перед глазами исторические события. Собирается совет книжников и фарисеев... Подвигают на предательство Иуду. Звучит грозное предсказание: «Через два дня Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие»...
На вечерне многострадальный Иов, оставленный людьми и Богом, изнемогающий под бременем горестей, прославляет Господа и сам прославляется Им...
А в Святую Великую среду кается грешная дева, возлившая миро на ноги Иисусовы, и укореняется злой замысел Иуды, хотящего предать своего Учителя и Господа. «Простёрла блудница руки к Тебе, Владыко, простёр и Иуда свои руки беззаконные», — одна, чтобы принять прощение, другой — серебреники... В читаемом затем пророчестве Иезекииля открывается весь смысл страстного пути Спасителя, в котором горечь страданий претворяется в неизречённую радость. Но для того, чтобы ощутить эту радость, «надо пройти с Ним и Крестный путь, сораспяться Ему, умереть с Ним и быть погребённым с Ним, чтобы с Ним и воскреснуть во славе».
В четверг Страстной седмицы — это тайная вечеря Иисуса Христа с учениками, умовение Им ног апостолам, молитва Спасителя в Гефсиманском саду и... «Подошёл один из Его двенадцати учеников — Иуда. Он приват с собой большую толпу, вооружённую мечами и дубинками. Этих людей послали священники и старейшины народа. Предатель условился с ними о знаке: «Хватайте того, которого я поцелую».
Подойдя сразу же к Иисусу, Иуда сказал:
— Учитель, приветствую Тебя! — и поцеловал Его.
Иисус ответил:
— Друг, делай лучше то, зачем пришёл.
Сразу подбежали люди и схватили Иисуса. Тогда один из бывших с Иисусом выхватил меч и, размахнувшись, отсёк слуге первосвященника ухо.
— Положи меч на место, — сказал Христос. — Кто поднимет меч, тот от меча и погибнет. Неужели ты думаешь, что Я не мог бы попросить Моего Отца прислать Мне более двенадцати легионов ангелов? Но как же тогда исполнится Писание, где говорится, что всё должно произойти именно так[115]?
Великая пятница — день скорби. В этот день Спаситель терпит нас ради «оплевания, биения, заушения, посмеяния, пригвождения ко Кресту, прободение копьём и смерть».
Склоняется к вечеру день, подходит к закату земная жизнь Богочеловека. На повечерии читается канон «Плач Богородицы» известный в народе как «Хождение Богородицы по мукам»... Из алтаря выносится Плащаница и поставляется на гробе посреди храма.
В ночь на субботу после троекратного каждения Плащаница обносится вокруг храма. Начинается переоблачение престола и одежд священнослужителей, всё преображается и ведёт нас к пасхальной радости.
После литургии совершается освящение пасох, кулича и яиц...
Мария Магдалина однажды пришла в Рим, её знали здесь раньше богатой и знатной и поэтому пропустили к императору Тиберию. Она подала ему яйцо и сказала: «Христос Воскресе!» Удивился император: «Как может кто-нибудь воскреснуть из мёртвых?! В это так же трудно поверить, как в то, что это белое яйцо может стать красным!» И вдруг яйцо стало менять свой цвет: потемнело, порозовело и, наконец, стало ярко-красным...
«Пасха красная, Пасха Господня, Пасха всечестная нам возсияй. Пасха, радостию друг друга обнимем».
Святая ночь. В храме потушены все свечи и лампады. В кувуклии — часовне, где находится Гроб Господень, стоит большая золотая лампада с елеем и незажжённым фитилём. У входа в часовню — стража.
Гонория вглядывается в их напряжённые лица. У неё также напряжена душа. Слегка дрожит рука с пучком негорящих свечей. Она оборачивается и видит византийскую императрицу... Та указывает глазами на алтарь, из которого выходит крестный ход и останавливается у дверей кувуклия.
Патриарх Иерусалимский разоблачается до подризника, его тщательно обыскивают, и он, сняв печати с дверей, заходит внутрь.
Все с незажжёнными свечами, затаив дыхание, ждут... И вот возле Гроба Господня появляется свет, и появляется Патриарх с ярко пылающими свечами... Люди передают друг другу огонь, сошедший с неба... Благодатным потоком разливается огненный свет по всему храму.
Люди обнимают друг друга, трижды целуются со словами: «Христос воскресе» — «Воистину воскресе».
«Смерть, где твоё жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос — и пали демоны. Воскрес Христос — и радуются ангелы. Христос и Жизнь пребывает...» — звучат слова святого Иоанна Златоуста.
Может быть, и не всё принимает разумом Гонория, но освящённая душа её трепещет и уносится вдаль... Потом возвращается снова.
А Евдокия после Пасхи вскоре объявила римской Августе, что она готова прочитать и вторую песнь своей поэмы, заключающую в себе исповедание Киприана.
Готовясь отречься от своих заблуждений, маг Киприан хочет публично открыть всё, чему он научился при помощи волшебных книг, поведать обо всём преступном, что он совершил при содействии демонов, и как, наконец, когда свет истины озарил его душу, он обратился и покаялся...
Киприан рассказывает, что в Афинах и Элевсине, на Олимпе, он поклонялся ложным богам; как в Аргосе и Фригии обучался искусству авгуров, а в Египте и Халдее — тайнам астрологии; как изучил «все эти преходящие формы, ложное обличив вечной мудрости»; как он питался этими древними и зловредными знаниями, рассеиваемыми демонами по лицу земли на погибель людей. Благодаря их проклятому искусству он дошёл до того, что мог вызывать самого князя лжи... «Его лик, — говорится в поэме, — горел, как цветок, чистым золотом, и отсвет этого огня сиял в блеске его глаз. На голове его была диадема, сверкающая драгоценными камнями. Великолепны были его одежды. И земля содрогалась при малейшем его движении. Теснясь вокруг его трона, стояли бесчисленные сонмы стражи, и он считал себя богом, льстясь, что может всё, как Бог, и не боясь борьбы с вечным владыкой». Отец лжи, этот павший бог, наваждением тьмы созидает всё, что может погубить и обмануть человека: «яркие города и золотые дворцы, манящие тенистые берега, полные дичи густолиственные леса, обманчивый образ отчего дома, что видится заблудившемуся путнику в ночи»...
Затем в песне снова говорится об искушении Юстины. На неё Киприан напускает демонов одного за другим, а также самого сатану, но всё бесполезно. Тогда маг прибегает к помощи призраков-обольстителей: то сам превращается в молодую женщину, то в прекрасную птицу со сладкозвучным голосом; самого Аглаиду он превращает в воробья, чтобы тот мог лететь к возлюбленной. Но под спокойным и чистым девичьим взглядом ложная птица камнем падает вниз...
Отчаявшись, Киприан насылает всевозможные беды на семью Юстины; чума свирепствует в её родном городе, но опять ничто не может поколебать твёрдость девушки.
И, бессильный перед этими неудачами, маг начинает сомневаться в себе самом; он поносит сатану, он хочет уничтожить договор с царём тьмы, написанный кровью, и он, как Юстина, делает знамение христианского креста.
Но сатана насмехается над своей жертвой, говоря: «Христос не вырвет тебя из моих рук, Христос не принимает того, кто раз последовал за мной».
Но сатана неправ. Искреннее раскаяние и муки, на которые обрекает себя Киприан в пустыне, обращают его в истинную веру, и Христос, сам претерпевший их, принимает под своё крыло бывшего грешника...
«Приключение Киприана Антиохийского — это же почти собственная история Евдокии... — В этом ещё раз уверилась Гонория, прослушав вторую песнь поэмы. — Отчасти и моя тоже...»
Третью песнь послушать из уст византийской императрицы римской Августе не удалось: наконец-то в Иерусалим прибыл гонец, посланный Феодосием, и объявил, что настала пора собираться в Константинополь. Но Евдокия ехать наотрез отказалась[116]; не захотели возвращаться туда и священник Север, и диакон Иоанн. Только Приск, забрав опечаленную Гонорию, на которую распространялся ещё и приказ её матери, которой стало ведомо пребывание дочери в Иерусалиме, вскоре выехал. Через какое-то время крытая повозка с секретарём византийского императора и римской Августой уже въезжала в южные ворота Антиохии Сирийской, где решено было сделать по пути в столицу Византии первую остановку для отдыха.
Но отдохнуть как следует не удалось.
Гонория заметила, что какие-то подозрительные личности, поддерживая левой рукой полы одежды, как будто что-то пряча, группами по нескольку человек собирались в людных местах: на базаре, на пристани, возле каменных солдатских казарм, вели какие-то речи и вмиг рассеивались при появлении конных кандидадов[117], вооружённых дротиками и акинаками.
К вечеру, как доложила Гонории служанка, которую подарила Евдокия вместо исчезавшей Джамны, из Александрии прибыла ещё большая толпа народу и высадилась на пристани Антиохии: эта толпа уже была посмелее... Она открыто задирала своего бывшего патриарха Кирилла, называя его убийцей и пособником сатаны.
— Два года назад этот красавчик[118] меня исповедовал. Потом открыл дверь исповедальни и говорит: «Заходи, милая, я пощупаю, нет ли у тебя на пупке грешной мозоли...» Я, дура, ничего не подозревая, зашла к нему. «Только щупать буду, — снова Кирилл говорит, — своим рогом...» Щупал, щупал рогом вокруг пупка, ниже полез да и влез между ног... Только я ощутила не один рог, а целых три...
— Как это три? — утирая выступившие от смеха слёзы, недоумевали слушающие.
— А вот так... Один его, а два сатаны...
Кто-то, оценивая фигуру дородной женщины с огромной высокой грудью и широкими, как мясная лавка, бёдрами, заключил:
— Дак в неё не то что три, а целых десять зараз влезет...
— Истинно, истинно! — завопил какой-то монашек, осеняя себя крестным знамением. — Кирилл с сатаной якшался, в ересь впадши; по стопам еретика Евтихия пошёл. Монофиситы... Тьфу! Мы их ещё осудим...
— Вы, Божьи люди, только собираетесь таких, как Кирилл, судить, а мы их сегодня судим, — заявил угрюмого вида мужик со шрамом во всё лицо. Из-под полы его одежды торчал на длинной рукоятке топор, похожий на топор франкского воина.
Изучая историю раннего христианства, нельзя не заметить, что его последователи, несмотря на то, что многие из них обладали светлым умом, легко впадали в разную ересь. Казалось бы, Кирилл Александрийский и его сторонники, стоящие поначалу на путях истинного православия, так до конца и будут возвышаться столпами над несторианами или другими еретиками. Ан нет, они как-то быстро уклонились в сторону так называемого монофиситства (от греческого «миа фасис» — одна природа), основателем которого считался константинопольский архимандрит Евтихий, который учил, что Христу присуща одна природа — божественная, и что Иисус «неединосущный нам» и поэтому чужд человечеству...
Гонория совсем редко стала видеть Ириска, который часто пропадал в сенате, и римская Августа думала, что он бывает гам неспроста, и пребывание его, конечно, связано с волнениями в городе... А толпы народа с криком: «Иоанн Вандал!» уже начали грабить купеческие и рыбные на пристани лавки, добывая себе пропитание.
— Иоанн Вандал... А это кто такой? — спросила Гонория Ириска, который с утра не пошёл в сенат.
— Возлюбленный философессы и математика Александрийской академии Ипатии, зверски убиенной по приказу Кирилла, — ответил Приск. — Иоанн Ванда! поднял народ, призывая на борьбу с патриархом. Но Кирилл умер, и требования Иоанна стали жёстче — уже против всех угнетателей, так как к восстанию примкнули обедневшие крестьяне и ремесленники, задавленные непомерными налогами... Уже раздаются призывы идти на Константинополь. Я послал гонца с письмом к Феодосию, изложив ему обо всём происходящем. Пусть принимает меры, а мы завтра выезжаем... Позже, когда начнётся резня и всё займётся пожарами, труднее будет добраться до столицы.
«Приск — чиновник императора и останется таким... Если вода долго омывает камень, то делает его гладким, так и человека обкатывают жизненные обстоятельства... — подумала Гонория. — Но у Приска есть сердце и чувство сострадания... Если будет надо, то я воспользуюсь его услугами...»
Римская Августа была уверена, что в столице Византии Пульхерия уготовила ей тюрьму; в лучшем случае — монастырскую келью... И позже, глядя в незадёрнутое занавесью окно повозки, под цокот лошадиных копыт Гонория старалась найти ответ на вопрос: сумеет ли она, когда окажется далеко от императорского двора в ссылке, наладить связь с миром, чтобы облегчить свою участь?..
По принятию гонца от Приска Феодосий распорядился собраться в тронном зале приближённым, где и зачитал письмо своего секретаря.
— Всегда говорил, что зло рано или поздно проистечёт от Кирилла и Евтихия, воинствующих в своей ереси, — произнёс константинопольский патриарх Флавиан, недавно сменивший Прокла; ему тоненьким голоском подпел теолог Евсевий.
Флавиан и Евсевий были ярыми врагами монофиситов, ненавидели «бунтовщиков в христианстве» Кирилла и Евтихия.
Евнух Хрисанфий тоже не упустил случая осудить «деяния» монофиситов, но своё острое жало он направил в одного Кирилла.
— Враг Христа, он же был и врагом своих прихожан. Он польщался не только на замужних женщин и вдов, но и покушался даже на девственниц...
Евнухом возводилась явная клевета на скончавшегося два года назад патриарха Александрийского, но в обстановке разворачиваемых чрезвычайных событий в империи и клевета легко сошла за правду ещё и потому, что Афинаида-Евдокия привечала в своё время Кирилла.
Флавиан и Евтихий благодарно посмотрели в сторону Хрисанфия, а тот остался доволен тем, что приобрёл в лице двух влиятельных особ в государстве ещё себе сторонников.
Сообща решили послать навстречу Иоанну Вандалу войска под предводительством полководцев Ардавурия и Арсеса. Бунтовщики были вскоре разбиты, а самого Иоанна Вандала захватили в плен и доставили во дворец. Мятежника ожидала смертная казнь. Но, узнав причину его бунта, вызванного страшной расправой сторонников Кирилла над бедной Ипатией, император задумал сохранить Вандалу жизнь, но Хрисанфий подстроил убийство пленника прямо во дворце. Зачем он это сделал?.. И когда Хрисанфий в 450 году был сослан по обвинению в симпатиях к Флавиану и его взглядам, осуждённым Ефесским собором 449 года, и евнуху задали этот же вопрос, он промолчал. Не мог же Хрисанфий ответить, что хотел показать, будто в то время его власть была выше власти императора...
VI
На острове Лемнос, что находится напротив Геллеспонта, ещё при Константине Великом в честь Воздвижения Креста Господня, найденного в Иерусалиме его матерью Еленой, был построен женский монастырь, куда и отвезли по приказанию Пульхерии римскую Августу.
Остров располагался в Эгейском море, которое македонские славяне издревле именовали Белым, но с тех пор, как ромеи захватили Иллирик и Фракию, а также все острова в этом море, Белым его можно было назвать не иначе, как рискуя жизнью... Но когда часть иллирийцев, фракийцев и македонян приняли участие в походах Аттилы на Константинополь, море Эгейское в их устах открыто стало носить своё первоначальное имя, чем славяне очень гордились.
Они принимали участие в походах великого гунна на ненавистную им Восточную империю дважды: в 441 году и 443-м. Правда, в результате побед славянам доставались крохи, так как всё золото и драгоценности шли в казну повелителя, даже сами гунны жаловались, что им как победителям тоже перепадает малая толика завоёванного.
Но эти разговоры длились до тех пор, пока воины из дворцовой стражи не расстреляли из луков нескольких недовольных своих соплеменников, применив железные свистящие стрелы...
Но этими же придуманными некогда шаньюем Модэ стрелами Аттила перед строем награждал особо отличившихся в боях воинов, и каждый гордился числом железных свистящих стрел, находящихся в ею колчане, как римлянин или византиец гордился победным лавровым венком.
Последний поход на Константинополь Аттила предпринял, когда возглавил объединённое после гибели Бледы двухсоттысячное войско, в котором помимо прочего находились повозки и кибитки жён, стариков и детей. По мере продвижения к Византии в это смешанное войско вливались толпы угнетённых ромеями народов, так что, когда войско остановилось в окрестностях Аркадиополя, одолев его штурмом, то оно насчитывало уже больше трёхсот тысяч отборнейших воинов.
В императорском дворце заметались, понимая, что гуннами будет взята столица, если Аттила продолжит своё победное шествие. Только откуп снова может спасти ромеев. Феодосий шлёт гонца за гонцом с уверением покорности и дачи ежегодной дани, но слышит в ответ грозный рык степного повелителя:
— Не верю!
Аттила знал, что императорская казна расстроена из-за внутренних междуусобиц: ценой больших финансовых и военных потерь подавили восстание Иоанна Вандала, а до этого усмиряли димов...
К 445 году цирковые партии народа — димы — из спортивных становятся политическими. И к этому же году относится самое раннее известие о кровопролитиях, учинённых враждующими группировками димов в столице Византии.
Никаких объяснений Аттила и слышать не хотел: ему нужны четыре тысячи золотых либров, по две тысячи ежегодной дани, которую не платила ему два года Восточная империя. Конные передовые отряды гуннов уже рыщут в окрестностях Константинополя, поднимая на копьё всех без разбору — стариков, женщин, детей, священнослужителей, монахов и принося их в жертву своему кровожадному богу Пуру. Дым от жертвенных костров проникает в узорчатые, сложенные из мозаик окна дворца, забивает лёгкие царедворцев.
А по стране скачут сборщики, посланные василевсом, выбивая плетью налоги не только за год предыдущий, но и за тот, который ещё не наступил.
Наконец четыре тысячи собраны, и Феодосий отправляет их Аттиле, униженно прося принять их и отойти в свои земли... Тот взял золотые и отошёл, хвастливо заявив, что земли его — весь мир...
«Не такой уж Бич Божий бессердечный человек, — думает император. — Недаром он возит с собой «святого епископа»... Аттила имеет сердце, и значит, он смертен... И надо бы его отравить... Ибо Аттила не только Бич Божий, он — страшная чума!»
Только с этой задумкой вышла конфузия... Тогда это слово находилось в частом употреблении: от латинского confusio — замешательство, смущение.
Что же произошло?
Обратимся к Приску, оставившему нам несколько исторических отрывков, используемых в основном писателем Иорданом. Полностью, к сожалению, история, написанная Приском, не дошла до нас; также не дошли до нас и его заметки о поездке в Иерусалим. Как и Иордан, будем излагать отрывки Приска своим словами, закавычивая лишь те места, рассказывающие о событиях, о которых лучше, чем он сам, не скажешь...
В 448 году Аттила, требуя ещё выдачи всех его перебежчиков и устроения торжищ на византийской земле на равных правах и без всякого опасения для гуннов, отправил в Константинополь своего посла Эдикона, скифа. Аттила послал с ним хартию, в которой снова грозил войной, если император не выполнит всех его требований. Задумав извести правителя гуннов, Феодосий и Пульхерия приказали Хрисанфию найти «ключик», с помощью которого можно было бы подкупить Эдикона, справедливо полагая, что это сделать нетрудно, потому что Эдикон — не гунн, а скиф — представитель побеждённого Аттилой народа. Эдикон согласился.
Договорились так: как только скиф отравит или убьёт повелителя, тогда и получит золото. Много золота.
Заверив, что все требования Аттилы будут выполнены, император отправил из Константинополя своего посла грека Вигилу, держащего в руках все нити заговора, и ни о чём не подозревавшего фракийца Приска.
Прибыв к берегам Истра, греческое посольство через несколько дней встретилось с Аттилой, развлекавшимся в эти дни охотой. Повелитель гуннов уже знал о заговоре на его жизнь; Эдикон по приезде из Византии сразу же доложил ему об этом и о той хитрости, на какую он пошёл, согласившись якобы осуществить заговор...
— Убить меня хочешь? — зло вращая глазами, спросил темнолицый Аттила, покручивая волосы редкой бороды.
— Повелитель, я согласился, но это не значит... — начал оправдываться Эдикон.
— Знаю... — перебил его Аттила. — Я пошутил...
«Ничего себе шуточки! А меня холодный пот прошиб...» — подумал скиф.
— Сделаем так. Ты скажешь Вигиле, что убьёшь меня в том случае, сети он привезёт тебе обещанное золото. Будет золото — станет мёртвым Аттила, не будет золота — ты меня и пальцем не тронешь...
«Какой-то жуткий разговор получается... — отметил про себя Эдикон. — Но надо терпеть до конца...»
— Понял меня? — строго спросил повелитель.
— Понял, величайший.
Эдикон тайно встретился с Вигилой и сказал ему так, как велел Аттила.
— Хорошо, я доложу обо всём императору, — пообещал ромей. На другой день Аттила уже официально принял греческое посольство.
«Мы вошли, — описывает этот приём Приск, — в шатёр Аттилы, охраняемый многочисленной стражей. Аттила сидел на деревянной скамье. Мы стали несколько поодаль, а посол, подойдя, приветствовал его. Он вручил ему царскую грамоту и сказал, что император желает здоровья ему и всем его домашним. Аттила отвечал:
— Пусть и грекам будет то, чего они желают мне...
Затем Аттила обратил вдруг свою речь к Вигиле, не покалывая, однако, вида, что ему что-либо известно о заговоре; он назвал его бесстыдным животным за то, что тот решился приехать к нему, пока не выданы все гуннские перебежчики. Вигила отвечал, что у них ни одного беглого из гуннского народа, все выданы. Аттила утверждал, что он византийцам не верит, что за наглость слов Вигилы он посадил бы его на кол и отдал бы на съедение птицам и не делает этого только потому, что уважает права посольства».
После приёма Вигила с гунном Ислоем, которою послал Аттила, отправился к императору в Византию будто бы собирать беглых, а на самом деле за тем золотом, которое было обещано Эдикону.
Приск и другие члены греческого посольства выехали следом за Аттилой в селение, расположенное дальше к северу.
«Наконец, переехав через некоторые реки, — продолжает Приск, — мы прибыли в одно огромное селение, в котором был дворец Аттилы. Этот дворец, уверяли нас, был великолепнее всех дворцов, какие имел Аттила в других местах: он был построен из брёвен и досок, искусно вытесанных, и обнесён деревянной оградой, более служащей к украшению, нежели к защите. Недалеко от ограды стояла большая баня...»
На рассвете следующего дня Приск с дарами отправился к сармату Огинисию, влиятельному человеку в окружении Аттилы. Ожидая у ворот Огинисиева дома, пока тот примет его, Приск увидел, судя по одежде, с головою, остриженной в кружок, гунна, который подошёл к нему, приветствуя Приска на греческом языке.
Приск очень удивился, зная, что гунны почти не говорят по-гречески, а этот был по виду знатным человеком. Приск спросил его, кто он такой.
— Я, как и ты, ромей.
Изумлённый Приск узнал, что до того, как попасть в плен к гуннам, этот ромей жил богато в одном византийском городе на Истре; при разделе пленных он попал к Огинисию, потому что богатые люди и их имущество после Аттилы доставались на долю его вельможам.
— После я много раз отличался в сражениях против своих, — признался грек, — и, отдавая своему господину, по гуннскому закону, добытое мной на войне, получил свободу... Женился на гуннской женщине, прижил детей и теперь благоденствую. Огинисий сажает меня за свой стол, и я предпочитаю настоящую свою жизнь прежней, ибо иноземцы, находящиеся у гуннов, после войн ведут жизнь спокойную и беззаботную; каждый пользуется тем, что у него есть, и никем не тревожится...
Далее перебежчик стал расхваливать порядки Аттилы и поносить римско-константинопольские, обвиняя императоров и придворных в жадности, лени, жестокости, небрежении интересами государства, взимании высоких налогов. Приску ничего не оставалось делать, как привести в оправдание разумные законы и славные деяния предков.
— Да, — согласился его оппонент, — законы хороши и оба римских государства прекрасно устроены, но начальники вредят им, ибо не похожи на древних.
Таким образом своим рассказом грек подтвердил, что гунны вовсе не были такими уж жестокими и кровожадными чудовищами, как их описывают готы, сделал вывод Приск.
После вручения даров Огинисию, Приск с другими послами был приглашён к обеденному столу Аттилы.
«В назначенное время пришли мы и стали на пороге жилища Аттилы. Виночерпцы, по обычаю страны своей, подали чашу, дабы и мы поклонились хозяину прежде, чем сесть. Вкусив стоя из чаши и, сделав поклон, мы пошли к седалищам, на которые надлежало нам сесть и пообедать.
Скамьи стояли у стен по обе стороны. В самой середине сидел Аттила. Первым местом для обедающих почитается правая сторона от Аттилы; вторым — левая, на которую и посадили нас.
Когда все расселись по порядку, виночерпец подошёл к Аттиле и поднёс ему чашу с вином. Аттила ваял её и приветствовал того, кто был в первом ряду. Тот, кому была оказана честь приветствия, вставал; ему было позволено сесть не прежде, чем Аттила смог отведать вина. По оказании такой же почести второму гостю и следующим за ним гостям, Аттила приветствовал и нас, наравне с другими, по порядку сидения на скамьях. После того, как всем была оказана честь такого приветствия, виночерпцы вышли. Подле стола Аттилы поставили столы на трёх, четырёх или более гостей, так, чтобы каждый мог брать из положенного на блюде кушанья, не выходя из ряда седалищ. Затем вошёл служитель Аттилы, неся блюдо, наполненное мясом. За ним прислуживающие другим гостям ставили на столы кушанья и хлеб. Для других гуннов и для нас были приготовлены яства, подаваемые на серебряных блюдах, а перед Аттилою ничего больше не было, кроме мяса на деревянном подносе. И во всём прочем он показывал умеренность. Пирующим подносимы были чарки золотые и серебряные, а его чаша была деревянной. Одежда на нём была также простая и ничем не отличалась, кроме опрятности. Ни висящий при нём меч, ни застёжки на обуви, ни узда на его лошади не были украшены золотом, каменьями или чем-либо драгоценным, как водилось у других гуннов».
«После того как наложенные на первых блюдах кушанья были съедены, мы все встали, и всякий из нас не ранее пришёл к своей скамье, как выпив прежним порядком поднесённую ему полную чашу вина и пожелав Аттиле здравия. Изъявив ему таким образом почтение, мы сели, а на каждый стол было поставлено второе блюдо с другими кушаньями. Все брали с блюда, вставали по-прежнему, потом, выпив вино, садились».
«С наступлением вечера зажжены были факелы. Два гунна, выступив против Аттилы, пели песни, в которых превозносились его победы и оказанная в боях доблесть.
Собеседники смотрели на них: одни тешились, восхищались песнями и стихами, другие воспламенялись, вспоминая о битвах, а которые от старости телом были слабы, а духом спокойны, проливали слёзы.
После песен и стихов какой-то юродивый выступил вперёд, говорил странные, вздорные, не имеющие смысла речи и рассмешил всех.
За ним предстал собранию горбун Зеркон Маврусий. Видом своим, одеждою, голосом и смешно произносимыми словами, ибо он смешивал языки латинский с готским и гуннским, он развеселил присутствующих и во всех них, кроме Аттилы, возбудил неугасимый смех. Один Аттила оставайся неизменным и непреклонным и не обнаруживал никакого расположения к смеху».
На другой день Огинисий сказал ромеям, что Аттила хочет их отпустить. Потом правитель держал совет с своими сановниками и сочинял письма, которые надлежало отправить в Византию.
«Между тем, — продолжает Приск, — супруга Аттилы Крека пригласила нас к обеду у Адамия, управляющего её делами. Мы пришли к нему вместе с некоторыми знатны ми гуннами, удостоены были благосклонного и приветливого приёма. После обеда мы пошли в свой шатёр и легли спать.
На другой день Аттила опять пригласил нас на пир. Мы пришли к нему и пировали по-прежнему. Во время пиршества Аттила обращал к нам ласковые слова. Мы вышли из пиршества ночью. Во время этих пиров наравне с вином подавали мёд и особый напиток — кам».
По прошествии трёх дней послы были отпущены с приличными дарами и на возвратном пути встретились с Вигилой, который вёз теперь золото для передачи Эдикону. Как после стало известно Приску, Аттила заставил Вигилу рассказать, как они хотели убить его, и отобрал у посла всё золото. Вигила находился в ударе от того, что заговор раскрыли.
Затем Аттила послал в Византию снова своего посла Ислоя и преданного Ореста, «домочадца и писца», как его называл сам повелитель.
«Оресту приказано было навесить себе на шею мошну, в которой Вигила привёз золото, в таком виде предстать перед царём, показать мошну ему и евнуху Хрисанфию, первому заводчику заговора, и спросить их: узнают ли они мошну? Послу Ислою велено было сказать царю изустно: «Ты, Феодосий, рождён от благородного родителя, и я сам, Аттила, хорошего происхождения и, наследовав отцу моему, сохранил благородство во всей чистоте. А ты, Феодосий, напротив того, лишившись благородства, поработился Аттиле тем, что обязался платить ему дань. И так ты нехорошо делаешь, что тайными кознями, подобно дурному рабу, посягаешь на того, кто лучше тебя, кого судьба сделала твоим господином.
Таков был Аттила, повелитель грозных гуннов».
А Феодосию сделалось не по себе, когда он увидел, что заговор против Аттилы раскрыт, и гуннских послов за дерзостные речи никак не накажешь, ибо за это кровью платить придётся. А чтобы выручить Вигилу, снова ту мошну наполнили золотом. С ним и отбыли к своему правителю Ислой и Орест.
Только что закончилась заутреня.
Инокини расходилось по своим кельям, незаметно от настоятельницы потирая колени, на которых подолгу стояли на каменном неровном полу молельни.
До начала работ на монастырском дворе оставалось время, и Гонория свернула за притвор церкви Воздвижения Креста Господня. Оказавшись с западной стороны храма, пошла по узкой, выложенной булыжниками дорожке наверх. Вскоре Гонория достигла ровной площадки, выбитой в скале, и остановилась.
Отсюда хорошо были видны каменные стены монастыря, тянувшиеся понизу до самого уреза морской воды; с запада и востока они поднимались кверху и замыкали над головой эти стороны.
Колокольня стояла отдельно от церкви, как раз у верхней стены и, чтобы рассмотреть большой колокол, нужно поднять глаза, а опустив их, увидишь изумрудные волны у самого берега; дальше, где маячат рыбацкие учаны, волны приобретают голубой цвет, но на горизонте делаются совершенно белыми; вот почему прибрежные жители-славяне зовут Эгейское море Белым.
Там, по белым водам, ходят, как правило, большие корабли; и Гонория заметила, что их бывает особенно много, когда на империю накатывается очередной вал гуннов; тогда знатные вельможи с семьями, чтобы избежать смерти, садятся на свои корабли, и те дрейфуют на горизонте, не опасаясь гуннов, потому что гунны флота не имеют.
Но зато этими моментами пользуются пираты, зная, что на кораблях знатных вельмож имеется захваченное из дому золотишко. Да уж лучше попасться в руки пиратов...
Гонория смотрит сейчас в морскую даль, прислушиваясь к звону в один колокол, отгоняющему нечистую силу, а так как с моря шла на остров чёрная туча, то благовест производится, чтобы «сокрушить молнии»...
«Если бы он также сокрушал все невзгоды и напасти, кои случаются с человеком... И сколько я ни вслушиваюсь в эти звоны, сколько ни молюсь, счастья мне это не приносит. За что, за какие грехи ты, Предвечный, меня наказуешь?!»— взывает к Вездесущему Гонория.
Хотя уж который год она молится в монастыре Христу Спасителю, но в молитвах по старой арианской привычке обращается к Единому Мироздателю.
Вот и снова произошла с римской Августой беда — Гонория решила на молитву надеть на палец кольцо с драгоценным камнем (почему такая блажь пришла ей в голову, и сама не объяснит; может быть, в память о возлюбленном Евгении, так как он подарил при расставании в Анконе это кольцо). И ведь знала, что инокиням не положено носить никаких украшений.
Настоятельница, завидев кольцо, вывела молча Гонорию за руку из молельни и также молча начала сдёргивать кольцо, но оно не поддавалось, а настоятельница, всё больше стервенея и багровея лицом, хватала Гонорию уже не за палец и руку, а за шею, словно хотела задушить Августу.
Пробившись из низов в игуменьи, она ненавидела богатых вельмож и патрициев и, когда получила полную власть от Пульхерии над бедной римской царевной, дала волю своим низменным чувствам. Игуменья старалась изводить Гонорию по случаю каждого её промаха; Августа, распознав душу этой скверной девственницы, научилась потом делать всё без сучка и задоринки, чтобы не было со стороны настоятельницы никаких придирок.
И вот этот случай с кольцом... Гонория кое-как вырвалась и спряталась в келье. А чтобы кольцо не отобрали, Августа под висевшим на стене большим распятием выдолбила ямку и положила в неё кольцо, а ямку тщательно замазала глиной.
Через некоторое время в келью ворвались служанки, среди которых была и служанка Гонории, подаренная ей в Иерусалиме Евдокией вместо исчезнувшей Джамны и отобранная настоятельницей. Они перевернули ложе, заглянули в ночной горшок, перерыли одежду, обыскали Гонорию. Её служанка, глядя на бывшую госпожу, чуть не плакала; Августа видела на её глазах слёзы и жалела её...
Не найдя, служанки удалились. А вскоре нагрянула сама игуменья.
— Где кольцо?! — взревела она низким голосом.
— Я его выбросила в море, — твёрдо заявила Гонория.
— Врёшь, негодница! Но смотри у меня... — И настоятельница, громко хлопнув дверью, выскочила, словно ужаленная, в монастырский двор.
Туча всё-таки прошла остров стороной. Но колокол не утих, наоборот, зачастил, и ему тут же ответили другие; трезвон далеко и грустно, тревожа души, разнёсся над морским простором и палубой корабля, причалившего к берегу.
Этот трезвон был вызван печальным сообщением с корабля о смерти Феодосия II.
Потом Гонория увидела, как с палубы сошёл человек, и она узнала в нём Приска. Августа, подобрав полы чёрной длинной монашеской одежды, быстро стала спускаться вниз. С ходу налетела на входившего в монастырские ворота бывшего секретаря императора и повисла у него на шее.
— Юста Грата Гонория, теперь ты свободна! — объявил Приск, радостно пожимая ладонями её руки.
Он отнял Августу от себя и узрел, как из глаз её неудержимым потоком полились слёзы.
Приск подал настоятельнице письмо, в котором говорилось, что отныне Гонория будет снова жить во дворце. Со смертью брата Пульхерия решила сделать двоюродной сестре послабление, чтобы показать, что не она, а якобы Феодосий был причиной гонений римской Августы. Хитрая бестия!.. И когда Гонория прощалась с инокинями, то и настоятельница была подчёркнуто вежлива. А Августе хотелось изругать её и избить, но, сдерживая себя, подумала:
«Ведь она такая же подневольная, как и служанки... Да, надо свою-то забрать. Не оставлять же её в монастыре!»
— Приведите мою служанку, — повелительным голосом сказала Гонория, и все поняли, что годы, проведённые в монастыре, не сломили её воли и не истребили её властности.
Привели служанку, и она предстала перед госпожой не такой замарашкой, какой видела её Гонория в последний раз, а в новенькой одежде и чистом белом переднике.
Феодосий всегда относился к Гонории (и это она хорошо знала) благосклонно, и поэтому, взойдя на борт корабля, спросила Приска:
— А отчего умер василевс?
— На охоте упал с коня, а на следующий день, 27 июля, скончался от полученного ушиба.
— Жалко мне его... Феодосий был куда милосерднее своей родной сестры... — Гонория показала Приску кольцо, которое она забрала из хранилища под медным распятием в келье. — Самое последнее моё унижение я претерпела из-за этого кольца, когда надела его, идя на молитву... Игуменья чуть не оторвала его вместе с пальцем... А ведь она действовала во всём по указке Пульхерии, хотя последняя это старается скрыть... Но, слава Богу, всё позади... — Августа перекрестилась на удаляющиеся золотые купола монастырской церкви.
Гонория наивно думала, что «всё позади»): во дворце её поместили в гинекей в одну из комнат с двумя колоннами, ночным ложем и медной скамьёй: два окна, выходящие в узкий переход, ведущий во внутренний двор, не открывались и были выложены цветной мозаикой, через которую ничего нельзя увидеть, — та же монастырская келья, да ещё у входа стояли два стража, коим приказано пускать к римской Августе определённых лиц.
Находясь среди стен, расписанных на сюжеты из Библии, скучая и злясь, Гонория часто вспоминала Евдокию. Где она? Что поделывает? Знает ли, что умер её муж?..
Иногда мысли уносились в равеннский дворец. Плацидия... «Ведь она моя мать... Сколько времени будет ещё мучить меня?.. Ладно, Плацидия — развратная из развратнейших женщин, а Пульхерия?.. Эта жадная до власти девственница, пожалуй что, грешнее своей римской тётки: Пульхерия каждый день отдаёт приказы о смертной казни, она так задавила налогами всех в империи, что даже у людей некогда блистательного состояния побоями вымогают золото. Так рассказывал Приск; и люди, издавна богатые, дошли до того, что выставляют на продажу уборы жён и свои пожитки. Многие уморили себя голодом или прекратили свою жизнь, надев петлю на шею... А уж о бедных крестьянах или горожанах и говорить ничего: они бросают землю, дома и либо разбойничают, либо, покинув пределы державы, вливаются в ряды гуннов».
Приск также рассказал Гонории о том, как он с посольством посетил становище Аттилы и описал портрет и привычки гуннского правителя. Из этого рассказа Августа уяснила одно: Бич Божий совсем не таков, как изображают его готы, он не кровожадный зверь, но рисуют таким, потому что боятся... Боятся не только в империи ромеев, но и в Риме. Поговаривают, и об этом Гонории тоже сообщил Приск, что Аттила уже вострит копи на запад, и скоро можно ожидать появления несметного гуннского войска даже на Апеннинах...
И тут пришедшая в голову римской Августе мысль будто молнией обожгла... «Я предложу Аттиле себя в супруги... Через Приска передам ему кольцо и письмо, в котором сообщу гуннскому правителю, что в приданое потребовала от брата Валентиниана и Галлы Плацидии часть Римской империи, потому что я имею право, как Августа претендовать на неё...»
Гонория внимательно посмотрела на Приска: согласится ли он передать кольцо и письмо?.. Знала, чем это грозит бывшему секретарю императора. В лучшем случае — невозвращением в Константинополь.
— Приск, помоги мне... — взмолилась царевна, когда он в очередной раз зашёл к ней.
— В чём же будет заключаться моя помощь, несравненная Августа? Ты же знаешь, что я для тебя сделаю всё, о чём ни попросишь...
И Гонория поведала ему о своём решении; поначалу Приск не мог выговорить ни слова, потом до него постепенно стал доходить зловещий смысл этого решения, но по всему было видно, что Августу уже не переубедишь. Она лучше умрёт, но не станет больше находиться в том неестественном для царевны положении, в котором она и так уже пребывает больше десяти лет... Чаша терпения переполнилась, и Гонория будет стоять на своём до конца.
— Я выбрала свою судьбу! — заключила она свою просьбу.
Приск хорошо её понимал, ибо давно являлся свидетелем её унижения.
— Бери стило и пиши: первое письмо — Аттиле, второе брату и матери... Эти письма и кольцо я согласен передать по назначению, — твёрдо заявил Приск.
Он тоже выбрал свою судьбу...
Гонория склонилась над столом; по тому, как вздрагивали её плечи, Приск видел, что каждая строчка даётся ей с великим трудом.
Обращаясь к Аттиле, она подробно описала о всех своих мучениях, которые претерпела по вине матери и брата, боявшихся, чтобы она, не дай Бог, вышла замуж... Теперь же она хочет иметь супруга, который сеет по земле смерть не ради пролития крови, а ради взращивания на ней ростков справедливости, ибо земля эта погрязла в разврате богатых и несчастьях бедных... Желая быть женой Аттилы, Гонория ищет у великого поборника правды защиты от жестокости злых людей и просит у него вызволения её из плена...
А в другом письме Августа в категорической форме потребовала от брата и матери северную часть Италии вместе с Равенной.
Она закончила писать, в изнеможении откинулась — перед нею вдруг открылись все беды, которые обрушатся на её народ в связи с гуннским нашествием... Но «Рубикон перейдён», и дальше возврата нет!
Потом Приск молча взял кольцо и два письма, поклонился Августе и вышел: одно письмо он сразу передаст Аттиле и, если тот согласится взять в супруги Гонорию и примет кольцо, то второе письмо Приск уже направит Валентиниану III и Галле Плацидии не только от имени Гонории, но и грозного Аттилы, требующих в приданое ту часть Римской империи, которая им положена...
ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ КАТАЛАУНСКИЕ ПОЛЯ
I

В тюменях Эдикона и Ислоя, вернувшихся из становища Бледы с его огрублённой головой, сразу же произошли возвышения начальников: те, кто были десятниками, стали сотниками, а каждый сотник получил под командование тысячу.
Простые воины, отличившиеся выносливостью в этом походе (сражений-то не случилось!), были награждены железной свистящей стрелой.
Десятник Юйби и молодой воин Хэсу, которые вручили Аттиле голову Валадамарки, также продвинулись по службе — Юйби получил под своё начало сотню воинов, а Хэсу — десять. Теперь они могли включить в свой гарем ещё по две жены.
Эдикона, как и Ислоя, Аттила поставил командовать тремя тюменями; и их воины вошли в число одиннадцати колец, расположенных вокруг юрты повелителя. Доступ к Аттиле намного затруднился, но не настолько, чтобы гонец с копьём, на котором развевалась красная лента, говорящая о срочном донесении, не был бы немедленно принят.
Чтобы не обижать своего любимца сармата Огинисия, хотя и не участвовавшего в низложении Бледы, правитель за былые военные заслуги придал ему в подчинение ещё два тюменя.
Таким образом, в одной сотне тысяч войска, главной силы повелителя, шестью тюменями командовали двое и один — четырьмя. Эту сотню тысяч возглавлял убелённый сединами старейшина Гилюй. Была у Аттилы и другая сотня тысяч, которая подчинялась старейшине Шуньди. А ста тысячами, ранее стоявшими на берегах Прута, управлял старейшина Увэй. Теперь он перекочевал в Дунайскую долину вместе со всем своим хозяйством — со стадами, табунами лошадей, семьями, рабами и пленными. И все увидели, как сделалось тесно...
Ещё и поэтому Аттила послал Увэя в 449 году, за год до смерти императора Феодосия, в сторону Константинополя... Сам же Аттила, имея теперь трёхсоттысячное войско, мог диктовать свои условия не только Восточной империи, но и Западной, да и вестготам тоже, находившимся, казалось, далеко — в Галлии.
Ещё до получения письма и кольца от Гонории, Аттила начинает сеять раздор между Теодорихом и императрицей Плацидией, простившей королю вестготов разгром Литория и заключившей союз. Вспомнил Аттила и о Гензерихе, короле вандалов, воевавшем против римлян, сидящем, как и прежде, в Карфагене и опасавшемся, как бы Теодорих не начал ему мстить за оскорбление дочери.
Гуннский правитель задабривает Гензериха подарками и просит поддержать его в войне с Теодорихом, а Теодориху пишет письмо, в котором напоминает о борьбе против него, римлян и увещевает отойти от союза с ними.
Вот она суть характера Аттилы, человека весьма хитроумного, — прежде чем затеять войну, он борется искусным притворством...
Далее события развивались так: в один из дней 450 года Приск привёз письмо Гонории и её кольцо, и тогда Аттила собрал своих приближённых и поставил перед ними следующие вопросы:
— Если я возьму в супруги сестру императора Валентиниана, за которого до сих пор империей правит его мать Галла Плацидия, значит, мы должны будем в открытую сразиться с Римом, так как они мне Гонорию не отдадут... Готовы ли мы к этому?.. Брать ли мне в жёны такую невесту?
— Брать! Готовы! — прокричали на совете более молодые.
Старшие Гилюй и Огинисий рассудили примерно одинаково:
— После походов на Восточную империю мы заставили её платить дань, и поэтому закономерным станет наш следующий шаг — заставить платить дань и Западную... Мы же не можем всё время сидеть на Дунайской равнине, ибо наша жизнь — это движение вперёд...
— Хорошо сказано! — воскликнул Аттила, и у него заблестели глаза. — Я напишу тогда письмо новому василевсу империи ромеев Маркиану, где потребую выдать мне Юсту Грату Гонорию, которая уже давно томится под присмотром его жены Пульхерии. А потом пошлю гонца в Равенну.
Оставшись один, бывший константинопольский сенатор Маркиан огляделся по сторонам и, убедившись, что за ним никто не наблюдает, приподнял полы порфиры и полюбовался пурпурными башмаками-кампагиями. «Боже, неужели на самом деле я — василевс, император?! Неужели судьба вознесла меня так высоко, что выше того на земле не бывает... Да, теперь Пульхерия довольна, что трон мы всё же удержали в своих руках после смерти её брата, не оставившего после себя наследника... Она пошла даже на то, чтобы стать моей женой... Но какая она мне жена?! Предложила себя в супруги и, смешно сказать, взяла с меня слово, чтобы я отнёсся к обету её девственности с уважением... Я согласился, императорский трон стоит холодной постели. Хотя, слава Господи, Пульхерия разрешила мне спать со всеми, с кем захочу... И то ладно!»
Высокий, с лицом, отмеченным суровой красотой, с хорошо развитыми плечами, тонкий в талии, с руками, на которых играли мускулы, Маркиан[119] и сейчас мог сразиться с любым по силе противником: когда-то он начинал свою карьеру простым воином, отличившись в боях с персами. Его награждал лавровым венком полководец Ардавурий, дружил и дружит по сей день Маркиан с его сыном Аспаром.
Знаком был новый император и с Гензерихом — находился у него в плену; король вандалов, наслышанный о подвигах Маркиана, без всякого выкупа отпустил его на свободу.
Вернувшись в Константинополь, Маркиан долгое время возглавлял дворцовую стражу, потом его избрали в сенат. И когда умер Феодосий и надо было возвести на трон неглупого, опытного и решительного человека, Пульхерия при поддержке Ардавурия и Аспара выбрала Маркиана. Став императором (короновали его 25 августа 450 года), Флавий Маркиан первым делом выпустил указ о сложении недоимок каше за десять лет, возвратил всех сосланных при Феодосии II, кроме Афннаиды-Евдокии, которую ненавидела Пульхерия, и приказал умертвить арестованного ненавистного Хрисанфия, чем сразу расположил к себе многих.
Человек сурового нрава, Маркиан и раньше с неудовольствием наблюдал порядки константинопольского двора и кое-что попытался исправить, например, запретил продажу должностей. Интриганам и бездельникам при Маркиане сделалось несладко, и многие из них покинули дворец.
Полюбовавшись башмаками, Маркиан подошёл к кафизме, украшенной золотом и драгоценными камнями, и любовно погладил подлокотники. Честолюбие обуяет и суровых людей...
В дверь постучали, в тронный зал вошёл новый секретарь императора, назначенный вместо Ириска, и протянул письмо от Аттилы, переданное через командующего Увэя, стоящего со стотысячным войском почти у самых стен Константинополя.
Правитель гуннов требовал к себе Гонорию, а также золото, причитающееся ему по договору с Феодосием II, заключённому в 449 году.
Решительный Маркиан тут же отправил римскую Августу в Равенну и, не испугавшись орды Увэя, высокомерно ответил Аттиле: «Золото у меня для друзей, для врагов — железо!»
Аттила на этот вызов Маркиана не поддался, у него теперь появился новый серьёзный враг — императрица Плацидия, которая отказала ему в руке дочери, а узнав через своих осведомителей, что гуннский правитель писал Теодориху, она срочно шлёт целое посольство к вестготам с такой речью:
«Благоразумно будет с вашей стороны, храбрейшие из племён, согласиться соединить наши усилия против тирана, посягающего на весь мир. Он жаждет порабощения вселенной, он ищет причин для войны, но — что бы ни совершил — это и считает закономерным. Тщеславие своё он мерит собственным локтем, надменность насыщает своеволием. Он презирает право и Божеский закон и выставляет себя врагом самой природы. Поистине заслуживает общественной ненависти тот, кто всенародно заявляет себя всеобщим недругом. Вспомните, прошу, о том, что, конечно, и так забыть невозможно: гунны обрушиваются не в открытой войне, где несчастная случайность есть явление общее, но — а это страшное! — они подбираются коварными засадами. Если я уж молчу о себе, то вы-то ужели можете, неотмщённые, терпеть подобную спесь? Вы, могучие вооружением, подумайте о страданиях своих, объедините все войска свои! Окажите помощь и империи, членом которой вы являетесь. А насколько вожделен, насколько ценен для нас этот союз, спросите о том мнение врага!»
Вот этой речью и подобными ею римские послы сильно растрогали Теодориха, который тоже узнал, что Аттила обращался к кровному его врагу Гензериху; и король вестготов ответил римлянам:
«Ваше желание, о римляне, сбылось: вы сделали Аттилу и нашим врагом! Мы двинемся на него, где бы ни вызвал он нас на бой; и хотя он и возгордился победами над различными племенами, готы тоже знают, как бороться с гордецами. Никакую войну, кроме той, которую ослабляет её причина, не счёл бы я тяжкой, особенно когда благосклонно императорское величество и ничто мрачное нас не страшит».
Радостно вторит королю народ; всех охватывает боевой пыл. Но до знаменитой битвы на Каталаунских полях ещё далеко...
Получив отказ от владетелей сразу двух империй — Восточной и Западной, Аттила не пришёл в бешенство соответственно, казалось бы, его душевному настрою, — нет, он, наоборот, стал спокойнее и трезво начал размышлять о своих дальнейших действиях. Прежде всего, он задумался над тем, почему так быстро согласился Теодорих выступить на стороне своих врагов — римлян.
«Неужели Аэций сумел после отъезда из моего лагеря убедить Теодориха о пользе дружбы с ним?.. И это после того, как Литорий навязал вестготам сражение! И если бы не вовремя подоспевшие галлы, то исход этого сражения для Теодориха мог быть печальным... Конечно, письмо Галлы Плацидии, посланное ему от имени императора, основанное на эмоциях (от своих лазутчиков Аттила примерно знал о содержании письма), могло как-то подвигнуть его к римлянам... Но не настолько же!.. Он же не без головы... Хотя его выступление в сенатском комитете на коллегии «пятнадцати первых» в ответ на письмо из Равенны говорит скорее о его умственном помрачении... Но он же давно снял медвежью власяницу, находившись в трауре по своей обезображенной дочери...
Причина, видимо, кроется в том, что кто-то убедил его не доверять мне. Кто-то так его напугал жестокостью моих воинов, что Теодорих немедля перекинулся к своим недавним врагам... А ведь мы с готами давно не воюем. Может быть, они боятся нас по старой привычке, когда были выдуманы ими легенды о нашем происхождении от нечистых духов и ведьм... А меня давно готские историки прозвали «Бичом Божьим»... Но меня это нисколько не задевает, больше того, я горжусь этим званием! Я, действительно, как бич, призван хлестать стоящих у власти людей, заносчивых, погрязших в разврате и относящихся к своим подданным, как к свиньям... Поэтому в империи ромеев за короткое время уже дважды происходили волнения народа, в римских провинциях без конца восстают колоны, давно неспокойно и в самом Риме... В Галлии ждут не дождутся восстать сервы и сельская беднота. А также коренные жители — галлы... А скажи я своему народу — от мала до велика — умереть за меня, и они умрут, потому что не только боятся меня, но и любят; потому что не бедствуют... Я даю им всё: я даю им движение вперёд, а значит, даю жизнь...
Галлы... Вот где собака зарыта! Теодорих боится их, хотя они и помогли ему в последнем сражении. Сейчас верховодят галлами предсказатель Давитиак и его сын. И надо будет связаться с ними. А пока нужно отозвать войско Увэя. И готовиться к походу на Галлию... Я проучу короля вестготов и заставлю его, уж коль он не захотел быть моим союзником по-доброму, силой выступить на моей стороне против заклятого Рима. Но, захватав Рим, я не уйду, кате Аларих, из него... Возьму в жёны Гонорию и сяду в нём императором... И верну былую Римской империи мощь!» — так раздумывал Аттила, гостивший у своей последней жены Креки, которая расцвета, как бутон розы, и превратилась из служанки-массажистки во властную госпожу.
Увэй не совсем полностью разделял взгляды своих старейшин, свергших Бледу, иначе бы и ему отрубили голову, но всё-таки находился на их стороне. Полководец понимал, как трудно было Бледе управлять доставшимся ему по наследству разношёрстным народом. Увэй знал это по собственному опыту — войско его было тоже настолько неоднородно, что держать его в повиновении требовалось много сил и хитрости... Другое дело, войско у Аттилы, состоящее из потомков всего лишь двух старинных родов — биттугуров и хунугуров; к роду биттугуров принадлежали знаменитый предок Аттилы Модэ, Мундзук и дядя Ругилас.
В войске же Увэя, кроме перечисленных двух гуннских родов, имелись представители алпидзуров, савиров, ултзиндзуров, альциагиров, бардаров, итимаров, тункарсов, боисков. У каждого рода были свой вождь и жрец, и гунны слушались их не меньше, чем командиров.
Белая юрта Увэя с бунчуком из белых и чёрных конских хвостов стояла на высоком холме так близко от Константинополя, что в ясную погоду можно было видеть его длинную крепостную стену.
За дерзость нового императора Маркиана следовало бы наказать, но Увэй получил строгий приказ Аттилы не предпринимать никаких действий.
Непредсказуем Аттила, не то, что его брат, у которого даже маленькая хитрость, на какую если он и был способен, лежала на поверхности. Ответ Маркиана на письмо правителя гуннов был известен Увэю, и в самый раз показать бы заносчивому василевсу силу этого самого железа...» Мои богатуры устроили бы такой тарарам, что он громом бы отозвался далеко окрест! А тут вот полёживай на верблюжьей кошме...»
Молодая невольница повернулась во сне, подогнула колени и упругими, розовыми от тепла ягодицами упёрлась в коричневый тощий живот Увэя. Полководец шлёпнул по ним ладонью, девушка вскрикнула и проснулась.
— Чего разметалась?! — недовольно пробурчал старик.
Рабыня из белолицых иллириек преданно заглянула в глаза Увэю, как бы спрашивая: что от меня сейчас нужно?.. И в выражении лица её угадывалась готовность исполнить всё, что повелит полководец... Любую его старческую прихоть...
Но у Увэя перед рассветом болели ноги, ему было сейчас не до прихотей, хотя он и мастер был их придумывать; лишь позвал табиба[120], который начал втирать какие-то пахучие мази. Потом полководец велел одеть себя, как будто точно знал, что вскоре от Аттилы прибудет гонец... Тот вручил Увэю приказ.
Полководец собрал в свою юрту командующих тюменями.
— Согласно приказу Аттилы, будем сниматься и двигаться вдоль Дуная.
Увидев на лицах темник-тарханов недовольство, ибо их богатуры уже давно настроились пограбить в окрестностях Константинополя, Увэй резко спросил:
— Вы поняли меня?!
— Поняли, — был разом дан единый ответ полководцу.
— Вот и хорошо.
Надо было срочно поднимать весь лагерь, включающий в себе стада и табуны, воинские семьи, рабов и рабынь и перестраивать всю систему несения службы. Поэтому Увэй, когда стали выходить из его юрты командующие тюменями, попросил остаться начальников разведывательного и заградительного отрядов: их возглавляли тысячники — Кучи и Аксу.
Для того, чтобы ромеи побоялись преследовать лагерь, полководец тысячнику Аксу в заградительный отряд придал ещё одну тысячу воинов.
Но, слава богу Пуру, ромеи не кинулись вдогонку, как это они иногда делали, чтобы поживиться, и Увэй без потерь довёл свой лагерь до Истра. Правда, по дороге умерли от болезни несколько стариков и старух да пали три верблюда и одна лошадь. Лошадь и верблюдов бросили в степи, а умерших довезли до великой реки и гам предали огню, ибо останавливаться, чтобы похоронить, было не валено. Ехали даже ночью. Хорошо, что над фракийскими просторами всё это время по ночам светила полная луна.
Когда доложили императору Маркиану, что гунны отошли от столицы, он не сразу в это поверил. Вечером в сопровождении схолариев[121] сам лично выехал к Харисийским воротам Константинополя, доскакав до них по главной городской улице Месе; затем взобрался на построенную заново в этом месте префектом Киром стену, с высоты которой ранее можно было наблюдать огни лагерных костров гуннов. Но точно! — костры не горели, и в той стороне, где располагалось дикое становище, стояла тишина. Лишь внизу в кустах можжевельника стрекотали кузнечики, да разводящие дежурных смен на стенах отдавали приказы, и бряцали о щиты мечами стражники.
«Какую же хитрость готовит Аттила? — задал себе вопрос Маркиан. — Не должен он простить мои дерзкие слова... А тут вместо того, чтобы усилить войско Увэя, повелитель отдал приказ об его уходе. Странно...»
На всякий случай император приказал усилить городской гарнизон одним из семи своих конных полков личной охраны.
Прошло какое-то время, и о гуннах ничего не стало слышно, как будто их совсем и не было, и уже не верилось, что они подходили вплотную к столице и что им платили немалую дань... Впрочем, у кочевых народов внезапное нападение и такое же внезапное исчезновение являлось закономерным; страшные волны дикого нашествия не раз испытывал на себе Константинополь, но, как всегда, выстаивал и, если подвергался какому-то частичному разрушению, то быстро залечивал раны, становясь ещё краше, подтверждая своим видом распространённое в Византии мнение, что Константинополь — это второй и лучший Рим, «царь городов», «царственный город».
Может быть, поэтому в столицу Византии потянулись изгнанные из Римской империи учёные, историки, писатели, риторики, даже представители «халдейской мудрости», занимающиеся магией, демонологией, астрологией.
При Феодосии II их сюда бы и близко не подпустили, и в первую очередь на защиту христианского благочестия вставала грудью сама Пульхерия, но теперь и ей должно было чем-то поступиться, как поступился Маркиан, на людях изображая влюблённого супруга. Тем более и сам император начал увлекаться чтением эллинских книг, которые привели его к мысли Платона о том, что зиждитель (демиург) — создатель мира, это Нечто — исходящее свыше, то есть являющееся излучением (эманацией) божественного. И это был уже как бы не сам Бог... Может быть, подобные чтения привели в своё время императора Юлиана к отступничеству от христианства, который любил душистые курения и при этом не уставал повторять, что благовония, поднимаясь кверху, изгоняют дурных духов и замещают их в соответствующих материях добрыми, точно так же, как в иных случаях камни, травы и тайные обряды вызывают явления божества.
Но очень верна и, кстати, евангельская притча апостола Матфея: «...пришёл его враг и посеял между пшеницей плевелы, и ушёл...»
Поглощённый в самосозерцание, не верящий в то, что гунны могут вернуться, император Маркиан почти не при дал значение просьбе «последнего великого римлянина» Аэция, уже двинувшегося со своими войсками из Рима в Галлию, подослать подкрепление против Аттилы.
Но в храмах более трезвые люди и служители Бога всё настойчивее возносили молитвы к заступнице Деве Марии и Иисусу Христу: «Помогите нам и всему христианскому миру, о, Божественная Мать и непорочно зачатый Сын, возвеличенный терниями вокруг головы, иссопом[122] и крестом, на котором ты распластал руки свои, гордость и похвальба наша...»
И, как видно, просили не зря — слухи всё же доходили до «царя городов», будто затевается на Каталаунских полях что-то чудовищное, доселе невиданное — больше миллиона человек собираются здесь, чтобы сразиться между собою...
Увэй со своим лагерем шёл в Маргус, в город, расположенный в месте слияния Моравы и Дуная. Опасаясь, как бы по незнанию полководец не стал грабить славян и забирать к себе их красивых женщин, как это делалось иногда при Бледе, Аттила навстречу выслал сотника Юйби и десятника Хэсу.
Юйби — кривоногий гунн, с блестящим бритым затылком, мощной шеей, на которой плотно сидела большая голова, с глазами, широко расставленными и узкими, опущенными книзу усами и редкой бородой и руками, перевитыми толстыми жилами, являлся типичным представителем знати своего народа. Хэсу, хотя и тоже гунн, скорее походил на сармата — с копной рыжих волос, но не на такой большой, как у прочих, голове, зелёными, чуть продолговатыми глазами и скуластым красивым лицом. С сотником он не только разнился внешностью, но и возрастом, да ещё и характером — Юйби степенный, немногословный, пожилой мужчина, Хэсу — порывистый, любивший шутку и особенно женщин.
Раньше, как простому воину, Хэсу полагался гарем из двух женщин. Только какой же это гарем?! Одно название... Говорят, что гарем у персов состоит из ста, а у царя — пятисот и более жён. Правда ли это?.. Или люди всего лишь придумывают?.. Да когда же царь успевает всех жён оприходовать?! Вот когда Хэсу стал десятником и у него появились ещё две жены, из которых последняя оказалась моложе его на восемь лет (Хэсу шёл двадцать четвёртый год), и была она из гречанок, очень страстная, так что после проведённой с ней ночи десятник чувствовал себя как после сражения, в котором махал мечом несколько часов подряд... А тут — подумать только — пятьсот жён! Что-то не так; неправду говорят люди...
Конь Хэсу выскочил на высокий холм. С холма, теряя перья, тяжело поднялся орлан и, набрав высоту, скрылся в той стороне, откуда, медленно ворочая тёмными водами, тек Дунай. Отсюда, с высоты, открывался хороший вид на славянское селение, раскинувшееся на краю леса возле речки Дые. Рядом с селением возвышалась гора Девин; связанная с идеей неба, с культом славянского бога Сварога, она ещё называлась Красной горой и являлась как бы самой ближайшей к небу точкой земли; на ней и приносились жертвы...[123]
Вскоре на вершину холма прискакали десять всадников, десять подчинённых Хэсу, и он, приказав им оставаться здесь, начал спускаться вниз.
Десятник достиг подошвы холма и, скрываясь в высокой ковыльной траве, достающей метёлками лошадиной гривы, повернул коня к тому месту, где, утопая в зелени ив, река делала крутой поворот. Вскоре услышал красивое женское пение, частые удары будто бы доскою по влажной земле, плеск воды и взвиги... Хэсу присел, но по тому, как высоко летели брызги, он догадался, что в реке купались девушки; затем он увидел разостланные по берегу цветные дорожки, кладущиеся на полу7 в светлой избе славянина. Сейчас на них, высоко подоткнув за пояс юбки, девицы, почти юницы, лили из туесов воду, а женщины, стоя на коленях тоже с задранными подолами, били по дорожкам деревянными вальками и красиво тянули песню.
Хэсу и раньше приходилось иметь дело со славянами, он немного знал их язык; с трудом, но разобрал, что пели женщины о мужьях, ушедших на войну, и часто в песне повторялся вопрос: «Вернётесь ли вы?.. Вернётесь ли вы?.. А если вернётесь, — далее пелось, — то когда: на восходе солнца иль на закате дня?..»
Одна женщина подняла голову, вгляделась, но, кажется, Хэсу не заметила. А он привстал, перевёл глаза на купальщиц: льняные волосы, словно одуванчики, пузырились вокруг голов плывущих к берегу, и вот девушки начали подниматься на него — и у Хэсу мелко-мелко застучали от волнения зубы: обнажённые молодицы, одна прекраснее другой, ступали длинными стройными ногами на зелёную траву, и груди девушек, упругие, выпукло-гладкие, как животик ягнёнка, торчали сосками вперёд, а ягодицы лоснились, как круп сытого коня... Грациозно изогнувшись, они поймали на спине свои волосы и, зажав их в ладонях, стали отжимать. Некоторые повернулись лицом к Хэсу, и он бессовестно созерцал, то и дело сглатывая подступавшую к горлу слюну, тёмный треугольник их запретного места; волосы на лобках славянок были светлее волос его жён, и ему захотелось прикоснуться к ним пальцами... Но тут конь, фыркнув, замотал головой, звеня уздечкой, и девушки бросились бежать, на ходу натягивая через головы сарафаны. Хэсу, чтобы не быть позорно обнаруженным, повернул коня и снова оказался на вершине холма.
Потом со своим десятком как ни в чём не бывало выехал в селение, где стены изб были одинаково выбелены, и там узнал, что здесь остались лишь женщины, старики и дети, — все мужчины, способные носить оружие, со старейшиной Мирославом ушли вместе с Аттилой.
Принимая ковш воды из рук одной молодицы, которую недавно видел обнажённой, Хэсу, с улыбкой заглядывая ей в лицо, подумал: «Ты стоишь передо мной и не ведаешь, что я рассмотрел на теле твоём запретное место. Если бы только мужчины вашего селения были бы против нас, ты бы, милая, уже стонала на ложе, а я бы сжимал ладонями твои прелестные груди и терзал своими губами твои красные губы... Но чего нельзя, того нельзя... Так же, как нельзя трогать их вырезанного из ствола вековечного дуба усатого бога, унизанного драгоценными камнями и украшенного золотом, перед которым даже днём полыхали огни костров, поддерживаемые чёрными жрецами, истуканами сидящими на корточках... Иначе Аттила сделает нам всем, посягнувшим на добро славян, секир башка...»
Затем Хэсу со своими воинами объехал ещё несколько таких же славянских селений, также отличающихся белизною и чистотою изб, где тоже не оказалось мужчин, ушедших с войском Аттилы, но в одном селении, расположенном почти у берега Дуная, гунны обнаружили страшную картину.
Собственно, это чёрное пепелище вместо ухоженных изб, выстроенных среди раскидистых тополей, и селением-то нельзя было назвать; ещё дымились, испуская угарный чад, развалины домов, а между разбросанных мёртвых тел бродили унылые, в репьях собаки, иногда слизывая кровь с посинелых лиц убитых; правда, сюда ещё не успели слететься чёрные грифы и сбежаться шакалы. Иные погибшие лежали вповалку, все вместе: и женщины, и дети, и старики, страшно изуродованные; кажется» некоторые из них сражались — вон у женщины, что неестественно запрокинула голову, свесив ноги с груды тел, в руках так и застыл меч с окровавленным лезвием... Значит, перед тем, как умереть, она полоснула им кого-то из врагов; вон и старик зажал в предсмертной судороге накрепко ладонями ручку топора, предназначенного для мирной работы по хозяйству, а не для жестокой битвы, но необходимость заставила применить его в сражении... Даже у юноши, почти мальчика, Хэсу увидел на окровавленной груди лук, который он прижимал к себе.
Мысль похоронить убитых у десятника скоро отпала, когда в лощине он обнаружил ещё множество поверженных в бою славян-мужчин. Столько павших похоронить невозможно, для этого потребуется не один день... А Хэсу задерживаться нельзя.
Он обвёл поле боя глазами и увидел тела убитых амелунгов[124], носивших шёлковые рубашки и надетые поверх них выкрашенные в жёлтый цвет кожаные панцири.
Вдруг на краю лощины раздвинулись кусты и оттуда, боязливо озираясь, вышел в изорванной одежде мужчина. По наголо остриженной голове и жезлу с золотым набалдашником Хэсу сразу определил в нём жреца славянского бога Перуна. Жрец тоже признал гуннов, на стороне которых находились его сородичи. Жрец хорошо владел гуннским языком и объяснил, что здесь пал в сражении с амелунгами отряд славян, оставленный для защиты в селениях стариков, детей и женщин; он был мал количеством — старейшина Мирослав понадеялся на гепидов[125], которые владели переправой через Дунай, и думал, что они в случае чего помогут.
Но гепиды, как оказалось, во главе с королём Ардарихом, являющимся ближайшим советником Аттилы, ушли, ничего не сказав славянам. А амелунги переправились на этот берег и напали на славянское селение, не зная, что здесь находится вооружённый отряд. Поэтому и сами понесли немалые потери.
— Гепиды предали нас! — с вызовом заявил жрец. — Так не положено друзьям вести себя...
— Амелунги, надо полагать, не оставят вас и дальше в покое, — предположил Хэсу. — В окрестности среднего течения Дые стоит ещё не тронутых ими много богатых, но не защищённых ваших селений... Будем ждать сотника Юйби, а потом сюда скоро придёт войско Увэя, и мы возьмём всех жителей этих селений с собою.
— Но у нас нет в обычае того, чтобы женщины, старики и дети сопровождали войско... А как же быть с полями, на которых уже созрел урожай пшеницы, ячменя и проса?.. Его же надо убирать!
— Если хотите умереть, дело ваше... Но ты, старик, должен уговорить своих родичей срочно покинуть это место. Собирайтесь, грузитесь на подводы, а по прошествии времени примкнём к основному войску Аттилы, в котором сражаются и ваши воины...
— Попробую уговорить.
— Вот и ладно.
Хэсу, вернувшись в то селение, которое встретилось первым, узнал, что красавицу славянку, давшую ему напиться, зовут Любавой. Жрец ей успел сообщить, что погиб от рук амелунгов весь отряд, оставленный Мирославом.
— Хэсу, — обратилась Любава к десятнику, — отвези меня туда, я посмотрю, нет ли среди убитых моего мужа?
— А ты разве замужем?
— Да, но прожили мы вместе всего два месяца. Я знаю, что он был оставлен здесь с теми немногими, что пали, защищая нас.
— Хорошо, отвезу.
Чтобы не видеть, как женщина с плачем и причитаниями, распустив в трауре волосы, ищет среди поверженных в битве мужа, Хэсу отъехал к Дунаю, сел на берегу и всмотрелся в тёмные воды. Сколько ты всего, седой исполин, видел?.. И сколько ещё увидишь?! Вон и воды твои потемнели от вдовьих слёз и потоков крови, что льются из ран убитых на твоих берегах... Молчишь, исполин. Ты же не можешь сказать: «Бросьте убивать друг друга!» Ибо люди тебя не послушают. Как не послушают никого хищные звери, для которых убийство — добыча, а добыча значит продолжение жизни...
Перед глазами десятника неким видением возникло на миг некогда прекрасное лицо Валадамарки, а потом её отрубленная голова с закрытыми очами, искривлёнными синими губами и с запёкшимися в уголках рта не то кусочками грязи, не то каплями крови... Хэсу передёрнуло; он встал, вернулся и увидел Любаву, склонившуюся над телом убитого, уже вытащенного ею мужа из груды тел.
«Всё-таки нашла, несчастная», — пожалел молодую женщину Хэсу, но она уже не плакала и не причитала, а смотрела на мужа невидящими глазами и отрешённо гладила его руку.
Хэсу сбросил с себя кожаную рубаху и начал молча копать неподалёку могилу.
Потом, сидя в избе у ставшей вдовой Любавы, Хэсу и сотник Юйби, прискакавший сюда с остальными девятью десятками воинов, поминая мужа молодой женщины, тихо разговаривали между собой, хотя могли и не опасаться, что она услышит, так как их языка Любава не понимала.
— Неужели и вправду, как сказал мне славянский жрец, гепиды предали их... Почему они снялись, не предупредив соседей?
— Ты всегда, Хэсу, о чём-то начинаешь предполагать, раздумывать... — как бы в укор сказал пожилой сотник, боясь прямого, честного разговора. Как знать, не вызывает ли нарочно его на откровенность этот молодой да ранний десятник, а потом возьмёт да и доложит обо всём тысячнику, а тот Ислою... После того как Юйби получил в подчинение сотню, он узнал, что не все довольны его назначением, ссылаясь на пожилой возраст; среди десятников были и такие, которые давно сами ждали такого назначения... Но всё же Юйби по-прежнему доверял Хэсу; и он тоже получил повышение, да и немалое время находился в десятке — Юйби успел его изучить. Но, пожалуй что, осторожность не помешает, хотя и Юйби также хотелось прямо и честно поговорить... А тут молодая вдова всё подливала крепкого мёду и подливала. А медок вкусный! Хорошо его умеют варить славяне. И язык сотника потихоньку начал развязываться.
— Хэсу, ты же знаешь этих самых гепидов... Но Аттила сильно доверяет их королю. Да и как не доверять, если Ардарих не раз высказывал на совете дельные мысли, следуя которым Аттила выигрывал сражения... Но то, что сам король и его гепиды жадны до золота, уже ни для кого не является тайной... Ведь они, владея плодородной частью территории, ранее называемой Дакией, заняли ещё, с позволения, правда, Аттилы, богатый город Синдидун и дочиста его ограбили.
— Юйби, гепиды, держащие в своих руках переправу через Дунай, обеспечивали переход на другой берег, и это тоже уже не тайна, даже врагов, — с головы по золотому статиру. Вполне возможно, что гепиды переправили таким образом и отряд амелунгов...
— Но ведь известно, что Ардарих снялся раньше и ушёл с Аттилой, — возразил пожилой сотник, всё ещё осторожничая.
— Только тот же Ардарих мог для этой цели оставить на переправе часть своего войска. Думаю, что и Аттила знает об этом, только помалкивает, — начал горячиться Хэсу. — И понятно: у него в войске гепидов больше, чем славян. Славянами можно и поступиться...
— Уж не потому ли ты за них заступаешься, что присмотрел для себя, как я вижу, вот эту красивую молодку, — схитрил сотник.
— Ты же сам говорил, Юйби, во что амелунги превратили селение и как жестоко побили славянских мужей и простых жителей.
— Идёт битва, Хэсу, великая битва пародов.
II
После того, как мы впервые увидели Галлу Плацидию в императорских покоях в Равенне, прошло более десяти лет, а если быть точными — четырнадцать. Она чуть погрузнела, но лицо и фигура оставались по-прежнему привлекательными; мужское семя, которое она пила по утрам, действительно влияло на неё омолаживающе; это сказалось и в том, что Плацидию реже стали мучить головные боли, вызванные её скитаниями босиком под нещадным испанским солнцем.
Всё бы ничего, но под воздействием омолаживающих средств в организме Плацидии в то же время каждый день совершались изменения, которые привели к сильным физиологическим отклонениям: и раньше у неё в половом отношении наблюдались эти самые отклонения, теперь же они приняли ярко выраженный характер.
Плацидию уже не могли удовлетворять те два могучих раба, следовавшие за императрицей неотступно, и от которых она могла потребовать плотского удовлетворения в любую минуту. И тогда Плацидия сменила рабов на других, но и последние не подошли ей...
Императрица пожаловалась Ульпиану, и этот прожжённый негодяй и бывший развратник посоветовал ей приобрести искусственный фаллос.
— Я знаю, что наши патрицианские матроны для этой цели используют изделия из кожи и в виде стеклянных сосудов, наполняя их тёплой водой. Но больше всего, говорят, величайшая, подходят фаллосы из эбеновою дерева или отлитые из чистого золота[126].
Остановились на золотом, который и был отлит специально для императрицы под строжайшим секретом. Отдавая его, Ульпиан посоветовал Плацидии и другие способы возбуждения и удовлетворения: например, сечение розгами мужчины перед тем, как слиться с ним. Хорошо делала это Клеопатра, и, может быть, под её ударами стонал и сам Юлий Цезарь.
Плацидия улыбнулась, представив, как этот великий человек с голым задом извивался под розгами египетской царицы на императорском ложе.
— Кстати, порочные оргии сопровождали правление таких прославленных императоров Рима, как Август, Калигула, Нерон, Коммод, Гелиогабал, — далее развивал свою мысль Ульпиан. — Я вижу, ты насупилась, ненаглядная, и тебя будто терзает чувство вины. Отбрось всё это! Вспомни Клодию, которую воспел Катулл под именем Лесбии, или супругу императора Клавдия Мессалину... Как говорил Плиний Старший, Мессалина победу в совокуплении считала величественно-царской; она даже однажды вступила в состязание с самой известной проституткой и превзошла её, так как в течение двадцати четырёх часов имела двадцать пять сношений... А может быть, и тебе, величайшая, устроить по примеру Мессалины «комнату наслаждений» и тайно понаблюдать, как отдаются чужим мужьям знатные женщины на глазах своих супругов?.. От этого Мессалина получала неописуемое наслаждение.
— С одной стороны, мы желаем себе чистоты, а тело ввергает нас в грех... Отчего это происходит, Ульпиан? — вопросила Плацидия.
— Великая царица, противопоставление чистого и нечистого, души и тела замечается уже в греческой мифологии. Весьма поучительно в этом отношении понятие о небесной и земной любви. Это противопоставление можно найти между богом света Аполлоном и богом чувственной природы Дионисием. Это так всё естественно, что, пожалуй, не должно тебя волновать...
— Благодарю, мудрый Ульпиан.
Золотой фаллос успокоил желания Плацидии и, далее занимаясь с ним, её вдруг потянуло на написание трактатов на темы морали и чистой любви... Писала она страстно и вдохновенно, так же, как один из её сенаторов, в прошлом известный пьяница, писал и говорил о пользе трезвости для всей нации после того, как ему сделали хирургическую операцию...
Когда «последний великий римлянин» снова повёл войска в Галлию, Плацидия вспомнила о своей неразумной дочери, которую под бдительным присмотром привезли из Константинополя и которую мать в гневе своём приказала снова бросить в темницу.
Поглощённая плотскими терзаниями императрица совсем забыла о Гонории. Но золотой фаллос также настроил императрицу и на прежний интерес к жизни и делам; и вот дочь в изорванной одежде привели к матери и поставили перед её очи.
На руках и ногах Гонории проступали следы от оков; волосы молодой Августы были грязные и спутанные, лицо в синяках, лишь диковато, как у лесной кошки, светились зелёные глаза, так похожие на глаза отца-иллирийца. На теле ещё кровоточили ссадины и крысиные укусы...
— Милая, — прониклась жалостью к дочери мать и потянулась её обнять.
Гонория резко отстранилась от императрицы.
— Неужели тебя пытали? — в ужасе прошептала Плацидия. — Ульпиан! — громко позвала корникулярия.
И когда он явился, императрица строго спросила:
— Ты что сделал с моей дочерью, негодяй?!
— Согласно твоему указанию добивался от неё правды... — как ни в чём не бывало ответил Ульпиан. — Но правду она не говорила, пришлось применить некоторые меры воздействия.
— Вон отсюда, болван! Ты ещё ответишь за это... — топнула ногой Плацидия.
Оставшись с дочерью, императрица тихо спросила её:
— И что же ты сказала, когда к тебе применили меры воздействия?..
— То же, что и раньше, — не моргнув глазом, ответила Гонория. Кольцо и письмо я передала Аттиле под влиянием любви к нему... Но не потому, чтобы отомстить тебе и брату.
— И когда же ты успела полюбить его?
— После того, как мне рассказал о посещении его становища бывший секретарь василевса Феодосия Приск.
— Ты влюбилась, ни разу не видя этого кровожадного зверя?..
— Он не зверь, моя царственная мама, всё, что рассказывают об Аттиле, — полная чушь...
— Вот как?!
— Да, он защитник несправедливо обиженных.
— Ну, милочка моя, с тобой не соскучишься... Защитник!.. Да его воины вздымают на острия своих копий малых детей, выковыривают из чрева беременных женщин не родившихся младенцев и бросают в жертвенные костры.
— Тебе, наверное, писала об этом Пульхерия... Но по её же наущению твой племянник, а мой двоюродный брат перестал платить дань, грубо нарушив священный договор... Так же, как это сделал новый василевс империи ромеев Маркиан... Во устрашение гунны и применили столь дикое средство.
— Ладно, ты опять провоцируешь меня на принятие сильных мер. Иди в свою половину, там ждут тебя твои служанки и врач. Они приведут тебя в надлежащий вид, а потом видно будет, что с тобой делать...
Но, оставшись одна, Плацидия впервые задала себе вопрос: «А не опасным ли для нашей императорской фамилии становится корникулярий?! Рвение его настолько велико, что оно уже начинает переступать границы... Но на кого же в таком случае заменить его? Где найти такого человека?.. И найду ли?.. Пусть пока Ульпиан остаётся при своей должности...»
Хэсу и Юйби вышли из-за стола, слегка покачиваясь. На улице уже темнотою обволоклись избы, стоящие друг за другом в ряд, — в их окнах ещё светились огнями лучины; воины сотника, где по пять, где по шесть разместись в каждом доме, тоже ужинали.
— Ты, Хэсу, оставайся у молодки, а я обойду избы, посмотрю, как разместились мои богатуры, и тоже выберу себе место для ночлега... Утром увидимся.
— Возле переправы в ночную стражу нужно мне ставить своих? — спросил Хэсу.
— Не надо... Твои, будучи в разведке, сделали своё дело. Я дат распоряжение другим десятникам.
Окутанная сейчас чёрными силуэтами ив река Дые, сильно петляя, словно пьяная тоже, впадала в нескольких милях отсюда в Дунай, но сам Дунай находился почти рядом; и какое-то расстояние он и Дые текли близко в одном направлении, но потом Дые у селения делала, как отмечалось выше, такой крутой поворот, что течение её повёртывалось вспять течению Дуная, а затем Дые резко с ним разбегалась... А в том месте, где Дые вливалась в Дунай, в небольшой рощице затаился отряд амелунгов.
Днём германцы видели, как конные гунны рыскали по селениям, хотели перехватить десяток Хэсу и уничтожить, но, когда прискакала сотня Юйби, решили пока повременить вступать в бой. Тем более что награбленное добро не успели переправить через Дунай, а сейчас там стояла вражеская стража.
В уничтоженном славянском селении амелунги славно поживились: взяли в полон красивых девушек и молодиц. Германцы, кстати, могли не поджигать селение, но некоторые жители, почти безоружные, вступили в схватку; разозлившись, амелунги спалили избы и перебили всех до единого. Пусть другие знают, как бездумно сопротивляться силе...
Предводитель отряда, побочный сын короля, храбрый граф Валтарис, еле видимый в темноте, так как костров, чтобы не выдать себя, не зажигали, сидел на пне и думал, как поступить дальше. Пленницы лежали, не поднимая головы, на повозках, и Валтарис строго-настрого запретил подходить к ним, чтобы не делать никакого шума.
Да, появившаяся сотня Юйби спутала все планы предводителя отряда амелунгов. Побив и славянский отряд, граф решил прибрать к рукам все окрестные селения, для того и кинулся к переправе, чтобы перевезти награбленное и пленниц и вернуться назад.
«От отряда осталось шестьдесят человек... Конечно, я могу напасть на спящих гуннов. Но стоит ли рисковать?.. Лучше подождём», — раздумывал Валтарис.
К нему подошёл один из младших командиров; Валтарис поделился с ним своими мыслями.
— А чего ждать?! Я согласен, граф, что нападать на гуннов, даже и спящих, рискованно. Я разведал, что на переправе сейчас гуннских стражников — человек двадцать. Мы их побьём и переправимся на тот берег.
— Такая добыча ускользает из рук! Жалко... Сколько всего ещё в этих селениях склавенов богатства!
— А ничего... Гунны уйдут, и мы вернёмся.
— Судя по тому, что они разместились по избам, скоро не должны уйти. Что-то им надо здесь... Ладно, собираемся и двигаем, также не зажигая огней, — приказал граф.
Но тут вышла луна, осветила прибрежные дали и посеребрила их. Воды Дуная заиграли тоже серебряными блестками; стреноженные кони, хрумкая сочной травой, подняли головы, покосились глазом на полный диск ночного светила и снова принялись жевать.
Свет полной луны делает обеспокоенными, оказывается, не только людей. Где-то рядом прокричала пронзительно и звонко какая-то птица, вдали раскастисто протрубил олень...
Чтобы лошади неслышно ступали по земле, командиры повелели их копыта замотать овчиной. Для этой цели у каждого амелунга-воина в его мешке находилось по нескольку кусков кожи наряду с бобровой мочой, коей был наполнен бычий пузырь. Тряпку, смоченную ею, прикладывали к ране, и рана быстро затягивалась. Славяне, к примеру, использовали для заживления и медвежье сало.
Переправу гунны сторожили десятком: один — до полуночи, другой отдыхал в это время, потом должен был заступить на смену.
Наскочив неожиданно, амелунги быстро расправились и с бодрствующими стражниками, и спящими, затем стали налаживать переправу, пропустив поначалу повозки с пленницами.
Гунны Юйби, отдыхая в селении, и не подозревали, что понесли потерю. Правда, у Хэсу в момент, когда взошла луна, что-то встрепенулось внутри, а может быть, случилось это от того, что Любава стала призывно обращаться к ночному светилу:
— О, полноликая гостья, сойди в мою клеть, сойди и сними мою скорбь и унеси под облака.
Причитая, Любава поступала по древнему славянскому верованию: зазывая в избу луну, она тем самым зазывала к себе всю боготворимую силу природы; склавенка знает, что через дымоволок, например, может посещать огненный змей, и не дай бог, скажем, обидеть зашедшего в избу путника или выгнать его, то змей может ослепить хозяина или хозяйку дома, так же, как и луна своим полным светом...
Вот почему Любава ничего не сказала Хэсу, увидев, что он у неё остаётся. Она, правда, постарается уговорить не трогать её, ведь должен же он посчитаться с несчастьем, которое обрушилось на молодую теперь вдову... Но как поведёт себя гунн — неизвестно, хотя он до этого шёл навстречу её просьбам.
Попросила Любава защиты у луны, попросит её и у божества домашнего очага.
Молодица расставила вокруг очага зажжённые лучины, стала молиться; если раньше огонь, разведённый на домашнем очаге, почитался славянами божеством, охраняющим спокойствие и счастье дома и всех членов семьи или рода, то позже обожание огня перекинулось и на самый очаг; и оба эти понятия действительно слились в одно представление родового дома...
И когда Хэсу спросил, почему Любава молится какой-то остывшей печке, молодица строго заметила:
— Это тебе кажется она остывшей. А я думаю, что внутри её всегда присутствуют огонь и дым... Существует загадка: «Мать толста, дочь красна, а сын под облака ушёл». Это и есть печь, огонь и дым... Они всегда живые и находятся в родственной связи...
— Всё это непонятно для меня. Мы поклоняемся только Пуру, а с того времени, как нашли Марсов меч скифов, Аттила приказал поклоняться и мечу... И устраиваем скачки в честь богини коней Дарнвиллы.
— А страшный ваш Аттила? Сказывают, что у него вместо ступней копыта, на голове рога, и никогда он не слезает с лошади, так как прирос к ней...
— А как же он тогда живёт с жёнами?! Их у него более ста... Выдумки всё это... Такой же человек, как все, только необыкновенный... Сильный, умный и справедливый... Принцесса римская попросила защитить её от родственников, которые устроили ей тяжёлую жизнь, и он твёрдо пообещал защитить... Да что я тебя уверяю!.. Придёт время, может быть, и сама увидишь нашего правителя... Давай спать, и не бойся — трогать я тебя не буду.
Король амелунгов Ротари даже не мог и предположить, что Валтарис, оставшись без присмотра, начнёт своевольничать. Граф всегда был покладистым, ибо знал, что, как побочный сын, он может заслужить любовь отца только безоговорочным послушанием. Торопясь на встречу с Аэцием, как король гепидов на встречу с Аттилой, Ротари спешно двинул своё войско, а Валтарису приказал подождать со своим отрядом, пока жители-амелунги в посёлке не соберутся и не погрузятся на подводы, а потом граф должен их в пути охранять.
Но Валтарис впервые в точности не исполнил приказ отца, а решил, когда разведка ему доложила, что гепиды ушли и войско склавенов тоже, поживиться на другом берегу Дуная. Тем более что Валтарис знал: с теми из гепидов, кто остался на переправе, всегда можно сговориться, и граф, заплатив им, вскоре уже находился на берегу, где располагались селения славян.
Но старейшина Мирослав оставил тоже для их охраны отряд, на который и напоролся Валтарис; к счастью для амелунгов, отряд склавенов оказался малочисленным. Но кто знал, что после всею здесь неожиданно появятся гунны...
Вначале их было десять, потом подошли из сотни остальные девяносто гуннов. И через какое-то время Валтарис увидел, уже находясь на своей территории, как несметное их войско (а это было войско, ведомое Увэем), двигаясь вдоль Дуная, перекрыло отряду амелунгов путь к отступлению.
Граф сразу подумал, что обнаружив убитых своих людей на переправе, гунны обязательно станут искать тех, кто сделал это... И обязательно найдут, так как все дороги оказались отрезанными. И Валтарис решил схорониться со своим отрядом на острове, расположенном посреди топкого болота. Граф понимал, что оставляет своих сельчан на волю Вседержителя, но и другого выхода не видел.
Увэй, предупреждённый Юйби, повелел не трогать склавенов, более того, взял их с собой в обоз, но, узнав, что тут натворили амелунги, выделил в помощь сотнику свою сотню под командованием Чендрула, а сам, почти не останавливаясь, продолжил путь на Маргус, где предполагал зимовать.
Уже наступали холода. Аттила взял штурмом город Августу Вииделиков[127] и остановился, но цель его похода — Толоса, столица Аквитании, которой владеет Теодорих. Только повелителя гуннов так просто к Толосе не подпустит его «друг» Аэций. Может быть, они бы и оставались друзьями, если бы между Римом и Аттилой не встала молодая Августа Гонория...
Когда две сотни гуннов въехали в посёлок амелунгов, то увидели, что он словно вымер. Даже собаки не бродили по улицам. Но слышно было, как сторожевые глухо рычали, звякая цепью за высокими заборами богатых усадеб, огороженных ещё и валами.
Чендрул, с обритой головой, решительный и цельный, как кусок железа, долго раздумывать не стал, а приказал своим людям метать за глухие заборы горящие стрелы. В усадьбах запылал сильный огонь, его принялись тушить, но скоро вода кончилась, и пожары начали разрастаться. С воем и плачем, гремя дубовыми, обитыми медью задвижками, жители раскрыли двери ворот и высыпали на улицу.
Схватили седого как лунь старейшину рода, и тут же при всех Чендрул стянул его голову ремённой петлёй, а концы стал накручивать на рукоятку плётки, спрашивая, где прячется вооружённый отряд.
Старик упрямо молчал, и голова его, стянутая ремнями, в конце концов бы лопнула, так как он предпочёл умереть, нежели выдать своих сородичей. Но тут к Чендрулу метнулась с растрёпанными волосами молодка и завопила:
— Не убивайте отца! Я всё скажу... И покажу!
Гул неодобрения прошёлся по рядам жителей. Чендрул покосился на них налитыми кровью глазами:
— Шайтаны!.. Свиньи!..
Старика отпустили, а молодку посадил спереди себя на седло сотник Юйби, и вскоре прискакали к заросшему густым очеретом и плакучими ивами месту.
— Здесь болото, а там — остров, где скрываются сейчас наши воины, — показала рукой молодка.
— А не врёшь?! — вскричал Чендрул. — Я не вижу никаких переправ на остров...
— Граф Валтарис разрушил их за собой.
— Валтарис?! — снова воскликнул Чендрул. — Побочный сын короля Ротари... Встречались... За ним должок. — И сотник Увэя показал на зарубцевавшуюся рану, нанесённую мечом. — Отпустите молодку... Потом разберёмся.
Решительность Чендрула была столь велика, что он полностью завладел инициативой, и поэтому его стали слушаться и воины из сотни Юйби, да и сам сотник Юйби, кажется, тоже... Но командирский тон Чендрула всё же не всем нравился, особенно Хэсу. Десятник отъехал в сторону, увлекая за собой своего сотника, и начал с ним совещаться по поводу того, как лучше преодолеть трясину.
— Надо валить в неё деревья, но кругом степь. Придётся вырубать рощу на другом берегу.
— Это займёт много времени, — негромко сказал подъехавший к совещавшимся Чендрул, всё же сообразивший, что командир тут не один он...
— А что делать?
— Ха... Я покажу вам пример! — Чендрул натянул лук и, развернувшись, почти не делясь, выпустил стрелу в спину удаляющейся к посёлку молодки. — А теперь волоките её, — приказал своим воинам, — и бросайте в топь...
Это немедленно было исполнено, и вскоре гунны с воплем и боевыми кличами снова ворвались в посёлок и стали рубить, колоть, душить арканами жителей, а трупы сволакивать к краю болота.
Кровавая вакханалия, как обычно бывает, захватила всех; вскружила голову и Хэсу — он тоже без разбору — ребёнок ли это, немощный старик или старуха — колол и резал.
Целая гора трупов уже возвышалась на берегу. Начали кидать их в топь; трясина тут же засасывала, и казалось, что болото бездонно. Но вот грязная жижа становилось всё плотнее и плотнее, теперь трупы не тонули совсем: то в одном месте, то в другом они наполовину стали высовываться, и скоро по ним можно было ступать.
Пустили лошадей, но животные пугались идти, но ещё не остывшим телам. Тогда находчивый Чендрул верхние трупы велел перевернуть лицом вниз, а на их спины насыпать овса...
Переправившись на остров, гунны устроили дикую резню. Чендрул, весь забрызганный кровью, объезжая сражающихся, напоминал:
— Не убивайте графа... Я расправлюсь с ним сам.
Но побочный сын короля амелунгов, увидев полное истребление своего отряда, узнав Чендрула, от которого нельзя было ждать никакой пощады, кинулся грудью на меч.
Слух о невиданной и неслыханной дотоле жестокости, которую применил Чендрул, птицей полетел поперёд войска Увэя и вскоре достиг ушей Аттилы.
— Что ж... — задумался повелитель, дёргая себя за редкую бородку. — Жестокость?.. Хм... А может быть, то была необходимость, вызванная данной обстановкой... Как, говорите, зовут сотника? Чендрул... Сделайте его тысячником, и пусть он предстанет перед моими очами.
Рустициана полностью отдавалась природе и своим искренним чувствам восхищения ею, когда оставалась одна; когда, уставшая от бешеной скачки на буланом жеребце испанских кровей, садилась на издавна облюбованное, поваленное, но ещё крепкое дерево на самом краю леса, пускала коня пастись, а сама любовалась ячменным полем, начинавшемся сразу от могучих дубов-великанов, возле которых Рустициана сейчас находилась.
Сзади неё в ветвях на все голоса пели лесные птахи, а в вышине над полем, волновавшемся, как море, под уже ставшим прохладным ветром, заливался жаворонок. Его трели вначале глухо, потом всё настойчивее начали перебивать печальные крики, и Рустициана вскоре увидела высоко в небе длинный клин журавлей, тянувшийся на юг, к Африке... И будто по лицу молодой женщины снова полоснули ножом — до того явственно она представила то, что случилось с ней в африканском Карфагене.
«Неужели всё это сойдёт с рук хромому дьяволу?..[128] То, что отец носил власяницу из медвежьей шерсти из-за моего несчастья, ещё раз говорит в пользу его отцовских чувств... Но не утешится моё сердце, видно, до тех пор, пока за меня не наступит отмщение... Да, я христианка, я не требую этого, но уж так устроен человек — когда он видит, что за его кровную обиду возмездие состоялось, то успокаивается. Ладно, отец стар, а мои братья?
Хотя говорил мне брат, тёзка отца Теодорих, будто он хотел в Барцелоне, куда попросился встречать меня, устроить вандалам взбучку, да отец не пустил его туда. Разрешил ехать младшему послушному Эйриху, и к тому же строго-настрого приказал никого в Барцелоне не трогать, ссылаясь на то, что силы вестготов ещё малы, чтобы сразиться с Гензерихом, главным обидчиком её, Рустицианы... А вот на стороне Рима воевать против гуннов нашёл эти самые силы... Только королю вестготов принесёт ли эта борьба славы? Ведь предводитель гуннов Аттила пользуется теперь всемирной известностью как защитник обиженных женщин, не побоявшийся в пользу римской Августы Гонории, которую томили в застенках, выступить против двух империй сразу...
Думает Рустициана о своей несчастной судьбе и судьбе далеко находящейся сейчас отсюда римской принцессы; подставляет, скинув чёрную повязку, последним тёплым лучам солнца лицо, жмурится, будто маленький котёнок, наслаждаясь светом, и не заметила, как подкрался к ней наварх Анцал. Он давно выследил королевну, и не в первый раз из-за укрытия наблюдал с отрезанным кончиком носа её лицо. Но оно ему не показалось столь безобразным, чтобы пугаться... На нём так живо сияли бездонные, как два омута, тёмно-синие глаза, что сразу привлекали внимание, а уж только потом виделось остальное.
Анцал наконец-то решился и вышел из-за своего укрытия:
— Рустициана!
Женщина вскрикнула, резко поднялась с поваленного дерева, ища на груди скинутую повязку, но наварх успел ухватить её за руку:
— Не надо, не надевай... Прости меня, прости! Я много раз видел твоё лицо без этой повязки, но не находил в нём ничего противного... Тьфу, что за слово вырвалось из моих скверных уст!.. Лицо твоё так же красиво, как и раньше... Рустициана, милая, да разве будешь особенно обращать внимание на лицо, когда я впервые, ещё на корабле, отплывающем из Карфагена, через твои глаза заглянул в твою душу и увидел её настолько прекрасной, что готов на всё ради её обладательницы.
— Я помню, что ты спас меня... Но и ты не забывай, что меня наказали за то, что я хотела отравить своего свёкра... — чтобы охладить пыл и красноречие молодого человека, жёстко заявила королевна.
— Хотела, но почему не отравила?.. Вот что мне хочется знать.
— Ладно, оставим этот разговор. А ты зачем наблюдал за мной?.. И кто тебе разрешил? Если я пожалуюсь отцу, знаешь, что будет с тобой, чужеземец?
— Знаю...
— Знаешь и пошёл на это?
— Неужели ты не поняла, когда я говорил о твоей душе?
— А что я должна понять?
— Я люблю тебя...
— Меня или дочь короля?
— И ту и другую, — честно признался Анцал.
— Ладно, помолись своему Митре, что я тебя простила как своего спасителя... И уходи. А я посижу ещё...
Анцал, виновато опустив голову, ушёл. Оставшись снова одна, Рустициана задумалась: «Странно... Любовь... Да разве можно в моём положении думать о ней?! И этот наверх... Неужели вправду влюбился в меня?.. Не верю! А если бы я была дочерью простого колона?.. С таким лицом... Говорил бы он мне о любви?.. Но я видела его искренний взгляд и не обнаружила в нём и тени смущения, когда он высказывался о моей душе, неотрывно глядя на моё лицо... Неужели ему было всё равно, какое оно?! Но такого не может быть... Не может! Ибо, когда я сама смотрюсь в бронзовое зеркало, всякий раз содрогаюсь... Нет, даже если Анцал искренне и полюбил меня, женой я ему не буду... Это по первости он, может быть, не станет обращать внимания на моё лицо... Тем более что я как женщина умею хорошо вести себя на любовном ложе. Но придёт время, когда он, пресытившись мною, всё-таки начнёт приглядываться днём к моей чёрной повязке, а утром, проснувшись, к моему обезображенному лицу. И наступит момент, когда, глядя на него, содрогнётся... Нет и ещё раз нет! Мне уготовила судьба монастырскую келью. И только там я найду в молитвах своё успокоение...»
«Но ведь Анцал признался тебе в любви... — внушал ей внутренний голос. — Неужели ты не отзовёшься?.. Хотя бы временно». — «А как это временно?..» — «Там увидишь... И учти, он спас тебе жизнь».
А Анцал тихо брёл по пыльной дороге и с горечью думал о том, что Рустициана не поверила ему. «А чего ты хотел?! Признаться в любви к женщине с обезображенным лицом... И кто тебе сразу поверит?! Это же противоестественно! Но так могут думать люди, не любившие никогда... Но те, кто любили, поймут, что лицо и внешность не играет особой роли... Я разглядел её душу, как если бы разглядел самую Душу мира... А если это связано с колдовством?! Если бы Рустициане нужна была, таким образом, моя любовь, то она бы не отвергла меня после моего признания».
Наварх свернул к разгульному дому Теодориха-младшего. «Пойду, отведу теперь свою душу. А то я всё о другой... Только врёшь! Не желания чистой любви ты удовлетворишь сейчас, а мерзкую похоть своего тела... Хотя в моём положении это даже полезно».
Встречен был Анцал Теодорихом-младшим как всегда с распростёртыми объятиями. Из всех братьев Теодорих больше всех любил Рустициану, а узнав, что спас её от смерти этот человек — наполовину перс, проникся к нему добрым чувством.
— Проходи, Анцал. В моём гареме появились персиянки... Может быть, искупаешься с ними в бассейне?..
— Нет, Теодорих... Это всё равно, что пригласить садовника покушать яблоки с тех деревьев, которые у него в саду растут в изобилии.
— Хорошо сказано. Тогда бери белотелых славянок и забавляйся. Но вижу, что ты чем-то опечален... Я не прав?
— Ты прав, королевич... Но об этом я сейчас не хочу говорить.
— Не настаиваю, ибо уважаю твои чувства.
— Благодарю.
Но и забавляться со славянками через какое-то время расхотелось наварху, и он незаметно, потихоньку ушёл из разгульного дома.
Певчие птицы в оливковой роще оглушили Анцала. Они так выводили свои трели, стараясь превзойти друг друга, так изощрялись, что ему стало весело.
Осуждал ли Анцал, поклоняясь справедливому Митре, ненавидевшему ложь, лицемерие, неправду, образ жизни Теодориха-младшего?.. Скорее не осуждал. А за что?! Что имеет много наложниц... Экая невидаль! У персов, к примеру, их тоже немалое количество. Главное, что Теодорих младший относится к Анцалу с уважением по-прежнему, тогда как это не скажешь о самом короле вестготов и его старшем сыне Торисмунде. Казалось, с чего бы они охладели чувством к спасителю их дочери и сестры?.. А выходит, что есть с чего.
«Я ведь не только спас Рустициану от смерти, но и привёз на своём корабле галлов, которые помогли Теодориху-старшему в сражении против римлян... И как только галлов я снова отвёз на берег их океана и стал дружить с Давитиаком и его сыном Гальбой, то и увидел перемену в отношении ко мне короля и Торисмунда... В дружбе с галлами прослеживается эта причина, да и в дружбе с Теодорихом-младшим... Ведь между ним и отцом, кажется, давно пробежала чёрная кошка. Теодорих-младший своенравен, честолюбив, не во всём слушается отца. Да и со старшим у него также давно нет братского чувства... Чего, доброго, ещё не по праву заявит свои претензии на королевскую власть... Вот чего опасаются Торисмунд и Теодорих-старший... Но и это их дело, а не моё... Моё — это любовь к Рустициане. Ведь люблю я её искренне, а не по расчёту... Ты, Рустициана, ещё увидишь это!»
III
Римская империя ко второй половине II века, казалось, достигла пика своего могущества и расцвета. Историк, стоящий близко к официальным правительственным кругам Рима, так писал тогда: «Народы, когда-то побеждённые Римом, забыли уже свою самостоятельность, так как наслаждаются всеми благами мира и принимают участие во всех почестях. Города империи сияют красотой и привлекательностью, вея страна как сад. Вся земная поверхность благодаря римлянам стала общей родиной. Римляне вымерили весь свет, замостили реки, обратили пустыни в заселённые края, упорядочили мир законом и добрыми обычаями».
Уверенность высших слоёв общества в вечном и непоколебимом господстве Рима на свете поддерживалась превосходной организацией военной защиты на границах или так называемом лимесе.
На юге и западе империя достигла краёв океана и песков Сахары. Восточные области — Малая Азия и Сирия — были защищены естественными преградами — горами Армении и Аравийской пустыней. Оставалась северная — самая протяжённая и опасная; здесь римляне имели перед собой варварский мир, неисследованный и полный всяких неожиданностей.
И тогда римляне стали возводить оборонительную линию, тянувшуюся от Британии и Шотландии, от Северного моря вдоль Рейна, затем от Рейна до верхнего течения Дуная, и далее линия продолжалась по Дунаю.
От пиктов и скоттов защищал границу двойной ряд стен; на левом берегу Рейна были поставлены мощные крепости, а вдоль Дуная на его правом берегу возникло множество городов.
Соединяла эти города и крепости военная дорога, служившая для передвижения (пешком) легионеров с Рейна на Дунай и обратно.
На северной границе в крепостных лагерях римляне держали пятнадцать легионов — больше половины всей военной силы империи. Но с упадком её мощи в конце IV века стал трещать по швам и хвалёный лимес под напором варваров, которые уже тогда с боями стали переходить Дунай и Рейн и основывать свои государства.
Таким образом город Августа Винделиков в середине V века уже считался столицей германской) племени алеманов, и Аттила на пути в Галлию, переправившись через Дунай, этот город первым после взятия подверг разорению.
От него остались одни лишь развалины, заваленные трупами. Поэтому Аттила расположился лагерем далеко от Августы Винделиков, в огромной впадине, окружённой холмами. На их вершинах и склонах, покрытых лесом, повелитель поставил усиленные посты. Здесь он и решил зимовать, а может быть, и дождаться начала лета следующего 451 года, так как осенью и весной Рейн перейти почти было нельзя из-за сильных дождей и паводка.
Лагерь Аттилы был настолько велик, что тесно было даже в этой огромной впадине; вот почему повелитель не захотел, чтобы с ним снова соединялся Увой, приказав ему зимовать в Маргусе.
Впервые Аттила при взятии столицы алеманов применил тактику «лавины»: на город обрушился такой вал гуннов, что рвы вмиг наполнились мёртвыми, — и по ним, как по мосту, шли живые; с крепостных стен продолжали осаждённые метать брёвна и камни и лить кипящую смолу, но гунны не обращали на это внимания, всё шли и шли, а поднимавшаяся гора трупов позволяла им лезть всё выше и выше... И это действительно походило на дикую лавину, сметавшую всё на своём пути. Вскоре гунны облепили крепостные стены, словно пчелиный рой ветви дерева, другие ринулись к воротам.
В этой «лавине» участвовал тоже впервые и сын Аттилы Эллак. Вооружённый мечом и луком, с висевшим у седла арканом, он, не боясь, ступал на скакуне по трупам своих сородичей, нанося по врагу уверенные удары остриём лезвия, пока не оказался также у ворот, которые вышибали уже огромными таранами.
Эллак проник на одну из улиц, где жили ремесленники. Их мастерские, служившие и торговыми лавками, стояли наглухо закрытые. Их тут же разнесли в щепки: в воздух, поднимаемые копьями, полетели клочья тканей, овчин, рубашки, кафтаны, сапоги, сандалии, плащи, кожаные панцири. Кто-то рядом с Эллаком растерзал перину, и пух и мелкие перья закружились, словно зимою хлопья снега.
Пробиваясь вперёд, орудуя мечом слева направо, а где, пуская из лука стрелы, Эллак выскочил снова на другую улицу и в окне богатого дома увидел испуганное, но очень красивое лицо молодой женщины. Он ворвался во двор, зарубив выбежавшего навстречу с топором в руке мужчину. Подле Эллака оказалось человек десять воинов-гуннов, которые помогли ему проникнуть в дом.
Там эту молодицу он обхватил рукой за стан, краем глаза успев заметить, как воины взвалили на плечи других женщин и потащили в спальни... Девушка не сопротивлялась. Он содрал с неё одежду, распластал на богатом ложе молодицу, а потом долго и молча вминал её в перину, которая вскоре под сильным нажимом двух тел взбилась по краям, а в середине сделалась тонкой и жёсткой.
Молодица тоже вначале молчала, а потом, видно, испуг перед гунном у неё прошёл, и она, охваченная плотским пылом, стала отдаваться Эллаку со всей страстью.
Затем Эллак сел на ложе и спросил на греческом (девушка оказалась римлянкой, владела греческим, на котором хорошо изъяснялся и Эллак):
— Как твоё имя?
— Марцеллина.
— А моё — Эллак. Я родной сын Аттилы.
Девушка побледнела, и у неё задрожали губы.
Увидев, какое впечатление произвели эти два имени, скорее, последнее, имя отца, Эллак засмеялся:
— Не бойся... Ты же видела, что у меня нет рогов и ступни, как у всех, а не копыта. Знаю, что моего отца все представляют таким и думают, что и сыновья похожи на него. Естество у меня, как у германских или славянских мужей. А может быть, и лучше. Так это или не так?
— Так, повелитель.
— Ещё никто меня не называл повелителем, милая... Может быть, и буду им, но только не скоро... Отец ещё полон сил и умирать не собирается. А сейчас одевайся, я беру тебя в свой обоз.
На выходе римлянка увидела растерзанных служанок, которыми насладились, а затем их искромсали мечами.
— Сколько раз говорил не делать этого; попользовались и оставь в покое... Да разве можно остановить обезумевшего от крови гунна?! — как бы для себя сказал Эллак.
После взятия Августы Винделиков Аттила устроил пир.
Широкие столы в форме буквы «Т» ломились от изобилия разных кушаний и вин. Рекою лился медовый напиток — кам, который гунны переняли от славян, но он нравился всем — и германцам, и присутствующим знатным римлянам.
Были здесь уцелевшие от резни представители городских властей; они сидели на заднике длинного стола в одинаковых войлочных колпаках. Эти головные уборы служили им признаком свободы, их носили и вольноотпущенники.
Например, смерть императора Нерона вызвала в Риме такую радость, что народ (в знак освобождения от тирании), все до единого, надел войлочные колпаки и двигался в таком виде по улицам города.
Наблюдательный Аттила спросил у рядом сидящего с ним по правую руку Приска, что означают эти самые колпаки... Приск гут же разъяснил повелителю значение головных римских уборов и привёл пример, связанный со смертью Нерона.
— А не думают ли римляне, что я их спаситель?..
— Может быть, повелитель.
И, кажется, не было ни одного даже малого эпизода за столом, который бы не интересовал Аттилу... Если это касалось других обычаев, то повелитель спрашивал о них у мудрого горбуна Зеркона Маврусия, сидящего по левую руку; что касалось германцев, ромеев или римлян — у Приска.
Приск во избежании казни не стал возвращаться в Византию, так как императору Маркиану и Пульхерии стало известно, что он передал повелителю гуннов от Гонории кольцо и письмо.
Рядом с Приском сидели любимые у Аттилы военачальники — Гилюй, Шуньди, Огинисий, между Ислоем и королём гепидов Ардарихом разместился Эллак, возбуждённый, покрасневший от недавней похвалы отца, видевшего со своего командного места во время взятия города, как сын отчаянно пробивался к крепостным воротам... Не преминул тут же сказать Эллаку добрые слова и король Ардарих, не менее наблюдательный, чем Аттила.
Сейчас Ардарих в друзьях не только у повелителя, но и его старшего сына; они пьют, едят, перебрасываются шуточками и, конечно же, не ведают будущего... Да и на мгновение в мыслях у Эллака не может возникнуть то, что в скором будущем (через три года) на реке Недао, что течёт в Паннонии, сойдутся в сражении как злейшие враги король гепидов Ардарих и он — повелитель части гуннов, доставшейся ему после смерти отца, и в сражении этом будет убит... «Перебив множество врагов, Эллак погиб, как известно, — замечает Иордан, — столь мужественно, что такой славный кончины пожелал бы и отец, будь он жив. Остальных братьев, когда этот был убит, погнали вплоть до берега Понтийского моря».
Напротив Эллака за столом находились как раз два его брата — Эрнак и десятилетний Дзенгизитц. Последний выглядел зверёнышем — густые брови, маленькие злые глазки, еле видимые из-за набухших век, низкий лобик, совсем приплюснутый нос и узкий рот, кривившийся в злобной усмешке... По совету своей няньки Иданцы он уже попробовал кушанье, приготовленное из человеческого сердца, и не находил более лучшего блюда, чем это... Иданца верила в то, что после такой еды её любимца не возьмёт ни одна отрава, а Дзенгизитцу теперь казалось, что сострадание к людям, которое испытывает порой его старший брат Эллак, это очень глупая штука... Маленький зверёныш чувствовал самое большое удовольствие, когда наблюдал за казнью. Поэтому он бывал частым гостем у жрецов бога Пура, когда жертвы вначале подвешивались на крючья. А потом Дзенгизитц над повешенными за ребра издевался и плевал им в лицо...
Эрнак был не менее жесток, чем его младший брат, и он уже, как Эллак, имел своих воинов. Если Эллаку шёл двадцатый год, то Эрнаку только что исполнилось семнадцать.
Продолжая ряд по правую руку Аттилы, сидел за Ардарихом король остготов Аламер, за ним король ругов Визигаст и далее — три вождя склавенов — Дроздух, Милитух и Свентослав. Тут же разместился и старейшина Мирослав, который ещё не знал, что оставленный им отряд для защиты селений полностью погиб от рук амелунгов, а жители оказались в лагере полководца Увэя.
По левую же руку, начиная от Дзенгизитца, находились короли менее достойных, по мнению Аттилы, германских племён — маркоманов, квадов, герулов и скиров.
Вдруг прозвучал рог. Все подняли от еды головы, вытирая о штаны масляные руки. Из-за деревянного укрытия, расположенного за задником стола, вывели короля алеманов графа Гервальда в изорванном кожаном панцире. В левой и правой руках он нёс две части переломанного пополам меча.
Приблизившись к Аттиле. граф бросил обе половинки меча к ногам повелителя, упал на колени и поцеловал край его плаща. Только тут Аттила встал из-за стола; двигая скамейками, встали и пирующие.
— Признаешь ли ты, граф, единственного в мире, завоевателя Скифии, держащего в своей власти варварский мир, могущественного вождя гуннского союза племён, регнатора[129] Аттилу своим повелителем? — громко вопросил Зеркон Маврусий, уже одетый по такому случаю в расшитую золотом тогу.
И тогда граф Гервальд так же громко объявил собравшимся:
— Признаю!
Аттила поднял его с колен, обнял и усадил на место, которое только что занимал горбун...
Утром другого дня, когда в своей юрте Эллак ещё тешился с римлянкой, к нему прискакал Ардарих и передал, что его вызывает отец.
— Что случилось?
— Не ведаю того, — ответил король гепидов, пряча в усах весёлую усмешку.
Эллак понял, что Ардарих знает всё, только говорить не хочет или ему запретили.
«Ладно, разберёмся...» — Эллак тоже вскочил на коня, и через час, проехав немалое расстояние до юрты отца да ещё и пробившись через одиннадцать колец охраны, предстал перед повелителем.
У него сейчас находились Приск, Огинисий, германец Орест, Эдикон, Ислой и опередивший Эллака Ардарих. Эллак поздоровался со всеми и встал, играя плёткой, — держал её в левой руке и легонько посту кивал ею о ладонь правой.
— Хорошим богатуром стал у меня старший... Посмотрите!.. — обратился Аттила к собравшимся, а потом уж повернул лицо к Эллаку: — Сынок, у меня только что были члены местного магистрата... Во время взятия города ты захватил в плен женщину, которая является дочерью наместника Рима. Твоё право владеть ею... Да и власть наместника номинальна, так как здесь хозяйничали алеманы и их король граф Гервальд. Но я всё же как защитник угнетённых по закону справедливости вынужден попросить тебя отдать эту женщину отцу...
«Аттила стал называть себя защитником угнетённых с тех пор, как объявил себя человеком, ограждающим от всяких посягательств римскую Августу... — возникло в голове у Приска. — Для того и затеял он этот поход. А потом уж намеревается пойти на Рим...»
— Но она сама не пойдёт!
— Почему? — строго спросил Аттила Эллака.
— Я нужен ей.
— Хорошо, пусть остаётся, но она должна навестить отца. Если ей нужен ты, то она вернётся к тебе... В ином случае, насилие над ней и её отцом ты чинить не станешь... Обещай мне.
— Обещаю.
«А если не вернётся?.. — раздумывал, возвращаясь в свою юрту, Эллак. — Говорит, что я нравлюсь ей. А почему тогда не сказала, что является дочерью наместника Рима?..»
В юрте он прямо спросил об этом Марцеллину.
— Милый, я думала, что если скажу об этом, то ты отошлёшь меня в город.
— Тебя ждёт твой отец, сказал мне Аттила. А вернёшься ко мне?
— Обязательно.
Но Марцеллина не вернулась... По дороге в город в лесном распадке на неё напали неизвестные люди, перебили охрану и зарубили её.
Кто они — эти неизвестные?.. Что им сделала какая-то римлянка, пусть и приходившаяся дочерью наместника, у которого, по словам Аттилы, и власти-то никакой не было.
Но давайте в точности попытаемся восстановить картину происшедшего.
Когда в юрте сын повелителя громко заявил, что римлянка не поедет к отцу, так как он нужен ей, то король Ардарих вначале поразился самоуверенности Эллака, отличившегося всего один раз при взятии города Августы Винделиков... Да, Ардариху приходилось брать десятки городов, сколько раз рисковать жизнью, быть тенью великого повелителя, во всём потакать ему, но, где нужно, правда, и правильно советовать, — умный Аттила умеет ценить человека, ценил он за всё это и короля гепидов. Но вот так, чтобы повелитель при всех, как он сделал, хваля сына, восхитился бы или подвигами, или умом Ардариха, такого ещё не бывало...
«Всё равно у Аттилы мы, короли племён, не родственных гуннам, что кусты у дороги, надо затоптать — затопчут, если нужно, то и объедут... И ты на большее рассчитывать не можешь...» — раздумывал Ардарих.
Вдруг непонятная злость охватила короля гепидов, пока сын и отец говорили о дочери наместника Рима. Ему захотелось сделать сыну Аттилы какую-нибудь гадость, чтобы сбить с него самоуверенность и спесь... Разве кто может вот так запросто войти в юрту к регнатору, встать посреди и поигрывать плёткой?! Кто он такой?.. Да пусть даже и родной сын... Ты покажи себя много раз в деле, прояви мужество и отвагу, тогда и поигрывай!
Да и дочь наместника, если она полюбила его, то наверняка полюбила не как его самого, а как сына повелителя, перед которым склоняются многие народы.
Тогда король гепидов и решил убить Марцеллину, назло Эллаку, но и подумал ещё, что этим вызовет раздор между отцом и сыном и посеет семена ненависти между гуннами и римлянами, проживающими здесь... Хотя и понимал Ардарих, что гибель дочери наместника не произведёт сильного впечатления; разве что это сравнительно с тем, как если бы в пруд, заросший ряской, упал камень... Поначалу бы ряска раздвинулась, а потом снова замкнулась над канувшим на дно камнем. Но его всё-таки бросит он, Ардарих!
Вот таким образом можно, оказывается, успокоить себя... Далее Ардариху не составляло труда выследить Марцеллину, переодеть в лохмотья своих людей и покончить с ней.
Поначалу Аттила взъярился на Эллака, как будто бы он явился причиной гибели дочери наместника. Но отец очень любил старшего сына и мог простить ему и не это... Он лишь заставил Эллака поехать к наместнику Рима и сказать ему, что в убийстве Марцеллины нет никакой его вины.
Но, как вы помните, в юрте тогда находился и казначей Аттилы Орест. Будет интересно узнать и его мысли в тот момент.
Ещё раньше, как только повелитель принял кольцо от римской Августы, пообещав ей свою защиту, Орест тогда прикинул, что теперь гуннам придётся воевать сразу против двух империй... Сумеет ли повелитель одолеть, казалось, неодолимую силу?
И с тех нор начала зреть у Ореста задумка, как бы урвать хотя бы частичку того несметного сокровища, которым владеет Аттила? Ведь, кстати, сам он даже не заметит, что исчезла лишь малая часть... «Он, конечно, проверяет свои богатства, но я в приходной и расходной книгах так всё распределю, что комар носа не подточит... — подзуживат себя на отчаянный проступок Орест. — А если победа будет за Аттилой?! Что мне делать тогда с моей утайкой? А ничего... Аттила не вечен, он старше меня, а я ещё молод; не станет его — тогда и начну эту утайку расходовать...»
Вот так и вызревало у Ореста желание украсть хотя бы малую толику сокровища своего благодетеля. Малая толика, если считать её по отношению ко всему богатству, а на поверку она окажется очень большой... Вот она, человеческая благодарность!
И когда Эллак пошёл к выходу из юрты, Орест, глядя ему вослед, именно в этот момент окончательно укрепился в мысли: «Украду!»
И думается, это тоже произошло под впечатлением принародной похвалы Эллаку; хоть Орест и считается почти братом, а повелителю сыном, но такой похвалы ему вовек не дождаться. Так лучше о себе позаботиться загодя.
Затем повелитель и собравшиеся, подумав и зная, что второй сын короля вестготов в Голосе не совсем в ладах с отцом, решили послать к Теодориху Второму посла с письмом от Аттилы, в котором он обещал своё тайное покровительство. Это придаст сыну Теодориха-старшего в нужное время и при благоприятно сложившихся в будущем обстоятельствах уверенность в борьбе за власть.
Письмо такое было написано, и его поручили отвезти Приску, но так, чтобы он неузнанным и под большим секретом от короля вестготов передал это письмо Теодориху Второму.
Объяснение в любви капитана и её спасителя надолго выбили Рустициану из прежнего жизненного равновесия, но после долгих раздумий она, в конце концов, пришла к твёрдому убеждению уйти в монастырь, тем более что ей посоветовал это сделать и епископ Сальвиан.
Стараниями епископа и короля Теодориха монастырь открыли за год до приезда в Толосу из Карфагена Рустицианы, собственно, это стал первый арианский женский монастырь в Аквитании, и хитрая бестия Сальвиан предвидел немалую материальную выгоду, если бы Рустициана постриглась в монахини. Дочь свою король вестготов очень любит, рассуждал епископ, и тогда он ещё больше пожертвует на содержание монастыря. А в монастыре у Сальвиана имелись прямые интересы — настоятельница мать игуменья Олимпиадора является возлюбленной епископа.
Смущало Рустициану, что монастырь арианский, но епископ и игуменья пошли даже на то, чтобы для дочери короля установить особую службу, для чего будет приспособлена малая церковь. Рустициана тогда и согласилась, так как сразу замыслила обратить в истинную веру других инокинь, заблудших, по её мнению, в ереси. Рустициана как бы сразу увидела своё высокое предназначение: она в монастыре не просто станет проводить свои однообразные дни до своей кончины, а заниматься великом делом — делом спасения душ...
Окончательно утвердившись в своём решении, она в то же время пожалела страдающего от любви к ней Анцала: встречи, которые случались с ним после того памятного дня, убедили её в искренности его чувства.
И ещё она решила, что за любовь к ней и за её спасение она должна наварха отблагодарить как женщина, ибо как женщина после его признания стала испытывать к нему огромное влечение.
По ночам она просыпалась от того, что видела сны, как он жадно целует её, как обнимает её прекрасное тело, как нежно ласкает её с головы до кончиков пальцев, как доводит её до исступления, и Рустициана уже знала, что если наяву она не удовлетворит с ним свою страсть, то такие сны будут и впредь приходить к ней по ночам...
Она честно призналась в том Анцалу; он опечалился тем, что она уходит в монастырь, но и обрадовался её желанию отдаться ему.
В один из дней Рустициана навестила отца. После получения письма от римской императрицы он как-то сразу приободрился — никак не ожидал такого поворота событий. Казалось, после того, как он нанёс поражение Литорию и захватил его в плен, Рим должен объявить короля вестготов своим кровным врагом, а тут поступило предложение обратного свойства — стать союзником в борьбе против гуннов.
Теодорих, может быть, до конца бы и не доверился Плацидии, как не доверился он Аттиле, если бы на него не произвёл впечатление полководец Аэций, приехавший самолично на переговоры о выдаче из плена Литория. Уже тогда Теодорих решил, что лучше он будет в дальнейшем иметь дела с римлянами.
Король вестготов помнил хорошо рассказы о легендарном короле Германарихе, воевавшем против гуннов и окончившем жизнь на острие своего меча, и его прямом потомке Винитаре, погибшем от стрелы Ругиласа, родного дяди Аттилы.
К тому же, давая согласие Плацидии и Аэцию в совместной борьбе против Аттилы, Теодорих исходил из древней, как мир, поговорки: «Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты...», которую можно перефразировать иначе: «Скажи, кто твой враг, и я скажу, кто является тебе другом...»
«А если у Рима кроме гуннов есть ещё кровный враг король вандалов Гензерих, то, значит, Рим — друг мне, так как с Гензерихом у меня особые счёты...» — думал король вестготов.
Рустициана вошла к отцу и объявила о своём окончательном решении стать монахиней.
— Но у меня есть к тебе, отец, одна просьба — позволить мне пожить у бывшего нашего садовника на мельнице на берегу Гарумны, перед тем как затвориться в монастырских стенах от мира...
— Дочь моя, ты снова рвёшь моё сердце, объявляя о добровольном затворничестве, но поделать ничего не могу... Знаю и то, что тебя любит твой спаситель наварх... Но право выбора я предоставляю тебе. И просьбу твою удовлетворяю.
— Но пожить я хочу на мельнице не одна, отец, а с навархом Анцалом, уж коль тебе ведомо о его любви ко мне... Мы бы не хотели никакой охраны. Только с ним вдвоём.
— Ты же знаешь, что я не могу тебе ни в чём отказать. Думаю, наварх сумеет тебя защитить.
— Благодарю, отец.
И сейчас Анцал и Рустициана ехали рядом верхом по берегу Гарумны в направлении ветряной мельницы, где, Рустициана сказала, живёт бывший их садовник, отпущенный на свободу и приобретший потом эту мельницу.
Королевна помнит этого человека с детства, который много уделял ей внимания, так же, как Теодориху-младшему, которого тоже любил.
Как далее сообщила Рустициана, бывший садовник — галл, но внешностью своей, несмотря на свою старость, походил и теперь скорее на сармата или германца: с голубыми глазами и такими же, как у второго сына короля, рыжими волосами, которые до сих пор не тронула седина. Повзрослев, Теодорих-младший поддерживал с бывшим садовником добрые отношения и не боялся поверять ему даже самые сокровенные думы.
Такое подробное сообщение о взаимоотношении её и второго по рождению брата с бывшим сервом, а теперь свободным человеком, мельником, навали бы наварха на какие-нибудь выводы, но он всецело был поглощён тем, что предстояло ему испытать с любимой женщиной.
Через какое-то время им встретился едущий тоже верхом галл Давитиак.
— Откуда? — спросил у него обрадованный этой встречей Анцал.
— Да так... — замялся Давитиак. — Ездил к одному другу.
— Он тебе не солдурий[130]? — уже наслышанный о некоторых галльских обычаях, снова спросил наварх.
— Нет-нет... А вы куда путь держите? — обратился Давитиак уже к дочери короля, слегка поклонившись ей.
— Гуляем по берегу Гарумны, — ответил за Рустициану наварх. Давитиака Анцал видел не раз у Теодориха-младшего. Когда был тот рабом, то встреча в разгульном доме вызвала бы у наварха некоторые подозрения, но теперь — нет: Давитиак после победы в сражении с римлянами Литория стал свободным гражданином и приближённым человеком ко двору. Сейчас уже и епископ Сальвиан на равных считался с ним.
А у Анцала с Давитиаком установились дружественные отношения во время пути на океан и обратно, и сын короля Теодорих знал об этом и намеренно способствовал их продолжению.
Глубокая осень... Но пока ещё держится, как это часто бывает здесь, лист на дубах, пока сопротивляется дуновению ветра и не падает на землю, а мохнатые ещё, зелёные ивы низко клонятся над рекою, и только зоркий глаз может узреть, как под их клубкастыми ветвями в вязком холоде иногда взблеснёт серебряной чешуёй огромная рыба.
Время, когда бортники, обхватывая стволы деревьев приспособленными для такого случая «когтями», лезут на самую верхушку, чтобы выбрать из дупла мёд, натасканный пчёлами весною и летом, а виноградари мнут спелые, налитые солнцем гроздья в огромных чанах, сливая сок, из которого сделают потом вино. Из убранного же ячменя сварят пиво, и попивать это пиво будут люди простые, те, кто «поплоше»...
Время, когда местные галлы-вольки режут свиней, устраивают свадьбы.
И как только утихнут осенние работы, тогда раба-серва можно купить за меру вина... Рабы-сервы нужны были везде — на работе в иоле, на оливковых и виноградных плантациях, в медных рудниках и каменоломнях, где добывается мрамор.
Сервы работали кузнецами, сапожниками, портными, жили в страшной нищете и бесправии: документы, подписанные сервами, считались недействительными; рабы не имели права жаловаться на господина.
Уход от него считался бегством, жениться без разрешения сервы не могли, дети рабов наследовали положение родителей. В судах похищение рабов расценивалось как кража, а похищение свободного человека — как убийство...
Господин не имеет права убивать раба, но не несёт ответственности, если серв умрёт во время наказания.
Рабы-сервы всё же бежали от своих господ — в леса, в горы, становились разбойниками, грабя и убивая богатых.
В Аквитании тоже было от разбойников неспокойно...
Уходили в разбойники не только сервы, состоящие из пленников и местных галлов, но и обедневшие крестьяне, ремесленники. Они образовывали вооружённые отряды, называемые в Галлии багаудами.
Были такие отряды и в угнетённой Северной Африке, которая находилась по соседству, где поначалу хозяйничали римляне, а затем вандалы. Эти отряды назывались здесь циркумцеллионами (название переводится дословно как «бродящие вокруг деревенских клетей»).
Циркумцеллионы немало хлопот доставляли королю Гензериху, так же как и багауды королю вестготов.
Хотя Гензерих и Теодорих I являлись смертельными врагами, но всё же роднила их эта борьба против разбойников внутри своих государств...
Давитиак тесно был связан с багаудами, и возвращался он, повстречавшись с влюблённой парочкой, едучи от одного главаря разбойников по имени Думнориг.
А Рустициана и Анцал, разминувшись с бывшим рабом и предсказателем, спустились в долину и пришпорили коней. Вскоре увидели ветряк старика Писона и его самого, стоящего чуть поодаль, высокого, с широкими плечами, с развевающимися на ветру медного цвета волосами.
— Смотри, Анцал!.. Хорош?
— Хорош! — искренне восхитился наварх фигурой мельника.
Подъехав поближе, Анцал действительно нашёл старика красивым: голубые внимательные глаза на худощавом лице, волевой подбородок, высокий лоб, а когда Писон улыбнулся гостям, то показал ряд белых здоровых зубов.
«А ведь ему пошёл восьмой десяток...» — сказала про себя Рустициана.
Мельник знал о несчастье дочери короля, был ошеломлён её чёрной повязкой на носу, но вида не подал, обнимая любимицу. Заинтересованно выслушал Анцала, который доложил ему, что он — капитан двухпалубного корабля и из Карфагена привёз Рустициану через Гадирекий пролив к берегам океана, а оттуда — по Гарумне в Толосу. От Давитиака и оруженосца Теодориха-младшего, часто бывавших на мельнице, Писон слышал эту историю; пожав крепко руку Анцалу, он также обнял наварха в знак благодарности...
Ни о чём больше не спрашивая, Писон повёл их в дом, стоящий рядом с мельницей, а слуги взяли лошадей Рустицианы и Анцала под уздцы.
У старика жены и детей не было: будучи сервом, не хотел жениться, чтобы не плодить себе подобных рабов, а когда получил свободу, был уже не молодым — вместо жены имел на содержании экономку, родом тоже из галльской семьи, — черноглазую бойкую бабёнку, у которой, как заметила Рустициана, всё горело в руках... Она не доверила слугам накрыть стол для столь высоких гостей, а сделала это сама, протерев полотенцем каждую миску, каждый прибор.
Патрисия — так звали экономку — украдкой взглядывала на лицо дочери короля, тоже зная, что произошло с ней в Карфагене, и так же украдкой утирала навертывавшиеся на глаза слёзы.
«Бог Огмий, помоги этой женщине! Испортить такую!.. Но и с чёрной повязкой она — красавица на загляденье... Какой стан! Какая походка! Одно слово — королевна... А вот, говорил Давитиак, собралась в монастырь... Бедная! Как не справедлива судьба и к представителям королевской фамилии... И ты, бог Баден, помоги этой женщине!» — про себя молила своих богов сердобольная возлюбленная мельника.
Когда гости пообедали, Патрисия отвела их в покои: только вначале спросила у хозяина:
— А как размещать?.. Судя по тому, как они относятся друг к другу, я бы поместила их вместе.
— Ну и помещай вместе... Окажешься неправа, тебя Рустициана поправит, — с улыбкой ответил Писон.
— Знаешь, остались довольны покоями... — через какое-то время докладывала Патрисия мельнику. — Анцал и Рустициана все перины на ложе хвалили... Они у меня и впрямь до небес!
— А может быть, им лучше бы без перин?! Помнишь, как мы с тобой, как помоложе были, в плотницкой на голом верстаке?
— Помню! Я потом свою служанку из спины занозы заставляла вынимать. Она вынимает и охает, а я смеюсь, вспоминая и угадывая, в какой момент та или иная могла впиться...
— Молодость!.. Да ничего, мы ещё с тобой занозиться можем... — засмеялся Писон. — Пусть будут у них перины, по ночам уже холодно; если что, на пол сползут.
— Вот бы хорошо, если бы у них всё это свадебкой закончилось.
— Вряд ли... Как задумала Рустициана, так и будет. С пути не свернёшь... Я её знаю, Патрисия. Видно, перед тем, как затвориться от людей, захотелось ей побыть среди них... Повеселиться, одним словом.
— Повеселиться?.. Нет, мой любый Писон, весельем тут и не пахнет... Посмотри на обоих... И то, понятное дело, ведь их потом ожидает разлука. Пусть напоследок любятся.
На другой день рано утром проснулся Анцал от скрипа подвод и громкого понукания — догадался, что это волы везли к мельнице смолоть пшеницу только что собранного урожая.
«Дел теперь у Писона будет невпроворот... А тут мы со своими хлопотами...» — наварх покосился на Рустициану. Она спала, разметавшись обнажённая, но даже во сне инстинктивно прикрыла локтем лицо; нежные перси её, округлые, как чаши, вздымались и слегка трепетали от ровного дыхания, в углублении на гладком упругом животе застыла капелька пота, не высохшая ещё, так как снова со всей страстью Рустициана отдалась Анцалу совсем недавно, может быть, за час до того, как разбудили его скрипы и крики погонычей. Перина, скомканная, лежала на полу...
Анцал, не одеваясь, голый подошёл к окну.
— Какой ты красивый, капитан! — сказала Рустициана, проснувшись и открыв глаза.
— Милая моя! И ты как утренний цветок, который в росе... Я только что видел на тебе росинку.
— Где, где? — воскликнула Рустициана, надевая повязку, а на виски — подвески.
Подошла тоже к окну, не одеваясь, всмотрелась:
— Жаркий предстоит на мельнице денёк. Смотри, подводы едут и едут.
К обеду их не уменьшилось, а стало больше. Выпряженные волы, но не освобождённые от ярма, гремя нашейными колокольцами, попарно паслись на склоне холма, спускающегося к реке. С другой стороны холма расположилась роща, состоящая из южного, так называемого пушистого дуба с зарослями вереска и ладанника.
Вот туда и отправился, вооружившись луком, поохотиться на оленя после обеда Анцал, оставив Рустициану на попечение Патрисии и её многочисленных слуг. Наварх удивлялся: «Откуда их столько у простого мельника?..» Но потом сообразил, что если навещают его члены королевской семьи, то понятно... Вот и теперь заметил, что на некотором расстоянии за ним следуют верховые — охранники... Сам король говорил дочери, что не будет никакой охраны. Ну и ладно, не мешают — и хорошо.
Пробираясь верхом через кусты ладанника, Анцал вскоре выехал на поляну; огляделся, слез с коня, — тут наварх и устроит засаду на оленя. Сейчас на стороне капитана должно стать терпение и ещё раз терпение.
Коня он отвёл в кусты, чтобы его не было видно, привязал к дереву, погладил лоснящийся лошадиный круп и в этот момент почуял запах дыма. «Может быть, неподалёку находится тайное капище жрецов-друидов?.. — И содрогнулся от этой мысли. — Если они кого и сжигают, то наверняка человека...»
Но, несмотря на внутренне неприятие этого и даже маленький страх, любопытство всё же погнало его узнать о происхождении дыма.
Анцал снова погладил круп коня, успокаивая животное, да и себя как бы тоже — прикосновение ладони к коже бессловесного, но родного существа придало ощущение уверенности, и капитан тихонько пошёл в ту сторону, откуда шёл дымный запах.
Но Анцал вышел не к предполагаемому капищу, а к землянке, застланной брёвнами; через отверстия между брёвен и шёл дым, значит, костёр кто-то развёл на полу обогреться или сварить ужин. Время клонилось к вечеру.
Капитан подкрался поближе и услышал голоса, доносившиеся снизу. Один из них Анцал узнал сразу — голос Писона, владельца мельницы.
«И когда он успел?. Уезжая, я видел, как он заводил очередную подводу с мешками пшеницы во двор».
— Думнориг, я обязательно передам письмо от Аттилы Давитиаку, а тот отдаст его прямо в руки рыжему Теодориху.
«Это они так величают второго сына короля вестготов. А почему ему, а не Теодориху-старшему?.. И почему такая таинственность?» — промелькнуло в голове наварха.
— И ещё, Писон, тот, кто доставил письмо, по имени Приск, пусть поживёт у тебя на мельнице. По крайней мере, до тех пор, пока не получит ответ от Рыжего.
— Но сейчас у меня гостит Рустициана со своим дружком.
— Я знаю... Спрячешь Приска на сеновале.
— Хорошо, Думнориг, всё будет сделано так, как велишь.
«Думнориг... Думнориг... Не тот ли, о ком слагают в народе легенды... Неуловимый вождь багаудов... Но его можно схватить, если я обо всём расскажу Теодориху-старшему. Но только не это! Если бы я стал зятем короля, то можно было на это решиться. А сейчас я здесь чужеземец... И только. Побудешь на мельнице, позабавится ещё денёк-другой Рустициана тобой, как игрушкой, и закончится твоё наслаждение от обладания ею... А сейчас нужно уносить отсюда как можно быстрее ноги...» — Анцал вскоре сел на коня и отъехал от опасного места. На краю рощи увидел, как повернули коней, не доехав до неё, и охранники.
«Гляди, и Рустициане ни слова! — внушал себе капитан.
Сделалось неуютно и холодно на душе оттого, что он частично проник в ненужную ему тайну. И ещё оттого, что всё хорошее, происходившее с ним, к сожалению, скоро кончится...
IV
В кабинете дворца в Карфагене за столом сидели двое: сам правитель вандалов Гензерих и король свевов Рикиарий. Здесь же прохаживались две огромные собаки, то и дело поглядывавшие на гостя.
Гензерих украдкой рассматривал лежащую на столе необычайно красивую золотую, с драгоценными камнями вещь в форме африканского льва, подаренную Рикиарием. Этот подарок являл собой явный намёк на могущество короля вандалов — в Средиземном море, портах Карфагена. Сардинии ходило и стояло у него множество быстро построенных кораблей, готовых отплыть к Риму в любой момент.
Рикиарий, молодой, горячий, торопил с походом: говорил, что его войска, хорошо вооружённые, готовы загрузиться на палубы грозного вандальского флота. И ещё он заявил:
— Вожди племени автригонов тоже пойдут с тобой, король. Они мои соседи — я приведу их.
— Это племя, кажется, обитает в северной Лузитании, в испанских горах, где начинается река Эбро. Я знаю эти места.
— Именно так.
— Рад тому, что ты сказал... Но с походом на Рим мы всё же погодим. Пусть Аттила в Галлии потреплет вестготов и римлян.
— А если потреплют его?
— Ну, это тоже нам на руку. Мне доложили, что у Аттилы численность войска больше четырёхсот тысяч. Столько же у Аэция и Теодориха вместе взятых. Скоро гуннский правитель переправится через Рейн, навстречу Аттиле уже идут римский полководец и король вестготов с сыном Торисмундом. И такая произойдёт кровавая битва, Рикиарий, — Гензерих впервые назвал короля свевов по имени, — что полягут сотни тысяч с одной и другой стороны... И не важно для нас, кто победит, мощь тех и других будет ослаблена... Вот тогда и скажем своё слово.
За дворцом плескалось море, громко отдавали команды капитаны кораблей, стоящих на приколе у самого берега.
— Я ведь тоже стал строить свои корабли, — как некую тайну сообщил правителю вандалов Рикиарий.
— А мне это известно... — улыбнулся Гензерих, и угрюмое лицо его осветилось.
«Хромой чёрт, всё ему известно, и всё-то он знает...» — подумал король свевов, а вслух сказал:
— Добродетель заключается и в том, чтобы всё знать...
— В чём заключается эта самая добродетель, я не совсем представляю точно... Только я бы добавил к твоему определению, Рикиарий, ещё несколько слов: не только всё знать, но и уметь... Кстати, добродетель в наше время очень редкая штука, и нужна ли она?
— А как же в отношении между друзьями?
— Здесь, я думаю, скорее нужна порядочность. — Лицо Гензериха снова сделалось угрюмым, как всегда, а взгляд колючим и подозрительным.
Наконец он взял отлитую голову льва в свои руки — всё же сказалась жадность к золоту и драгоценностям, — не вытерпел, чтобы в открытую не восхититься такой вещью, да и польстить гостю тоже:
— Какие прекрасные изделия льют ваши мастера!
— Да, король, а золото для этой головы добыли на реке Таг[131]. Река, смешивая золотой металл с илом и песком, влечёт его в океан...
— Жаль, что не влечёт она его прямо сюда, в Карфаген... — пошутил предводитель вандалов.
Рикиарий внутренне поёжился от такой шутки. К счастью, к Гензериху зашёл его старший сын Гизерих, и разговор короля вандалов с королём свевов пошёл на убыль и скоро закончился.
— Отец, ты просил доложить, как только судно будет готово к спуску на воду. Оно готово.
— Хочешь с нами пойти, Рикиарий? Я покажу тебе своих кормчих и корабельщиков. У меня ведь многие из них бывшие сицилийские пираты...
Король вандалов вылез из-за стола, хромая, но бодро вышел на середину кабинета и указал Рикиарию на дверь.
У входа во дворец на улице подали коней. Рикиарий подумал, что сейчас с королём вандалов они поедут к воротам, но Гензерих направил коня вверх по широкому, ограждённому каменным бортом спуску, и вскоре оба оказались на крепостной стене у огромной башни с бойницами. Тут они слезли с коней, которых приняли оруженосцы, и подошли к башне. Отсюда открывался великолепный вид на море, по которому сновали однопалубные корабли с круто загнутыми килями, изображающими своими формами то льва, то грифа, то орла; двухпалубные диеры с рядами вёсел и парусами и даже триеры наподобие римских либурн с таранами на корме.
— Это мой флот, — с гордостью скатал Гензерих, и глаза его сделались с «волчинкой» — из голубых превратились в жёлто-зелёные.
Он стоял, опершись одной ногой о выступ борта. Ростом Гензерих не выделялся, но гордо сидящая на плечах голова с густыми светлыми волосами, спускавшимися вниз ровными прядями, которые сейчас шевелил ветер, прямая широкая спина и гибкая тонкая талия, с висевшим на ней мечом с богато отделанной рукояткой, синий внакидку плащ из тонкой шерсти делали фигуру короля вандалов величественной.
— Как только взят Карфаген, я огородил его двойными стенами такой ширины, что они примкнули к самой воде, и теперь каждый корабль с моря швартуется вплотную к ним. В стенах устроил железные двери, и через них с палубы подаются различные грузы: то может быть зерно, которое перехватываем у римлян, или рабы — да мало ли что мы сейчас перевозим!..
Если другие города в Африке — Гиппон, Цирту мне пришлось штурмовать осадными орудиями и разрушать их, то Карфаген я брат при помощи деревянных, обитых железными листами башен, которые выкатывались вровень с каменными зубцами, и по перекидным мосткам мои воины перебегали на крепостные стены, а оттуда — на городские улицы и площади. Поэтому город остался целым, и я сделал его своей столицей. Говорят, что мы варвары... Разрушители. А римляне — нация созидателей. А не они ли в третью Пуническую войну специальным постановлением сената разрушили Карфаген — родину Ганнибала — до основания, даже разобрали стены и каменные здания, а остальное — спалили дотла?! И пятьдесят тысяч карфагенян продали в рабство... Я же не взял в Карфагене ни одного пленного. Конечно, убитых было много... Сколько времени прошло! А до сих пор на выжженных римлянами местах имеются провальные ямы... Созидатели! — презрительно процедил сквозь зубы Гензерих. — Вот как возьму Рим, устрою им такой же Карфаген, какой они здесь когда-то устроили...
Пока король вандалов говорил, к башне, на которой была укреплена стрела со спускающимися вниз двумя железными цепями с крючьями, подошли люди. Тут были и африканцы, и германцы, и даже римляне. Но все были одеты одинаково — в шёлковые рубахи и малиновые шаровары. Только на пятерых накинуты такие же синие из тонкой шерсти, как у Гензериха, плащи.
— Эти пятеро — мои сыновья. Пойдём, Рикиарий, я познакомлю тебя с ними: старшего Гизериха ты уже видел, второй по рождению — Гунерих, третий — Гунтамунд, четвёртый — Тразамунд и пятый — Ильдерих.
Последнего отец потрепал по щеке. Когда Рикиарий подавал руку Гунериху, король вандалов напомнил обоим:
— Вы не забыли, что являетесь свойственниками...
— Нет, не забыл... — ответил за себя Рикиарий.
— А после того, как пришлось подвергнуть казни Рустициану, её сестра не настраивает ли тебя, король свевов, против нас?
— Посмела бы только! Тем более я знаю, что справедливый из справедливейших король вандалов зря человека не накажет...
— Ты верно говоришь, мой союзник... Больше того, я хотел эту женщину, дерзнувшую меня отравить, предать смерти, но её спас наварх Анцал... Думаю, что мне всё же представится возможность отомстить ему за это.
— Суета сует... Так говорит наш епископ в Галлеции[132] Иероним Идаций, письменно зафиксировавший! ещё сорок лет назад переход из Галлии через Пиренеи трёх лучших племён — двух германских и аланов, — напомнил Рикиарий, чем также польстил Гензериху, ибо разговор в связи с жёнами стал уходить в нежелательную сторону. — Два германских племени — вандалов и свевов — остались верны своему слову — бороться до последнего вздоха с ненавистным Римом, от руки которого погибло много наших воинов; аланы же, как и вестготы, предали нас...
И упреждая вопрос, Рикиарий добавил:
— Не стану же в таком случае я искать союза с вестготами, хотя и Теодорих является моим тестем!
— Я верю тебе, Рикиарий. — Гензерих ткнул крепко сжатым кулаком в плечо-короля свевов. — Теперь смотри, как новый мой корабль будут спускать на воду. Строим мы корабли внутри крепости. Там ещё видны неприбранные щепки. А внутри для того, чтобы при неожиданном нападении враги не смогли запалить верфь. Так бы случилось, если бы она находилась снаружи.
Люди в малиновых шароварах и сыновья Гензериха подошли к огромному вороту и начали его вращать: стрела послушно поползла в другую сторону, и цепи с крючьями повисли во внутренний двор крепости, точно над кораблём. А внизу зацепили крючья за трос, которым был опутан весь корабль; затем люди внизу разошлись, но на палубе появился жилистый загорелый человек. Он дал знак находившимся у ворота наверху и, оставаясь на борту, приветственно помахал рукой Гензериху.
— Это будущий капитан сего корабля, — пояснил король вандалов. — Капитан присутствует на нём с момента касания днища воды, а при крушении на море (конечно, не дай Бог!) уйдёт с палубы последним.
Ворот снова начал работать, но видно было, как становится тяжело тем, кто вращал его. Корабль оторвался от земли и стал подниматься. Вот он достиг края стены, и все увидели его высокие борта с отверстиями для вёсел и закрученный спереди в форме змеи киль.
Корабль повис над стеною, капитан бросил с него что-то своему королю. Стрелу перевали, и судно, оказавшись за внешней стороной крепостной стены, начало медленно спускаться.
— Держи, Рикиарий! В знак дружбы от меня, — сказал Гензерих и подал королю свевов то, что бросил капитан — всего-навсего кусок красной материи, на котором белыми нитями было вышито: «Попутного ветра! Рим будет разрушен!»
— Благодарю, король! — Рикиарий растрогался.
Величие короля вандалов проявилось и здесь. Его последовательность в борьбе с римлянами только восхищала.
— Чендрул, я разрешаю тебе набирать в свою тысячу воинов из самых лучших гуннских родов, коими являются хунугуры, биттугуры и алпидзуры. А также можешь брать и германцев, но не всякий сброд, а лиц, приближённых к королям, графам и герцогам, а может быть, состоящих с ними в родстве... Я возлагаю на тебя в предстоящей битве великую обязанность по захвату короля вестготов Теодориха и самого полководца Аэция, — говорил Аттила представшему по его велению перед ним бывшему сотнику из войска Увэя.
О том, как Чендрул проявил себя при взятии среди болота острова, на котором засели амелунги, во всех красках расписали правителю полумира сотник Юйби и десятник Хэсу, когда они вернулись к своему начальнику Целою.
Хэсу привёз с собой склавенку Любаву: она по своей воле, а не по насилию отдалась ему в Маргусе, где они на какое-то время задержались с отъездом. Хэсу Любаве показался умным и терпеливым гунном, так непохожим на своих сородичей: его же внимательное отношение к ней окончательно покорило сердце молодой вдовы...
— Великий, а можно я возьму к себе в полном составе сотню Юйби, в которую входит десяток Хэсу?.. Мы вместе с ними переправлялись через болото, и я видел их в ратном деле.
— Чендрул, ты волен делать так, как считаешь надобным. И если нужна тебе эта сотня — бери.
— Как только я наберу тысячу, повелитель, мне бы хотелось, чтобы она дала клятву перед Марсовым мечом, а потом по обычаю принесём в жертвы грозному богу Пуру тех пленных, каких добудем ещё до начала великой битвы.
— Это хорошая мысль. И я тоже се одобряю. Действуй, Чендрул, — благословил Аттила на большое дело ранее безвестного сотника; в Каталаунской битве он действительно оправдает надежды повелителя.
Зима и весна для Чендрула ушли на то, чтобы отобрать в тысячу воинов, ибо каждого он испытывал сам, а затем поручил это делать Юйби и Хэсу, чем окончательно покорил последних, вначале недовольных его таким назначением и возвышением. Но они знали: воля повелителя — священная воля...
А для воинов испытание состояло в умении хорошо рубиться на мечах; стоя в полный! рост на скачущей лошади, метко стрелять из лука и кидать копьё; зацепившись за седло железными шпорами, находясь под брюхом лошади, поражать цель (если простые гунны, как мы отмечали ранее, к голой пятке привязывали колючку шиповника, то Чендрул распорядился к обувке нацепить настоящие шпоры, заимствованные у германцев); также нужно было уметь заарканить не только всадника, но и саму лошадь, да так, чтобы не только остановить её на полном ходу, но и повалить.
Гуннам из трёх названных повелителем родов это удавалось легче делать, нежели германцам. Но многих удивил Андагис — родственник королю, происходивший из рода Амалов, самого величественного рода (но родовитости Андагис превосходил даже короля вестготов Теодориха и его сына Торисмунда, ведших свою ветвь от Балтов). Андагис, сражаясь на мечах с Хэсу и Юйби, поочерёдно выбил из их рук оружие. Заарканил мчавшуюся диким галопом лошадь так, что не только её повалил, но чуть не удушил...
Набрали всего полтысячи воинов, и Чендрул понял, что, если так дело пойдёт и дальше, они не управятся и до осени. Поручил он отбор и проверку ещё и Андагису, но всё равно этого оказалось мало.
И тут добрая мысль пришла в голову Хэсу. Он посоветовал Чендрулу:
— Мы забыли об одном — в войске нашего повелителя самых храбрых и искусных награждают свистящими железными стрелами... Следует кликнуть клич, чтобы их обладатели собрались в указанном месте, а уж из их числа будет нетрудно отобрать недостающую полтысячу.
— Умница, Хэсу! — похвалил Чендрул.
Когда такой клич был дан, Аттила, не вмешиваясь в их дела, сейчас в знак одобрения поцокал языком.
Таким образом пятьсот воинов (да ещё каких!) быстро набрали. Теперь тысячу нужно было сплотить воедино, чтобы она действовала как сжатый кулак; поэтому Чендрул, Юйби, Хэсу и Андагис решили воинов опробовать в деле, а для этого следовало переправиться через Рейн, несмотря на бурливые его воды весною.
Было приказано выдолбить из стволов деревьев десятка два челноков: с трудом и некоторыми потерями преодолев на них злое течение реки, протянули за собой трос, и Чендрул вновь повелел, чтобы сделали плот длиной в сто локтей и шириной в двадцать. Одним концом накрепко привязали его к берегу и засыпали сверху толстым слоем земли — получилось что-то вроде моста. «Мост» продлили вторым, уже плавучим плотом, точно таким же по ширине, но вполовину короче, и к нему присоединили протянутый с того берега трос, который вделали в ворот. И когда всадники ступили на плавучий мост, то воротом потянули трос, и вскоре первая партия воинов с лошадьми оказалась по другую сторону Рейна.
Аттила и его военачальники, стоя на этом берегу, с таким же удовольствием наблюдали за действиями Чендрула и его подчинённых, с каким взирали ранее на их подготовку.
Вскоре вся тысяча, переправившись, углубилась в лес и достигла поселений бургундов. В мгновение ока разбив вооружённый отряд, а затем ограбив несколько богатых деревень, она вернулась назад, потеряв всего пятьдесят воинов, но зато хорошо пополнив сокровищницу Аттилы. Тем более что золото и серебро понадобились сразу в большом количестве: в глухом месте, о котором знати немногие, с согласия повелителя отливались для него три гроба — золотой, серебряный и железный.
Казначей Орест, по инициативе которого это делалось, на курултае посвящённых объяснил всё так:
— Римские императоры, как в прошлом египетские фараоны, строили себе гробницы ещё при жизни. Царствование нашего регнатора сопряжено с походными опасностями и грозными битвами (да продлит его жизнь ещё на многие годы величайший бог Пур!), но мы так же должны иметь то, что заменило бы нашему правителю гробницу. Поэтому я предлагаю отлить три гроба — золотой, серебряный и железный в знак того, что железом наш великий Аттила одолел другие народы, а золото и серебро доставил своему племени...
— Я бы хотел поправить названого сына, — снисходительно улыбнулся Аттила. — Доставил не только своему племени, но и тем, кто со мной дружит и служит мне...
Крики восторга всколыхнули юрту, а Орест (названый сын!) про себя отметил: «Кричите, кричите громче, глупцы! Только выгоду из всего извлеку я один... Кто теперь учтёт, сколько золота и серебра я отпущу на эти гробы?!»
Украденное из сокровищницы правителя гуннов Орест закопал по эту сторону Рейна в одном укромном месте в лесу у скалы, приметив клад валуном, а отлитые вскоре гробы были тщательно упакованы, и теперь они вместе с казной будут отныне перевозиться под ещё более усиленной охраной.
Между прочим, гроб, сделанный из прииртышского кедра, в то время, когда отец Аттилы предпринял поход на усуней[133], также возили за ним до того рокового часа, пока не зарезала его женщина...
Маленький Аттила знал, что за отцом повсюду возят гроб, и как-то спросил Мундузука: «Не страшно ли это?»
— Если ты великий воин, а тем более правитель, ты должен уметь против страха в своём сердце ставить щит... И ещё твоя сила проявляется в том, чтобы быть готовым умереть в любой миг.
Поэтому повелитель полумира без предубеждения отнёсся к отливке для себя трёх гробов, к тому же в последнее время по утрам у него стали случаться сильные носовые кровотечения.
Да, старость не радость, но всё же теперь есть кому наследовать власть: Эллак становился не только прекрасным воином, но и успешно обретал многие качества настоящего правителя, такие как терпение, ум, хитрость, железная воля, способность слушать подчинённых и быть выслушанным, чёткость в изложении своих мыслей, мужество, умение нравиться воинам, неприхотливость в походной жизни и ещё, что особенно в последнее время проявилось у Эллака после гибели Марцеллины и что считал Аттила не менее важным, — недоверие к женщинам. Да и не только к женщинам — недоверие ко всем! И это, пожалуй, самая верховенствующая черта характера любого правителя, будь он повелитель полумира, император, василевс, король или герцог какого-нибудь племени.
Когда в конце мая наступило сухое время и когда подошло стотысячное войско Увэя, Аттила приказал переправляться через Рейн. Проводники-галлы сообщили, что выше, где впадает в Рейн река Неккара, есть сравнительно мелкое место: водное течение разделяется здесь на два рукава, обтекая небольшой лесной остров. Легко добравшись до него на надувных кожаных мехах, можно там срубить плоты и преодолеть более широкий рукав.
Так и сделали!
Воины после переправы были сильно утомлены, но Аттила дал всего для отдыха один день и одну ночь. В обозах слышались крики и плач тех женщин, которые потеряли во время переправы детей, мужей или близких родственников.
Хэсу навестил своих пока бездетных жён — первой его встретила Любава; он очень обрадовался ей, также был рад видеть молодую гречанку. Ночью он остался с ними обеими...
А вот Юйби так устал, что своих жён после того, как они его встретили, тут же отослал обратно в обоз. Ему было не до них.
Положил голову на медвежью полсть и сразу заснул. Снился ему ужасный сон: будто он рубит головы своим жёнам, а тела их укладывает вместе с сотнями других поперёк течения Рейна. Хорошо, что сон прервал громкий трубный рёв оленя, раздавшийся неподалёку от палатки.
Проснувшись, Юйби лежал с открытыми глазами и слушал, как ветер завывал в пихтах. Так до самого рассвета сотник не сомкнул веки, а чуть заалело на востоке, вышел наружу.
«Какой тяжёлый мне приснился сон! Да и настроение духа моего становится день ото дня тяжелее. Предчувствие чего-то плохого?.. Или всё оттого, что обходят меня молодые?.. Чендрул. А там, глядишь, на моё место сядет Хэсу. Один раз он уже сел. Правда, и меня повысили. Только теперь мне уж тысячу не дадут. А чтоб место ему уступить, значит, надо погибнуть...»
Но Юйби почувствовал, как с рассветной прохладой легко взыграли в его теле мышцы; сотник подошёл к дереву, легко подпрыгнул, повис на ветке, потом с силой дёрнул телом и сломал её.
«Мы ещё повоюем», — весело подумал и стал наблюдать, как просыпается зарей некий лес.
Первым засуетился трудяга бурундук. Забегал по деревьям, завилял полосатым хвостом, что-то всё затаскивая в свою нору.
— Чив-чив-чив, — встрепенулась пичужка-синица.
— Иск-иск-иск, — завторила ей нежно и томительно другая лесная птаха.
Заволновалась, закурлыкала сойка, задолбил дятел.
Небо ещё больше заалело; сделавшись совсем зелёными листья буков, а туман, доселе висевший в ветвях пихт, сполз в долину.
Крадучись на кривых ногах, низкорослый, как кустарник, растущий у подножия деревьев, и сам, с взъерошенными на голове волосами, будто похожий на него, Юйби приблизился к лагерю своей сотни, чтобы проверить постовых, но опять беспокойные мысли, тревожившие перед рассветом, снова одолели его. Сотник начат сравнивать молодых и стариков, к коим причислял себя, и выходило не в пользу последних.
«Молодые командиры стали куда более сообразительнее, нежели мы в их пору. Да и внешне они отличаются от нас: ноги у них менее кривые, хотя тоже проводят в сёдлах не меньше времени. Выше ростом, и носы у них почти не приплюснуты, — усмехнулся Юйби. — И всё оттого, что берут в жёны девушек, молодок разных народов. Вот они и рожают гуннов другой формации... А то, что сообразительнее, потому как видят каждый день много интересного — другие земли, города, узнают другие нравы и обычаи...
Взять меня... До того, как идти с Ругиласом в дальний поход, лет десять я провёл в становище у карпатских венедов, делая лишь мелкие набеги на чужие племена... Существовали для меня одни и те же горы. Мозги и костенели...» — снова усмехнулся Юйби, но вывод о том, что «ещё повоюем!», снова отдался в голе волнением дикой крови, когда сотник услышал привычные ржание стреноженных коней и блеяние стада.
Вот и возницы, стуча оглоблями, начали закладывать повозки, чтобы сразу по приказу командиров тронуться в путь.
Ветер уже пошумливал верхушками буков и пихт, а не как спозаранку — ветвями; и брызнули первые лучи солнца...
Аттила в своей юрте собрал совет, на котором было решено — войско Увэя и племя гепидов во главе с Ардарихом пойдёт брать Августу Трсвиров,[134] Шуньди — город Аррас, Гилюй — Мец, сам же повелитель с тюменями Огинисия, Эдикона, Ислоя и Эллака, германскими племенами остготов, ругов, скиров, маркоманов, квадов, герулов, алеманов и славянским племенем склавенов отправится к Амьену.
Все названные города, построенные римлянами на лимесе Романус, представляли собой сильно укреплённые крепости. И это хорошо понимал Аттила — поэтому повелел командирам для их взятия применять любую тактику вплоть до обмана и подкупа. А во устрашение жителей, чтобы они не смели после ухода гуннов подняться в тылу с оружием, оставлять от городов и селений одни пепелища, не щадить никого и истреблять всех, даже малолетних детей.
Когда Аттила подходил к Амьену, он получил сразу три донесения: от Увэя, Шуньди и Гилюя — города Августа Тревиров, Аррас и Мец не только взяли, но сровняли их с землёй. Аттилу эти известия обрадовали ещё и потому, что начало похода складывалось как нельзя лучше.
После взятия Амьена повелитель сделал с ним то же самое и пошёл на Аврелиан[135], оставляя за собой кучу мёртвых тел, наваленных друг на друга так, что они образовывали как бы холмы.
Пылали пожары с достающими до неба узкими яркими языками пламени и, если в них попадали птицы, то они, опалив крылья, комками падали на землю. А дым густыми чёрными космами метался над лесом и полем, и издали казалось, что развевались огромные гривы бешено мчавшихся гигантских коней, на которых ездит по ночам богиня Даривилла.
«Поистине пылала костром большая часть Галлии, и не было ни у кого упования на стены», — читаем у историков.
Но как раз стены Аврелиана остановили почти безостановочный бег конницы Аттилы.
В этом городе проживало много ремесленников-оправщиков, ювелиров, у которых имелись богатые запасы серебра, золота и драгоценных камней, и Аттиле не хотелось поджигать его, как Амьен. Повелитель предпринял три штурма, применив для этого таранные машины, а в проломы в крепостных стенах пускал конницу. Но городской гарнизон успешно отбивал эти атаки, а проломы тут же быстро заделывались.
Городской гарнизон состоял из храбрых аланов, руководимых королём Сангибаном. Аданы считались преданными римлянам воинами; ещё три года назад с помощью отца Сангибана короля Гоара Аэций нанёс поражение восставшим в Галлии багаудам, да, видно, не такое сокрушительное, если это восстание перекинулось сейчас в Испанию, а в Галлии слилось с восстанием «армориканцев» под предводительством Думнорига и Давитинка, охватив побережья от устья Соммы до устья Гарумны, угрожая королю вестготов Теодориху.
Обложенный гуннами со всех сторон, Аврелиан начал испытывать недостаток в продовольствии. Аттила и рассчитывал на это, к тому же, он понимал, что теперь Сангибану без вылазок из города, чтобы пополнить съестные припасы, не обойтись. И тогда гуннский правитель вызвал к себе Чендрула и сказал:
— Настал твой час, тысячник. Как только король аланов предпримет вылазку, ты должен отсечь его и его охрану от основного отряда, но оставь живым...
— Будет исполнено, мой повелитель!
Когда довольно многочисленный отряд аланов во главе с королём через отворенные ворота вымахнул за городские стены и когда первые ряды осаждающих приняли на себя его мощный удар, тысяча Чендрула рванулась вперёд, вгрызлась в неприятельский отряд и стала отсекать от него Сангибана. Внезапный наскок тысячи произвёл на аланов настолько ошеломляющее действие, что большинство их растерялось. Правда, охранники короля рубились, как на цирковой арене гладиаторы, теснимые разъярёнными львами.
Но это ничего не дало, вскоре, отрезанный от основного отряда аланов, которого гуннская конница загнала обратно в город, Сангибан остановился.
Аттила демонстративно подъехал к нему на виду у всех, кто находился на крепостных стенах Аврелиана: повелитель знал, что об этом во всех подробностях будет доложено Аэцию...
Правитель предложил королю сдать город — Сангибан отказался, но вместо того, чтобы схватить последнего, отрезать ему уши, бросить в тулум[136], а затем отрубить и голову и сделать из неё для себя габалу[137]. Аттила приказа! короля аланов отпустить.
Аэцию доложили, что Сангибан, видимо, принял какие-то условия Аттилы, если вернулся в город целым и невредимым.
И тогда римский полководец поспешил к Аврелиану. Узнав об этом, Аттила отошёл от города, но теперь он был уверен, что в предстоящей битве Аэций, как прежде, королю аланов полностью доверять не станет...
Так оно позже и случилось: «последний великий римлянин» приказал войску Сангибана на поле боя находиться между римскими легионами и отрядами вестготов, чтобы аланы не могли вырваться ни вправо, ни влево, а продвигались, сражаясь, только вперёд. К тому же Аэций к королю аланов приставил своего сына Карпилиона и велел следить за ним в оба.
Два великих человека, некогда друживших между собою, и между которыми когда-то были чуть ли не братские отношения, Аэций и Аттила, выбрали для своего противостояния Каталаунские поля, и на них сошлось невиданное и неслыханное дотоле количество воинов — почти миллион.
Каталаунские поля, или иначе Мавриакские, — это равнина в Шампани к запасу от города Труа и левого берега верхней Сены. Она тянется на 100 левов в длину и на 70 в ширину. Галльская лева измеряется 1500-ми шагами. Этот равнинный кусок земли длиной примерно в 75 римских миль и шириной в 50, и стал местом сражения бесчисленных племён, «и не было тут, как говорит Иордан, никакого тайного подползания, но сражались открытым боем».
Но если внимательно посмотреть на равнину, то всё же она как бы вспучивалась в центре, вырастала вершиной отлогого с двух сторон холма. На правой Аттила разместил своё войско с союзниками, на левой располагались римляне также со своими союзниками.
Противники выстроились друг против друга, каждый уверенный в том, что именно ему удастся занять для себя выгодную вершину холма, откуда удобно станет наносить по врагу ощутимые удары.
Римляне как всегда расположились на поле когортами каждого легиона — по десять-одиннадцать в три линии: на правой — по четыре, на второй — по три. Между собой линии имели также промежутки, что позволяло в начале сражения легко им соединяться друг с другом или сужаться, а при энергичной атаке или обороне образовывать или круг, или каре, или клин, или, наконец, «черепаху». В последнем случае первый ряд держал щиты перед собой, а второй и третий — над головами.
Отдельные легионы тоже стояли так, что образовывали равные промежутки. А на их флангах располагались вспомогательные войска из варваров и своя, римская, конница.
Левый фланг занимали вестготы, франки, арморициане, литициане, бургунды, саксы, рипариолы, а также отряд, состоящий из ветеранов (бывших римских воинов), называемых брионами и носящих пышные бороды[138].
Многим было уже шестьдесят лет, но в битвах они не уступали молодым. Конечно, ветераны давно имели право на свой участок плодородной земли, но вот тех, кто стоял сейчас на поле битвы, земледелие не прельщало, и они, привыкшие к звону мечей, испытывали свою боевую судьбу до конца...
Почти каждый из них был одет в жёлтую шёлковую тунику, поверх неё — серебряная кольчуга, а на кольчуге — воинский плащ, застёгнутый на правом плече большим аметистом. На голове золочёный шлем, на поясе висел меч (gladius). Бёдра брионов опоясывала широкая алая лента, а на груди надета золотая цепь с портретом цезаря Валентиниана, но не третьего, а второго... Да и к Валентиниану II они относились снисходительно; для них авторитетом и родным отцом являлся полководец Арбогаст, франк по происхождению, чьё поведение вызываю некогда среди них восторги.
Избранный солдатами своим полководцем и пользующийся их любовью, Арбогаст, как пишет историк Зосим, был велик, держал себя свободно даже с императором и не давал ему делать то, что, по его мнению, было неправильным и неполезным.
Многие брионы, стоящие сейчас на Каталаунских полях, помнят, когда Валентиниан II, не выдержав, отрешил его от должности. Арбогаст прочитал документ и воскликнул, глядя в глаза цезарю: «Не ты дал мне власть над солдатами и не ты можешь её отнять!» Сказав это, он порвал документ, швырнул его на пол и ушёл.
Через несколько дней Валентиниана II нашли во дворце мёртвым. Арбогаст распространил слух, будто тот покончил с собой...
И для Аэция этот полководец также служил примером, поэтому «последний великий римлянин» из своих союзников больше всего жаловал короля франков.
По-иному Аттила построил своё войско. Сам он с храбрейшими гуннскими племенами хунугуров, биттугуров, алпидзуров, ултзиндзуров, савиров, альциагиров, бардоров, итимаров, тункасов и боисков занял срединное место: при таком расположении скорее обеспечивалась забота о своём повелителе, поскольку до него было трудно добраться... Крылья гуннских конников окружали многочисленные народы: герулы со своим умным храбрым королём Визандом, руги во главе с Визигастом, который был больше известен как отец красавицы Ильдико, совершенство которой воспевали поэты в своих сагах; квады с королём Дагомутом и его сыном Дагкаром, потерявшим голову из-за дочери короля Визигаста, но на поле боя умевшим сражаться как лев; далее гуннов окружали склавены со своими вождями Дроздухом, Милитухом и Свентославом; тюринги, скиры, лангобарды, или «длинные копья»; маркоманы, швабы и алеманы. Три последних германских племени Аттила выставил впереди всех; он не особенно надеялся на них — знал, что к вестготам эти народы стояли ближе по происхождению, и считал, что, если и перебегут на другую сторону — не беда, так как были малочисленны. Зато многочисленное войско союзников гуннов составляли остготы, самые надёжные воины, которыми предводительствовали их король Валамир, и его братья Теодомир и Видемер.
Аттила по-настоящему любил Валамира и доверял ему так же, как королю гепидов Ардариху. А Ардарих, по замыслу повелителя, должен будет сражаться против злейших своих врагов — франков.
Германцы, как с той, так и этой стороны, отличались высоким ростом и статью; силой своих мышц они превосходили даже римлян.
Приученные с детства к труду и суровой жизни, германцы с годами постоянно закаляли свой характер и тело: сохранение целомудрия как можно дольше для них было возведено в степень славы, и считалось позором, если кто узнал женщину до двадцати лет... Каждый был уверен, что женщины отнимают его рост и мускульную силу. Поэтому юноши и девушки безбоязненно и без стыда купались обнажёнными в реках, прудах и озёрах, не обращая друг на друга внимания. Ели сытную пищу — молоко, сыр и мясо.
Сражались германцы храбро. Первая атака, как правило, производилась ими конницей, но если не удавался первый удар, то боевые порядки германцев расстраивались, и воины тут же обращались в бегство. Бежали и конные, и пешие, а последние проявляли такую быстроту, что, держась за гривы коней, не отставали от всадников.
Эту их особенность знали хорошо и Аттила, и Аэций, поэтому заранее старались предвидеть всё на поле сражения...
С вершины холма подул ветер, качнул знамёна римлян и конские хвосты на пиках гуннов. Аттила проследил взглядом полёт орла и стал говорить...
Не знаю, на самом ли деле произносилась повелителем перед битвой «всех народов» такая длинная эмоциональная речь, но историк привёл её полностью. На мой взгляд, было бы интересно и нам ознакомиться с нею.
Вот она, эта речь:
— После побед над таким множеством племён, после того, как весь мир — если вы устоите! — покорен, я считаю бесполезным побуждать вас словами как не смыслящих, в чём дело. Пусть ищет этого либо новый вождь, либо неопытное войско. И не подобает мне говорить об общеизвестном, а вам нет нужды слушать. Что же иное привычно вам, кроме войны? Что храбрецу слаще стремления платить врагу своей же рукой? Насыщать дух мщением — это великий дар природы! Итак, быстрые и лёгкие, нападём на врага, ибо всегда отважен тот, кто наносит удар. Презрите эти собравшиеся здесь разноязычные племена: признак страха — защищаться союзными силами. Смотрите! Вот уже до вашего натиска поражены враги ужасом: они ищут высот, занимают курганы и в позднем раскаянии молят об укреплениях в степи. Вам же известно, как легко оружие римлян: им тягостна не только первая рана, но сама пыль, когда идут они в боевом порядке и смыкают строи свой под черепахой щитов. Вы же боретесь, воодушевлённые упорством, как вам привычно, пренебрегите пока их строем, нападайте на аланов, обрушивайтесь на вестготов. Нам надлежит искать быстрой победы там, где сосредоточена битва. Когда пересечены жилы, вскоре отпадают и члены, и тело не может стоять, если вытащить из него кости. Пусть воспрянет дух ваш, пусть вскипит свойственная вам ярость! Теперь, гунны, употребите ваше разумение, примените ваше оружие! Ранен ли кто — пусть добивается смерти противника, невредим ли — пусть насытится кровью врагов. Идущих к победе не достигают никакие стрелы, а идущих к смерти рок повергает и во время мира. Наконец, к чему судьба утвердила гуннов победителями стольких племён, если не для того, чтобы приготовить их к ликованию после этого боя? Кто же, наконец, открыл предкам нашим путь к Меотидам[139], столько веков пребывавший замкнутым и сокровенным? Кто же заставил тогда перед безоружными отступить вооружённых? Лица гуннов не могло вынести всё собравшееся множество. Я не сомневаюсь в исходе — вот поле, которое сулили нам все наши удачи! И я первым пущу стрелу во врага. Кто может пребывать в покое, если Аттила сражается, тот уже похоронен!
Стоящий рядом Чендрул отметил, как возбуждён и чрезмерно взволнован повелитель, и не потому, что он произносил речь... Какая-то неуверенность проскользнула в его словах, потому никто не сдвинулся с места, никто сразу не ринулся в бой. А сам Аттила глубоко дышал, короткий ус у него топорщился, на лбу выступил пот и в глубоких вырезах носа показалась кровь. «Уж не болен ли он?.. — предположил сармат Огинисий, и нехорошее предчувствие сжало его сердце.
А скиф Эдикон спросил Эллака:
— Твой отец перед битвой не обращался к авгурам или «святому епископу»?.. Те могли ему сказать такое, что сильно повлияло на нашего регнатора.
— Ты же знаешь, перед сражениями он редко гадает, ведает сам, что выиграет.
— Странно... Ну да ладно... Смотри, Аэций тоже закончил говорить. Сейчас он взмахнёт рукой...
Первые ряды римлян, вестготов и стоящие между ними аланы ещё сильнее заколотили копьями и мечами по щитам, затем главный знаменщик-драконарий поднял знамя из жёлтого шёлка, на котором был изображён страшный, не знающий жалости дракон, и тут взыграли трубы, металлические значки легионов с орлами звякнули. Вначале ровным шагом, который вскоре перешёл в беглый, пошли ветераны-брионы с громким криком:
— За Юла и Рею[140]!
Затем ринулись в бой воины храброго, стоящего на правом фланге легиона самого Аэция — десятого.
Повелитель тоже дал знак рукой, и кто-то в ответ брионам заорал что было мочи:
— За Аттилу и Юсту Грату Гонорию!
Гуннская конница на бешеном галопе стала обтекать римское войско, одновременно стараясь оттеснить железную силу противника от вершины холма.
Представьте, как топот сразу миллионного войска потряс землю! Сошлись врукопашную.
Завязалась доселе невиданная битва, страшная, «лютая, переменная, зверская, упорная», отмечал Иордан.
Надо сказать, что первыми на поле битвы сошлись гепиды со стороны Аттилы и франки со стороны Аэция. Сойдясь, они устроили такую мясорубку, что погибло сразу тридцать тысяч человек: пятнадцать — у гепидов, пятнадцать — у франков. Король гепидов Ардарих, сражаясь в первых рядах, был тяжело ранен, но остался в живых.
Небольшая река, протекающая по равнине, вскоре вышла из берегов от крови. Те, кого раны влекли к ней напиться, тянули губами не воду, а кровавые струи, ими же, ранеными, и пролитые...
Безумно, с выпученными от испуга и ярости глазами ржали кони, кусая, словно звери, и своих, и чужих, и растерзывал! копытами на части убитых и раненых. Было так тесно, что всадники, прижатые друг к другу, порою не могли даже взмахнуть мечом, не говоря уже о том, чтобы бросить копьё. Остготы, будучи рослее римлян, оттягивали руками их щиты и поражали врага в голову сверху вниз, а иные взбирались по трупам, как в гору, и метали оттуда дротики.
Кругом раздавались предсмертные крики и стоны; взревывали римские трубы, в ответ им отзывались рога варваров, ещё бешенее кричали гунны, прославляя Аттилу и грозного Пура.
Кровь лилась весь день.
А поздним вечером сын Теодориха Торисмунд, выбивший гуннов с вершины холма, думая, что там теперь его воины, делая обход, заблудился и напоролся на вражеские повозки. Отбиваясь, он сражался подобно матерому волку, застигнутому врасплох, но был ранен в голову, свалился с коня, — слава Вседержителю, в которого он неистово верил, что его подобрали римляне и умчали в свой лагерь... Рана оказалась лёгкой. Увидев Торисмунда, Аэций спросил его, почему не было видно на поле боя днём королевского знамени вестготов и где сейчас сам король? Сын тоже не знал, где находится отец и что случилось на поле боя с их знаменем.
А случилось следующее... Получив от Аттилы приказ захватить короля вестготов Теодориха и его знамя, Чендрул воскликнул:
— Воины моей железной тысячи! В неприятельском войске, словно в лесу, мы должны прорубить просеку... Вон к тому знамени! Там сражается король вестготов. Мы захватим его и знамя тоже. За мной!
И он первым ринулся вперёд, рядом оказался богатырь-остгот Андагис. Кинувшийся за ними сотник Юйби тут же был сражён стрелой, попавшей ему точно в глаз. Место сотника занял Хэсу. Круша врагов налево и направо, тысяча действительно прорубала себе как бы просеку. Это хорошо виделось сверху орлам, несмотря на страшный ад, что вершился внизу, летавшим медленными, спокойными кругами над Каталаунскими полями...
Андагис и метнул копьё в грудь Теодориха, но выхватить мёртвого короля, чтобы привезти его Аттиле, не смог: Теодорих вместе со своим знаменосцем тут же был похоронен под грудами поверженных тел, которые мгновенно вырастали курганами.
На рассвете короля вестготов обнаружили, и. чтобы отомстить за смерть отца, Торисмунд предпринял такой мощный натиск, что гунны, не выдержав его, скрылись за связанными между собой повозками и нагромождёнными, как валом, вокруг лагеря. Из-за них пустили рой стрел, и Торисмунд вынужден был остановить своё войско.
«Ещё один подобный натиск, и разношёрстное войско Аттилы побежит, как стадо баранов... — подумал Аэций. — Торисмунда ещё до полудня воины поднимут на щит, провозгласи его королём. И воодушевлённые, снова пойдут в бой, и тогда их уже ничем не остановить. Они раздерут голыми руками эти чёртовы гуннские повозки... И все плоды победы достанутся вестготам. И как это воспримут в Риме?.. Да сам знаешь как! И над моими легионами в Галлии нависнет смертельная опасность, ибо после своей победы вестготы осмелеют; к ним примкнут бывшие враги империи бургунды, которых я не раз усмирял огнём и кровью... Нельзя допустить, чтобы Торисмунд погнал Аттилу. Нельзя! Надо предпринимать что-то ещё до того, как сын погибшего Теодориха наследует его власть... Время идёт на часы... Нет, на мгновения!»
И вдруг Аэция осенило: «Багауды! И жадный до власти Теодорих, подзуживаемый Аттилою...»
Полководец сам поспешил в палатку к Торисмунду. Тот сидел опечаленный посреди неё на каком-то деревянном обрубке, глаза сухо блестели... «Лучше бы, чтобы они были мокрыми от слёз...» — на мгновение подумал Аэций.
— Храбрый Торисмунд, я видел — ты сражался как лев, мстя за своего отца. Прими от меня искреннее соболезнование. — «Последний великий римлянин» откинул полу плаща и, преклонив колено, дотронулся рукой до плеча старшего сына короля вестготов. — Ещё несколько натисков, таких, как тот, который ты предпринял ранним утром, и Всевышний дарует нам победу... Теперь я могу и сам управиться с ненавистным нам, кровожадным Аттилой. Тебе же нужно возвращаться домой. Я получил известие, что багауды вновь подняли головы, пользуясь твоим отсутствием в Аквитании, и предлагают на трон твоего коварного брата Теодориха...
— Да, второй по рождению брат мой коварен, и, видимо, достоверны твои сведения... Хорошо, я снимаюсь и ухожу со своим войском с поля битвы, так как, видимо, мне предстоит поле битвы другое, — неожиданно быстро согласился Торисмунд.
Но утром следующего дня и Аттила увёл свои войска от Каталаунских полей, хотя целый день, сидя за повозками в своём лагере, он как бы демонстрировал силу: бряцал оружием, трубил в рога, угрожал набегом; «он был подобен льву, прижатому охотничьими копьями к пещере и мечущемуся у входа в неё: уже не смея подняться на задние лапы, он всё-таки не перестаёт ужасать окрестности своим рёвом».
Но, увидев, что вестготы, с песнопениями и рыданиями оплакав своего погибшего короля и выбрав нового — Торисмунда, ушли тоже, Аттила снова воздвиг свой лагерь, предполагая некую хитрость со стороны врагов. Но дух великого правителя гуннов уже обретал прежнюю уверенность, и на хитрость Аттила уже готов был ответить хитростью... А ведь раньше, уверовав, что противник прорвёт оборону и наступит вероятность того, что его захотят захватить живым, Аттила приказал из конских седел соорудить костёр, чтобы войти в него и сгореть...
О своих величественных похоронах в трёх гробах он уже и не думал — главное, не попасть в руки врага, а если случится такое, то этот страшный позор падёт на головы и его сыновей, и они не смогут далее управлять своим народом. А гунны как великие племена ещё должны существовать, и многие народы ещё падут перед ними на колени.
Аттила помнит, как тщательно скрывали ото всех позорную гибель от рук женщины Мундзука, отца. Но его сыновьям нечего будет скрывать и стыдиться за отца. Он сам взойдёт в огонь, и пламя нежно обнимет великого воителя и повелителя... Вот тогда-то и станет его самосожжение началом победы всего народа!
Но подвоха со стороны вестготов не произошло: они действительно покинули поле битвы — об этом вскоре сообщили Аттиле разведывательный и заградительный отряды Кучи и Аксу. И тогда повелитель снова поверил в свою могущественную судьбу и, не предпринимая больше никаких сражений, снялся окончательно и повёл своё войско... на Рим.
Надеясь опередить Аэция, он хотел первым прийти в Италию и опять потребовать к себе Гонорию с её приданым...
Дорогою Аттила стал подсчитывать свои потери: из его славных полководцев погиб Шуньди. сармат Огинисий, гунн Ислой, сотник Юйби, а славу великого воина приобрёл Андагис... Он и стат тысячником по велению повелителя вместо Чендрула, а сам Чендрул принял Тюмень погибшего Ислоя.
Хэсу тоже за свою храбрость был отмечен: получил в награду сотню Юйби, всех его жён в придачу и ещё одну железную свистящую стрелу.
У склавенов погибли Дроздух, Милитух и старейшина Мирослав. Да и от их войска осталось совсем немного.
Склавены на удивление стойкие воины, храбрые до безумия. Если склавенов определить на место, то они его не покинут, не побегут, как, скажем, германцы, римляне или даже гут мы, а будут биться до последнего своего ратника...
Об этом их качестве хорошо знал Аттила, и поэтому войско Свентослава поставил впереди всех... С гепидами вместе. Полегла большая часть гепидов и очень много склавенов. Пока они стояли насмерть, конница гуннов сумела тем временем взять небольшую выпуклость на Каталаунских полях, которую, правда, скоро и потеряли.
Аттила тех, кого из погибших начальников сумели забрать с поля битвы, приказал, переправившись снова через Рейн, с почестями сжечь на погребальном костре. Пепел раздул ветер, а повелитель двинулся дальше.
V
— Аттила, как леопард, сделал прыжок через Альпы и уже находится под городом Аквилейей, на берегу Адриатического моря, — радовался король вандалов Гензерих в кругу своих сыновей. — И это нам на руку, как была на руку Каталаунская битва, в которой погибло по сто шестьдесят тысяч человек с обеих сторон... И знаете, мои любимые сыновья, мы поможем гуннскому владыке...
Узрев на лицах сыновей изумление, Гензерих добавил:
— Мы устроим в Римской империи ещё больший голод. Мы ещё чаще будем захватывать корабли с хлебом, идущие из Сицилии. Тогда император станет сговорчивее, и Аттила возьмёт то, что требует в приданое за Гонорией.
— Неужели, отец, она действительно хочет стать женой этого тёмного, с приплюснутым носом дикаря-язычника? — спросил Гунерих.
Сколько бы Гензерих не учил второго от рождения сына не задавать отцу лишних вопросов, а молча слушать, как другие его братья, во всём доверяясь, — как об землю кокосовые орехи, что падают с пальмы... Отскочили — и всё! Так отскакивают от Гунериха и поучения отца. Но раз вопрос задан — надо отвечать.
— Любопытный сынок, — слегка пожурил Гунериха. — А почему ты думаешь, что Аттила тёмный дикарь?.. И ставишь ему в вину, что он язычник... А разве мы не были язычниками до того, как возникло арианство, и мы приняли в качестве веры это учение александрийского пресвитера, истолковавшего нам христианство как исповедание Единого Бога?! И разве мы не собирались в лунные ночи в Вандальских горах[141], не приносили, как жестокие дикари, своим богам человеческие жертвы?! А ведь с того времени прошло всего два столетия...
Старший сын Гизерих слушал отца с понимающей улыбкой, Гунерих хмурился, набычив лоб.
— Что же касается твоего вопроса о Гонории... Да, она хочет стать женой Аттилы, и ничего ей больше не остаётся. Ведь она живёт как в темнице, а порой её за гонористый характер — недаром её зовут Гонорией, — Гензерих захохотал и мелко забегал, хромая, по кабинету, как подраненный хохластый петух, — заключают и в настоящую темницу. А потом её брат собирается выдать её за безродного человека и отправить далеко от Рима... В какую-то глушь.
Говоря об этом, Гензерих явно никакого сочувствия к Гонории не испытывал.
— Обо всём этом мне доносят мои люди, которые находятся по всей Римской империи. Конечно, Валентиниан — полный дурак, а когда не стало его матери Галлы Плацидии, он такое вытворяет, что даже мне стыдно становится за римлян... Но они достойны этого. Какой народ — такой и правитель... Мне только жалко красавицу императрицу Евдокию и двух её дочерей Евдоксию и Плацидию... Кстати, Гунерих, одна из них могла бы быть твоей женой...
— Чтоб ты ей тоже, как Рустициане, обрезал уши и нос! — с вызовом, угрюмо и настойчиво произнёс Гунерих[142].
Братья испуганно взглянули друг на друга, зная крутой нрав отца, и каждый задался вопросом: «Что будет?!»
Но Гензерих ничего не сказал; лишь сурово взглянул на сына, в глазах которого узрел слёзы, и они-то остудили его вскипевшие было гнев и ярость, — и он взял себя в руки...
«Я понимаю, Гунерих любит Рустициану до сих пор, но это не должно быть веской причиной того, что он мне, королю, может заявлять такое!.. Благодари, паршивец, что и у тебя, как мужа предполагаемой отравительницы, я не обрезал тоже уши и нос! — И вдруг поймал себя на мысли: — Ты подумал — «предполагаемой»... Да, вина её полностью так и не была доказана...»
— Мы о гуннах и Риме продолжим разговор в другой раз... А сейчас все уходите. Я хочу остаться один.
Братья недовольно покосились на Гунериха, а тот был взбешён не менее отца. Он выбежал из покоев короля и направился на корабельную верфь. Только там, взяв в руки топор и начав работать им, почувствовал себя спокойнее.
В открытые в стене двери было видно, как жемчужилось море у берега, но солнце жарило так, что на горизонте вода имела белый, выцветший вид...
Когда императору Валентиниану III донесли, что воины Аттилы на Каталаунских полях бросились в сражение с именем его сестры на устах, он испугался... А узнав, что его солдаты шли в битву, упоминая Юла и Гею, расплакался, как ребёнок... И велел позвать Евдоксию.
Жена явилась. Он припал головой к её бедру и проговорил сквозь рыдания:
— Евдоксия, милая, меня не любят... Никто из солдат на поле битвы не произнёс моего имени, а это плохой признак. Значит, их настраивает против меня «последний великий римлянин»... Когда жива была мама, он боялся её, теперь, вернувшись, он всё будет делать для того, чтобы от меня избавиться... Ты видела вчера, какими непослушными глазами он смотрел на меня!
— Успокойся, дорогой мой. Про глаза не сочиняй... Тебе показалось, он по-прежнему внимателен и вежлив...
— Врёшь ты все! Внимателен и вежлив он с тобой, и не больше! Ты тоже сучка хорошая! Уходи! — вдруг взвизгнул император и, схватив за руку любимую служанку, с которой надувал мыльные пузыри, потащил её в спальню. Оттуда крикнул: — Была бы мама со мной, она бы вам всем показала, как нужно со мной обращаться...
«Скотина, совсем ополоумел... Удержу никакого! Господи, как он мне надоел, ненавижу его! — зло кусая губы, почти бежала в свой кубикул Евдоксия. — То, что он развлекается со служанками у меня на виду — это ладно... Но мне донесли, что недавно, пользуясь неограниченной властью, он принудил жену сенатора Петрония Максима, вечного противника Галлы Плацидии, к сожительству... Бедняжка хотела отказать, но Валентиниан пригрозил, что обезглавит её мужа, а саму с семейством сошлёт куда подальше. Испугавшись, чистая, великодушная женщина уступила. а потом покончила с собой... Петроний сразу обо всём догадался... Вот от кого надо ждать отмщения!.. Хотя сам Петроний Максим — подлец из подлецов, склонный к мужеложству...»
Грязно насытившись служанкой и прокусив ей щёку, Валентиниан лежал на спине, раскинув руки, так что локоть левой покоился на женском животе, и прислушивался к шуму, доносившемуся с улиц Рима. Какие-то постоянные крики раздавались там; потом объяснили императору: это люди, как собаки, дерутся из-за куска хлеба, отнимая его друг у друга... С Форума тянуло дымом — там ежи гати чумные трупы...
«Я чувствую, как душит меня этот город... Он словно живой призрак с железными пальцами подбирается к моему горлу. Он доконает меня... Равенна! Вот где я чувствовал себя хорошо... Если бы не Гатла Плацидия, моя добрая милая мама, то я бы ни за что не уехал оттуда...»
За два года до Каталаунской битвы Галлу Плацидию стати снова одолевать дикие головные боли, и уже не помогали никакие средства. А ночью так отдавало в затылок, что Плацидия начинала громко кричать, и никакие врачи ничего не могли поделать... Гонория, опять оказавшись в дворцовой темнице, слышала крики матери, поначалу к ним она оставалась равнодушной, но потом как дочь, несмотря на перенесённые по вине Плацидии муки, стала жалеть. Гонория почему-то сразу уверилась в то, что к матери подступает смерть...
С равеннских болот поднимались зловонные испарения, они были гуще по утрам, когда боли у Плацидии немного утихали, но не так, чтобы дать уснуть; к тому же через плотно закрытые окна всё равно проникал едкий запах, лез в ноздри и мешал даже вздремнуть. А тут ещё начинали орать выпи — их в последнее время развелось в болотах видимо-невидимо. Однажды поздно вечером несколько десятков этих птиц приблизились ко дворцу. Покрытые серовато-жёлтыми перьями, с грязно-жёлтыми клювами, жёлтыми глазами и такими же жёлтыми ногами, они были настолько отвратительны, что стражники тут же постреляли их из луков...
Плацидия уговорила сына и сенаторов переехать из Равенны со всем двором в Рим, — Августе казалось, что там ей умирать будет спокойнее (если это слово вообще применимо к умирающему человеку!). А то, что она умирает, Плацидия знала, как знала об этом Гонория, которую, кстати, в связи с переездом двора освободили из темницы.
И как только двор переехал в Рим, Плацидия скончалась: 27 ноября 450 года.
Когда её хоронили, искренне скорбел весь Рим. Хотя она не была истинно православной веры, но на участие в похоронной процессии дал согласие сам папа Лев I. Несмотря на свои скромные способности правительницы, Галла Плацидия, которую нельзя нажать великой, всё же более двадцати пяти лет удерживала в своих руках разваливающуюся с каждым днём империю.
Шагая в похоронной процессии, Лев I с любопытством, искоса бросая взгляды, рассматривал рядом с ним шагавшего Валентиниана III, оставшегося без опеки. Он видел его всего один раз в Равенне, куда ездил, как только в 440 году заполучил тиару. Там ему представили императора, как показалось папе, худенького отрока, хотя этому отроку, отцу семейства, было тогда уже двадцать два года. Позже, убедившись в его слабоумии, папа призвал Бога и Иисуса Христа, чтобы они как можно дольше продлили жизнь матери Валентиниана, несмотря на её пороки...
И вот Плацидии не стало. А что касаемо пороков, то это свойство человека, наделённого разумом, плодить их и приумножать. Заметьте, что они отсутствуют в среде животных, дьявол и рассчитывает всегда на умение человека думать и, «прозревая», творить грех.
Совсем недавно доложили папе, что в Риме возникла новая христианская секта, так называемое «братство адамитов», в которую входили представители обоих полов. Обедни, молитвы, молебны они совершали ночами, а приступая к святому причастию, предавались непристойнейшим объятиям и блуду.
«Грехи наши тяжкие!» — воздыхал папа и, когда процессия проходила мимо Латеранского дворца, где находилась его резиденция, вдруг неожиданно возникло перед глазами лицо старого священника Присциллиана... «Вот он и мой великий грех!» — с ужасом подумал Лев I.
Святой отец Присциллиан не хотел признавать, что папа Лев I есть наместник Христа на Земле. Тогда Присциллиана схватили, заковали в цепи и бросили в темницу. Потом монахи бросились выяснять: согласен ли он отречься от своих заблуждений?..
Так как несчастный отказывался отвечать, палачи вложили его ноги и руки в тиски, а когда лопнула кожа и начали выходить кости из суставов, подтащили его к огню.
— Отрекись от своих ошибок, Присциллиан, и прославь Льва, отца верующих!
В страшных мучениях Присциллиан возносил молитвы к небу и отказывался славить папу.
Тогда приступили к пытке огнём. Несчастному спалили волосы и кожу на голове, прижигали тело раскалённым железом, капали на открытые раны горячим маслом, и, наконец, палач влил в него кипящую жидкость; после двух часов нечеловеческих мучений Присциллиан испустил дух...
О пытках священника папа знал и не остановил казнь. В назидание другим. Разве папа не наместник Христа на Земле?! Пусть попробует кто ещё усомниться.
Рим, и в тебя скоро также вольют кипящее масло...
Бежал-бежал зверь исполинский, неведомо какой породы, и достиг Адриатического залива, в небе блеснула молния, пала на землю и впилась зверю между рогов. Замертво упал он на берегу и далеко в море высунул свой огромный язык. Из него и образовался языкообразный выступ, а на нём уже со временем возник город Аквилейя — главный город провинции Венетии, город, омываемый не только морем, но ещё и с востока рекой Натиссой.
Аквилейя, окружённая двойными каменными высокими стенами, представляла собой неприступную крепость: тактика её взятия «лавиной», которую применил Аттила при сокрушении Августы Винделиков, тут не подходила. С одной стороны только и можно было подступиться к крепости, со стороны суши.
Аттила, посовещавшись со своими начальниками, переправился через Натиссу и стал медленно подбираться к Аквилейе; для этого сосредоточил огромное количество метательных машин и несколько таранов. Вначале заработали метательные машины, кидая за стены горшки с горящей смесью, зажжённые факелы, многопудовые камни, что откалывали пленные от рядом стоящей скалы, а потом подвинули тараны... Но как только они оказались у ворот, ворота распахнулись, и римляне с диким рёвом выхлестнулись через них, перебили тех, кто обслуживал эти машины, порубили поддерживающие отряды гуннов, закатили тараны в город и ворота за собой с лязгом железным захлопнули.
— Гарнизон Аквилейи храбрый и хорошо обучен, — сказал Аттиле стотысячник Гилюй. — Много у нас, повелитель, войска, но количеством здесь ничего не сделаешь... Скажи, великочтимый, а зачем он тебе нужен, этот город?
— Тебе бы. Гилюй, всё по степям скакать... Я хочу иметь его как защиту у себя в тылу. Пойдя на Рим, буду знать, что спина моя также хорошо закрыта, как грудь и живот...
Наблюдая за неудачными попытками повелителя взять почти неприступную Аквилейю, в голову к Ириску приходили мысли, что уже четыре года Аттила вот так же безуспешно бьётся за несчастную женщину, стремясь вызволить её из плена, четыре года с того дня, как он передал Аттиле письмо от Гонории с просьбой взять её в жёны. И четыре года Приск также находится рядом с правителем гуннов, ведя свои записи обо всём, что тот делает и говорит... (В скобках замечу, что потом писатели Иордан и Прокопий Кесарийский многое используют из того исторического материала, к сожалению, мало до нас дошедшего, которым поделился со своими современниками фракиец Приск, бывший секретарь византийского императора Феодосия II. Использовали Иордан и Прокопий из записок Приска в своих трудах и эпизод с аистами...).
Ещё несколько приступов предпринял Аттила на Аквилейю, и снова неудача... Уже начали роптать воины.
— Боги отступились от нашего повелителя, — говорили они.
Зеркон Маврусий пришёл к грозному владыке и сказал ему:
— Поставленный солнцем и луной, ты велик, Аттила. Но всё же человек... Наверное, ты тоже устал... В последнее время мне снится, что я несу на спине вместо горба целую гору. Твоя же гора на спине — это бремя забот целого мира. Подумай, рождённый землёй и небом, над тем, не повернуть ли нам вспять от этого города?..
Ничего не ответил мудрецу Аттила, лишь угостил его из своей чаши напитком кам. Вышел повелитель из палатки и, окружённый военачальниками, стал прохаживаться недалеко от каменных стен крепости, раздумывая над словами горбуна. И вдруг обратил внимание, что белоснежные аисты, которые обычно устраивают свои гнезда на крышах домов, тащат птенцов из города и, вопреки своим привычкам, уносят их куда-то за поля... И тогда он повернулся к Гилюю, с которым тоже недавно спорил, и поделился соображением.
— Посмотри, — сказал Аттила, — на этих птиц: предвидя будущее, они покидают город, которому грозит гибель, они бегут с укреплений, которые падут, так как опасность нависла над ними. Это не пустая примета, в предчувствии событий, в страхе перед грядущим меняют птицы свои привычки...
Аттила был очень проницательным и пытливым, отмечает Приск.
Повелитель придумал соорудить несколько деревянных башен, поднимавшихся выше зубцов стен, и поместить их на крепко связанные три больших плота. Затем все эти громоздкие сооружения столкнули в реку и подвели вплотную к крепостной стене. Наверх башен он послал тысячу Андагиса. Воины тут же перекинули на крепостные зубцы мосты и бросились по ним на стену, а оттуда к воротам. И вскоре распахивают их... Гуннская конница яростно врывается в город, грабит, делит добычу, разоряет всё с такой яростью, что, как кажется, не оставляет от города никаких следов... И уже Иордан сообщает далее, что «ещё более дерзкие после этого, всё ещё не пресыщенные кровью римлян, гунны вакхически неистовствуют по остальным венетским городам. Опустошают они Медиолан (Милан), главный город Лигурии; равным образом размётывают Тицин (Павию), истребляя с яростью и близлежащие окрестности, наконец, разрушают чуть ли не всю Италию.
Но когда возникло у Аттилы намерение идти на Рим, то приближённые его...»
Вот здесь мы вместе с приближёнными Аттилы переведём дух... И вспомним, читатель, кое-что из прошлого, может быть, уже и слегка подзабытого.
410 год. В тот год происходят впервые разрушение Рима королём вестготов Аларихом. Вестготы, как известно, были христианами, исповедуя веру Ария, и Аларих запретил своим воинам убивать мирных жителей и грабить святыни апостолов Петра и Павла; папа Иннокентий бежал из Рима в Равенну, покинув всё на произвол судьбы. Но от убийств варвары не удержались и кое-какие святыни утащили, за что папа из Равенны проклял Алариха...
И что же произошло дальше? Аларих увёз из Рима огромные сокровища и увёл с собой Галлу Плацидию, но по пути в Африку внезапно скончался...
Власть перешла к его родственнику Атаульфу, который взял в жёны Галлу Плацидию, затем вернулся в Рим и разрушил его во второй раз. Папа перед лицом Бога проклинает и этого варвара. Через пять лет Атаульфа и его шестерых детей убивает Сингерих, а Плацидию выдворяет из барцелонского дворца и далее гонит её под нещадным испанским солнцем вместе о другими пленниками, а сам, торжествуя, едет верхом. Вот тогда-то с Плацидией случается удар, от которого она много позже и умерла...
Через неделю Сингерих был убит Валлием, который обменял Плацидию на шестьсот тысяч мер пшеницы. И Валлия настигает проклятие: когда его корабли шли в Африку, налетела буря и разметала их в щепки... Да, ты правильно догадался, читатель! Когда возникло намерение у Аттилы идти на Рим, то приближённые его, как передаёт историк Приск, отвлекли правителя от этого, однако не потому, что заботились о городе, коего являлись врагами, но потому, что имели перед глазами пример Алариха, Атаульфа, Сингериха и Валлия... (Я уверен, что о постигшем их несчастье в результате проклятия Аттиле красочно поведал Приск; всё же сколько бы он ни находился у гуннов, как бы ни восхищался их умным грозным владыкой, допустить на этот раз уже полного уничтожения самого красивого города на земле учёный не мог).
Аттила, как и многие в то время правители, да и люди вообще, не лишён был суеверия. Более того, он возил с собой, вы помните, разного рода прорицателей, гаруспиков, авгуров и «святого епископа»; когда повелитель спросил последнего: как ему быть? — тот ответил:
— На Рим не ходи!
Тогда Аттила обратился к авгурам, гаруспикам и прорицателям. И сын его Эллак, зная, что отец прибегает к их помощи только в крайнем случае, с тревогой наблюдал, как колеблется могущественный дух отца относительно этого опасного дела — идти на Рим или не идти?.. И Эллак сделал для себя печальный вывод: «Колебание его души есть следствие неудачи на Каталаунских полях...»
Как-то Приск и Эллак спросили Аттилу, почему он верит предсказаниям авгуров, которые гадают по полёту птиц...
— Разве птицы знают будущее?..
— Да, птицы не знают будущего... Вы правы! Но направляется их полёт так, что исходящий из клюва звук и быстрое или медленное движение крыльев открывает будущее. Точно так же гаруспики, умеющие исследовать вещие внутренности животных и открывающие несчётное разнообразие их изменений, узнают по ним будущее.
— Отец, ты веришь и прорицателям, которые в припадке вдохновения изрекают божественные слова?..
— Да, сын мой, верю, и ты должен им тоже верить... Потому что солнце, этот мировой разум, источает наши души из себя, как искры, и когда оно сильнее их воспламенит, то делает их способными познавать будущее... Кроме того, много чего человеку могут сказать случайно раздавшиеся голоса и природные явления, особенно удары грома, блеск молний и падающие звёзды...
Пока Аттила пребывал в раздумьях и пока войско его буйствовало, подоспело посольство из Рима во главе с напой Львом I. На Амбулейском поле, там, где течёт река Минций, возле переправы[143], Аттила встретился с папой, и тот стад уговаривать грозного владыку оставить затею с походом на Рим.
— Иначе и ты, как твои предшественники, подвергнешься проклятию...
Но только после того, как Аттила узнал, что в Риме свирепствует голод и появилась чума, он спросил Льва I:
— Если я отменю своё решение идти на Рим, пришлёте вы мне Августу Гонорию, которая хочет стать моей женой?
— Непременно пришлём, сын мой.
— Хорошо, отец мой, — съязвил Аттила.
Думается, что только чума и голод остановили Аттилу... К тому же на помощь Риму шли византийские войска императора Маркиана.
После разговора с папой Львом I, которому приписывают «чудодейственное влияние на дикаря» (Лев I значится святым в католических святцах), Аттила повернул назад и ушёл в своё дунайское становище.
Папа, обещая прислать Гонорию, обманывал Аттилу: её уже выдали замуж за безвестного чиновника и отправили на Капри, где она через год, узнав о смерти Аттилы и таким образом лишившись моральной поддержки, которая питала её силы, увяла и умерла лета 454-го.
Вернувшись в Паннонию, гунны снова поставили Марсов меч скифов на то самое место, где нашёл его пастух. «А как звать того пастуха?» — поинтересовался Аттила. Тогда начали искать пастуха, но так и не нашли. Знать, сгинул в пыли дальних дорог, странствуя вместе с войском...
Но сидеть в становище и чего-то ждать — не в характере Аттилы. Он позвал секретаря Ореста, сына Эллака, скифа Эдикона, стотысячника Гилюя, Зеркона Маврусия, Приска и сказал:
— Надо посылать посольство в Константинополь к Маркиану и выговорить ему его же словами: если для друзей у него золото, а для врагов железо, то мы, как друзья, требуем от него, должника, золото, а если он считает нас врагами, то мы придём к нему и дадим железо...
В июле 453 года скончалась императрица-девственница Пульхерия, так и не осуществив свою месть до конца в отношении жены брата Афинаиды-Евдокии; несколько раз она подсылала в Иерусалим убийц, но безрезультатно. Наоборот, Афинаида-Евдокия сама «возвращала» сполна этим убийцам. Скорее всего её сам Бог хранил: после того, как она написала поэму о святом Кинриане, эта талантливая женщина героическими стихами перевела места из Ветхого Завета: книги Моисея, Иисуса Навина, Судей, Книгу Руфь. Она перевела также Пророчество Захарии и Даниила, и грамматик Цец в свою очередь высоко ценил талант «золотой императрицы, очень премудрой дочери великого Леонтия». Она сочинила также «Hoinerocentra, или Гомеровские центоны», в которых пыталась рассказать эпизоды из жизни Христа гомеровскими стихами, искусно подобранными. Это, впрочем, был род сочинений, крайне любимый в её время, и, прилагая тут своё старание, она только продолжала, как сама в том признавалась, дело одного из своих современников, епископа Патрикия...
Через два месяца после похорон Пульхерии Маркиану приснился сон: будто едет он верхом по незнакомой степи, один-одинешёнек. Но не боязно василевсу, едет с радостно бьющимся сердцем, хотя небо над степью заволокли тучи... И вот над головою Маркиана небо очистилось, лишь вдали оно тёмное, и там полыхают молнии. И вдруг слышит над собой громовой голос:
— На вас, погрязших в пороках и блуде, отступивших от моих заповедей, наслал я грозного владыку, чтобы он жестокостью своей напомнил о смысле жизни... Вы прозвали его «Бичом Божьим», и он был в руках моих действительно бичом, загоняющим непослушное стадо в стойло. Таким непослушным стадом виделись вы мне... Теперь он выполнил свою миссию на земле, и я показываю вам его сломанный лук... Взгляни сюда, император!
Маркиан поднимает голову и видит в очистившемся клочке неба Божество, которое держит в руках сломанный лук...
«Что бы это значило?» — думает император, проснувшись. Через несколько дней всё прояснилось: гонцы доложили, что в ту ночь, когда василевсу приснилось Божество со сломанным луком, умер гроза христиан всего мира Аттила...
Когда в первый раз Аттила увидел дочь короля ругов Визигаста Ильдико, он на очаровательного подростка тогда не обратил особого внимания. Потом всё чаще и чаще слышал, что у Визигаста растёт прекрасная принцесса, правда, Визигаст пообещал королю квадов выдать дочь свою за его сына Дагкара, но, может быть, всё же стоит посмотреть на неё самому Аттиле, чтобы взять в жёны Эллаку.
Аттила согласился посмотреть. Узнав, что будут делать смотрины Ильдико, Эллак весь так и вспыхнул, он видел эту шестнадцатилетнюю красавицу, завидовал Дагкару, с которым дружил, а тут выходило так, что обладать ею станет он сам... Одно дело — пленные красавицы, даже девственницы, другое — нежная, как китайская фарфоровая ваза, царская дочь, законная жена... Сказал об этом Ириску, с которым ещё больше сблизился и который много чего дельного советовал ему на правах старшего друга...
— Что ж, в добрый путь, как говорят у нас во Фракии, — с улыбкой похлопал Эллака по плечу Приск.
Но вот тот день, когда Визигаст с дочерью Ильдико предстал перед повелителем, стал для Эллака чёрным днём в его жизни, ибо, увидев юную нежную красавицу, Аттила решил взять её себе в жёны. Когда ему доложили, что сын сильно переживает его решением, он ответил:
— Ничего, ещё много таких красавиц, как Ильдико. встретится на его пути, а у меня, может быть, она — последняя...
И как в воду глядел... Или вычислил по полёту птиц, или сказал ему о том, что Ильдико будет его последней женой, обильно падающие в конце августа с неба звёзды...
Связанный с королём квадов словом, король Визигаст попросил Аттилу, чтобы «святой епископ» освободил его от этого слова.
Повелитель мрачно пошутил:
— Считай, что я тот самый «святой епископ» и есть... Освобождаю.
Свадьба проходила так же степенно-размеренно, как в прошлый раз, когда Аттила женился на Креке. Та уже родила ему дочь, но тем не менее повелитель за столом сажал Креку по левую руку от себя — он очень уважительно относился к этой преданной ему женщине, бывшей массажистке. Думали, что женитьба Аттилы на ней всего лишь маскарад, который был необходим, чтобы умертвить Бледу и его жену Валадамарку... Да и Крека искренне любила, в отличие от многих жён повелителя, своего господина.
На свадьбе, как всегда, попросили талагая Ушулу спеть свои дурацкие песни. Он не отказывался, встал посредине, и вместо того, чтобы спеть, вдруг по-волчьи завыл, завыл так, как волчица-мать воет, когда охотники или пастухи разоряют её нору и уносят волчат. Ушулу наддали пинком под зад, и он выкатился со свадьбы, и больше его не пускали. Кажется, про выходку дурачка все скоро забыли, но только не горбун Зеркон Маврусий... Он сидел как-то тихо, никого не касаясь, и внимательно смотрел на правителя; тот был чересчур весел, постоянно обнимал, прижимая к боку, молчаливый, закутанный во всё белое, женский комочек тела, что-то рассказывал Гилюю и всё пил и пил из габалы вино... И горбун уже наяву, а не во сне чувствовал, что у него на спине не горб, а целая гора...
Вечером Аттилу и Ильдико проводили в отдельную, приготовленную для этого случая палатку и приставили ко входу тургаудов. Тургауды слышали ночью, как плакала Ильдико, как она что-то говорила повелителю, тот даже накричал на неё, потом всё стихло... Перед утром слышно было, как наливал Аттила себе вина.
Уже солнце поднялось: яркие лучи впились в золотой набалдашник, которым украсили палатку повелителя и его юной жены. Внутри палатки всё ещё было тихо.
— Утомился правитель, — пошутил кто-то из тургаудов.
Повелитель и Ильдико продолжали спать, поэтому приказано было поставить возле палатки очередную смену телохранителей.
Прошло и ещё время, а в палатке никто не шевелился... Солнце уже высоко встало; первым забеспокоился Эллак, прибежал к горбуну.
— Зеркон, чует моё сердце что-то неладное... Я в свадебную палатку к отцу как сын, сам понимаешь, зайти не могу... Вдруг они лежат обнажённые... Иди, посмотри.
Зеркон Маврусий, откинув полог белой кошмы, проскользнул внутрь. Пробыл там недолго. Как только появился, произнёс три загадочных слова:
— Не стало горы...
Повернулся к сыну повелителя и тихо добавил:
— Иди теперь ты, Эллак...
Вскоре в палатке раздался громкий крик, и тогда уже другие приближённые Аттилы ворвались в неё. Они увидели своего владыку, плавающего в крови, и рядом плачущую Ильдико с опущенным лицом под покрывалом...
Табиб объяснил потом, что ослабевший от великого наслаждения юным телом, а затем отяжелённый вином и сном, Аттила уже под утро, когда вставал, чтобы налить вина, упал и потерял сознание. Из него хлынула кровь, но пошла она не как обычно, через ноздри, а стала изливаться по смертоносному пути — через горло и задушила его.
Опьянение принесло постыдный конец прославленному в войнах повелителю полумира. Знать, так угодно было великому Божеству...
Когда объявили воинству и всем гуннам о смерти правителя, мужчины отрезали на голове часть своих волос и взбороздили ножами лица глубокими ранами, чтобы их повелитель был оплакан не воплями и слезами женщин, а кровью мужей...
Прошло первое оцепенение. Кровь на лицах мужей запеклась. Стали думать, как и где почтить останки Аттилы.
Эллак, Приск и Орест предложили поставить шёлковую палатку возле пещеры дикого быка, там, где в дереве до сих пор торчит копьё Повелителя.
С ними согласились. В шёлковую палатку поместили мёртвое тело Аттилы, и отборнейшие всадники всего гуннского племени, объезжая её вокруг, в погребальных песнопениях поминали его подвиги. А Великий жрец, избранный Великим плакальщиком, произнёс такие слова:
— Поставленный на землю Солнцем и Луной, великий король гуннов Аттила, рождённый от отца Мундзука, господин сильнейших племён! Ты, который с неслыханным дотоле могуществом один овладел скифским и германским царствами, который захватами городов поверг в ужас обе империи римского мира и — дабы не было отдано и остальное на разграбление — умилостивленный молениями, принял ежегодную дань. И со счастливым исходом, совершив всё это, скончался не от вражеской раны, не от коварства своих, но в радости, веселии и опьянении, без чувства боли, когда племя пребываю целым и невредимым. Кто же примет это за кончину, когда никто не почитает её подлежащей отмщению?!
После того, как Аттила был оплакан, возвели курган, на котором гунны весь день и целую ночь справляли страву[144], сопровождая её громадным пиршеством. Сочетая противоположные чувства, выражали они похоронную скорбь, смешанную с ликованием.
И пока шла поминальная страва, ночью же труп тайно вывозят из шёлковой палатки в глухую степь. Там заключают его в три гроба — золотой, серебряный и железный; сюда присоединяют оружие, добытое в битвах с врагами, драгоценные фалеры[145], сияющие многоцветьем камней, и всякого рода украшения, снятые со стен дворца Аттилы, и много всего золотого и серебряного из сокровищницы.
Орест уже мог не беспокоиться о своём зарытом кладе в прирейнском лесу — пропажу части казны теперь уже никто не мог бы определить ни по каким расходным книгам: когда клали в могилу к Аттиле всё дорогое — не записывали... Таким образом сделаюсь украденное Орестом как бы невидимым!
Всякого богатства было положено рядом с Аттилой действительно очень много, поэтому совет военачальников распорядился всех тех, кто хоронил Аттилу, обезглавить, чтобы не стало известно место его погребения, скрывавшее и крупные сокровища...
И как отмечал Иордан, «мгновенная смерть постигла погребавших так же, как постигла она и погребённого...».
Как растут в лесу грибы-поганки? Еле держатся вначале на тонкой ножке, еле тянутся кверху, но достаточно какого-то дождя, чтобы они мигом окрепли, растолкали рядом растущие полезные грибы и вот уже прочно заняли своё место в тени деревьев.
Смерть Аттилы и явилась тем самым дождём, который позволил до сего момента ничем себя не проявившим многочисленным наследникам, родившимся от семидесяти жён повелителя, войти в крепкий рост и заявить о своих правах.
Эллак, к которому по закону старшего должна была перейти от отца власть, растерялся; оказалось, что есть у него братья даже старше его, но они ни в одном сражении не участвовали, да и на глаза отцу при его жизни не показывались, а заявились в главное становище уже после его смерти...
Скиф Эдикон с прямотой решительного воина предложил Эллаку всех их обезглавить. Эдикона поддержал и его повзрослевший сын Одоакр. Осторожный Орест заметил, что никто из этих поганок власть не получит — не позволят сами гуннские воины, которые только и ждут, чтобы поднять Эллака как шаньюя на белой кошме при всеобщем стечении народа.
Но получилось по присказке — «твоими бы устами да мёд (кам) пить», или, как ещё говорят: «Человек предполагает, а Бог располагает»... Вдруг тот же Орест, Эдикои, Одоакр и другие, которые не сомневались, что власть обязательно будет у Эллака, ощутили в какой-то момент такое, что стало мешать осуществлению их добрых намерений в отношении старшего сына Аттилы. То вдруг Гилюй на какое-то время отдалился от них, что-то неопределённое сказал Увэй... И вот уже дело дошло до того, что уже многочисленные наследники правителя начали требовать разделения между собой племён поровну путём жеребьёвки...
Когда об этом узнал гордый король гепидов Ардарих, он воскликнул:
— Неужели я, приносивший славу великому Аттиле, который считал меня чуть ли не равным себе, теперь нахожусь в таком презренном рабстве, что можно с моим племенем обращаться, как со стадом баранов в загоне, отделяя столько-то и столько-то голов тому или другому... Такому не бывать!
Он снялся и ушёл и своим отпадением освободил не только своё племя, но и подал пример другим королям, которые тоже отпали от гуннов и присоединились к Ардариху.
И вот уже единое тело обращается в разрозненные члены, которые уже неистовствуют друг против друга.
Вооружившись, они сходятся в конце 453 года в Паннонии близ реки, название которой — Недао[146], где и происходит снова кровавая бойня племён, которые совсем недавно дрались вместе, организованные могучей волей Аттилы, против общего врага... Теперь они беспощадно истребляли друг друга, и король Ардарих на берегу тихой речки смертельно поразил копьём Эллака. Остальных его братьев погнали вплоть до Понтийского моря.
Так отступили гунны, перед которыми, казалось, отступала вселенная...
VI
Время — и великий лекарь, и великий гробовщик. Одного уврачует, другого угробит мигом.
Поначалу смерть сына Евгения так подействовала на Октавиана-старшего, что распорядительница дома вместе со служанками не раз поселила загородную гробницу, что бы приготовить её к приёму господина: там они всё приводили в порядок — мыли, чистили, по-новому расставили скульптурные изображения богов и, наконец, водрузили на место рядом с белой урной жены бывшего сенатора и его урну. Пока пустую...
Клавдий завещал, чтобы после смерти тело его сожгли, как того велит древний римский обычай, а пепел замуровали в гробнице.
Но Октавиан-старший пошёл на поправку (правда, побелевшие волосы так и остались белыми), перестала трястись голова, недаром что был гвардейцем, сильный организм справился с недугом. Клавдий окреп, приободрился, снова по вечерам стал ходить на крышу дома, попивать фалернское вино с молодым мёдом и приглашать в спальню распорядительницу, свою давнишнюю любовницу...
Тоска и боль по сыну всё равно тревожили сердце, но теперь они как бы существовали отдельно от его тихих обыденных радостей, не задевая их...
Клавдий, когда узнал, что вместе с императорским двором переехал в Рим и сенатор Себрий Флакк, решил не пускать его к себе в дом: чувствовал, что самоубийство прекрасного друга Кальвисия Тулла, сын которого, капитан миопароны, погиб в Сардинии вместе с Евгением, не обошлось без предательства Флакка...
Правда, распорядительница, когда Клавдий объявил ей свою волю насчёт сенатора Флакка, сказала ему:
— Дорогой Октавиан, а ведь ты выдвигаешь против бывшего друга страшное обвинение... И учти — бездоказательное!
— Милочка, о том, что он виноват в смерти Кальвисия, мне говорит моё сердце.
— Конечно, к голосу сердца прислушиваться надо, но оно не есть справедливый судья... Только неопровержимые факты докажут его вину, а у тебя их нет, Клавдий...
— И то верно. Ладно, откройте Флакку двери, как только он придёт. Я выясню у него всё лично сам.
Флакк знал, что Клавдий непременно станет искать причину самоубийства Кальвисия Тулла, может быть, в чём-то будет подозревать и его, но сенатор рассчитывал на природную доверчивость Клавдия и поэтому решительно однажды постучал медным кольцом в дверь его дома.
Красноречиво изложив обстоятельства того дела, недаром в сенате после Петрония Максима Себрий считался лучшим оратором, он убедил Клавдия в том, что самоубийство Кальвисия не было простым уходом от ответственности, а являлось следствием каких-то запутанных домашних дел, его душевного настроения... Если бы он боялся палачей евнуха Антония Ульпиана, то наложил бы руки на себя один, а ведь с ним вместе ушла из жизни какая-то служанка... В конце концов, Клавдий поднял фиал примирения, и они выпили, снова довольные друг другом.
Теперь Клавдий был в курсе всех дел, творимых и в Сенате, и в императорском дворце: сидя за чашей фалернского или греческо-хиосского, Себрий подробно рассказывал, чтобы окончательно войти в прежнее доверие, обо всём, что касалось империи. То, что она больше и больше погружалась во тьму, было ясно Клавдию и без рассказов друга. Но откровения его лишний раз подтверждали уверенность бывшего гвардейца, что империя должна скоро окончательно развалиться, ибо давно всё шло к этому — мельчали люди и императоры, вырождаясь в откровенных придурков, которым стало наплевать на всех... Им бы самим урвать кусок пожирнее, а что касается их подданных, то пусть дохнут, как без пойла свиньи, в грязи и навозе...
— Ты бы видел Аэция, — говорил Себрий Флакк. — И этот «последний великий римлянин», три раза возведённый в консулы, что, как ты понимаешь, является редкостью для простого патриция, тоже ворует и слева, и справа. Я понимаю, у него теперь два сына — Карпилион и младший Гауденций, им в наследство надо кое-что оставить, но не откровенно же хапать! Сейчас у него три виллы на Адриатическом море, две на Тирренском... Вместе с другими военачальниками разворовал воинскую казну, бессовестно устраивает кутежи. Как говорят, сорвался с цепи после смерти Галлы Плацидии...
И вдруг через неделю поднимается взволнованный Себрий к Клавдию на крышу дома и восклицает:
— Убит Аэций! Самим императором... По чьей-то подсказке, и скорее всего по подсказке Петрония Максима, этого хитрого змея, который добродетель воздвиг в ранг своей политики, хотя от его добродетели разит, как от тухлой капусты. Валентиниан стал укорять Аэция в беспутстве и воровстве...
— И это ты мне говоришь, щенок?! — возмутился Аэций. — Мне, который, если захочет, дунет на тебя, и ты, как мыльный пузырь, слетишь со своего трона...
С императором чуть не случился припадок. Но он как-то обрёл себя и, ни слова не говоря, зайдя сзади, нанёс полководцу сверху вниз удар коротким мечом в шею. Тот упал, обливаясь кровью, и скончался.
Пока во дворце относительно тихо, продолжал далее рассказывать Себрий, но за его пределами дружинник Аэция гот Оптила поклялся отомстить Валентиниану... И этим не преминет воспользоваться всё тот же Петроний. Если император думал, что на его трон метил Аэций, то он ошибался... Метит Петроний Максим.
Он никогда не простит императору позора и смерти своей жены. Нет, не простит!
Оставаясь один, Клавдий всё чаще и чаще задумывался о судьбе так и не ставшей ему невесткой Гонории, которую любил сын и погибший фактически из-за любви к Августе... И она уже сошла в могилу... Об этом сейчас не принято распространяться, но о её кончине поведал Клавдию старый мудрец-стоик Хармид, верящий в богиню, у которой зри имени: Афродита, Урания и Анадиомена...
Как-то весенним днём, когда звёзды крупно зависли над Римом, Клавдий вышел из своего таблина и, миновав парадные комнаты, сад с фонтаном, пинакотеку, по лестнице поднялся по обыкновению на плоскую крышу дома. Там уже на столике стояли вина и закуски. Стемнело. Как и в прошлый раз, когда появилась Гонория, Клавдий услышал стук колёс тяжёлой) фургона по мостовой. И сейчас фургон остановился напротив огороженного места, где была «похоронена молния». При свете уличных фонарей Клавдий разглядел закутанного в лацерну старика, который с кряхтеньем слез с козел.
Потом он подошёл к двери и звякнул медным кольцом. Вскоре на крышу распорядительница привела чернобородого старика, от которого Клавдий узнал о смерти Гонории на Капри, где Хармид со своими детьми и зятем давал цирковые представления. Это он тогда помог Гонории, её слуге анту Радогасту и служанке Джамне добраться из Анконы в Рим.
— Со смертью Аттилы у Гонории отняли надежду, и она увяла, как цветок осенью... — говорил Хармид.
— Всю жизнь провести в темнице — это страшная кара богов... Только в чём она провинилась? — спросил мудреца Клавдий.
— Может быть, это кара за деяния предков?
— В таком случае она полностью искупила их вину, и теперь восседает, надеюсь, вместе с сыном моим на природе Элисиума в подземном мире, где эфир и поля облекаются пурпурным светом, а леса благоухают лавром, где своё солнце и свои звёзды, а на лугах пасутся белые кони.
— Ты поместил, Клавдий, души родных тебе людей — сына и Августы — в те луга, поля и леса, которые изобразил Вергилий в своей бессмертной «Энеиде», отправив Энея в царство Аида... Но тот же Вергилий в своих эклогах предсказал рождение некоего младенца, который принесёт с собой на землю мир... Не пророчествовал ли Вергилий о рождении Христа?.. Тогда души твоего сына и Гонории должны будут восседать в небесном раю, а не в подземном Элисиуме...
— Я язычник, Хармид... И предпочитаю для них Элисиум, туда я отправлюсь сам и там обитает душа моей жены, матери Евгения.
...16 марта 455 года, спустя полгода с того дня, как Аэция убил император, погиб он и сам от меча гота Оптилы, и уже на второй день императором Рима был провозглашён сенатор Петроний Максим.
Вдовствующий император вскоре захотел жениться тоже на вдовствующей Евдоксии, та оказала некоторое сопротивление, но всё-таки сделалась его женой.
Однажды Петроний Максим, зная, что Евдоксия не любила своего покойного мужа, признался, что это он подстроил убийство Валентиниана... Но Евдоксия не любила и Петрония Максима; она тайно отправляет к королю вандалов Гензериху гонца с письмом, в котором просит прийти ей на помощь и защитить от произвола тирана...
Звёздный час Гензериха настал!
Не дожидаясь своего союзника Рикиария — короля свевов, который в это время затеял тяжбу с вестготами, Гензерих в мае 455 года появился со своим флотом в устье Тибра и высадился в Остии. Рим не был готов к защите; Петроний Максим, переодевшись, бежал из дворца, но на улице его узнали и стали бросать в него камнями. Один камень попал в колено, император, который, узурпировав власть, сидел на троне два с половиной месяца, за что теперь и расплачивался, упал, но, превозмогая боль, поднялся и побежал, сильно хромая, к Тибру, надеясь найти там лодку.
Он оглянулся и увидел, что его догоняет, держа в одной руке щит, в другой меч, воин, в котором он с ужасом узнал бывшего начальника охраны Валентиниана III Урса, брата влиятельного при дворе человека Рицимера.
Урс лёгкими длинными прыжками настиг тяжёлого Петрония и вонзил ему остриё меча между лопаток; тот крякнул, как боров, и свалился на мостовую... Он был ещё жив. Но Урс не стаз добивать его. Тут же собравшаяся толпа разглядела в упавшем человеке ненавистного им императора-самозванца и загорланила:
— А ну, римляне, поволокли его к Тибру... Тем более тут недалече. Пусть кормит своим жирным телом на дне раков.
Раскачали, взявшись за руки и ноги, и бросили тяжело раненного Петрония Максима в древнюю, как сам Рим, реку...
Спустя три дня после гибели Петрония Максима на улицы Рима вступили вандалы. И настали дни жуткого разграбления «вечного города»... Вандалы грабили ровно две недели — столько было отпущено Гензерихом своим воинам для удовлетворения их низменных страстей... Да и сам король чувствовал себя так, что он наконец-то «добрался до Рима»...
Поначалу вандалы стучались в богатые дома патрициев. И когда им открывали двери, они врывались как бешеные и устраивали дикие вакханалии: во-первых, тащили из домов всё, что представляло какую-то ценность; затем выкатывали из подвалов во дворы бочки с вином; выволакивали женщин, и патрицианок, и их служанок, заставляли их нить, напивались сами и тут же во дворе до одури насиловали молодиц.
Надо сказать, что вандалы сразу уничтожили городской гарнизон, который почти и не сопротивлялся. Но теперь сами горожане начали оказывать вооружённое сопротивление.
В доме Клавдия Октавиана рядом с ларами стояла мраморная, чуть ли не во весь человеческий рост дева-охотница Диана. За её спиной на стене висели лук и топор с серебряной рукояткой. Когда ворвались в дом к бывшему гвардейцу вандалы, он смахнул со стены топор и раскроил череп одному бородатому воину, тот, пятясь, задел Диану и вместе с ней рухнул на мраморный пол. У Дианы отбилась голова и покатилась в сторону таблица хозяина, которого тут же закололи мечами, а распорядительнице, бросившейся на помощь господину, заломили руки и тут же, прямо на мраморном полу, стали насиловать... К ней, уже обессиленной, с блуждающим взглядом, закушенными от боли губами и почти потерявшей сознание, всё подходили и подходили вандалы, поднимая полу короткой одежды из волчьих шкур, доставали свои огромные предметы и в наказание за то, что женщина посмела прийти на помощь хозяину, снова и снова над ней надругивались; и это продолжалось до тех пор, пока она не умерла, изойдя кровью.
Затем ограбив всё дочиста и согнав остальных служанок и слуг за ворота, вандалы подожгли дом. Так для Октавиана-старшего и распорядительницы, ставшей ему в последнее время почти женой, дом их и стал общей гробницей...
Хотя вандалы Гензериха особо не разрушали здания, но огонь бушевал повсюду. С храма Юпитера Капитолийского король приказал содрать половину крыши. Это была замечательная и великолепная крыша из лучшей меди и вся густо вызолоченная. Также в императорском дворце Гензерих не оставил ни меди, ни какого-либо другого металла... И, нагрузив свои корабли золотом, серебром и драгоценными вещами из императорского имущества и имущества патрициев, король с сыновьями вернулся в Карфаген.
Вандалы пригнали с собой в Африку тысячи римлян, обратив их в рабов, увезли с собой также императрицу Евдоксию, двух её дочерей и Гауденция, младшего сына полководца Аэция. Одну из дочерей, носившую имя матери, затем отдали в жёны Гунериху.
Гунерих её не любил — в сердце он всю жизнь хранил образ Рустицианы; Гунерих не только относился к римской принцессе невнимательно, но и грубо. Евдоксии удалось через шестнадцать лет убежать от него в Иерусалим, как в своё время убежала от своего мужа, византийского василевса, её бабушка Афинаида-Евдокия; там Евдоксия-младшая и окончила свои дни...
За сорок пять лет, которые прошли со времени вторжения Алариха в Рим, его население к 455 году убавилось на сто пятьдесят тысяч, если не больше. Многие древние роды исчезли совсем, другие находились в бедственном положении и гибли, как гибли многие языческие храмы. Дворцы опустели, в базилики народ ходил с неохотой — он просил помощи от Бога, но не получал.
Люди двигались как привидения, всюду было мертво. Если раньше Рим, застроенный храмами, дворцами, аркадами, вызывал восхищение, то теперь он представлял картину торжественного развала...
Майориан, при поддержке варвара Рицимера ставший новым императором, попытался было защитить Рим от... самих же римлян, так как они бездумно стали использовать существующие здания как каменоломни для добывания строительного материала, и издал грозный эдикт. Однако никакие эдикты нового императора не могли остановить стремительной» развала античного Рима, тем более что подлинным хозяином его являлся Рицимер, которому вскоре слишком энергичный Майориан стал надоедать.
Возможно, что Рицимер вступил в тайный сговор с вандалами: когда Майориан двинул флот к берегам Африки, чтобы отомстить Гензериху за разграбление Рима, римский император потерпел поражение и был обезглавлен.
Но это уже другая история.
Список исторических персонажей, действующих или упомянутых в романе

Август (23.09.63 до н. э. — 19.08.14 н. э.), сын Гая Октавия и Атии, дочери сестры Цезаря, Юлии; внучатый племянник Гая Юлия Цезаря. С 27 г. до н. э. император Цезарь Август. Сопровождал Цезаря во время походов в Испанию. После победы в морском сражении при Акции в 31 г. до н. э. над войсками Антония стал единоличным правителем империи. Был обожествлён при жизни. Являлся Верховным жрецом и Отцом отечества, а также главнокомандующим римской армии. Провёл ряд реформ, направленных на укрепление внутри- и внешнеполитического положения Империи. В правление Августа наблюдался заметный расцвет науки и искусства, подъём строительной деятельности.
Августин (354—28.08.430) Блаженный. Выдающийся деятель христианской церкви, один из «учителей» церкви Запада. Получил хорошее образование, был знаком с идеями стоицизма и неоплатонизма. Принял христианство в 387 г. Епископ Гиппона с 395 г. Автор множества произведений, из которых наиболее известны «Исповедь» и «О граде Божьем». Выдвинул новую концепцию развития мировой истории, на которой основывались построения средневековых учёных и историописателей. Замечателен и как автор полемических сочинений, направленных против донатистов и манихейства.
Аларих (ок. 370—410), вестготский король. Первоначально являлся сторонником Феодосия I, но при Аркадии стал наместником Иллирии. В 401 г. вторгся в Италию. В 409-м провозгласил королём Аттала и в 410 г. захватил Рим, что ознаменовало собой начало фактического развала Римской империи.
Аммиан Марцеллин (ок. 330 — до 400), позднеримский историк, предположительно уроженец Антиохии. Участник многочисленных кампаний на Востоке; принимал участие в походе Юлиана Отступника в Персию. С 80-х гг. живёт в Риме, где написал своё сочинение «История», в которой описывает историю римских императоров от Нервы (96 г.) до смерти Валента в сражении с готами при Адрианополе в 378 г. До нас дошла вторая половина его труда, в которой описываются события с 353 по 378 г. Приверженец классической греко-римской образованности и культуры.
Антонин Пий (19.09.86—7.03.161), римский император с 19.07.13, выходец из галльского сенаторского рода. Основатель династии Антонинов. Консул со 120 г. Став императором, обратил внимание на внешнюю безопасность государства. При нём был сооружён вал его имени в Шотландии, укреплены границы в Германии и Реции. Усыновил Марка Аврелия, который и стал его преемником.
Апулей (ок. 124 н. э.), древнеримский писатель, адвокат, философ-платоник и софист. Уроженец Африки. Из произведений Апулея наиболее известны роман «Метаморфозы» («Золотой осёл») и «Апология». В «Апологии» автор защищается от обвинений в применении чар, с помощью которых он околдовал богатую вдову и женился на ней. В «Метаморфозах» описываются приключения Люция, у которого с помощью колдовства появились ослиные уши.
Аркадий (377 — 1.05.408) Флавий, восточноримский император с 17.01.408 г. Сын Феодосия I, соправитель и август с 383 г. Первый император Восточной Римской империи с 395 г. Являлся слабым и малоспособным человеком, находясь в постоянной зависимости от придворных чиновников — Руфина, евнуха Евтропия, а позднее и от супруги Евдоксии. Его правление ознаменовалось ожесточёнными оборонительными сражениями с гуннами и германцами, а также гонениями на язычников.
Архелай (413 — 399 до н. э.), македонский царь. Способствовал развитию Македонии — провёл денежную, военную реформы. При его дворе проживали Еврипид, Херил и Агафон.
Атаульф, король вестготов в 419 — 415 гг., преемник Алариха. Был женат на Галле Плацидии, попавшей в плен во время взятия готами Рима в 410 г. Вывел вестготов из Италии в Галлию.
Аттила (ум. 453), царь гуннского союза племён с 434 г. Во время Великого переселения народов его войска, разгромив императорские армии на Балканах, принудили Феодосия II платить гуннам дань. Во время похода 451 г. в Галлию потерпел поражение от римских войск под предводительством Аэция. Отказался от взятия Рима в связи со вспышкой эпидемии в войске и военной опасности, грозившей с тыла. Умер в своём лагере в Паннонии в ночь после свадьбы с Ильдико (предполагается, германкой по происхождению). Существует версия, что смерть настигла его от руки супруги, отомстившей за уничтожение своих соплеменников.
Аэций (ок. 390 — 454), полководец, один из последних защитников Римской империи. В 425 г. при поддержке гуннов избирался на многие руководящие должности империи: получил звание патриция, неоднократно становился консулом. С 432 г. главнокомандующий императорской армией. Стремясь свергнуть его, императрица Галла Плацидия отозвала в Италию командовавшего в Африке Бонифация. В 451 г. на Каталаунских полях одержал победу над войсками гуннской коалиции. Убит императором Валентинианом III.
Бледа (ум. 445), один из вождей гуннов, сын гуннского предводителя Мундзука, брат Аттилы. Убит последним.
Бонифаций, один из высших военачальников при императоре Гонории и особенно при Галле Плацидии и её сыне Валентиниане III (425 — 455). Деятельность его развивалась в Африке, где он занимал пост стратега Ливии, командуя войском готов-федератов. Был способным полководцем и пользовался успехом у населения. Причина начала активных действий римских войск против Бонифация заключалась якобы в том, что он стал самостоятельным правителем этого региона.
Валентиниан II Флавий (2.07.371 — 15.05.392), римский император с 22.11.375. Под опекой брата Грациана и матери правил Италией, Иллириком и Африкой. В своей деятельности испытывал влияние франка Арбогаста, которым и был убит. В вопросах религии руководствовался идеями миланского епископа Амвросия, одного из учителей западной церкви.
Валентиниан III Флавий Плацид (2.07.419 — 16.03.455), император Западной Римской империи с 23.10.425. Сын полководца Констанция и дочери Феодосия I Галлы Плацидии. Стал правителем Запада после смерти Гонория при содействии Феодосия И. До 437 г. регентшей при нём была Галла Плацидия. До 454 г. находился под влиянием Аэция. Резиденция Валентиниана находилась попеременно то в Равенне, то в Риме. При нём распад Римской империи шёл быстрыми темпами, несмотря на активную деятельность Аэция. В 445 г. император признал за папой высшие судебные полномочия. Был последним представителем династии Валентиниана-Феодосия.
Валлия, король вестготов в 415 — 419 гг., преемник Сегериха. Был настроен враждебно по отношению к Империи.
Василий Великий (ок. 330 — 379), великий деятель христианской церкви и знаменитый восточный богослов. Брат Григория Нисского. Происходил из богатого патрицианского рода, с 370 г. епископ в Кесарии (Палестина). Автор множества произведений на богословскую тематику, из которых наиболее известен «Шестоднев», а также писем, монастырских уставов и порядка богослужения.
Вегеций Ренат Флавий — автор написанного ок. 400 г. «Краткого изложения военного дела», своего рода устава римской армии. Составил также учебник по ветеринарии.
Веспасиан Тит Флавий (17.11.9 — 24.06.79), римский император с 1.07.69. Был сыном откупщика и стал первым императором несенаторского происхождения. Командовал одним из рейнских легионов, участвовал в завоевании Южной Британии. В 51 г. консул; в 67-м Нерон поручил ему подавление восстания в Иудее. Летом 69-го восставшие легионы провозгласили его императором. В декабре того же года признан сенатом. Восстановил гражданский порядок в империи. Соправителем сделал своего сына Тита. При Веспасиане велось большое дорожное и общественное строительство (Колизей).
Винитар, король остготов, внучатый племянник Германариха.
Галла Плацидия (388 — 450), римская императрица, дочь Феодосия I, сестра императоров Аркадия и Гонория. В 414 — 415 гг. жена вестготского короля Атаульфа, в 421-м — жена императора Констанция III, мать императора Валентиниана III.
Гелиогабал (Элагабал; 204 — 11.03.222), римский император с 88.06.218. Настоящее имя Марк Аврелий Антонин. Происходил из сирийской крупнопоместной аристократии. С 217-го был жрецом бога солнца Элагабала. Стаз императором благодаря влиянию своей бабки Юлии Месы. Ошибки в политике и хозяйничание фаворитов вызвали к жизни широкую оппозицию. В 221 г. цезарем провозглашён его двоюродный брат Александр Север. Гелиогабат вместе со своей матерью был убит преторианцами.
Гензерих (Гейзерих; ум. 477), вождь вандало-аланского союза с 428 г. После занятия Карфагена в 439 г. основал там суверенное государство, которое в 442 г. было признано Западной Римской империей и в мирном договоре с Византией (474 г.). В 455 г. разграбил Рим, затем завоевал принадлежавшие Риму части Сев. Африки и о-ва западного Средиземноморья. В 468 г. отразил нападение обоих римских государств.
Германарих (ум. 375), король остготов из рода Аманов, возглавивший союз племён, который иногда называют «державой Германариха».
Гомер (ок. VIII века до н. э.), греческий поэт и сказитель, стоявший у истоков европейской поэзии, с чьим именем связывают эпические поэмы «Илиада» и «Одиссея».
Гонорий Флавий (09.09.384 — 15.08.423), император Западной Римской империи с 17.01.395. Младший сын Феодосия I, его соправителе и август с 393 г. До 408 г. правил при опеке полководца Стилихона, которого позднее, подозревая в измене, приказал убить. Правительство Гонория не смогло сдерживать проникновения германцев в империю: в 409 — 411 годах вандалы, аланы и свевы поселились в Испании, вестготы, бургунды и франки вторглись в Галлию, гунны в Паннонию, в 407-м фактически оставлена Британия.
Гонория (Юста Грата Августа; ок. 418 — ?), племянница императоров Гонория и Аркадия. После провозглашения императором Западно-Римской империи Валентиниана в 425 г. вернулась в Италию и была заперта во дворце для соблюдения обета девства. В 450 г. переслала через евнуха Гиацинта своё кольцо Аттиле, предлагая ему руку и приглашая прийти за ней в Италию.
Гораций Флакк Квинт (08.12.65 до п. э.—27.11.8 до и. э.), римский поэт. Получил разностороннее образование в Афинах и Риме. В гражданской войне выступал на стороне республиканцев. С 38 г. до и. э. благодаря подарку Мецената получил возможность спокойно заниматься поэзией. Автор сатир, посланий, песен.
Гунерих, король вандалов в 477 — 484 гг., сын и преемник Гейзериха. Сторонник арианства и противник Византии.
Гунтамунд, король вандалов в 484 — 496 гг., сын Гейзериха. Продолжал политику противостояния Византии, безуспешно пытался завоевать Сицилию, которая была в итоге отнята у вандалов остготами.
Демосфен (384 — 322), греческий оратор и политический деятель, уроженец Афин. Был идейным вождём борьбы против Филиппа Македонского, в котором видел врага греческой свободы. Отравился, не желая попасть в руки македонцев. Его речи были известны во всём античном мире как образец риторики и красноречия. По ним учился Цицерон, другие выдающиеся ораторы древности.
Децебал, последний выдающийся царь даков, который в 85—86 гг. вторгся в Мезию и угрожал римскому государству. Используя помощь греческих и римских специалистов, Децебал провёл перевооружение и укрепление своего государства. Во время 1-й Дакской войны достиг определённого успеха, но во время 2-й Дакской войны потерпел поражение. Пытался спастись бегством, но был убит.
Диоклетиан Гай Аврелий Валерий (245 — 03.12.316), римский император с 17.11.284 по 01.05.305. Происходил из Далмации, сын вольноотпущенника. В 80—90 гг. вёл успешные войны в Персии, Египте, на рейнских и дунайских рубежах. Для стабилизации управления ввёл территориально -административное разделение власти — тетрархию. Таким образом, в Империи имелось два августа и два цезаря. Началась эпоха Домината. Среди проведённых Диоклетианом реформ — попытка установить фиксированные цены на основные виды продуктов, новое административное деление Империи на диоцезы и провинции и т.д. На рубеже веков проводил политику преследования христианства.
Евдокия (Афинаида-Евдокия), супруга императора Феодосия II, дочь профессора риторики из Афин. Сторонница классического образования, она поддерживала христианство. Являлась автором светских и церковных поэтических произведений.
Елена Флавия (ум. ок. 326 г.), римская императрица, святая. Была наложницей Констанция Хлора, мать Константина Великого. Всячески поддерживала христианство и способствовала его распространению богатыми дарами и постройкой церквей. С её именем связано предание об обретении Креста Господня.
Иордан, готский историк VI в., автор знаменитых «Истории готов» и «Римской истории», созданных в середине этого столетия.
Ипатия (370 — 415), греческий математик и философ, дочь математика Феона из Александрии, руководительница Мусейона. Последовательница неоплатонизма, писала комментарии к сочинениям Аполлона из Перш и Диофанта. Убита христианскими фанатиками.
Калигула Гай Цезарь Германии (31.08.12 — 24.01.41), римский император с 188.03.37, сын Германика и Агриппины. Своё прозвище получил от названия солдатской обуви — калиги, которую носил с детства. Правление Калигулы отличалось деспотизмом, произволом, конфискациями, ростом налогов. Требовал, чтобы его чтили как бога. Возможно, впал в т.н. «кесарево безумие». Был убит участниками заговора трибунов преторианской гвардии.
Катон Старший (Марк Порций Цензорий; 234 — 149 до н. э.), римский политический деятель. Прославился как цензор (отсюда прозвище), в 195 г., будучи консулом, подавил восстание в Испании. Выступал против греческого влияния в Риме. Во внешней политике постоянно требовал разрушения Карфагена, видя в нём главного экономического и политического противника. Написал учебники по медицине, с/х, риторике, праву и военному искусству.
Катулл Гай Валерий (87/84 — ок. 54 до н. э.), римский поэт-лирик. Выходец из состоятельной семьи Автор 116 стихотворений и эпиграмм.
Клавдий Тиберий К. Нерон Германик (1.08.10 — 13.10.54), римский император с 41 г. Фактически власть находилась в руках его жены — Мессалины и её любовников. Погиб от руки своей очередной жены Агриппины, которая отравила его. В правление Клавдия были дарованы полные нрава неиталикам, внесены изменения в своды законов, были основаны многочисленные колонии, присоединены Южная Британия и Мавретания.
Коммод Марк Аврелий К. Антонин (31.08.161 — 31.12.192), римский император с 17.03.180, сын Марка Аврелия. Цезарь со 166 г., а в 177 г. провозглашён августом и соправителем. Вступив на престол, отказался от агрессивной политики в придунайском регионе. Внутренняя политика отличалась жёсткостью, поощрением ближневосточных культов, стремлением к установлению неограниченного самодержавия. В 192 г. любовница Коммода Марция, вольноотпущенник Эклект и префект претория Лет убили его. Сенат одобрил их поступок и объявил Коммода «врагом отечества». Последний император из династии Антонинов.
Константин I Великий Флавий Валерий (27.02.272 — 22.05.337), римский император с 25.07.306, сын Констанция I Хлора и Елены. Был провозглашён августом в Эбораке (Йорке). В 312 г. в союзе с Лицинием одержал победу над Максенцием в битве у Мульвиева моста в Риме. Сконцентрировал всю власть в руках своего семейства. Поделил государство на 4 префектуры, 14 диоцезов (епархий) и 114 провинций. В 326 г. избрал столицей империи Византий, который в 330 г. переименовал в Константинополь. Проявлял терпимость по отношению к христианской церкви, используя её в государственных интересах. Участвовал в её внутренней жизни, вмешиваясь в решение спорных вопросов догматического и административного характера. Умер во время похода в Персию.
Констанций II Флавий Юлий (7.088.317 — 3.11.361), римский император с 9.09.337 г. Сын Константина I. Цезарь с 324-го, август с 337 г. Вёл успешные войны с персами, с 352 г. единоличный правитель Империи. В 355 г. назначил своего двоюродного брата Юлиана цезарем западных провинций. Вероятно, с его правления (354) христианская церковь официально празднует Рождество.
Лисий (ок. 445 — 380 до н. э.), афинский оратор. Ему приписывается авторство в отношении 425 речей, из которых до наших дней дошли 34. До появления Демосфена считался образцом ораторского искусства.
Лукреций Кар (ок. 96 — 55 до н. э.), поэт и философ, представитель теории атомистики в Древнем Риме. В поэме «О природе вещей» излагает основные положения философии Эпикура.
Маркиан, римский император в 450—457 гг. Пытался прекратить практику ежегодных выплат Аттиле и федератам-союзникам.
Мессалина (ок. 25 — 48 н. э.), третья жена Клавдия, одна из наиболее известных развратниц эпохи Империи. Снискала репутацию жестокой, коварной и властной женщины. Составила заговор по смещению Клавдия, который был раскрыт главой одной из императорских канцелярий Нарциссом. Казнена по приказу Клавдия.
Нерон Клавдий Друз Германик Цезарь (15.12.37 — 9.06.68), римский император с 13.10.54.
Несторий (после 381—после 451), константинопольский патриарх с 428 г., ересиарх. В 431 г. по результатам Эфесского собора был лишён сана и в 439 г. отправлен в ссылку. Выдвигал в качестве догмата определение Марии как родительницы Христа, а не Богородицы, называя её Христородицей. В 484 г. сподвижники Нестория окончательно отделились от основной церкви. Секта несториан существует и поныне.
Петроний Арбитр Гай (ум. 66 н. э.), римский писатель, чиновник. От творчества Петрония до наших дней дошли фрагменты романа «Сатирикон», в котором автор высмеивает недостатки современной ему римской действительности эпохи правления Нерона. Покончил жизнь самоубийством по настоянию последнего за предполагаемое участие в заговоре Пизона.
Петроний Максим (ум. 455), римский император в 455 г. после смерти Валентиниана III. Выдал дочь своего предшественника Евдокию, которая уже была обручена с сыном Гейзериха Гунерихом, за своего сына, что привело к походу Гейзериха на Рим. Во время паники, начавшейся в связи с получением известий о высадке вандалов, Петроний был убит.
Плиний Старший Гай (23/24 — 79), римский политический и государственный деятель, писатель и учёный. Погиб при спасательных работах во время извержения Везувия. Из его многочисленных трудов сохранилась «Естественная история», своеобразная энциклопедия в 37 книгах. В них он, используя труды 400 греческих и римских авторов, рассматривает вопросы географии, этнографии, истории, биологии, медицины и т.д. Его исторические труды, ныне утерянные, были использованы римским историком Тацитом.
Помпей Великий (106 — 48 до н. э.), полководец и государственный деятель. В 70 году был консулом, в 67 году прославился тем, что за три месяца очистил Средиземное море от пиратов. В 66—64 гг. одержал победу над понтийским царём Митридатом VI Евпатором. В 60 году вошёл в соглашение с Крассом и Цезарем, создав вместе с ними триумвират. После поражения от Цезаря в 48 году при Фареале бежал в Египет, где был предательски убит по приказу Птолемея XIII.
Приск Панийский (ум. после 448), участник посольства от императора Феодосия II в ставку Аттилы в Паинониго Оставил записи о посольстве, которые до нашего времени дошли лишь в фрагментах (см. приложение).
Прокопий Кесарийский (ок. 490 — после 565), византийский историк, государственный деятель, юрист. Происходил из консервативно настроенной аристократии. Занимал должность секретаря великого византийского полководца Велизария. Прославился как автор «Истории войн», трактата «О постройках», «Тайная история», в которых описал эпоху правления византийского императора Юстиниана I.
Проперций Секст (ок. 47 — ок. 15 до н. э.), один из наиболее значительных римских элегиков, возможно, из всаднического рода. Автор четырёх книг элегий, в которых описывал любовные переживания, рассуждает на темы современной морали и т.п. Стихотворения Проперция оказали большое влияние на творчество Гете.
Рикиарий (Реккиарий; ум. 456), король свевов в 448 — 456 гг. Во время его правления свевы приняли христианство в ортодоксальном варианте. Воевал с Теодорихом II.
Рицимер (ум. 472), полководец и государственный деятель Западно-Римской империи. Был сыном вождя свевов и дочери вождя вестготов. Будучи офицером, в 456 г. отразил нападения вандалов на Сицилию, за что получил звание военачальника. Впоследствии сверг императора Авита. Став с 457 г. патрицием, до конца жизни являлся фактическим правителем Западно-Римской империи. В этом же году возвёл на трон Майориана, однако в 461 г. приказал его казнить, подозревая в намерении полностью захватить власть. В 467—472 гг. пришлось разделить власть со свергнутым им впоследствии Антемием. Незадолго до смерти успел сделать марионеточным императором Олибрия.
Ругилас (Роа, Руас, Руа; ум. 434), вождь гуннов, дядя Аттилы. По договору, заключённому с Римом в 430 г., империя обязывалась платить ежегодную дань в размере 350 фунтов золота.
Саллюстий Гай Крисп (86 — 35 до н. э.), римский историк и политический деятель. Будучи сторонником народной партии, активно поддерживал Цезаря, выступал против Цицерона. В 50 г. был обвинён в аморальности и вычеркнут из списков сенаторов. Во время гражданской войны сражался на стороне Цезаря. Автор ряда исторических и публицистических сочинений, из которых наиболее известны «Югуртинская война» и «О заговоре Каталины».
Сальвиан Массилийский (ок. 400 — 480), христианский писатель. С 425 г. монах Леринского монастыря, с 439-го — священник в Массилии (Марселе). Известен прежде всего как автор труда «О божественном управлении», в котором систематически изложил христианский взгляд на судьбы мировой истории, проблемы морально-этического содержания. Противопоставлял Рим и варварский мир, считая последний выше и чище, чем угасающая империя.
Сапфо (ок. 650 до н. э. — ?), выдающаяся древнегреческая поэтесса, родилась в аристократической семье на о-ве Лесбос. После установления на родине тирании удалилась в Сиракузы. В Митилене Сапфо собрата вокруг себя кружок знатных девушек, которых обучала умению вести себя, музыке, стихосложению, танцам. Стихотворения Сапфо объединены в 9 книг. Её высоко чтили в античности, называя десятой музой.
Сократ (470 — 399 до н. э.), древнегреческий философ, жил в Афинах. Письменных трудов не оставил. Его взгляды дошли до нас в изложении Платона и Ксенофонта, а также произведениях его учеников. Назначением философии Сократ считал совершенствование человека, в связи с чем большую роль отводил самопознанию.
Солон (ок. 640 — 560 до н. э.), афинский политический деятель. Происходил из знатного, но обедневшего аристократического рода. Прославился как автор патриотических стихов во время греко-персидских войн. Став в 594 г. архонтом, Солон принял меры к разрешению кризиса афинского государства: он освободил всех граждан от залогов, отменил рабство за долги и т.д. Заменил родовые привилегии имущественными (ввёл ценз). В античное время Солон был причислен к числу «семи мудрецов».
Теодорих (ум. 451), король вестготов с 418 г. В 20—30 гг. вёл переменчивую политику в отношении Римской империи, постепенно занимая части её территории. В 439 г. имперские войска оттеснили готов до Тулузы. В битве на Каталаунских полях выступил на стороне Империи.
Теодорих II (ум. 466), король вестготов с 451 г. Помогал войсками Империи для подавления восстания багаудов в Испании. В 455 г. помог командующему войсками римлян Авиту захватить императорский трон. В 462 г. захватил Арль.
Тиберий Клавдий Нерон (42 до н. э. — 37 н. э.), римский император с 17.09.14. Считался после Агриппы первым полководцем в армии Августа. С 20 по 7 гг. вёл успешные войны с германцами, армянами, паннонцами и др. народами. Был женат на дочери Августа Юлии. Во время его правления были укреплены позиции по Рейну, увеличилась гос. казна, улучшилась система управления в провинциях.
Тразамунд, король вандалов в 495 — 523 гг., сын Гензериха, преемник Гунтамунда. Пытался привлечь на свою сторону католическое духовенство, проповедуя вместе с тем превосходство арианства над католицизмом. Около 500 г. женился на сестре остготского короля Теодориха Амалафриде.
Траян Марк Ульпий (53 — 117), римский император с 28.01.98. Родился в аристократической семье. Командовал в Испании легионом. Стал первым римским императором — выходцем из провинции. Подчинил даков, построил первый постоянный мост через Дунай. Присоединил Армению и Месопотамию, в своих устремлениях дошёл до Персидского залива. В правление Траяна в империи велось активное строительство, были значительно укреплены границы, основаны новые колонии.
Ульфила (311 — 383), готский епископ. По некоторым данным происходил из Каппадокии. Знал готский, латинский и греческий языки. В конце 30-х гг. был направлен с проповедью христианства к придунайским готам. Изобретатель готской азбуки; осуществил перевод Библии на готский язык.
Феодосий I Флавий (347 — 395), римский император с 379 г. Сын полководца армии Валентиниана I. Сторонник единства империи, поддерживал ортодоксальную христианскую церковь. Преследовал приверженцев язычества. Перед смертью разделил империю между сыновьями Аркадием и Гонорием.
Фридерих, сын Теодориха I, прославился как талантливый военачальник, в 454 г. осуществил завоевание ряда районов Испании.
Фукидид (460 — 396 до н. э.), афинский историк, владелец золотых приисков во Фракии. Принимал участие в Пелопоннесской войне, события которой описаны им в его знаменитой «Истории».
Эйрих, сын Теодориха I, король вестготов в 466—484 гг. В его правление готы захватили большую часть Испании и Галлии, заключили договор с Римом о признании королевства на этих землях.
Ювенал Децим Юний (ок. 60 — после 127), римский поэт, автор 16 сатир в пяти книгах, в которых обличал пороки своего времени. В средние века был одним из самых читаемых авторов. Его перу принадлежит известная фраза «В здоровом теле здоровый дух».
Юлиан Отступник (332 — 363), римский император с 361 г. Племянник Константина Великого. Получил хорошее образование, как классическое, так и в достаточной степени христианское. Друг и ученик известного антиохийского ритора Либания. Пытался вернуть к жизни (в реформированном виде) некоторые институты античного общества. Погиб во время похода против персов. Автор писем и ряда полемических произведений.
Юлий Цезарь Гай (100 — 44 до н. э.), римский политический деятель и полководец. Политическая карьера началась в 78 г. после смерти Суллы. В 63-м стал верховным жрецом, с 62 г. управлял провинцией Испания, в результате чего достаточно быстро расплатился с долгами. В 58—51 гг. вёл войны в Галлии и Британии, которые описаны им в «Записках». В 49 г. начал гражданскую войну в Риме, выступив против Помпея. После победы в Александрийской войне сделал Клеопатру царицей Египта. От неё имел сына Цезариона. Пал жертвой заговора, возглавляемого Брутом и Кассием.
Хронологическая таблица основных событий римской истории IV—V веков
284—305 гг. — правление и реформы Диоклетиана: гонения на христиан.
306—337 гг. — правление императора Константина I Великого.
313 г. — предоставление христианам свободы вероисповедания (издание Миланского эдикта).
324 г. — перенос столицы империи в Константинополь (б. Византий).
325 г. — Первый Вселенский церковный собор в Никее; принятие «Символа веры» и осуждение арианства.
361—363 гг. — правление императора Юлиана Отступника, пытавшегося восстановить влияние язычества.
375 г. — гунны вторглись в степи северного Причерноморья. Разгром остготского племенного союза и бегство вестготов за Дунай. Начало Великого переселения народов в Европе.
377 г. — восстание вестготов на Дунае.
378 г. — поражение римских войск в битве с готами у Адрианополя и вторжение германских племён на территорию Балканского п-ова.
381 г. — Второй Вселенский собор христианской церкви в Константинополе, принятие т.н. «Никео-Цареградского Символа веры».
395 г. — смерть императора Феодосия, раздел империи между его сыновьями на две части — Восточную и Западную.
400 г. — блаж. Иероним Стридонский завершает перевод Библии на латинский язык, который называется «Вульгатой» (используется католической церковью и поныне).
401 г. — Поход Алариха в Италию.
409 г. — вандалы вторглись в Испанию.
410 г. — захват и разграбление Рима готами под предводительством Алариха.
419 г. — создание государства вестготов.
439 г. — основание вандалами государства в Северной Африке.
ок. 449 г. — завоевание Британии англосаксами.
451 г. — битва между римским войском и войсками гуннской коалиции на Каталаунских полях.
455 г. — взятие Рима вандалами.
476 г. — свержение последнего императора Западной Римской империи Ромула Августа.
476—493 гг. — государство Одоакра в Италии.
Библиография
Аммиан Марцеллин. История. СПб., 1994.
Иордан. О происхождении и деяниях готов. Getica. СПб., 1997.
Римские историки IV века. М., 1997.
Бернштам А. Н. Очерки истории гуннов. Л., 1971.
Бицилли П. М. Падение Римской империи. Одесса, 1919.
Гартман Л. М. Падение античного мира. М., 1913.
Дворецкая И. А. Западная Европа V—IX веков. М., 1991. Корсунский А. Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и возникновение германских королевств. М., 1984.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ