Израиль Моисеевич Меттер
Сердитый бригадир


Очки
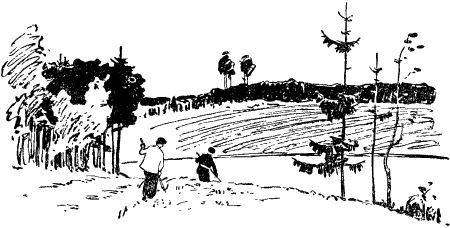
Никогда нельзя было заранее сказать, что именно взбредёт Сёмке в его дурацкую башку. У него был мерзкий характер: он очень любил выпячивать своё «я». Вероятно, он чувствовал свою незаменимость, и от этого в Сёмке развилось такое самомнение, что весь наш коллектив ничего не мог с ним поделать.
Я-то лично всегда говорил, что нужно поменьше вокруг него танцевать, но старший мастер, Павел Герасимович, авторитетно грозился:
— За Сёмку, ребята, вы мне отвечаете головой!
И приводил цифры, во сколько Сёмка обошёлся училищу. Но я его всё равно буквально не переваривал. Особенно после того, как он покалечил Тузика. Если бы меня тогда ребята не удержали, я бы этого Сёмку измолотил. Они меня оттащили на озеро и стали поливать водой; у меня зубы скрипели, говорят, я на психического был похож. Потом мне уж ребята рассказывали, что Павел Герасимович велел за мной следить: он боялся, что я Сёмке в рацион нам чаю толчёного стекла.
Тузика мы выходили, нам девочки помогли из группы овощеводов, но только он до сих пор волочит заднюю правую ногу. И это бы ещё ничего, — бывают и люди инвалиды, — но главное — он стал какой-то пуганый. Раньше у него хвост был бубликом, а сейчас всегда поджатый, и на это больно смотреть. Ходит такой печальный, голову свесит до земли и всё озирается, вздрагивает. Он раньше во сне всегда рычал, потому что щенкам снятся взрослые сны, а пожилым собакам, наоборот, видится детство, поэтому они во сне повизгивают. А теперь у него в голове всё спуталось…
Я не очень-то люблю, когда собака лижет руки хозяина. Мне кажется, что это её немножко унижает. Поскольку собака — друг человека, то друг не может быть рабом. Пёс должен слушаться человека, как старшего товарища. Тузика мы так и воспитывали. Он у нас был добрый, но гордый и обидчивый. А после истории с Сёмкой у Тузика в душе что-то поломалось. Он стал жить так, как будто его окружали враги. И хвост он опускал для того, чтобы показать, что он навсегда сдался.
Некоторые ребята совершенно махнули на него рукой. Володя Сатюков, из группы животноводов, сказал:
— Самое противное — смотреть на чужое унижение.
Он даже предложил продать Тузика в медицинский институт для опытов. Потом, когда нас уже разняли, Володька утёр расквашенную губу и признался:
— Насчёт продажи я, конечно, хватил… А даром его вполне можно отдать.
Он вообще-то парень не злой, Володька, но только ему кажется, что если животное не доится или не даёт шерсти, то его можно пускать на мыло.
Мы с ним сколько раз спорили. Я говорю:
— Как же ты собираешься обращаться с животными, если ты их не любишь?
— Целоваться, во всяком случае, не собираюсь, — говорит Володька. — Моё дело — взять от коровы побольше молока.
— А как она не даст?
— Не даст молока, возьму котлеты, — смеётся Володька.
Он вообще у нас на скотном дворе старается всё делать исключительно по-научному. И ласки принципиально не признаёт.
— Это всё сопли, — говорит Володя Сатюков.
Но он однажды здорово сел в лужу.
От Туфельки Валя Катышева всегда таскала по три ведра в день, а Володька в свою смену стал приносить по полведра, и то не каждый раз.
Павел Герасимович вызвал их двоих, спрашивает:
— В чём дело, Сатюков?
— Моя точка зрения, — отвечает Володя, — что у неё недостаточно массированное вымя.
— А вы как располагаете, Катышева? — спрашивает Павел Герасимович.
Валя Катышева у нас шепелявит. Она поэтому разговаривает осторожно, выбирая такие слова, чтобы там не было буквы «ш». Валя говорит:
— Вот новости! Туфелька давно раздоена.
— В чём же тогда суть? — спрашивает Павел Герасимович. Валя вся покраснела и говорит:
— Без песен она молоко зажимает.
Володька, конечно, разбушевался и даже стал обзывать Валю, но Павел Герасимович остановил его и говорит:
— Между прочим, Сатюков, такие случаи на практике бывают.
Они пошли в коровник, Валя взяла подойник со скамейкой, протягивает Володе.
Он пристроился, набрал в руку вазелина, стал массировать вымя. Корова стоит спокойно, хвостом бьёт мух. У Володьки аж пот выступил на лбу. Начинает доить… Пустой номер. Нету молока. Начисто.
— Картина ясная, — сказал Павел Герасимович. — Теперь вы, Катышева.
Садится Валя на скамейку, чешет корове бок, чтобы она успокоилась, и тихонько затягивает:
Гори, гори, моя звезда!
Ты у меня одна заветная,
Другой не будет никогда!..
Корова перестала бить мух, повернула голову на голос, слушает. Володька Сатюков крутит носом.
А Валя поёт.
— Почём билеты в оперу? — спрашивает Володька.
Тут она как взялась за вымя, молоко как ударит в подойник — и пошло, и пошло… Павел Герасимович тут же авторитетно сказал:
— Вот, Сатюков, что значит индивидуальный подход к живому организму. Такую же картину мы имеем с Сёмкой. Белов, Константин, попрошу тебя снять очки.
Я снял свои очки, понимая, что мы сейчас пойдём мимо Сёмки. Дело в том, что он ненавидит очки. От них он становится как припадочный. Сёмке три раза в жизни вставляли кольцо в ноздри. И все три раза это делал наш кузнец в очках. С тех пор у Сёмки в голове буквально всё мутилось, когда он видел очки.
Вообще-то у нас в училище из-за него было уже много неприятностей. Но Павел Герасимович очень ценил его за породу. После того как Сёмка поднял на рога очкастого заведующего чайной и закинул его за дрова, стоял вопрос о переводе Сёмки в другой район. Но Павел Герасимович повсюду ездил и доказывал:
— В крайнем случае выгоднее перевести завчайной, чем племенного быка.
В конце концов и сам пострадавший забрал свою жалобу: училище заплатило ему за порванный пиджак, а суда он боялся: были свидетели, что Сёмка поднял его, когда завчайной лежал нетрезвым на территории нашей усадьбы.
Сейчас, когда мы проходили мимо Сёмкиного стойла, он положил свою короткую, грузную морду на перекладину и зло переминался с ноги на ногу. Чёрная шерсть на его гладком каменном туловище лоснилась. Я-то лично не уважаю такую тупую силу, восхищаться тут особенно нечем. Не велика заслуга покалечить нашего доброго Тузика. Сила есть — ума не надо. Но Павел Герасимович, наверное, придерживался другого мнения. Он сказал, проходя мимо Сёмки:
— Красавец!
— Сёмка стрельнул в него маленькими бешеными глазками и промычал: «Поговори, поговори у меня!..»
Мы все с благодарностью посмотрели на толстую цепь, которая, свисая из кольца в бычьем носу, обматывала его переднюю ногу.
Не думал я, что в тот же вечер мне придётся встретиться с Сёмкой на воле.
Пошли мы с Володей Сатюковым накосить клевера для молодняка. Сперва было здорово жарко, а потом солнце стало униматься. В наших северных местах земля остывает быстро, особенно в низинах: туда раньше всего заползает холод и гонит с земли пар, туман. Косили мы и а взгорье, на холме. А холм спускался к маленькому озерку. Берега у него были тряские, топкие: станешь на траву и трясёшься, как на пружинном матраце.
Клеверу на холме было не так чтоб много: только полакомиться телятам. Над ним гудели и ныли пчёлы. Мы лежали на скошенной траве. Рядом на кусте висела густая паутина. Она была выткана в форме правильного многоугольника, словно паук решал трудную геометрическую задачу. Я сказал об этом Володе. Он удивлённо на меня посмотрел:
— Неужели ты можешь думать о такой чепухе?
Володя попал в моё самое больное место: я действительно часто замечал, что думаю о разной ерунде. Мне уже давно хотелось научиться думать на серьёзные темы. И, главное, уметь высказывать свои мысли. На наших комсомольских собраниях это просто была мука: я совершенно не умел выступать. Иногда ещё у меня получалось, когда я разозлюсь, когда с кем-нибудь несогласен. А если человек говорит правильно, то добавить я уже ничего не мог и только жалел, что это не я догадался сказать.
Сейчас, лёжа на скошенном клевере, я искренне пожаловался Володе на этот свой недостаток. Мы не были близкими товарищами, но недавно я расшиб ему губу из-за Тузика, и теперь мне невольно захотелось показать, что нисколько на него не сержусь. Выслушав меня, Володя сдвинул брови домиком и сказал:
— Ты знаешь, это странно. По-моему, на собрании гораздо легче говорить, если ты согласен с предыдущим оратором.
— Почему? — спросил я.
— Потому что ты развиваешь и продолжаешь его правильные мысли. Представь себе, я делаю доклад по какому-нибудь вопросу. Ведь я же готовлюсь, читаю литературу, советуюсь со старшими… А ты вышел и рубишь с кондачка!
Я начал было ему возражать, но у него вдруг сделались круглые глаза: он смотрел поверх моей головы.
— Здрасьте, пожалуйста! — перебил меня Володя и поднялся с травы.
Я обернулся, перекатившись через спину.
К нам шёл Сёмка.
— Сними очки, — быстро сказал Володя.
Теперь Сёмка был совсем близко. Мы видели, что из ноздрей у него медленно каплет наземь кровь: очевидно, он вырвал кольцо из носу и удрал. На ходу он тряс головой, не замечая нас.
— Пожалуй, пройдёт мимо, — сказал Володя.
Сёмка огибал холм ниже того места, где мы косили. Боль и злость гнали его куда глаза глядят.
— Вот чёрт! — выругался Володя. — Ведь он же сейчас утонет в трясине…
Сперва мы заметались на одном месте, не зная, как помочь беде, а потом бросились к быку.
— Сёмка! Сёмка! Сёмка! — кричали мы на бегу.
Он даже не обернулся. До топи оставалось метров сто. Мы догнали быка, забежали с двух сторон вперёд и фальшиво-ласковыми голосами попытались его задержать:
— Сёмочка, Сёма!..
Он пошёл на нас, как танк. Мы брызнули врассыпную. Судя по тому, что у Володи лицо было испуганное, я, вероятно, тоже представлял собой неважную картину.
— Надо бежать за помощью, — торопливо сказал Володя.
— Но кто-нибудь из нас должен остаться и задержать его, — сказал я.
— Само собой разумеется, — сказал Володя. — Я мигом домчусь…
И вот я остался с Сёмкой.
Пока мы рассуждали, он ушёл ещё метров на шестьдесят вперёд. Я хорошо знал берег этого подлого озерка: стоило Сёмке пройти мимо одинокой сосны, как в десяти шагах он провалился бы.
И тут я вспомнил про свои очки. Нацепив их на бегу дрожащими руками, я отчаянно заорал:
— Стой, Семён! — и оказался перед самым его окровавленным носом.
Он поднял голову.

Мне и сейчас ещё становится жутко, когда я вспоминаю его морду. Увидев мои очки, он так рассвирепел, что мне показалось, будто у него из ноздрей повалил пар. Всё это продолжалось одно мгновенье. В следующую секунду я уже мчался прочь, слыша за собой тяжёлый топот и сопенье Сёмки.
Я не знаю, что должен чувствовать человек, находясь в смертельной опасности. Я лично ничего не соображал и не чувствовал. И кажется, я что-то кричал от страха, но слов не помню.
Он меня уже настиг, ткнувшись носом в мою развевающуюся гимнастёрку, но тут я увидел сосну и метнулся за неё. Сёмка тяжело проскочил мимо и тотчас остановился. Задыхаясь, я взобрался на дерево. Это была молодая, совсем не толстая сосна, а сучья у неё были и подавно тонкие. Мне бы в жизни на неё не взобраться, если бы не ужас, который меня гнал наверх, к небу.
Услышав треск ломающихся подо мной сучьев, Сёмка повернул своё бронебойное туловище, увидел меня и заревел от ярости. Сосна задребезжала от его рёва.
Он подбежал к дереву, остановился, забил копытом оземь и, наклонив голову, ударил своим каменным лбом по стволу.

Меня сильно тряхнуло. Исцарапав себе лицо, живот и руки, я прилип к сосне и чудом удержался… Невесёлое это дело — висеть в метре над такой тупой, злобной скотиной, как Сёмка!
Но всё это ещё пустяки, самое худшее было впереди.
Минут через десять ему надоело бушевать подо мной, и он пошёл прочь.
Сперва я было обрадовался, слез с дерева, стал обтирать кровь со своих саднящих царапин. Однако, посмотрев вслед удаляющемуся Сёмке, я чуть не заплакал: он снова пёрся к болоту!
Ох, как я его ненавидел!.. Но что же мне было поделать, когда я знал, что училище заплатило за него такие громадные деньги.
Побежав за ним следом, я стал швырять в него палки и камни. Я обзывал его такими словами, что, наверное, если бы наши девочки их услышали, никто бы из них не стал со мной дружить.
А Сёмка всё шёл и шёл к трясине.
Тогда мне пришлось снова забежать вперёд и показаться ему в своих очках. И опять я летел, не чувствуя под собой земли, а эта дрянь топотала за моей спиной своими ножищами, мечтая достать меня и разнести в клочья.
Не знаю, сколько времени всё продолжалось и сколько раз я удирал от него, взбираясь то на одно дерево, то на другое. Теперь-то я могу сознаться, что даже плакал: от злости, от усталости и от страха. Когда прибежал Павел Герасимович с нашими мастерами и рабочими, мы оба уже устали — и Сёмка под сосной, и я на сосне.
Его довольно легко увели, обмотав цепью рога. А я сказал, что должен полежать на траве и отдохнуть. Мне стыдно было являться в училище в таком растерзанном виде.
Назавтра у нас было общее собрание. Обо мне говорили, что я поступил, как настоящий комсомолец.
Володя Сатюков тоже выступал. Он присоединился к предыдущим ораторам.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ