Суд над Раскольниковым
Очнулся он от резкого, незнакомого звука – не церковного звона, не скрипа дрожек, а назойливого, металлического треска, доносившегося откуда-то сверху. Открыл глаза. Не узнал ничего. Вместо низкого, закопченного потолка его каморки – гладкая, матовая белая поверхность, холодно отражавшая свет от ровной, слепящей панели, вделанной в стену. Воздух был стерильным, пахло не сыростью, пылью и керосином, а чем-то химически чистым, отдававшим больницей. Он лежал не на своем продавленном диване, укрытый шинелью, но на узкой, жесткой койке, застеленной грубым, но без единой соринки, бельем. На нем была не его одежда, вместо нее казенная, синего цвета, безликая рубаха и такие же штаны.
Раскольников сел, охваченный ледяной, тошнотворной волной недоумения. Голова гудела, мысли путались, сплетаясь в клубок нестерпимой тяжести. Последнее, что он ясно помнил, – это признание Порфирию, его собственный, сорвавшийся с губ шепот: «Это я убил…» Потом – казенный дом, кандальный звон, бесконечная дорога… Сибирь? Но это не Сибирь. Это нечто иное.
Дверь, не деревянная, щелястая, а сплошная, металлическая, с маленьким глазком, бесшумно отъехала в сторону. На пороге стояли двое мужчин в одинаковой темно-синей форме, но без эполет и шашек. Лица у них были не грубые, не солдафонские, а какие-то спокойные, даже равнодушные.

–Родион Романович Раскольников? – спросил один, сверяясь с листком в руке. Голос звучал официально, беззлобно. – Подъем. Сегодня заседание.
– Какое заседание? Где я? – хрипло вырвалось у него. Собственный голос показался ему чужим.
– В следственном изоляторе. Город Санкт-Петербург. Сегодня слушается ваше дело в суде, – ответил второй, также без эмоций. –Встаньте, пожалуйста. Нужно надеть наручники.
Они приблизились. Раскольников инстинктивно отпрянул. Петербург? Но это не его Петербург. Он чувствовал это кожей, этим странным воздухом, этой пугающей тишиной, в которой не было слышно ни уличного гама, ни криков разносчиков. Мужчины действовали четко, профессионально. Холодный пластик и металл щелкнули у него на запястьях. Наручники были легкими, не такими, как железные кандалы, но от этого не менее унизительными.
Его вывели из камеры в длинный, ярко освещенный коридор с глянцевым полом. По стенам тянулись провода, мигали маленькие красные огоньки камер. Они шли мимо таких же металлических дверей. Везде царил мертвый, административный порядок, угнетавший своей бесчеловечной чистотой. Ничего живого, ничего родного. Даже запах времени был другим.
Его погрузили в закрытый автомобиль – на удивление Раскольникову не в карету и не в телегу, а в белую машину с решеткой, отделявшей его от водителей. Сквозь тонированное стекло он видел город, и от этого вида у него закружилась голова по-настоящему. Знакомые очертания Невского, шпиль Адмиралтейства, но все вокруг было искажено, оплетено паутиной невиданных конструкций, рекламных щитов с живыми картинками, заполнено потоками пестрых, стремительных экипажей без лошадей. Люди в странной, пестрой, нелепой одежде спешили по своим делам, уткнувшись в маленькие сверкающие экраны в руках. Шум был оглушительным, но это не был не старый, знакомый гул, слышалось что-то новое, механический рокот, пронизанный визгом, музыкой и голосами, доносившимися неизвестно откуда. Он закрыл глаза, чувствуя, как реальность расползается под ним, как тонкий лед. Это был бред. Лихорадочный сон. Или – страшная догадка начала шевелиться в его воспаленном мозгу – он умер, и это ад.
Суд помещался в огромном здании, футуристическом и холодном. Внутри – та же стерильная атмосфера. Его провели через рамку, которая пискнула, мигнув красным светом. Лифт бесшумно умчал их на один из верхних этажей. В зале судебных заседаний все было залито светом. В центре – возвышение с пустым креслом судьи, украшенное двуглавым орлом. Слева и справа – столы. За одним уже сидели люди. А прямо перед судейским местом, отделенная от зала перегородкой из стальных прутьев, находилась клетка для подсудимого. Именно туда его и ввели. Дверь закрылась за ним тихим щелчком электронного замка. Из этой клетки он мог видеть все.
Лица находящихся в помещении людей заставили сердце Раскольникова сжаться с такой силой, что он едва не задохнулся. Узнавание было мучительным и противоестественным, будто он смотрел на ожившие портреты, написанные рукой безумца.
За столом обвинения сидел мужчина-прокурор в синей форме, непроницаемым лицом. Рядом с ним – молодой помощник, листающий бумаги.
За столом защиты – незнакомый ему адвокат, мужчина лет тридцати пяти в строгом костюме и очках. Его взгляд был сосредоточенным, умным, но абсолютно чужим. Он изучал Раскольникова как сложную задачу, а не как человека.

А по ту и другую сторону от этих столов, на двух раздельных скамьях, сидели свидетели. На скамье со стороны обвинения он сразу увидел Порфирия Петровича. Бывший следователь был в строгом современном костюме, но его пронзительный, устало-насмешливый взгляд остался прежним. Он сидел спокойно, сложив руки на коленях, и его присутствие здесь, в качестве свидетеля, наполняло Раскольникова странным чувством: будто все это кошмарное действо было лишь продолжением их прежних, роковых бесед. Рядом с Порфирием на той же скамье сидели другие незнакомые люди, вероятно, понятые, эксперты или иные свидетели следствия.
На скамье защиты, в первом ряду, сидели Соня и Разумихин. Соня, в скромном сером платье, казалась еще меньше и беззащитнее в этом огромном холодном зале. Ее пальцы теребили край платка, а взгляд, полный боли и сострадания, был прикован к Раскольникову в его клетке. Разумихин, могучий и растерянный, в нелепых для этого места джинсах и рубашке, сидел, подавшись всем телом вперед, будто желая силой проломить стальную преграду. Его лицо выражало немой ужас и полное непонимание происходящего.
В первом ряду для публики, прямо за скамьей защиты, держась за руки, сидели мать и Дуня. Пульхерия Александровна, казалось, уже не плакала – все слезы высохли, оставив после себя лишь маску безжизненного страдания. Дуня, бледная, но собранная, сжимала руку матери; ее прекрасные, гордые черты были напряжены, а в глазах, твердо смотревших на брата, бушевала внутренняя буря. Рядом с ними сидел тот самый незнакомый мужчина в очках – вероятно, психиатр, нанятый защитой.
А на отдельном столе, справа от судьи, стоял большой экран. На нем светился логотип: «Ф.М. Достоевский: Литературно-исторический ИИ-консультант v.2.1».
Но самое жуткое зрелище ждало его в углу зала, со стороны обвинения. Там, на специальных постаментах, проецировались две голографические фигуры. Они мерцали, слегка просвечивали, но были узнаваемы до мучительной точности. Одна – крошечная, сухая, в истрепанной кацавейке – старуха-процентщица Алена Ивановна. Ее цифровой лик был искажен привычной злобой и каким-то новым, леденящим торжеством. Рядом – Лизавета Ивановна. Ее полупрозрачный образ сидел, смиренно опустив глаза, и от этой бесплотной, но вечной печали веяло таким холодом небытия, что Раскольников почувствовал, как у него стынет кровь.
Секретарь, молодая девушка с миниатюрным устройством в ухе, что-то шептала в микрофон. Раскольников опустил голову. Звон в ушах, тот самый, от колокольчика старухи, смешивался теперь с гудением кондиционеров и тихим, ровным писком электроники, пронизывающей все вокруг. Он был заперт. Не только в этой железной клетке, но и в чудовищной ситуации, где его личная драма, его грех и его теория должны были быть препарированы инструментами совершенно чужого ему мира.
Тишина стала абсолютной. Все ждали появления судьи. Раскольников сжал кулаки, чувствуя, как холодный пот выступает на спине под казенной рубахой. Начиналось.
Тишину нарушил резкий, механический щелчок замка в дальней двери. Все присутствующие, словно по команде, выпрямились и повернули головы. В зал вошел судья. Это был немолодой уже мужчина с усталым, строгим лицом, в черной мантии. Он прошел к своему возвышению, не глядя по сторонам, и сел в кресло. Его движения были отточенными, лишенными суеты. Председательствующий судья. Носитель закона этого нового, непостижимого мира.
Секретарь, та самая девушка с устройством в ухе, встала и звонким, безличным голосом начала:
– Встать! Суд идет!
Все в зале поднялись. Раскольников, скованный невидимой тяжестью, тоже медленно поднялся с места в своей клетке. Звук был таким же, как когда-то в старом суде: «Встать, суд идет!» Но здесь это звучало как пародия, как эхо, доносящееся из разбитого прошлого.
Судья дал знак рукой.
– Прошу всех садиться. Объявляю открытым судебное заседание по уголовному делу №… по обвинению Раскольникова Родиона Романовича, ранее не судимого, в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 частью второй Уголовного кодекса Российской Федерации, – его голос был сух, монотонен и не терпел возражений. – Проверяю явку участников процесса.
Началась рутина. Секретарь огласила список. Все были на месте. Судья разъяснил сторонам их права. Раскольников слушал, почти не понимая. Право знакомиться с материалами дела, заявлять ходатайства, представлять доказательства, давать показания… Формальные слова, которые теперь обретали для него жуткую конкретность. Ему разъяснили, что он вправе не свидетельствовать против себя. Он кивнул, глядя в пустоту.
Затем началось формирование коллегии присяжных. В зал вошло четырнадцать человек – обычные, растерянные люди в современной одежде. Судья кратко представился, представил стороны – государственного обвинителя, прокурора Караваева, мужчина лет сорока пяти с каменным, непроницаемым лицом, и защитника, адвоката Михеева. Он сообщил суть дела: двойное умышленное убийство с корыстной целью. Присяжные слушали, бросая украдкой взгляды то на Раскольникова в клетке, то на мерцающие голограммы жертв. Лица у них были серьезные, но в глазах читалось замешательство от всей этой нелепой, историко-фантасмагорической ситуации.
После отводов и самоотводов осталось восемь человек. Именно они, первые по списку, были приведены к присяге. Они встали, и судья зачитал текст. «Торжественно клянусь исполнять их честно и беспристрастно… не оправдывая виновного и не осуждая невиновного…» Раскольникову показалось, что слова эти висят в воздухе, ничего не знача, как заклинание на незнакомом языке. Каждый присяжный ответил: «Я клянусь». Голоса звучали неуверенно. Затем им разъяснили их права и, что важнее, обязанности: не общаться ни с кем о деле, не высказывать мнения до вердикта, не собирать сведения самостоятельно. Их лицa стали еще более напряженными. Они заняли свои места на отдельной скамье, расположенной напротив клетки Раскольникова. Восемь судей его судьбы, случайно выбранных из этого чужого мира.
Судья объявил начало судебного следствия и предоставил слово государственному обвинителю.
Прокурор Караваев встал. Он не спеша разложил перед собой бумаги – толстые папки с материалами дела, все в бумажном виде, как и требовала анахроничная, но подчеркнуто строгая атмосфера этого процесса.
– Уважаемый суд, уважаемые присяжные заседатели, – начал он, и его голос, низкий и безэмоциональный, заполнил зал. – Имеемые в распоряжении государственного обвинения материалы дела полностью подтверждают причастность Родиона Раскольникова к инкриминируемому ему преступлению, характеризующегося исключительной жестокостью и циничным расчетом. В июле 1865 года, находясь в здравом уме и твердой памяти, движимый корыстными побуждениями, а также желанием проверить на практике свою человеконенавистническую, антигуманную теорию, подсудимый умышленно, с особой жестокостью, лишил жизни двух женщин: Алену Ивановну и Лизавету Ивановну.
Он методично, словно зачитывая отчет, изложил фабулу: подготовку, приход в квартиру, убийство топором сначала старухи, затем неожиданно вернувшейся Лизаветы, кражу ценностей.
– Мотив, уважаемые присяжные, – продолжил он, – не только в банальной наживе, хотя похищенные деньги и вещи представляли значительную сумму. Главный мотив – желание возвыситься. Желание доказать себе, что он – не «тварь дрожащая», а «право имеющий» на жизнь и смерть других. Он написал статью, где разделил человечество на «обыкновенных» и «необыкновенных», последним, по его мнению, дозволено «перешагнуть через кровь». Старуха-процентщица была для него лишь «вошью», экспериментом, первой ступенькой к воображаемому величию. Лизавета же стала случайной, но неизбежной жертвой его больной фантазии. Он не просто убил. Он попытался совершить «идейное» убийство, что лишь усугубляет его вину. Обвинение будет настаивать на самой строгой квалификации его действий и просит вас, присяжные, дать объективную оценку всем представленным доказательствам, коих более чем достаточно.
Прокурор сел. Его речь не вызвала волнения, лишь ледяное, тягостное чувство завершенности.
Слово получил защитник, адвокат Михеев. Он встал, поправил очки, его взгляд скользнул по присяжным, стараясь установить контакт.
– Уважаемый суд, уважаемые коллеги, уважаемые присяжные, – начал он, и голос его звучал мягче, вдумчивее. – Да, Родион Раскольников признает сам факт лишения жизни двух человек. Но прежде чем вынести ему приговор в своем сердце, я прошу вас взглянуть не только на «что» он сделал, но и на «почему» и «в каком состоянии». Перед вами не хладнокровный убийца-грабитель. Перед вами глубоко больной, измученный нищетой, отчаянием и философским тупиком юноша. Его так называемая «теория» – не программа действия, а симптом. Симптом тяжелого психического расстройства, развившегося на почве крайней социальной депривации, голода, лихорадочного одиночества. Он не украл, чтобы разбогатеть. Он спрятал похищенное под камень, не воспользовавшись ни копейкой. Главный его мотив – не корысть, а безумная попытка разрешить неразрешимый вопрос о собственном месте в мире, попытка, за которую он уже сейчас расплачивается невыносимыми муками совести. Мы представим суду доказательства его душевной болезни, его искреннего раскаяния, а также свидетельства того, что в момент совершения деяния он не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий. Мы просим вас, присяжные, увидеть в подсудимом прежде всего человека, сломленного обстоятельствами и собственной больной мыслью.
После вступительных заявлений судья перешел к допросу подсудимого. Раскольникова предупредили, что он вправе не давать показаний. Он молча кивнул. Его голос, когда он начал говорить, был тихим, прерывистым, будто доносящимся издалека.

– Да, я убил… Алену Ивановну и Лизавету… Топором… – Он говорил те же слова, что и когда-то Порфирию.
Прокурор задавал четкие, жесткие вопросы, выстраивая картину корыстного, хладнокровного убийства.
– Вы заранее приготовили топор, пришили петлю, изготовили ложный «заклад». Это говорит о тщательной подготовке, не так ли?
– Да… Я обдумывал…
– Целью было завладеть деньгами и ценностями?
– Я… хотел избавиться от нищеты. Помочь матери, сестре… – голос Раскольникова дрогнул.
– Но вы же не потратили ни рубля! Вы спрятали все. Значит, деньги не были главным? Главным было убийство как таковое? Проверка вашей теории?
Раскольников замолчал, сжав виски пальцами. Знакомый, мучительный звон в ушах усиливался.
– Я… не знаю… Мне казалось, я должен… должен был решить… «Вошь ли я, как все, или человек?»
Защитник, воспользовавшись правом на вопросы, старался вывести на первый план состояние подсудимого.
– Родион Романович, опишите, пожалуйста, ваше состояние в дни, предшествовавшие преступлению. Вы спали? Ели?
– Почти не спал… Не ел… Голова горела… Мысли путались, одна цеплялась за другую… Все казалось ненастоящим…
– Этот разговор студента и офицера в трактире об убийстве старухи-процентщицы – вы его действительно слышали или это могло быть наваждением?
– Я… я слышал! Нет… я и сам не знаю… Он звучал у меня в голове постоянно… – Раскольников говорил сбивчиво, его ответы противоречили друг другу, он то вдавался в ненужные подробности, то замолкал, уставившись в пространство.
– После убийства, когда вы вернулись домой, что вы чувствовали? Вы помните это?
– Лихорадку… Бред… Мне казалось, я все еще там, у нее в квартире… Что кровь на мне… Я боялся всего… Каждого звука…
Адвокат аккуратно подводил к мысли о неадекватности. Прокурор парировал, возвращаясь к хладнокровности подготовки.
– Но вы же достаточно ясно соображали, чтобы тщательно отмыть топор и руки? Чтобы спрятать краденое?
– Я действовал как во сне… Механически…
Допрос тянулся долго. Раскольников то оживлялся, говоря о своей теории с болезненным жаром, то впадал в апатию. Присяжные внимательно наблюдали за ним, и на их лицах постепенно сменялись выражения: от недоверия и осуждения к недоумению и даже жалости. Человек в клетке не походил на монстра. Он походил на тяжело больного, потерянного человека, заговорившего на странном, архаичном языке в абсолютно чужой для него реальности.
После допроса подсудимого судья предоставил сторонам возможность представить доказательства. Прокурор начал с вещественных – были представлены архивные, оцифрованные и распечатанные протоколы XIX века: описание места преступления, топора, спрятанных под камнем вещей. Все это было странным анахронизмом на фоне современного зала. Затем он вызвал первого свидетеля – Порфирия Петровича.
Бывший следователь, теперь свидетель обвинения, поднялся со скамьи и прошел к трибуне. Его взгляд, встретившись с взглядом Раскольникова, сохранил ту же усталую, всепонимающую насмешку.
– Свидетель, представьтесь суду и расскажите, что вам известно по данному делу, – произнес судья.
Порфирий Петрович начал рассказ четко, профессионально, как будто докладывал начальству. Он описал свои встречи с Раскольниковым, их психологические дуэли, свое убеждение в его виновности, основанное не на прямых уликах, а на анализе характера и «теории».

– Он пришел ко мне сам, – говорил Порфирий, – не будучи вызванным. Искал диалога. Ему нужно было не опровергнуть подозрения, а… утвердиться в них. Проверить на ком-то другом прочность своей идеи. Он метался между желанием признаться и страхом, между высокомерием «право имеющего» и муками «твари дрожащей». Его показания, его поведение – это поведение человека, раздираемого внутренним конфликтом, но конфликт этот носил не клинический, а именно идейный, философский характер. Он прекрасно осознавал, что делает. Его болезнь – болезнь гордыни, а не рассудка.
Прокурор задал несколько уточняющих вопросов, укрепляя тезис о сознательном, мотивированном преступлении. Затем слово получил адвокат.
– Господин Порфирий Петрович, – начал Михеев, – вы, как опытный следователь, отмечали в поведении Раскольникова признаки, которые можно расценить как неадекватные? Бредовые идеи? Слуховые галлюцинации, например, тот самый звон колокольчика, о котором он постоянно говорил?
– Признаки сильнейшего нервного расстройства – отмечал, – ответил Порфирий, – но бреда или отключения рассудка – нет. Его теория бредова по сути, но он ее логически выстроил. Он страдал, мучился, но это были муки совести и краха идеи, не помутнения сознания. Звон в ушах – это симптом пережитого ужаса, ни в коем случае не психиатрический диагноз.
– Но вы же не являетесь психиатром, чтобы делать такие заключения? – парировал адвокат.
– Нет, не являюсь. Но я являюсь специалистом по человеческим душам, особенно по таким, надтреснутым, – с легкой, язвительной улыбкой ответил Порфирий, и в зале на мгновение повеяло духом их старых, страшных бесед.
Допрос Порфирия Петровича стал первым серьезным столкновением двух линий: обвинение настаивало на вменяемом, идейном злодее, защита – на глубоко больном, невменяемом или ограниченно вменяемом человеке. Присяжные делали пометки в своих блокнотах.
Судья предоставил слово защите для вызова свидетелей.
Первой вызвали Софью Семеновну Мармеладову. Она подошла к трибуне, маленькая, хрупкая, в своем скромном платье, казавшаяся потерявшейся в этом огромном, холодном пространстве. Ее голос, когда она начала говорить, был тихим, но удивительно четким.
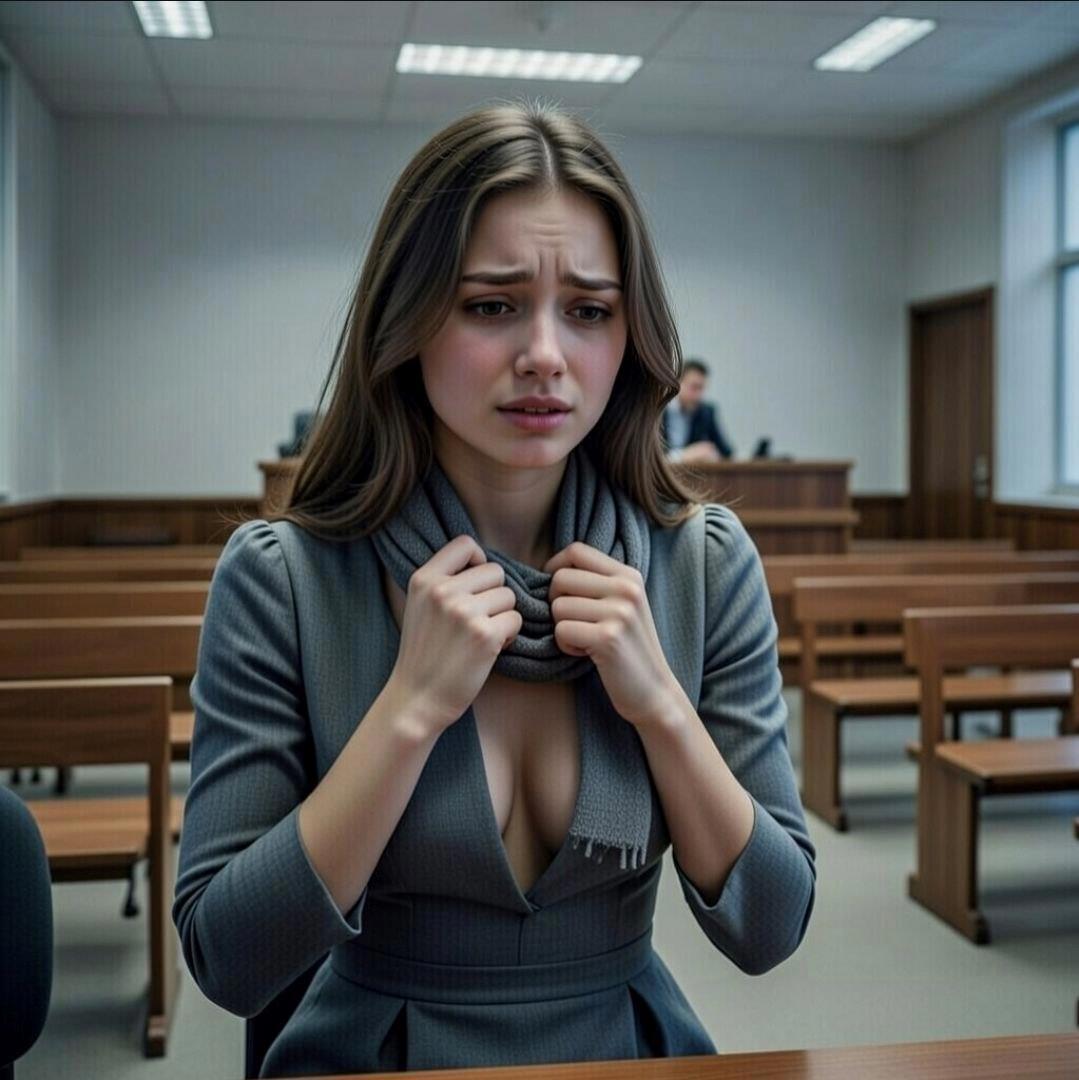
– Свидетельница, расскажите суду, что вам известно о подсудимом и обстоятельствах, связанных с делом, – сказал судья.
Соня начала говорить о первой встрече, о помощи его отцу, о странной, болезненной связи, возникшей между ними. Она не оправдывала убийство. Она говорила о муке.
– Он был сам не свой… Когда он пришел ко мне в первый раз после… того… он был как в бреду. Лицо серое, глаза не видели… Он говорил не о деньгах, не о наживе. Он говорил о том, что убил не старуху, а себя. Это не слова здорового человека, господа присяжные. Это крик погибающей души.
Прокурор, ведя допрос, пытался представить ее слова как слепое сочувствие падшей женщины.
– Вы сами жили вне моральных законов общества. Не поэтому ли вы склонны оправдывать тяжкое преступление?
Соня вздрогнула, но ее голос не дрогнул:
– Я жила так, чтобы семья не умерла с голоду. А он… он жил в таком аду в своей голове, какого я и представить не могу. Он пришел ко мне не за оправданием. Он пришел, потому что больше идти было не к кому. И когда он пошел на перекресток, по моему совету, встать на колени и просить прощения у земли… он сделал это. Он пытался покаяться. Разве хладнокровный убийца стал бы так мучиться?
Ее показания, полные искренней, почти святой веры в возможность искупления, произвели сильное впечатление. Присяжные слушали, не отрывая глаз от этой хрупкой девушки, говорившей с такой убежденностью.
Следующим вызвали Дмитрия Прокофьевича Разумихина. Его мощная фигура, скованная неловкостью, казалась чужеродной в зале суда. Его речь была эмоциональной, сбивчивой, полной отчаяния.

– Родя… Родион… Он был лучшим из нас! – почти выкрикнул он, обращаясь больше к присяжным, чем к судье. – Умнейший, добрейший человек! Да, он написал эту дурацкую статью, но это был бред голодного, загнанного в угол человека! Вы видели, в какой конуре он жил? Он на последние гроши детям Мармеладовых отдал! Он девчонку пьяную от франта отбивал! А потом… потом что-то в нем надломилось. Он перестал спать, есть, говорить связно. Он смотрел на людей, а видел, я не знаю что… Это болезнь, господа! Это не злодей! Вы хотите судить больного?
Прокурор холодно уточнял детали: знал ли Разумихин о подготовке, о топоре, о деньгах. Разумихин отрицал, но его уверенность таяла под напором фактов. Однако его главный тезис – болезнь, помрачение рассудка – звучал искренне и страстно. Он не оправдывал убийство. Он умолял понять, что убил не его друг, а что-то иное, чужое, вселившееся в его измученный мозг.
Затем настала очередь семьи. Пульхерию Александровну вызывали первой. Она поднялась, держась за спинку скамьи, и ее показания были тихим, монотонным потоком горя. Она говорила о сыне-ребенке, добром и чувствительном, о его любви к сестре, о том, как он мучился от бедности.

Но когда прокурор спросил, замечала ли она признаки безумия в его письмах или при последней встрече, она лишь безнадежно покачала головой:
– Он был странный… Отчужденный… Как будто не с нами… Но безумным? Нет… Он страдал. Страдал ужасно.
Авдотья Романовна держалась с ледяным, гордым самообладанием. Она подтвердила все, что говорила мать, и добавила:
– Он хотел спасти нас. Лужин, за которого я соглашалась выйти… Родион видел в этом продажу. Его поступок – это ужас, грех, преступление. Но его намерение… его искаженное, больное намерение – было желанием защитить. Он считал, что имеет право… право жертвовать одним во имя других. Это ложь, страшная ложь. Но он в нее поверил, потому что был болен.
После допроса близких, картина стала прорисовываться четче: не монстр, а человек, чье сознание, под влиянием нищеты, гордыни и одиночества, пошло по страшному, извилистому пути к преступлению.
Следующим для допроса вызвали эксперта – судебного психолога-психиатра, доктора медицинских наук Игоря Владимировича Зосимова, который провел стационарную комплексную судебно-психиатрическую экспертизу в отношении Раскольникова в период предварительного следствия.
В зал вошел эксперт Зосимов – немолодой, спокойный мужчина с внимательным, аналитическим взглядом. Он занял место у трибуны, положив перед собой толстую папку с заключением.
– Эксперт, представьтесь суду и доложите о своем образовании, специальности и проведенном исследовании, – сказал судья.
Зосимов сделал это кратко и профессионально. Затем он начал излагать суть заключения. Его речь была лишена эмоций, насыщена терминами, но от этого звучала лишь убедительнее.
– На основании длительного стационарного наблюдения, анализа всех материалов дела, в том числе исторических свидетельств о поведении подсудимого до, во время и после инкриминируемых событий, комиссия пришла к выводу, что Родион Романович Раскольников во время совершения деяний, а также в период, к ним непосредственно примыкающий, страдал хроническим психическим расстройством в форме тяжелого депрессивного эпизода с психотическими симптомами, усугубленного ситуацией острой социальной дезадаптации, соматического истощения и личностного кризиса.
Он посмотрел на присяжных, стараясь говорить доступнее.
– Проще говоря, господа присяжные, его сознание было глубоко повреждено. Мы выделяем два критерия невменяемости: медицинский (наличие психического расстройства) и юридический (неспособность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий или руководить ими). В данном случае мы констатируем наличие обоих критериев.
Он открыл папку и начал подробно, пункт за пунктом, разбирать состояние Раскольникова.
– Во-первых, бредовые идеи. Его теория о «двух разрядах людей» и «праве на кровь» – это не философская концепция, это классический бред величия и избранности, переплетенный с бредом отношения, ему казалось, что все на него смотрят, смеются, унижают. Он не просто размышлял – он фанатично, как параноик, верил в это, строил на этом всю свою реальность. Во-вторых, галлюцинаторные переживания. Постоянно упоминаемый им назойливый «звон колокольчика», который преследовал его и после преступления, – это, с высокой долей вероятности, слуховая галлюцинация, характерная для психотических состояний. Его восприятие разговора в трактире также носит искаженный, навязчивый характер. В-третьих, аффективная тупость и диссоциация. После убийства он описывает состояние, когда действовал «как во сне», «механически». Это признаки диссоциативного состояния, отщепления сознания от ужаса содеянного. Его последующие метания между манией преследования, попытками «доказать» свою теорию и приступами панического страха и раскаяния – классическая картина острого психоза. В-четвертых, социальная и физическая деградация. Полное пренебрежение к своему внешнему виду, питанию, уход из университета, разрыв социальных связей – все это симптомы тяжелой депрессии, на фоне которой и развился психоз. Вывод комиссии, – заключил Зосимов, закрывая папку, – единогласный: Родион Раскольников в период совершения инкриминируемых ему деяний страдал хроническим психическим расстройством, лишавшим его способности в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Он нуждается в принудительном лечении психиатрического характера.
В зале повисла гробовая тишина. Слова эксперта, сухие и научные, прозвучали как приговор другому приговору. Присяжные переглядывались. Прокурор побледнел.
Наступила очередь вопросов. Прокурор Караваев атаковал яростно, но технично.
– Эксперт, не кажется ли вам, что подсудимый слишком хорошо «играл» свою роль сумасшедшего? Он ведь тщательно готовился к преступлению, скрывал следы, врал следователю. Разве это поведение человека, не осознающего свои действия?
– Осознание на бытовом, операциональном уровне могло сохраняться, – парировал Зосимов. – Он знал, как взять топор, как ударить. Но мотивационный, смысловой уровень был полностью захвачен бредовой конструкцией. Он не убивал, чтобы украсть. Он «совершал эксперимент», «брал право». Это принципиально иное, болезненное осознание. А ложь и сокрытие – часто следствие сохранившегося инстинкта самосохранения, который вступает в конфликт с бредовыми установками.
Адвокат своими вопросами лишь укреплял выводы эксперта. Допрос Зосимова стал переломным моментом. Теория об «идейном убийце» трещала по швам, уступая место клинической картине душевной болезни.
После оглушительного заключения эксперта Зосимова в зале наступила тягостная, зыбкая тишина, которую нарушил лишь едва слышный гул проекторов, поддерживающих голограммы. Судья, преодолевая видимое внутреннее сопротивление, объявил:
– Суд, удовлетворяя ходатайство стороны обвинения, приступает к допросу свидетелей с использованием специальной технической процедуры. Предупреждаю всех присутствующих: показания будут получены путем анализа исторических источников и их интерпретации алгоритмической моделью. Прошу отнестись к этому как к документальному доказательству.

Первой активировали голограмму Алены Ивановны. Мерцающее, полупрозрачное изображение старухи за столом казалось одновременно жалким и отталкивающим. Каждая морщина на лице, жирный блеск волос, пронзительная злость маленьких глаз – все было воссоздано с пугающей дотошностью. Когда она заговорила, голос звучал скрипуче, с характерной старческой картавизной, но фразы были четкими, лишенными живых колебаний.
Прокурор Караваев, стараясь сохранить профессиональный тон, задал первый вопрос, глядя не на образ, а в свои бумаги, как будто стесняясь этой мистификации:
– Свидетельница… Алена Ивановна. Подтвердите, что к вам накануне убийства приходил подсудимый Раскольников для залога вещей.
Голограмма, после едва заметной задержки, характерной для обработки запроса, ответила:
– Приходил. Еще зимой ему обо мне студент Покорев сообщил. Месяца полтора назад принес колечко золотое с камешками, сестрино подарение. Дала я ему два билетика. Больше не приходил, пока в тот роковой день…
– Опишите его поведение в день убийства.
– Вел себя странно. Бледный, руки трясутся. Сказал, лихорадка. Сунул мне сверток, туго замотанный. Я к окну отошла развязывать, спиной к нему. Чуяла я недоброе, да поздно… – голос алгоритма попытался передать оттенок старческой подозрительности, но получилось это механически, что лишь усиливало жуть.
Адвокат Михеев, дождавшись своей очереди, встал. Его вопрос был рассчитан на эффект.
– Алена Ивановна. В своей жизни вы давали деньги под огромные проценты, брали заклады за гроши у таких же бедняков, как и Раскольников. Скажите, а чувствовали ли вы когда-нибудь, что ваши действия могут довести человека до отчаяния? Что вас могут считать… «вошью», «гадиной», «бесполезной тварью»?
В зале замерли. Голограмма старухи замерла на более долгую паузу. Светящиеся контуры лица не выражали ничего, кроме статичной злобы. Наконец, раздался ровный, бесстрастный голос модели, переключившейся в режим анализа текста:
– Вопрос содержит субъективную моральную оценку, отсутствующую в описании персонажа в исходном тексте. Прямых указаний на рефлексию персонажа о мнении о нем клиентов или на чувство вины в доступных данных не обнаружено. Персонаж характеризуется как «злая, капризная старушонка», мотивированная практической необходимостью и скупостью.
Ответ, холодный и безличный, прозвучал как приговор не только старухе, но и самой попытке найти в этом цифровом призраке человеческое понимание. Присяжные переглянулись. Кто-то из них содрогнулся.
Допрос Лизаветы Ивановны был краток и мучителен. Ее голограмма, еще более бледная и размытая, чем у сестры, сидела, опустив голову. Ее «голос» был тихим шепотом, почти лишенным интонаций.
– Лизавета Ивановна, вы застали подсудимого на месте преступления? – спросил прокурор.
– Да… – прошелестело из динамиков. – Я вернулась… Дверь была открыта… Сестра лежала… Он вышел из другой комнаты… с топором…
– Вы пытались крикнуть, убежать?
– Нет… Не смогла… Испугалась…
Больше она ничего не сказала. Защитник, понимая, что допрашивать тут нечего, лишь покачал головой. Образ безропотной жертвы, воссозданный технологией, вызывал не столько ненависть к убийце, сколько щемящее чувство несправедливости по отношению к этой призрачной, навсегда застывшей в ужасе женщине. Ее молчаливое присутствие было красноречивее любых слов.
Но главным действом стал вызов «свидетеля», знавшего о Раскольникове все. Судья, с усилием выговорив, объявил:
– Суд вызывает… информационно-аналитический ресурс, смоделированный на основе творческого и эпистолярного наследия писателя Федора Михайловича Достоевского. Ресурсу будут заданы вопросы в рамках его… возможностей.
На большом экране погас логотип, и появилось статичное, но глубоко проработанное изображение: знакомое по портретам усталое, строгое лицо с пронзительным, словно видящим насквозь взглядом и характерной бородой. Оно не двигалось, но казалось живым от напряжения мысли. Зал затих окончательно. Даже прокурор выпрямился, глядя на экран с неподдельным, смешанным с брезгливостью интересом.
Первым, по процедуре, задал вопрос государственный обвинитель. Его голос прозвучал чуть громче, чем обычно, будто он говорил с важной персоной.
– Федор Михайлович… Ваш герой, Раскольников, тщательно спланировал преступление, долго обдумывал его, пытался скрыть следы. Разве эти действия не доказывают ясность его ума, его полную вменяемость и осознание зла?
На экране лицо не дрогнуло, но из динамиков полился голос. Он был удивительно похож на тот, что можно представить у Достоевского: нервный, страстный, немного срывающийся на хрипоту в конце фраз, но при этом с металлическим цифровым призвуком, выдававшим его искусственное происхождение. Пауза перед ответом была чуть длиннее естественной.
– Вменяемость… – начал «голос», и в нем послышались задумчивые ноты. – Это термин вашего права, вашего мира, который пытается измерить черное и белое. Я же погружался в серое, в кроваво-красные сумраки человеческой души. Расчет? О да, он рассчитывал. Но это расчет безумца, который уверен, что решает высшую математику мироздания, а на деле складывает кости в собственной могиле. Он осознавал, что берет топор? Да. Осознавал ли он, что топор этот отсекает его самого от человечества, от Бога, навеки? Нет. Его сознание было раздвоено: мелкий, дрожащий от страха студент в лохмотьях – и Наполеон в его воспаленном мозгу, имеющий право. Которое из них было «им»? Оба. И ни одно. Это и есть безумие – не отсутствие мысли, а ее чудовищное, раскаленное до бела извращение.
Прокурор нахмурился, не удовлетворенный ответом.
– Но он же сам писал о «двух разрядах», доказывал свою теорию. Это логическое построение!
– Логика, оторванная от сердца, от совести, от Христа – и есть самая страшная форма безумия, – парировал голос. – Его статья – крик отчаяния загнанного в угол зверя, пытающегося зубами и когтями выстроить себе оправдание. Он верил в эту теорию так, как верят фанатики, то есть слепо, отвергая всю очевидность живого мира. Разве это не симптом болезни духа?
Настала очередь защитника. Адвокат Михеев задал вопрос, на который, казалось, ждал ответа весь зал.
– Федор Михайлович, в романе Раскольников идет с повинной. Он падает на колени на перекрестке, целует землю. Это истинное раскаяние или лишь очередной шаг его больной психологии, желание облегчить свои муки?
Долгая пауза. Казалось, цифровой дух писателя обдумывает.
– Раскаяние… – зазвучал наконец голос, и в нем появились пронзительные, щемящие ноты. – Оно не бывает одним лишь актом воли. Оно рождается из распада, из тошноты, из одиночества, которое становится невыносимее любой каторги. Да, он искал облегчения. Но чтобы искать его в публичном унижении, в признании «я убийца», надо сначала эту страшную правду в себе принять. Его теория рухнула не от внешних доводов, а от внутреннего противления самой его натуры. Соня, ее кротость, ее невинная жертвенность, слезы детей, призрак убитой Лизаветы – все это капля за каплей точило камень его гордыни. На перекрестке он падал не перед людьми – они его не поняли, – он падал перед той самой землей, которую отринул, перед небом, в которое разучился верить. Это было начало выздоровления души. Каторга для него стала не наказанием, а необходимостью, горьким лекарством. Он пошел на нее, чтобы вновь стать человеком, а не «сверхчеловеком». И в этом – его надежда.
Последний вопрос задал, к всеобщему удивлению, сам судья, нарушив нейтралитет. Видимо, любопытство пересилило.
– Федор Михайлович, а как вы, автор, относитесь к тому, что вашего героя судят здесь и сейчас, по нашим законам, в этом… странном для него мире?
На этот раз пауза была самой долгой. Мерцание на экране усилилось.
– Миры меняются, – прозвучал наконец голос, и в нем впервые появилась отдаленная, почти меланхолическая нота. – Канцелярии, мундиры, законы… Они лишь декорации. Суть же одна: человек перед лицом своего поступка, перед лицом вечности. Ваш суд пытается измерить степень вины. Мой интерес был – измерить глубину падения и высоту возможного воскресения. Если этот процесс, каким бы причудливым он ни был, заставит кого-то задуматься не о статье Уголовного кодекса, а о том, что в каждом из нас живет и Раскольников, и Соня, и Свидригайлов, – значит, он не бесполезен. Преступление и наказание – они не в тюремных сроках. Они здесь, – голос сделал паузу, будто указывая на грудь каждого, – в человеческом сердце.
Экран погас. В зале воцарилась абсолютная, оглушительная тишина, которую не решался нарушить даже кашель. Присяжные сидели, не двигаясь, впечатав в память этот диалог с машинным призраком гения. Прокурор выглядел подавленным – его упрощенная схема «расчетливый злодей» была не просто оспорена, она была размыта до основания этой сложной, мучительной психологической правдой, извлеченной из цифрового небытия. Защитник, напротив, казался сосредоточенным – ключевые аргументы были высказаны устами самого создателя подсудимого.
Раскольников же в своей клетке поднял наконец голову и уставился на темный экран. В его глазах, налитых лихорадочным блеском, не было ни понимания, ни удивления. Была лишь бесконечная усталость. Ему казалось, что он только что присутствовал на собственных похоронах, где проповедь читал тот, кто когда-то вдохнул в него эту мучительную жизнь. Граница между реальностью и кошмаром, между XIX веком и XXI, между живой болью и ее цифровым эхом окончательно стерлась. Он был просто объектом, вокруг которого спорили законы, врачи, технологии и даже воскрешенные тени прошлого. И этот спор был страшнее любого приговора.
Судья, откашлявшись, нарушил тишину формальной фразой:
– Допрос… специальных свидетелей окончен. Судебное следствие считается завершенным. Суд переходит к прениям сторон.
Но эти слова уже тонули в том гуле, что стоял теперь не только в ушах Раскольникова, но, казалось, висел над всем залом – гуле веков, голосов, технологий и неразрешимых вопросов, на которые предстояло ответить восьмерым простым людям в роли присяжных заседателей.
Первым поднялся государственный обвинитель, прокурор Караваев. Его лицо, обычно каменное, теперь выражало холодную, сконцентрированную решимость. Он понимал, что почва уходит из-под ног, и его речь должна была быть не просто обвинительной, а сокрушительной, способной переломить настрой присяжных, смягченный показаниями психиатра и странным «свидетельством» писателя.
– Уважаемый суд, уважаемые господа присяжные заседатели, – начал он, и его голос, лишенный эмоций, резал тишину как сталь. – Мы выслушали много слов о болезни, о страдании, о «трагедии души». Не позволяйте этим словам затуманить ваш разум. Перед вами – не абстрактная трагедия, а конкретное, жестокое, двойное убийство. Совершенное не в припадке безумия, а в результате холодного, расчетливого плана.
Он медленно прошелся взглядом по каждому из восьми присяжных, сидевших напротив.
– Да, подсудимый жил в бедности. Да, он страдал. Но разве страдание дает право на топор? Тысячи, миллионы людей страдают, но не становятся убийцами. Раскольников сделал сознательный выбор. Он не просто убил. Он провел тщательную подготовку: смастерил петлю для топора, изготовил ложный заклад, чтобы отвлечь жертву. Он трижды позвонил в колокольчик, дожидаясь, когда старуха откроет. Это действия человека, полностью контролирующего ситуацию.
Прокурор подошел к своему столу и взял в руки распечатанный текст – ту самую статью Раскольникова о «двух разрядах людей».
– А вот и мотив. Не голод, не отчаяние, а чудовищная, человеконенавистническая теория. Он возомнил себя «Наполеоном», «существом высшего порядка», имеющим право «перешагнуть через кровь». Алена Ивановна была для него не человеком, а «вошью», которую можно раздавить ради эксперимента. Лизавета – досадной помехой. Он убивал не только ради денег – он их спрятал! Он убивал, чтобы доказать себе свою «избранность». И это, господа присяжные, самый опасный тип преступника: тот, кто убивает из идеи.
Затем он обрушился на заключение эксперта Зосимова.
– Нам пытаются представить его безумным. Но что такое его «бред»? Логически выстроенная теория, которую он способен был изложить на бумаге и защищать в споре. Его «галлюцинации»? Звон в ушах после совершенного ужаса – это естественная реакция совести, а не симптом психоза. Он лгал, изворачивался, пытался переиграть следователя – разве так ведет себя человек, не осознающий своих действий? Нет! Это поведение расчетливого преступника, который лишь играет в сумасшедшего, когда его припирают к стене. Эксперт говорит о «бредовой конструкции». Но эта конструкция служила ему лишь для одного: для самооправдания. Он прекрасно понимал, что убийство – зло. И потому выдумал для себя «высшую цель», чтобы это зло совершить.
Он повернулся к клетке, указывая на Раскольникова.
– Взгляните на него. Он сидит, закрыв лицо. Он не кричит, не бредит. Он понимает, где находится и что происходит. Он осознавал все тогда, в июле 1859 года, и осознает сейчас. Его раскаяние? Оно началось лишь тогда, когда его теория потерпела крах, когда он сам не вынес тяжести содеянного. Это не раскаяние больного – это панический страх наказания и краха иллюзий. Не позволяйте состраданию к его нынешнему жалкому виду ослепить вас. Помните о двух женщинах, чьи жизни он оборвал с леденящей душу рассудочностью. Обвинение настаивает, что перед вами вменяемый, виновный в умышленном, особо жестоком двойном убийстве, совершенном из корыстных побуждений и человеконенавистнических идей. И просит вас вынести справедливый обвинительный вердикт.
Прокурор сел. Его речь, как была призвана разрушить хрупкую стену сомнений. Присяжные молчали, лица их были серьезны.
Слово получил защитник, адвокат Михеев. Он встал не сразу, давая тяжким словам обвинения немного рассеяться. Когда он заговорил, его тон был не апеллирующим, а размышляющим, обращенным к здравому смыслу и человечности.
– Уважаемые господа присяжные. Государственный обвинитель просит вас не позволять словам о болезни затуманить ваш разум. А я прошу вас не позволять громким словам о «расчете» и «идее» заглушить тихий, но отчетливый голос медицинской истины и житейской правды.
Он подошел к трибуне ближе, установив прямой контакт с коллегией.
– Да, был план. Но план, рожденный не в здравом уме, а в горячечном бреду голодного, одинокого, загнанного в угол человека. Когда человек неделями не ест нормально, не спит, когда он задыхается в каморке под самой крышей, когда единственная его связь с миром – это унизительные визиты к ростовщице, – его сознание меняется. Оно сужается. Оно начинает производить чудовищные, уродливые мысли. Это не философия. Это симптом. Симптом тяжелейшего психического расстройства, которое блестяще диагностировал и описал авторитетный эксперт, доктор Зосимов.
Адвокат взял в руки заключение экспертизы.
– Здесь, на этих страницах, – диагноз. Хроническое психическое расстройство. Бред величия и избранности. Галлюцинации. Диссоциация. Это медицинские факты. Государственный обвинитель смеет называть это «игрой»? Разве можно «сыграть» бредовую систему, которая формируется месяцами? Разве можно «сыграть» тот внутренний ад, через который прошел подсудимый после убийства? Его метания, его лихорадка, его попытка покаяться на перекрестке – это агония раздвоенного сознания.
Он отложил бумаги и снова посмотрел на присяжных.
– А что же корысть, о которой так много говорят? Где она? Деньги и драгоценности лежали под камнем. Он не притронулся к ним. Он не купил себе еды, не оплатил долги, не помог матери. Корысть, которая не реализуется, – это не корысть. Его настоящей, страшной целью была проверка своей бредовой теории: «Тварь ли я дрожащая или право имею?». Это вопрос сумасшедшего, господа, а не преступника.
Защитник указал на скамью, где сидели Соня, Разумихин, мать и сестра.
– Взгляните на этих людей. Они не оправдывают убийство. Они оплакивают того человека, которого они знали и любили, – доброго, отзывчивого, болезненно чуткого к чужой боли. Тот человек не исчез. Он был задавлен, погребен под грузом нищеты, гордыни и, в конце концов, психической болезни. Мы просим вас увидеть не монстра, созданного обвинением, а сломленного, тяжело больного человека, который в момент совершения деяния не был хозяином своего разума. Он не должен отправиться на каторгу. Он должен отправиться на принудительное лечение, туда, где ему смогут помочь, а не просто наказать.
Его последние слова прозвучали тихо, но весомо:
– Закон предусматривает не только возмездие, но и милосердие, и справедливость. Справедливость – это не слепое следование букве обвинения, когда налицо медицинские доказательства невменяемости. Справедливость – это признать, что перед нами не злодей, а жертва собственного разрушенного сознания. Защита просит вас вынести вердикт, который позволит отделить больного человека от его страшного поступка и дать ему шанс на исцеление, а не на уничтожение.
После прений сторон судья предоставил право на реплику. Прокурор от реплики отказался, лишь повторив, что все сказанное защитой – «сентиментальная софистика». Адвокат в своей краткой реплике подчеркнул: «Не нам, юристам, спорить с врачами о диагнозе. Диагноз поставлен. Наш долг – ему следовать».
Наступила кульминация. Судья объявил:
– Подсудимый Раскольников, вам предоставляется последнее слово. Вы вправе отказаться от него.
Все взгляды устремились на клетку. Раскольников медленно поднялся. Он стоял, немного пошатываясь, держась за прутья. Его лицо было серым, изможденным, глаза ввалились, но в них горел какой-то странный, угасший огонь. Он долго молчал, водя взглядом по залу, по лицам присяжных, по голограммам, по экрану, по родным. Казалось, он прощался со всем этим.
– Господа… – его голос был хриплым, тихим, но в наступившей тишине его было слышно отовсюду. – Вы судите меня здесь, в этом… удивительном времени. Вы говорите на языке, которого я не совсем понимаю. Вы ссылаетесь на законы, которых я не знаю. Мне все равно, какой приговор вы мне вынесете. Сибирь, каторга, больница… для меня это уже не имеет значения.
Он сделал паузу, собираясь с мыслями.
– Я убил. Я взял топор и лишил жизни двух человек. Это факт. Я не буду просить у вас снисхождения для себя. Но я скажу одно… Мне сейчас кажется, что я убил не тогда, в той квартире. Я убивал себя много лет до этого. Я убивал в себе все человеческое, все живое, чтобы освободить место для этой безумной, каменной идеи… о праве. Я хотел стать Богом, разрешающим себе кровь, а стал… палачом. И самого себя в первую очередь.
Он посмотрел на Соню, и в его взгляде мелькнуло что-то, отдаленно напоминающее тепло.
– Мне показали… что есть другая правда. Не правда силы и права, а правда… смирения и любви. Но я узнал об этом слишком поздно. Ценой двух жизней.
Он перевел взгляд на присяжных.
– Судите меня. Но когда будете судить, подумайте… не живет ли в каждом из вас тот самый студент, который задыхается в своей каморке? Тот, кто считает, что мир несправедлив к нему? Тот, кто готов оправдать свое зло «высшей целью»? Убейте его в себе. Не дайте ему поднять топор. А меня… делайте со мной что хотите.
Он больше ничего не сказал и опустился на свое место, снова укрыв лицо руками. Его последнее слово не было ни оправданием, ни мольбой. Это было признание поражения – поражения всей его теории, всей его гордыни, всей его жизни. Оно прозвучало страшнее любой обвинительной речи.
Судья, дав паузу, обратился к присяжным:
– Господа присяжные заседатели, на этом судебное следствие и прения сторон закончены. Перед тем как вы удалитесь в совещательную комнату для вынесения вердикта, я должен произнести напутственное слово.
Все в зале встали. Присяжные выпрямились, внимательно глядя на судью.
– Вы должны помнить, – начал судья ровным, нейтральным тоном, – что вердикт должен основываться только на тех доказательствах, которые вы непосредственно видели и слышали в этом зале. Никакие доказательства не имеют для вас заранее установленной силы. Вы не должны руководствоваться ничьим мнением, кроме своего внутреннего убеждения, основанного на беспристрастном рассмотрении всех обстоятельств.
Он подробно, как того требует закон, изложил содержание обвинения по статье 105 часть 2 УК РФ, напомнил о презумпции невиновности, о том, что все неустранимые сомнения должны толковаться в пользу подсудимого, о том, что отказ подсудимого от дачи показаний или его молчание не могут быть истолкованы как доказательство вины.
– Вам будут поставлены вопросы, – продолжал судья. – Отвечая на них, вы должны разрешить следующие основные вопросы: доказано ли, что деяние – убийство двух лиц – имело место; доказано ли, что это деяние совершил подсудимый Раскольников; виновен ли он в совершении этого деяния. Если вы признаете его виновным, вам предстоит ответить, заслуживает ли он снисхождения.
Он предупредил их, что они не должны касаться юридической квалификации содеянного – это прерогатива судьи. Их задача – установить факты.
– Совещайтесь спокойно и беспристрастно. Старшина вашей коллегии будет руководить обсуждением. Стремитесь к единодушному решению. Если в течение трех часов единодушия достичь не удастся, решение принимается голосованием. Помните о данной вами присяге. Вам предстоит решить судьбу человека.
Напутственное слово было закончено. Судья сформулировал письменные вопросы, зачитал их и передал сторонам для ознакомления. Возражений не последовало. Вопросный лист был передан старшине присяжных заседателей.
– Коллегия присяжных заседателей удаляется в совещательную комнату для вынесения вердикта, – объявил судья.
Восемь человек встали и под охраной судебных приставов покинули зал. Дверь в совещательную комнату закрылась. Начались часы томительного ожидания.
В зале люди говорили шепотом, почти не двигались. Раскольников не шевелился. Прокурор листал бумаги, делая вид, что работает. Адвокат закрыл глаза, погруженный в свои мысли. Соня молилась, беззвучно шевеля губами. Разумихин сжал кулаки до белизны костяшек. Дуня обнимала мать, которая, казалось, превратилась в статую скорби.
Прошло два часа. Потом три. В зале уже началось нервное движение, когда дверь совещательной комнаты наконец открылась. Присяжные, выглядевшие уставшими, но сосредоточенными, вернулись на свои места. Старшина, мужчина лет пятидесяти, держал в руках вопросный лист.
– Господа присяжные заседатели, вы вынесли вердикт? – спросил судья.
– Да, господин председательствующий, – ответил старшина.
Все в зале, как один, встали. Даже Раскольников медленно поднялся, отпустив прутья клетки.
– Огласите вердикт, – произнес судья.
Старшина развернул лист и начал читать ровным, негромким голосом, делая паузы после каждого вопроса и ответа.
– Вопрос первый: доказано ли, что деяние, а именно умышленное причинение смерти Алене Ивановне и Лизавете Ивановне, имело место?
Ответ: Да, доказано.
– Вопрос второй: доказано ли, что это деяние совершил подсудимый Раскольников Родион Романович?
Ответ: Да, доказано.
В зале выдохнули. Обвинитель слегка кивнул. Защитник оставался неподвижным.
– Вопрос третий: виновен ли подсудимый Раскольников Родион Романович в совершении этого деяния?
Старшина сделал чуть более длинную паузу. Повисла мертвая тишина.
Ответ: Нет, не виновен.
По залу прокатился приглушенный гул удивления. Прокурор резко поднял голову, его лицо исказилось. Защитник неверием расширил глаза. Соня вскрикнула, прижав руки ко рту.
– Вопрос четвертый, задаваемый в случае признания виновным: заслуживает ли подсудимый снисхождения?
Ответ: В связи с ответом на предыдущий вопрос, не подлежит рассмотрению.
Старшина опустил лист. Судья, сохраняя полное самообладание, спросил:
– Вердикт единодушный?
– Нет, господин председательствующий. По третьему вопросу голоса разделились. Голосованием. За ответ «Нет, не виновен» – пять голосов. За ответ «Да, виновен» – три голоса.
Согласно статье 343 УПК РФ, для вынесения оправдательного вердикта в областном суде достаточно четырех голосов. Пять – более чем достаточно.
– Благодарю коллегию присяжных заседателей, – сказал судья, и в его голосе впервые прозвучали едва уловимые нотки чего-то, помимо формальности. – Ваша миссия завершена. Вы свободны.
Присяжные, не глядя ни на кого, быстро покинули зал. Их дело было сделано. Они поверили в болезнь. Они не смогли признать вменяемым человека, которого им показали эксперты и свидетели защиты. Они отделили поступок от личности, признав, что в момент его совершения эта личность не была виновной в юридическом смысле этого слова.
Судья, оставшись единолично решать дальнейшую судьбу дела, обратился к материалам. На основании оправдательного вердикта присяжных и в соответствии со статьей 352 УПК РФ, он вынес постановление.
– На основании оправдательного вердикта коллегии присяжных заседателей, – громко объявил он, – и с учетом заключения комплексной судебно-психиатрической экспертизы, суд постановляет: уголовное преследование в отношении Раскольникова Родиона Романовича по статье 105 часть 2 УК РФ прекратить за отсутствием в его действиях состава преступления ввиду установленной его невменяемости в момент совершения инкриминируемых деяний. На основании пункта 1 статьи 24 УПК РФ.
Он сделал паузу и вынес главное решение.
– Применить к Раскольникову Родиону Романовичу принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдениям, в соответствии с пунктом “а” части 1 статьи 97 и частью 3 статьи 101 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Это был не оправдательный приговор, а акт милосердия и медицинской необходимости. Его не отправляли на каторгу. Его отправляли в больницу. На неопределенный срок. До выздоровления или до изменения состояния, которое будет оценено новой комиссией.
Прокурор немедленно заявил о несогласии и намерении обжаловать постановление. Адвокат, бледный от неожиданной победы, лишь кивнул.
Раскольников стоял, не понимая до конца. «Не виновен»? Его не осудят? Но «принудительное лечение»? Что это? Новая тюрьма? Он встретился взглядом с Соней. В ее глазах стояли слезы, но это были слезы облегчения. Она что-то беззвучно сказала, и он прочел по губам: «Жив. Ты жив».
Судья объявил заседание закрытым. Конвоиры подошли к клетке, чтобы отвести его обратно в следственный изолятор, а оттуда – в место, обозначенное в постановлении.
Когда его выводили из зала, он в последний раз оглянулся. Голограммы погасли. Экран был черным. Люди вставали, собирали вещи. Чудовищный, фантастический суд, длившийся целую вечность, закончился. Он шагнул из клетки зала суда в другую клетку – клетку своей собственной, сломленной психики, но теперь с призрачным, едва уловимым лучом надежды на то, что где-то в конце этого лечения его ждет не каторга, а возможность когда-нибудь, очистившись от кошмара своей теории, вновь увидеть солнечный свет – уже не как «сверхчеловек», но просто как человек. И этот свет, казалось, отражался в промокших от слез глазах Софьи Семеновны, которая уже решила следовать за ним и в это новое, неизвестное заточение.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ