
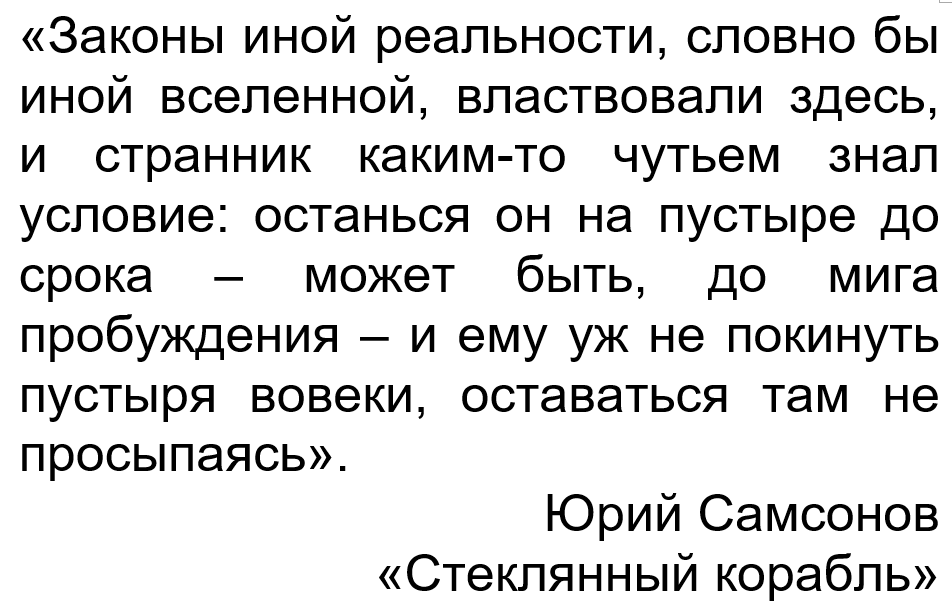
Он проснулся от того, что в комнате горел свет.
Тусклая лампочка светилась под потолком. От ее желтоватого сияния было жутко. Словно он очутился где-то в другом мире, где всё точно так же, до мелких деталей – и всё же не так!
Часы на стене показывали три часа ночи. Бабушкины часы, с фигурными стрелками, из которых шла всегда только секундная, а остальные две упрямо стояли, пока ты на них смотрел, но стоило лишь отвернуться, как тут же начинали двигаться.
Он вспомнил: ему десять, и он остался на ночь у бабушки, в старом деревянном доме.
Ему было не по себе. А все оттого, что на шкафу сидела она.
Он боялся на нее посмотреть, хотя и знал, что это надо сделать, но голова от мысли об этом наливалась такой тяжестью, что поди ее ровно удержи, не то, что приподнять и увидеть, что там, наверху.
Зато стоило подумать о ярком лунном свете, пробивавшемся сквозь закрытые шторы, как тут же становилось легко, и хотелось туда, скорее!
Дверь в сени была открыта, и дверь на улицу тоже.
Он встал с дивана, натянул майку и босой вышел на крыльцо. Как же ярко светила луна! Она была огромной и висела так близко, будто хотела упасть и рассыпаться по земле серебряными брызгами. В ее мерном свете все вокруг казалось чужим, незнакомым и одновременно таким манящим.
Было свежо, почти зябко, но он чувствовал, нет, помнил! – хотя никогда этого еще не было с ним прежде – что эта ночь была волшебной, и заходить обратно в дом совсем не хотелось. Да и нельзя было сейчас вернуться, он откуда-то знал это!
Ступни ощущали приятный холод влажных от ночной росы досок крыльца, шершавых, застарелых – и таких же обновленных, как и все вокруг. Он стоял и впитывал тишину ночи, лунный свет и ощущение нереальности.
Внезапно с неба повалили снежинки.
Он поднял голову. Где-то в метрах десяти над землей зависло белое облако, на котором лежал баран с огромными, лихо закрученными бирюзовыми рогами. И облако, и баран испускали яркое сияние, затмевавшее даже лунный свет. Баран время от времени встряхивал своей массивной головой, и с молочно-бежевой шерсти летели снежинки. Они искрились и таяли, не долетая до земли. И не снежинки это вовсе, запоздало понял он – другое!
Всё было удивительно уместно, что она даже удивился – возможна ли вообще такая гармония: эта ночь, луна и баран на облаке? Может ли так случиться, что это единственная такая ночь во всей Вселенной и за всю ее историю?
Баран повернул голову и поглядел на него. Смотрел долго и куда-то вглубь, пока крупные мурашки не побежали по всему телу. Отвернись, закричало все в нем, отвернись, пока не поздно, пока ты не понял чего-то, чего нельзя понимать, не нужно! Но он стоял, не шелохнувшись, не в силах оторваться от его глаз – черных, заполненных бездной до краев.
И он вдруг понял, и внутри похолодело от того, как долго он был слеп: все это могло длиться столько, сколько мне нужно, ибо ночь эта вечна, она пришла оттуда, из звездного неба, где нет ничего, кроме ночи и гармонии, где все безмолвно и волшебно, и всегда, всегда незнакомо. Но теперь этого уже никогда не будет, потому что нельзя смотреть на это слишком долго.
Баран будто услышал его мысли и отвернулся. Облако медленно поплыло прочь. Стало холодно и со всех сторон пополз мрак. Звезды уже выпали на землю снегом, луну закрыло облаками – а может она просто натянула на себя темноту неба, как одеяло. Он вернулся в дом.
Лампочка все еще разливала свой противный и тусклый желтый свет на красный ковер на стене, громоздкий черно-белый телевизор и швейную машинку на раскладном столе, закрытую полукруглой коричневой крышкой.
Та, на шкафу, никуда не делась – он чувствовал её присутствие, и в затылке неприятно скребло от наползающего страха.
Бабушка сидела на своей кровати в ночной сорочке и ощипывала тушку петуха, сбрасывая перья в желтый эмалированный таз, стоявший в ногах. Она, как всегда, сжимала в зубах деревянный мунштук с самокруткой, попыхивая клубами белого дыма, плывущего по комнате, как туман.
Та, на шкафу, закашлялась.
И он на нее посмотрел.
В дыму было сложно разглядеть, какая она: чудилась белая застиранная ночная рубашка, голые коленки, в которые упирался круглый подбородок – она сидела, согнувшись, затылок упирался в потолок. Хотелось увидеть глаза – да, в глазах всегда главное, но вместо них была тьма, полная звезд: она вобрала в свои глаза бездонное небо.
– Убежать задумал? – спросила она. – Не убежишь. Нет и не будет никаких окольных путей, чтобы вернуться в твой город. Я залью всё маковой водой. Или засыплю снегом из маковой воды.
Он молчал: нельзя ей отвечать, ведь он же уже почти понял, кто это, только никак не мог поймать это знание: дым застилал ему глаза.
– Ой, да ладно тебе! – Она засмеялась, покачав головой, и русые волосы рассыпались по плечам. – Здесь ты не спрячешься.
– Почему? – спросил он.
– Потому что. Я тебе обещала, что буду в каждом твоем сне. Думал, в детстве тебя не найду? Ненастоящее это всё – старый дом, бабушка. Нет у тебя бабушки, умерла она давно.
Он взглянул на бабушку. Ужас сковал его. Мертвая, полуистлевшая старуха сидела на кровати, сжимая горло полуощипанного живого петуха, который трепыхался и хрипел в ее цепких пальцах.
Бабушка повернула голову и поглядела на сидящую на шкафу. Глазницы ее были наполнены той же тьмой, что он уже видел ранее. Она вынула из беззубого рта мунштук и ненастоящим голосом произнесла:
– Ты хочешь обидеть моего внука. – Петух в ее руках забился в агонии.
– Не указывай мне, старуха. Он не твой внук, а мы с тобой из одного и того же места, – ответила девушка, что сидела на шкафу. Теперь стало понятно, что она тоже мертва. Как он мог не разглядеть ее серое, землистое лицо.
– Он не хочет тебя видеть. – Бабушка поглядела на внука. – Ведь правда? – И он утонул в черной бездне ее взгляда.
Петух закричал в последний раз.
И он проснулся.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ