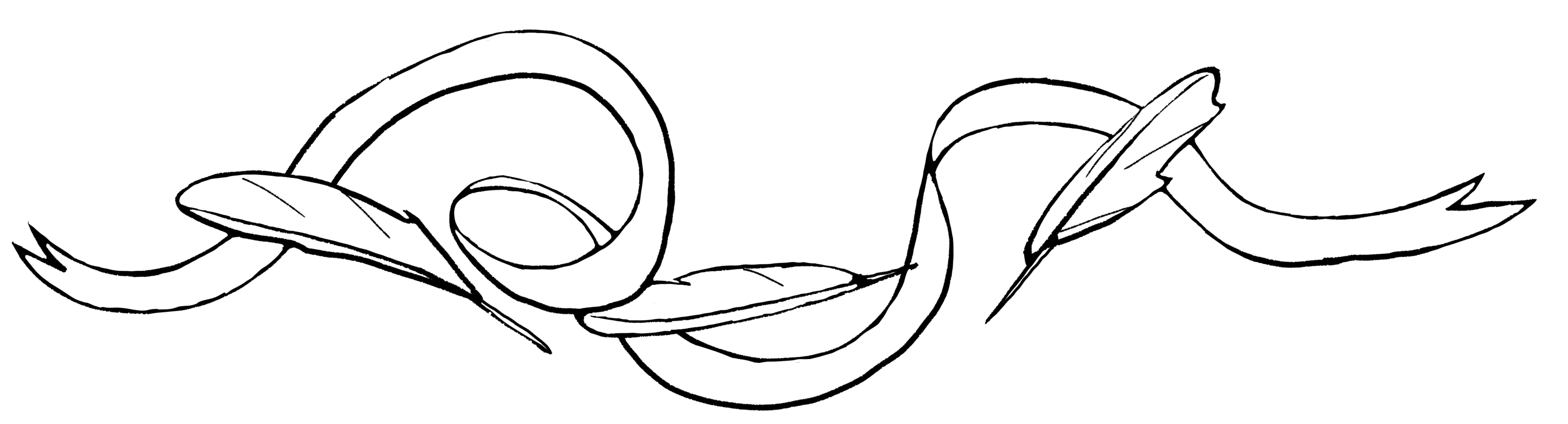
— Э-эй!
Мальчишка схватился за волосы, на которые сестра подсадила мокрую лягушку и убежала. Онагост подскочил и тараном побежал на Кристалину. Они носились по кругу под деревом, то и дело падая и таская друг друга за рукава. Наконец, Кристалина запуталась в подоле сарафана и повалилась, на неё сверху сел Онагост.
— Ну сейчас ты за всё ответишь.
— Уйди, уйди! – завизжала девочка.
Брат рассмеялся, зажал ей руки над головой и склонился над лицом, грозясь уронить каплю слюны.
Кристалина завопила, вырываясь.
— Дети, а ну хватит сейчас же!
Мама шла через весь двор и у неё был такой взгляд, что впору дрова рубить, потому мальчишка сразу отбежал, глядя на сестру в запачканном сарафане. Та скорчила обиженное лицо и показала ему язык. Онагост оскорблённо задышал, ноздри затрепетали. Ну ничего, вот мама уйдёт, и тогда он задаст сестре такую трёпку!..
Мама бережно отряхнула сарафан Кристалины от сора и травинок и пригладила выбившиеся из косы волосы, поцеловав в макушку. «Это нечестно, она первая начала, а ты её ещё и целуешь!» – хотелось сказать, но от обиды слова застряли в горле.
— Ну и чего ты? – спросила мама ласково, и Онагост не сразу понял, что обращались к нему.
Он насупился, но подошёл к маме.
— Пойдём в дом, – сказала она и мягко подтолкнула к забору, погладив Онагоста по рыжим кудрям. – У меня для вас новая сказка.
— Про русалок? – живо спросила Кристалина.
Мама покачала головой.
— Нет, про русалок позже...
Она разожгла печь, и дети уселись за стол, как самые порядочные котята. Мама рассмеялась.
— Ну, раз так жаждете...
Она откашлялась и начала, таинственно растягивая буквы.
— Ворон летел, и его тень накрывала озёра и леса...
***
Его жилы – реки, его перья – клинья еловых лесов, глаза – солнце и луна, клюв – остов гор, позвоночник – горные же хребты, крылья – рябь морей и озёр, грай – громовой раскат.
Когти вспороли тугую землю, оставили глубокие щели, что, словно разбавленное молоко, заполнил туман. Он взмахнул исполинских размеров крыльями: деревья покачнулись, земля под ними треснула, готовая выпустить наружу корни. Горло задрожало от крика, хриплого и пронзительного.
Громадная, исполинская птица. Князь смерти, и богиня Морана ему в услужение. Его голову венчала корона из разбитых надежд и судеб. В черной лапе он носил не жезл, но его подобие: позвоночник своего хозяина, чьё сердце он вероломно вырвал и сожрал, а остатки плоти разнёс по окрестностям, и из них выросли деревни и города.
Сколько у ворона жизней? Да сколько бы не было, он бы хотел все прожить вот так – окружённый безропотным почетанием, раболепной покорностью людей. В обожании и ужасе, что он вызывал одним своим видом. Стоило взглянуть, стрельнуть двумя разноцветными глазами – жёлтым и синим, – как любой, кто стоял перед ним, склонит голову и не посмеет ослушаться приказа. А требовать было что.
Ворон – птица всеядная, и особенно сильно она любит падаль.
Раз в пол года хоронить заживо десяток людей – дело нехитрое, но до хруста ломающее человечье сердце. Обычно добровольцы находились сами: вдовы, сироты, калеки. Но нет, то было невкусно – Ворон сам прилетал в деревню, сам отбирал себе будущую еду. А затем отобранных помещали в дом на высоких брусьях-сваях в лесу, где крепко-накрепко запирали дверь и оставляли без еды, воды, вещей и даже острого оружия – (чтобы не умерли раньше времени) – пока никого не останется в живых. Что чувствовал последний дышащий там человек, находясь среди груды мёртвых вздутых смердящих тел, особенно если среди них был кто-то его близкий – не передать словами, не прочувствовать всей душой. Сколько молитв слышали толстые стены – не перечесть. Какой громкости были крики – уши любого разорвало бы до крови. И потому дома смерти ставили если не в сердце леса, то хотя бы подальше от деревни.
А затем прилетал Ворон.
И тогда начинался пир. Пировал он долго, раскидывая кости по лесу, чтобы из них выросли новые деревья, новые кусты. Чтобы мир – его мир – процветал.
Убить Ворона? Что за блажь. Ему не страшны ни смерть и ни жизнь – он и есть само их воплощение, он же их и дарует, и отнимает.
И закон его сущности ни разу не дал трещину.
Ворон смотрел на чужака то одним глазом – жёлтым, чтобы увидеть душу, то другим – синим, чтобы увидеть намерение, выжидая, когда тот склонит голову пред его великолепием, но, пожалуй, так и не дождётся. Чужак был будто бы нечитаем: строки на его душе, состроенные из тонких струек золотистого и зелёного дыма, будто хмарь, расплывались, косо находили друг на друга, переплетались и перекатывались по тонкой белой невесомой бересте, словно жадеитовые бусины по газовой ткани. Ворон попытался их вдохнуть, цапнуть за хвост хоть одну, но они всякий раз ускользали от его чуткого носа и острых когтей. Нехорошо это, ох нехорошо. Не с добром пришёл, значит. Не добро просить собрался. Что затеял?
Полукруг из огоньков освещал каменный свод зала, где под потолком прятались тени и блики, выжидая, как мухи перед рассветом.
Чужак склонил голову вбок и пусто улыбнулся, бездушно. Ворон каркнул – не то хмыкнул, не то усмехнулся. В вороньей глотке – сотни завываний, тысячи человеческих слёз.
— Чего надо? – прогрохотал Ворон, и огоньки на миг погасли.
Чужак молчал, заложив руки за спину и невинно улыбаясь. Если бы Ворон мог, то сплюнул бы наземь, а так лишь недовольно щёлкнул клювом.
— Костей твоих хочу.
Чужак прошептал, но в тишине голос прозвучал резче выкрика.
Ворон поглядел на него, моргнул по-птичьи и взмахнул крылом, обводя округу.
— Так бери, – прокряхтел. – У меня этого добра навалом.
Чужак призрачно улыбнулся и еле покачал головой. Резко указал пальцем в Ворона. Стоял бы ближе, так проткнул бы киль.
— Эти кости. Птичьи.
Ворон протяжно царапнул когтями по камню, извлекая противный звук. Встопорщил перья и встрепенулся. Пара пушинок плавно опустилась вниз, будто нарочно издеваясь.
Кости. Птичьи кости.
Опрокинуть бы этого несмышлёного навзничь да выклевать пустые глаза. А вместо них вставить гагаты. А что, чёрные и красивые, как и его перья. Всяко лучше, чем видеть тупую кривую ухмылку.
— Ты или очень глуп, или очень смел, – почти прокаркал Ворон. – А даже если и так, на защиту деревни пришёл? Или тебя отправили как самого неважного жителя? – Почти хмыкнул. – Что же, ты просчитался. Я всё равно приду и возьму своё. – Подался вперёд, едва не касаясь клювом носа чужака. – И тебя я тоже возьму, недоумка.
Живое мясо ему было не по вкусу. Слишком солоно, слишком вязко. Живая душа тоже была противна, трепыхалась в лапах и хваталась руками-нитями за свой сосуд. Глупая, всё равно когда-нибудь улетит.
Смерть чужака была быстрой, даже слишком. Наверняка он мало что успел осознать. Юродивый. Блаженный. И правильно, что послали сейчас. Даже открутив голову, Ворон не смог прочесть ни слова из его души. Глупое создание, тебе давно нужно было на покой.
Ворон знал, в какую деревню нагрянет первым делом. Та, что ссылала в угоду ему красивых девок и парней, но была ли разница у падали? Что с хорошеньким личиком, что с кривым, всё равно смерть забирала черты для своих кувшинов с вином и пряной кровью.
Ворон взмахнул крыльями, поднимая в воздух тучи пыли и камешков, и те падали обратно с перестуком. Так падали к его лапам люди. Так падала мёртвая вода дождей, вымывающая смрадную жижу из домовины в лесу. Говорят, земля у подножия морового дома была отравлена до той степени, что человек, ступивший на неё, заходился страшнейшим кашлем и падал замертво. И ступить на неё мог только самый большой дурак.
«Дур-рак, дур-рак, ...р-рак...» – отозвалось эхо, подхватившее утробный вороний грай.

 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ