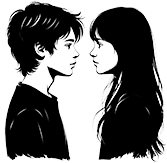
Слау, 1988 год
Катышки старого ластика на исцарапанной парте, доска с меловыми разводами, в рюкзачке — чипсы Walkers и бутылка Ribena.
Мисс Колдвелл в твидовом пиджаке, который носит аж с 1972-го — плотно пропахшем потом трудовых будней, школьной рутиной и супом, и погребённой мечтой.
Она вешает пиджак на спинку стула, скользит узловатым пальцем со сколотым лаком по шершавой странице журнала.
— Блэк, Алан. К доске.
Что поделать, он первый по списку. Таково наследие Блэков: фамилия на вторую букву алфавита.
Он поднимается — силы уходят на то, чтобы не скорчить гримасу. В будущем он полюбит выступать у всех на виду и пленять зал своими речами. Но пока что он злой и уставший — от бесконечной зубрёжки, от холодной зимы с дурным отоплением, от дураков-одноклассников и занудной мисс Колдвелл, чьи руки напоминают вялые корешки мандрагоры.
А сегодня, к тому же, он должен декламировать стихи. Перед всем классом.
Алан не кашляет напоказ, не привлекает к себе внимание; его голос спокоен и в меру силён — даже слишком для восьмилетки.
— Мисс, я намерен прочитать кое-что… малоизвестное. Из книги, найденной на чердаке.
Он лжёт. С завидной самоуверенностью будущего юриста.
— Называется «Туман на изгороди», авторства… Т. Хитклиффа. Довольно старая поэма. Викторианская, думаю.
Мисс Колдвелл кивает. Ей не знаком никакой Хитклифф.
-
Туман на изгороди, мороз на стекле,
Капéль телеграфа и шёпот в тепле.
Тихие утра, застывшие дни,
Бранятся вороны, ожидая весны.
-
Варежки — прочь, снег в сапожках застрял,
В столе — ворох писем от того, кого знал.
Никто и не вспомнит — но это не ложь:
Твой компас подскажет, на кого ты похож.
-
Всего два четверостишия — но этого достаточно. В классе образцовая тишина. За окном каркает ворона, будто подтверждая слова поэмы, где её тоже упомянули. Девочка за первой партой вздрагивает.
Учительница вторит ей, говорит:
— Хорошо, Алан. Нехрестоматийный выбор. Я… ознакомлюсь с автором.
А рука в замешательстве выводит высший балл.
Этого он и добивался — причём на своих условиях.
***
После уроков он задержался — не мешкал, просто остался, чтобы зарисовать ворону, повадившуюся летать на школьный двор и сварливо обкаркивать детвору. Алан считал, что за дело.
— Привет. Это ты сочинил «Туман на изгороди»?
— Я этого не говорил.
Он не поднял головы и не перестал водить карандашом по бумаге, что не помешало ему оглядеть собеседницу боковым зрением. Она появилась из ниоткуда — девчонка из параллельного, что ли, рыжая и неприметная, в шерстяном платье и стоптанных туфлях на размер больше, прошедших не одну сотню миль — причём не её ногами.
— Я просто… — настаивала она, — ну, мне понравилось. Правда. В стихах слышен твой голос.
Их глаза наконец встретились. У него была кособокая чёлка — как у детей, которых стригут дома и наспех, у неё — глаза, в которых отражается мир, но не выдающие ни капли себя.
— А если кто-то узнает, что ты солгал? Что взял стих не из книжки?
— Пускай. Когда лгут красиво, приходится верить. Папа говорит, ложь — как костюм. Если сидит хорошо и к лицу, ты всё равно джентльмен.
Он соскочил с подоконника, убрал карандаш и рисунок, кивком указал на шкаф у задней стены.
— Там, кстати, у мисс Колдвелл припасён ром с изюмом. Я видел, как она выпивает по вечерам. А нам рассказывает другое. Эта ложь на костюм не походит.
***
Они спускаются по крутой казённой лестнице, выходят во двор, где промозглый декабрьский ветер путается в их волосах. Она достаёт шарф из потрёпанного портфеля, медлит, затем предлагает ему прогуляться до дома — им всё равно по пути.
— Разве ром бывает с изюмом? — продолжает она разговор; клетчатый шарф на тоненькой шее напоминает хомут. — Его пьют пираты, у которых нет времени сушить виноград. Разве что вёсла и несчастных на рее.
— Ты… странная, — смеётся он. — Это комплимент. У пиратов, может, времени нет — а у мисс Колдвелл есть. Даже не сушку учеников. Джимми хныкал вчера всю перемену — ему поставили кол за сочинение. Но это ещё ничего. Меня вовсе заставили переделывать.
— Почему?
— Писал про дракона из Вестминстера, который ел министров. Учительница сказала, я циник с проблемами адаптации. А я просто не люблю политиков. Папа хочет, чтобы я стал одним из них, и заставляет меня читать Таймс. Даже кроссворды.
— А я люблю кроссворды. И составляю сама.
Подошвы скользят по хлипкой стылости троп, туфли едва не слетают с ноги; он думает: взять её за руку?
Но вместо этого хмыкает над последней репликой и предлагает отгадать слово: восемь букв, на S начинается, заканчивается на Y. Подсказка: всё равно что холостой выстрел. Звук есть, толку — нет.
Она думает. Думать полезно. А вот сообразит ли?
— Somersby.
Школьный двор остаётся за поворотом, впереди — припорошённый асфальт, лента ржаных однотипных домов, дым из труб.
Алан не спорит. Не утверждает, что слова такого и нет, ведь его эрудиция не всеобъемлюща.
Девочка останавливается и добавляет:
— А ещё это может быть Saturday. Но здесь нет драмы и Швеции. И на стихи не ложится. Как у Бельмана, знаешь: Märk hur vår skugga, märk Movitz, mon frère…
— Mon frère, — повторяет он по-французски, корректируя произношение. — У меня брата нет. И хорошо: одному лучше. Но слово ты не угадала.
Мимо проезжает салатовый автобус. Она глядит ему вслед.
— Я тоже люблю быть одна. Одной можно делать что хочешь весь день. Есть что хочешь. Порезать салат и банан, и читать книжки в гамаке на веранде. Или даже писать.
Читать и писать: Алан не знает, что хуже. И то и другое он делает из-под палки, а кому-то — гляди-ка! — ведь нравится.
Он уточняет насчёт гамака: правда ли у неё такой есть?
— Знаешь… я только раз в жизни видел настоящий гамак. В зоосаде. В нём сидела обезьяна, кидалась фруктами. Надеюсь, ты так не делаешь, — произносит он в точности так, как говорят взрослые, маскируя вопрос под шутку.
Она смеётся — искренне, от души. Обещает, что кидаться не будет.
— Пойдём, — говорит, — покажу и гамак, и веранду.
***
Её дом в конце улицы — ветхий, дощатый. Окрашен в фалунский кармин с белой отделкой. Алан клянётся, что сто раз проходил мимо, и здесь был пустырь.
Стеклянная дверь отворилась неохотно, луч света упал на расцарапанное колено. Мальчик не понимал, почему им пришлось лезть через забор, но так было веселее. Не считая царапины.
Она заметила кровь на штанине, усадила его на диван, промыла рану водой и спиртом. Спирта здесь много — в бутылках, в амбре, в радужных разводах на зеркалах.
— Будешь хлопья? — спросила, встряхнув коробку со звуком новогодних петард.
Нет, конечно, не будет. Слишком сладкие. Фу.
— А ты залей их кофейным йогуртом.
Лучше не стало, но йогурт оказался достойный — не приторный, а с созвучной горчинкой.
Он лёг, запрокинув ноги на спинку дивана, наблюдая за тем, как перевёрнутый мир шумит в голове. Как она восседает напротив, на барном стуле ростом с неё, и качается словно в седле.
— У тебя есть подружка?
Сама улыбается, в уголках глаз — лукавство. Он не сразу его распознал.
— Я не нуждаюсь в друзьях. У меня есть союзники. Так надёжнее.
— Да. Друзья проникают в душу. Союзники подставляют плечо. А недруги могут хмуриться, но твоей вины в этом нет. Идём, покажу кое-что.
Веранда остеклена, и даже зимой здесь тепло. У радиатора несварение, а поверх гамака — плюшевый плед и тетрадка.
Она открывает тетрадь, декламирует наугад:
Десятки пуль взметнулись над проливом, устремились в цель. Одни рассекли морскую рябь, другие завязли в снастях и обшивке, третьи вонзились в борты, не причинив никакого вреда. А четвёртые — нашли, что искали.
Нонкомформизм прекрасен, когда дозирован. Не всякий бунт стоит того, чтобы его затевать… по крайней мере, преждевременно.
Каждый оказался волен выбирать исходя из того, что диктует ему моральный компас. Но не у всякого компас исправен.
— Здорово! — комментирует он. — И всё это — правда?
— И да, и нет. Своего рода костюм. Как ты говорил.
Алан доволен таким ответом — значит, она внимательно слушала.
— Я тоже иногда придумываю истории, когда гуляю. Но не записываю — чтобы никто не увидел. А скажи, если ты начнёшь писать про кого-то, кто живёт рядом, ходит по тем же дорожкам и знает, чем на самом деле пахнет здешняя зима — ты предупредишь? Или только поменяешь имя?
— Я не пишу про тех, кого знаю. Только сочиняю. — Она ложится на плюш и смотрит на небо, где пробегают кучевые облака. — Реальные люди сами расскажут свою историю. А вымышленные… Им без меня никак.
Он вытягивается рядом, повторяет её позу — из солидарности, но и немного из озорства.
— А если кто-то из них вдруг станет реальным?.. Не сразу. Сначала размытый образ, потом голос. Он же не будет знать, что выдуман. Разве только догадываться. — Он держит паузу, и шёпотом добавляет: — Вот тогда ему точно без тебя никак.
Странно, последние слова заставляют её плечи дрожать. Она отворачивается, чтобы он не заметил, и медленно поднимается на ноги.
Алан всё видит, он раздосадован — не оттого, что девочка плачет — оттого, что пытается скрыть. Он понимает, что, видимо, должен уйти — так будет вежливо, к спеху.
Трогает за плечо и целует её на прощание в щёку — она в тот момент подаётся навстречу: не нарочно, так просто совпало. Оба почти соприкоснулись губами, и в груди зарождается нечто новое, бьющее током, кусачее. Он желает расследовать — а ноги сами несут к деревянной калитке (почему они ей не воспользовались?), через дорогу, по тротуару, вперёд и вперёд, не оглядываясь.
И когда наконец он стоит на пороге родного дома, вспоминает, что не сказал — он загадал слово Sympathy.
Но теперь он уже не уверен, что это — пустой звук.
***
Назавтра она не появилась в школе. И послезавтра тоже. Словно девочки этой не было вовсе, словно он сам её выдумал, или ему всё приснилось. Не спрашивать же у других, в самом деле, кто это такая — чтобы в который раз его личное, хрупкое раздавили чужими словами и взглядами.
И потом — как он объяснит? Что она декламировала стихи на шведском, жила в доме на пустыре и ела хлопья без кофе?
Что она растворилась в небытии, как может только придуманный человек?
И теперь, сидя за домашней работой, вглядываясь в заоконный сумрак под воронье ворчание, он ловит себя на том, что хочет написать её имя — хоть где-нибудь в уголке, на память.
Но имени Алан не знает.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ