Часть четвертая
Жизнь в борьбе

Годы в Пуэрто-Плата
Для человеческих душ добродетель — единое благо.
Ею сильны города, ею живет человек.
Для человеческих душ добродетель — единое благо.
Ею сильны города, ею живет человек.

На одном из невысоких прибрежных холмов Эспаньолы, в трех лигах от Вега-Реаль, стоит скромный доминиканский монастырь. Он окружен небольшим фруктовым садом. Ворота монастыря всегда приветливо открыты для путников.
В саду пусто. Монахи трудятся на своих полях. Но почему детские голоса звучат в патио монастыря?
У большого глобуса стоит пожилой, лет пятидесяти, монах. Его окружает толпа смуглых индейских мальчиков. Он что-то рассказывает им, и на лице его улыбка. Рядом на деревянном столе лежит начатая рукопись и груда книг. Видимо, юные гости оторвали монаха от работы. Но, судя по веселью и смеху, он ничуть не огорчен этим.
— Теперь ты, Томас, — говорит монах по-аравакски маленькому индейцу с очень красивым и смышленым лицом, — покажи мне путь от Эспаньолы до Кастилии.
Томас берет указку из рук монаха и уверенно ведет ею по голубому полю глобуса.
— Правильно! — похвалил монах мальчика. — Но ты что-то хочешь спросить меня, Пабло?
— Падре Бартоломе, мой брат сказал мне, что вы десять раз переплывали океан. Это правда? Или он выдумал?
— Нет, мой мальчик, — отвечает Бартоломе, — твой брат не выдумал, а только преувеличил: я пересекал Атлантический океан не десять раз, а всего пять… — И он задумался.
Дети притихли и с уважением смотрят на падре Бартоломе. Подумать только! Каждый раз пятьдесят дней в пути! И хотя каравеллы испанцев по сравнению с индейскими каноэ кажутся большими и крепкими, это, наверное, очень страшно!
— Ну, дети, — сказал очнувшийся от своих дум Бартоломе, — теперь оставьте меня. Мне надо писать. А вы должны пополнить нашу коллекцию насекомых и растений.
Дети с веселыми криками и смехом покинули патио. Наступила тишина. Слышен лишь щебет птиц. Бартоломе сел за стол и развернул рукопись. Уже в течение трех лет, по совету своего покойного друга Педро де Кордова, он готовит труд по истории Индии.
Обязанности приора маленького монастыря в Пуэрто-Плата, в котором он живет с 1527 года, не отнимают много времени. Он занимается с индейскими детьми, учит их испанскому языку, естественным наукам, арифметике, географии.
Неожиданно его уединение нарушил какой-то старик. Это наш старый знакомый Хасинте! Он поседел, согнулся и, хотя ему уже за семьдесят лет, с честью несет службу в доме Лас-Касаса.
— Сеньор, прислали от дона Арайи. Он совсем плох, лекарь боится, что не протянет и ночи! Вас зовут туда.
— Скажи дону Родриго, чтобы он взял святые дары.
Из монастыря вышли трое: впереди мальчик-служка с колокольчиком, за ним — Бартоломе и каноник Родриго Ладрада со святыми дарами.
— Он большой грешник, этот Арайя, — сказал Бартоломе. — У него много рабов, и живут они в ужасных условиях, хуже животных! Сколько я ни уговаривал старого скрягу дать свободу индейцам, он не соглашался!
— Посмотрим, что он скажет сейчас, — и на морщинистом смуглом лице Родриго появилась ироническая улыбка. — Вряд ли он захочет ссориться с господом богом!
Дон Арайя жил одиноко. Много лет тому назад у него умерла жена, а сын утонул в море. Дон Арайя остался один, хотя где-то в Кастилии были родственники.
В комнате, где лежал умирающий, было полутемно и душно. На подушке белело худое лицо старого кастильца. Он тяжело и хрипло дышал. Рядом стоял лекарь, он только что пустил больному кровь, но часы дона Арайи сочтены. Лекарь тихо вышел из комнаты — он тут уже был не нужен.
— Сын мой, — сказал Бартоломе, — мы пришли, чтобы примирить вас с богом, которого вы часто забывали при жизни. Но он милосерден и простит вам, если вы искупите свои грехи.
Арайя через силу усмехнулся:
— Я знаю, что вы скажете, падре! Вы требуете, чтобы я дал своим индейцам свободу…
— Требую не я, а всевышний! Я лишь не могу отпустить вам ваших грехов, пока этот тяжкий груз лежит на вашей совести. Сеньор Арайя, вспомните вашу жену и вашего сына. Они ждут вас на небесах, если вы выполните предначертание бога.
— Падре, — прошептал умирающий, — дайте завещание… я сделаю то, о чем вы просите…
— Где лежит ваше завещание, сеньор? — деловито спросил Ладрада.
— Там… в черном шкафу. На первой полке есть потайной ящик… мой майордом знает.
Ладрада поспешно позвал майордома. В присутствии свидетелей Арайя сделал изменение в своем завещании. Вчерашние рабы стали свободными вассалами короля Кастилии!
Монахи ушли из дома Арайи. Бартоломе устал и шел молча, зато Ладрада был в очень хорошем настроении:
— Еще одна жалоба на вас, Бартоломе, обеспечена. Наследники Арайи не простят вам того, что от них ушел лакомый кусок в двести душ индейцев. Мне говорили, что про вас уже писали принцу Фелипе в таких выражениях: «…этот приор Лас-Касас в своем местечке создает беспорядки и сеет между жителями вредные мнения насчет индейцев…»
— Хватит, Родриго, — улыбнулся Бартоломе, — давно известно, что я смутьян и скандалист. Недаром, когда я еще был в Санто-Доминго, мне запрещали выступать с проповедями. Власти боялись услышать правду, которую я преподнес бы им в своих речах. Так что вы рискуете вашей репутацией, оставаясь в моем монастыре.
— Я рискую репутацией, но спасаю свою душу, работая с вами, — с чувством ответил Ладрада. Этих двух людей связывала уже в течение нескольких лет не только большая дружба, но и общность стремлений.
Когда они вернулись в монастырь, Бартоломе попросил Ладраду отслужить вечернюю мессу; он хотел еще поработать в саду, пока не стемнело. Но сегодня ему не суждено было сесть за свою «Историю». Его ждал посланный алькальдом коррехидор с просьбой немедля прибыть в кабильдо — городской совет Пуэрто-Платы.
У алькальда находился высокий гость — президент Аудиенсии.
— Простите, что я потревожил вас, падре, — приветствовал он Лас-Касаса, — но важные события призвали меня в Пуэрто-Плата. Вы, конечно, слышали об этом постыдном восстании касика Энрике?
— Да, ваша милость, я знаю о постыдном поведении дона Валенсуэлы и губернатора Вадильо по отношению к ни в чем не повинному касику Энрике.
— Да, да, — ответил поспешно президент, — конечно, дон Валенсуэла довольно грубо поступил с касиком, а губернатор города Сан-Хуан несколько превысил свои полномочия…
— Называйте вещи своими именами, — резко сказал Лас-Касас. — Вы считаете только грубым, когда Валенсуэла отобрал жену, имущество и лошадь у Энрике, а потом избил палками?
— Нет, но…
— А потом, когда свободный индеец, вассал короля Кастилии, обратился с жалобой к наместнику короля — губернатору города Сан-Хуан, тот, вместо того чтобы удовлетворить справедливую жалобу индейца, заточил его в крепость.
— Нет, нет, падре, я не оправдываю действий Валенсуэлы и губернатора, но, вы сами понимаете, мы уже имеем дело с восстанием, ибо Энрике ушел в горы с группой индейцев и при первой же стычке убил двоих испанцев!
— Вот как, убил двоих, — сказал Лас-Касас. — Но ведь он убил защищаясь, а не нападая! Преследовал ли он убегающих испанцев, скажите мне, ваша милость?
— Нет, но он угрожал: «Благодари меня, Валенсуэла, что я не убиваю тебя, иди, но не возвращайся! Берегись!» А ведь это мятеж! К нему присоединяются беглые индейцы. Он научил их обращаться с оружием испанцев. Он смеется над нами, этот Энрике.
— Однако я слышал, что Энрике, которого вы поносите, взял слово с индейцев, что они не будут причинять вреда невинным колонистам — жителям острова, а будут только защищать себя от карателей. И я слышал также, — Лас-Касас насмешливо улыбнулся, — что те восемьдесят испанцев, которых Аудиенсия выделила для поимки Энрике, бесславно вернулись домой, вымотанные голодом и усталостью, но живые…
Президента начал раздражать этот язвительный допрос. Он увидел, что Лас-Касас остался прежним. В нем было больше от законника-юриста, чем от монаха… Президент перебил Лас-Касаса:
— Прекратим эти пустые разговоры! Его величество приказал подавить восстание, ибо видит в нем дурной пример для индейцев острова, для всей Индии. Мы призвали вас, имеющего такой большой опыт жизни в колониях, чтобы посоветоваться, как можно быстрее и желательно мирными средствами окончить это неприятное дело.
Лас-Касас иронически усмехнулся:
— Благодарю вас за честь и признание моих скромных заслуг перед королем и Индией. Но позвольте мне задать вам один вопрос: сколько раз пыталась ваша милость и вся Аудиенсия привести мятежного касика в повиновение, поднимая против него оружие?
— О, много раз! Уже не первый год собирают войско, вооружают флот. И, пока он не умрет, этот мятежник, или не будет подавлен, мы не сложим оружия!
— А сколько раз вы пытались мирным путем прекратить восстание, поднятое Энрике?
— Не знаю, ведь это нелегко, но, наверное, один раз, — удивленно ответил президент.
— Так почему вы считаете этот единый раз трудным, в то время как насильственный путь кажется вам легким? Я полагаю, сеньор, если вы обратились ко мне, надо применить тот путь, который вам показался столь тяжелым, то есть путь мира.
Через несколько дней вернулись разведчики-монахи, посланные Лас-Касасом на переговоры к Энрико. Мятежный касик согласился на прекращение войны, но при условии, что ни ему ни его отряду испанцы не причинят никакого вреда. Лас-Касас заверил касика, что всем индейцам будет позволено вернуться домой, в их провинции, и что испанцы не будут их преследовать.
С доброй вестью о мире вернулся Лас-Касас в Санто-Доминго. Это возвращение, после нескольких лет затворничества в маленьком монастыре, произвело небывалый эффект на Эспаньоле. Сам Лас-Касас часто потом говорил своим друзьям:
— На удивление и к неприятности тех, кто считал меня погибшим для жизни, я вернулся, чтобы снова бороться!
Свидание с Писарро
…Катилине было легко собрать вокруг себя весь цвет позоров и преступлений.
…Катилине было легко собрать вокруг себя весь цвет позоров и преступлений.

Когда Бартоломе узнал в 1530 году о продвижении экспедиции Франсиско Писарро и его сподвижников Диего Альмагро и священника де Луке в Перу, его охватило глубокое беспокойство и опасения.
Писарро… Он не видел его ни разу, но знал, что тот, подобно римлянину Катилине, был «человек сильного духа и тела, но дурной и испорченный, был коварен, непостоянен, лжив и вероломен, как никто».
Бартоломе также знал, какова была карьера Писарро в Индии: сначала на Эспаньоле, Кубе и Венесуэле — солдат и выученик Охеды, а затем в Панаме — сподвижник и помощник Педрариаса.
И вот новоявленный Катилина, генерал-капитан Писарро, облеченный в 1529 году доверием и полномочиями испанской короны, ринулся на завоевание земель, еще более богатых, чем Мексика, недавно открытая и захваченная Кортесом. Что ожидало Перу, — нетрудно догадаться, ибо король милостиво дал Писарро и его компаньонам все полномочия и титулы, но не снабдил ни одним мараведи! Писарро и другие должны были сами оплачивать свои расходы и жалование из завоеванной добычи. А жадность завоевателей, по меткому выражению хрониста Овиедо, можно было сравнить только с их бедностью!
Уже если и суждено богатым землям Перу стать добычей Писарро и его шайки, то надо уберечь жителей этой земли от последствий завоевания. Бартоломе решил получить от короля приказ, запрещающий продавать перуанцев в рабство. И он отправился снова в Кастилию.
В начале января 1532 года Бартоломе вернулся из Кастилии и с двумя монахами — Бернардино де Минайя и Педро де Ангуло — отплыл из Санто-Доминго в Перу. По пути он ненадолго остановился в Сант-Яго де Лос Кабальерос, небольшом городе в Гватемале. Там их с радостью встретил знакомый Бартоломе еще по Севилье, приходский священник лисенсиат Франсиско де Маррокин. Он стал уговаривать, чтобы они остались там насовсем. Но Бартоломе спешил в Перу, боясь, что Писарро начнет захват индейцев в рабство ранее, чем он привезет ему королевский приказ.
Бартоломе и его спутникам пришлось почти месяц задержаться в порту Реалехо: они ждали отплытия каравеллы, на которой отправляли из Никарагуа солдат и оружие для Писарро.
— Зачем это вам, ваше преподобие, понадобилось так спешно в Перу? — с подозрением спрашивал один из помощников Писарро, маэстре каравеллы. — У нас и так хватает своих священников. По-моему, вам с вашими монахами там нечего делать. Если вас, конечно, не интересует золото. А своих пустых карманов у нас тоже хватает!
— Золото нас не интересует, — ответил Лас-Касас, — но мы хотим основать в Перу монастыри и миссии.
— Рановато думать о монастырях, — возразил маэстре, — земля горит под ногами. Страна охвачена войной, как пожаром, а вы — монастыри…
— Мы посмотрим, — осторожно ответил Лас-Касас, ибо не хотел открывать истинной цели поездки: вряд ли тогда маэстре взял бы его на свою каравеллу.
И он оказался прав, потому что маэстре продолжал:
— Вот привезем генерал-капитану солдат и оружие, а обратно пустыми, наверное, не пойдем.
— Что же вы думаете везти из Перу? — спросил Педро де Ангуло. — Ведь золотые сокровища еще не добыты.
— Есть сокровища получше золота, — и маэстре подмигнул монахам, — которое найдет спрос на рынках Эспаньолы и Никарагуа. Рудники и водяные жемчужные шахты ждут сильных и здоровых перуанцев.
Маленькое суденышко, на котором они плыли, попало в бурю. Несколько дней носилось оно по морю, сбившись с курса. На темном небе клубились тучи, закрывая луну и звезды. Огромные валы перекатывались через борта каравеллы, грозя смыть все, что находилось на палубе. Бледные испуганные солдаты сидели в тесных каютках и то ругались, то молились.
Маэстре, увидев опытность Лас-Касаса в морском деле, стал с ним советоваться, каким курсом лучше плыть: вернуться обратно в Никарагуа или попытаться добраться до Перу.
— А как у нас с припасами? — спросил Лас-Касас, видя, что судно перегружено солдатами и оружием.
— Мало, ваше преподобие, — мрачно ответил маэстре, — мы и так грузили сверх меры. Ну, и припасов взяли в обрез…
— Нам грозит голод, — сказал Ангуло, — если мы будем блуждать по морю. Мне кажется, что лучше вернуться в Реалехо.
— К дьяволам! — крикнул услышавший их разговор солдат. — Нам нужно в Перу! Нас ждет генерал-капитан и золото, а если мы опоздаем, то останемся без добычи. Плыви, мерзавец, хоть в преисподнюю, — угрожающе подступил он к маэстре, — но доставь нас в Перу к сроку. Иначе разнесем твою гнилую посудину!
Его поддержали остальные солдаты, которым не терпелось скорей добраться до сказочно богатого Перу. Особенно шумел солдат, который первым услышал о перемене курса. Он бешено размахивал кулаками и шпагой и ругался так, что даже его бывалые собутыльники качали головами.
— Дело пахнет бунтом, ваше преподобие, — прошептал испуганный маэстре. — Я этих головорезов знаю. С ними спорить опасно!
— Успокойтесь, сеньоры, — властно сказал Лас-Касас. — Криком вы не поможете беде. Вы не хотите в Никарагуа, ибо там нет золота. Но если мы поплывем в Перу, то вам придется потуже подтянуть ваши пояса, — припасов у нас мало. Давайте бросим жребий, пусть судьба решит, каким курсом нам плыть дальше.
Предложение Лас-Касаса всем понравилось. Солдаты успокоились и повеселели.
И вот в тесном душном трюме, тускло освещенном качающимся фонарем, едва стоя от качки на ногах, Лас-Касас с трудом написал на двух бумажках: «Перу» и «Никарагуа». Позвали самого младшего из команды — юнгу Фелипито.
— Ну-ка, парень, — сказали смеясь солдаты, — тяни, но смотри не ошибись! Мы хотим плыть только за золотом! Берегись, если вытянешь не Перу!
Матросы каравеллы, наоборот, недовольно ворчали. Им совсем не улыбалось голодное плавание в далекое Перу.
— Вы запугали мальчика, — и Лас-Касас протянул юнге свою шляпу, в которую были брошены свернутые бумажки. — Не бойся, Фелипито, тебе ничего не будет!
Фелипито робко протянул руку и вытащил бумажку.
— Читайте скорей, ваше преподобие! — закричал солдат-сквернослов. — Нечего разводить дьявольскую канитель!
Кто-то поднес фонарь к Лас-Касасу, и он прочел: «В Перу!»
Раздались крики восторга. Солдаты хлопали друг друга по спине, стучали кружками по столу, топали ногами. Но более всего поразил сквернослов. Он словно преобразился. Из глаз его полились ручьем слезы и, захлебываясь от умиления, он говорил:
— О падре! Я получил такое утешение, такую радость, ну, точно принял только что первое причастие!
— Он проливает слезы так, как не могла бы их проливать самая набожная и богомольная старуха, — усмехнулся Лас-Касас, вернувшись в свою каютку. — Но погодите, это не надолго!
И действительно, не прошло и получаса, как этот солдат и все другие стали предаваться своим обычным занятиям: безудержной игре в карты и разнузданной ругани.
Лагерь Писарро находился на острове Пуна в заливе Гуякиль, в месте, выгодном для высадки в богатый город Тумбес, находившийся в 30 лигах от острова. Писарро ждал новых подкреплений для дальнейшего продвижения в глубь Перу.
Лас-Касас с большим интересом смотрел на трех знаменитых компаньонов. Писарро был хотя и стар, с длинной бородой, но строен, хорошо сложен и, видимо, очень вынослив. В отличие от своих современников, он не имел пристрастия к пышной одежде: всегда ходил в черном плаще, белой шляпе и белых сапогах в подражание grand Capitàn — великому испанскому полководцу Гонсало де Кордова, под начальством которого он сражался в молодости в Италии. Движения у Писарро были быстрые, но настороженные: он похож на тигра, крадущегося к добыче. Опасный и смелый враг, ничего не скажешь!
Альмагро был по виду настоящий солдат, с тяжелым и грубым лицом, но прямодушный и справедливый. Подчиненные его любили гораздо больше, чем генерал-капитана. Луке — бывший священник и учитель — был хитер и осторожен. Говорили, что он усердно давал взаймы деньги тем лицам, от которых зависело назначение его епископом города Тумбеса и всех провинций Перу.
Писарро и Альмагро не получили никакого образования, даже не умели читать и писать. Писарро попробовал выучиться во время первого похода, но нетерпеливый характер помешал ему в этом. Научился он только подписывать свое имя, но такими каракулями, что секретарь должен был всегда ставить рядом его фамилию.
Прибытие Лас-Касаса с монахами удивило Писарро. Однако он уже научился дипломатии и хитрости и хорошо принял доминиканцев, еще не зная о цели их приезда. Но Альмагро был раздражен. Только что у него произошло не первое неприятное объяснение с Писарро: Альмагро был обижен тем, что все почести достались Писарро, который получил от короля титул наместника Перу и маркиза, жалование в 725 тысяч мараведи в год и награжден рыцарским орденом Сант-Яго. А ему придется довольствоваться званием скромного губернатора города Тумбеса и всего 200 тысячами мараведи!
— Так-то ты поступил с другом, который делил с тобой все труды, опасности и расходы? Перед отъездом в Кастилию ты торжественно обещал блюсти мои интересы так же, как и свои собственные. Как мог ты решиться так унизить меня в глазах света столь ничтожным вознаграждением? Можно подумать, что я ничего не сделал, в сравнении с тобой! — не унимался Альмагро.
Лас-Касас почувствовал, что обстановка в лагере напряженная, и потому постарался быть кратким. Но когда он вручил приказ короля, то Писарро не смог скрыть своего недовольства.
— Его величество противоречит сам себе, — сказал Луке, опередив резкие выражения, готовые сорваться с уст Писарро и Альмагро. — Ведь в своем первом приказе он писал, что мы можем пользоваться индейцами, приписанными к нашим землям, и они не могут быть отняты у нас.
— Никакого противоречия нет, — возразил Лас-Касас. — Но одно дело пользоваться услугами индейцев, а другое — продавать их в рабство в иные места Индии.
— Я все понял, сеньор, — высокомерно ответил Писарро. — Мы не собираемся торговать перуанцами, они принесут пользу для нас и на своей земле. Вы напрасно утруждали себя столь тяжелым для вашего возраста плаванием!
— Ну что вы, генерал-капитан, — сказал иронически Лас-Касас, — если вам и сеньорам Альмагро и Луке не трудны опасные путешествия в вашем возрасте, то так же они не могут быть тяжелы и для меня!
Писарро и его компаньоны смутились: они забыли, что им всем уже перевалило далеко за пятьдесят лет!
— Мы с вами знаем, что для солдата и монаха возраста нет, — продолжал Лас-Касас. — Теперь я хочу выяснить, каковы возможности строительства монастырей и миссий.
— Нет, нет, — вскричал Писарро, которого прошиб пот при одной лишь мысли, что настойчивый Лас-Касас может остаться в Перу. — Нет, сеньор Лас-Касас, все это еще преждевременно.
— И к тому же, — обиженно добавил Луке, — мне как будущему епископу Тумбеса и покровителю индейцев всех завоеванных провинций Перу надлежит думать о создании миссий, а не каким-то приезжим монахам…
— Свои есть, клянусь дьяволом, — не выдержал Альмагро, — уезжайте-ка подобру-поздорову, нечего вам тут околачиваться!
— Сеньору Альмагро не мешает, прежде чем он станет губернатором, — ответил насмешливо Лас-Касас, — пройти школу хороших манер. Видимо, сеньору раньше было некогда подумать об этом!
— Вы намекаете на то, что я безродный подкидыш?! — в бешенстве закричал Альмагро. — Так знайте, что король пожаловал мне дворянство и частичку «де» перед фамилией! Я — благородный идальго, такой же, как и вы!
— Благородство человека определяется не частичкой «де», — с достоинством ответил Лас-Касас. — Если бы даже вы имели кучу титулованных предков, ваши повадки не стали бы от этого лучше!
— Хватит, хватит, сеньоры, — обеспокоенно говорил Луке, — не стоит спорить. Ясно, что колонисты не смогут обойтись без помощи индейцев, и потому генерал-капитан и я распределим всем колонистам индейцев для пользы их духовного блага. Ибо только тогда индейцы будут иметь возможность научиться всем правилам истинной веры!
— Вы, как ученый-теолог, — резко сказал Лас-Касас, — готовы утверждать, что слово божье может обрекать человеческое существо на страдания и горе, если в награду за это ему дается свободный пропуск в рай?
— Ваши еретические взгляды давно известны, сеньор Лас-Касас, — ответил раздраженно Луке, — удивляюсь, как король дает вам столь важные поручения.
— А это вы спросите у короля. — И Лас-Касас простился с Писарро. Луке и Альмагро он даже не кивнул головой.
В тот же день отходила каравелла в Никарагуа, и Лас-Касасу с монахами ничего не оставалось более, как отплыть на ней обратно.
— Мне делается страшно, — сказал Минайя, — когда я подумаю, что судьба целого народа — несчастных перуанцев — находится в руках мерзкой шайки грабителей и убийц!
— И это только начало, — с горечью ответил Лас-Касас. — Их поступки заставят потомков содрогнуться!
Несколько минут монахи молчали и смотрели на берега Перу, уходившие от них в легкой дымке. Спокойные и красивые берега, большой город Тумбес, обнесенный крепостной стеной, — они не знали о своей трагической участи. Скоро вместо города останутся одни лишь сожженные развалины…
— Саллюстий, — продолжал Лас-Касас, когда Тумбес скрылся из их глаз, — древнеримский писатель и деятель, известный своим честным и неподкупным нравом, писал о подлом заговорщике Катилине: «…с юности ему были по душе междоусобные войны, грабежи, убийства… весь цвет позоров и преступлений собрал он вокруг себя».
— Да ведь это о наших испанских конкистадорах! — воскликнул Ангуло. — Можно подумать, что он их родич!
— И я убежден, — отвечал Лас-Касас, — что Писарро и его сподвижники, подобно Катилине, запятнают себя не только чудовищными преступлениями против индейцев, но и братоубийственной войной.
…Лас-Касас оказался прав.
После кровопролитного разгрома Перу, после вероломного захвата и жестокой казни властителя Перу, инки Атагуальпы, после покорения перуанцев в лагере испанцев начались смуты и раздоры из-за власти и дележа добычи. На равнинах Перу сражались испанские армии.

Вероломное убийство инки Атагуальпы. Старинная гравюра.
Первым восстал Альмагро, но был захвачен и в 1538 году убит Писарро и его братьями. Сын Альмагро отомстил за отца и в 1541 году заколол Писарро в его вице-королевском дворце в Лиме. Менее чем через год молодого Альмагро казнили, как заговорщика, сторонники Писарро. Один из братьев Писарро был осужден в Кастилии за убийство старого Альмагро к двадцати годам тюрьмы. Старший брат Писарро, Гонсало, захватил власть наместника Перу и не подчинился королевским войскам, но потом был разбит и в 1548 году казнен за измену и мятеж.
Победа или смерть!
Если земля расколется, обломки погребут бесстрашного.
Если земля расколется, обломки погребут бесстрашного.

В то время когда Бартоломе в 1532 году направлялся в Перу, в горах Баракоа развертывались трагические события.
Уже много лет Гуама настойчиво и терпеливо собирал вокруг себя верных и смелых людей, учил их воевать. Его отряды были неуловимы, как ветер, и удары их стремительны, как ураган. Умный кубинец понимал, в чем его неуязвимость и сила: в умении вести с испанцами такую войну, о которой он говорил Бартоломе. И ему это удалось! Имя Гуамы становилось все более и более грозным для колонистов восточных провинций Кубы.
Гуама перенес свой лагерь в самые недоступные ущелья Баракоа. Вместе со старым Кибаном и Намуной, своими лучшими соратниками и друзьями, он обсуждал планы ближайших военных действий.
— Гуама, что делать с отрядом, который разрушил город и крепость Пуэрто-Принсипе? — спросил Кибан.
— Распусти отряд, как обычно, — ответил Гуама, делая пометки на карте, разложенной на плоском камне, заменявшем стол.
— Но почему, Гуама? — недовольно спросил Намуна. — Воины готовы сражаться еще, потерь у нас почти нет, и мы добыли в боях много оружия.
— Ты же знаешь, Намуна, нам надо хорошо подготовиться к следующему удару — нападению на город Баракоа. И пусть люди отдохнут. Черная болезнь в прошлом году очень ослабила нас.
— Ее занесли к нам испанцы, — гневно сказал Намуна. — И мы потеряли столько достойных воинов!
— Черная болезнь унесла больше воинов, чем стычки с испанцами, — добавил Кибан. — Мы не умеем ее лечить.
— Сами испанцы не умеют лечить черную болезнь, которую они называют «оспа». Мне говорил Бартоломе, что в Кастилии от нее вымирали целые селения.
В пещеру вошел молодой индеец с аркебузом.
— Вернулись разведчики, — сказал он.
Вслед за ним вошли три воина, измученные тяжелой дорогой и голодом.
— Дай им поесть, Кибан, и пусть они отдохнут, — и Гуама вышел из пещеры.
Около входа стоял дозорный Баона.
— Ты помнишь моего друга из Кастилии? — вдруг спросил Гуама. Ему захотелось поговорить о Бартоломе…
— Конечно, помню! Ведь он велел своему слуге дать мне этот аркебуз. И я сохранил его! — с гордостью ответил Баона.
Гуама отошел от пещеры и присел на камень. Пусть отдохнут воины-разведчики. Они проделали нелегкий путь. Кажется, в горах Баракоа могут жить лишь звери да птицы… И еще индейцы, в которых никогда не угасает мятежный дух борьбы!
В памяти Гуамы сохранилось множество прекрасных стихов, прочитанных им в Кастилии вместе с Бартоломе. Здесь у него нет книг, но он помнит стихи Петрарки, любимого поэта…
Зачем наш край наполнен пришлым сбродом?
Зачем родные травы
Кровь варваров так густо оросила?
……………………………………
О вихрь, о буйный град,
Взметнувшийся в пустыне,
Чтоб пасть на наши мирные селенья.
Должны мы сами ныне
Его смирить, — иначе нет спасенья!
«Петрарка прав. Спасенье только в наших собственных руках. Победа или смерть! У меня нет иных желаний, иных помыслов. Когда-то Бартоломе рассказал мне о доблестном римском воине Курции, который для блага родины пожертвовал жизнью. Вот уже много лет я, как Курций, бросаюсь в открытую пропасть для спасения Кубы! Среди этих каменных круч я сам превратился в камень. И только одна скрытая мысль всегда живет во мне: я хочу знать, что с Бартоломе; мне так нужен он, его любовь и дружба. За долгие годы лишь одна весть о нем — короткое письмо от его друга Педро Рентерии и толедский кинжал… Его друг писал мне, что Бартоломе снова в Кастилии, и о том, чего добился он от короля: его назначили „защитником индейцев“. Бартоломе, вероятно, верит в то, что это поможет ему бороться с тиранией. Но, по-моему, это только почетный титул, который в Индии ничего не будет значить! Бартоломе просто сплавили из Кастилии, а реформы… Невелика цена королевским реформам, когда по-прежнему царит в Индии произвол колонистов и не прекращается жестокая война!»

Осада испанского форта индейцами. Старинная гравюра.
Кибан позвал Гуаму, и он вернулся в пещеру. До глубокой ночи там светился огонь…
Баракоа — первый из семи городов, основанных на Кубе Диего Веласкесом еще в 1514 году. Город имел важное значение, так как был расположен на восточном побережье и связывал Кубу с Эспаньолой.
Через несколько дней от Баракоа осталась груда дымящихся развалин. Город был сожжен почти дотла. Остатки разгромленного гарнизона испанцев бежали к побережью, а оттуда переправились на Эспаньолу.
— Я хорошо отомстил за отца, — с трудом говорил тяжело раненный Намуна, когда отряд вернулся в горы. — Проклятые испанцы не скоро забудут удары сына великого вождя Атуэя. Теперь я могу спокойно умереть…
— Ты будешь жить, — ответил Кибан, перевязывая раны Намуны.
— Пепел Баракоа… — сказал Гуама. — Не думайте, что испанцы простят нам его гибель. За один год — два города. Впереди большие битвы.
Гуама был прав. Колонисты, получив помощь с Эспаньолы, сильно укрепили остальные города и селения восточных провинций Кубы.
Теперь уже Гуама не распускал своих отрядов, а держал в боевой готовности, снабдив их оружием, отнятым у испанцев в последних сражениях.
Но пришла беда… Встревоженный Кибан сказал однажды вечером Гуаме, когда они были вдвоем в пещере:
— В отряде Аруба было три случая черной болезни. Я велел отделить больных.
— Правильно, Кибан. Немедленно сожги одежду больных. Остальных переведи в дальнюю пещеру над озером. Мы не можем подвергать опасности всех воинов.
На этот раз черная болезнь унесла почти половину людей из отрядов Гуамы. Он был безутешен. Он даже хотел бы сам заболеть и умереть, чем видеть, как гибнут лучшие его воины! Впервые в жизни им овладело отчаяние.
«Сколько лет я провел в этих мрачных ущельях! Молодость прошла в непрерывных стычках и сражениях с испанцами. Ко мне приходили все те, кто не хотел сдаваться на милость колонистов и быть рабом! Я стал для моих воинов отцом и братом, а теперь… не могу спасти их от смертельной болезни. Бартоломе, друг мой, скажи, что мне делать?»
Гуама отказывался от пищи и так упал духом, что Кибан опасался за его жизнь и рассудок.
— Сын мой, — говорил старик, — я сам страдаю не меньше тебя, когда вижу, что погибает цвет наших воинов, молодые и сильные… Но ты не должен поддаваться горю. Помни, что впереди битвы с испанцами. Кто поведет нас, если тебя не будет? Ты не имеешь права умирать.
Постепенно болезнь покинула лагерь. Гуама опять стал прежним, только новые морщины на лице и седые пряди в черных волосах говорили о пережитом. Снова отряды готовились к сражениям.
Но Гуама не знал, что раздраженные и напуганные испанцы решили покончить с мятежным касиком, который столько лет держит в страхе все восточное побережье Кубы.
Гуама не знал, что с Эспаньолы пришли внушительные подкрепления, которые вызвал новый губернатор Кубы.
Гуама не знал, что карательной экспедицией будет командовать капитан Мануэль де Рохас, имевший за плечами годы борьбы с мятежными индейцами в Новом Свете.
Когда весной 1533 года разведчики Гуамы донесли ему, что отряд испанцев вышел из Сант-Яго и движется по направлению к Баракоа, он решил внезапно обрушиться на этот отряд и уничтожить его.
Удар индейцев, как всегда, был стремительным, и испанцы сначала дрогнули под их натиском. Потом завязался бой… Индейцы, вооруженные так же, как и испанцы, аркебузами, мечами и арбалетами, уступали лишь в одном: у Рохаса из 150 солдат было 50 конных. Это предрешило исход битвы. Индейцы вынуждены были отступать, нанося при этом тяжелые удары испанцам. Разгоряченный боем Гуама, крикнув: «Победа или смерть!» — бросился вперед и вступил в поединок с самим Рохасом. Выстрелом из аркебуза Гуама ранил коня. Конь упал, придавив собой всадника. Гуама на секунду вздрогнул: раненный серый конь так напомнил ему Фуэго… Но неожиданно Рохасу удалось приподняться, и он в упор выстрелил из аркебуза в грудь Гуамы. Без единого вздоха замертво упал отважный воин.
…Отряд Гуамы вернулся в горы. Убитого вождя похоронили в пещере, где он прожил столько лет, сражаясь за свободу своей родины.
Потеряв Гуаму, отряд распался. Некоторые индейцы вернулись в свои селения, многие остались жить в горах. Старый Кибан решил пробраться в Санто-Доминго и передать Бартоломе о том, что Гуамы не стало.
В монастыре доминиканцев Кибан не нашел Бартоломе. Приор сказал старику, что Бартоломе теперь находится в Перу, очень далеко от Эспаньолы. Если Кибан хочет, он может остаться в монастыре, или приор поможет ему устроиться на каравеллу, идущую в Сант-Яго де Кабальерос, город в Гватемале, куда должен был по пути из Перу заехать Бартоломе.
Но старый индеец покачал головой:
— Нет, благодарю тебя, у меня не хватит сил. Я боюсь умереть вдали от Кубы и Гуамы. Я должен вернуться к нему. А тебя прошу лишь об одном: расскажи Бартоломе о последних годах жизни Гуамы и об его гибели. Пусть память о самом благородном и отважном сыне Кубы не умрет вместе со мной. Бартоломе напишет о нем. И люди узнают и не забудут о Гуаме…
И Кибан, как ни уговаривал его приор остаться, через несколько дней ушел.
До окраины Санто-Доминго провожал его Хасинте. На прощанье старики крепко обнялись.
— Бартоломе наказывал мне тогда, в Баракоа, беречь Гуаму, а я… я не уберег его… — и Кибан заплакал.
Хасинте и сам не мог удержать слез при мысли о том, что не стало Алонсо, доброго и смелого, который так пришелся по сердцу всем в севильском доме Лас-Касасов. А как будет горевать Бартоломе, когда узнает о гибели своего названого брата!
Хасинте долго смотрел вслед Кибану, который возвращался на Кубу, в горы Баракоа.
На родине Данте
Но в том часть нашей радости, где мзда
Нам по заслугам нашим воздается,
Не меньше и не больше никогда.
И в этом так отрадно познается
Живая правда, что вовеки взор
К какому-либо злу не обернется.
Но в том часть нашей радости, где мзда
Нам по заслугам нашим воздается,
Не меньше и не больше никогда.
И в этом так отрадно познается
Живая правда, что вовеки взор
К какому-либо злу не обернется.

Поднявшись от ворот Флоренции по крутым каменным ступеням наверх, к церкви Сан-Миниато, между рядами старых кипарисов, Бартоломе остановился и поглядел назад. Горькие строки бессмертных стихов великого странника Данте пришли ему на память:
…как горестен устам
Чужой ломоть, как трудно на чужбине
Сходить и восходить по ступеням…
Вот здесь, на склонах этой священной горы, не раз бывал поэт. И в изгнании всегда он мысленным взором видел свою прекрасную Флоренцию, мост Рубаконте, высокие темные стены церкви Санта-Кроче.
Был тихий вечерний час, по словам Данте, — час, который заставляет грустить мореплавателей, час, когда странник слышит далекий звон и ему кажется, что это плачет умирающий день…
Бартоломе устал от высокого подъема и присел на каменную скамью. Кто знает, может быть, вспоминая именно эту скамью, Данте написал:
…и здесь мы оба сели отдохнуть,
Лицом к востоку; путник ослабелый
С отрадой смотрит на пройденный путь…
…Флоренцию окутали светлые сумерки. Может ли он, Бартоломе, сказать, что он ослабел? Имеет ли он право посмотреть с отрадой на пройденный путь? Да, конечно, кое-что сделано. Но путь еще далеко не пройден…
После шести лет затворничества и литературной работы в монастыре он вернулся к жизни, чтобы снова бороться. Четыре года он провел в непрерывных странствиях: плавал на каравеллах и галерах, ездил верхом на лошадях и мулах и более всего, конечно, ходил пешком. Кастилия, Перу, Никарагуа, Гватемала, и снова Кастилия… После встречи с Писарро в 1532 году он пересек Новую Испанию и Гватемалу, и задержался с Педро Ангуло в Никарагуа. Там было одно из самых коротких, но тяжелых его сражений против тирании наместников. Он до сих пор не может вспоминать без яростного гнева о губернаторе Родриго Контрерасе! Отъявленный мерзавец и грабитель, тиран и насильник, этот Контрерас принес столько горя и разрушений некогда счастливым плодородным землям Никарагуа. За десять лет правления он убил и поработил более миллиона человек! Он опустошил богатые земли и уничтожил целые поколения людей, которые были так же свободны, как и любой кастилец! Но Бартоломе не смог справиться с Контрерасом, и ему пришлось покинуть Никарагуа…


Флоренция. Старинная гравюра.
А потом на Эспаньоле он вместе с Бернардино Минайя, другим своим спутником по плаванию в Перу, деятельно готовил материалы для папской буллы, которая должна была иметь большое значение для искоренения рабства в Индии. Бартоломе понимал, что надо добиться признания духовного равенства индейцев и испанцев. Для этого был единственный путь: уничтожить в мыслях римского папы Павла III представление о том, что индейцы, подобно животным, не имеют души. Бартоломе принял горячее участие в поездке в Рим Бернардино де Минайя. А в этом, 1536 году, к моменту обсуждения папской буллы, Бартоломе и сам отправился в Рим.
Можно представить, какое сопротивление среди многих теологов вызвал проект буллы. Особенно противодействовал кардинал Пьетро Карафа, как говорили, будущий папа после больного Павла III. Фанатичный и жестокий Карафа был одной из самых мрачных фигур Ватикана. И все же победили сторонники буллы!
Она гласила: «…Несколько слуг дьявола, обуреваемые бешеной жаждой наживы и неукротимыми страстями, осмеливаются каждый день утверждать, что индейцы и другие народы должны быть низведены на службе европейцев до уровня животных и скотов. Они не боятся говорить, что индейцы не способны получить и принять святую веру. Таким образом, низведя их в ужасающее рабство, они мучают и угнетают их до такой степени, что боль, которую эти слуги дьявола заставляют испытывать своих животных, ничто в сравнении с той болью, что испытывают несчастные индейцы…»
Эта булла узаконила положение о том, что индейцы, обращенные в христианскую веру, такие же люди, как и испанцы. Но будет ли всегда способ обращения в христианство мирным? Бартоломе тяжело вздохнул: он знал, что есть сторонники насильственного обращения. А раз насилие, — значит, война, разрушение. Нет, о покое еще рано думать!
Стемнело. Начался редкий теплый дождь. Бартоломе стал спускаться по лестнице вниз. Завтра он выезжает обратно в Кастилию. Надо перевести буллу на испанский язык и разослать в Индии всем монастырям, миссиям, аудиенсиям.
Узнав с утра, что карета в Геную отправится только вечером, Бартоломе решил еще побродить по городу. Его неудержимо влекло к тем творениям великих художников и скульпторов, о которых он слышал в юности от мессера Джованни, от ректора — дона Висенте.
Он не мог отказать себе в этой поездке во Флоренцию на обратном пути из Рима в Кастилию. Флоренция была для него священна, мечта его юности! И не только потому, что в ней жила когда-то Беатриче. Флоренция — колыбель возрождения человеческого гения. Улицы Флоренции — живая история этого возрождения, не раз говорил мессер Джованни. Улицы Флоренции, ее дома, увенчанные карнизами, стройные колонны, яркие фрески цвета вина и меда на темных стенах церквей. Бартоломе вспомнил слова мессера Джованни, страстно влюбленного в искусство флорентийских мастеров: «…я покажу тебе творения бессмертного Джотто, великого Мазаччо, гениального Донателло… Ты увидишь полотна моего учителя Паоло Учелло… Ты будешь замирать от восхищения, твои глаза обожгут слезы страдания».
Бартоломе вздрогнул оттого, что до боли ясно услышал голос мессера Джованни, легкие шаги Беатриче… Увидел ее незабываемое лицо, когда она, склонившись над креслом отца, внимательно слушала его. Ее ясную улыбку, которой она встречала его, Бартоломе. И снова, как некогда в Саламанке, в соборе Сан-Стефано, Бартоломе почувствовал не горечь утраты, не страдание разлуки, а огромную, всепоглощающую радость от того, что его посетила любовь, которая сделала его, смертного, равным бессмертным Данте и Петрарке.
Он вспомнил, как еще в юности ректор читал у Сенеки, что из всех бедствий наибольшее — потерять любимого человека. Но и в этом случае, говорил Сенека, ты должен радоваться тому, что он все-таки был у тебя, чем печалиться об его утрате.
Бартоломе вспомнил утрату Мигеля, Педро Рентерии, Алонсо… После трагической смерти Рентерии и гибели колонии в Кумане он не испытывал столь тяжкого удара, какой постиг его по возвращении из Перу в Санто-Доминго. Он узнал, что не стало Алонсо. Выстрел негодяя — карателя Рохаса — оборвал эту светлую и отважную жизнь… Но сейчас он думал: разве с утратой друзей погибают и плоды дружбы? Разве в течение стольких лет самой тесной дружбы, самого близкого сотрудничества ничего не было сделано? Разве вместе с другом теряешь и дружбу?
«Поверь, — слышал Бартоломе голос ректора, — большая часть того, что мы любим, остается у нас, хотя бы и сами любимые нами были отняты у нас судьбой! Подумай, действительно прошлое стало нашим; именно потому, что оно прошло, оно вне всякой опасности! Надеясь на будущее, мы неблагодарны в отношении прошлого, тем более что и то, что свершится, как только наступит, тотчас станет также прошлым!»
Слишком мало ценит вещи тот, кто наслаждается ими только в настоящем. В будущем и в прошедшем они могут доставлять нам радости: в будущем — путем надежды, а в прошлом — через воспоминания.
Но при этом первые могут не сбыться, вторые же не могут не быть. Так не безумно ли отказываться от столь верных источников радости? Бартоломе улыбнулся: ректор любил говорить своим ученикам: «Успокоимся на том, что мы усвоили себе, если только наш разум не представляет собой подобие воронки, через которую уходит все, что воспринимается!»
Кто может сказать, что он, Бартоломе, одинок и несчастлив? О нет! Он благодарен судьбе за то, что она одарила его таким прошлым, которое до сих пор согревает его душу, наполняет счастьем. У каждого человека есть прошлое, и хорошее и дурное. Ничто и никогда не забывается. Но сознание своих ошибок — вот свойство благородного ума и чистой души. И, видит бог, он старался поступать всю жизнь именно так.
Вдруг Бартоломе остановился перед входом в небольшую церковь. Об этой церкви, Санта-Мария дель Кармине, говорил ему мессер Джованни: здесь замечательные фрески Мазаччо.
С душевным волнением и трепетом вошел Бартоломе в пустую церковь. Она была погружена в полумрак. Только сквозь узкие цветные окна падал пестрый свет и скудно освещал престольные образа, фигуры святых, потемневшие стены. Бартоломе прошел дальше, в глубь церкви. Он увидел фрески Мазаччо: «Изгнание из рая», «Уплату статира». Там, в глубине, — сцены из жизни святого Петра. Эта небольшая церковь, казалось, вмещала все героическое представление о человечестве. А ведь Мазаччо умер двадцати семи лет…
И, несмотря на столь короткую жизнь, художник принял, как факел, традиции великого Джотто. Его искусство, как и у Джотто, глубоко человечно. И тут Бартоломе вспомнил фрески на потолке в Сикстинской капелле, в Ватикане. Это было творение величайшего художника Микеланджело. Волшебный факел у Мазаччо приняли такие мастера, как Микеланджело, Рафаэль, картинами которых Бартоломе восхищался в Риме.
Бартоломе вышел из церкви. Его волновали новые мысли. Как велика связь времен! Начиная от Прометея, человек всегда несет священный огонь, и если один падает, другой подхватывает и высоко поднимает факел.
И не должен ли он, Бартоломе, считать себя одним из тех, кто удостоился чести нести светоч сурового пламенного Данте, свободолюбивого Петрарки? Данте писал о «живой правде». Живая правда и есть та справедливость, во имя которой люди отдают не только знания и силы, но и всю свою жизнь.
Tierra de guerra[55]
Велик тот учитель, который исполняет делом, чему учит.
Велик тот учитель, который исполняет делом, чему учит.

После поездки в Кастилию и Рим в 1536 году Бартоломе более не вернулся на Эспаньолу, в Пуэрто-Плату. Франсиско де Маррокин, избранный недавно епископом Гватемалы, настаивал на том, чтобы Бартоломе принял на себя руководство одним из монастырей Гватемалы. И Бартоломе согласился.
Монастырь в городе Сант-Яго де лос-Кабальерос был полуразрушен. Монахи не очень охотно селились там. Обстановка в Гватемале была напряженной и небезопасной. Завоеватель и губернатор Гватемалы Педро де Альварадо, вместо того чтобы заботиться о благосостоянии вверенной ему области, покинул ее и ринулся в Перу. Слухи об успехах экспедиции Писарро достигли жадных ушей Альварадо. Он решил двинуться на юг и присоединиться к Писарро. Тот нуждался в людях, оружии, в продовольствии. Аудиенсия Гватемалы протестовала против отъезда губернатора: большая часть страны была еще в состоянии войны, индейцы стонали под игом рабства и готовы были в любой момент подняться на восстание. Но Альварадо нагло ответил, что ему наплевать на Гватемалу! Он хочет идти к другим, более великим открытиям.
И, невзирая на запрещение Аудиенсии, бесшабашный кастилец уехал, погрузив на каравеллы всех солдат, все оружие и продовольствие.
…Разрушенные кельи, заброшенный сад, сломанные ограды — вот что досталось Бартоломе и его товарищам: Родриго де Ладраде, Педро де Ангуло и Луису Кансеру, которые уже несколько лет не расставались с ним. Восстановив две-три кельи, они решили заняться изучением местного языка киче, языка индейцев, среди которых им предстояло жить и трудиться.
Епископ Франсиско де Маррокин был знатоком языка киче. Он несколько лет работал каноником в Сант-Яго и составил на этом языке грамматику и Катехизис — краткое изложение основ христианской веры в форме вопросов и ответов. Часто можно было видеть в маленькой тесной келье или в монастырском саду этого изящного, еще не старого епископа, а вокруг него — монахов, усердно изучающих индейский язык.
Тогда же Бартоломе написал трактат «De unico vocation modo»[56], наделавший много шуму. Трактат был написан по-латыни, но Бартоломе перевел его на испанский язык, чтобы он стал настольной книгой не только для священников, но и для всех людей доброй воли из колонистов, чиновников, офицеров, живущих и работающих в Индии.
В этой книге Бартоломе отвергал доводы о различии между людьми разного цвета кожи, утверждал, что нельзя воевать с язычниками только потому, что они язычники, доказывал, что единственно справедливый и законный способ обращения язычников в христианство — это путь убеждения, а не принуждения.
Буря негодования и насмешек встретила этот трактат.
— Лас-Касас — неумный теоретик! — кричали одни. — Благовестие мира годится лишь для совершенного общества. В нашем мире самое убедительное и пригодное благовестие — это удары кулака и шпаги!
Другие презрительно пожимали плечами и говорили, что старик Лас-Касас просто выжил из ума; стоит ли обращать внимание на его бредни!
— Пусть-ка этот «апостол» постарается обратить хоть одного индейца словами, и только словами, в христианскую веру и заставит соблюдать мир! — издевались третьи. — Тогда он узнает, что для этого мало одних слов любви.
— Постараюсь это сделать! — отвечал всем Лас-Касас.
На севере Гватемалы была провинция Тузулутлан. Находилась она в горах, диких и почти недоступных. Трижды пытались испанцы захватить Тузулутлан и трижды возвращались побежденными. Индейцев, которые жили там, испанцы прозвали «бешеными». Никто из колонистов не осмеливался и близко подходить туда. Тузулутлан получил название Tierra de guerra — «земля войны».
Однажды, после очередного урока, Бартоломе сказал Маррокину:
— Мне пришла в голову одна неплохая мысль, Франсиско, я уверен, что вы одобрите ее.
— Какая именно?
День клонился к концу. Сумерки окутали сад. Ничто не нарушало покоя тихого вечера.
— Я хочу отправиться в Тузулутлан и установить с индейцами мирные отношения.
— Вы сошли с ума, Бартоломе! — перебил его пораженный Маррокин. — Вам надоела жизнь? Это безумие!
— И вы, Франсиско, считаете меня безумцем, так же как и все колонисты? Не ожидал!
— Простите, дорогой друг, — смутился епископ. — Но я не могу представить себе, как вы отправитесь на верную смерть к этим бешеным. Я не отпущу вас, ибо люблю и ценю.
— А что скажете вы, мои друзья и сподвижники? — вместо ответа обратился Бартоломе к монахам, отдыхавшим на траве.
Луис Кансер, молодой и пылкий, воскликнул:
— Я готов за вами хоть в преисподнюю, а не только к бешеным индейцам!
Родриго де Ладрада покачал головой:
— Вряд ли в преисподней примут таких беспокойных людей, как наш Бартоломе Лас-Касас и мы! Но к индейцам я готов идти.
Педро Ангуло, молчаливый и сдержанный, встал и, подойдя к Бартоломе, протянул ему руку.
— Итак, Франсиско, — весело сказал Бартоломе, — вы остались в одиночестве! Придется вам благословить как епископу наше начинание — мирный поход в страну войны.
— Но я не понимаю, Бартоломе, — не сдавался Маррокин, — зачем вам понадобилось для подкрепления вашей правоты идти именно в страну войны? Вы можете обратить какое-нибудь мирное селение.
— Это очень понятно, — серьезно ответил Бартоломе. — Рано или поздно Тузулутлан станет добычей испанцев. И вы представляете, сколько крови и разрушения принесут туда каратели? Как они отомстят индейцам за свои поражения в прошлом? Поэтому я и выбрал эту землю. А совсем не потому, что победа принесет мне лавры.
Бартоломе написал текст своеобразного официального договора, который представил вице-губернатору Гватемалы Алонсо де Мальдонадо. Этот договор от имени Мальдонадо гласил следующее:
«Настоящим заявляю и обещаю вам и даю слово от имени короля и власти, коей я облечен, и уверяю вас и ваших монахов, а именно — Бартоломе де Лас-Касаса, Родриго де Ладрада, Педро де Ангуло и Луиса Кансера, что принимаю ваши старания и заботы об индейцах, живущих в границах моего управления, чтобы эти индейцы мирно жили и признали короля своим сеньором и чтобы платили ему умеренные подати, в соответствии с их возможностями, золотом ли, землей ли, маисом, или хлопком, или другими продуктами, что у них есть и что они привыкли производить. От своего имени, облеченного королевской властью, я назначаю вас обеспечить, чтобы эти индейцы служили как королевские вассалы и чтобы никому их не отдавали в энкомьенды. И также приказываю, чтобы никакие другие испанцы не беспокоили их и не ходили к ним на их земли, под страхом наказания в течение пяти лет, и не мешали вашим проповедям и обращению их в христианскую веру. В ином случае я лично приду к вам на помощь и буду помогать вам, чем смогу, чтобы ваши дела дали плоды…»
Это необычайное соглашение подписали Мальдонадо и Лас-Касас. Теперь надо было начинать действовать.
Нашли четырех индейцев из города Сант-Яго, которые несколько раз в году бывали в Тузулутлане по торговым делам. Этих индейцев и решено было сделать своими посланцами.
— Каков же ваш дальнейший план, Бартоломе? — спросил Маррокин.
— Этот жадный толстяк Веласкес, да простит господь его многогрешную душу, очень любил музыку. Пожалуй, это было его единственной добродетелью! — ответил Бартоломе.
Епископ и монахи удивленно посмотрели на него. Ладрада рассмеялся:
— Убей меня бог, если я понимаю, почему вы помянули покойного губернатора Кубы!
— Я продолжаю: Веласкес так любил музыку, что создал канторию при церкви города Вальядолида на Кубе. В эту певческую школу принимали всех, имевших склонность к хоровому пению, даже индейцев. А индейцы очень музыкальны…
— Я догадался! — воскликнул Луис. — Вы хотите научить наших послов каким-нибудь песням?
— Браво, мой мальчик! Вы угадали. Но не каким-нибудь…
И Бартоломе предложил в доступных и живых стихах рассказать об основах священной истории, а потом переложить на музыку. Научить этим песням индейцев — и тогда послать их в горы.
— Блестящая идея, — сказал Маррокин. — И песни надо петь под аккомпанемент индейских инструментов, это сделает их более понятными и доступными.
Стихи были написаны на манер песен трубадуров. И начались уроки, которые продолжались почти три месяца. Когда Бартоломе убедился, что стихи выучены, их переложили на музыку. Индейцы принесли инструменты. Большой барабан из полого дерева издавал низкий унылый звук, когда по нему били длинной палкой с набалдашником из застывшей смолы. Пронзительно, но весело пели тонкие трубы, тоже из полого дерева, с раскрашенными тыквами на концах. Красивее и нежнее всего звучали певучие флейты из тростника, свистки из больших раковин и дудки из дерева ците.
Наверное, никогда и нигде в мире не было столь удивительных песен: священные тексты в форме кастильской любовной лирики под индейскую музыку!
Индейцам-торговцам дали множество подарков: ножей, ножниц, зеркал, тканей. И посланцы, нагруженные товарами, вооруженные песнями, отправились в далекий путь.
Когда индейцы-торговцы прибыли в Атитлан, их хорошо приняли там, так как знали по прежним встречам. Разложив свои товары на большой площади селения, пришельцы из долины стали торговать испанскими изделиями. Вокруг собрался народ, с интересом и любопытством разглядывая новые для них безделушки: ножи, зеркала, колокольчики. Затем торговцы попросили дать им музыкальные инструменты — барабан, трубы, флейты — и стали петь. Песни, с их удивительными словами и мелодичной музыкой, произвели на слушателей огромное впечатление. Их просили повторить, и певцы без устали выполняли желания слушателей.
Касику рассказали о необыкновенных «посланцах новых богов», как прозвали торговцев жители Атитлана. Касик пожелал послушать их.
— Откуда вы узнали эти прекрасные песни? — спросил удивленный касик.
— Мы поем то, что слышали от святых отцов.
— Святых отцов? А кто они, эти отцы?
— Они ходят в черно-белой одежде, не похожей на одежду других испанцев, хотя сами тоже говорят на испанском языке.
— Не говори мне об испанцах, болтун! — остановил рассказчика касик. — Если они таковы же, как и все христиане, я не желаю о них слушать!
— О нет, — ответил индеец из долины, — эти испанцы словно из другого мира. Они живут в скромных хижинах, в которых нет ни золота, ни серебра. Они не хотят ни драгоценных перьев, ни зерен какао. У них нет в доме женщин, и они сами готовят себе пищу. А едят они очень мало, как индейцы, — лишь коренья, овощи и лепешки из маиса и иногда — рыбу. Они не пьют вина. Они сами обрабатывают свое поле и возделывают сад. Они учат наших детей своему языку и другим наукам.
— Что ты рассказываешь мне! — удивился касик. — А как же они учат наших детей, не зная языка?
— Они изучили наш язык, — торжественно заявил индеец, — для того, чтобы говорить со мной, с тобой и с другими! Они создали эти прекрасные песни и музыку для них!
— Я хочу послушать эти песни и узнать подробно, о чем в них говорится!
— Мы не можем тебе объяснить всего, вождь. Пошли за святыми отцами, они с радостью придут и будут учить тебя и твоих детей.
Касик недоверчиво усмехнулся:
— Как, ты предлагаешь открыть дорогу испанцам в Атитлан? Нет! Я не верю им… даже святым отцам, о которых вы рассказываете столь необыкновенные вещи.
— Пусть кто-нибудь из вас сам спустится с гор и убедится в этом, — осторожно предложил посол.
— Пошли меня, вождь! — с загоревшимися глазами воскликнул брат касика. — Я хочу посмотреть на этих людей в черно-белых одеждах, которые прислали такие удивительные вещи и такие красивые песни. Я не боюсь испанцев!
— О брат мой, — покачал головой касик, — ты еще молод и горяч!
— Ты обезумел, вождь, если согласишься послать своего глупого брата в долину, к проклятым христианам! — со злобой сказал один из жрецов.
Касик нахмурился. Он не любил, чтобы жрецы вмешивались в его дела:
— Безумен тот, кто уходит от познания нового, а не тот, кто стремится узнать. Ты поедешь, брат мой, в долину. Ты сам хорошо все посмотришь и потом расскажешь нам. Только помни, что законы вежливости не разрешают проявлять слишком большого любопытства. И помни, что ты — мой брат, брат могущественного вождя Атитлана!
Так случилось, что молодой индеец из Тузулутлана, брат касика, пошел вместе с торговцами в долину, в город испанцев, называемый ими Сант-Яго…
Молодого индейца приняли в монастыре с большими почестями и очень радушно. Гость, помня наказ брата, внимательно наблюдал за жизнью святых отцов. Действительно, торговцы сказали истинную правду: в монастыре не было ни одной женщины, монахи не имели ни золота, ни серебра. Ели они на глиняной посуде, и самую простую пищу. Потом ему показали город, улицы с большими домами, лошадей, лавки, полные самых различных товаров. Он получил множество подарков от своих гостеприимных хозяев. Особенно подружился молодой вождь с Луисом Кансером, который был ближе всех ему по возрасту.
— Пусть Луис едет со мной, — попросил брат касика, когда настало время отъезда. — Он лучше всех говорит на нашем языке, — добавил прямодушный юноша, — а к тому же… он красивее всех!
— Устами невинных глаголет истина, — улыбнулся Бартоломе. — Хорошо, сын мой, я согласен. Пусть с тобой отправится Луис, потом и мы приедем в гости к твоему брату.
И Луис Кансер в сопровождении молодого индейца, нагруженный подарками для касика, отправился в начале сентября 1537 года в «страну войны».
В горах Тузулутлана
Гора так мудро сложена,
Что поначалу подыматься трудно;
Чем дальше вверх, тем мягче крутизна…
Гора так мудро сложена,
Что поначалу подыматься трудно;
Чем дальше вверх, тем мягче крутизна…

С нетерпением ждал Бартоломе возвращения Луиса из Тузулутлана. Трагедия в Кумане не была им забыта. Гибель Рентерии до сих пор терзала его сердце. А вдруг с Луисом что-нибудь случилось? Он молчал, но Родриго видел беспокойство Бартоломе, слышал по ночам, как тот ворочался на своей узкой, жесткой постели, вздыхал…
С дружеской грубоватостью Родриго говорил:
— Можно подумать, что вы отпустили в горы неопытную девушку, а не полного сил, молодого, закаленного в Индии миссионера, каков наш Луис Кансер. Ну что терзаться без смысла?
— Не упрекайте меня, Родриго, — сказал Бартоломе, — я ведь не жалуюсь. Я молчу.
— Молчите, как же! Точно я не слышу, как вы не спите по ночам, вздыхаете так, словно у вас душа разрывается на части. У меня у самого начинает болеть душа за вас. И есть вы стали хуже, Бартоломе, разве я не вижу! А еще хотите идти после возвращения Луиса в Тузулутлан. Да вы свалитесь по дороге от слабости!
— Хорошо, хорошо, — уже с нетерпением отвечал на упреки друга Бартоломе. — Вы ворчите, как старая женщина, Родриго, — и менял тему разговора, хотя понимал, что Родриго не так уж неправ.
Но наконец в октябре Луис вернулся. Миссия его оказалась удачной. Со свойственным молодости пылом Луис рассказывал о своих успехах:
— Вы даже не представляете, каков этот касик! Он умен и воспитан, как истый идальго! Многие кастильцы могут поучиться у него, как вести себя. Встретил меня он поистине с королевскими почестями, но с каким достоинством! После моей первой проповеди он приказал выстроить храм. Он низверг и повелел сжечь всех старых идолов.
— А как же отнеслись к этому его подданные и жрецы?
— Подданные пошли по его пути, но жрецы… Клянусь вам, что более отвратительных личностей я не видывал! Как вы знаете, индейцы очень чистоплотны, а эти жрецы — они никогда не моются! У них грязная одежда, вся в крови и пятнах от приносимых жертв. У них нечесаные, свалявшиеся волосы. А запах… Брр! Даже вспомнить противно.
— Немудрено, что касику понравилась ваша чистая одежда, — резонно заметил Педро Ангуло.
— И вполне благообразный вид, — добавил не без ехидства Родриго, потому что Луис был красив и весьма следил за своей внешностью.
Луис покраснел, но Бартоломе сказал:
— У человека должна быть прекрасной не только душа, Родриго! И то, что Луис так выгодно отличался от этих безобразных жрецов, без сомнения, пошло на пользу нашему делу. Продолжайте, Луис, не обращайте внимания на старого ворчуна Родриго. Он просто завидует вашей молодости и красоте!
— Ну, тогда мне не бывать в Тузулутлане, — не унимался Родриго. — Слава богу, на меня не падет выбор ехать туда! С моей рябой физиономией и кривым носом лучше им не показываться, а то еще примут меня за жреца войны!
— Не только поэтому, Родриго, — заметил Бартоломе. — Вспомните, как вы говорите на языке киче. Вряд ли вас поймут там…
Теперь пришла очередь Родриго смутиться. Действительно, он менее всех преуспел в изучении языка.
— Но продолжайте, Луис, — сказал Бартоломе. — Как встретил касик наше послание?
— Письмо губернатора произвело на касика небывалое впечатление. Он заставлял меня читать его много раз. А восторженные рассказы его брата и преданных нам торговцев, «посланцев мира», как их прозвали, еще более убедили вождя в том, что мы друзья, а не враги. Он первый принял христианскую веру, а за ним и другие подданные. Я крестил по десятку человек в день в нашем новом храме!
— Важно не это, — сказал Бартоломе, — а важно, что касик поверил нам, поверил, что не все испанцы злы и жестоки. В этом победа вашей миссии, Луис! Теперь я иду вместе с вами. Надо укрепить достигнутую победу, надо распространить ее и на другие провинции.
…Ранним утром Бартоломе будил своих товарищей по походу стихами Данте:
Теперь ты леность должен отмести,
Сказал учитель: лежа под периной,
Да сидя в мягком, славы не найти.
— Да, — ответил Родриго, ворочаясь на своей жесткой постели, — если вы называете то, на чем я лежу, «периной», я готов отказаться от славы.
— Но тогда, — улыбнулся Бартоломе, — Данте утверждает, что
Кто без нее готов быть взят кончиной,
Такой же в мире оставляет след,
Как в ветре дым и пена над пучиной!
В келью заглянул Луис.
— Кто здесь вспоминает Данте? — И продолжал, обращаясь к Родриго:
Встань! Победи томленье, нет побед,
Запретных духу, если он не вянет,
Как эта плоть, которой он одет!
— Слава святому Себастьяну, — зевнув, ответил Родриго, — моя плоть остается дома… ей не предстоит, как вам, карабкаться по кручам Тузулутлана.
— Не рассчитывайте, Родриго, — сказал Бартоломе на прощанье, — что вам не придется потом побывать там.
— Я хорошо знаю вашу неугомонность, Бартоломе, — отвечал Родриго. — Разве вы оставите бедного старого Ладраду в покое. Придется подзубрить язык киче, чтобы меня хоть немного понимали индейцы. И тогда я готов лезть за вами на любую гору!
Природа северного нагорья Гватемалы сильно отличалась от ее побережья. По нижним склонам гор росли влажные тропические леса. Много дней тянулись лесные дебри, с непроницаемым для солнца сводом.
Высокие деревья с большими ребристыми листьями были опутаны лианами, петли которых имели самые причудливые формы. Огромные папоротники с толстыми стволами преграждали путь. Воздух был насыщен тяжелыми испарениями гниющих растений, ароматом неведомых цветов. Пронзительно кричали золотисто-зеленые попугаи. Любопытные, но трусливые черные цепкохвостые обезьяны прятались в ветвях деревьев при виде людей. На открытых местах летали огромные, похожие на птиц, пестрые бабочки и крошечные, сверкающие яркими перьями птички, величиной не более мухи.
— Посмотри, отец, — сказал индеец, — вот наша священная птица — кетсаль. Ее нельзя убивать. В неволе кетсаль умирает от тоски по свободе. Но тише, он может улететь…
С восхищением смотрели испанцы на эту великолепную птицу. Кетсаль был невелик, не больше голубя; спинка и крылья у него изумрудно-зеленого цвета с голубоватым отливом, грудка пурпурная, а лапки и клюв — желтые; на голове — высокий пушистый хохолок. Но самое замечательное у кетсаля — необыкновенно длинный, золотисто-зеленый хвост.
— Перья из хвоста кетсаля, — сказал проводник, — служат украшением для наших вождей и жрецов. Простые люди не могут носить перья кетсаля.
— Это действительно прекрасная и царственная птица, — согласился Бартоломе, — и, право, жаль ее истреблять на украшения, даже для вождей.
После короткого отдыха путники двинулись вперед. Дорога стала подниматься вверх. Лес заметно поредел, и вскоре они вышли на невысокий холм, поросший редкими дубами и соснами. Солнце скрылось за низкими серыми тучами. Холодный ветер дул в лицо, засыпая глаза мелким песком.
К вечеру отряд подошел к пещере, расположенной под нависшей скалой. Решено было остановиться здесь на ночь; развели костер.
— Не удивительно, что испанцы не могли одолеть этих круч, — сказал Педро Ангуло. — Здесь, так же как и в горах Кубы, сама природа охраняет индейцев от завоевателей.
— Однако Куба покорена, и один из самых отважных сынов ее, мой друг и брат Гуама, погиб! Много лет вел Гуама неравную, но мужественную борьбу против завоевателей, но все-таки погиб… — И голос Бартоломе дрогнул от подступивших слез.
— Не надо, дорогой друг, — сказал Ангуло. — Вспомните, вы всегда говорите нам: ничто не уходит бесследно из нашего бытия. И память о вашем брате, его отважные и благородные деяния принесут свои плоды.
— Память о Гуаме, — продолжал Бартоломе, — это светильник, который никогда и ничто не сможет погасить. И пусть нас в нашем трудном деле вдохновляет имя его, имя самого верного и благородного сына Индии!
Закончив скромный ужин из маисовых лепешек и сушеной рыбы, все легли спать.
Луна, временами выплывая из-за туч, освещала ущелье. Черные тени залегли в трещинах скал. Костер догорел. Красные угли покрылись пеплом и почти угасли. В пещере стало темно, только в узком просвете входа было видно, как высоко в небе мерцали две яркие звезды.
— Почему вы не спите, Бартоломе? — спросил лежавший рядом Ангуло.
— Тревога о будущем одолевает меня. Даже если наша миссия в Тузулутлан окажется удачной, а я не сомневаюсь в этом, то сколько еще трудностей на пути! Скажу только вам, Педро, и меня терзают сомнения. Не лучше ли мне было остаться тогда в горах Баракоа вместе с Алонсо? Быть может, это спасло бы ему жизнь?
— Я не узнаю вас, Бартоломе; где ваша стойкость и уверенность? Вы просто устали и замерзли в этой пещере. Сейчас я подброшу в наш костер веток!
Отсыревшие за ночь ветки трещали и плохо горели. Дым расстилался над головами спящих и медленно выплывал наружу.
Остальные стали просыпаться. Ветер за ночь утих. Небо было ясным. На востоке показалась золотисто-розовая полоса зари.
— День будет хорош! — сказал Бартоломе. — Природа этих мест удивительно напоминает мне родные ущелья Сьерры-Морены. Не так ли, Педро? Ведь вы тоже из Старой Кастилии?
— Да, — ответил Ангуло. — Чем выше мы поднимаемся, тем больше общего у этих гор с нашими.
— Вперед, друзья, — сказал Бартоломе, — и пусть каждый из нас вспомнит сейчас стихи великого Данте, они облегчат нам путь:
…Гора так мудро сложена,
Что поначалу подыматься трудно;
Чем дальше верх, тем мягче крутизна;
Поэтому, когда легко и чудно
Твои шаги начнут тебя нести,
Как по теченью нас уносит судно,
Тогда ты будешь у конца пути.
Там схлынут и усталость, и забота…
Дон Хуан де Атитлан
Добродетель и благородство проявляются в поступках и не нуждаются ни в обилии слов, ни в обилии знаний.
Добродетель и благородство проявляются в поступках и не нуждаются ни в обилии слов, ни в обилии знаний.

Наконец Бартоломе и его спутники прибыли в селение касика дона Хуана, как он теперь называл себя. Встреча была необычайно радушной. Касика поразило прибытие самого Бартоломе. Индейцы очень уважают старость, но старость в соединении с отвагой и мудростью покорили сердце касика. Многие часы проводил он в беседах с Бартоломе, удивляя его тонкостью своих суждений, благородством обращения и жаждой познания.
Однажды Бартоломе сказал дону Хуану:
— Сын мой, вы позволите мне вас так называть, ибо по годам вы годитесь мне в сыновья, я хочу предложить вам один план.
— Слушаю вас, отец, — ответил касик. — Я с радостью приму ваши советы, так как вижу вашу мудрость и доброту.
— Дон Хуан, надо индейцам объединиться и жить в пуэбло. Вы разбросаны в горах, бедны. У вас нет достаточно воды, нет школ для детей, нет госпиталей для больных. В большом пуэбло все это сделать гораздо легче. Надо объединиться и жить селениями не в пять — шесть домов, как живут индейцы сейчас, а большими богатыми городами, как живут испанцы.
Касик слушал внимательно, но молчал.
— И теперь, — продолжал Бартоломе, — когда миновала опасность вторжения испанцев, а я ручаюсь, что это так, и даже более: я собираюсь потом поехать в Кастилию к королю и просить его утвердить наше мирное соглашение с вами, чтобы пресечь все возможные попытки нападения, — теперь, мне кажется, вам нужно, как мудрому вождю и правителю, подумать о будущем своего народа, о его благополучии. Я не требую ответа сейчас, я понимаю, что вам надо подумать и обсудить. Но я хочу пригласить вас посетить город Сант-Яго и посмотреть, как живем мы, испанцы.
— Я согласен поехать в Сант-Яго, я сам хотел просить вас об этом. Но покинуть горы… пойти жить всем вместе! Знаете ли вы, что мои соседи, жители Кобана, очень воинственны и не верят испанцам? С ними вам трудно будет сговориться, даже если я и соглашусь.
— Я пошлю в Кобан Педро и Луиса.
— Но только с охраной, отец, — обеспокоенно возразил касик. — Я дам им охрану в пятьдесят человек!
— Ну, зачем же так много, — улыбнулся Бартоломе. — Они храбрые люди и не испугаются воинственных жителей Кобана.
Касик непременно хотел, когда уехали монахи, переселить Бартоломе в свой дом: он боялся оставить его одного в хижине.
— Нет, нет, сын мой, — возражал Бартоломе. — Мне очень спокойно и хорошо в моем доме. Я не хочу обременять вас и вашу семью. Не бойтесь за меня. Я привык быть один.
Ночью Бартоломе был разбужен каким-то шумом и криками. Он быстро оделся и вышел из хижины.
Темное ночное небо было багровым. Черные клубы дыма развевались по ветру… Пожар!
В темноте, освещаемой лишь пламенем пожара, Бартоломе пробирался к площади, куда уже сбегались жители селения. Горел храм, гордость Луиса, первый храм, построенный на «земле войны»!
Вдруг Бартоломе толкнули в спину. Он быстро обернулся и увидел какую-то темную фигуру.
— Получай, проклятый испанец! — и удар чем-то тяжелым по голове свалил Бартоломе на землю. Кровь залила лицо, и он потерял сознание. Очнулся он от страшного крика:
— Пусти меня, я прокляну тебя и твоих детей! Не убивай меня! А-а-а…
Крик захлебнулся и затих. Бартоломе почувствовал, что его бережно поднимают и несут. Он снова потерял сознание.
— Теперь ваша жизнь в безопасности! — услышал он встревоженный голос касика. — Но смерть могла похитить вас. А все потому, что вы не поверили мне и остались в хижине!
Бартоломе потрогал свою перевязанную голову. Сильная боль в левом виске заставила его застонать.
— Осторожно, отец, — воскликнул касик. — Этот черный злодей хотел убить вас! Теперь он отправлен в ад!
— Но кто он, этот человек, который хотел убить меня? — спросил Бартоломе.
— Не называй грязного червя человеком, — сурово ответил индеец. — Он — позор для нашего народа, если мог поднять руку на тебя, доброго и мудрого, как сам бог! Это сын мрака, ядовитая змея, жрец войны Шикицаль. И я отправил его в царство мрака.
— А храм?
— Храм сгорел, но я клянусь тебе, отец, что мы выстроим еще лучше, в том большом пуэбло, о котором ты говорил мне. Я согласен с тобой. Когда твоя рана заживет, мы начнем переселение в место, называемое Робиналь. Это плодородная долина, омываемая реками Мотагуа и Чишой. Ты рад этому?
Бартоломе улыбнулся:
— Твое решение — лучшее лекарство для меня!
И вскоре, несмотря на сопротивление некоторых индейцев, пуэбло Робиналь стал расти. Сначала в нем было едва ли несколько десятков домов, в которых жили около ста семей. Построили храм, школу, госпиталь. К возвращению Педро и Луиса из Кобана в Робинале было уже пятьсот жителей.
Дон Хуан готовился к поездке в Сант-Яго с большой торжественностью. Он хотел взять с собой для внушительности около ста воинов, но Бартоломе осторожно отговорил его от этого: слишком большая свита касика могла произвести невыгодное впечатление на губернатора Сант-Яго и на колонистов.
Епископ Франсиско Маррокин вышел навстречу гостям к городским воротам и сказал касику на языке киче: «Добро пожаловать!», на что касик ответил по-испански учтивой фразой благодарности. Этим словам научил его Бартоломе: касик хотел приветствовать испанцев на их языке, проявив этим изысканную вежливость. Дальнейшая беседа между епископом и доном Хуаном велась на языке киче. Епископ потом говорил Бартоломе, что его поразили ум и развитие индейца, его зрелые суждения.
Когда касик, епископ и свита проходили мимо кабильдо, оттуда вышел губернатор — аделантадо — Педро де Альварадо. Надо сказать, что судьба одарила этого жестокого и порочного человека чрезвычайно приятной внешностью. Его уста не покидала приветливая улыбка.
Альварадо был далеко не глуп и сразу оценил смелость касика дона Хуана. Широким жестом истого кастильца Альварадо приветствовал гостя и, сняв свою великолепную, украшенную плюмажем шляпу, надел ее на голову касика. Это было высокой честью, и среди присутствующих испанцев раздался ропот: «Как, аделантадо надел свою шляпу, пожалованную ему королем, на собаку-индейца?»
Но Альварадо был не из тех людей, которые обращают внимание на недовольство подчиненных. Смерив разгневанным взором своих офицеров, он встал около касика и повел его по городу. Это было удивительное шествие: посередине шел касик, а по бокам его — епископ и аделантадо! Торговцам города, было приказано разложить на прилавки самые лучшие товары. В том случае, если бы высокому гостю что-либо понравилось, было приказано отдать беспрекословно.
Но каково было удивление епископа, аделантадо и всех испанцев, сопровождавших касика, когда тот с безразличием и даже некоторым пренебрежением смотрел на все вещи, словно они были для него не новы.
— Можно подумать, что этот индеец родился в Бургосе! — с изумлением проговорил алькальд города.
— А на лавки он смотрит так, точно побывал не раз в Милане! — подхватил один из офицеров.
— Посмотрите, дон Хуан, — сказал аделантадо касику, — как вам понравится этот бархатный камзол? Не хотели бы вы его получить?
— Благодарю вас, сеньор, — ответил через переводчика — епископа — касик, — но мне более подходит мой плащ.
— А не хочет ли дон Хуан получить эту перевязь для шпаги? — предложил алькальд.
— Благодарю и вас, сеньор, — так же твердо отвечал касик, — но у меня уже есть перевязь, подаренная доном Бартоломе.
— А может быть, вы хотите взять эту шелковую ткань для вашей жены? — предложил снова Альварадо, который недавно женился и знал толк в женских нарядах.
— О нет! — улыбнулся касик. — Для моей жены эта материя слишком легка. У нас в горах холоднее, чем у вас в долине.
Касику торжественно и официально было присвоено имя дона Хуана де Атитлана. При отъезде ему были преподнесены богатые подарки: кастильская материя, шпага, посуда и янтарные четки для жены. Дон Хуан с достоинством принял подарки. Вместе со своей свитой, Бартоломе, Луисом и Родриго касик вернулся в Тузулутлан.
«К доблести и к знанью рождены…»
И я в морской отважился простор,
На малом судне выйдя одиноко…
И я в морской отважился простор,
На малом судне выйдя одиноко…

В мае 1538 года Бартоломе и Родриго были вызваны из Робиналя епископом Маррокином.
— Простите, Бартоломе, что я оторвал вас от любимого дела, — сказал ему епископ. — Но важные обстоятельства требуют снова вашей поездки в Кастилию!
— Вам не жаль моих старых костей, Франсиско. Морская качка и пятьдесят дней в душной каюте не очень полезны для человека таких лет!
— Не сетуйте на возраст, мой друг: вы в шестьдесят четыре года можете поспорить с любым молодым человеком! В Совете по делам Индий будут обсуждаться вопросы отмены рабства и обращения индейцев в христианскую веру. Вы знаете, что есть оппозиция по отношению к вашему трактату, к папской булле… Никто лучше вас не разобьет противников.
— А есть деньги на плавание? — спросил практичный Ладрада. — Ведь это стоит довольно дорого, а у нас, как всегда, с деньгами туго…
— Да, да, — удрученно ответил епископ. — Вы правы, Родриго. Наш епископат — самый бедный во всей Индии…
— Самый порядочный и честный, епископ, — перебил его Родриго, — ибо вы не наживаетесь за счет прихожан, не грабите индейцев, как епископ Никарагуа и многие другие духовные лица, которые ведут себя не лучше таких заядлых мерзавцев и разбойников, вроде Кортеса, Писарро, Альварадо и прочих генерал-капитанов!
— Они все следуют примеру своего предка — великого полководца Гонсало Кордовы, — насмешливо сказал Маррокин, — живут по его знаменитому счету.
— А что это за счет? — удивился Родриго.
— Как, вы не слышали об этом? Рассказать ему, Бартоломе?
Бартоломе улыбнулся и кивнул головой.
— Я думал, что нет кастильца, который не знал бы о счете Гонсало. Вы, конечно, помните, что подвиги великого полководца принесли много побед и в Африке, и в Италии, и в самой Испании! Но говорят, что при всех своих блистательных военных качествах особой честностью в денежных делах великий Гонсало не отличался. Однажды, еще при жизни старого короля, королевский казначей обнаружил, что Гонсало задолжал короне огромные суммы. Сам король Фернандо напомнил ему об этом долге. Гнев полководца не поддается описанию! Он решил проучить короля и казначея и представил встречный иск в ответ на иск казначея в тридцать три миллиона золотых кастельяно. Гонсало явился в королевский совет с громадным списком и прочел свой счет: «Двести тысяч семьсот тридцать шесть золотых и девять реалов роздано монахам, монахиням и нищим, чтобы те просили у бога послать победу испанской армии. Сто миллионов пошло на порох, ядра и траншейные лопаты. Десять тысяч золотых истрачено на раздушенные амброй перчатки, чтобы предохранить воинов от заразы множества гниющих неприятельских трупов, павших на поле битвы. Сто шестьдесят тысяч ушло на поправку и переделку колоколов, потрескавшихся от постоянного звона по случаю моих беспрестанных побед. Миллион — на благодарственные мессы. Пятьдесят тысяч золотых потрачено на вино солдатам перед сражениями. Полтора миллиона уплачено сторожам пленных и врачам, лечившим раненых. Семьсот тысяч четыреста девяносто четыре пошло на шпионов, и так далее…» В конце Гонсало прочел: «Сто миллионов следует мне за то терпение, с которым я вчера слушал короля, когда он требовал отчета в суммах, издержанных тем, кто подарил ему целое царство…»

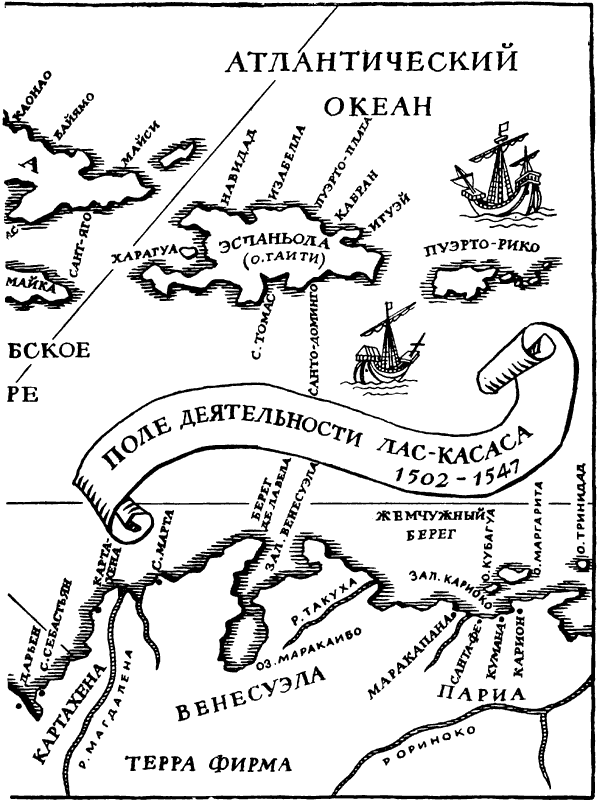
Карта поля деятельности Бартоломе де Лас-Касаса.
— Чем же кончилось дело? — спросил, смеясь, Родриго.
— Трудно сказать; но, зная скупость и жадность короля и смелую наглость Гонсало, очевидно, в этом «поединке» каждый остался при своем!
— А счет Гонсало вошел в скандальную хронику кастильского двора, — добавил Бартоломе.
— В нашей казне нет приятного звона золотых кастельяно, — вздохнул Родриго, — а только робкий лепет медных мараведи!
— Я собрал немного денег, — продолжал Маррокин, — но только на путь в Кастилию. На обратную дорогу вас снабдит деньгами мой агент в Севилье, который работает в Торговой палате.
— Ну, что же, Родриго, — сказал Бартоломе. — Надо ехать! Только я должен проститься с касиком Хуаном. Он привязан ко мне как сын, и я не могу огорчить его, уехав, не повидавшись с ним.
Прощание с доном Хуаном было очень печальным. Он был убит тем, что уезжает, и так надолго, его друг, отец и советчик. Напрасно Бартоломе утешал его, говорил, что остаются в Робинале Педро Ангуло и Луис Кансер. Касик был безутешен. Кроме того, он боялся соседних племен, которые были против его переселения в Робиналь.
— Я скоро вернусь, сын мой, — говорил ему Бартоломе перед отъездом. — Неужели ты можешь думать, что я останусь в Кастилии, покинув своих детей? Я вернусь и привезу тебе нечто очень ценное…
— Мне не нужны никакие ценности, отец! — воскликнул касик. — Ты сам учил меня, что беден не тот, у кого мало, а тот, кто желает большего! И мне ничего не нужно.
— Я говорю о ценном подарке в другом смысле, — улыбнулся Бартоломе. — Я привезу тебе наш договор, подписанный самим королем. Ибо только тогда я могу спокойно умереть, зная, что вы все, мои дети, в безопасности.
…В конце 1538 года снова плыл Бартоломе в Кастилию. И хотя Маррокин уверял его, что он еще далеко не стар, на этот раз плавание показалось Бартоломе очень тяжелым.
Тесная, душная каютка… За тонкой деревянной переборкой кипят воды Атлантического океана. На палубу выйти нельзя, — смоет бешеной волной. Часами лежит в полной тьме на узкой койке Бартоломе, и только богатство памяти не дает ему тосковать в этом почти тюремном одиночестве.
Он вспоминает Данте, которого особенно полюбил после поездки во Флоренцию. Под неумолчный гул бури ему приходят на ум стихи из «Божественной комедии» — слова Улисса — первого смелого путешественника:
Ни нежность к сыну, ни перед отцом
Священный страх, ни долг любви спокойный
Близ Пенелопы с радостным челом
Не возмогли мой голод знойный
Изведать мира дальний кругозор
И все, чем люди дурны и достойны.
И я в морской отважился простор,
На малом судне выйдя одиноко,
С моей дружиной, верной с давних пор.
Я видел оба берега Морокко,
Испанию, край сардов, рубежи
Всех островов, раскиданных широко…
Бартоломе снова остро почувствовал связь времен. Всегда, во все века, горело в людях стремление постигать новое… Искать и находить, пусть даже ценой жизни:
«О братья, — так сказал я, — на закат
Пришедшие дорогой многотрудной!
Тот малый срок, пока еще не спят
Земные чувства, их остаток скудный
Отдайте постиженью новизны,
Чтоб, солнцу вслед, увидеть мир безлюдный!
Подумайте о том, чьи вы сыны:
Вы созданы не для животной доли,
Но к доблести и к знанью рождены».
Каравелла то взлетала, как птица, вверх, то проваливалась в кипящую бездну. К рассвету буря затихла. Бартоломе задремал; сны его были наполнены образами дерзких и отважных мореходов — от Улисса до Кристобаля Колона.
Измученный трудным плаванием, Бартоломе вынужден был некоторое время провести у родных в Севилье, прежде чем отправиться ко двору в Вальядолид. На третий день приезда слуга принес Бартоломе письмо от Эрнандо Колона. Он писал, что болен, и просил навестить его по делу чрезвычайной важности.
Бартоломе не смог удержать возгласа горестного изумления, когда увидел Эрнандо.
— Болезнь гложет меня, как голодный зверь, — невесело пошутил Эрнандо. — Единственное утешение — недолго страдать. Врачи не скрывают, что у меня поражены оба легких. Но я не для жалоб призвал вас, дорогой друг…
И Эрнандо рассказал Бартоломе, что он не потерял даром этих долгих лет. Он упорно трудился.
— И вот моя рукопись, — сказал Эрнандо, доставая из шкафа толстую тетрадь. — Здесь история жизни моего отца, написанная мною, его дневники, письма.
— Вы проделали огромную работу, Эрнандо! Ее оценят по достоинству.
— Мой отец, — продолжал Эрнандо, — добился высокого положения только своими трудами и гением морехода. Я не скрыл того, что дед мой — Доменико Колон — был простым генуэзским ткачом. И мне гораздо приятнее думать, что все почести перешли к нам как личное достояние отца, чем заниматься расследованием, был ли мой отец простым купцом или человеком благородного звания, которое давало ему возможность иметь соколов и гончих.
— Кровь всегда одного цвета, — ответил Бартоломе. — Я помню слова моего старого учителя: «Благородный человек не рождается с великой душой, но сам себя делает великим своими делами». Жизнь дона Кристобаля — лучшее подтверждение этому.
— Я неустанно продолжал дело отца. Он был искусным картографом и всегда твердил, сколь важны карты в мореплавании. И вот двенадцать лет назад, в 1526 году, здесь, в моем доме, по приказу короля было проведено собрание лоцманов и ученых географов Испании. Я созвал их для проверки и сопоставления географических данных всех новых открытий. В итоге этого совещания королевский лоцман Диего Рибера и я составили две большие карты.
— И это — лучший памятник Адмиралу!
— Но я хочу просить вас, дон Бартоломе, когда я умру, взять к себе дневники отца и сделать то, чего я не успею…
— Я выполню все, о чем вы просите, дорогой Эрнандо. И хотя рука вашего отца, водрузившая знамя Испании на берегах Нового Света, принесла этим землям неисчислимые бедствия, рожденные алчностью и жестокостью завоевателей, величие сделанных открытий будет служить залогом того, что потомки простят Кристобалю Колону его невольные ошибки!
Новые законы
…Можно сказать, что правительство есть говорящий закон, а закон — немое правительство.
…Можно сказать, что правительство есть говорящий закон, а закон — немое правительство.

Победа в Тузулутлане была настолько очевидной, что авторитет Бартоломе де Лас-Касаса теперь уже не вызывал сомнений ни у короля, ни в Совете по делам Индий. Воспользовавшись этим, Лас-Касас утвердил не только договор с доном Хуаном, касиком Атитлана, но и с касиками других провинций Гватемалы. Tierra de guerra стали отныне называть Верапас — «земля мира».
Бартоломе, хорошо зная характер провинциальных губернаторов в Индии, которые, хотя и целовали со всей почтительностью руку короля и его приказы, но не всегда их выполняли, решил обнародовать договор короля с индейскими касиками Гватемалы.
И вот 21 января 1540 года в Севилье, со ступеней кафедрального собора был публично прочитан королевский указ, запрещающий всем испанцам вступать на земли Тузулутлана.
Кроме того, от имени короля всем касикам мирных провинций была написана благодарность и отправлена в Аудиенсию Мексики. Подписали этот документ кардинал Гарсия де Лоайса, новый президент Совета по делам Индий, и секретарь де Лос-Кобос.
Бартоломе узнал, что его старый недруг, епископ Бургоса, де Фонсека, умер несколько лет тому назад.
— Ну что же, — говорил Бартоломе, — надеюсь, что его преосвященство, находясь, без сомнения, в аду, имеет теперь достаточно досуга, чтобы поразмыслить о своих грехах в Индии. При жизни у него на это никогда не хватало времени!
Кардинал Лоайса ценил Лас-Касаса и поэтому привлек его к составлению «Новых законов». Стало уже очевидным, что старые Бургосские законы, которые определяли всю испанскую политику в Индии, потерпели крах. Доходы короны падали, богатые земли Нового Света разорялись, индейцы вымирали. Обогащались в колониях лишь те, кто имел там неограниченную власть, — завоеватели-колонисты. Они не желали подчиняться ни богу, ни дьяволу, ни королю! Как говорил Лас-Касас: «Там царил беспорядок, какой мог установить лишь Люцифер!»
Лас-Касас, по поручению президента Совета по делам Индий кардинала Лоайсы, составил мемориал: «Способы приостановить уничтожение жителей Западных Индий. Гибельное действие рабства».
В этом замечательном документе со всей присущей ему смелостью и страстностью Лас-Касас яркими красками описал существующее положение в Индии.
«Я заявляю перед богом, перед всеми людьми, которые живы в то время, когда я пишу, или будут жить после моей уже недалекой смерти, — писал Лас-Касас, — что ни один мотив личной заинтересованности не диктовал мне изложенные мною 20 пунктов и что они не имеют никакой другой цели, как спасение души короля и душ как испанцев, так и индейцев. Это потому, что я узнал и получил этому доказательства, что в течение 45 последних лет плохое управление, жестокости и тирания испанцев, которые они проявили и проявляют и ныне в Новом Свете от имени короля Испании и, опираясь на его власть, заставили умереть более 15 миллионов индейцев. Равным образом я заявляю, что я писал ни для чего другого, как для того, чтобы предупредить, насколько это зависит от меня, полное уничтожение жителей в этих богатых и обширных странах, что принесло бы вред и религии и Испании. Это бедствие кажется мне неизбежным, если не приостановить быстрыми мерами смертность, порождаемую системой управления, опирающейся на предрассудки и самые низкие побуждения. Если влияние врагов человечества не будет приостановлено, то те, кто будут жить после меня, увидят, что исполнились мои печальные предсказания. Да спасет бог от этого Испанию!»
Одним из самых важнейших пунктов сам Лас-Касас считал восьмой, тот, который был основой основ, — пункт об отмене рабства. Он гласил:
«Восьмое средство содержит соль всех остальных: оно среди прочих является особенно существенным, ибо без него все остальные ничего не значат, ибо они все служат ему, наиболее значительному для вашего величества. На него никто не мог бы возразить, а если его не выполнить, то погибнет Индия: либо вы будете иметь Индии, либо вы их потеряете! Вот оно: ваше величество прикажет составить и утвердит со всей торжественностью и величием закона на кортесах, что все индейцы, проживающие в Индии, как те, которые покорены, так и те, которые будут покорены, чтобы они целиком влились в королевские владения, как Кастилия и Леон, как подданные и свободные вассалы, какими они являются, и ни один из них не был рабом испанских христиан, и чтобы нерушимая конституция была принята и ни теперь, ни в другие времена и навечно не могла быть изъята, ни отторжена от королевской короны. Не должны быть отданы (индейцы) как вассалы никакому другому феодалу, ни энкомьендо, ни другим образом, ни под другим названием. И надо это скрепить вашему величеству королевской своей властью и словом, и короной, и другими священными вещами, что никогда ни король, ни его наследник не аннулируют эти законы…»

Карл V. Старинная гравюра.
В 1542 году в Вальядолиде был созван Совет по делам Индий, в котором приняли участие многие ученые и государственные деятели. Совет обсуждал представленный Бартоломе проект «Новых законов». При обсуждении возникли острые споры:
— Вы хотите, — резко говорили одни, — чтобы колонисты своими руками обрабатывали эти огромные земли?
— Или чтобы колонисты вернулись в Испанию? — не менее резко добавляли другие.
— Король потеряет Новый Свет, и там снова воцарится язычество! — лицемерно восклицали третьи.
Но Бартоломе словно ждал этих возражений:
— Я отвечу и на это: ваши опасения напрасны, сеньоры! Опыт доказывает обратное: колонисты останутся в Новом Свете, даже если индейцы не будут больше их рабами, ибо эти земли не Ла-Манча! Они дают испанцам больше возможностей для обогащения, чем сама Испания!
«Новые Законы» были приняты Советом и от имени самого короля начинались такими словами:
«Настоящим приказываю и распоряжаюсь, что отныне и впредь никакая причина военная, и пусть даже восстание, не могут служить основанием делать индейцев рабами, и мы желаем, чтобы с ними обращались как с вассалами кастильской короны, ибо они таковыми и являются. Никто не может заставить против воли служить индейцев. И, как мы уже приказывали, отныне и впредь, нельзя превращать индейцев в рабов, как это делалось против разума и права».
20 ноября 1542 года эти законы были подписаны королем и разосланы в Новый Свет всем наместникам, губернаторам, Аудиенсиям, а также приорам монастырей.
В те дни Лас-Касас закончил доклад принцу Фелипе, занимавшемуся делами Индий, названный им «Кратчайшее сообщение о разрушении Индий»[57]. В основу его легли личные наблюдения, документы и рассказы очевидцев о злодеяниях и тирании в Новом Свете, начиная с момента его открытия по сей день, то есть за 45 лет. Этот трактат содержал настолько страшные факты, что король Карлос и принц Фелипе решили его не печатать. Они поняли, что мир содрогнулся бы от ужасов, которые творились в Новом Свете испанцами!
Потом принц Фелипе сказал отцу:
— Нельзя отказать Лас-Касасу в государственной мудрости, но он не принимает во внимание всех интересов испанской короны!
— Старик слишком беспокоен, — согласился король. — Мы его поблагодарим за службу короне, но пусть он будет подальше от Кастилии!
И вот однажды в воскресенье вечером Лас-Касас узнал о воле короля. К нему пришел секретарь Совета по делам Индий.
— Его величество чрезвычайно ценит ваши усилия, — церемонно сказал секретарь. — И его величество не хочет остаться в долгу перед вами, дон Бартоломе. Ваше имя, ваш возраст, наконец, ваши заслуги перед короной требуют награды!
— Я уже не раз говорил и писал, что никакая личная заинтересованность не движет мной! — возразил Лас-Касас.
— О да, мы это знаем! — сказал секретарь. — Но тем не менее земные блага нужны всем: его величество предлагает вам пост епископа в городе Куско, в Перу. Вы проявили в недавние времена столь большое участие к судьбе перуанских индейцев. Поэтому вам следует согласиться на это назначение!
— Нет, нет, — ответил Лас-Касас. — Передайте его величеству, что это слишком большая награда моим скромным трудам. К тому же пост епископа ограничил бы мою деятельность.
Секретарь ушел, так и не убедив Лас-Касаса согласиться.
— Дьявольщина! — воскликнул недовольный Карлос, когда секретарь доложил ему о своей неудаче. — Старик упорнее, чем я думал! Уж не решил ли он остаться в Кастилии? Мало у меня сейчас забот в Германии с еретиком Лютером, так еще этот «апостол индейцев»! Придется прибегнуть к помощи Лоайсы или даже лучше — к генералу доминиканского ордена. Действуйте, и более успешно…
Расчет короля был верен: уговорам кардинала Лоайсы и главы своего ордена Лас-Касас не смог долго противиться. Он принял назначение, но не в богатое Куско, а в далекую, необжитую провинцию между Мексикой и Юкатаном — в Чиапас. Может быть, сыграло роль и то обстоятельство, что в Чиапасе, отдаленном от Мексики, необходим был энергичный правитель, который смог бы проводить «Новые законы». Он понимал, что там было поле битвы, и знал, что там он нужен.
В севильском соборе Сан-Пабло зимой 1543 года Лас-Касас был посвящен в епископы. Ему установили небольшое по тем временам жалование для содержания епископата в 500 тысяч мараведи в год. Лас-Касас стал пользоваться этими деньгами лишь по приезде в Чиапас. Многие епископы злоупотребляли своим правом и получали деньги, не уезжая к месту назначений, в Новый Свет. Это приняло такие размеры, что потом стали посвящать в епископы не в Кастилии, а в Индии.
Епископ Чиапаса
Мужество делает ничтожными удары судьбы.
Мужество делает ничтожными удары судьбы.

Дорогая сестра Хуана! Спешу уведомить тебя, что доехали мы вполне благополучно. Матушка плавание перенесла хорошо. Из Сан-Лукара мы вышли в среду 4 июля. На одной каравелле с нами плыли доминиканские монахи, и с ними — известный тебе друг наших покойных отца и дяди Эрнандо — старый дон Бартоломе де Лас-Касас и его помощники: Родриго де Ладрада и Томас де Касильяс. Ладрада — стар и некрасив. Скажу тебе, что среди наших кабальеро я не видывала столь красивого и учтивого, как этот Касильяс. Дон Бартоломе назначен епископом в провинцию Чиапас, где-то в Мексике. И скажу тебе по чести, что и я, и наша мать удивлены тем, что в столь преклонном возрасте, а дону Бартоломе уже 70 лет, он сохранил поистине юношескую живость и здоровье! И, вместо того чтобы на покое доживать свои дни где-нибудь в Севилье или ином месте на родине, этот непоседливый старик едет бог знает куда, к совершенно диким индейцам, ибо Чиапас — место еще совсем не обжитое и опасное. Когда наша матушка сказала ему об этом, то дон Бартоломе возразил, что он больше может пострадать от цивилизованных испанцев, чем от диких индейцев! Мать и мы недоверчиво отнеслись к его словам, но, приехав на Эспаньолу, убедились в правоте их. Епископа встретили угрозами и бранью. Колонисты страшно злы на него из-за «Новых законов», считая, что он приложил к ним руку. Но и нас, дорогая Хуана, после шестнадцатилетнего отсутствия встретили не лучше, чем дона Бартоломе! Дом наш в Санто-Доминго почти разрушен, имение запущено, ценные вещи украдены… Матушка очень тяжело переживает наше бедственное положение. Наследник отца, брат Луис, не радует сердце матушки, ибо женился в Санто-Доминго против ее желания на Марии де Ороско, вдове алькальда. И, клянусь тебе пресвятой девой, я не верю в прочность его брака, так как брат наш весьма легкомыслен и непостоянен: не успев жениться, говорят, начал ухаживать за первой красавицей Санто-Доминго — доньей де Москеро! Матушка не хочет даже встречаться с братом, считая, что он плохой сын и совсем не оправдывает высокого звания адмирала и генерал-губернатора Ямайки, куда назначил его, в память заслуг отца, король[58]. Матушка не перестает сетовать на то, что в нашей семье нет достойных продолжателей дела нашего великого деда — Кристобаля Колона!
Прощай, милая сестра, напиши, как только получишь мое письмо. Матушка терпит одни лишь огорчения, а твое письмо порадует ее.
Обнимаю тебя, молись за нас, и пусть благословение бога не оставит нашу семью.
Письмо юной Исабели Колон, дочери покойного Диего Колона, вполне соответствовало действительности. Прием, оказанный донье Марии, вдове вице-короля, сильно отличался от первого пышного приема, когда она, молодая и счастливая новобрачная, вступала на земли Эспаньолы 35 лет тому назад.
Санто-Доминго бурлил от негодования и возмущения: причиной этому были «Новые законы». Можно представить, как встретили колонисты Лас-Касаса, по их мнению, прямого виновника новой реформы, столь гибельной для их богатств!
Жители Санто-Доминго отказали в обычных подаяниях доминиканскому монастырю, где остановились Лас-Касас и его монахи.
— Пусть этот «апостол» питается воздухом и водой! — кричали колонисты. — У испанцев Санто-Доминго нет и корки хлеба для этого грабителя и пирата! Он лишил нас индейцев и всего имущества! Он обрек на нищету и голод наших детей! Пусть сам теперь испытает голод и нужду!
Лас-Касас решил уйти из доминиканского монастыря, не желая, чтобы из-за него монахи терпели голод. Во всем большом городе для Лас-Касаса не нашлось угла и куска хлеба!
Донья Мария, услышав от своего брата, доминиканского монаха, о бедственном положении епископа Лас-Касаса, пригласила его в свой дом, в память его прежней дружбы с ее покойным мужем.
— Я прошу вас, ваше преосвященство, — говорила донья Мария, — считайте мой дом своим. Правда, — и ее голос задрожал от обиды и слез, — этот дом теперь разрушен и пуст. Мой бедный муж, как вы знаете, умер в хлопотах о наследстве в 1526 году… И все эти восемнадцать лет я и мои семеро детей провели в такой нужде, что я должна была занимать деньги у покойного брата Эрнандо и продавать свои драгоценности. Но было время, когда те, кто сейчас поносят вас и забыли меня, низко склоняли головы и целовали мою руку…
— Не огорчайтесь, досточтимая сеньора, — утешал Лас-Касас бывшую вице-королеву Эспаньолы. — Эти люди погрязли в грехах, им чужды высокие побуждения и благородные чувства!
— Это действительно так! — воскликнула донья Мария. — Милости, полученные ими от моего мужа и от меня, забыты. И люди, которые пили и ели за моим столом, здесь, в этом дворце, теперь отказывают нам в горсти муки!
— А мне в корке хлеба! — добавил Лас-Касас. — Знаете ли вы, сеньора, что даже дети на улицах Санто-Доминго поют про меня куплеты? Они смеются над тем, что Касасу придется просить подаяние у индейцев, ибо христиане отказали ему в этом!
Голодал не только Лас-Касас, но и те сорок пять монахов, которые приехали с ним из Кастилии для работы в Чиапасе. Монахи боялись трогать припасы, что были закуплены для плавания в далекий Чиапас, так как в море страшно остаться без продовольствия.
Одна старая индианка стала собирать подаяние для Лас-Касаса и его монахов. Простые люди, и испанцы и индейцы, охотно делились с теми, кого поносили и проклинали богачи.
— Возьми, падре, — говорила старуха, принося ежедневно маисовые лепешки, овощи и плоды, — возьми, не гнушайся подаянием, ибо оно дано от всего сердца!
— Спасибо, матушка, — отвечал ей растроганный Бартоломе, — твоя маисовая лепешка дороже мне самых дорогих яств.
Хасинте всегда старался долю своей скудной пищи незаметно положить Бартоломе, уверяя, что ему, старику, хватает и половины!
Отъезд Бартоломе в Чиапас задерживался из-за того, что владельцы каравелл чинили ему препятствия: зная, что у него мало денег, запросили за фрахт непомерную сумму.
Но Бартоломе не терял времени на Эспаньоле: он выступал в Аудиенсии, требуя выполнения «Новых законов». Никто не желал подчиняться им и освобождать индейцев. Чиновники Аудиенсии направили в Кастилию протест и требование отмены реформ.
Когда Томас Касильяс в своих проповедях стал сурово осуждать колонистов-рабовладельцев, поднялась такая буря гнева и злобы среди прихожан, что пришлось прекратить всякое упоминание об освобождении рабов. Нашлись священники, которые в своих проповедях утверждали, что индейцы по природе рабы! Оба церковных капитула — и доминиканский и францисканский — запретили говорить о рабстве: «Осуждайте любые пороки и грехи, но не касайтесь вопроса об индейцах-рабах!»
Вдруг к Лас-Касасу пришла одна из жительниц Санто-Доминго, донья Солано, пожилая вдова. Она принадлежала к самым зажиточным колонистам острова: владела 200 индейцами и большими плантациями сахарного тростника.
— Ваше преосвященство, — сказала донья Солано, — проповедь падре Томаса Касильяса открыла мне глаза. Я словно прозрела! Тяжкий грех лежит на моей совести. Я скоро могу проститься с жизнью, а что я отвечу на суде господу богу? И я решила освободить всех моих индейцев, а несправедливо нажитое имущество раздать беднякам.
— У вас прекрасное сердце, дочь моя, — ответил Лас-Касас.
— Мне говорили, что вам не на что зафрахтовать каравеллу? Я помогу вам снарядить ее, а также куплю припасы для плавания.
— У меня всего триста кастельяно, сеньора, так что вам придется добавлять очень много.
— А сколько стоит фрахт?
— За фрахт по морю до Юкатана, а затем по реке Табаско до Чиапаса эти разбойники — владельцы каравелл — запросили с нас тысячу двести шестьдесят кастельяно!
— Ничего, ваше преосвещенство, я добавлю недостающие деньги.
В воскресенье 14 декабря каравелла отплыла из порта Санто-Доминго, сопровождаемая добрыми пожеланиями немногочисленных друзей и проклятиями множества врагов.
— Если все дурные пожелания собрать в один мешок, — сказал Бартоломе, когда Эспаньола осталась позади, — то вряд ли наш корабль выдержит такой груз!
И как раз так и случилось! Во вторник неожиданно поднялся ветер, и каравелла попала в сильный шторм. Неопытный пилот потерял курс, и они едва не разбились о скалы, проходя между Кубой и Ямайкой. Только благодаря мореходному опыту Бартоломе удалось избежать гибели корабля.
В первый же день рождества, который торжественно отпраздновали в море, снова каравелла чуть не разбилась о скалы острова Кармен. Это случилось ночью. На счастье, проснулся спавший на палубе монах, который закричал, и Бартоломе снова помогал пилоту.
— Я думаю, что нашему пилоту надо стать епископом, а вам, наоборот, сделаться моряком, — сказал Родриго, когда во второй раз Бартоломе встал у штурвала и каравелла была спасена от гибели. — Его невежество в морском деле поистине невероятно!
Попутный ветер и ясная погода благоприятствовали дальнейшему плаванию, и 5 января ночью Бартоломе и его спутники вошли в порт Сан-Ласар в Кампече на Юкатане, где была их первая остановка.
В Кампече пришлось задержаться, так как и тут «Новые законы» встретили яростное сопротивление. Никто из колонистов не желал им подчиняться и освобождать рабов-индейцев. И чем больше Бартоломе как епископ увещевал испанцев, тем больше они злобствовали против него.
Испанцы-колонисты в Кампече, как и в Санто-Доминго, отказали епископу и его монахам в выплате обычного сбора, несмотря на королевский приказ. И снова наступило безденежье, и снова грозил голод…
Когда Бартоломе решил уехать из Кампече в город Сьюдад-Реаль, пилот его каравеллы вдруг заявил:
— Мне был оплачен фрахт только до Кампече, я не двинусь далее, пока ваше преосвященство не оплатит мне путь до Чиапаса!
— Побойтесь бога, сеньор! — возмутился Бартоломе. — Ведь вам было заплачено в Санто-Доминго сполна за весь рейс!
Но пилот усмехнулся:
— Как же, за весь рейс! Мы были в пути дольше, чем положено, и за эти лишние дни я должен получить еще триста кастельяно.
Родриго Ладрада хотел в сердцах поколотить наглеца, и Бартоломе едва удержал его от этого намерения.
— У нас нет иной возможности уехать из Кампече, — говорил он разбушевавшемуся Родриго. — Умерьте ваш пыл, пока мы не приедем в Чиапас.
— У меня просто чешутся руки, епископ! — кричал Родриго. — Будь я проклят, если в Чиапасе не проучу этого невежду и разбойника!
Чтобы набрать нужную сумму денег, Бартоломе был вынужден продать часть своего имущества, но это составило всего 100 кастельяно. Пришлось занять у приходского священника Кампече еще 100 кастельяно. На остальную сумму Бартоломе дал пилоту долговое обязательство.
Однажды вечером, когда Бартоломе и Родриго уже собирались лечь спать, в двери постучался Хасинте.
— Сеньор, — испуганно сказал он, — монахи нашли у ворот миссии полумертвого человека!
Четыре монаха с трудом внесли в келью умирающего. Он был без сознания, лохмотья едва прикрывали его огромное, тощее, изъеденное москитами тело. На груди и шее зияли открытые раны.
— Это негр! — удивился Родриго, увидев при слабом свете свечи курчавые полуседые волосы раненого и его черную кожу. — Как он попал сюда?
Бартоломе осторожно смывал кровь и грязь с лица и тела бесчувственного негра. Глоток вина привел раненого в сознание. Он застонал и открыл глаза.
— Меня поймали, — прошептал он ломаным испанским языком. — Убейте меня сразу… не мучайте меня…
Бартоломе склонился над негром:
— Ты у друзей, сын мой. Не бойся! Лежи спокойно, а я перевяжу твои раны.
Негр с недоверием смотрел на монахов. Но у него не было сил говорить. Он снова закрыл глаза.
Через несколько дней негру стало лучше. Бартоломе сказал:
— Теперь я уверен, что ты будешь жить. Раны заживают, лихорадка уменьшилась. У тебя могучее здоровье, сын мой!
Негр горько улыбнулся:
— Когда я заболел лихорадкой, мой хозяин, на которого я работал двадцать лет, сказал: «На что мне эта падаль! Не лечить же мне его!» — и продал меня другому испанцу…
Негр помолчал и продолжал мрачно:
— Нас было много… индейцев и негров. Мы шли скованные за шеи одной цепью и несли на плечах тяжелые якоря, бревна и пушки. Бывало, что цепи перетирали шею и голова носильщика падала в одну сторону, а тело — в другую. И мы все это видели… Дороги, по которым мы шли, были дорогами смерти…
— Тебе трудно говорить, — мягко сказал Бартоломе, — ты потом расскажешь мне. Выпей лекарство, и ты уснешь!
— Нет, падре, — угрюмо ответил негр, — я хочу все сказать тебе. Я могу умереть, и ты не узнаешь… Иногда ночью с нас снимали цепи. И вот я и мой товарищ индеец решили бежать. Но его загрызли собаки… А я отбился от этих чудовищ и задушил двух. Мне удалось спрятаться. И добраться до вашей миссии. Ты спас меня, и теперь я твой раб! Не прогоняй меня, падре!
— Сын мой, — ласково ответил Бартоломе, — мы не гоним тебя, оставайся с нами. Но бог запрещает людям иметь рабов. Ты поймешь это, а сейчас усни…
Негр, которого звали Хуанильо, постепенно поправлялся. За ним ухаживал Хасинте и рассказывал ему о сеньоре, у которого тот решил остаться.
— Он — сам господь бог! — убежденно сказал Хуанильо, когда услышал о жизни и делах Бартоломе. — Нет, нет, Хасинте, не говори, что я ошибся. Я слишком хорошо узнал испанцев!
Хуанильо, как и предполагал Бартоломе, был с берегов Гвинеи. Царек его селения продал португальцам в рабство всех своих подданных. Потом Хуанильо перепродали в Испанию, и он попал в Новый Свет.
— Нас было в трюме каравеллы много, очень много, — рассказывал Хуанильо. — Но до Индии доплыло меньше половины. Люди гибли от голода, духоты и тесноты. Их бросали в море, даже не прочитав молитвы…
Когда Бартоломе предложил негру помочь добраться до Гвинеи, тот печально ответил:
— Куда я поеду, падре? Вся моя семья давно продана в рабство, родная деревня разрушена. Мне некуда идти. Да и меня опять поймают и продадут. Оставь меня у себя! Твой слуга Хасинте стар и слаб… позволь мне быть твоим слугой. Посмотри, как я силен! — и Хуанильо одной рукой поднял тяжелую дубовую скамью.
И негр Хуанильо остался у Бартоломе. Сначала Хасинте ревновал его, но, увидев, что кроткий и добродушный великан не посягает на его права, а почтительно признал его старшим, успокоился. К тому же старый слуга видел, с какой преданностью и любовью Хуанильо оберегает его сеньора.
— Теперь, Хасинте, ты стал моим майордомом! — шутил Бартоломе.
— Ого, епископ, смотрите, вы, как настоящий кастильский гранд, имеете целый штат! — посмеивался Родриго. — Только не представляю, как вы их всех прокормите!
Бартоломе сообщили в порту, что из Кампече в Чиапас отходит небольшая галера с солью, которая может взять все вещи и 12 монахов. Несколько монахов решили пойти пешком. Они нашли проводников-индейцев и вместе с Томасом Касильясом отправились в Сьюдад-Реаль.
Наконец торги с пилотом пришли к концу и был назначен день отплытия. Накануне к Бартоломе прибежал смотритель порта и сообщил ему ужасную весть: галера была застигнута штормом и погибла. Утонули все, кроме трех монахов, которые находятся в индейском поселке Чампотон.
Горе Бартоломе и его товарищей не поддавалось описанию. Монахи никуда дальше не хотели ехать. А пилот торопил, так как надо было воспользоваться подходящей для плавания погодой.
Бартоломе пришлось показать пример: он первый вошел на борт каравеллы, а за ним все остальные. Ни солнце, ни голубое небо, ни попутные ветры не могли утешить путников в гибели девяти товарищей. Все молчали, иные плакали и молились. Все отказывались от пищи, даже Ладрада. Тогда Бартоломе достал еду, с помощью Хасинте накрыл на стол и стал сам через силу есть, чтобы снова показать пример своим упавшим духом спутникам.
В лагуне де Терминос они увидели обломки погибшей галеры…
В стане врагов
«Ты сердцем смел, ты никогда
Жестоким бедам не уступишь!»
«Ты сердцем смел, ты никогда
Жестоким бедам не уступишь!»

Город Сьюдад-Реаль, столица провинции Чиапас, никак не оправдывал своего громкого названия «королевский город». Это был просто большой поселок с несколькими каменными домами, где жили богатые и знатные колонисты, и со множеством простых деревянных домов и хижин. Городской собор, тоже деревянный, был мал и беден, без украшений и даже без необходимой утвари.
Несмотря на сан епископа, Бартоломе жил также очень бедно. Он занимал вместе с монахами скромный деревянный дом около собора. Носил старую сутану простого капеллана, без всяких украшений. На стол его ставилась глиняная посуда, и пища была самой скудной, годной только для поддержания сил. Нечего говорить, что молодые монахи, которые садились за стол епископа, частенько вставали голодными.
Большая часть вещей Бартоломе погибла на затонувшей галере, иные были проданы в Кампече, но он ни о чем так не жалел, как о потере своих книг.
— Ах, Родриго, — сетовал Бартоломе по вечерам, когда они оставались вдвоем в тесной келье, — как мне не хватает Сенеки, Марка Аврелия, Данте и других моих друзей!
«И еще одной книги, которую я носил бы на своем сердце, как печать», — подумал, но не сказал Бартоломе. Его Петрарка, которого он пронес через все эти бурные годы, также погиб на затонувшей галере.
— Как много я отдал бы за самую маленькую библиотеку здесь, в Сьюдад-Реале, — продолжал он вслух.
— Но ведь можно выписать из Севильи эти книги, стоит только попросить ваших родных или друзей, — заметил Родриго.
— Нет, нет, Родриго, книги — дорогое удовольствие, мы не имеем права на это. В Кастилии надо просить денег на лекарства для больных, на продовольствие!
— Да, — улыбнулся Родриго, — клянусь вечным блаженством, я понимаю, когда наши молодцы постоянно рыскают в поисках еды, ибо ваши обеды поистине пища святого Антония.
— Они молоды, Родриго, а молодость нуждается в хороших и сытных обедах. То, чем бываем сыты мы, старики, мало для них.
— Ну, не знаю, как вы, — говорил усмехаясь Родриго, — а я бы сам не отказался от куска жареной козлятины или свинины! Хотя бы раз в неделю, — поспешно добавил он, видя, как огорчился Бартоломе.
Индейцы часто приходили со своими жалобами и горестями к Бартоломе. Всегда около дверей его дома находили утешение обиженные и несчастные. В одном только Бартоломе не мог помочь индейцам — освободить их от рабства.
Жители Сьюдад-Реаля оставались глухи к его проповедям и просьбам, к его ссылкам на «Новые законы». Никто не хотел лишать себя богатства, освобождать рабов-индейцев.
Богатые испанцы-колонисты говорили:
— Святой отец сам живет так бедно и плохо, что не в состоянии понять, чего лишается тот, кто богат! Если бы епископ сам не был нищим, он не стал бы проповедовать нам о благе бедности.
Однажды к Бартоломе пришла женщина индианка, бросилась к его ногам и, рыдая, сказала:
— Отец, я была свободна. Ты видишь, у меня на лице нет клейма. И все же меня продали в рабство, разлучили с детьми и мужем. Защити меня, спаси моих детей, они погибнут без матери…
И тогда Бартоломе, не найдя способа убедить колонистов выполнять законы короля, решился на крайнее средство. Он призвал городских священников-духовников — каноника Хуана Перреру и декана Хиля Кинтану — и сказал им:
— Мы пришли в эту страну с мечом и крестом и несправедливо завоевали ее именем короля и бога. Я знаю, что многие священники ссылаются на Аристотеля, оправдывая рабство. Но вспомните, что говорил Аристотель: о человеке, который незаслуженно стал рабом, нельзя сказать, что он раб. Следовательно, индейцы, ставшие рабами в результате несправедливой и захватнической войны, не могут быть названы рабами. И знайте, что богатства, нажитые испанцами в Индии, не являются законными, ибо приобретены путем насилия, тирании и захвата чужого. Я отныне запрещаю вам давать отпущение грехов и исповедовать тех христиан, у которых имеются рабы!
Каноник Перрера стал охотно и искренне выполнять указания епископа. Но декан Кинтана был другого нрава. Хотя он и обещал выполнять приказ епископа, на самом деле обманывал его. Он давал отпущение грехов колонистам, так как был на их стороне, любил деньги и получал немало подачек от богачей города. Он подливал масла в огонь, когда колонисты возмущались епископом, отказавшим им в праве исповеди.
— Сами индейцы будут смеяться над вами, — говорил Кинтана своим прихожанам, — если простой священник возвратит им свободу! Епископ, без сомнения, еретик, и надо бы сообщить о нем святой инквизиции в Кастилию!
Однажды вечером, когда светился огонек лампады в окне Лас-Касаса, выстрел из аркебуза чуть не ранил его. Испуганные монахи вбежали к Бартоломе.
— Вы живы, Бартоломе? — вскричал Родриго, схватив его за руку. — Они не ранили вас?
— Тише, тише, Родриго! Вы оторвете мне руку. Ничего со мной не случилось! — успокаивал их Бартоломе.
— Силы небесные! Ничего не случилось! Вас могли убить эти негодяи! А вы говорите, ничего не случилось! — продолжал волноваться Ладрада.
Касильяс хотел пойти на улицу и посмотреть, кто стрелял, но Бартоломе не пустил его:
— Нет, нет, Томас, опасность еще не миновала. Они могут принять вас за меня и снова стрелять. Идите спать, друзья, утром подумаем, что делать.
Хуанильо, тайком от Бартоломе и монахов, не спал всю ночь и дежурил у дверей дома.
День шел за днем, а положение становилось все хуже и хуже. Декан Кинтана плел свои интриги за спиной епископа. Уже не только к епископу, но и ко всем его монахам горожане относились с ненавистью и презрением. Выплата церковной подати была прекращена. Снова нависла угроза голода.
Наступил праздник пасхи. Бартоломе получил из Санто-Доминго от доньи Солано посылку. Решили отпраздновать это событие торжественным обедом. На третий день пасхи епископ пригласил к себе всех монахов, каноника Перреру, а также декана Кинтану.
— Я бы не стал приглашать на вашем месте этого интригана, — сказал Ладрада. — Знаете ли вы, епископ, что он во время пасхи, невзирая на ваш запрет, давал причастие не только тем, кто имеет рабов, но даже и тем, кто продает и покупает индейцев?
— Я слышал об этом, Родриго, — ответил Бартоломе, — и я хочу за обедом, в дружеской обстановке, повлиять на декана, чтобы подобные поступки не повторялись!
— Не повторялись! — насмешливо заметил Хордан Пьемонте, рослый молодой монах из Пикардии. — Неужели вы поверите этой лисе, ваше преосвященство?
Все сели за стол, но декан не явился. Бартоломе послал за ним Хордана.
— Декан говорит, что нездоров, — сказал вернувшийся Хордан.
— Нездоров? — удивился Бартоломе. — Я видел его сегодня на ногах. Глупости! Родриго, пойдите вы и скажите, что я требую его по служебным делам.
Родриго ушел, но также вернулся один.
— Он лежит в постели, хотя я готов поклясться, что он здоров как бык! Улегся в постель одетый, чтобы не идти к вам.
— Вот как, он притворяется! — вскипел Бартоломе. — Хорошо же! Хордан, пойдите и приведите его хотя бы силой!
Хордан снова ушел, посмеиваясь, и через несколько минут все сидевшие за столом услышали шум и крики.
— Пустите меня! Это насилие! — кричал тщедушный декан, которого Хордан тащил, как щенка, за шиворот. — Вы не смеете!
Крики декана привлекли народ с улицы. В окна столовой стали заглядывать любопытные лица горожан.
— Помогите мне, сеньоры! — кричал осмелевший Кинтана, видя посторонних. — Помогите мне, и я вас всех исповедую! Помогите мне, и я дам вам отпущение грехов!
В толпе горожан находился алькальд, который закричал: «Помогите ему во имя справедливости!»
Несколько вооруженных испанцев ворвались в дом и освободили декана. Монахи стали сопротивляться, и завязалась драка. Ладрада и Касильяс пытались успокоить народ. Но страсти разгорались… Колонисты стали угрожать епископу, говоря, что вот подходящий момент избавиться от источника всех зол — от Лас-Касаса!
— Вы враг христиан, вы мятежник! — кричали колонисты. — Мы будем жаловаться на вас архиепископу, папе, королю, Совету Индий! Вы вносите смуту и должны убраться из нашего города!
— Слепые люди, — ответил им спокойно Лас-Касас, — какой дьявол владеет вашими душами? Вы угрожаете мне папой, королем, архиепископом? Да знаете ли вы, что я обязан делать то, что делаю, ибо я выполняю законы короля! — и он достал «Новые законы» и прочел пункты, обязывающие дать свободу индейцам-рабам. — Теперь вы видите, что я могу жаловаться на вас королю за то, что вы не повинуетесь ему!
Один из колонистов возразил:
— Мы слышали об этих законах, но выполнять их не обязаны, пока не придут дополнительные приказы из Совета Индий!
— Это пустые отговорки! — твердо сказал Лас-Касас. — Идите все домой, подумайте над тем, что я вам прочитал.
Толпа медленно разошлась. Тревога и подавленное настроение владели монахами.
— Вам лучше уехать, — сказал Касильяс, — вы видите, как раздражены жители города! Ваша жизнь в опасности!
Его поддержали и Родриго, и Хордан, и все другие монахи. Бартоломе слушал их, а потом сказал, улыбаясь:
— Куда же вы хотите, чтобы я уехал? Где я найду, по вашему мнению, безопасное место, если я везде и всегда буду без устали твердить о свободе индейцев? А мятежи и смуты против меня не новы, я не боюсь угроз, не страдаю от клеветы и оскорблений, ибо меня ругали и поносили и в Индии, и в Кастилии…
И он остался в городе. В лавках уже не продавали монахам пищи и вина для причастия; испанцы запрещали индейцам под страхом жестокого наказания собирать подаяние для монахов и даже близко подходить к собору.
Тогда Томас Касильяс, Томас Торрес и Хордан Пьемонте решили без ведома епископа поехать в город Чиапас и рассказать, что делается в Сьюдад-Реале. Перед отъездом Касильяс сказал Родриго:
— Мы едем для того, чтобы найти способы увести епископа из стана врагов, где его жизнь ежеминутно подвергается опасности. Берегите его, Родриго!
— Кому вы это говорите, Томас? У епископа нет более верного сторожевого пса, чем старый Ладрада.
В Чиапасе монахи встретили приехавшего на закладку монастыря епископа Гватемалы Франсиско де Маррокина, старого друга Бартоломе по Тузулутлану.
— Прекрасно! — воскликнул он в ответ на их просьбу. — Мы вызовем Бартоломе сначала сюда, на закладку монастыря, а потом в Грациос а Диос, где собираются епископы всех провинций. Мы постараемся задержать его там подольше, пока не утихнут страсти. Хотя, — печально добавил он, — прямо скажу, мало надежды на это. Ненависть и упорство колонистов так велики, что осуществить «Новые законы» невозможно! И Аудиенсии лишь мешают нам, ибо почти все члены Аудиенсий владеют огромными землями и рабами-индейцами.
— А епископы, что же они? — спросил Касильяс.
— Кроме Лас-Касаса, Бетансоса и меня, никто и не думает об освобождении индейцев от рабства. И есть такие, как бывший епископ Никарагуа, который сколотил недурное состояние, имея рабов и участвуя в постыдных грабежах. Слава богу, мне удалось добиться его отзыва из Индии. Сейчас епископом Никарагуа назначен человек честный и достойный — Хуан Антонио де Вальдивьес.
Слух о «Новых законах» распространялся от селения к селению. И те индейцы, которые никогда и в глаза не видели Лас-Касаса, слышали о нем, как о защитнике и отце всех индейцев. О нем ходили легенды… Когда Бартоломе ехал в Чиапас, на дороге его встречали индейцы с цветами и с музыкой.
— Дорогой отец, — говорили индейцы, — не покидай нас! Мы благодарим тебя за твои труды и заботы о нас! Останься с нами, мы защитим тебя от злых людей, мы прикроем тебя своими телами!
Всегда сдержанный, Бартоломе не мог скрыть слез при этих простых, но искренних словах.
А индейцы шли за ним, рассказывали о тирании испанцев, о том, как они хотели пойти в Сьюдад-Реаль, но алькальды и рехидоры не пустили их и даже наказывали за одно только желание пойти к нему…
После встречи с Маррокином Бартоломе решил немедленно ехать в город Грациос а Диос, где была резиденция новой Аудиенсии, и потребовать от нее помощи против произвола колонистов и чиновников.
Шли дожди, дороги размыло. В иных местах лошади не могли проехать, и приходилось идти пешком. Бартоломе, конечно, молчал и не жаловался, но Родриго слышал, как на привалах ночью Бартоломе не спал, ворочаясь с боку на бок на камнях, покрытых лишь тонким плащом. И Родриго молчал: чем он мог помочь другу?
Заседания Аудиенсии уже начались. Президентом ее был Алонсо де Мальдонадо, вице-губернатор Гватемалы. В давние времена, в Сант-Яго де Кабальерос он проявил себя достаточно гуманным и справедливым человеком.
Каково же было удивление Лас-Касаса, когда он увидел недовольство и раздражение, с каким президент встретил приход епископов на заседание.
— Нет человека, который мог бы договориться с этими поваришками, вытащенными из монастырей, — ворчал он довольно громко, намекая на епископов.
Когда же Лас-Касас попросил дать ему слово, то Мальдонадо крикнул:
— Выгоните отсюда этого сумасшедшего!
Но Лас-Касас, за плечами которого были долгие годы борьбы с такими противниками, как Фонсека, не испугался и снова спокойно сказал:
— Я требую у президента и Аудиенсии от имени бога, короля и папы, чтобы индейцы не подвергались тирании, чтобы выполнялись королевские законы и чтобы никто не осмеливался мешать мне проповедовать и излагать свои взгляды.
Взбешенный Мальдонадо вскочил с места и снова закричал:
— Вы подлый человек, вы негодяй, вы дурной епископ без стыда и совести! Вы заслуживаете того, чтобы вас выгнать!
Раньше Лас-Касас, вероятно, на эти неслыханные оскорбления ответил бы ударом шпаги. Но сейчас он промолвил с глубокой скорбью:
— Я заслуживаю безусловно того, что ваша милость, президент Мальдонадо, кастильский дворянин, говорит обо мне!
И, повернувшись, покинул зал заседаний. Гробовое молчание проводило его. Члены Аудиенсии ужаснулись публичному оскорблению, которое нанес епископу, невзирая на его сан и седины, их президент…
Лас-Касас не пошел более в Аудиенсию, но написал туда письмо. На заседании 26 октября его петицию рассматривали и отказали по всем пунктам. Тогда он написал письмо принцу Фелипе.
Он писал, что Аудиенсии нарушают королевские законы и права епископов. Он написал, что вице-губернатор Мальдонадо и другие чиновники владеют более чем 60 тысячами рабов-индейцев, а потому так яростно сопротивляются «Новым законам». Он резко писал, что Аудиенсии прикрывают хищения и тиранию губернаторов в Индии. И если положение не будет исправлено, то епископы сложат свой сан и покинут Индию. И до тех пор, пока не будет искоренено зло — пока не будут освобождены от рабства индейцы, — не будет покоя и мира в Новом Свете!
Это смелое письмо написал Лас-Касас, епископ Чиапаса, и подписали Маррокин, епископ Гватемалы, и Вальдивьес, епископ Никарагуа.
Много лет спустя, уже в Севилье, работая в архивах Совета по делам Индий для своей «Истории», Лас-Касас нашел письмо Мальдонадо королю Карлосу от 20 сентября 1547 года. Оно гласило: «Ваше величество, мне стало известно, что со стороны епископа Чиапаса и других лиц против меня писали доносы, которые представили Совету по делам Индий. Прошу вашу милость, чтобы вы приказали переслать их мне и тем освободиться от обвинений, которые на меня возводятся. Мне кажется, что я служил вам честно и добросовестно, как и все, что служили до меня. А те, кто пишут доносы, так у них никаких свидетелей для доказательств того, что они пишут, нет…»
…Лас-Касас перестал читать и подумал с горечью, что тысячи замученных рабским трудом индейцев — вот свидетели против Мальдонадо и ему подобных грабителей в золоте и пурпуре!
«Я узнал, — писал далее Мальдонадо, — что, когда здесь был епископ Чиапаса и я поспорил с ним в Аудиенсии, о чем он вам написал, он объединился вместе с епископом нашей провинции и епископом Никарагуа и лисенсиатом Эррера, и они все написали вашей милости все, что они хотели, обо мне…»
…Лас-Касас мрачно усмехнулся. Поспорил, как же! Этот грубый наглец Мальдонадо просто-напросто выгнал его тогда из Аудиенсии, ибо не могли уши тирана слышать ту грозную правду, которую он бросил ему в лицо. Потом он вспомнил друзей и сподвижников — честных епископов Маррокина, Вальдивьеса, лисенсиата Эрреру. Бедняга Вальдивьес! Он выступал против рабства индейцев и был подло убит в 1550 году сыном губернатора Никарагуа Родриго Контрераса. И все-таки, несмотря на убийства, преследования и клевету, борьба против тиранов не прекращалась. Факел никогда не погаснет!
Но не один Мальдонадо писал в Кастилию. Лас-Касасу стало известно, что поток писем с жалобами на него послан и королю, и в Совет по делам Индий. Чего только не писали о нем! И что он дурной епископ, что он изменник родины и враг христиан, и еще бог знает что! Ему угрожали расправой, где бы он ни был.
Весь Новый Свет сотрясали бури протеста. Колонисты с оружием в руках боролись против «Новых законов». В Перу, во время мятежа, был убит вице-король Нуньес де Вела. В Мексике волнения испанских колонистов приняли такие угрожающие размеры, что в помощь вице-королю де Мендосе был прислан из Кастилии член Совета по делам Индий де Сандоваль. Он увидел, что осуществить «Новые законы» почти невозможно! Колонисты кричали, что они вынуждены будут убить своих жен и детей, чтобы спасти их от позора нищеты!
Каравеллы, отплывавшие от берегов Мексики, увозили сотни испанских колонистов, не принявших «Новые законы».
Аудиенсия Гватемалы под давлением Мальдонадо официально сообщила королю о недостойном поведении епископов Чиапаса, Гватемалы и Никарагуа. Из всех членов Аудиенсии только один лисенсиат Эррера не подписал этого лживого письма. Он сам правдиво написал обо всем королю.
Лас-Касас решил, что ему нечего больше делать в Грациос а Диос и надо возвращаться в Сьюдад-Реаль.
— Ну куда вы поедете, в это гнездо злодейства и насилия? — протестовал Родриго, потрясая письмом, недавно полученным из Сьюдад-Реаля. — Вы читали, что пишет Перрера? Он пишет, что жители города предлагали ему большие деньги, просили его взять ключи от собора и стать епископом вместо вас!
— Ну и что же? Ведь каноник Перрера не согласился, — спокойно ответил Бартоломе. — Значит, мое место не занято и я могу ехать домой.
— А второе письмо? Письмо из кабильдо? Когда жители города узнали, что вы собираетесь приехать, они под звон колоколов требовали вашего разжалования, угрожали тем, что выгонят вас из города!
— В городе двое ворот: выгонят из одних — войду в другие!
— Нет, ваше спокойствие хоть кого выведет из себя! Я начинаю понимать Мальдонадо и других, которые так злы на вас. Ну и характер, ну и упрямство! — ворчал Ладрада. — Ну, и лезьте на верную смерть…
— И пойду, — улыбнулся Бартоломе. — И самое интересное, что и вы, Родриго, пойдете вместе со мной, хотя и браните меня.
— И пойду, — сердясь и смеясь, отвечал Родриго, — ибо я такой же старый безумец, как и вы!
— Нет, Родриго, мы не безумцы. Мы солдаты. И место наше на поле боя!
Поле боя
…Стыд и позор возбуждает мертвец, среди праха лежащий,
В спину пронзенный насквозь сзади копьем.
…Стыд и позор возбуждает мертвец, среди праха лежащий,
В спину пронзенный насквозь сзади копьем.

Примерно около лиги от Сьюдад-Реаля, в селении Синокотлан, был расположен небольшой доминиканский монастырь. Томас Торрес, назначенный недавно приором монастыря, зная о враждебном настроении жителей города, вызвал к себе Хордана и Хасинте и поручил им принести вещи епископа. А вдруг эти негодяи сожгут книги епископа, недавно присланные из Севильи, ведь книги — самое драгоценное его имущество!
И Хордан Пьемонте с Хасинте отправились в Сьюдад-Реаль.
Во время сиесты в городской венте «Новая Испания» было, как всегда, людно.
— Сеньоры! — сказал помощник алькальда Сьюдад-Реаля. — Сеньоры, вы слышали новость? Мне сейчас сообщили, что епископ прислал своих слуг. Значит, он хочет вернуться.
— Вернуться, как бы не так! — ответил со злобой богатый торговец. — Клянусь дьяволом, этого не будет! Не пускать его молодчиков в дом, нечего им там делать!
Предложение было одобрено. Несколько вооруженных «добровольцев» пошли к дому епископа. Там они застали Хордана и Хасинте, которые уже отпирали двери.
— А ну-ка, приятели, — сказал некий плантатор Гамара, в прошлом морской пират. — Уходите-ка отсюда подобру-поздорову, если не хотите, чтобы вам пощекотали ребра вот этим перышком! — и он со скверной усмешкой вытащил кинжал.
— Вы не имеете права, — ответил ему Хордан, — у нас ключи от дома епископа, и мы войдем туда.
— Вот как! Держите их, а я возьму ключи у сеньоров.
— Разбойники! — закричал Хасинте. — Ну, право, разбойники!
— Молчи, любезный; ты так стар и дряхл, что я бы не хотел тебя трогать, но, клянусь адом, если ты не угомонишься… — и плантатор помахал своим внушительным кулаком перед лицом Хасинте.
Отобрав ключи, горожане прогнали Хордана и Хасинте от дверей дома и расположились там на страже.
— Что делать? — в отчаянии говорил Хасинте.
— Молчи, Хасинте, — прошептал Хордан, — как только стемнеет, мы укроемся в соборе, а там есть ход в дом епископа.
Когда наступила полночь и добровольцы сторожа покинули свой пост у дома епископа, Хордан и Хасинте прошли в собор. Но, к несчастью, какой-то мальчишка видел, как они пробирались через ограду сада, и побежал рассказать об этом алькальду и его помощнику.
— Будь я проклят, — вскричал помощник алькальда, — если сейчас же, ночью, не выкину из города этих бродяг!
Но дубовые двери собора было не так-то легко сломать: Хордан и Хасинте придвинули к дверям тяжелые скамьи, а сами укрылись в ризнице. Устав ломиться и стучать, помощник алькальда и его сподвижники ушли, надеясь рано утром поймать монаха и слугу, когда они будут выходить из собора.
Хордан и Хасинте тихо прошли в комнаты епископа, взяли сундук с вещами и книгами и, сняв сапоги, босиком покинули город.
Когда они рассказали в монастыре о своих приключениях, Торрес еще больше встревожился за епископа.
— Нельзя пускать его в город, — сказал он монахам, — его убьют эти подлые люди. Разве для них существует что-либо святое?
Бартоломе, возвращаясь в Сьюдад-Реаль, по пути заехал в монастырь. Он сразу же был встречен тревожными предостережениями:
— Вам нельзя ехать в город, — говорил Торрес, — они убьют вас. Мы не допустим этого! Я не пущу вас!
— Сеньор, дорогой сеньор, — плакал дряхлый Хасинте, — вы выросли на моих глазах. Неужели я, стоящий одной ногой в могиле, должен буду пережить вас? Ах, вы не видели этих злодеев! У них нет ни стыда ни совести! Нельзя вам возвращаться в город!
Нечего говорить, что Ладрада волновался и шумел больше всех, уговаривая Бартоломе пожить некоторое время в монастыре.
Но Бартоломе был непреклонен. Он нашел индейцев-носильщиков и приказал нести свои вещи обратно в Сьюдад-Реаль.
— Я хочу рождество праздновать дома! — говорил он. — И не уговаривайте меня, это бесполезно.
Тем временем из Сьюдад-Реаля в монастырь пришел один испанец, бывший офицер, человек бедный и честный. Он любил и уважал епископа. Когда монахи сказали ему о намерении Лас-Касаса вернуться, он воскликнул:
— Я поражен, святые отцы, как вы допускаете возвращение епископа! Знаете ли вы, что делается в городе? Услышав о том, что носильщики несут обратно вещи епископа, жители города выставили стражу, аркебузы, лошадей — целое вооруженное до зубов войско, и все для того, чтобы помешать ему, безоружному, войти в город! Кровопролитие неизбежно! Прикажите носильщикам вернуться!
Когда вооруженные дозорные на дороге в Сьюдад-Реаль увидели, что носильщики с вещами епископа повернули обратно, они решили, что епископ испугался и не приедет. Восторг жителей города не поддавался описанию! Если бы было можно, они трезвонили бы в колокола! Оставив на дороге, на всякий случай, небольшой дозор индейцев, все остальные вернулись домой.
Но возмущение Бартоломе поступком монахов, вернувших вещи без его разрешения, было также неописуемо.
— Я никогда не бежал от опасности, а мне уже семьдесят три года! И я ни разу не показал врагу спину! Так что же вы хотите, чтобы я на семьдесят четвертом году жизни стал презренным трусом?
— Вы не должны гневаться, — отвечал ему за всех Торрес, — ваше мужество нам всем известно. Но бессмысленно рисковать собой вы не должны!
Видя раскаяние и тревогу друзей, Бартоломе немного смягчился:
— Откуда вы взяли, что они хотят меня убить? Я не верю, чтобы бог отнял у них разум настолько, что их первым движением против меня будет удар кинжалом! Я иду туда, и ничто не остановит меня в моем решении!
И он быстро встал с кресла, подобрал сутану, взял свой посох и пустился в путь. За ним пошли Родриго, Хордан и Хуанильо.
Еще со вчерашнего дня ворчал, весь окутанный дымом, вулкан. Можно было ждать землетрясения. Днем шел сильный ливень, и маленький ручеек, который обычно переходили вброд, превратился в бурный поток. Хуанильо, не говоря ни слова, подхватил Бартоломе на руки, как ребенка, и перенес через речку.
Отжимая свой мокрый плащ, Родриго посмеивался:
— Вас словно святой Христофор перенес через поток!
Когда Бартоломе и его спутники подходили к Сьюдад-Реалю, дозорные индейцы сначала в темноте не заметили его, а когда Бартоломе окликнул их, пораженные его приходом, упали на колени и стали просить прощения.
— За что же мне прощать вас, дети? — спросил Бартоломе. — Вы не причинили мне никакого зла. Идите с миром по домам.
— Но нас строго накажут, отец, за то, что мы пропустим тебя, — возразили индейцы.
— И верно, — сказал Бартоломе Хордану и Родриго. — Что же делать? Эврика! — вдруг улыбнулся он. — Мне пришла в голову блестящая идея!
— Какая же? — спросил не очень-то спокойный Ладрада. Обстановка не располагала к шуткам.
— Вот что: я свяжу дозорных индейцев, чтобы испанцы подумали, что те сопротивлялись! И тогда их минует гнев хозяев! — ответил спокойно Бартоломе.
И он сам, своими старческими руками, стал связывать молодых, сильных индейцев. Помогали ему Хордан и Родриго. Индейцы, поняв замысел епископа, весело смеялись и покорно лежали, пока их связывали.
А в городе в эту тревожную ночь, под толчки землетрясения, жители покидали свои дома и говорили: «Вероятно, этот грохот возвещает нам о гибели нашего города — о приходе мятежника-епископа, а эти псы-индейцы заснули и пропустили его…» Каково же было их изумление и возмущение, когда наутро они узнали, что епископ и в самом деле пришел в Сьюдад-Реаль! Эта новость поразила их даже более, чем бывшее ночью землетрясение.
Утром члены кабильдо, алькальд и рехидоры направились в собор и расположились там, как будто бы они явились на проповедь.
Епископ как ни в чем не бывало вышел из ризницы и спросил их, с чем они пришли к нему? Встал нотариус города и прочел требования горожан. Там не было ничего нового: они требовали, чтобы он не лишал их права исповеди, не мешал им жить, как они этого сами хотят, а главное — чтобы не принуждал их освобождать индейцев от рабства. В ином случае они откажутся перед папой и королем признать его главой своей церкви!
Лас-Касас очень спокойно и мягко ответил им, что считает их своими детьми. Он не хочет нанести никакого ущерба ни им, ни их имуществу и хочет только спасти их души. Вдруг один плантатор, не поднимаясь с места и не снимая шляпы, нагло прервал его:
— Не кажется ли сеньору епископу, если его так беспокоит состояние наших душ, что он должен был прийти со своими уговариваниями к нам, в кабильдо?
— Послушайте, вы, как вас там, — не сдерживая гнева, вскричал Лас-Касас, — и вы все, что находитесь здесь у меня, сидящие в шляпах! Если бы я хотел просить у вас что-либо из вашего имущества, то я пошел бы к вам говорить с вами у вас дома. Но я хочу говорить с вами о ваших душах, поэтому вы пришли ко мне, в церковь, ибо здесь — мой дом! И вы всегда придете ко мне, если считаете себя настоящими христианами!
Он сказал это с такой силой и убежденностью, что никто не посмел ему возразить. Нотариус попросил назначить священников для исповеди.
— Хорошо! — ответил епископ. — Я назначаю каноника Перреру и всех доминиканцев.
Раздались возгласы недовольства:
— Мы не хотим каноника и доминиканцев! Доминиканцы во всем привержены вашим взглядам. Они сами нищие и не берегут чужого имущества!
— Хорошо, — снова сказал епископ. — Успокойтесь, я дам вам таких, каких вы просите! — и назвал одного священника из Гватемалы и монахов из монастыря ордена Милосердия. — Теперь вы довольны, наконец?
Пока шли эти переговоры, около собора собралось много горожан; они волновались и шумели. Наконец алькальд и члены кабильдо вышли из собора, и все разошлись. Но все же в городе было неспокойно. Монахи ордена Милосердия уговорили Бартоломе провести ночь у них в монастыре, чтобы не подвергаться опасности дома.
Усталый и измученный от ночного путешествия, от всех дневных волнений, Бартоломе вошел в келью и попросил Хасинте принести воды с вином и кусок хлеба; он ничего не ел и не пил целые сутки!
Едва он сделал первый глоток, как услышал страшный шум и крики. В монастырь ворвались вооруженные горожане, которые обнаружили связанных индейцев, лежавших на дороге.
Увидев себя в окружении разъяренных испанцев, размахивавших обнаженными шпагами, даже обычно спокойный Бартоломе замер от ужаса. Никогда еще смерть не была от него так близко, как сейчас, в свете факелов, в этой маленькой келье… Его теснили, ему кричали что-то, он видел бледные от страха лица монахов. Но Бартоломе сдержанно спросил:
— Чего вы хотите от меня в столь поздний час?
В невероятном гаме и шуме он разобрал, что его обвиняют в том, что индейцы связаны, что он и его монахи совершают беззакония!
— Сеньоры, — терпеливо, не повышая голоса, ответил Бартоломе, — не обвиняйте в этом никого, кроме меня! Я увидел дозор ранее, чем они меня. И я собственными руками связал их. Хотя они не выполнили вашего приказа, но вина лежит только на мне!
Один из жителей города, некий Пардо, возмущенно вскричал:
— Посмотрите сеньоры, каков мирный путь! Защитник и спаситель индейцев вяжет их, а на нас пишет доносы в Кастилию, что мы плохо с ними обращаемся!
— Да что с ним возиться, с этим бесстыжим епископом, — закричал другой. — Выкинуть его из города сейчас же ночью, а если не уйдет, найдется хорошая веревка и на него!
— Я не буду отвечать вам! — с гневом вскричал Бартоломе. — Я не хочу лишать бога права строго наказать вас, ибо эти оскорбления вы наносите ему, а не мне!
Хордан и Хуанильо, пробившиеся сквозь толпу, старались оттеснить рассвирепевших горожан от епископа. Но какой-то испанец замахнулся шпагой. В одно мгновенье Хуанильо своей грудью заслонил Бартоломе. Удар шпагой свалил Хуанильо на землю. Хордан ударил негодяя кулаком, и тот упал. Завязалось настоящее побоище. Монахам все же удалось вытолкать вожаков из кельи, а затем и из монастыря.
Бартоломе перевязал рану Хуанильо, но спасти его было нельзя.
— Хуанильо, сын мой! — не сдерживая слез, говорил Бартоломе. — О горе, ты погиб из-за меня!
Так прошла вторая ночь… Когда жители города узнали о смерти слуги, ими овладело смятение: ведь могли убить епископа! Алькальд немедля арестовал убийцу. Перед монастырем появились члены кабильдо, алькальд и рехидоры. Они пришли без оружия, без жезлов, даже без шляп. Они умоляли епископа простить их!
На третий день рождества в городе был устроен турнир в честь примирения епископа со своей паствой. Но Родриго Ладрада не очень доверял этим проявлениям мира:
— Погодите, Бартоломе, еще немного, и эти люди покажут нам свое лицо!
И он оказался прав. После турнира разгоряченные боем и вином испанцы — участники турнира — прямо на лошадях отправились к собору и кричали:
— Нищие бездельники! Скоро доберемся до вас! Берегитесь!
Прощай, Новый Свет!
О корабль! Унесут в море
Опять тебя волны?..
О корабль! Унесут в море
Опять тебя волны?..

События последних дней убедили Бартоломе в том, что ему не удастся провести в жизнь «Новые законы». Тогда он решил пойти на самое меньшее: добиться сокращения непомерных податей, взимаемых с индейцев. Он написал в Мехико и просил прислать коронного судью для пересмотра подати.
В Сьюдад-Реаль прибыл судья. Он был неглупый человек и, ознакомившись с обстановкой в городе, сказал Лас-Касасу:
— Ваше преосвященство, вы знаете меня не первый день. И знаете, каково мое отношение к «Новым законам». Я вполне поддерживаю их, ибо лучше, чем кто-либо, за годы работы в Индии видел произвол и беззакония со стороны наших колонистов. «Новые законы» создавались учеными людьми, авторитет которых неоспорим. Но то, что именно вы принимали в «Новых законах» участие, делает их такими отталкивающими для всех колонистов Индии, в частности для Чиапаса. Как это ни глупо, но они считают, что вы действовали не столько из любви к индейцам, сколько из ненависти к испанцам. И все, что бы я ни делал, проводя «Новые законы», встретит сопротивление, ибо колонисты будут видеть в этом лишь ваше участие и влияние.
— Но что же делать? — спросил Лас-Касас. — Я не вижу выхода из этого тупика.
— Единственный выход, сеньор епископ, — ваш отъезд на то время, пока я буду здесь. Ибо, повторяю, что бы я ни делал: отбирал у них имущество, снижал подати, освобождал рабов, сажал в тюрьму — колонисты будут считать, что я все это делаю из уважения к вам, а не потому, что я королевский судья!
— Какая дьявольская слепота! — в сердцах сказал Лас-Касас. — Но не могу не согласиться с вами. Что вы можете мне предложить?
— Я не успел еще передать вам, что новый президент Аудиенсии Мексики приглашает ваше преосвященство в город Мехико на совещание епископов Индии. И если вы поспешите с отъездом, я буду вам очень признателен, ибо, пока вы в городе, повторяю, я ничего не смогу сделать!
Ночь перед отъездом из Сьюдад-Реаля Бартоломе провел без сна, в глубоких раздумьях. Вот уже не первый раз в его долгой жизни возникает какой-то рубеж, который надо перейти, как опытному полководцу, без потерь и с победой.
Бартоломе вышел в сад. Как всегда, созерцание небесного свода поражало его воображение. В океане звезду путник приветствует как друга, с которым давно расстался. Увидит ли он когда-нибудь эти звезды? Между облаками время от времени показывался Южный Крест. Для моряков это созвездие — точные часы: «Полночь миновала, Крест начинает склоняться».
Невдалеке слышится рокот вулкана. Его жизнь похожа на вулкан: то бурные столкновения, подобные извержению, то глухое кипение под пеплом и лавой. Ни минуты покоя, ни минуты передышки. Надо иметь мужество и сознаться, что «Новые законы» не приняты колонистами, сколько бы ни присылали ревизоров и судей из Кастилии. Видимо, нужна какая-то другая, более могучая сила, способная преодолеть сопротивление, порождаемое гибельной страстью к наживе и жестокостью.
Королевские законы не обладают таким могуществом. Он верил в них, но видит, что они бессильны. Его борьба в Чиапасе показала это, и то же самое было бы в любой другой провинции, в любом другом городе. Надо искать иные способы, иные пути.
Он прекрасно понимал, что король не сможет сломить простыми приказами сопротивление колонистов и пойдет на уступки. Уже сейчас, он это знал, Карлос V отменил некоторые статьи закона; восстания и смуты среди дворянства Нового Света грозили серьезными осложнениями для испанской короны. Предполагалось восстановить закон о наследовании энкомьенд, против которого Лас-Касас так упорно боролся.
…Лас-Касас покидал Сьюдад-Реаль и знал, что это навсегда. И хотя в этом городе ничто не напоминало ему о чем-либо хорошем, все равно чувство печали владело им. Слово «прости» еще не было сказано, но все друзья понимали, что епископ больше не вернется.
Его провожали пешком до монастыря в Синокотлане, где по традиции он всегда останавливался. В дар монастырю он оставил свои большие часы, которые очень любил, и считал, что этот подарок может быть залогом того, что он вернется, а если нет, — прекрасным утешением в грядущих трудностях.
До Мехико его провожали самые близкие друзья: Томас Касильяс, Луис Кансер, Педро Ангуло, Томас Торрес, Хуан Перрера, Хордан Пьемонте. С ним уезжали только Родриго Ладрада и Хасинте.
Бартоломе, прощаясь со своими соратниками, думал: на них не было белых суконных плащей с алым крестом Калатравы, не было великолепных шляп, украшенных плюмажем, не было шпаг с чеканными эфесами, не было золотых шпор на сапогах. Они были одеты в походные монашеские плащи из грубой шерсти, старые, в заплатах, на голове у них были выгоревшие от солнца соломенные шляпы, на ногах — веревочные туфли… Но это были настоящие рыцари — справедливые, отважные, бескорыстные. Те самые рыцари «золотой шпоры», о которых он мечтал тридцать лет тому назад. И он нашел их!
Весть о том, что Лас-Касас едет в Мехико, произвела в городе такое впечатление, что, казалось, идет вооруженное войско против беззащитных колонистов! Президент Аудиенсии вынужден был написать Лас-Касасу письмо, чтобы он задержался где-либо, пока не утихнут страсти, вызванные в городе известием о его приезде, и что он не может ручаться за его жизнь. Тем не менее Лас-Касас въехал в Мехико открыто, днем.
В монастыре, где он остановился, его посетили в тот же час президент и королевский ревизор де Сандоваль. Зная его резкую прямоту и горячий характер, опасный для них, они решили предварительно поговорить с ним, выяснить его намерения.
— Сеньоры, — откровенно сказал Бартоломе, — я понял вас, но не могу ничем утешить. Я буду выступать, как всегда, против рабства, и никогда не устану повторять тем, кто не хочет слышать, о позоре, которым покрывает себя всякий, кто защищает рабство индейцев. Я знаю, что вы, — и он обратился к ревизору, — писали королю обо мне, что я неразумный упрямец. Ну что же! Пусть мне грозит королевская немилость, пусть мне грозит даже смерть, ничто не может поколебать меня.
Давление президента Аудиенсии на совещание епископов не помогло: Лас-Касас заставил его разрешить совещанию обсуждать вопросы рабства. На совещании был составлен мемориал, осуждающий рабство и бесправие индейцев. Он не был напечатан из-за отсутствия средств и распространялся в списках.
Но Бартоломе знал, что эта победа не будет прочной, так как многие епископы в Индии имели крупные земельные владения и не были заинтересованы в отмене рабства. И он окончательно утвердился в мнении, что в Кастилии он сможет сделать больше, чем здесь.
Приняв такое решение, он сразу же назначил своим заместителем каноника Хуана Перреру, и в помощь ему — Томаса Касильяса и Томаса Торреса.
Уже почти накануне отъезда вечером к Бартоломе пришел Хордан:
— Падре, ну как вы думаете, кого я здесь встретил?
— Не знаю, Хордан, кого же?
— Этого негодяя и мерзавца Хиля Кинтану! Того, кого вы справедливо наказали и лишили сана!
— Что же он тут делает?
— А то, что тут его простили, вернули сан священника, и он снова сеет везде подлые слухи о вас, даже предлагает ехать в Кастилию и разоблачить вас там.
— Хордан, друг мой, ну что ты возмущаешься? — улыбнулся Бартоломе. — Ты же не сердишься на москита, который кусает тебя?
— Да, но я убиваю его, а этого Кинтану, прости господи, даже и поколотить нельзя!
— Забудем, Хордан; не стоит он того, чтобы и говорить о нем.
Одним из самых главных соображений, заставивших Бартоломе ехать в Кастилию, было еще и известие о том, что некий ученый, доктор теологии Сепульведа, написал трактат, в котором оправдывает и защищает захватнические испанские войны в Америке, а также утверждает, что индейцы рождены быть рабами.
Огромный ущерб, который могли принести эти вредные взгляды делу укрепления «Новых законов», был очевиден для Бартоломе. Ведь и король, и духовенство, видя столь яростное сопротивление колоний «Новым законам», могли ухватиться за любой повод, чтобы аннулировать эти законы.
Бартоломе знал, что ему предстоит в Кастилии долгая и упорная борьба, по сравнению с которой все стычки с жителями Сьюдад-Реаля казались детской игрой. Там стояла на карте лишь его жизнь, а в Кастилии он должен будет всей силой своего ума, огромного опыта, а главное — всем своим пылом бойца, отстоять завоевания мира и справедливости в Новом Свете.
Когда решение ехать было им уже принято, в Аудиенсию из Совета по делам Индий пришел приказ, гласивший, что епископу Чиапаса, Бартоломе де Лас-Касасу предписывается прибыть в Кастилию, чтобы оправдаться в тех обвинениях, которые присланы в большом количестве от многих частных и официальных лиц из Америки. Если же епископ Чиапаса откажется ехать, то применить к нему меры, обеспечивающие его прибытие.
В ответ на последние слова приказа Бартоломе насмешливо спросил аудитора:
— Какие же меры, сеньор, вы могли бы принять, смею вас спросить?
Аудитор смутился:
— Не знаю, ваше преосвященство, но, если не действуют меры убеждения…
— То применяют меры принуждения? — добавил так же насмешливо Бартоломе. И так как аудитор молчал, Бартоломе продолжал, но уже с горечью: — Еще в юности я видел, как Кристобаля Колона привезли из Америки в Севилью в оковах. Что ж, сеньор, исторические примеры тем и хороши, что их можно повторить!
Аудитору было стыдно: Лас-Касас угадал. Если бы он отказался ехать добровольно, то было приказано привезти его, семидесятичетырехлетнего старика, в Кастилию, как пленника. Не в оковах, конечно, но под стражей…
— Успокойтесь, сеньор, — устало проговорил Бартоломе, — я решил еще ранее полученного вами приказа ехать в Кастилию.
Диспут с доктором Сепульведой
…Часто простое слово бывает благоприятно для благоденствия государств, и не автор этого слова, а само оно в состоянии привести в движение умы, могущественно развивая свою скрытую силу.
…Часто простое слово бывает благоприятно для благоденствия государств, и не автор этого слова, а само оно в состоянии привести в движение умы, могущественно развивая свою скрытую силу.

Вернувшись из Нового Света в конце 1547 года, Лас-Касас немедленно отправился к принцу Фелипе и в Совет по делам Индий. Отчет Лас-Касаса о деятельности в Чиапасе и решения совещания епископов в Мехико, подтвердившие его правоту, сняли все вздорные обвинения, послужившие причиной вызова в Кастилию.
Лас-Касасу предстояло теперь вступить в упорный и долгий диспут с доктором Сепульведой.
Хуан Хинес де Сепульведа был доктором теологии и придворным хронистом короля Карлоса V. Этот ученый имел большие связи при папском дворе, был знаменит как искусный оратор и латинист. Как говорили в то время: «Его элегантный латинский язык мог поспорить с самим Цицероном!»
В своем трактате Сепульведа оправдывал захватнические испанские войны в Америке и доказывал совместимость их с христианской религией. И хотя элегантный латинист стремился к изысканности речи, однако он очень грубо писал «о махинациях небезызвестного Бартоломе Лас-Касаса в его трудах, о жестокости епископа к испанцам» и прочее.
Лас-Касас выразил желание «поставить на место дона Сепульведу» и не замедлил ответить трактатом. Весьма интересен был пролог, который начинался так:
«В этом трактате содержится диспут между Бартоломе де Лас-Касасом, епископом Чиапаса, и доктором Хинесом де Сепульведой, хронистом Карлоса V, где доктор говорит, что завоевания в Индии и войны против индейцев дозволены, а епископ, напротив, утверждает и защищает положение, что такие войны не могут не быть тираническими и несправедливыми».
И далее Лас-Касас писал:
«Доктор Сепульведа получил сведения от некоторых испанцев, из числа тех, кто был наиболее виноват в разрушении Индии и в истреблении народов Индии, и написал очень красиво, по-латыни, сохранив всю вежливость и ученость, присущую латинскому языку. Он выставляет два совершенно ложных положения. Первое: война, которую испанцы проводят против индейцев, справедлива и может продолжаться; второе: индейцы рождены быть рабами и обязаны подчиняться испанцам и преклоняться перед ними, поскольку они ниже по развитию и уму. А если не желают, то можно с ними воевать!
Я утверждаю, что именно эти две причины явились гибельными для Индии и привели к разрушению более 2000 лиг земли и к смерти миллионов жителей. Причем это было сделано самыми постыдными, жестокими и бесчеловечными способами, ибо следует знать, что такое завоевание и что такое энкомьендо! Разукрасив свой трактат, упомянутый доктор Сепульведа делает попытку оправдать форму владычества королей Кастилии на землях Индии. При этом доктор настойчиво и нагло предлагает Совету по делам Индий свою книгу, чтобы ее напечатали. Ему отказывали несколько раз, ибо знали тот ущерб и вред, который принесет эта книга».
Король Карлос тоже понимал, что трактат Сепульведы, в то время когда с таким трудом проводились «Новые законы», может принести вред. И король запретил печатать трактат.
Получив отказ в Кастилии напечатать свою книгу, доктор Сепульведа послал ее в Рим. Там она была напечатана на латыни и прислана в Испанию.
— Нет, просто уму непостижимо! — возмущался Лас-Касас. — Этот пройдоха со своей изящной латынью все-таки пролез в Испанию!
Но когда Сепульведа перевел книгу на испанский язык, Лас-Касас добился приема у короля и доказал ему, что книгу надо запретить. Король согласился и дал приказ собрать по всей Кастилии книги Сепульведы, привезенные из Рима.
При беседе с королем Лас-Касас сказал:
— Теперь вы видите, ваше величество, что Сепульведа, переведя книгу на испанский язык, хочет быть приятен тем, кто имеет высокое положение, но не по заслугам предков или ума, а тем, кто получил свои богатства и возвысился несправедливым путем — кровью и потом несчастных индейцев!
Но ученый доктор имел и в Риме, и в Испании всесильных друзей. Короля посетил папский нунций[59].
— Ваше величество, его святейшество папа Павел Третий склонен не согласиться с вашей точкой зрения насчет запрета трудов высокочтимого и ученого доктора Сепульведы, — сказал нунций.
Карлос молчал, ибо не любил, чтобы папа поучал его, германского императора, короля Кастилии и Леона, владыку Нового Света.
— И, кроме того, — поспешил добавить нунций, заметив на лице короля недовольство, — кроме того, ваше величество, ведь доктор Сепульведа — ваш придворный хронист. Стоит ли оставлять потомкам забавный анекдот о том, как великий король собирал по Кастилии десяток каких-то недозволенных книг!
И оба улыбнулись. Король — потому, что любил и понимал умную шутку, а нунций — потому, что добился победы.
Пришлось королю поручить ученым теологам и юристам разобраться в трактатах Сепульведы и Лас-Касаса.
В 1551 году был созван Совет по делам Индий, на котором должны были выступить Сепульведа, Лас-Касас и все их оппоненты. Сепульведа повторил все то, что он писал ранее. Лас-Касас ответил ему весьма подробно и убедительно. Но, как и следовало ожидать, все враги Лас-Касаса на этом совещании вспомнили свои прежние нападки на него. Они снова обвиняли Лас-Касаса в том, что он враг испанцев, что он лишал их незаконно права исповеди, что он отрицал право владычества испанцев в Индии! Он, епископ Чиапаса, враг христиан, изменник родины и, быть может, даже еретик!
Надо было иметь большое мужество и выдержку, чтобы ответить всем и опровергнуть клевету. Лас-Касас написал в защиту своих взглядов новый трактат, который был напечатан в 1552 году. Это было очень короткое, но замечательное по своей силе и убежденности произведение.
«Ваше величество, — писал в прологе Лас-Касас, — вы послали за мной и вызвали меня на Совет по делам Индий по поводу указаний, которые я составил для священников-духовников в Индии. Да, я подтверждаю, что я требовал, чтобы они говорили, что короли Кастилии не имеют права пользоваться тем, чем они владеют в Индии. Да, я осуждал несправедливую политику испанской короны, ведущей к гибели земель Индии и ее жителей. Но я повторяю и буду повторять всегда, что я осуждал рабство в Индии, ибо индейцы не по праву и несправедливо сделаны рабами».
Со всей убедительностью и юридической обоснованностью в этом и последующих трактатах Лас-Касас не устает повторять одно и то же: индейцы не могут быть рабами, и долг Испании освободить их.
Диспут между Сепульведой и Лас-Касасом продолжался. Сначала он шел в тонах вежливых и мягких, но потом сделался более резким. Уже брошено обвинение Сепульведе, что он схоласт чистейшей воды! Уже в ответ слышится, что Лас-Касас самый опасный и бешеный человек в Кастилии!
Сепульведа, хотя и смеялся над «грубой латынью этого неуча Лас-Касаса», но в душе боялся его огромного практического опыта, поразительной силы доказательств и, самое главное, смелости.
— То, что предлагает уважаемый доктор, ставит наших королей в Индии в положение тиранов, хотят они этого или не хотят! — сказал в своей заключительной речи Лас-Касас. — Право королей должно зиждиться на добром управлении и мире, более дорогом, чем те сокровища, что они получили и получают из Индии. Отрицать это — значит обманывать королей. Доказательства, извращающие истинное положение вещей, — не доказательства! Тот, кто не знает об этом, тот ничего не знает. Тот, кто отрицает это, не больший христианин, чем Магомет! Для предотвращения полного уничтожения индейцев я направлял все свои усилия. И я делаю это не как доктор Сепульведа, который предлагает закрыть перед справедливостью и правдой двери. Я же закрываю двери перед ложными утверждениями и открываю их перед теми, которые основаны на истинном праве!
Члены Совета были напуганы этой смелой и страстной речью. Она дышала протестом против самых твердых устоев власти королевской и власти церкви. Что же делать?
И Совет, и все ученые юристы и богословы признали правым Сепульведу. Казалось, что все кончено. Лас-Касас в отчаянии ушел с заседания… И вдруг, вопреки решению Совета, король отдал приказ уничтожить трактат Сепульведы, «дабы не возбуждать в Индии нездоровых настроений».
Это известие принес Бартоломе наутро лисенсиат де Сото, капеллан короля, один из немногих членов Совета, которые поддерживали его.
— Но я не понимаю, дорогой лисенсиат, — говорил Бартоломе, — как же все-таки король…
— Тут и понимать нечего, епископ! — перебил его лисенсиат. — С самого начала было ясно, что трактат Сепульведы в настоящее время более вредоносен, чем жало змеи. Но Совет по делам Индий и все наши высокоученые мужи задумали тяжесть решения переложить на короля. Виной этому ваши поистине крамольные речи! Попробуй признай вас правым, а Сепульведу — неправым… Это значит расписаться в согласии с вашими мятежными взглядами. И вот члены Совета мудро голосовали против вас, заработав этим себе покой и хорошие отношения и с папой, и с королем! А решать должен был сам король!
— И они знали, что он иначе и не решит? — спросил пораженный Бартоломе.
— Понимали, без сомнения, что существование «Новых законов» во многом зависит от исхода вашего диспута. Принц Фелипе приказал, чтобы ни один экземпляр трактата Сепульведы не проник в Америку. А те, что попали туда, приказано захватить и прислать обратно в Кастилию.
— А как же Сепульведа?
— А что — Сепульведа? — ответил, улыбаясь, лисенсиант. — Он снова займется хроникой, а про вас напишет то, что он сказал вчера после заседания…
— А что же он сказал?
— Он сказал, что Лас-Касас так горяч и красноречив, что сам Одиссей Гомера показался бы рядом с ним скучным!
В стенах коллегии Сан-Грегорио
Подобно меди благородной он в работе блещет, а в тоске безделья — его покроет ржавчины налет.
Подобно меди благородной он в работе блещет, а в тоске безделья — его покроет ржавчины налет.

После успешного окончания диспута с доктором Сепульведой Бартоломе решил не возвращаться в Новый Свет. Он понимал, что, живя в Испании, принесет несравненно большую пользу. Бартоломе отказался от сана епископа Чиапаса, зная, что в Индии есть люди, которые продолжают его дело; это были верные товарищи и соратники: Педро Ангуло, Луис Кансер, Хуан Перрера, Томас Касильяс, Томас Торрес, Хордан Пьемонте… Все, что можно сделать, они сделают, а он будет помогать им и всем тем, кому дороги идеи справедливости и мира.
Свое 78-летие Бартоломе отметил в стенах коллегии Сан-Грегорио, которая со времени возвращения стала его домом. Окрыленный победой в диспуте, Бартоломе отдал печатать свой первый трактат: «Кратчайшее сообщение о разрушении Индий», написанный им еще в 1542 году. В типографии Себастьяна Трухильо в Севилье, где теперь всегда печатал свои труды Бартоломе, была издана и эта книга. Ее немедленно перевели в Европе на многие языки: на латынь — под названием «Жестокости испанцев в Индии», на итальянский — «Муки рабов в Индии», на французский, немецкий.
В трактате он не назвал имен тиранов и убийц. Такое благородство было характерно для Лас-Касаса. Он прекрасно понимал, что достаточно изложить все факты и этим призвать кару на головы виновных. Ведь не было в Кастилии человека, который не узнал бы, о ком идет речь! Как и следовало ожидать, книга встретила самый ожесточенный прием в Испании и вызвала такую злобу против ее автора, что даже те, кто были противниками рабства, обвиняли Лас-Касаса в том, что он враг испанцев, что он не может быть подданным Кастилии.
Известия, приходившие из Нового Света, были неутешительны: все реформы оставались на бумаге. Сопротивление колонистов не уменьшалось, а, наоборот, росло. С гневом и горечью слушал Бартоломе вести о том, как ведут себя в Индии и епископы, и простые монахи.
— Не знаю, плакать мне или смеяться, — говорил он не раз друзьям, — когда я слышу, как скандально велика распущенность монахов и епископов в Индии! Они занимаются торговлей — куплей мирских богатств и продажей церковных таинств. Враги бедных, сластолюбивые обжоры, бездельники и тираны… Правы индейцы, которые сложили поговорку: «бойся быка спереди, осла сзади, а попа — со всех сторон!»
И Бартоломе неустанно искал людей честных и бескорыстных для работы в Индии. Он сам ездил в монастыри и призывал монахов ехать трудиться в Новый Свет.
Ему удалось найти тридцать человек монахов — доминиканцев и францисканцев. Это были простые, но воспитанные в гуманном духе молодые люди, которых всколыхнул горячий призыв Лас-Касаса. Бартоломе собрал средства для закупки продовольствия, дал множество писем и книг. Он сам отвез монахов в Севилью, чтобы убедиться, что их отправят в Индию.
Ему пришлось вступить в бурные споры с чиновниками из Торговой палаты, которая снаряжала корабли в плавания.
— Я достаточно понимаю в морском деле, сеньор, — сердито говорил он чиновнику, ведавшему погрузкой, — чтобы видеть, какова эта каравелла! Она не выдержит столь большого груза и утонет.
— Сеньор епископ преувеличивает, — отвечал невозмутимый чиновник, — груз не так велик и, с божьей помощью, каравелла дойдет до Индии!
— С божьей помощью! — возмущался Бартоломе. — Уж кто-кто, а вы бы не поминали имя бога! Говорю вам, что каравелла перегружена. Я не допущу ее отправки! Вы рискуете ее потопить.
Но сколько ни спорил Бартоломе, каравелла все же была отправлена. И не успел он уехать из Севильи в Вальядолид, как пришло печальное известие, что каравелла утонула прежде, чем вышла из порта Сан-Лукар! Несколько месяцев несчастные монахи сидели в порту, ожидая следующего корабля.
Впервые за долгие годы у Бартоломе была хорошая, светлая, красиво обставленная комната. Большое окно выходило в сад. В коллегии Сан-Грегорио была отличная библиотека. Много книг Бартоломе приобрел и получил в подарок от друзей и родных.
У него был свой секретарь, молодой монах Антонио, человек образованный и умный, горячо ему преданный. С ним жил Родриго Ладрада, друг и сподвижник в течение двадцати пяти лет!
Не было только его старого Хасинте, который едва доехал до Испании. Он тяжело перенес плавание и тихо скончался в родном севильском доме, радуясь тому, что перед смертью повидал донью Луису, застал дряхлую тетушку Мархелину, старого кучера Хорхе… Бартоломе сам закрыл глаза Хасинте, который в течение сорока пяти лет делил с ним в Индии все его радости и горести.
И Родриго — верному другу и товарищу — приходилось заботиться о том, чтобы Бартоломе хорошо спал, не работал по ночам, вовремя ел… Он помогал ему в его трудах, и часто можно было слышать, как громко, ибо Родриго был глуховат, он наставлял Бартоломе:
— Послушайте, епископ! Вы попадете в ад, если не будете защищать несчастных индейцев! Это ваша святая обязанность!
Но всем было ясно, что Родриго и тут не мог не пошутить, так как известно, что об этой своей обязанности Бартоломе никогда не забывал!
Поток писем шел к нему из Чиапаса, из Гватемалы, из Мексики — от друзей, единомышленников, наконец, просто от незнакомых людей, прослышавших о его заботе об индейцах, о делах Индии. Да, молодому Антонио было немало трудов с перепиской Бартоломе, ибо он любил аккуратно и обстоятельно отвечать на письма, а главное — стараться по мере сил и возможностей выполнить каждую просьбу.
Самыми любимыми у Бартоломе были часы, когда в саду собирались его друзья и он читал им отрывки из «Истории Индий» или иных произведений, рассказывал о встречах с великими людьми, о годах работы в Новом Свете.
— Ну вот, Бартоломе, — говорил ему не раз Родриго, — вот, наконец, и мы с вами у тихой пристани…
Однажды светлым летним вечером сидел Бартоломе перед большим окном и с увлечением работал над своей «Историей Индий». Вдруг он услышал, как кто-то вошел не постучавшись.
— Это ты, Антонио? — спросил Бартоломе и обернулся.
Перед ним стоял незнакомый монах в зеленой сутане посланца инквизиционного трибунала.
— Да пребудет с нами господь! — сказал он.
— Аминь! — ответил Бартоломе.
— Я пришел вручить вам послание святейшей инквизиции, — сказал монах. — Вот, распишитесь здесь, — и он протянул большую книгу в зеленом кожаном переплете.
Бартоломе расписался, и посланец святого судилища ушел так же тихо и незаметно, как и появился…
Долго сидел Бартоломе, держа в руках грозное приглашение. В комнату вошел Родриго и зажег светильники.
— Почему вы сидели в темноте, Бартоломе? — спросил он. — Силы небесные, как вы бледны! Вы здоровы?
Вместо ответа Бартоломе протянул ему вызов в трибунал.
— Сохрани и помилуй нас бог, что же делать, Бартоломе?
— Что делать? Идти туда, куда приглашают!
— Надо бежать, — поспешно заговорил Родриго, — надо скрыться куда-нибудь от этого зеленого чудовища!
— Вы рассуждаете как дитя, Родриго! Куда же в Испании можно скрыться от инквизиции? Разве что в могилу. И то не всегда: трупы еретиков вырывают из могил и сжигают на кострах!
— И вы спокойны и готовы идти туда, Бартоломе, мой бедный друг? — в тревоге и отчаянии твердил Родриго.
— Да, я пойду.
— Но надо жаловаться королю, принцу Фелипе, великому инквизитору! Надо просить защиты у папы! Нельзя же вас, самого честного и благородного человека Испании, отдать на растерзание этим кровавым псам!
— Ну что вы говорите, Родриго! Разве вы забыли, как недавно сам король потерпел поражение в деле своего секретаря Вируэса, которого преследовала инквизиция? Недаром наш выдающийся ученый Луис Вивес писал своему другу Эразму Роттердамскому: «Мы живем в очень тяжелое время: в Испании нельзя ни говорить, ни молчать без опасений». Знаете ли вы, что в юности Карлос склонялся к упразднению инквизиции?
— Так почему же, во имя всех дьяволов, он этого не сделал?
— Родриго, друг мой, никто не ответит вам на ваш вопрос. И сам король, вероятно. Когда-то, много лет назад, в Толедо один чистый юноша спросил у другого: «Зачем в Испании инквизиция?» И я ответил Алонсо, ибо вы догадываетесь, что это был он: «Я не знаю, не понимаю, зачем в Испании инквизиция!» И хотя с тех пор прошло более полувека, я отвечу так же: «Родриго, я не знаю, я не понимаю, зачем Испании нужна инквизиция, и все же должен идти на ее судилище!»
Перед инквизиционным трибуналом
Tantum religio potuit audere malorum![60]
Tantum religio potuit audere malorum![60]

Великий инквизитор, его преосвященство архиепископ севильский дон Фернандо де Вальдес, решил слушать дело Бартоломе Лас-Касаса при закрытых дверях. Накануне он имел беседу с председателем трибунала.
— Король благоволит к этому Лас-Касасу, — сказал он тоном осуждения, ибо давно был с королем в натянутых отношениях, — и я не хочу устраивать открытого аутильо[61].
— Но тем не менее, — добавил председатель, — король в свое время убрал неугомонного старика в Чиапас, назначив епископом подальше от Кастилии!
Нехорошая усмешка появилась на лице великого инквизитора:
— Быть может, король надеялся, что кое-кто из колонистов Чиапаса охладит своего не в меру горячего епископа!.. Я хочу, чтобы вы, для устрашения Лас-Касаса, заслушали одновременно дело Хуана Хиля, известного под именем доктора Эгидия, мерзкого еретика-лютеранина.
На аутильо, хотя оно считалось закрытым, по особым приглашениям были вызваны виднейшие ученые и богословы Вальядолида, так как «к вящей славе господа бога и католической веры, святейшая инквизиция устраивает торжественный трибунал, приравненный к богослужению». Отказаться от приглашения было равносильно навлечению на себя подозрения.
Аутильо предшествовал унизительный обычай: через весь город к собору Сан-Пабло, где обычно заседал трибунал, шла процессия судей-инквизиторов и обвиняемых.
Впереди процессии медленно двигался отряд вооруженных копьями и алебардами солдат, как их называли, «защитников веры». Монахи инквизиционного трибунала несли огромное распятие зеленого цвета. Затем шли члены суда, чиновники, приглашенные… А за ними шли обвиняемые; их было двое. Лас-Касас, поверх одежды которого было накинуто позорное санбенито (балахон в виде мешка с красными крестами), и доктор Эгидий, заключенный уже два года в тюрьму, в желтой рубахе с черным крестом, босой, на голове короса — высокая шапка с намалеванными чертями. В руках оба «преступника» несли незажженные зеленые свечи — символ инквизиции.
Бартоломе шел низко опустив голову от скорби и стыда. Не за себя, конечно, а за окружающих, за бледное больное лицо Эгидия, за эти дурацкие накидки… Говорят, что судилище будет торжественным: святая инквизиция любит театральность и пышность даже в позоре и смерти.
— Мы пришли, — шепнул ему один из монахов-инквизиторов, — сейчас входим в собор.
Бартоломе так задумался, что не заметил, как процессия подошла к собору Сан-Пабло, громада которого подавляла своим мрачным великолепием.
— Я пригласил вас явиться лично для ответа на обвинение, направленное против вас прокурором святого трибунала по делу, относящемуся к католической вере! — внушительно и громко произнес председатель трибунала, когда все — и судьи, и обвиняемые, и приглашенные — заняли свои места.
Судьи-квалификаторы, на обязанности которых лежала оценка действий, печатных или рукописных трудов обвиняемых в ереси или иных преступлениях против святой веры, сидели перед своими длинными столами. На столах высилась груда книг и документов, изъятых из личных бумаг Лас-Касаса.
Председатель приступил к судилищу. Первым, по указанию великого инквизитора, допрашивали доктора Эгидия.
— Клянетесь ли вы богом и этим святым крестом говорить истинную правду? — спросил прокурор.
— Да, я клянусь, — ответил Эгидий слабым, но ясным голосом.
— Как вас зовут?
— Хуан Хиль, по прозванию доктор Эгидий.
— Сколько вам лет?
— Сорок семь.
Несчастный Эгидий! Что сделало с ним двухлетнее заключение в тюрьме, допросы, пытки… В свои сорок семь лет он выглядел дряхлым, больным стариком. Лас-Касас вспомнил, что теологи считали Эгидия одним из самых талантливых ученых Кастилии. Его называли новым Томасом Аквинским… Вот, видимо, главная причина его ареста.
— В своих проповедях, подсудимый, вы высказывали мысли, противные истинной вере, — продолжал прокурор. — Вы учили лютеранской ереси!
— Я не признаю себя лютеранином, ваше преосвященство, ибо всегда оставался верен догматам католической религии, — ответил Эгидий. — Даже его величество король, доверяя мне, два года назад назначил епископом Тортосы…
Прокурор насмешливо перебил Эгидия:
— Слава всевышнему, Тортоса была вовремя избавлена святой инквизицией от епископа-еретика! Вы должны признаться в ереси!
Эгидий едва держался на ногах от слабости. Он еще больше побледнел, но ответил твердым голосом:
— Я сказал все, что мог сказать. Все остальное будет ложью.
Допрос Эгидия продолжался три часа. В зале суда стало невыносимо душно от множества людей, от испарений, от тяжелого запаха горящих свечей. Бартоломе уже не слушал, о чем спрашивали Эгидия и что тот отвечал. Пришел в себя он только тогда, когда почти бесчувственного Эгидия[62] сняли с помоста, где стояли обвиняемые. «Теперь моя очередь!» — подумал Бартоломе, и голова вдруг стала ясной. Он поднялся на помост.
— Клянетесь ли вы богом и этим святым крестом говорить истинную правду? — спросил его прокурор.
— Да, я клянусь, — неожиданно для всех звучным и спокойным голосом ответил Лас-Касас.
Приглашенные оживились. Ого, видимо, этот заштатный епископ сейчас покажет себя трибуналу, как в свое время показывал и Королевским Советам, и Совету по делам Индий!
— Как вас зовут? — продолжал прокурор, удивленный тем, что старый Лас-Касас совсем не устрашен трехчасовым допросом Эгидия.
— Бартоломе де Лас-Касас.
— Сколько вам лет?
— Семьдесят восемь.
В зале приглушенное движение. Ну и старик! Подтянутый и крепкий, как солдат, лицо, обветренное всеми ветрами Атлантики и обожженное тропическим солнцем, зоркие и блестящие глаза. Похож на старого орла, который вот-вот взмахнет своими крыльями…
Допрос продолжался по форме. Когда прокурор дошел до вопроса:
— Признаете ли вы, что в своих трудах высказывали мысли, противные святой вере?
Лас-Касас неожиданно ответил:
— Я прошу вас, ваше преосвященство, познакомить меня прежде всего с доносом, по которому меня привлекли к трибуналу!
Прокурор был недоволен нарушением порядка процесса, но отказать в этом не мог:
— Информация о ваших еретических взглядах была представлена нам каноником Хилем Кинтана. Сам свидетель здесь и может…
— Вот как, свидетель! — перебил Лас-Касас прокурора. — Называйте вещи своими именами, ваше преосвященство: не свидетель, а гнусный доносчик, некогда лишенный мною сана!
В трибунале произошло замешательство. Но прокурор быстро оправился и строго ответил Лас-Касасу:
— Вы не должны, подсудимый, выражать ваших мнений, да еще в такой форме. Свидетель Хиль Кинтана, повторяю, присутствует здесь и по положению судопроизводства может выступить сам со своей информацией. Прошу предоставить слово канонику Кинтана, ваше преосвященство, — обратился он к председателю трибунала.
— Давно я не слышал голоса этого негодяя. В последний раз он вопил, когда его за шиворот приволокли к моему столу! — громко сказал Лас-Касас.
В зале снова приглушенный шум. Многие знали о забавном эпизоде в Сьюдад-Реале, когда силач Хордан Пьемонте вытащил из постели мнимобольного декана и привел к епископу.
— Ваше преосвященство, — сказал бледный от злости и страха Кинтана, — я прошу оградить меня от нападок этого бешеного человека!

Пытки индейцев. Старинная гравюра.
— Говорите, Кинтана, никто вас здесь не тронет, — несколько нетерпеливо ответил ему председатель.
Дрожащим голосом Кинтана прочел свой донос. Он состоял из избитых фраз о недостойном поведении епископа Чиапаса, отказывавшего своей пастве в отпущении грехов; о том, что бывший епископ — еретик и враг христиан; о том, что он — изменник родины и недостоин называться подданным короля Кастилии…
— Это все? — спросил Лас-Касас, когда Кинтана кончил читать.
— А вам этого мало? — сказал возмущенный прокурор.
— Однажды, когда один монах жаловался мне на мерзкие действия вашего свидетеля, я спросил его: «Не будешь же ты злиться на москита, который тебя кусает?» Он ответил мне, что надоедливого москита убивают. Так вот я вам скажу, ваше преосвященство: уберите вашего москита, иначе…
— Довольно, подсудимый, — сказал раздраженно прокурор, — вы, кажется, забываете, что находитесь перед лицом святейшей инквизиции…
— О нет, ваше преосвященство, как я могу забыть об этом, когда на мне знаки отличия, — и Лас-Касас показал на свое санбенито.
— Я прикажу вас арестовать за неуважение к трибуналу! И ваша участь будет ужасна!
— В этом я не сомневаюсь!
Председатель тихо сказал прокурору:
— Пусть читают скорее выдержки из его книги, и надо кончать…
Прокурор махнул рукой, и встал один из судей-квалификаторов. Он взял трактат Лас-Касаса «Кратчайшее сообщение о разрушении Индий» и стал читать:
— «…убивали христиане двумя способами: первый — это несправедливая и жестокая, кровавая, тираническая война. Второй — обращение в жесточайшее рабство, в которое никогда не были обращены ни люди, ни животные. Эти два способа адской тирании разрушили земли Индии и уничтожили ее жителей, которым не было числа. Причиной и единственной целью умерщвления людей и разрушения земель было обогащение христиан золотом. Для достижения этого они готовы были на любой произвол на этих землях. Я сам видел, как христиане входили в селения и не оставляли в живых ни детей, ни стариков, ни женщин. И все, кто мог, уходили в леса и горы, спасаясь от людей, столь бесчеловечных и безжалостных, таких жестоких скотов, истребителей и смертных врагов рода человеческого…»
— Остановитесь, — перебил квалификатора прокурор. — Вы признаете, подсудимый, что поносили в этой книге испанцев-христиан, которые были в Индии?
— Я уже просил вас однажды называть вещи их именами. Не поносил, а справедливо осуждал я мерзавцев, тиранов и грабителей, творивших беззакония в Индии.
— Читайте дальше! — приказал прокурор.
— «…хочу сделать вывод и утверждаю и клянусь в верности моих слов, что сами индейцы не давали повода и не были виноваты в том, что одних из них уничтожали, а других отдавали в рабство. И еще я утверждаю, и могу поклясться, ни одного смертного греха против христиан индейцы не сделали, не было ни мести, ни ненависти, которые они могли бы испытывать против христиан, таких страшных для них врагов. Может быть, некоторые индейцы и пытались мстить, но я знаю совершенно точно, что индейцы вели самые справедливые войны против христиан, а христиане никогда не были справедливы, и все их войны против индейцев — самые несправедливые, захватнические и тиранические из всех, что существуют на земле».
— Довольно. Ну, подсудимый, — сказал прокурор, — что вы теперь скажете нам? Не подстрекали вы индейцев к мятежу против Испании?
— Ничуть, ваше преосвященство. Разве это можно назвать подстрекательством? Если вас на большой дороге ограбят или будут убивать разбойники, разве, обороняясь от них, вы будете называть себя мятежником?
В зале раздался одобрительный сдержанный гул. Да, с Лас-Касасом спорить трудно!
— И я считаю, — продолжал Лас-Касас, не обращая внимания на попытки прокурора прервать его, — что никто не может быть назван мятежником, если он не подданный короля, которого он никогда не видел и о котором никогда не слышал. Я утверждаю, что война индейцев против испанцев — святая война, и вели ее индейцы за справедливое дело. И всякий разумный человек оправдает их действия. Только слепота тех, кто правил Индией, не давала им понять этого…
— Читайте дальше! — закричал багровый от бешенства прокурор.
Квалификатор продолжал:
— Выдержка из письма, приведенного в означенном трактате: «…нет здесь христиан, а есть одни только демоны. Среди них нет слуг ни господа, ни короля, а только предатели и изменники закона божьего и королевского… Жестокое обращение, которое терпят все жители от христиан, мешает воинственных индейцев сделать мирными, а мирных — христианами. Ибо не хотят они слышать о христианстве, нет для них ничего более страшного, чем имя христианин, которых они зовут „дьяволы“. И, несомненно, они правы, ибо все, что проделывают испанцы, недостойно ни христиан, ни людей, руководимых разумом, а поистине только дьяволов. И попытки убедить индейцев в другом — это все равно что пытаться осушить море и дать лишь повод для насмешек над Христом и его законами».

Истязания индейцев. Старинная гравюра.
— Что вы скажете теперь, подсудимый? Признаете ли вы, что порочили этими словами святую церковь и христианскую веру?
— Вы ошибаетесь, ваше преосвященство. И я докажу вам это. Не я порочил святую веру, а те, кто воздвигали виселицы и вешали на каждой по тринадцать индейцев, во славу Христа и двенадцати его апостолов. Так говорили люди, называющие себя христианами. Это они обрезали индейцам носы и губы и посылали их, истекающих кровью, распространять сведения о чудесах, которые творит святая католическая вера. Теперь вы можете себе представить, какую любовь индейцы будут испытывать к христианам, как будут верить они в существование бога, доброго и справедливого, какому закону будут они следовать! Вот как велико зло, совершенное этими падшими людьми — испанцами, детьми зла и порока…
Прокурор перебил Лас-Касаса:
— Еще папа Урбан Второй повелел идущим на священную войну за освобождение гроба господня: «Пусть выступят они против неверных в бой!» И в защиту святой веры, во имя господа бога Иисуса Христа, предписано служить ему копьем и мечом!
— Вы хотите доказать, как говорит Эразм, что можно пронзать железом утробу брата своего, ибо индейцы — наши братья, нисколько не погрешая в то же время против высшей заповеди Христа о любви к ближнему? — насмешливо спросил Лас-Касас.
— Да будет вам известно, подсудимый, — строго сказал прокурор, — что богомерзкие сочинения Эразма Роттердамского с тысяча пятьсот тридцать пятого года святая инквизиция предала анафеме. Их нельзя ни читать, ни продавать, ни излагать с университетских кафедр королевства!
— Такие поступки, если ответить словами Лукиана, столь любимого Эразмом, требуют Демокрита или Гераклита, чтобы один осмеял их невежество, а другой оплакал безумие…
— Довольно, подсудимый! — прокурор был вне себя от злости. — Я лишаю вас слова!
— Вы с ума сошли, вступая в спор с Лас-Касасом, — прошептал председатель суда разъяренному прокурору. — Надо скорее кончать. Пусть оглашают приговор. Вы все сказали, подсудимый?
— Да, ваше преосвященство. Надеюсь, вы теперь убедились, что не я порочил святую веру, а те испанцы, что, лицемерно называя себя христианами, показывали индейцам, каков христианский бог, во имя которого их грабят и убивают!
Председатель встал. Встали все члены суда, все присутствующие в соборе. Секретарь трибунала прочел:
— Во имя господа бога! Во исполнение обвинения, предъявленного прокурором святой инквизиции, и произведенного следствия и суда и обсуждения судьями-квалификаторами представленного труда под названием «Кратчайшее сообщение о разрушении Индий», написанного подсудимым инквизиционного суда Бартоломе де Лас-Касасом и напечатанного в типографии Себастьяна Трухильо в Севилье, трибунал считает сей труд еретическим и вредным, а потому подлежащим уничтожению путем сожжения как напечатанных экземпляров, так и рукописи.
…Уже поздно вечером, в коллегии Сан-Грегорио, Бартоломе с горечью сказал своему другу:
— Вы спросили, как я себя чувствую? Могу ответить вам, Родриго, старинной кастильской поговоркой: «если в храме инквизиции подойти к алтарю, выйдешь оттуда если не изжаренным, то опаленным».
«Горькой правды слово…»
…О песнь моя! Ты горькой правды слово
Толпе надменной и суровой
Смягчи и возвести.
…О песнь моя! Ты горькой правды слово
Толпе надменной и суровой
Смягчи и возвести.

Несмотря на гонения, Лас-Касас не переставал работать и писать. После 1552 года он неустанно трудился над завершением многотомной «Истории Индий».
Снова стали говорить о реформе, направленной против основных положений «Новых законов». Эта реформа предусматривала сделать систему энкомьендо постоянной и, более того, наследственной. Индейцы становились пожизненными рабами.
Перед отъездом принца Фелипе в Англию в 1554 году, где он должен был обвенчаться с английской королевой Марией Тюдор, Лас-Касас добился у него приема.
— Ваше высочество! — сказал он принцу. — Что это делается? Вспомните обещания вашего августейшего отца, — что он никогда не будет отчуждать от короны своих вассалов-индейцев. Ведь новая реформа будет гибельной для индейцев, сделав их навсегда рабами энкомендеро. А что такое энкомендеро, вы сами хорошо знаете! И вы отдадите своих вассалов на адские муки!
Когда Фелипе уехал в Англию, Лас-Касас не переставал писать ему и его министрам о том, что проект нового закона надо обсудить, прежде чем принимать. Он опасался, и не без оснований, что этот закон мог быть утвержден принцем в Англии, где не было людей, знающих положение в Индии.
В письме на семидесяти страницах ближайшему советнику Фелипе, епископу Каррансе, Лас-Касас писал:
«…Ваше преосвященство, я еще и еще раз утверждаю, что положение в Индии таково, что требует немедленного вмешательства. Совет по делам Индий не хочет знать или не знает, что там делается. Я уверен, что король будет сурово наказан за то, что он разоряет Индию. Какое право имеет он выколачивать деньги, омытые слезами несчастных индейцев, для короны? Короли Кастилии в большом долгу перед открытым Новым Светом и не имеют права обращаться с индейцами, доводя их до уровня животных. По сообщениям и письмам, которые я все время получаю, я знаю, что индейцы подвергаются новым угнетениям от энкомендеро, которые делают все что хотят, вплоть до убийства! И если я до сих пор не сделал и половины того, о чем я думаю по двадцать раз в день, если я не взял свой посох и не отправился пешком в Англию, — значит, я плохо протестую против тиранов и насильников, хотя бог поручил мне этот труд. Но даже сам бог содрогнулся бы от ужаса, если бы он видел то, что я видел за шестьдесят лет!»
На Фелипе и Каррансу это смелое и страстное письмо произвело большое впечатление. Вопрос о новой реформе был отложен до возвращения принца в Испанию.
Лас-Касас получал множество писем от индейцев, которые протестовали против закрепления их в энкомьендо и предлагали королю в течение нескольких лет выплачивать деньги за переданные им земли.
— Нет, Родриго, я начинаю думать, что мир сошел с ума! — возмущался Бартоломе. — Индейцы, хозяева своей земли, должны платить за нее кастильской короне большие деньги! Земли, которые были бесстыдно и беззаконно захвачены и разорены, индейцы вынуждены выкупать! Где логика, где справедливость?
— Бартоломе, не стоит возмущаться, — говорил Родриго. — Давно известно, что в нашем мире нет справедливости. Я убедился в этом окончательно, когда увидел вас в санбенито…
— Клянусь честью, Родриго, вы дитя! Ну что из того, что я был в санбенито? Это почетная одежда многих достойных людей в Кастилии… Нет, надо писать снова и снова!
Уже жизнь склонялась к закату, но ясность ума, убежденность и направленность действий, неотразимость доводов Лас-Касаса были поистине необыкновенны.
— Если это не мания, тогда это подвиг! — сказал о Лас-Касасе один из выдающихся его современников, епископ Карранса.
Но сам Лас-Касас не считал свою работу подвигом. Он делал ее, потому что не мог не делать.
Спустя 260 лет, в 1822 году, испанский историк Льоренте среди рукописей монастырских архивов Вальядолида нашел два неизданных трактата, принадлежавших перу Бартоломе Лас-Касаса. В одном из них, написанном в 1564 году, утверждалось положение, что короли Кастилии должны вернуть инкам — индейским властителям — незаконно захваченное испанцами Перу.
В другом трактате Лас-Касас выступал как защитник не только свободы индейцев, но и всех народов. Льоренте писал: «Хотя Лас-Касас и был подданным деспотов Карлоса V и Фелипе II, однако он сумел найти в себе смелость, чтобы написать трактат о королевской власти и обосновать превосходными доводами, что королевская власть может быть ограничена, что короли лишь управляют народами и землями согласно принципам справедливости и мира, на основе защиты земель и народов, их населяющих, от внешних врагов. Но при этом короли не могут уничтожать общины и их жителей, не имеют права налагать налоги без согласия жителей. Мы не можем и не боимся утверждать, что, для того чтобы так писать и защищать подобные принципы (принципы ограничения абсолютной власти королей), требуется большое мужество, особенно в тот век, век Карлоса V и Фелипе II».
И далее Льоренте писал:
«Можно лишь удивляться, что Лас-Касас при жизни избегнул мести в стране, где его могли убить так же легко, как убили позднее в Чиапасе епископа, который хотел лишь воспрепятствовать тому, что дамам в церкви во время мессы подавали шоколад!»
Фелипе II, после своей коронации в 1555 году, принял Лас-Касаса. Тот ему сказал:
— Ваше величество, ваш первый долг — спасти Индию от жестоких тиранов, владеющих ею, ибо в ином случае вся Индия превратится в безлюдную пустыню!
— Мы примем меры, дон Бартоломе, — ответил король.
— И знаете ли вы, ваше величество, что вы владеете бóльшим числом слуг, чем вы предполагаете? Нет в Индии ни одного солдата, который бы публично не заявлял, что если он грабит, убивает и сжигает ваших вассалов-индейцев, то только для того, чтобы получить от них золото и послать вам вашу часть!
— Мы примерно накажем тех, кто творил беззакония!
— И поскольку индейцы видят, что так ведут себя не только ваши наместники, но и простые солдаты, то они думают, что у всех христиан такой закон, и создал этот закон бог и король, то есть вы, ваше величество!
Король молчал, не зная, что ответить, а Лас-Касас продолжал:
— И за все, что сделали испанцы, за всю тиранию и злодейства в судный день бог обратит свой гнев на всю Испанию, ибо вся Испания принимает уже семьдесят лет участие в этих позорных делах!
— Ну, что вы говорите! — воскликнул испуганный Фелипе, который был религиозен и суеверен до крайности.
— Да, да, вы не только потеряете богатые земли, которые могли бы прокормить всю Кастилию, но и навлечете на себя законный гнев и возмущение бога!
Когда Лас-Касас ушел, Фелипе удивленно сказал придворным, присутствовавшим при беседе:
— Ни одному человеку в мире не дозволено говорить в лицо королям такие вещи… И все же я слушал его! Что это значит?
Придворные деликатно молчали, ибо на вопрос короля было трудно ответить, раз он сам не мог найти ответа на него.
После встречи с королем Бартоломе решил написать завещание. В Мадриде он обычно останавливался в монастыре Санта-Марии Аточской. Там у него было постоянное помещение, так как этого требовали частые поездки ко двору.
— Зачем это вам понадобилось писать завещание? — подозрительно спросил его Родриго. — Уж не больны ли вы?
— Я никогда еще не чувствовал себя таким здоровым и бодрым, как сейчас, после того как основательно пробрал короля, — усмехнулся Бартоломе.
— Бедняга Фелипе! Представляю, какое у него было лицо, когда он получил очередную порцию правды!
— И все же, мой друг, — продолжал Бартоломе, — именно потому, что я здоров и бодр, надо составить завещание. Ибо не личные вещи, которых у меня нет и не было никогда, а труды и документы я должен завещать. Вы сами твердите мне всегда, чтобы я не забывал работать для блага индейцев. Потому и надо подумать о них после моей смерти.
Родриго недовольно покачал головой. Этот преданный и верный друг, бывший всего на несколько лет моложе Бартоломе, о своей смерти не думал. Но мысль о том, что может не стать Лас-Касаса, была для Родриго невыносима. Показывать это Бартоломе было нельзя. Он сердился и напоминал слова Лукиана: «…если бы люди с самого начала поняли, что они смертны и что, проведя в жизни недолгое время, они уйдут, ничего земного не захватив с собой, люди и жили бы скромнее, и меньше печалились бы, умирая…»
Но завещание Бартоломе было составлено лишь спустя 9 лет — 17 марта 1564 года — нотариусом Гаспаром Теста и запечатано в присутствии семи свидетелей.
«…я дал и дарую коллегии Сан-Грегорио сим все, что я написал на латыни и на испанском языке, — говорилось в завещании, — все, что они найдут написанного мной и касающегося индейцев, а также „Общую историю Индии“, написанную моей рукой на испанском языке.
И является моей волей, чтобы она не выходила за пределы коллегии, разве для напечатания, когда наступит время, причем оригинал пусть будет всегда в коллегии. Я прошу и требую от достопочтенного ректора и братьев, чтобы они этим занялись, хранили и защищали мой труд. Возлагаю это на их совесть.
Поскольку я получаю большое количество писем от различных лиц и почти из всех частей Нового Света, где говорится о зле и несправедливости, которые индейцы терпели от нашей нации, и что испанцы их уничтожают и обижают без причин и они просят похлопотать перед королем и Советом. Поскольку эти письма являются свидетелями истины, которую я в течение многих лет защищал, и в них говорится о несправедливости угнетении и смертях, эти письма будут служить историческими документами, подтверждающимися многими лицами, достойными доверия.
Я обращаюсь к почтенному ректору, чтобы он поручил наиболее уважаемому члену коллегии эти письма, которые хранятся там и которые я получаю и поныне каждый день. Чтобы он сделал из этих писем книгу, подобрав по лицам и по годам, по мере их присылки, и по провинциям, откуда они приходят. И пусть они будут помещены в библиотеку коллегии на вечные времена, ибо если богу будет угодно уничтожить Испанию, чтобы все поняли, что это из-за всех злодеяний в Индии. И пусть проявится справедливость!
Такую подборку надо делать осторожному и добросовестному служителю, и чтобы он довел ее до конца февраля 1564 года.
Я желаю, чтобы это было выпущено, как я уже говорил, и увидело свет и чтобы было подписано моим именем.
И еще отдельно я упоминаю о некоторых подробностях моего погребения. Если возникнут сомнения, то я прошу ректора коллегии Сан-Грегорио со всеми братьями посмотреть и истолковать, ибо с их определением я заранее согласен.
Очень радостными были дни, когда приходили письма из Америки, от старых соратников и товарищей. Родриго это знал.
— Бартоломе! — кричит он еще из другой комнаты. — Ну, как вы думаете, от кого я вам несу письмо?
— Наверное, из Сьюдад-Реаля, от Томаса Касильяса.
— Вот и не угадали! От Томаса, да не от того.
— От Томаса Торреса… Ну, читай, Антонио, послушаем, что пишет нам каноник Накутлана.
Антонио садится на скамеечку. Читая, он видит, как слушают его старики, как загораются их глаза и как воспоминания охватывают их.
— «Достопочтенный сеньор, отец наш! Долго от вас нет писем, живы ли, здоровы ли вы? Брат Хуан де Сепеда привезет вам это письмо и расскажет вам, как плохи дела, как страдает народ от властей Чиапаса…»
— Подожди, Антонио, — перебил чтеца Лас-Касас. — Почему мне не сказали о приходе брата Хуана? Где же он?
— Не волнуйтесь, Бартоломе, — успокаивает его Родриго. — Никуда не денется ваш Хуан. Он отправился в Толедо повидать родных, а на обратном пути в Чиапас посетит нас.
Антонио читает дальше:
— «…от властей Чиапаса и от всех остальных. Если бы вы могли помочь, пусть бог вас благословит за это. Мне сказали, что король взял эти земли, и я думал, что он освободит индейцев от всех податей. Но и под короной они очень угнетены. Даже боюсь взять перо в руки, чтобы написать вам об этом, отец наш! И коррехидор, и его офицеры очень обижают индейцев. Ему платят 200 песо дани и приносят все, что он требует. А офицеры просто грабят и так плохо себя ведут, и такие плохие примеры подают, что я устал об этом говорить и писать…»
— О силы небесные! — не выдерживает Бартоломе. — Я представляю себе, Родриго, этих гнусных мерзавцев так, как будто бы вижу их. Потомки Кортеса, Писарро, Альварадо или даже хуже их… Ибо если те все-таки открывали новые земли, то эти только грабят их. Но читай, Антонио.
— «…не хочу ни о чем говорить, не вижу способа что-либо изменить. Я вижу, как нас угнетают и преследуют местные власти. Мы, монахи, сделали больше всех в попытке объединить мирно народ, построить храмы, школы, дать им воду. Все это встречают плохо, никакой благодарности не получаем, а только на том свете, видимо, получим…»
— Смотрите, чего захотел, — благодарности! — теперь вмешивается Родриго. — На старости лет поглупел Томас, хотя и ваш ученик.
Антонио ждет, пока Родриго успокоится, и продолжает читать:
— «…Брат Хуан де Сепеда вам более подробно расскажет, ибо он много здесь поработал. Его отправили в Испанию, но вы постарайтесь убедить его, чтобы вернулся и привез нам добрые вести. Пусть король окажет нам помощь. А еще хочу сообщить вам, досточтимый сеньор, что свершилось правосудие божье: этого скорпиона Хиля Кинтану, за все его грехи против вас, поглотило море, когда он плыл из Кастилии в Индию!»
— Собаке собачья смерть! — философски замечает Родриго.
И так продолжается чтение письма, все время прерываемое то Лас-Касасом, то Ладрадой. Но Антонио любит их обоих, особенно епископа, и ничуть не обижается на эти помехи: наоборот, он с горячим интересом слушает все, что они говорят, ибо они — живая история открытия Нового Света.
— У меня еще одно письмо, падре, — говорит Антонио. — От Берналя Диаса дель Кастильо, рехидора города Сант-Яго в Гватемале.
Лас-Касас оживляется:
— Читай, Антонио, читай! Я знаю старого Диаса более сорока лет и люблю его, хотя он в свое время был солдатом Кортеса и завоевал Мексику.
Антонио начинает читать:
— «Достопочтенный и светлейший сеньор! Полагаю, что вы не получили двух моих сообщений, ибо я не получил на них ответа. Писал вам и досточтимый дон Педро де Ангуло, наш каноник…»
— Письма стали пропадать, — обеспокоенно говорит Ладрада, — и Томас пишет о том же…
— «…Вы знаете, что некий дель Вельо купил земли у касиков для себя в четырех лигах от города. Все было сделано тайком от меня, а индейцы подумали, что земли нужны, чтобы засеять их пшеницей. Теперь, когда они увидели обман, они требуют эти земли обратно и хотят вернуть то, что им заплатили. Но чем больше они жалуются, тем меньше их слушают. И поэтому индейцы хотят уйти в горы, бросив свои дома, но только уйти от испанцев…»
— Что за произвол! — возмущается Лас-Касас. — Ведь было положено, чтобы испанцам не давать земель в индейских селениях. И опять земли обезлюдят… Надо снова писать в Совет по делам Индий.
— «…А теперь хочу поведать вам о своей жизни. Я уже стар, обременен детьми, внуками и молодой женой, и у меня много долгов…»
— Каков старый греховодник! — смеется Ладрада. — Так он опять, в третий раз, женился! Немудрено, что он не может выпутаться из своих долгов.
— Что же он просит, Антонио? — спрашивает, улыбаясь, Лас-Касас. Он тоже считает, что старый Диас грешит: завел молодую жену в 65 лет!
— «…нельзя ли, чтобы вы попросили у его величества, чтобы мою должность сделали пожизненной, — этим бы вы оказали мне большую услугу. Я знаю: то, к чему вы приложили руку, — то всегда выйдет, ибо это всегда справедливое дело».
Лас-Касас и Ладрада снова улыбаются бесхитростной лести.
Потом Лас-Касас серьезно говорит:
— Антонио, запиши, чтобы попросить в Совете по делам Индий о Бернале Диасе. Он стоит того, ибо один из немногих честных и достойных людей в Индии. Педро Ангуло писал мне, что относится к индейцам Диас хорошо, защищает их интересы. Надо ему помочь.
Недавно из Индии пришло известие, причинившее Лас-Касасу и Ладраде тяжелое горе. Им сообщили, что во Флориде, в 1549 году, были убиты индейцами три монаха-миссионера, и среди них — Луис Кансер, их друг и соратник. Он был самым молодым из них, и у всех, особенно у Лас-Касаса, было к нему отеческое чувство. И этого красивого, доброго и смелого человека не стало…
— Но я не могу осуждать индейцев, Родриго, — с горечью говорил Лас-Касас. — Все же они правы, когда, доведенные до отчаяния жестокостью колонистов, берутся за оружие, хотя убивают не тех, кого должны были бы убить!
Отец индейцев
Мужество есть презрение страха. Оно пренебрегает опасностями, угрожающими нам, вызывает их на бой и сокрушает.
Мужество есть презрение страха. Оно пренебрегает опасностями, угрожающими нам, вызывает их на бой и сокрушает.

— Мне нужна книга Андреса Бернальдеса «История католических королей», ибо я заканчиваю обработку дневника третьего плавания Кристобаля Колона, — сказал однажды после сиесты Лас-Касас своему секретарю. — Над ними мне пришлось более всего потрудиться. А каноник Бернальдес был очевидцем многих событий в жизни Адмирала. Помогал ему писать эту хронику мой покойный друг Леон… — Лас-Касас помолчал. — Затем мне понадобятся «Декады Нового Света» Педро Мартира, а также карта Америки, изданная Яном Стобницем, профессором Краковской академии. Пожалуй, это лучшая карта Нового Света; мне ее хвалил молодой Эрнандо Колон, а он знал толк в картах. Преждевременная смерть унесла этого скромного и умного человека еще в тысяча пятьсот тридцать девятом году. Жаль, что Эрнандо, закончив «Историю жизни Кристобаля Колона», не успел привести в порядок дневники своего отца. И я обещал ему завершить его труды!
— Я сейчас принесу книги из библиотеки. А хроника Гонсало Овиедо вам не нужна, падре?
— Большего враля и болтуна, чем мой старый недруг Овиедо, я не знавал, хотя он считался официальным хронистом Нового Света и мнил себя ученым. Помню я, как в 1548 году мне пришлось воспрепятствовать опубликованию второй части его хроники. Ему следовало бы начать свой труд с рассказа о том, как он был конкистадором, грабителем и убийцей индейцев… Так иди же за книгами!
Секретарь вернулся с книгами и пакетом.
— Падре, прибыл срочный гонец из Мадрида с письмом от его преосвященства епископа де Тораля.
— Вскрой письмо, Антонио, и прочти мне.
Секретарь сломал печать и сел на маленькую скамеечку у ног Лас-Касаса.
Высокочтимый монсеньор!
Надеюсь, что мое письмо застанет вас в добром здравии, ибо, невзирая на столь преклонный возраст, вы подаете пример всем нам образом жизни вашей, протекающей в неустанных трудах.
Мы — слуги святой церкви, и на нас возложена высокая миссия возвеличения католической религии. Одним из деяний, угодным всемогущему богу, является укрепление и распространение святой веры в наших колониях в Индии ради спасения душ человеческих. Но, к глубокому нашему сожалению, не все отцы церкви придерживаются указаний буллы его святейшества папы Павла III, где он повелел считать индейцев настоящими людьми и не относиться к ним, как к бездушным тварям. Мне нет надобности, высокочтимый монсеньор, напоминать вам об этой булле, ибо именно вы приложили немало усилий к тому, чтобы восторжествовали гуманные принципы…»
— Да, сын мой, — сказал Лас-Касас, — епископ Франсиско Тораль был тогда молодым каноником. И скажу тебе, что успеха добились мы не без труда. Самое неистовое сопротивление пытался оказать тогда кардинал Пьетро Карафа, богомерзкая личность! Это он был главой первого инквизиционного трибунала в Риме. Это он, за свое короткое пребывание на папском престоле посла Павла Третьего, составил и опубликовал список запрещенных книг, среди которых были и мои трактаты! Но читай дальше…
— «Как вы помните, известный вам францисканец Диего де Ланда с 1553 года был приором монастыря в Исамале, на Юкатане. В 1561 году в Мериде собрался капитул и с одобрения францисканского ордена, который там имеет большое влияние, Юкатан и Гватемала были превращены в единую церковную провинцию, а Ланда избран главой ее, то есть первым Провинциалом».
— Ну и дела! — снова перебил чтение Лас-Касас. — Церковная власть усиливается, а светская — наоборот. Помнишь, что нам недавно писал Томас Касильяс из Чиапаса? Гватемалу лишили Аудиенсии, индейцы еще больше страдают от произвола местных властей и колонистов. А Мексика далеко! Я писал об этом в Совет по делам Индий, но, видимо, придется ехать самому в Мадрид, к королю!
— «…Получив высшую духовную власть, Ланда учредил во многих городах инквизиционные трибуналы.
Я знаю, дорогой монсеньор, ваше доброе сердце содрогнется от гнева и возмущения, но я не могу не написать вам о преступных деяниях инквизитора Ланды. Вскоре после назначения его Провинциалом приор монастыря Сан-Бернардо в городе Мани донес, что в одной из пещер под городом найдены изображения индейских богов, окропленные свежей кровью, а рядом останки убитого оленя. И хотя, не будучи епископом, Ланда не имел права вести инквизиционное следствие, это не остановило его.
Приехав из Мериды в город Мани, он приказал схватить всех, подозреваемых в апостасии[63]. Инквизиционные трибуналы добивались признания пытками: схваченных индейцев подвешивали на вывернутых руках, обливали спину кипящим воском, жгли раскаленным железом. Пытки и розыск продолжались почти десять месяцев.
12 июля 1562 года Ланда устроил аутодафе. На кострах были сожжены нераскаявшиеся вероотступники, трупы индейцев, погибших от пыток или повесившихся в тюрьме. Остальные жертвы инквизиторов, одетые в санбенито, подверглись публичным истязаниям и позору.
Когда мне сообщили об этих печальных и преступных событиях, я немедленно прибыл в Мериду и приостановил действия Ланды, отстранив его от управления церковной провинцией. Я произвел самое тщательное расследование. По свидетельству секретаря трибунала, пыткам было подвергнуто всего 6330 мужчин и женщин, из них 157 человек вскоре умерло, а оставшиеся в живых стали калеками на всю жизнь. Кроме того, Ланда приказал сжечь 27 индейских рукописей и множество прочих реликвий. Свидетели также показали, что индейцы были потрясены уничтожением их книг и что на них это очень сильно подействовало. Я опасался после этих событий восстаний среди индейцев.
Францисканцы во главе с Ландой протестовали против справедливо предпринятых мною мер. Сам Ланда отправился в Мадрид, чтобы оправдаться в своих действиях перед его величеством королем и Советом по делам Индий. Но его величество был сильно удручен горестным поражением нашей эскадры при Хельвесе[64], а потому долго откладывал рассмотрение дела Ланды.
Теперь же его величество соизволил поручить мне назначить суд над Ландой. Виднейшие богословы Испании примут участие в этом судебном процессе.
Дорогой монсеньор! Не только от своего имени, но и от имени всех гватемальских индейцев — ваших духовных детей — обращаюсь к вам с просьбой: покинуть временно ваше уединение в коллегии Сан-Грегорио и прибыть в Мадрид. Вы знаете суровый нрав его величества; быть может, он захочет оправдать действия Ланды, что будет гибельным для наших колоний в Индии. Вы всегда были истинным другом несчастных жителей Америки, их апостолом. Ваш мудрый и убедительный голос на судебном процессе несомненно принесет успокоение нашим сердцам.
— Не думай, Антонио, что епископ Тораль сильно озабочен судьбой индейцев. Конечно, он по-своему благородный человек, не таков, как палач Ланда. Но, поверь мне, тревожит Тораля не жалость, а беспокойство о том, что истребление индейцев нанесет ущерб владениям испанской короны! И только, быть может, это и спасет моих детей… Но хватит разговоров, Антонио. Скажи Родриго, что сегодня мы едем в Мадрид.
— Сегодня, на ночь глядя, падре?
— Да, да. Пойди распорядись насчет кареты и скажи, чтобы Родриго взял самое необходимое из вещей. А я подберу документы, которые могут быть мне полезны при судебном процессе над Ландой, и письма насчет Аудиенсии в Гватемале. Иди же, да побыстрей!
Через час Антонио вернулся вместе с Родриго Ладрадой. Почтенный Ладрада держал два плаща, а Антонио и сопровождавший их слуга были нагружены подушками, покрывалами и коврами.
— Что это, дети мои? — рассмеялся Лас-Касас. — Вы, кажется, хотите упаковать меня, как старую женщину, в этот хлам? — и он ткнул посохом в груду теплых вещей. — Ну нет! Вы забыли, что я не изнеженный прелат, а старый моряк!
— Но, епископ, — возразил Ладрада, — ведь летние ночи в горах так холодны…
— Ночи холодны, вот как! Холодны для того, кто четырнадцать раз пересекал океан и три раза тонул! Холодны для того, кто исходил болота Кубы, спал на камнях Мексики, одолевал твердыни Гватемалы! Для того, кто сутками не слезал с коня! Для того, кто едва не был заколот испанскими колонистами и чуть не сожжен индейскими жрецами войны! Вы поистине развеселили меня, Родриго.
Родриго и Антонио были обижены.
— Ну, не сердитесь! Хорошо, я согласен, возьмите два плаща и одну подушку. И баста!
— А коврик под ноги? — умоляюще сказал Антонио. — Всего лишь один коврик…
— Хорошо, пускай и коврик! — и Лас-Касас посмотрел на большие часы. — После вечерней трапезы мы сразу же выезжаем. Предупредите ректора, Родриго.
…И вот снова в пути. Карета едет по тихому вечернему Вальядолиду. Когда она проезжает мимо скромного серого дома под номером семь по Calla Colon[65], Лас-Касас говорит своим спутникам:
— Здесь скончался шестьдесят лет тому назад, двадцатого мая тысяча пятьсот шестого года, всеми забытый Адмирал Кристобаль Колон, человек, обессмертивший себя и Испанию открытием Нового Света. И когда я подумаю о том, что назвали Америкой то, что следовало бы назвать Колумбией, горько делается на душе. Я считаю, что если Америго Веспуччи намеренно распространил мнение, что будто он первый высадился на материке, то это было бы не очень честно с его стороны…
— Ну, епископ, — перебил его Ладрада, — будьте справедливы: я слышал, что Веспуччи был достойным человеком. Да и Эрнандо Колон в своей книге не высказывает подобных предположений.
— Все равно, Родриго, такой поступок кажется мне неприглядным, хотя до нас не дошло ни одной карты, составленной Веспуччи, с названием Америка.
— Вот видите, я прав! — торжествующе сказал Ладрада. — И Веспуччи ничем не погрешил против Адмирала, тем более вы сами говорили, что они были в дружественных отношениях.
— А где похоронили Колона, падре? — спросил Антонио, желая переменить тему разговора. Он знает, что имя Веспуччи всегда вызывает раздражение у епископа.
— Ты затронул больной вопрос. Сначала его похоронили в Вальядолиде, а затем останки его тайком были перенесены в Севилью. И лишь в тысяча пятьсот сорок первом году, во исполнение завещания Адмирала, гроб с его прахом перевезли на Эспаньолу, которую он любил более всего, и похоронили там в соборе Санто-Доминго.
— При жизни метался и был беспокойным этот Колон и после смерти не сразу обрел покой, — философски заметил Ладрада.
— Жизнь Колона была полна великих дел и великих ошибок, — ответил Лас-Касас. — Но, несмотря ни на что, я всегда любил его. И мне приходилось часто защищать его и при жизни и после смерти. Вечная слава и мир его душе…
Карета выехала на старинную дорогу, которая была проложена еще римлянами, но отлично сохранилась. С гор веял прохладный ветер. Усталые от сборов, убаюканные движением кареты, уснули и Родриго и Антонио. Но Лас-Касас не спал. Каждый раз перед поездкой в Мадрид им овладевало беспокойство и тревога. Каждая встреча с королем Фелипе II — это испытание для разума и души.
Мадрид, стоящий на пустынном и безжизненном плоскогорье, далеко не так хорош, как прежние столицы — Толедо или Вальядолид. Резиденция короля Фелипе находится под Мадридом, в мрачном Эскориале, скорее похожем на крепость или монастырь, чем на королевский дворец. Что же, это вполне подходит к характеру короля! Фелипе — полная противоположность своему отцу. У Лас-Касаса не было никаких иллюзий насчет старого короля. Карлос V был грубый вояка, кажется, из 39 лет своего царствования он 37 провел в войнах. Но у него был веселый и общительный нрав, с ним легче было говорить. А с Фелипе, замкнутым, нелюдимым, как его называют в Испании — «молчальником», с каждым годом все труднее и труднее.
Но самое страшное не это. Лас-Касаса поражала жестокость Фелипе. Он отметил свою коронацию сожжением еретиков. И в 1559 году, в день венчания с Елизаветой Валуа, он устроил грандиозное аутодафе, на котором были сожжены десятки испанских протестантов. Обнажив меч, король поклялся тогда блюсти святую веру и поддерживать святую инквизицию. И он выполнял клятву, в этом нельзя было усомниться… При нем всю Испанию опутала сеть тайных шпионов инквизиции. При нем брат доносил на брата, муж на жену, сын на отца. Это он издал чудовищный закон, по которому все читавшие, покупавшие и продававшие запрещенные книги, подвергались сожжению. Это он возобновил забытый закон, когда четвертая часть имущества осужденных еретиков доставалась доносчику.
Это он, король Фелипе, молчал, когда 22 августа 1559 года в полночь преступные руки инквизиции открыли двери дома толедского архиепископа Каррансы. Фелипе молчал, когда главу испанской церкви, его духовника и советника Каррансу, стащив с постели, втолкнули в закрытую карету и увезли под сильной стражей. Этот арест ужаснул всю Испанию, но страх перед трибуналом был так велик, что никто не вступился за невинного, которого преследовала ненависть инквизитора Вальдеса.
И несчастный Карранса до сих пор томится в вальядолидской тюрьме. Даже сам папа Пий V вряд ли сможет освободить его из заточения[66].
«Судьба Каррансы будет ужасна, — думал Лас-Касас, — как и всех, кого преследует злоба инквизиции. Фелипе II мог бы его помиловать, но он не захочет ссориться с Вальдесом, этим исчадием ада. Неужели нужно, чтобы усердие к религии всегда служило поводом к отвратительным поступкам? И сможет ли он, Бартоломе Лас-Касас, кого называют апостолом индейцев, защитить своих детей от этой дикой злобы и жестокости? Удастся ли ему смягчить сердце короля?»
Последняя битва
…Хотя он и скроется от очей наших,
Доблесть и слава его постоянно
Приходят на память…
…Хотя он и скроется от очей наших,
Доблесть и слава его постоянно
Приходят на память…

Ночь была мрачная. Облака, гонимые холодным северным ветром, беспорядочно неслись по небу. На монастырском дворе в ночи шумели деревья. Тревожно гудел ветер в трубе.
Сегодня Лас-Касас впервые за много лет почувствовал страшную усталость. Очевидно, последние дни все-таки сказались на его старом сердце. Но сейчас все позади.
— Антонио! — позвал он.
— Иду, падре! — ответил из соседней комнаты юноша. — Я несу вам ужин.
В спальню вошел Антонио с подносом в руках, на котором были стакан воды с вином, ломтик белого хлеба и фрукты.
— Я ничего не хочу. Пожалуй, только воды с вином…
Антонио был очень обеспокоен состоянием падре Бартоломе: лицо его осунулось, глаза потухли, и рука, протянутая за стаканом, дрожит.
— Ничего, сын мой! Просто я очень устал. Сознайся, а ведь эти дни в Мадриде были боевыми?
…Надменный Фелипе II, король Испании, Фландрии, большей части Италии, владыка Нового Света, вынужден был дать аудиенцию Бартоломе Лас-Касасу, человеку, к голосу которого уже в течение полувека прислушиваются и короли, и их советники. И хотя голос «защитника индейцев» не всегда был приятен для ушей королей и их советников, не слышать этого голоса было нельзя, как нельзя не слышать настойчивого набата во время народного бедствия.
При свидании, вопреки своему обыкновению, молчаливый и скрытный король говорил много. Он словно хотел убедить в чем-то престарелого епископа, а может быть, самого себя.
— Поймите, дон Бартоломе, — с горячностью звучал обычно тусклый и невыразительный голос короля, — меча и пламени недостаточно, чтобы очистить от ереси ствол мощного древа, коим является и пребудет во веки веков наша мать, святейшая церковь! Уже будучи в монастыре святого Юста, мой великий отец, Карлос V, не переставал сокрушаться о том, что он совершил крупную ошибку, оставив жизнь нечестивцу Лютеру. Передавая мне корону, мой отец сказал мне: «Сын мой, приказываю тебе как отец: заботливо старайся, чтобы еретики были преследуемы и наказаны со всей яростью и суровостью, которых заслуживает их преступление, не делая исключения ни для какого виновного, невзирая на чьи-либо просьбы, ранг или сан». И, клянусь прахом моего отца, который покоится в монастыре святого Юста, а скоро будет перенесен в королевскую усыпальницу Эскориала, я поступал так, как завещал мне отец!
Король вскочил с кресла и в волнении зашагал по кабинету. Лас-Касас молча сидел и думал: «Пусть выскажется до конца этот страшный и жалкий человек…» А король снова сел и продолжал свою страстную речь:
— Я скорее отрекусь от своей короны, чем позволю еретикам быть на землях Испании! Если бы у меня сын стал еретиком, я собственными руками сложил бы ему костер! А вы, падре, просите за каких-то бездушных тварей, индейцев…
— Но ведь в булле его святейшества папы Павла Третьего указано, ваше величество, что индейцев надобно считать людьми, а не бездушными тварями!
— Для Испании нет папы! — гордо возразил король. — Еще в день моего крещения отец мой написал эти слова кровью мятежников и шпагами своих солдат на мостовых Рима! И находившийся тогда в заточении папа Климент Седьмой признал этот принцип, уплатив королю за свое освобождение четыреста тысяч дукатов из богатой папской казны. А папа Павел Четвертый, этот выродок, недостойный служитель бога, мерзкий итальянец Пьетро Карафа… Он осмелился отлучить[67] моего отца и меня от церкви! — с гневом продолжал Фелипе. — Вы знаете, что он писал в своей булле?
— Нет, ваше величество, — ответил Лас-Касас.
— Вот послушайте, я запомнил эти слова навсегда! Он писал обо мне: «…порождение беззакония, Фелипе Австрийский, сын Карлоса, именующего себя императором. Выдавая себя за короля Испании, Фелипе во всем продолжает дела своего отца, соревнуясь с ним в бесчестии, и даже старается его превзойти!» Что вы скажете?
— Он действительно был наглый лжец, этот Карафа, ваше величество!
— И далее назвал меня раскольником, клятвопреступником, мятежником! Он вызвал войну между Испанией и Францией своей необузданной и мерзкой политикой!
— Но Павел Четвертый остался в постыдном одиночестве, ваше величество, — возразил Лас-Касас, — когда вынужден был через год подписать мирный договор в Кави! Не будем вспоминать о столь давних временах, ваше величество. Я совершенно согласен с вами и с великим Данте, когда он говорил, что
…римская церковь, взяв обузу
Мирских забот, под бременем двух дел
Упала в грязь, на срам себе и грузу!
Подобие улыбки тронуло бледные губы короля.
— Но потом вы не могли жаловаться на Рим, ваше величество! Его святейшество папа Пий Четвертый во всем согласовал свою политику с интересами Испании. А теперь, когда в январе стал папой Пий Пятый, известный своей приверженностью лично к вам, ваше величество, и своей строгостью к реформационным учениям, вы должны быть довольны!
— Да, папа Пий Пятый уже поддержал меня во Фландрии, Гизов — во Франции, Марию Стюарт — в Шотландии. Я не сомневаюсь, что его избрание принесет значительную пользу святому делу возвеличения католической религии во всем мире!
— Для этого, — добавил Лас-Касас, — очень важно, чтобы и в Америке были пастыри справедливые и добродетельные. Не милости я прошу к индейцам, а соблюдения королевских законов. Еще в тысяча пятьсот тридцать восьмом году, прислушиваясь к здравому голосу рассудка и велениям совести, ваш отец, мудрый и великий государь, издал закон, запрещающий инквизиторам Америки привлекать к суду индейцев. Ибо преследование крещеных индейцев приводило к тому, что они, устрашенные инквизицией, покидали свои селения. И богатые земли превращались в пустыни. Это причиняло вред и религии, и Испании. Видя, что инквизиторы не подчиняются королевской власти, ваш отец в тысяча пятьсот сорок девятом году снова повторил сделанное им ранее запрещение.
— Но я сохранил законы отца, — перебил Бартоломе король, — и в тысяча пятьсот пятьдесят восьмом году, и даже в прошлом году, я подтвердил повеление отца оставить индейцев в юрисдикции епископов, а не инквизиции.
— Испанская корона только выиграла от этого, ваше величество, — сказал Лас-Касас. — То, что делает Ланда, противно законам. Он наносит непоправимый ущерб Испании. И его надо строго осудить за это. И еще, знаете ли вы, ваше величество, сколь велики владения монастырей и церковных миссий в Америке?
Король молчал, но слушал с видимым интересом. Лас-Касас продолжал:
— Уже почти нет по-апостольски бедных монахов, единственной целью которых было нести в индейские селения мир и добро. Теперь не меньший ущерб, чем дворянство, наносят колониям епископы, монахи и священники. Их аппетиты непомерны! Они великолепно обогащаются, в то время как их паства, недавно обращенная в веру, пребывает в такой невероятной нищете, что многие из них гибнут от голода и чрезмерного труда. Я написал уже письмо папе Пию Пятому, умоляя его объявить таким священникам, что они обязаны вернуть все золото, серебро, драгоценные камни, приобретенные ими, ибо они отобрали это у людей, страдающих от них. Они обязаны, как пастыри, скорее раздать свое имущество, чем захватывать чужое!
— Я согласен с вами, — мрачно ответил король. — И мне известно, что в городе Лиме монастыри занимают больше территории, чем сам город, и что многие жители его вынуждены платить владельцам монастырей за наем земель и домов. Я приказал вице-королю Перу заняться этим делом.
— Я могу привести бесчисленное множество примеров, ваше величество, как тысячи индейцев сгоняются для постройки храмов, и их заставляют работать не только бесплатно, но и не дают им ни корки хлеба! И индейцы гибнут там тысячами…
— А труд этих индейцев мог бы принести доходы короне, — сказал Фелипе, ибо казна его, как всегда, была невероятно истощена.
— Да, ваше величество, если испанская корона обуздает людей, подобных Ланде, она только приумножит свои богатства! — добавил Лас-Касас, понимая, что этот довод будет самым убедительным для короля.
— Хорошо, — сказал Фелипе и встал, давая понять, что беседа окончена. — Хорошо, дон Бартоломе, я обещаю вам, что Ланда не вернется в Мериду, а его инквизиторы там будут укрощены. Хватит им дела в Испании и во Фландрии. А что касается Аудиенсии в Гватемале — она будет сохранена. Я дам указание в Совет по делам Индий.
И с этими словами король помог Лас-Касасу подняться с кресла и проводил до дверей кабинета, что являлось большой честью. Но король отлично понимал, что советы Лас-Касаса иногда полезны интересам испанской короны[68]…
…Выпив немного воды с вином, Бартоломе лег в постель.
— Положи мне голову повыше, Антонио. Трудно дышать…
Антонио принес из своей комнаты еще две подушки.
— Вот и пригодились твои подушки, — попытался улыбнуться старик, — а я не хотел их брать… — Но дыхание его вдруг сделалось хриплым, прерывистым.
— Отец мой! Вам плохо! Я позову врача… — и Антонио бросился к двери.
Но Бартоломе остановил его:
— Не надо… Он уже не поможет мне.
— Отец, дорогой отец, — и юноша опустился на колени перед постелью, — не надо так говорить! Вы просто утомлены, вам нужен покой.
— Нет, Антонио. Не надо бояться слов.
— Я разбужу Родриго! Я позову приора и капеллана!
— Тоже не надо. Родриго устал, пусть спит. А всем остальным… ты скажешь им, что это случилось во сне. Всевышний примет мою душу без покаяния… Вместо врачей и капелланов лучше прочти мне, мой мальчик, письмо Сенеки к Люцилию, помнишь, там, где закладка…
Антонио повиновался. Голос юноши дрожал от слез. Колеблющееся пламя свечей бросало неровные блики на темные стены комнаты, на бледное лицо умирающего…
— «…и знай, то, что уходит с твоих глаз, ничто не гибнет, но все возвращается в лоно природы, из которого вышло, чтобы вновь возродиться. Все кончается, но ничто не исчезает. И смерть, которую мы так боимся и ненавидим, только видоизменяет жизнь, а не отнимает ее. Кто надеется вернуться, тот уходит спокойно. Обратись к природе: все возобновляется в ней. Ничто не исчезает в этом мире, но периодически проходит и возникает снова. Лето проходит, но через год наступает опять. Ночь затмевает солнце, но день приводит его снова за собой…»
Вдруг бурный порыв ветра распахнул дверь. Пламя свечей заметалось и погасло. Антонио стремительно обернулся к постели Лас-Касаса. Он лежал спокойно и словно тихо спал.
Антонио закрыл дверь. Подошел к окну и распахнул его настежь. Свежий утренний ветер разогнал темные ночные тучи. «Ночь затмевает солнце, но день приводит его снова за собой…»
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ