ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

«…ДРУГИМ БРОСАЙТЕ ДЕНЬГИ И ЧИНЫ»
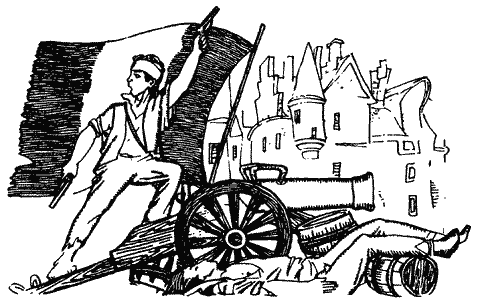
В августовский день 1830 года Беранже снова в Париже. Здесь проездом кузен Форже из Перонны. С ним Беранже пошлет большое письмо, адресованное тетушке Буве. Она еще жива, старая Мари Виктуар. Правда, ее мучит катар желудка. Не мудрено: сколько блюд пришлось перепробовать на своем веку рачительной хозяйке постоялого двора! Восьмой десяток на исходе, но память ее свежа, тетушка не перестала интересоваться делами своего воспитанника и, конечно, политикой.
«Я хотел бы, дорогая моя тетушка, чтобы ты была в курсе славных и нежданных событий, свидетелями которых мы стали, — пишет Беранже. — Я полагаю, что ты одобришь мое поведение во всем этом. Ты знаешь, как я ценю твое мнение».
Эго не какой-нибудь пустой комплимент. Ему действительно дорого мнение той, из чьих уст он впервые услышал о Великой революции, правах и обязанностях гражданина. Именно ей — а вместе с ней и самому себе — хочет он отдать отчет о своей роли в июльских событиях.
«…Моя совесть не упрекает меня в том, чему я способствовал. Хотя я республиканец и один из главарей этой партии, но я сколько мог ратовал за герцога Орлеанского. Это даже несколько охладило мои отношения с некоторыми друзьями, но они меня уважают, так как имеют доказательства личного моего бескорыстия», — пишет Беранже. Это объяснение похоже на самооправдание. Совесть не упрекает его потому, что в поведении его не было и тени личной корысти. Но доволен ли он политическими результатами революции? В ответе на этот вопрос Беранже противоречит сам себе. Начинает с того, что якобы «во всей Франции царит полное удовлетворение», и… тотчас же оговаривается: «Что неоспоримо — это по крайней мере единодушная ненависть к тому, что разрушено, если и нет единодушной любви к тому, что пришло на смену». Оговорка эта очень важна. Уже сейчас, через две недели после установления новоиспеченной монархии, ей далеко до единодушной народной любви…
Из письма видно, что Беранже серьезно беспокоит трещина, образовавшаяся в его отношениях с республиканцами, и ему хочется прежде всего доказать свою личную незаинтересованность в выборе партии, в выборе решения, к которому он их склонял. Мотив этот выплывает в письме дважды. Оправдаться в глазах республиканцев! И, как за спасительный якорь, хватается Беранже за издавна любимое им словечко «независимый».
«…Ты знаешь мою жажду независимости. Удовлетворить ее, отказавшись от почестей и должностей, в тот момент, когда все ссорятся, раздирая шкуру побежденного, — это ли не полезный пример для общества?»
Под знаменем «независимого» он хочет с почетом удалиться с поля боя. Едва ли, однако, пример этот будет столь полезен обществу, как уверяет Беранже себя, тетку и всех других.
Он сам уже предвидит, что позиция нейтрального наблюдателя не сможет удовлетворить его, как и позиция власть имущего.
«Ты, может быть, думаешь, что я очень счастлив положением, которое последние события мне создали. Ты ошибаешься. Я не рожден для партии победителей. Преследования мне приятнее торжества».
Здесь уже прямое признание. Он недоволен создавшимся положением и объясняет это недовольство прирожденными свойствами своего характера: ему, мол, приятнее, чтоб власти его преследовали, а не превозносили. Но корни его недовольства не только в том. Ему чужда Июльская монархия, рождению которой он содействовал. Его удручает разлад с республиканцами. Он не чувствует себя счастливым в лагере победителей и рад бы убежать без оглядки. Уйти в безвестность, расстаться со славой, с Парижем. С каким удовольствием он укатил бы в Перонну! Но друзья-министры, особенно Дюпон — бедняга так страдает на посту министра юстиции! — все еще цепляются за него, просят не оставлять их…
Да, невеселые раздумья наполняют это письмо. Беранже пишет его не торопясь, несколько дней. Это как бы странички его дневника, исповедь перед людьми и собой. К чему пришел он после победы в долголетней борьбе?
«Кстати о возрасте. Знаешь ли ты, что сегодня, 19 августа, мне исполнилось ровно пятьдесят лет? Вот я и попал в старики! К этой теме я мог бы подыскать прекрасные философские рассуждения, но окажу лучше, что я не слишком огорчаюсь своими годами. Жизнь, которая началась со взятия Бастилии и дотянулась до падения Карла X, может быть предметом зависти наших потомков».
И здесь, в этих внешне бодрых словах, звучит скрытая грусть, он произносит их с такой интонацией, будто жизнь кончена и он, оглядываясь назад, прощается с прошлым: «Однако довольно подобных зрелищ, нужно дать отдых Франции и мне».
Почти все его друзья-либералы стали у власти после учреждения новой монархии.
— Бедняги подвешены к мачте с призами наверху, — трунит Беранже.
Лаффит во главе кабинета министров. Тьер — заместитель государственного секретаря. Дюпон де Л’Ер — министр юстиции. Лафайет возглавляет вновь созданную Национальную гвардию. Министры всячески задабривают и охаживают песенника. Что ему подойдет больше всего, какая должность? Пусть выбирает портфель по душе. К настояниям орлеанистов присоединяются и республиканцы.
— Какое же министерство, по-вашему, должны мне дать? — спрашивает он с простодушной миной (только где-то в тонком уголке рта прячется усмешка).
— Народного просвещения! — отвечают молодые друзья.
— Пожалуй, — говорит он задумчиво. — Как только я попаду туда, тотчас же велю ввести книгу моих песен в качестве пособия для женских пансионов.
Все покатываются со смеху. И он смеется.
— Государь хочет видеть, вас во дворце, чтоб поблагодарить за все то, что вы сделали для него и для Франции, — торжественно сообщает песеннику Лаффит.
— Приходите обязательно! Во дворце теперь принимают без церемоний! — подхватывают другие государственные мужи.
— Ладно, ладно, — усмехается Беранже. — Сегодня в сапогах, а завтра, глядишь, в шелковых чулках.
Нет уж, пусть уволят его от подобной чести. Он всю жизнь предпочитал держаться подальше от королевских покоев.
Министры докладывают королю о непонятном упрямстве Беранже. Может быть, это потому, что он считает себя республиканцем?
— Скажите ему, что я тоже республиканец, — медовым голосом произносит Луи Филипп, и на лице его, напоминающем спелую грушу, играет благодушная улыбка.
Беранже тотчас же передают слова короля. «Знаем мы таких республиканцев», — думает он, но ему не хочется вступать в спор, лучше отшутиться.
— Скажите королю, что я слишком стар, чтоб заводить новые знакомства, — говорит он.
Нет, Беранже не прельщают ни должности, ни мундиры, ни галуны, ни пенсионы. Неподкупный. Таким он останется всегда и перед собственной совестью, и в глазах друзей, и — главное — перед лицом народа.
Первые дни после революции Беранже говорил, что вместе с Карлом X свергнута с трона и его песня. Но чем дальше от июльских «славных дней», тем виднее становится ему, что колчан его не иссяк. Одна из первых песен, созданных им после Июльской революции, обращена к друзьям, которые стали министрами. Так она и называется.
Нет, нет, друзья! Мне почестей не надо.
Другим бросайте деньги и чины.
Я — бедный чиж — люблю лишь зелень сада
И так боюсь силков моей страны!
Мой идеал — лукавая Лизетта,
Обед с вином, друзья и жар поэм,
Родился я в соломе, в час рассвета, —
Так хорошо на свете быть никем!
Эта первая строфа песни с провозглашенным в ней скромным идеалом счастья как бы отбрасывает поэта ко временам «Обители беззаботных», когда он был еще вдали от боев.
Но заключительная строфа широко раздвигает рамки прежнего его демократически-эпикурейского идеала:
Здесь, во дворце, я предан недоверью,
И с вами быть мне больше не с руки.
Счастливый путь! За вашей пышной дверью
Оставил лиру я и башмаки.
В сенат возьмите заседать Свободу, —
Она у вас обижена совсем.
А я спою на площадях народу, —
Так хорошо на свете быть никем!
Здесь твердо проведены линии размежевания: по одну сторону — власть имущие, кормщики Июльской монархии; по другую — обиженная свобода, обиженный народ и его песенник, еще не потерявший голоса.
Год спустя этот же мотив отмежевания от корифеев монархии Луи Филиппа прозвучит еще резче и непримиримей в песне «Отказ», адресованной министру иностранных дел Себастиани. Некогда пылкий либерал, Себастиани, получив министерский портфель, соответственно «перестроился». Негодование демократических кругов вызвали слова его, сказанные после подавления польского восстания: «Порядок царствует в Варшаве».
И этот блюститель «порядка» предложил Беранже пенсион.
Министр меня обогатить
Решил однажды…
Пусть карман поэта дыряв и почти всегда пуст, но в подачках от министров поэт не нуждается.
Что мне ваш «золотой запас»?
На утре жизни — в добрый час —
Избрав любовницей Свободу, —
Я, легкомысленный поэт,
Любимец ветреных Лизетт,
Стал ей вернее год от году.
Свобода — это, монсеньер,
Такая женщина, чей взор
Горит, от ярости пьянея,
Чуть в городах моей страны
Завидит ваши галуны
И верноподданные шеи.
«Друзья-министры», однако, предпочитают не замечать выпадов Беранже.
Пусть он перестал навещать министерскую канцелярию, министры сами спешат в его квартирку на улице Овернь, 30. Если не застают его дома, то готовы подождать в кухаркиной комнате. Все тяжелее вздыхает под бременем портфеля юстиции старый Дюпон де Л’Ер, все резче складки на лбу Лаффита, который теряет понемногу былой апломб. Все грустней опускаются уголки рта у старого «бравого» Лафайета. Только Тьер как рыба в воде, пусть водица и мутновата. Это, может, даже удобнее для него. Он не пропадет, сумеет взять свое.
Да, муть сгущается. «Друзья-министры» запутались, растерялись, перессорились, очутились во враждующих между собой партиях. Те, кто полевее и кто, подобно Лафайету, и впрямь рассчитывал на «лучшую из республик», день ото дня теряют свои надежды. «Лучшая из республик» вовсе не расположена насаждать демократию. На взгляд короля Лур Филиппа, достаточно и того, что число избирателей немного расширено по сравнению с тем, какое предусматривалось в хартии Людовика XVIII. Луи Филипп произносит еще при случае либеральные фразы, поддерживая репутацию короля-гражданина. Прохаживается по улицам Парижа с зонтиком в руке, останавливаясь покалякать с добрыми буржуа. Но важнее всего для него благоволение действительных хозяев страны — банкиров, финансистов, держателей акций, крупных землевладельцев.
Пока что он сквозь пальцы смотрит на либеральных говорунов (вроде Лаффита и Дюпона), призывающих к дальнейшей демократизации, — они именуют себя сторонниками «партии движения», но больше по душе королю люди «дельные» и неторопливые (вроде Гизо), которые основали «партию сопротивления» (сопротивляются они, конечно, не хозяевам положения, а ретивым защитникам демократии).
Во главе монархии банкиров сидит банкир королевских кровей. Ему хочется, чтоб Июльская монархия поскорее бы приняла облик вполне респектабельный и чтоб коронованные собратья за границей поскорее забыли бы о ее вульгарном «баррикадном» происхождении.
Видно, недолго продержатся некоторые из друзей Беранже на своих министерских постах. Песенник предсказывает им неминуемую потерю популярности (и в глазах народа и в глазах короля и его приближенных) и советует поскорее улепетывать в отставку.
«Я мог бы многое рассказать из области политики, — пишет Беранже 23 ноября 1830 года своему другу Бернару. — Боятся войны, и я о ней думаю постоянно. Люди и таланты отсутствуют. Наши министры не знают, куда идут. Банкиры и промышленники дерутся друг с другом, ряды республиканцев расстроены, карлисты потирают руки, король управляет, и все идет скверно. Тем не менее нация существует, и я надеюсь, что она сама будет своим провидением; или она дождется хороших времен, или ей понадобится буря.
Что касается меня, то я хочу жить вдали от шума и пытаться вновь начать работать. Потому что, как я часто говорю, я не работаю, чтобы жить, но я живу своей работой, а я хочу еще жить».
Чтоб сосредоточиться на работе, Беранже пробует запереться в своей «обители» на улице Овернь, 30. Швейцару отдано распоряжение не впускать никого без его ведома. Но покоя нет. То министры толкутся у дверей и передают ему через портье жалобные записочки с просьбой впустить их, то назойливые просители. А главное, нет ясности духа, ясности цели. Может быть, перемена места поможет ему? Ведь Беранже давно рвется отдохнуть от Парижа, уехать куда-нибудь поближе к природе. Но Париж все еще цепко держит его.
Париж тревожен. Идет суд над министрами Карла X. Толпы народа теснятся 21 декабря 1830 года у Дворца правосудия. Требуют казни Полиньяка и всей реакционной министерской своры, орудовавшей вместе с ним. Генерал Лафайет во главе национальных гвардейцев явился успокаивать разгоревшиеся страсти, но народ принял бывшего своего любимца весьма прохладно, без тени прежнего восхищения. Нашлись юнцы, которые попробовали даже подшутить над генералом: принялись усердно подбрасывать его, перекидывая, как мяч, из рук в руки.
Министров приговорили к пожизненному заключению. Народ недоволен, но волнения все же улеглись. Король выразил Лафайету благодарность в открытом письме. А на заседании палаты тотчас же вслед за тем упразднили пост главнокомандующего Национальной гвардии, который занимал Лафайет. Глубоко оскорбленный герой трех революций подал в отставку.
Вслед за генералом из чувства солидарности и из желания освободиться, наконец, от опостылевшего бремени подал в отставку и Дюпон де Л’Ер.
— Пора, пора! Ведь я давно советовал вам поступить так, чтоб не замарать себя окончательно, — говорит Дюпону Беранже. — Теперь, надеюсь, вы обойдетесь и без моих советов, и оба мы сможем, наконец, отдохнуть. А вот бедняга Лаффит еще помучится, но, надеюсь, недолго. Король и министры из «партии сопротивления» постараются поскорее спихнуть его, ведь взгляды на «лучшую из республик» у них с Лаффитом не совсем-то сходятся!
Лаффит действительно недолго продержался на «мачте с призами». Для него наступила полоса неудач: один за другим потерпел он крах финансовый и крах политический. В январе 1831 года лопнул его банк, а в марте он слетел с поста министра, разойдясь с королем по вопросам внешней политики.
Спор шел об отношении Франции к освободительным движениям, вспыхнувшим вскоре после «славных июльских дней» в Польше, Бельгии и итальянской провинции Романье. Луи Филипп вопреки настояниям Лаффита не хотел помогать восставшим народам. Франция не выступила на защиту Польши. Не выступила она и против австрийцев, двинувших армию в Романью. Благоразумно отказался Луи Филипп и от короны, предложенной его сыну бельгийцами, освободившимися от голландской зависимости.
Лаффит вынужден был подать в отставку. Пост первого министра занял один из крупнейших банкиров, Казимир Перье, бывший либерал, весьма поправевший, однако, еще в последние годы Реставрации. Замолкли речи о демократизации, о «лучшей из республик». Лицо Июльской монархии — монархии финансовых воротил — определилось.
«ВЕЧНО РАБОТА И ВЕЧНО НЕВЗГОДА»
Итак, «друзья-министры», потеряв свои посты и портфели, перестали докучать Беранже просьбами о советах и жалобами. Он может покинуть Париж, но пока все еще не расстается с ним окончательно. Он мечется, переезжая с места на место. То он в Перонне поет старинным друзьям и тетке песню, сочиненную по поводу своего пятидесятилетия, то снова в Париже на заседании Комитета в защиту Польши, то в Пасси, дачной местности неподалеку от столицы; здесь долго жил его друг Кенекур. Беранже часто навещал милейшего настоятеля «Обители беззаботных», не раз встречался в его доме с Антье и Вильгемом.
Кенекур сызмальства был слаб здоровьем, все покашливал в ладошку, но предпочитал никому не докучать жалобами. И вот его не стало. Получив весть о его смерти, Беранже спешит на похороны в Нантерру. Тяжелая потеря. Друг детства и юности, столько раз великодушно приходивший на помощь Беранже, живой хранитель их общих воспоминаний, лежит в гробу…
Как! Заунывным пеньем оглушен,
Произнести не смею я ни слова?
Но этот гроб, свечами окружен, —
Ведь в нем мой друг, друг детства золотого…
Как рад бывал он песенкам моим!
Как счастлив был, успех им предрекая!
И как цветы сулил в грядущем им,
Их аромат заранее вдыхая…
Беранже написал эпитафию, которую высекли на надгробном камне над могилой Кенекура:
«Вы, встречая его, не знали, какой замечательный ум, какая нежная и скромная душа блестела под скромной одеждой этого чистого сердцем человека. Приветствуйте его, лежащего под этим камнем».
В Нантерре Беранже похоронил друга детства. В Париже он присутствует на похоронах одного из своих соратников по борьбе с Реставрацией, песенника Эмиля Дебро. Эмиль умер от чахотки еще молодым — ему было всего тридцать три года. Он умер, как и жил, в бедности, почти в нищете. Автор многих боевых песен («Колонна», «Солдат», «Помнишь ли ты?» и других), широко известных в парижских предместьях, исполнявшихся и в кабачках и в салонах, Дебро никогда не печатался, не получал гонораров и зарабатывал на жизнь и на содержание семьи перепиской бумаг. Беранже задался целью опубликовать песни Дебро. Пусть песни эти увидят свет хоть после смерти автора!
Удерживают Беранже в Париже и другие неотложные дела. Он срочно готовит небольшой сборник своих песен. Выручка от издания пойдет в пользу Комитета, организованного в помощь восставшей Польше. Сборник откроется обращением к Лафайету, председателю Польского комитета, и двумя призывными песнями «Туда!» и «Понятовский». «Для компании им», а также для того, чтобы увеличить объем брошюры, как говорит автор, он присоединяет к этим песням еще двух сестер: «14 июля», песню, написанную в тюрьме Ла Форс, и «Друзьям министрам».
Оказывается, песни его могут еще пригодиться и при Июльской монархии! Эта мысль звучит в «Обращении к Лафайету». Беранже цитирует здесь отрывки из своей еще не опубликованной «Реставрации песни»:
Да, песня, верно, — чуждый лести,
Я заявлял, скорбя,
Что ниспровергли с Карлом вместе
С престола и тебя.
Но что ни новый акт закона, —
Призыв к тебе: «Сюда!»
Вот, песнь моя, тебе корона.
— Спасибо, господа!
Беранже пишет в «Обращении», что «считает за честь» поддержать начинания, предпринятые французами для подкрепления борьбы польского народа, «такого великого и такого несчастного». «Туда!», на помощь восставшей Польше, зовет поэт французов.
Ах, если б я был юн и смел,
И, ус покручивая гордо,
В успех оружья верил твердо,
И ловко шпагою владел —
Я б, не колеблясь, полетел
На помощь к ней — к несчастной Польше…
И нашим трусам дал бы весть:
«Гусары! Гей! Не медлить дольше!
Туда! Скорей. Зовет нас честь».
Правительство отказало в помощи повстанцам, но, может быть, народ Франции откликнется на призыв, который так настойчиво звучит и в песне «Туда!» и в песне «Понятовский» с ее рефреном:
«Француз, дай руку — и я буду жив!»
Сборник вышел в июле 1831 года.
В «Обращении к Лафайету» рядом с критическими выпадами против Июльской монархии были и такие строки, которые вызвали недовольство левых республиканцев: «…я убежден в необходимости укреплять и сохранять основы существующего порядка вещей».
В письме к Латушу (22 июля 1831 года) Беранже снова пытается обосновать свои политические позиции. Он боится, что разногласиями в среде либералов и республиканцев воспользуются монархисты, которые так и караулят подходящую минуту, чтоб продвинуть своих претендентов на трон. «Что же касается республики, о которой я мечтаю всю жизнь, то я не хочу, чтоб этот плод достался нам второй раз в незрелом виде. Его снова отбросили бы прочь. Будем трудиться над просвещением нации, и моя мечта осуществится без потрясений, постепенно. Я не увижу этого времени, но я уверен, оно наступит».
Он мечтает о постепенном улучшении жизни народа. И в то же время он видит, что Июльская монархия заботится вовсе не о народных интересах, что народ враждебно относится к ней. Неужели он все еще верит в «усовершенствование» этого режима, в возможность расцвета при нем демократии и просвещения масс?
Неразрешимое противоречие!
В годы борьбы с реставрированной монархией Беранже обращался со своими песнями к народу — будил его, поднимал его дух. И героями песен тех лет были стойкие, веселые, смелые сыны и дочери народа: старые ветераны и боевая маркитантка, мудрый и неустрашимый Тюрлюпен, задорная Лизетта, способная обморочить и Сатану и святого Петра, и ее друг бедняк поэт, никогда не падавший духом.
В песнях, созданных после Июльской революции, Беранже взывает уже не столько к самому народу, сколько к правителям Июльской монархии: «Возьмите же в сенат Свободу!», «Позаботьтесь же, наконец, о народе, облегчите его участь!»
Изменяется тон песен. Изменяются и герои. На место неунывающих бедняков с городских окраин становятся изнемогшие, безответные страдальцы-крестьяне. Поэт видит народное горе, оно не убывает после революции и волнует Беранже все больше и больше. Во время своих долгих прогулок он навещает крестьянские домики и в окрестностях Перонны и в Пасси. Люди с заскорузлыми ладонями и потемневшими лицами, работающие от зари до зари, близки ему, он знает их с малых лет. Пахари, пастухи, виноградари. И те, что, не выдержав, пошли ко дну или занялись «темными» промыслами: бродяги, нищие, контрабандисты. Из собственных уст этих людей он слышит повести о их жизни.
Вечно работа и вечно невзгода.
С голоду еле стоишь на ногах…
Все, что нам нужно, — все дорого страх…
Вот он, раздавленный бременем труда, налогов, вечно недоедавший крестьянин Жак. Лежит мертвый. «Встань, мой кормилец, родной мой, пора!» — причитает жена. Напрасно. Он больше не встанет.
Смерть для того, кто нуждой удручен, —
Первый спокойный и радостный сон.
Никогда раньше в поэзии Беранже не было такой безысходной горечи. В песнях его молодости бедняки были счастливей богачей. Созданные по образу и подобию самого автора обитатели чердаков и трущоб побеждали силой духа нужду и нищету. Огонь борьбы, сопротивления, надежды освещал лица героев его песен зрелых лет.
А теперь как будто угасло мятущееся пламя, и при холодном свете пасмурного дня встали перед глазами поэта уже не смеющиеся, а плачущие бедняки. И зрелище их жизни вызывает мучительное сострадание.
Но вместе с состраданием рождается и возмущение. За что? Во имя чего должны страдать и вечно сгибаться бедняга Жак, и его жена, и рыжая Жанна (из одноименной песни), и старый бродяга? Ведь они не бегут от труда. Напротив, рвутся к труду. Но одни, надрываясь всю жизнь, так и не выбьются из силков нужды, другие же выброшены за борт жизни, становятся изгоями.
Я смолоду хотел трудиться,
Но слышал в каждой мастерской:
«Не можем сами прокормиться;
Работы нет. Иди с сумой!» —
жалуется старый бродяга.
В деревне налоги. В городе безработица. Тюрьма вместо больниц. Осуждение вместо помощи. Несправедливый строй душит человека, уподобляет его, рожденного для плодотворного труда и радости, глухому, слепому червю. Такие мысли вызывает зрелище этих горьких человеческих судеб.
Старый бродяга бросает укор отечеству, отринувшему и растоптавшему своего сына:
Отечества не знает бедный!
Что в ваших тучных мне полях,
Что в вашей славе мне победной,
В торговле, в риторских борьбах?
Да, эти надломленные люди далеки от патриотизма старого сержанта. Но разве виноваты они в том? Отечество, ради которого они трудились, сражались, умирали, поворачивается спиной к беднякам, не заботится о них.
И это после революции! После той революции, которая, как думал Беранже, должна круто повернуть весь строй жизни Франции, возродить и продолжить на деле идеи, завещанные первой революцией. Нет, он, конечно, не мечтал о том, что благодетельная перемена произойдет сразу, но надеялся, что хоть постепенно по «мосту, переброшенному через поток», французы переберутся на солнечный берег республики братства и равенства. И что же? Движения не заметно. Страдания народа усиливаются. Рабочие ткацких фабрик в Лионе восстали, не выдержав нечеловеческих условий труда, а власти подавляют это восстание железом и кровью. Крестьяне в деревнях стонут от увеличившихся налогов, старые бродяги — нищие по-прежнему умирают в придорожных канавах.
Социальная тема поднимается в поэзии Беранже и встает на место воодушевлявшей его прежде темы революционно-патриотической. Что это, отступление или шаг вперед в его творчестве? Здесь противоречиво сочетается и то и другое.
Беранже открывает новые дороги и земли своей поэзии, обнажая неприкрашенную правду народного страдания. И в то же время он и теряет что-то очень дорогое, очень важное, ту веселость, тот задор, ту силу боевого призыва, которые звучали в его песнях времен Реставрации.
Перемены в его поэзии — это и перемены в нем самом, в его личности, в его отношении к миру.
Он не утратил самого важного — любви к народу, не утратил остроты взгляда и меткости прицела. Об этом говорят его новые песни. Но жизнерадостность его потускнела. И, конечно, это не только потому, что ему уже минуло пятьдесят. Он сам признается, что может еще тряхнуть стариной при виде лукавой Лизетты. Предчувствие надвигающейся старости лишь присоединяется к ощущению смятенности и бездорожья, которое появилось у него после того, как победа революции обернулась на деле победой не народа, а буржуазии. И это ощущение особенно горько для человека, привыкшего видеть перед собой ясную цель.
«БЕЗУМЦЫ»
В деревнях умирают страдальцы Жаки. В Лионе не выветрился еще запах крови и пороха после расправы над восставшими рабочими. В Вандее вдова герцога Беррийского, тайно пробравшаяся в пределы Франции, пытается раздуть роялистский мятеж. А в Париже весной 1832 года свирепствуют холера и цензура. Штабелями складывают на повозки трупы жертв холеры в холщовых мешках вместо гробов.
Одного за другим судят и сажают в тюрьмы редакторов, художников, журналистов, выступающих с фельетонами и карикатурами на Луи Филиппа, его министров и Июльскую монархию в целом.
Еще в начале 1831 года художник Филипон, издатель еженедельника «Карикатюр», выявил и подчеркнул в своих остроумных рисунках необычайное сходство физиономии «короля-буржуа» с грушей. Суд и тюрьма не устрашили ни самого Филипона, ни его столь же остроумных и талантливых собратьев из лагеря оппозиции.
Целый поток карикатур обрушился на Июльскую монархию. Они появлялись на страницах газет и журналов, на стенах домов и в витринах лавок, около которых тотчас же собирался народ. В декабре 1831 года в витрине лавки Обера была вывешена литография молодого художника Домье «Гаргантюа». Гигант с толстым брюхом, грушевидной физиономией и паучьими ножками восседает на троне, высящемся над Парижем. Усталые, согбенные люди тащат по узкой лесенке мешки с золотом к открытой пасти чудовища. Золото — его пища. Сквозь отверстие в троне мрачный идол извергает переваренное золото. Превратившись в кресты и орденочки, испражнения эти попадают в руки богачей, министров, политиканов, толпящихся у подножия трона.
Чудовище на рисунке Домье совсем не похоже на веселого гиганта из книги Рабле. Этот новый Гаргантюа вызывает омерзение и ужас.
Полиция в тот же день конфисковала литографию, а художника за оскорбление правительства суд приговорил к шестимесячному заключению и денежному штрафу.
Но карикатуры не убывали, фельетоны становились все острее. А в задних комнатах кабачков было, пожалуй, еще многолюднее, чем накануне 1830 года. Все больше рабочих присоединялось к тайным обществам республиканцев. Даже холера не смогла приостановить нарастающее движение.
Беранже в стороне от близящейся схватки. Сохраняет позицию «независимого»: не присоединяется к республиканцам, но и от власть имущих держится вдали, упрекая их в непростительных ошибках.
Ему слишком трудно, слишком больно расставаться с надеждой, что новая монархия — мост к республике — может еще «исправиться» и привести французов куда следует мирным путем, без кровавых междоусобиц. Ведь революция, за приближение которой он столько лет боролся, уже свершилась. Неужели враждующие партии не смогут договориться?
Приближается вторая годовщина Июльской революции. Весной 1832 года Беранже работает над песней «Июльские могилы», в которой славит блузников столицы — героев баррикад, славит народ, низвергнувший феодальную монархию.
Как был велик он — бедный, дружный, скромный,
Когда в крови, но счастлив, как дитя,
Не тронул он казны своей огромной
И принцев гнал, так весело шутя.
Июльским жертвам, блузникам столицы,
Побольше роз, о дети, и лилей!
И у народа есть свои гробницы —
Славней, чем все могилы королей!
Пусть не забывают преемники Бурбонов, что они призваны к власти революцией и всем обязаны народу!
В заключительных строфах Беранже бросает взгляд в будущее:
Во всех краях Свобода водворится.
Отживший строй погибнет наконец!
Вот — новый мир. В нем Франция — царица,
И весь Париж — царицы той дворец.
Да, приближается вторая годовщина Июльской революции. И блузники столицы, братья тех, кого воспел Беранже, те, кто остался в живых, восстают против Июльской монархии, навязанной им буржуазией.
5 июня 1832 года в Париже вспыхивает восстание, во главе его левые республиканцы. Но на этот раз песенника не видно на баррикадах…
День и ночь гремит колокол монастыря Сен-Мери, ставшего крепостью республиканцев. О героях июньского восстания будут складывать предания, писать книги. Июньские повстанцы оживут через тридцать лет в романе Гюго «Отверженные». Они дрались, не жалея жизни, они были героями до конца. Но горсточка героев не могла одержать победу над полками регулярных войск, направленных Июльской монархией против повстанцев.
Новые могильные холмы вырастают на парижских кладбищах — июньские могилы. Разве похоже все это на тот новый мир, о котором мечтает Беранже? Какие же дороги ведут к этому новому миру?
В нескольких лье от Перонны высится старый замок де Берни. Здесь родился в 1760 году и правел свое детство граф Анри де Сен-Симон. Еще в отрочестве Беранже слышал много рассказов об этом человеке от его пероннских земляков. Молодой граф отправился вслед за Лафайетом в Америку и участвовал там в войне за независимость. Когда пришла Великая французская революция, Анри Сен-Симон отказался от графского звания. Перонцы гордились своим уроженцем, хотя он с тех пор почти не навещал родных мест.
Во время империи и Реставрации Сен-Симон бедствовал. Подобно Беранже, он вынужден был работать в канцелярии, чтоб не умереть с голоду. Книги, которые он писал, не могли прокормить великого мыслителя. Друзья и приверженцы его учения обманывали надежды Сен-Симона. И он решил пустить себе пулю в лоб. Выстрел лишил его одного глаза, но не жизни. Жизнь продолжалась, еще более страдальческая, чем прежде. Сен-Симон умер в 1825 году. Настоящая слава пришла к нему только после смерти. Учение его завоевывало все новых сторонников во Франции и других странах.
Беранже и раньше был знаком с идеями Сен-Симона, но теперь, после Июльской революции, в дни напряженных поисков новых дорог, он снова погружался в его книги, все глубже воспринимая строй мыслей автора, его проповедь социализма, его веру в преобразование общества мирным путем.
Во время наездов в Перонну Беранже совершал паломничества к замку Берни и, шагая по пикардийским долинам, размышлял о будущем, о путях к нему. Да, Сен-Симон прав, выступая в защиту неимущих. Нищета, угнетение, страдания всех несчастных Жаков и Жанн должны прекратиться в новом обществе, где имущественные блага будут распределены не волей слепого случая, а согласно разуму и справедливости, думал Беранже. Как и Сен-Симон, он признавал силу убеждения, верил в силу разума и науки. Вслед за Сен-Симоном Беранже хотелось верить, что изменение общественного строя может произойти постепенно, без революционных битв.
Проповедь социалистических преобразований звучала и в книгах Шарля Фурье. Беранже питал безграничное уважение «к этому гениальному человеку, еще недостаточно оцененному собственными его учениками». Через несколько лет в письме к Помпери, биографу Фурье, Беранже выскажет свое отношение к великому утопическому социалисту и его ученикам: «Они говорят о нем, как о божестве, а не как об учителе, чье дело может быть завершено только горячими и разумными последователями». Не слепой культ, а разумное восприятие идей Фурье и воплощение их в жизнь хотелось бы видеть Беранже. Сам он при всем уважении к мыслителю считал, что социалистическое учение Фурье неполно. Восхищение вызывал у Беранже облик Фурье-человека, с его убежденностью в своей правоте и действенной силе призыва.
«Я вас упрекну, — читаем мы в том же письме Беранже к Помпери, — что вы опустили в вашем биографическом очерке одну черту Фурье, которая, как мне кажется, восхитительно его обрисовывает: это пунктуальность, с которой он ежедневно в течение десяти лет ежедневно в полдень — время, назначенное им самим для встречи, — ждал у себя дома богача, который бы ему доверил миллион для устройства первого фаланстера. Ничего нет более трогательного по сравнению с этой верой, горячей и неизменной. О, как хотел бы я быть обладателем миллиона, чтоб вручить ему, хотя его учение мне кажется неполным и хотя он предусматривает только упорядочение материальных отношений!»
Безумцами называют апостолов новых учений «трезвые» накопители — люди, которые находят смешным ребячеством заботы о судьбах человечества, люди «золотой середины», неспособные возвыситься над заурядным течением заурядной своей жизни, неспособные к полету мечты и мысли.
Оловянных солдатиков строем
По шнурочку равняемся мы.
Чуть из ряда выходят умы:
«Смерть безумцам!» — мы яростно воем.
Поднимаем бессмысленный рев,
Мы преследуем их, убиваем —
И статуи потом воздвигаем,
Человечества славу прозрев.
Стихотворение Беранже «Безумцы» — гимн смелым первооткрывателям, раздвигающим пределы человеческой мысли и деяния.
Такими «безумцами», которыми будет гордиться людской род, утверждает Беранже, были Сен-Симон, и Фурье, и последователь Сен-Симона Анфантен, ратовавший за женское равноправие.
Над ними смеются: «Это были безумцы все трое».
Господа! Если к правде святой
Мир дорогу найти не умеет —
Честь безумцу, который навеет
Человечеству сон золотой!
Мечты провидцев, апостолов новых учений порой неосуществимы (как мы видели, Беранже сознает неполноту учения Фурье, ошибки его последователей). И все же не только несбыточные мечты и «золотые сны» приносят эти «безумцы» человечеству. Они зовут людей к великим дерзаниям; подобно Колумбу, они открывают перед людьми новые горизонты.
По безумным блуждая дорогам,
Нам безумец открыл Новый Свет:
Нам безумец дал Новый Завет —
Ибо этот безумец был богом.
Если б завтра земли нашей путь
Осветить наше солнце забыло —
Завтра ж целый бы мир осветила
Мысль безумца какого-нибудь!
Стихотворение «Безумцы» было впервые напечатано в «Песеннике сен-симонистов» и в том же 1833 году помещено в новом сборнике песен Беранже.
Стихотворение это не было единственной данью поэта теням зачинателей и проповедников утопического социализма. Сен-симонистские идеи уже давали себя знать в его песнях о бедняках деревни; эти же идеи лежат в основе философского стихотворения «Четыре эпохи». Поэт славит движение человечества вперед, но видит трезвым своим оком, что мечты о совершенствовании мира пока еще очень далеки от реальности. Торжественный марш строф прерывается перед самым концом горькой нотой. Человечество вступило в четвертую эпоху, где должны стать явью гуманность и мир, братство и справедливость.
Одну семью уж люди составляют…
Что я сказал? Увы, безумец я:
Кругом штыки по лагерям сверкают,
Во тьме ночной чуть брезжится заря…
Одна лишь Франция вступила на новый путь. (Беранже хочет, чтоб это было так!) «Сияй же миру утренней зарей!» — обращается поэт к своей родине.
«НАРОД — ЭТО МОЯ МУЗА!..»
«Мои песни — это я сам, — пишет Беранже в предисловии к сборнику 1833 года. — Вот почему грустный бег времени дает себя в них знать по мере того, как они накапливались целыми томами, и это заставляет меня опасаться, не покажется ли последний том слишком серьезным».
Предисловие это — его исповедь и его эстетический манифест, предназначенный для молодежи, для новых поколений поэтов. Беранже пишет неторопливо. То и дело останавливается — как бы всматривается в прошлое и настоящее, в глубь своей борьбы, своего сердца и своих песен.
«Счастье человечества было думою всей моей жизни. Этим я обязан, без сомнения, классу, в котором родился, и практическому воспитанию, которое там получил. Но нужны были необычайные обстоятельства, чтобы песеннику решать важнейшие вопросы общественных реформ».
Под необычайными обстоятельствами он разумеет ход французской истории после Великой революции конца XVIII века. Пеструю смену политических систем, правительств и правителей. Растоптанные надежды патриотов, борцов за равенство и свободу… Трагикомедию Реставрации и все крепнущую борьбу двух лагерей… Во всем этом водовороте событий он, песенник, руководствовался всегда, — может быть, даже больше, чем собственными раздумьями, — народным инстинктом.
«Я изучал его с особой тщательностью при каждом событии, и почти всегда оказывалось, что народные чувства настолько соответствуют моим соображениям, что я мог с ясностью намечать свою линию поведения в той роли, какую на меня возлагала в те времена оппозиция.
Народ — это моя муза!..»
Он прав, именно в близости к душе народа, к его стремлениям заключена необоримая сила, которая вела поэта и не изменила ему в пути.
Бывало, правда, что, черпая силы в народе, поэт разделял с ним и его слабости. Одной из них была идеализация Наполеона. Но даже слабости своей музы Беранже заставлял служить интересам борьбы. «Поверженный колосс» помогал ему выявлять все ничтожество пигмеев, позоривших родину.
Итак, жить и петь для народа — вот в чем видел он главную цель жизни. И еще об одном, очень важном для него жизненном принципе хочется ему сказать здесь. Он никогда не действовал по чьей-либо указке, ни от кого не зависел — ни от друзей, ни от богачей, ни от власть имущих; никогда не гнался он за деньгами, должностями и отличиями, всегда был бескорыстен, неподкупен.
Только одного человека знал он, от которого не ушел бы, даже встань он у власти. «Этот человек Манюэль, которому Франция должна еще поставить памятник…»
Отложив перо, Беранже надолго задумывается. Манюэль встает, как живой, перед ним. Необходимо сказать о своем друге здесь, в этой прощальной беседе с публикой. Манюэль верил в народ. «Счастье Франции было его постоянной заботой». О, если бы Манюэль, а не другие, которые именовали себя политическими его друзьями, принял бы участие в новом правительстве! Все тогда, как кажется Беранже, все могло бы пойти по-иному. И в страницах предисловия, посвященных памяти «преданного друга и самоотверженного гражданина», слышится упрек тем людям, от которых Беранже хочет уйти, с которыми ему не по дороге…
Несколько слов надо оказать в защиту песен молодости, «книги, далекой от намерения служить воспитанию молодых девиц».
Он откидывается на спинку стула, и на лице его вспыхивает озорная улыбка прежнего «брата Весельчака». Да, шаловливые и резвые детишки его молодости еще погуляют по свету и потешат французов. Он не отрекается от них.
«Я только скажу, если не в защиту, то в извинение, что эти песни, безумные вдохновения молодости и ее возвращений, были полезными товарищами суровым припевам и политическим куплетам», — пишет Беранже.
«…Большое разнообразие моих сборников сыграло немалую роль в успехе моих политических песен».
Борьба против дряхлой монархии Бурбонов завершилась победой.
«Я не требовал почестей во время победы: мое мужество исчезает при возгласах, издаваемых ею. Мне думается, что поражение больше подходило бы моему характеру! Но сегодня я осмеливаюсь требовать своей части в победе 1830 года — победе, которую я сумел воспеть лишь много позднее, перед могилами граждан, которым мы ею обязаны».
Поэт-песенник сделал свое дело, но это вовсе не значит, что он претендует на длительную славу. «Я всегда думал, что мое имя не переживет меня и что моя слава померкнет тем быстрее, чем ее по необходимости преувеличивали в интересах партии, которая ее использовала».
Нет, нет, он не хочет славословий льстивых панегириков…
«Моя жизнь поэта принесла пользу, и в этом мое утешение. Нужен был человек, который говорил бы с народом языком понятным и любимым и оставил бы своих последователей, создающих новые вариации того же текста.
Этим человеком был я».
Некоторые упрекают его, будто он «извратил жанр песни», сделав ее более возвышенной, чем песни Колле, Панара и Дезожье. «Было бы глупо это оспаривать, так как в этом, по-моему, и кроется причина моих успехов», — пишет Беранже.
Действительно, он поднял, развил, усовершенствовал и расширил жанр песни. И на это вдохновил его народ. Народ ждал не одних только веселых, развлекательных песенок, «…народ хотел, чтоб о его разочарованиях и надеждах говорили степенно и сурово. Он привык к этому возвышенному стилю благодаря бессмертной «Марсельезе», которой никогда не забудут, что и показала великая неделя».
Песенник обращается к молодым и великим поэтам. (Ну, конечно, он прежде всего имеет в виду Виктора Гюго и других прославленных поэтов-романтиков, хотя и не называет имен.) Он советует им не пренебрегать таким жанром, как народная песня.
«Мы на этом деле выиграли бы, и смею сказать, что и им полезно спуститься подчас с высот нашего старого Пинда, который, пожалуй, слишком аристократичен для нашего доброго французского языка. Им следовало бы, без сомнения, отучиться от высокопарности, но взамен этого они приучились бы выражать свои мысли в небольших произведениях, разнообразных по форме, которые легко воспринимаются врожденным инстинктом народа, даже если от него и ускользают некоторые удачные мелочи. Это и значит, по моему мнению, доводить поэзию до масс».
Пусть прислушаются горделивые романтики во главе со своим вождем к советам старого песенника. Пусть не забывают они, что «отныне работа над художественным словом должна вестись ради народа».
Думать о народе, писать для него призывает писателей Беранже.
«Приблизьте же к его мужественной природе и ваши темы и их изложение. Он не просит у вас ни отвлеченных идей, ни символов — дайте ему обнаженное человеческое сердце. Мне кажется, что Шекспир сумел удачно выполнить это условие». (Романтики клянутся и божатся Шекспиром. Пусть же учатся у своего божества, как следует говорить с народом!)
«Следуя укоренившейся привычке, мы судим о народе еще с предубеждением. Он представляется нам грубой толпой, неспособной еще к возвышенным, благородным и нежным ощущениям». Да, да, многие господа поэты брезгливо отдаляются от черни, настраивая свою лиру для избранных. Глупцы! Они обкрадывают сами себя, думает Беранже и решительно пишет:
«Если есть еще в мире поэзия, то я не сомневаюсь, что ее надо искать в народе. Пусть попробуют это сделать. Однако для того, чтобы достигнуть результатов, надо изучить народ…
Посмотрите на наших художников, изображают ли они простой народ даже в исторических своих картинах? Они ограничиваются тем, что считают его отвратительным. Но разве народ не может сказать тем, кому он представляется таким:
«Не моя вина, что я одет в жалкие лохмотья, что мои черты искажены нищетой, а иногда и пороком. Но в этих истощенных и истомленных чертах сверкает воодушевление мужества и свободы. Под этими отрепьями течет кровь, которую я проливал при первом призыве отечества. Когда моя душа объята пламенем, тогда я становлюсь прекрасен».
В памяти встают добровольцы 1792 года, шагающие по пыльным дорогам с «Марсельезой» на устах, и рядом защитники июльских баррикад, с которыми беседовал он в ночные часы, возвращаясь с шумного собрания…
«Молодежь, я надеюсь, простит мои размышления, которые я отваживаюсь высказывать только ради нее».
Заканчивая свое предисловие-исповедь, Беранже зовет молодежь к дерзаниям, к открытиям. Только пусть лучше она не увлекается стариной, средневековыми гробницами, а побольше думает о своем веке — веке освобождения — и о будущем. И пусть не забывает старшего поколения. «Оно тоже было богато талантами, и все они в большей или меньшей степени были посвящены борьбе за победу свободы, плоды которой пожинать будете вы…»
Что ж, поэту остается только попрощаться с публикой.
«Я покидаю это поприще в минуты, когда еще могу уйти сам», — с грустной усмешкой пишет он.
Нет, он не собирается замолкнуть навеки. Может быть, он еще будет сочинять стихи, но не для печати. И, вероятно, увлечется воспоминаниями и начнет писать мемуары, «нечто вроде исторического словаря, где под каждым именем, известным в политике или литературе, были бы собраны воспоминания или мнения, которые я позволил бы себе высказать сам или позаимствовать у надлежащих авторитетов».
Таковы его планы на будущее.
Предисловие заканчивается хвалой песенному жанру и званию песенника, которое, как говорит Беранже, «сделало меня ценным для моих сограждан».
Одновременно с предисловием Беранже заканчивает и прощальную песню для нового сборника. Над ней он начал работу еще раньше, шлифовка стихов требует времени и не терпит спешки.
Название простое и ясное: «Прощайте, песни!» Здесь как будто те же мысли и чувства, что в предисловии, но слов гораздо меньше. Поэзия действует на людей не рассуждениями, не логическими доводами, будь они даже сверхубедительны. И не риторическими фигурами, будь они даже чрезвычайно эффектны. В поэзии собран, слит, сгущен и возогнан сокровенный сок мыслей и чувств, фактов и наблюдений. Этот сок питает поэтический образ, нераздельный с поэтическим словом. И образ этот может стать живее живого.
Герой «Прощайте, песни!» хорошо знаком публике. Это веселый бедняк, поэт, внук портного, к колыбели которого некогда слетела фея. Ее предсказания исполнились. Он «двадцать лет пропел под шум ветров» и сейчас снова слышит голос феи.
«Взгляни, мой друг, зима уж наступила».
Не слышно смеха прежних друзей, и Лизетты уже нет с поэтом.
«Прощайте, песни! Старость у дверей.
Умолкла птица. Прогремел Борей», —
печально и решительно твердят строки рефрена.
Но пусть поэт даже замолкнет, от него никто не отнимет того, что сделано, главного в его жизни, оно с ним навсегда. И это главное он, как лучший свой дар, передаст молодым борцам и поэтам. О том и поет ему фея:
«Ты пел для масс — нет жребия чудесней!
Поэта долг исполнен до конца.
Ты волновал, сливая стих свой с песней,
Всех бедняков немудрые сердца.
Ты стрелы рифм умел острить, как жало,
Чтоб ими королей разить в упор.
Ты — тот победоносный запевала,
Которому народный вторил хор.
Чуть из дворца перуны прогремели,
Винтовки тронный усмирили пыл.
Твоей ведь Музой взорван порох был
Для ржавых пуль, что в бархате засели».
Беранже надеется, что строки эти отзовутся во многих сердцах и, может быть, не в одном поколении… Он не ошибается. Они зазвучат не только на его родине.
В России этими строками будет восхищаться Виссарион Белинский: «…чудо что такое! Какая грусть, какое благородное сознание своего достоинства!» — скажет он о «Прощальной песне» Беранже.
Сборник вышел. В нем и последние боевые песни времен Реставрации, и грустные песни о бедняках, и хвала героям июльских баррикад, и слава благородным безумцам, освещающим пути человечества. В нем и прощание автора с песнями и публикой. Книга, в которой запечатлены и вершины его жизни и годы перелома, новых поисков и сомнений.
В печати тотчас же начинают появляться отклики. Сент-Бёв еще до выхода новой книги Беранже задумал и написал большую статью о нем. Готовя материалы, он упрашивал песенника рассказать ему о своей жизни.
— Как! Вы хотите, чтоб я дал вам сеанс, как говорят художники? — удивлялся Беранже. — Мое дорогое дитя, вы плохо меня знаете, вы не представляете себе, сколько во мне смешной восприимчивости, как я боюсь всего, в чем проявляется желание привлечь к себе внимание общества; как мне тяжело выставляться напоказ перед публикой и как мне хочется сейчас скрыться с ее глаз.
И все же критик добился своего. Беранже сожалел и каялся, что удовлетворил его «коварные ожидания» и выложил ему всю свою биографию.
«До чего же мы стареем, если наше самолюбие и льстивые речи других так легко оставляют нас в дураках: «Вороне где-то бог…» и так далее и так далее! Но сыр, который вы унесли, довольно-таки прогорклый сыр. И по зрелом размышлении я прошу не давать от него ни крошки публике!»
Когда Сент-Бёв показал ему наброски статьи, Беранже попросил вычеркнуть некоторые биографические подробности. Пусть публика знает его песни, а на что ей он сам?
Статья-портрет появилась в конце 1832 года (Беранже уговаривал Сент-Бёва как можно больше оттянуть ее появление).
А теперь тот же Сент-Бёв посвятил статью новому сборнику Беранже. На этот раз без предварительных «сеансов». 7 марта 1833 года Беранже прислали номер «Насьоналя».
Неужели верно все, что говорит Сент-Бёв о его стихах? Неужели действительно на песенника упадет луч славы?
«Я верю этому благодаря вам, — пишет Беранже в коротком прочувствованном письме Сент-Бёву. — А если завтра я усомнюсь, то снова перечитаю вас…»
Благодарит он и Трела, главного редактора «Патриота», за благожелательную статью о сборнике.
«Если похвалы преувеличены, то я понимаю, что обязан этим симпатии, вызываемой общностью наших чувств, и еще более горжусь ими».
Издатель Лавока спрашивает поэта о планах на будущее. Нет ли у Беранже еще чего-нибудь готового для печати?
«Не скрою от вас, что, если бы мне и удалось написать что-то стоящее, я не торопился бы с печатанием. Публика и без того уже достаточно оглушена моим именем», — отвечает Беранже.
Довольно. Пора выполнить давнее свое решение и распрощаться с Парижем. Уйти на отдых.
РАЗДУМЬЯ В ЛЕСНОЙ ГЛУШИ
Он идет по лесной дороге и медленно вдыхает горьковатые, пьянящие запахи весны. Живительный дух молодой листвы и сырой глуховатый запах прошлогоднего пожухлого листа. Запах земли и мха, первых цветов и диких трав.
Фонтенебло! Приют отрадный!
Как рад я с Музою моей
Бродить в тени твоей прохладной,
В запретных парках королей!
После Июльской революции леса и парки Фонтенебло открылись для всех. Беранже в 1835 году перебрался сюда на жительство из Пасси, чтобы быть еще ближе к природе, еще дальше от столичной суеты. Снял маленький домик и каждый день, если здоровье не препятствует ему, совершает далекие прогулки. Он подружился с этим лесом, поверяет ему думы, воспоминания, печали. И лес понимает его, откликается тихим шумом, посвистом птиц…
В кармане у него припасена краюшка хлеба. Здесь на полянке можно устроить привал. Пернатые друзья живо слетаются на звук нехитрой дудочки, которую он смастерил из тростника.
Малиновки и коноплянки,
Дрозды, щеглы и снегири,
И жаворонок, друг зари,
Певучей уступив приманке,
Мой дар за песни — сухари —
Клевали на лесной полянке.
Налетели,
Загалдели,
Засвистели,
Льются трели,
Трели,
Трели.
А теперь он не торопясь побеседует с важным черным дроздом. Может быть, дрозд ответит ему, почему птицы так боятся людей? Ах, люди — деспоты? Люди вероломны? Да, дрозд, конечно, прав, таких много. Но пусть дрозд поверит, что его собеседник с дудочкой из тростника совсем не таков.
«Мне общий с вами жребий дан —
Ведь птицы и поэты — братья».
И птицы весело галдят. Вероятно, приветствуют поэта.
А дрозд сквозь гам и кутерьму
Кричит: «Он знает песен тьму,
Он — добрый малый по натуре,
Не худо б крылья дать ему,
Чтоб с нами он парил в лазури».
Молодец дрозд! Понимает толк в людях!
Иногда Беранже кажется, что и впрямь недурно было бы превратиться в этакую вольную птаху, выводить себе трели на полянке. Но и сюда, в лесную тишь, к нему непрестанно несутся людские зовы.
Там, в маленьком домике, где Жюдит, в переднике, засучив рукава, готовит сейчас обед, там на некрашеном деревянном столе лежит пачка писем, на которые ему надо ответить, и пачка газет. И новые книги из Парижа. Газеты он пробует не читать, но от собственных мыслей не спрячешься в самом глухом лесу. Лес только помогает иногда настроить их на более веселый лад. Вот как сейчас, в этот весенний день.
Где она, прежняя его веселость?
Чужда притворства или позы,
До слез она смешила всех.
Теперь умолк беспечный смех…
Шутить он, конечно, не разучился. Всегда может вызвать острым словечком дружный смех за столом. Но это уже совсем не то, что прежде, когда неунывающий бедняк смехом разгонял тревоги, и казалось, сами тучи, сгущавшиеся над его головой, разрывались от этого смеха и солнце выглядывало сквозь них: кто это так хохочет?
Несколько лет назад вместе со старым приятелем времен «Погребка», песенником Бразье, который оказался соседом Беранже в Пасси, они часто вспоминали прежние дни. «То-то жилось!» Так Беранже назвал одну из песенок, навеянных воспоминаниями молодости. Бразье теперь умер. Друзья юности Вильгем и Антье не заглядывают в глушь Фонтенебло. Некогда.
Одна Жюдит неизменно делит с ним сельское одиночество. У нее все такая же ясная голова и неисчерпаемый запас спокойствия, хотя хлопот, забот и беспокойств по горло. Веди хозяйство да еще ухаживай за старой теткой Мерло, сестрой матери Беранже. Вдова портного, тетушка Мерло осталась без всяких средств к существованию. Беранже с Жюдит приютили ее вместе с целой стаей ее любимиц кошек и перевезли в Фонтенебло. Старушка выжила из ума, капризничает, кошки мяукают. Ничего не скажешь, общество не из веселых…
Но еще больше теткиных причуд удручают Беранже и его подругу письма от Люсьена, которые изредка приходят с острова Бурбон. В письмах этих вечные жалобы на нехватку денег, на работу, на горькую судьбу.
«Не жалуйся на свою жизнь, — отвечает Беранже, — ты сам ее сделал такой». Он не отказывает сыну в помощи, регулярно посылает тысячу франков в год, выкраивая из своих небольших средств, хотя Люсьену — ведь ему уже за тридцать! — давно пора бы встать на собственные ноги. Ни деньги, ни советы не идут ему впрок. До Беранже дошли слухи, что Люсьен женился на местной жительнице острова, негритянке. Теперь он уже окончательно застрянет там… Женился, но не переменился. Наоборот, стал еще ленивее и безалабернее. Говорят, что бросил службу…
Со вздохом Беранже поднимается с пенька. Пора домой. До свиданья, дрозд! Ты еще станешь героем песни. И вы, леса Фонтенебло, хотя вы и не нуждаетесь в прославлении. И без того хороши. Но как знать? Бывает, что песни долговечнее самых мощных дубов и вязов. Дубы отживут, а песни все еще звучат, Ждет ли такая же судьба и его песни? Или их скоро забудут, как и его самого?
Пока что его все же не забывают. Томики песен его успешно переиздаются. Иллюстрирует их художник Гранвиль. Мастер острой политической карикатуры, прославившийся шаржами на Луи Филиппа и на других деятелей Июльской монархии, художник-анималист, остроумный интерпретатор басен Лафонтена, Гранвиль превосходно передает в рисунках дух песен Беранже.
«Я до того горжусь, что вы комментируете меня, что рискую предпочесть комментарий тексту, — пишет Беранже Гранвилю. — Часто вы обнаруживаете бесподобную идею и в такой песне, которую я сам считаю одной из худших… Но естественно, что человек, придавший столько разума животным, прибавляет его и моим произведениям. Я счастлив был бы объяснить это сродством наших мыслей и чувств…»
Да, песни его еще не забыты, не забыт и автор. Поэты, академики, политики, принцы и нищие обращаются к Беранже — кто с просьбами, кто за советами, кто с призывами, кто с укорами.
В 1833 году, когда он жил в Пасси, пришло большое любезное письмо из Лондона от Люсьена Бонапарта. Принц Канино просил Беранже высказать свое мнение насчет политической обстановки во Франции (не говоря о том прямо, хотел поразведать, насколько высоко котируются после июля династические акции изгнанного семейства Бонапартов).
«Было время, когда молодежь и старики прибегали к моим советам. Я гордился этим, но в конце концов меня стали третировать как бестолкового болтуна, и я закрыл свой кабинет для консультаций, — отвечал тогда Беранже, подчеркивая, что ему не по пути с нынешними властителями и деятелями. Однако он дал понять мосье Люсьену, что чаяния бонапартистов не имеют сейчас реальной почвы, и предсказал, что для нынешнего «переходного состояния» от конституционной монархии к республике понадобится период, равный по времени эпохе Реставрации.
«Если бы республиканская партия не наделала ошибок, которые, конечно, были неизбежны в ее положении, то мы, быть может, были бы уже теперь близки к развязке», — писал Беранже. Пусть знает брат покойного императора, что Франция — и Беранже вместе с ней — стремится к республике. Но песеннику казалось тогда — да и теперь кажется, — что республиканская партия «не знает как следует новую Францию». Через шесть лет после Июльской революции республиканцы представляются ему все теми же оторванными от масс одиночками — «карбонариями», какими они были в двадцатые годы. Но характер движения меняется. Все больше рабочих входит в республиканские организации. Старый поэт не видит этого, скрывшись в сельской глуши. И левые республиканцы в обиде на него: почему перестал он помогать им своими песнями, почему перестал откликаться на кипящую злобу дня, воодушевлять французов к новым боям за свободу?
Да и самому Беранже грустно и тяжко оставаться в стороне, в одиночестве, теша себя надеждами, что французы все же как-нибудь переберутся по шаткой доске Июльской монархии к республике будущего.
И песнями своими он недоволен, многие из них не станет публиковать.
Может быть, это одиночество, недовольство, грызущие вопросы, на которые он не может найти ответа, и лишили его прежней веселости?
Нет, политических советов он больше не хочет давать и старые связи свои с «кормчими» Июльской монархии использует теперь лишь для того, чтоб облегчить судьбы людей, нуждающихся в помощи. Из Пасси в 1834 году он взывал к Гизо, занимавшему тогда пост министра просвещения, просил оказать помощь семье покойного песенника Эмиля Дебро (песни Дебро уже изданы стараниями Беранже, но семья продолжает бедствовать). Так же потом будет просить Беранже очередного министра о стипендии бедствующему внуку Дезожье, о месте для какого-нибудь обнищавшего литератора, об облегчении судеб инсургентов, участников восстаний тридцатых годов, осужденных Июльской монархией… Просить за других ему не трудно и не совестно. Лишь для себя он никогда ничего не станет просить у власть имущих.
Как и прежде, он отвергает чины и звания, почести и отличия. Кажется, всем это должно быть известно после его неоднократных отказов в песнях и письмах, думает Беранже. Но нет, его все еще стараются «возвысить», «облагодетельствовать» — теперь уже, правда, не политическими постами. Июльская монархия хочет приобщить его к сонму «бессмертных». В 1835 году поэт-академик Лебрен настойчиво предлагал Беранже выставить свою кандидатуру на выборы в академию. Нет, нет и нет, отвечал Беранже. Он уже отказался от этой чести в 1829 году, когда за вступление его в ряды «бессмертных» ратовал Шатобриан. Он отказывается от нее и после июля.
В среде «бессмертных», увы, едва ли что-нибудь переменилось после революции. Те же торжественные церемонии, шитые золотом мундиры со шпагой на боку. И те же интриги, та же боязнь нового, свежего, смелого, выходящего за привычные рамки. Происки академиков ускорили в свое время кончину Бенжамена Констана (незадолго до своей смерти в 1829 году Констан был забаллотирован на выборах, и огорчение усилило его болезнь). А теперь «бессмертные» отвергают Гюго, который хочет вступить в их ряды и, конечно, заслуживает этого.
Одна мысль о том, что он должен будет облечься в форменный мундир и слушать — нет, еще того хуже, сам произносить — официальные речи перед скопищем важных, скучающих лиц, вгоняет Беранже в холодный пот. Нет. Песня не нуждается в академическом кресле.
«…По причинам, которые очень долго излагать, я не считаю нужным делать академическим этот маленький жанр, который перестанет служить оппозиции с того дня, как только превратится в средство самовозвышения», — писал Беранже в ответ Лебрену (21 января 1835 года).
«…Вы снова скажете мне, — хорошо знаю это, — то, что уже говорили не раз: обязанности, которые налагает академия, нисколько не обременительны, — и сошлетесь на Лафонтена. Что мне ответить? Лафонтен был человек добродушный, а я человек самолюбивый и, к несчастью, вовсе не добродушный… я не привык смягчать свой нрав, и я вам признаюсь, что иногда он не очень рассудителен и не очень приятен… Я стараюсь отдалиться от тех друзей, кого судьба вознесла очень высоко… Это поведение, мой друг, соответствует моим правилам, которые я составил очень давно: люди, которые много страдали, обязаны быть мудрыми».
Решительный отказ, сопровождаемый краткой и меткой самохарактеристикой. Пусть не ждут от него и в старости приятных, всепримиряющих улыбочек и всяческого официального благолепия. Он остается таким же, каким был, независимым и колючим. И он продолжает быть поэтом оппозиции и во времена Июльской монархии.
И без академического кресла и без официальных речей он будет служить Франции и литературе. И не только своими песнями. Он поможет стать на ноги, опериться, запеть собственным голосом новому поколению поэтов, своих преемников и продолжателей. Если политические советы Беранже теперь воздерживается давать, то советы литературные тем, кто обращается к нему, дает охотно, щедро, вдумчиво.
К творческим его советам прибегают и видные писатели — Сент-Бёв, Мериме — и безвестные начинающие поэты, среди них немало рабочих, ремесленников — это особенно радует Беранже.
В вопросах мастерства он строг, взыскателен и верен своим принципам: правдивость, ясность, точность в употреблении слова, ненависть ко всяческой позе и аффектации.
Он требует от молодых песенников тщательной работы над рифмой, над рефреном. «Пусть песню до сих пор считают незначительным жанром, но это не может, не должно служить для поэта поводом к небрежности в работе над ним», — пишет Беранже в 1837 году поэту-башмачнику Тампуччи.
Обращаются к Беранже за советами и женщины-литераторы. В письмах к ним он не делает скидок на «нежный пол», не строит любезных мин, а беседует так же строго, просто и прямо.
Госпожа Элиза Франк, одна из усердных корреспонденток Беранже, начала переписку с общих вопросов о ремесле писателя и вместе с тем прислала свои стихотворные опыты.
«Подумайте, хватит ли у вас мужества пойти по этому пути, — пишет ей Беранже, предупреждая о трудностях, которые ждут того, кто хочет стать писателем. — Я знал одну даму, которая восхитительно говорила и недурно писала. Она тоже обратилась ко мне за советом. Я ответил, что лучше делать незаметные стежки, чем писать незаметные произведения. Она мне поверила и радуется теперь, хотя и видит, что Жорж Санд стяжала себе славу и богатство».
Писать заметные произведения, однако, вовсе не значит оглушать читателя словесными эффектами, трюками, ослеплять его блеском мишуры. Беранже не терпит трескучести и модничанья.
В стихотворении «Тамбурмажор», посвященном молодому критику, он пишет:
О гром стихов высокопарных!
Как ты противен мне и дик!
Толпа новаторов бездарных
Совсем испортит наш язык;
Собьет нас с толку фраз рутина,
И будут впредь, к стыду страны,
Для Лафонтена и Расина
Нам переводчики нужны.
На музу глядя, я краснею!
Она теряет всякий стыд
И давит формою идею,
Приняв отменно важный вид;
Не скажет «страсти», а «вулканы»,
Не «заговор», а «грозный риф»!
Ее герои — истуканы,
И вся их слава — дутый миф…
Не блистающий галунами «тамбурмажор» решает судьбы боя, а полководец в простом походном сюртуке. Истинным героем поэзии, как и битвы, всегда должна быть мысль.
…Она
Без фраз, без блесток и колечек
В вожде и авторе видна!
Она теряет от убора.
И дело критики — следить,
Чтоб в галуны тамбурмажора
Не смели гения рядить.
Беранже казалось, что не только толпа модничающих подражателей, но и действительно гениальные поэты романтического направления в своей драматургии и поэзии порой чересчур увлекаются внешним блеском в ущерб мысли.
Новый сборник стихов Гюго «Песни сумерек» вызвал одобрение Беранже, потому что в нем ясно зазвучала тема социальная, современная, поэт заговорил о страданиях бедняков.
«Направление, которое избрал Гюго, мне кажется, больше соответствует его духу, чем вы предполагаете, — пишет Беранже Сент-Бёву (7 декабря 1835 года). — Он — великий поэт, ищущий всюду поэзию; и чтобы выполнить свое жизненное назначение перед обществом, он берет ее там, где находит. Он ее находит во дворце, в церкви, а теперь встретил на улице. Почему поэт не может пойти туда? Может быть, там он найдет ту сердечную нежность, которой, по-моему, ему недоставало».
Пристально следит Беранже за шагами французской литературы.
В 1835 году он прочел первую часть нового романа Бальзака «Отец Горио» и хочет скорей достать продолжение. «Прошу вас, вылезьте из кожи, но достаньте его мне», — просит он госпожу Лемер, одну из своих литературных приятельниц.
«С какой проницательностью он наблюдает и сколько естественности в его характерах!» — говорит Беранже о Бальзаке. Особенно восхищает его трезвый и острый ум одного из героев романа — беглого каторжника Вотрена.
«Будь такой человек министром, он восстановил бы благополучие Франции… Луи Филипп должен был послать за ним в острог, если он там еще сидит, в чем я сомневаюсь. Но согласится ли он — вот вопрос, — иронизирует Беранже, — ведь он имеет право быть несговорчивым, особенно относительно выбора своих коллег».
«О, КАК ЧВАНЛИВЫ, КАК ЖИРНЫ…»
Леса Фонтенебло прекрасны, но и здесь Беранже не находит успокоения. К тому же и климат сыроват, и Париж все-таки слишком близок. Может быть, уехать еще дальше, куда-нибудь к югу?
Окончательно выжившую из ума тетушку Мерло после долгих хлопот удалось устроить в больницу для престарелых. Теперь можно сняться с места. И Беранже вместе с Жюдит переселяется в 1837 году в окрестности Тура. Вокруг маленького домика — сад. Здесь можно разводить розы. Беранже выписывает лучшие сорта, усердно ухаживает за молодыми кустами, воспевает свои цветы в стихах.
Занятий много, и все привлекательные. Замыслов полно — он пишет стихи, заканчивает автобиографию, работает над словарем выдающихся современников. Впрочем, этот его труд так и не увидит свет. Беранже не закончил словарь и даже уничтожил впоследствии наброски к нему. Может быть, не захотел выступать в роли судьи своих современников. Может быть, правдивые характеристики их получились слишком трезвыми и резкими… Словом, замысел не превратился в реальность, к сожалению потомков.
Розы благоухают. Южное небо приветливо. Дни поэта не проходят даром. Но все-таки спокойствия духа, которое, надеялся он, придет к нему, наконец, вдали от столичной суеты, так и нет. И прежняя веселость не возрождается. Трудно смириться с участью мудреца-одиночки, старого ворчуна-скептика тому, кто был когда-то застрельщиком, запевалой…
Издали доносятся до него отзвуки парижского восстания 1839 года. Левые республиканцы действуют. Но он не верит в успех движения и не присоединяется к нему. Он все еще мечтает о мирных преобразованиях, без крови, без жертв.
«Ничто во Франции, благодарение богу, не утвердится теперь кровью», — пишет он своему другу, утопическому социалисту Ламенне. Он сожалеет о «юных безумцах», обреченных на поражение. «Один из них, которого я знаю лишь понаслышке, — это Бланки, человек высоких качеств, как мне говорили, — пишет Беранже тому же Ламенне. — Какая у него роль в этой авангардной стычке? Если вы когда-нибудь услышите о нем, поделитесь со мной новостями. Меня интересует этот мужественный фанатик: в наше время это редкая разновидность».
Человек, готовый пожертвовать собой ради идеи, ради общества, разве это не самая высокая из людских «разновидностей»? Разве не близок Бланки к тем «безумцам», которых воспел Беранже?
И особенно выделяются такие «безумцы» на общем фоне буржуазной Июльской монархии, царства «золотой середины», царства биржевых сделок и всеобщей продажности.
Да, рыцари идеи привлекают и восхищают Беранже, несмотря на все его опасения перед возможностью кровавой революции. И, сожалея «безумцев», он снова поет им хвалу в стихотворении «Идея».
Я погибал, в бездействии слабея,
Под гнетом зол дыша едва-едва,
Я погибал — и вдруг — вон там — Идея,
Идея, да! ханжи и буржуа!
Идея — такая хрупкая на вид (она предстает перед поэтом в виде прекрасной девушки с матово-бледным лицом) и такая бесстрашная и всепобеждающая.
Ни сыщики и прокуроры, ни жандармы, ни тюрьмы, ни наведенные пушки, ни проклятия святых отцов не устрашат ее, не иссушат, не убьют.
Пускай ликуют! Доблестней, смелее,
Могилы павших лавром осени,
С их знаменем ты полетишь, Идея,
В сиянье наступающего дня.
Восстание 1839 года подавлено. Рыцари идеи засажены на долгие годы за решетку. Торжествуют рыцари биржи.
Беранже следит по газетам за очередными словопрениями в палате депутатов по вопросу о избирательной реформе. Кто победит в очередной парламентской битве? Кто? Конечно, и здесь побеждают герои биржи, держатели акций. Они добились повышения имущественного ценза для избирателей. Выбирать и управлять во Франции могут только толстосумы…
Защитив голову от южного солнца широкополой шляпой, натянув на руки перчатки, Беранже обирает улиток с кустов роз в своем саду. Сколько их прилепилось здесь, скользких, жирных, омерзительных! Устроились с удобствами на молодых побегах и чванятся одна перед другой. И в окрестных виноградниках их полным-полно.
Кого напоминают они поэту? Почему при виде их отвращение и гнев растут в его груди, подступают к горлу? Ну да. Ведь точно такие же чувства вызывают в нем тупые, жирные и важные владельцы состояний, акций, домов, рудников, земель — нынешние «хозяева» Франции.
Вот эта — очень уж жирна —
Мне крикнуть хочет: «Друг сердечный,
Проваливай скорей!» (Она —
Домовладелица, конечно!)
О, как чванливы, как жирны
Вы, слизняки моей страны!
Все они живут на чужой счет и безжалостно уродуют лучшее в мире, слюнявят виноград и розы, на которых угнездились. Что улиткам до красот природы? Что им до красоты и величия людского ума?
«Как, жить процентами ума,
Когда имеешь дом доходный?»
Улитка не сошла с ума.
Иди-ка прочь, бедняк голодный!
О, как чванливы, как жирны
Вы, слизняки моей страны!
Улитки — что ни говори —
Сзывают съезды по палатам,
И эта вот (держу пари!)
От правых будет депутатом.
О, как чванливы, как жирны
Вы, слизняки моей страны!
В другом стихотворении, «Черви», написанном позже (в 1842 году), ненависть к буржуазии звучит еще резче и общий тон еще мрачнее. Поэт признается самому себе в полном крушении своих надежд на строй, рожденный Июльской революцией. Двенадцать лет призывал он лелеять и растить посевы Июля, и вот теперь перед ним горькие, ядовитые плоды. Их подточили черви, пробравшиеся в завязь цветка. «Тихие глухие слуги смерти», черви пытаются теперь подточить самые корни дерева Франции. Пусть, подгнившее, оно рухнет на землю, замышляют они,
«А у подножия разверзнется пучина,
Что роем мы тебе, о дремлющий народ!»
Как далеки эти горькие прозрения от прежних «третьесословных» иллюзий Беранже! Буржуазные слизняки, паразитирующие на розах Франции, мерзкие черви, подтачивающие дерево родины, враждебны народу, он не сомневается в этом.
Стихотворение «Черви» не будет издано при жизни Беранже, оно увидит свет лишь в 1860 году, в приложении к третьему изданию его «Автобиографии».
ФЕЯ РИФМ
Молодой парижский башмачник Савиньен Лапуант работал в глубине садика, примыкавшего к его лачуге на улице Нев-Кокенар; работал и напевал в такт легкому постукиванию молотка. Воробьи отзывались чириканьем. Песенка складывалась слово за словом.
Он и не заметил, как кто-то подошел к калитке.
— Здесь живет мосье Лапуант?
Как был, в фартуке, Лапуант поспешил навстречу неожиданному посетителю. У калитки стоял невысокий старик с обнаженной головой.
— Да, это я, мосье Беранже! — радостно воскликнул Лапуант и бросился в открытые объятия старика.
— Значит, вы меня знаете, сынок?
— Нет, но я сразу угадал, кто вы!
— Ну вот, я пришел сказать вам, что вы настоящий поэт.
Прочитав в газете «Ревю Эндепендан» поэму Лапуанта «Труд», Беранже решил лично поздравить автора и познакомиться с ним.
Да, старый песенник снова бродит по Парижу, «то ради Пьера, то ради Поля», как говорит он сам.
Распрощавшись с южным небом и покинув свой розарий, он переселился в 1841 году поближе к столице: сначала в Фонтене-су-Ле Буа, а потом на старое место — в Пасси. Стосковался вдали от друзей. Письма — это все же не то, что живое общенье. А в Париже еще осталось несколько старых приятелей и есть молодые друзья-поэты, которым он может пригодиться.
— Приходите ко мне обязательно, — говорит он Лапуанту. — Я дам вам словарь синонимов. Всю жизнь я советовался с ним!
Лапуант не оттягивает ответного визита. Летит в Пасси как на крыльях. Еще бы! Говорить с самим Беранже, слушать его советы — и это не во сне, а наяву!..
И вот они сидят в строгой и чистой комнате Беранже. Все здесь просто и скромно. Ничего лишнего. Старенький, вероятно, еще отцовский секретер, узкая железная кровать с зелеными перкалевыми занавесками, вольтеровское кресло у камина и несколько стульев. Никаких украшений. Только бронзовый медальон на стене с изображением Манюэля во весь рост.
Беранже во время разговора поднимается с кресла и становится спиной к окну, внимательно наблюдая за выражением лица собеседника.
— Э, да вы, кажется, подремываете, сударь! Не желаете слушать?
Он не дает своим ученикам спуску, не терпит небрежности — ни в стихах, ни в беседах о мастерстве.
— Если задумали стать поэтом, так не жалейте сил. Сочинение стихов — это изнурительная работа. — Да, да, он знает это на собственном опыте! — А песня — это самый трудоемкий жанр.
Скольким молодым поэтам из рабочих предместий Парижа и других городов помог он своими бесценными советами! Он и ободрял своих учеников и строго журил. Не довольствоваться скороспелками, не хвататься за первое попавшееся слово. Искать, поворачивать, раздумывать, шлифовать.
Он продвигал в печать их первые удачные опыты, составлял сборники, писал к ним напутственные слова. Он поддерживал нуждающихся.
— Я узнал, что у вас не заплачено за квартиру. Внесите скорее, — протягивает он Лапуанту деньги. Это не подачка, а помощь друга. Беранже сам, бывало, нуждался в такой помощи, прибегал к ней и не считал это зазорным.
Как радовался он, что на глазах его из самой гущи народа поднимаются и выглядывают на свет живые ростки поэзии! Поэтов рабочих и ремесленников становится во Франции все больше. Типографы и башмачники, каменщики и булочники, ювелиры и ткачи сочиняют стихи, поэмы, песни.
Фея рифм, властительница песен, пленяет юных мечтателей, и они готовы пожертвовать для нее всем. Беранже знает, как велика власть этой феи.
Как богачи ей жадно смотрят в очи!
Но, их минуя, предпочтет она
Скупой огонь в простой семье рабочей,
Где песнь ее, как хлеб и соль, нужна.
Поэт призывает фею внести радость и надежды в сердца и хижины бедняков, в угрюмые мастерские и фабричные цехи. И пусть при появлении феи рифм обитатели подвалов, чердаков и хижин, люди труда вспомнят имя старого песенника:
Ведь это он привел ее в наш дом —
Певец вина и юности нестрогой.
Еще подростками, оборванными гаменами, будущие поэты слышали песни Беранже, подхватывали их из уст старших. Они подражали ему, учились у него, когда впервые пробовали взяться за перо. Они считали его своим отцом.
О Беранже, наш предводитель древний!
Мы каждою строкой ему должны, —
писал Пьер Дюпон, выражая чувства своих собратьев по классу и перу. Среди них были люди большого поэтического дарования.
В тюрьме Ла Форс Беранже получил от юного наборщика Эжезиппа Моро первые его стихотворные опыты. Потом Моро вырос в настоящего поэта. Четырнадцатилетний сын ткача Эжен Потье через год после Июльской революции составил первый сборник своих стихов «Юная муза» и посвятил его Беранже. Ласковое, ободряющее письмо, которым откликнулся ему старый поэт, Потье будет хранить всю жизнь и включит через сорок лет в свою «Автобиографию».
Все новые песенные голоса неслись из предместий Парижа и других городов Франции. Запевалы рабочих гогетт, дети мастеровых и рабочих были разбужены и призваны в литературу непрекращающимися взрывами республиканских восстаний тридцатых годов. Многие из них сами сражались на баррикадах.
Судьбы их были различны. Одних скосили нужда и болезни. Другие перешли в стан певцов примирения, утратив свой прежний пыл и голос. Но были среди них и такие, чьи голоса окрепли в испытаниях. Эжен Потье станет участником Парижской коммуны и, поднявшись на новой волне революции к новым вершинам, создаст бессмертный пролетарский гимн «Интернационал».
Поэты-рабочие, присоединившиеся в тридцатые годы к борьбе левых республиканцев, горько переживали молчание Беранже, отход его от политических битв. Эжезипп Моро в 1835 году обратился к нему с укоряющей песней. Почему молчит он в те дни, когда монархия расправляется с участниками восстаний?
Но большинство творцов ранней пролетарской поэзии разделяло утопические мечты Беранже той поры. Многие поэты-рабочие были членами сен-симонистских песенных обществ и складывали хвалебные стихи в честь автора «Безумцев».
А Беранже, уже понявший к началу сороковых годов, что надежды его на «спасительный мост» Июльской монархии потерпели крушение, все же еще не решался звать своих молодых последователей к политической борьбе. Воспев борцов за идею, внутренне присоединившись к ним, он еще не отваживался тогда расстаться с мечтой о возможности преобразования общества без кровавых распрей и междоусобиц, мирным путем просвещения и реформ.
Нести искусство рабочим — этой цели посвятил всю жизнь один из любимых друзей юности Беранже, композитор и педагог Гийоме Бокийон. Да, да, тот самый Вильгем, который одалживал когда-то брату Весельчаку для выхода свои «парадные штаны».
Вильгем никогда не гнался за славой. Имя его не красовалось на крикливых афишах. Но он доволен прожитой жизнью и имеет право гордиться ею. Он создал свой метод, с помощью которого обучает пению даже немых. Преподает в школе, организовал хоровые кружки в мастерских, и ученики его, члены общества «Орфеон», выступают иногда в концертах.
Мой старый друг, достиг ты цели:
Народу подарил напев —
И вот рабочие запели,
Мудреным ладом овладев.
Твой жезл волшебный, помогая,
Толпу с искусством породнит:
Им озарится мастерская,
Он и кабак преобразит.
Эти стихи Беранже сложил после одного из концертов общества «Орфеон», который очень порадовал его.
Может быть, именно музыка прежде всего призвана облагородить людские сердца, пролить в них мир, приобщить народ к пониманию высшей красоты, думал старый песенник.
О музыка, родник могучий,
В долину бьющий водопад!
Упоены волной певучей
Рабочий, пахарь и солдат.
Объединить концертом стройным
Земную рознь тебе дано.
Звучи! В сердцах нет места войнам,
Коль голоса слились в одно.
Несколько месяцев спустя после того концерта Вильгем умер.
«…Умер шестидесяти лет, в бедности, совершенно изнуренный, с постоянной мечтой о распространении своего метода, плода двадцатидвухлетней работы. Власти города и департамента, преподаватели его школы, ученики провожали его гроб до кладбища, где ему были оказаны почести, которых он мог ожидать при жизни», — напишет Беранже в примечании к песне, посвященной Вильгему.
Редеет круг старых друзей Беранже. Вскоре вслед за Вильгемом умер типограф Лене в Перонне.
Умерла и старая тетушка Мари Виктуар… Из кружка времен «Обители беззаботных» остался один Антье да верная Жюдит, которая всегда рядом со своим другом-песенником.
Раз в неделю Беранже устраивает большие обеды для друзей. Общество за столом иногда собирается многолюдное. Но в этих трапезах ничего официального, парадного, показного. Ни лакеев, ни пышных туалетов, ни изысканных блюд, ни лицемерных речей. Никакой пыли в глаза. Обитатели домика в Пасси и их гости неподвластны жестким обручам светского этикета, модного жеманства, ходячих предрассудков. Все здесь дышит разумной простотой и свободой.
Хозяйка стола радушна, но без аффектации, полна достоинства, но без чопорности. Она все еще хороша, синеглазая Жюдит, хотя каштановые локоны вдоль ее щек поседели, а стройный стан несколько раздался. Все те же неторопливые, полные грации движения, проницательный взгляд, мелодичный голос, безошибочный вкус (ей очень к лицу черное шелковое платье с белой вставкой в виде «голубиной грудки»).
На столе букет роз и строй бутылок с виноградным вином. Розы и вино — это единственная роскошь, которую признает Беранже. Блюда простые, но обильные и вкусные. Хозяин, подавая пример гостям, ест с аппетитом, быстро.
— Хорошие мысли исходят из хорошего желудка, — весело приговаривает он.
Уж чего-чего, а хороших мыслей и острых слов за этим столом в избытке. Беранже, как всегда, запевала. Может быть, совсем недавно, накануне ночью, его мучили головные боли, невеселые, стариковские мысли долго не давали спокойно уснуть, ох, эти неотвязные мысли — о Франции, о прошлом и будущем цивилизации, о судьбах всего земного шара и о неудачной судьбе родного сына (Люсьен умер на острове Бурбон в 1840 году). Ох, эти ночные горькие мысли, благо что хоть днем, среди друзей, он может отогнать их и хоть на время стать похожим на прежнего брата Весельчака.
Лапуант рассказывает о своем визите к Гюго. Да, да, пэр Франции (Гюго недавно получил это звание) был очень любезен, сам открыл дверь — «заходите, заходите» — и провел Лапуанта в свой роскошный кабинет.
«Поэты — это короли», — сказал Гюго.
Беранже приподнимает плечи:
— Что же вы ему ответили?
— Ничего. Смолчал.
— А я бы на вашем месте сказал ему: «Мосье, я пришел снять мерку на пару ботинок».
Старому песеннику, как и его герою Тюрлюпену, титул короля совсем не импонирует. То ли дело башмачник или хлебопек! Молодые поэты-рабочие должны гордиться своими профессиями, а не отрекаться от них.
«Несмотря на положение, в которое поставила вас судьба, — писал он Лапуанту, — продолжайте петь, не оставляя ремесла башмачника. Кое-кто порицал рабочих, которые отдаются изучению науки и литературы. Это по недомыслию. Разумеется, понятно, желание подавить маниакальное влечение к литературе, наблюдаемое у некоторых людей, к какому бы состоянию они ни принадлежали, если они способны только на заимствования; но на людях с оригинальным дарованием, выросших в среде рабочих, лежит, как мне кажется, миссия просвещать и подымать этот самый многочисленный из классов. Те песни и книги, которые являются порождением высших слоев, никогда не будут пользоваться в трудящейся среде таким успехом, как голос простого пролетария, вдохновляемого любовью к своим братьям».
Хорошо, когда поэты выходят из рабочих, но плохо, если они, торопясь стать поэтами, сразу же перестают быть рабочими. Беранже останется при этом мнении до конца.
Он не одобряет самонадеянных юнцов, которые бросают работу, стыдятся простого ремесла, возомнив себя «избранниками», и строчат скороспелые вирши в погоне за якобы легкими заработками. Ведь можно ошибиться в себе. Не лучше ли проверить собственные силы, писать не торопясь, не оставляя работы? Он сам так поступал, работал с детства — мальчик в трактире, посыльный, подмастерье в типографии, счетовод, библиотекарь, экспедитор — никакую работу он не считал зазорной и лишь на пятом десятке стал жить на литературные заработки.
«…Мой дорогой поэт, я вас не понимаю: у вас есть работа, и вы ее бросаете? В уме ли вы? У вас во всем недостаток, и вы отбрасываете кусок хлеба, который вам дан! — напишет Беранже одному молодому поэту из рабочих и с грустью укажет ему на то, что стихи его теряют свою свежесть и убедительность с тех пор, как автор их утратил правильное понимание своего положения. — Молоток и перо расстались, чтобы больше никогда не соединиться. Я сотни раз говорил вам, как много вы потеряете от этого… Когда вы навещаете меня, вы оставляете свою спесь за порогом, но, покидая меня, вы снова садитесь на своего конька, который унес вас к чертям».
«ТОНИТЕ, МНЕ НЕ ЖАЛЬ!..»
Гости разошлись. Жюдит легла спать. А Беранже уселся за свой старенький секретер. Мурлычет пушистый приятель — кот, ровно светит лампа под зеленым колпаком, призывно белеет стопка чистой бумаги.
Может быть, фея рифм откликнется сегодня на зов поэта? Последнее время она, увы, не так охотно слетает к нему. Что поделаешь — куда как скучны старики… А бывало…
Отдал бы я, чтоб иметь двадцать лет,
Золото Ротшильда, славу Вольтера!
Судит иначе расчетливый свет:
Даже поэтам чужда моя мера.
Люди хотят наживать, наживать…
Мог бы я сам указать для примера
Многих, готовых за деньги отдать
Юности благо и славу Вольтера.
У каждого свой вкус! (Так и названо это стихотворение.) Что же касается его, Беранже, то вкусы, господствующие в верхах Июльской монархии и заражающие все более широкие слои французов, кажутся ему омерзительными. Нажива и всеобщая продажность — что может быть гнуснее?
Юная девушка, такая чистая на вид, и та мечтает выйти за богатого старца.
Золото все омрачает блеском своим всемогущим,
Если так юность мечтает,
Прочь все мечты о грядущем.
Золото. Акции. Биржа. Вот они, кумиры и храмы современности, и год от года служители их все больше наглеют и распоясываются.
Все стало вдруг товаром:
Патенты, клятвы, стиль…
Близ Парижа есть местность, которая называется Бонди. В давние времена там росли и шумели дремучие леса, в которых скрывались разбойничьи шайки. Постепенно леса поредели, и в пору Июльской монархии Бонди превратилось в место свалки нечистот. Грабеж и смрад — два понятия слились для парижан в слове «Бонди». Этим словом Беранже озаглавил один из самых своих сильных и острых стихотворных памфлетов.
Новые разбойники, «всяких званий господа», роются в свалках дерьма, чтоб добыть там золото: ведь свалки нечистот — прекрасная статья дохода. Никакой грязью, никаким смрадом не побрезгуют они, пойдут на самые гнусные махинации, лишь бы обморочить народ и сколотить состояние.
Живет продажей индульгенций
Всегда сговорчивый прелат.
И ложью проданных сентенций
Морочит судей адвокат.
За идеал свободы
Сражаются глупцы…
А с их костей доходы
Берут себе купцы!
Первым спешит окунуться в эту вонь король. А вслед за ним и все другие, не исключая даже поэтов…
И все — да, все! — в болоте смрадном
Сокровищ ищут… Плачу я!
Но стыд утрачен в мире жадном, —
И скорбь осмеяна моя!
С той же силой и меткостью, с какою молодой Беранже разбил некогда реставрированные цитадели феодальной монархий, старый песенник наносит теперь удары по смрадным оплотам буржуазного владычества. Нет, видно, фея рифм еще не изменила ему!
Напечатать самые острые из новых антибуржуазных песен при жизни ему не доведется. «Бонди», как и написанная раньше песня «Черви», выйдет в свет лишь в 1860 году, в одном из посмертных сборников.
Беранже видит, чувствует, как сгущается мрак в стране. Пэры-аферисты, министры-спекулянты во главе с королем-банкиром поощряют целую армию стяжателей, покрывают их преступления. О народе никто не заботится. Промышленность растет, но плоды ее достаются, увы, не беднякам. Рабочие по четырнадцати-пятнадцати часов в сутки гнут спины, обогащая фабрикантов, владельцев рудников, и за изнурительный свой труд получают все те же гроши. В Париже и других городах все чаще вспыхивают забастовки. В Бюзансе крестьянский голодный бунт подавлен штыками и пулями…
А другие страны Европы? А народы Африки, Азии? Все так же стонут они под гнетом черных и белых тиранов. Священный союз королей все еще существует.
Конец терпению народов придет, возвещает Беранже в пророческой песне «Потоп».
Я выполнил священный долг пророка,
О будущем я бога вопросил.
Чтоб покарать земных владык жестоко,
Залить весь мир потопом он решил.
Вот океан, рыча свирепо, вздулся…
«Глядите же!» — кричу князьям земли.
Они в ответ: «Ты бредишь! Ты рехнулся!»
Потонут все бедняжки-короли…
Язвительный смех слышится в короткой строке рефрена. Туда им и дорога, «бедняжкам»! Заслуженного конца не миновать. И он близится.
Вот началось… Дрожат цари Европы,
Спасет союз священный их едва ль.
Все молятся: «Избавь нас от потопа!»
Но бог в ответ: «Тоните, мне не жаль!»
Добрый бог Беранже смотрел когда-то в подзорную трубу на грешную землю и «отмежевывался» от подлости и бесчинств земных владык, умывая руки, прятался к себе в рай: справляйтесь, мол, сами. А вот теперь не выдержал, рассвирепел, обернулся грозным, карающим божеством.
Океан вздувается все выше.
«Пророк, скажи, кто океан сей грозный?»
«То мы — народы… Вечно голодны,
Освободясь, поймем мы, хоть и поздно,
Что короли нам вовсе не нужны».
Предсказание Беранже сбылось.
24 февраля 1848 года Париж покрыт баррикадами. Началась третья революция. Июльская монархия рухнула под ее напором,
СМЕРТЬ И ПОЛИЦИЯ
И снова весна. И снова он идет в поля. С ним верная спутница — трость из виноградной лозы. Без нее далеко не прошагаешь, когда тебе близится семьдесят. Может быть, эта самая трость в бытность свою лозой давала напиток, пьянивший молодого поэта за веселыми ужинами. А теперь она служит опорой и собеседницей старику во время его одиноких прогулок. С ней Беранже ведет задушевный разговор в песне «Моя трость», сложенной весной 1848 года.
Солнце все выше. Жаворонки заливаются. Но поэту сегодня не до птичьих трелей. Он озабочен, взволнован. И растроган и удручен.
До него дошла весть, что избиратели департамента Сены выдвинули его кандидатуру в Национальное собрание.
«Эй, ты! Управляй колесом государства!» —
Кричат мне безумцы. Родная страна!
Подумай: под силу ль мне власти мытарства,
Когда самому мне опора нужна?!
Не мудрено, что мысли так и мечутся, так и жужжат под его старой шляпой.
Будь он помоложе и будь эта республика той, о которой он мечтал, все, вероятно, было бы по-другому. Но он стар, болен, и — главное — республика, провозглашенная в феврале 1848 года, не внушает ему больших надежд. Опять французам достался незрелый плод, думает Беранже.
Во главе временного правительства стоит поэт Альфонс Ламартин, бывший роялист, перекочевавший в либералы. Рядом с ним подвизается старинный друг Беранже, восьмидесятилетний Дюпон де Л’Ер (и как только под силу этакому старцу ворочать государственное колесо!). Прекраснодушные мастера звонкой фразы призывают французов к классовому миру и сотрудничеству, а за их спинами действуют настоящие хозяева положения — буржуазные прохвосты и монархические индюки. Народ оттесняют все дальше от завоеванной им власти, о демократии не заботятся…
Какую пользу принесет он Франции, если попадет в депутаты? Беранже уверен, что никакой. Ведь он не оратор, не государственный муж. Он всего-навсего поэт.
«Если я не умру с досады, го погибну со скуки», — сказал он Лапуанту.
Не дожидаясь результата выборов, Беранже решил обратиться с письмом к своим избирателям. Он напишет им начистоту, просто, ясно, так, чтобы до каждого дошла его просьба.
«Дорогие сограждане, неужели действительно вы хотите меня сделать законодателем? Я долго сомневался в этом. Я надеялся, что те, у кого возникла эта мысль, от нее отказались из жалости к старику… Мои шестьдесят восемь лет, мое столь капризное здоровье, мои умственные наклонности, мой характер, испорченный долгой, дорого купленной независимостью, делают для меня невозможной почетную миссию, которую вы на меня хотите возложить… самое верное средство смутить мой бедный, ум, который, по-видимому, не раз давал полезные советы, — это посадить меня на парламентскую скамью. Там, печальный и безмолвный, я буду топтаться в ногах у тех, кто будет спорить с трибуны, подняться на которую я не способен… Не извлекайте меня из моего одиночества, где, сосредоточившись в себе самом, я вам казался способным быть пророком…»
Письмо было опубликовано. Избиратели прочитали его, но не вняли просьбе старого поэта и усердно голосовали за Беранже.
Ведь он давний любимец парижан, а теперь к его прошлой славе прибавились новые лучи. Песня «Потоп», в которой он предсказал революцию, печатается и перепечатывается в периодических изданиях и сборниках. Французы приветствуют его. Беранже снова впереди! Снова запевала! Молодые рабочие поэты гордятся своим учителем.
На выборах Беранже получил 204171 голос и прошел восьмым по общему списку кандидатов.
Беранже обращается с письмом к председателю Национального учредительного собрания:
«Несмотря на мою глубокую признательность, вызываемую большим числом голосов, призывающих меня в это собрание, я не отказываюсь от намерения, принятого окончательно еще раньше, отвергнуть мандат, к которому меня не подготовили ни размышления, ни достаточно серьезное образование…»
Председатель зачитал письмо собранию 8 мая, но оно ответило решительным отказом.
И старые друзья во главе с Дюпоном и молодые во главе с Лапуантом уговаривают Беранже согласиться остаться, принять эту честь. (Лапуант добивался ее, но не прошел по голосованию.) Решение Беранже бесповоротно. Он пишет еще одно письмо на имя председателя:
«Я умоляю еще раз Национальное собрание не вырывать меня из безвестности моей частной жизни. Это вовсе не желание философа, еще менее мудреца; это желание стихотворца, который будет считать себя конченым человеком, если он среди делового шума потеряет свою независимость — единственное благо, которого он всегда добивался.
Впервые за всю мою жизнь я обращаюсь к моей стране со скромной просьбой, чтобы ее достойные представители не отвергли моей мольбы об отставке и простили эту слабость старику, который понимает, какой чести он лишается, расставаясь с ними».
На этот раз его просьба была уважена. С неудовольствием, с раздражением, с упреками его освободили от обязанностей депутата.
Сомнения Беранже по поводу лица новой республики очень скоро подтвердились. Вместо классового примирения вспыхнула первая открытая битва между буржуазией и пролетариатом.
23 июня на парижских улицах выросли баррикады. Над ними вьются знамена со словами: «Жить работая или умереть сражаясь». Напрасно депутаты Национального собрания (среди них и Виктор Гюго) пытаются взять на себя роль парламентеров: ходят с белыми нарукавными повязками от баррикады к баррикаде и уговаривают повстанцев сложить оружие. Восставшие рабочие не согласны на примирение и подчинение — слишком много раз их обманывали.
И днем и ночью трещат барабаны. Генерал Кавеньяк направляет военные части против повстанцев.
Пугало людское, ровный, деревянный
Грохот барабанный, грохот барабанный!
Оглушит совсем нас этот беспрестанный
Грохот барабанный, грохот барабанный!
Видя для народа близость лучшей доли,
Прославлял я в песнях братство и любовь;
Барабан ударил — и на бранном поле
Всех враждебных партий побраталась кровь.
Песня «Барабаны» с ее горькими раздумьями рождена событиями июня 1848 года. Что же будет дальше? К чему придет Франция?
Барабанных песен не забудешь скоро;
С барабаном крепок нации союз.
Хоть республиканец — но тамбурмажора,
Смотришь, в президенты выберет француз.
Восстание подавлено. Участников его ссылают, бросают в тюрьмы, приговаривают к смерти. И на парижских улицах и в залах, где заседают государственные мужи, больше не слышно восторженных речей о братстве и равенстве.
В Национальном собрании лишь горсточка депутатов голосует против репрессий. Нет, новая республика миролюбива лишь на словах, а на деле мало чем отличается от своей предшественницы — монархии.
Президентом республики избран племянник Наполеона Луи Бонапарт. Он прикидывается этаким «другом демократии», миролюбивым скромником, а сам отсылает армию усмирителей против Римской республики.
«Ничтожный племянник великого дяди», «Наполеон Маленький» — называет нового правителя Франции Виктор Гюго.
— Господа! Здесь кроется интрига! — гремит Гюго с трибуны Национального собрания. — Нельзя допустить, чтобы Франция оказалась захваченной врасплох и в один прекрасный день обнаружила, что у нее неизвестно откуда взялся император!
В ночь на 2 декабря 1851 года во Франции произведен реакционный государственный переворот. Национальное собрание разогнано. Министры и депутаты брошены в тюрьмы. Армия и полиция в руках зачинщиков переворота. Горсточка сопротивляющихся бессильна организовать отпор. На улицах свирепствуют отряды усмирителей и карателей, стреляют не только по немногочисленным баррикадам, но и по безоружной толпе.
Наполеон Малый с кликой приспешников — политических подонков — картечью, пулями, штыками расчищает дорогу к императорскому трону. Власть имущие — финансисты и держатели акций, а вместе с ними и монархические индюки и святые отцы — дают благословение политическим преступникам, орудующим на их глазах и по их воле.
Лучшие люди Франции, истинные республиканцы, те, кого не успели поймать и засадить за решетку, покидают Францию. Гюго эмигрирует в Бельгию, а затем на остров Джерси в Ла-Маншском архипелаге. Писатель-республиканец Эжен Сю уезжает в Швейцарию.
Семидесятилетний, больной и неимущий Беранже не может совершать далеких путешествий и молча сидит в своем стареньком вольтеровском кресле, истомленный деревянным грохотом барабанов. Ох, как болит у него голова! Еще мучительнее, чем тогда, в молодости, в дни праздников по поводу коронации Наполеона, когда Пьер Жан в своей мансарде с дырявой крышей проливал не чернильные, а самые настоящие слезы над первой республикой. Теперь слез нет, но на душе еще тяжелее.
«В начале 1853 года неожиданно распространился слух о моей смерти. Это стоило мне толпы посетителей. Среди рабочих возникло предположение, что газетам запретили говорить о моей кончине из боязни огромного стечения народа на моих похоронах. Вот что побудило меня сочинить эту песню, которая, без сомнения, будет последней». Такое примечание к песне «Смерть и полиция» нашли в бумагах Беранже вместе с самой песней в 1857 году, после смерти поэта. Можно представить себе тот январский день, когда взволнованные посетители один за другим обрывали звонок у дверей его квартиры. И те чувства, которые были написаны на их лицах, когда дверь открывалась и они оказывались лицом к лицу с предполагаемым покойником. Страх, восторг, недоумение, вопрос, облегчение — у кого что, а у некоторых и все сразу.
Приходили друзья — знакомые и незнакомые, рабочие, поэты и просто читатели и почитатели. Заглядывали, однако, и совсем чужие, в том числе представители полиции. Беранже устал в тот день ужасно. Но много смеялся и, несмотря на усталость, как-то приободрился и решил тряхнуть стариной.
Когда звонки угомонились, сразу же начал думать над планом новой песни (он всегда предпочитал писать по плану). На это ушло немало дней. Так и сяк поворачивал он сюжет и нашел, что самый выгодный поворот — это изъяснение по поводу слухов о кончине песенника от лица бравого полицейского. При таком повороте можно заострить тему взаимоотношений поэта и империи, империи и свободы. Благонамеренный служитель полиции выболтает все как есть. Ишь, как власти беспокоятся о здоровье песенника!
Я из префектуры к вам направлен.
Наш префект тревожится о вас.
Говорят, вы при смерти… Доставлен
Нам вчера был экстренный приказ —
Возвратить здоровье вам тотчас.
Прекратите всякое леченье:
От него лишь докторам жиреть.
Ваша смерть теперь под запрещеньем, —
Не посмейте, сударь, умереть!
Живи! Таков приказ! Ничего не скажешь: забота сверх меры. Чем же вызвана она? Ага, все ясно. Посланец властей раскрывает карты, не мудрствуя лукаво. Устами его изъясняется сама Вторая империя:
Хоронить вас было б нам неспоро!
Гроб окружат тысячной толпой
Плакальщики низкого разбора,
Падкие на всяческий разбой.
Или вы хотите, сударь мой,
Чтоб империя о гроб споткнулась,
Чтоб в могилу с вами ей слететь?
Вам смешно, вы даже улыбнулись!
Не посмейте, сударь, умереть!
Живи, но так, словно тебя и совсем нет на свете. Это будет всего удобнее для империи, которая вслед за своей предшественницей — второй республикой, кстати сказать, вовсе исключила имя Беранже из списков избирателей, лишила поэта гражданских прав, как осужденного некогда за «нарушение религиозной нравственности».
Запретили вам сопротивленье
Император и его совет:
«Хоть он пел народу в утешенье,
Все же он — не стоящий поэт,
В нем совсем к нам преданности нет».
В списке нет такого гражданина!
Велено за вами глаз иметь,
Вы со всяким сбродом заедино, —
Не посмейте, сударь, умереть!
Дальше — больше! Усатый детина из полиции излагает «розовые» мечты империи относительно будущего французов:
Дайте срок. Законность, сытость всюду
Милостию трона процветут.
Золота нам всем отсыплют груду,
А свободе руки отсекут.
И тогда уж болтовне капут.
О печати сгинет даже память!
Баста — разномыслие иметь!
Вновь народ помирится с попами!
Не посмейте, сударь, умереть!
Такие поистине «блестящие» перспективы сулит своим подданным Вторая империя устами комически зловещего блюстителя порядка. Вот когда эти надежды сбудутся и память о дерзком песеннике умрет во Франции, —
Вот тогда-то, сударь, в добрый час
Помирайте, не тревожа нас.
Без шумихи отвезем вас сразу
На кладбище втихомолку тлеть,
А пока извольте внять приказу —
Не посмейте, сударь, умереть!
Отношение империи к Беранже и Беранже к империи вполне ясно из этих стихов. Она его боится, он ей враждебен, опасен. Он видит насквозь все ее лицемерное убожество и торжествующее мракобесие. Душительница свободы, она рада бы придушить его, живого, лишь бы без шума, втихомолку.
Беранже отвергал всяческие попытки Второй империи завязать с ним сношения и приобщить его к стану певцов бонапартизма. Песню «Смерть и полиция», ставившую точки над «i», он не мог опубликовать, но, надо думать, друзья читали ее и списки тайно ходили по рукам. Казалось бы, не могло возникнуть сомнений в том, что Беранже и дорвавшиеся до власти бонапартисты во враждебных политических лагерях, по разные стороны баррикады. Ан нет, находились-таки «умники», причислившие поэта к друзьям и песнопевцам бонапартизма, а следовательно, и Второй империи.
Подобные кривотолки и измышления, основанные на том, что Беранже, мол, воспевал Наполеона I, что он, мол, признавал своим другом и покровителем Люсьена Бонапарта, возмущали, сердили, тревожили старого поэта, испортили ему немало крови и нервов в последние годы жизни. Его больно поразили слухи о том, будто даже Александр Дюма, которого Беранже называл не иначе, как «сынок», тоже причастен к этим толкам.
В день своего рождения, 19 августа 1853 года, он пишет горькое письмо:
«Я слышал, мой дорогой Дюма, будто вы собираетесь поместить (видимо, в ваших мемуарах) статью, в которой вы меня упрекаете в том, что я сделался сторонником новой империи. Кто вам внушил подобную мысль обо мне? При встрече со мной вы ничего об этом не говорили. Я убежден, что вы в это не верите. Вы только хотите отомстить мне за мои скверные шутки этой новой шалостью, которая имела бы для меня достаточно серьезные последствия. Моя жизнь служит достаточным ответом на подобные обвинения».
Беранже просит хотя бы дать ему возможность поместить свой ответ в той же газете, где будет напечатана статья.
«Сейчас мне семьдесят три года; немножко жестоко, когда в таком возрасте человек вынужден добиваться свидетельства о честной жизни и добрых нравах. Вам это заблагорассудилось. Ответьте, как можно скорей. Извините, что пишу на обороте страницы».
С нетерпением ждет он отклика Дюма. О своем ответном письме Дюма рассказал в статье о Беранже, написанной после его смерти, напечатанной в Брюсселе в газете Козери.
«Я немедленно поспешил ответить Беранже, что кто-то со злым умыслом или без такового ввел его в заблуждение, что после 2 декабря определенные круги распускали клеветнические слухи на его счет, но что я отнесся к этому с презрением, и что в главе моих «Записок», посвященной ему, я восхищаюсь его талантом и его характером и что, более того, я предложил секретарю «Прессы» прислать ему пробный оттиск статьи, о которой шла речь, предоставляя ему полную свободу исключить все, что он найдет нужным, и даже, если это понадобится, уничтожить статью целиком».
«Мой дорогой сын, или я плохо выразился, или вы плохо меня поняли, — отвечал Беранже, — я не прошу, чтобы вы жертвовали чем-либо из вашей статьи. Я прошу только, чтобы мне была предоставлена возможность, когда статья появится, ответить, если я найду это нужным, в газете господина Жирардена»{Эмиль Жирарден — редактор газеты «Пресса».}.
Отвечать не потребовалось, Дюма не принадлежал к стану клеветников.
Но клевета продолжала распространяться, отравляя жизнь Беранже.
«Уж не смеетесь ли вы надо мной, называя меня бонапартистом? — пишет Беранже внучке Люсьена Бонапарта, молодой писательнице госпоже де Сольмс, с которой он был дружен и активно переписывался в последние годы жизни. — Полноте! Ведь, несмотря на мои песни, я даже не был партизаном того, который обладал известным величием, импонировавшим поэзии{Речь идет о Наполеоне I.}. Я вовсе не прославлял его в 1813 году, но это правда, я воспевал его, когда он умер…» Он воспевал героя легенд, но не живого Наполеона, и смешно было бы заподозрить его в симпатиях к пародии на этого героя, к ничтожному и враждебному всему, что дорого Беранже, Наполеону Малому.
Симпатии его, надежды его с теми, кто идет на борьбу с империей. С изгнанниками-республиканцами. С Гюго, бросившим перчатку в лицо Наполеону Малому. С теми, кто действительно любит свободу и Францию.
В 1853 году в Париже разнесся слух о смерти Гюго. Несколько дней Беранже провел в чрезвычайной тревоге, пока, наконец, не получил письма с острова Джерси с фотографиями семьи Гюго и известием, что все здоровы.
Он подружился с, Аделью Гюго, женой поэта. Она иногда приезжала по делам мужа в Париж, Беранже навещал ее, узнавал новости о жизни изгнанника, регулярно переписывался с Аделью и самим Гюго.
Он верил, знал, что Гюго-республиканец поднимется на новые вершины творчества, видел в нем надежду французской поэзии — ее славу, ее будущее.
«…Мой дорогой изгнанник, неужели вы будете писать только прозу?» — спрашивает он Гюго в одном из писем 1852 года.
И дальше:
«…Вы попали в новую фазу поэтического вдохновения; она может стать плодотворной.
Какой славой увенчала Данте судьба, сходная с вашей!
А вы, ушедший в изгнание с уже заслуженной славой, разве вы не можете ее удвоить? Прекрасная месть! В наши дни только вы один могли бы доставить себе такое большое удовольствие. О мой друг, на берегу моря, на виду всей Франции, пойте, пойте же! Завтра вас услышит будущее. Вы скажете, быть может, что я даю вам непрошеные советы. Но это не совет, это — мольба к вам, мольба человека, состарившегося в беспрестанных заботах о славе родной страны».
Октябрьский день 1854 года был для Беранже днем радости: он получил книгу стихов Гюго «Возмездие». Книгу эту тайком провозили через границу во Францию, и каждый, в ком жила и билась надежда на будущее, каждый, кто еще не превратился в «галльского раба», мечтал прочесть ее.
Беранже читал ее и перечитывал и восхищался. Поэт, поднявший карающий меч против поработителей республики, достиг здесь «такого лиризма и такой силы мысли, каких никогда раньше не достигал». Нет, надежда на будущее Франции и ее поэзия не погибнут, если на свет появляются такие книги!
Старого песенника печалит, что он больше не увидит возврата тех, «кого уносит изгнание». «Без сомнения — нет. Я становлюсь очень стар, — пишет он жене Гюго. — Здоровье мое разрушается. Последний месяц я чувствую, как силы мои тают. Бретонно (мой врач из Тура) не тревожится, однако… Я огорчаюсь только за других. Сам я достаточно пожил.
Пишу же я теперь с трудом, и мое письмо подтвердит вам это. Сердце, слава богу, состарилось меньше, чем голова, и так как родина всегда была моей великой страстью, то те, кто является ее славой, не перестанут занимать меня до последнего часа».
Он уже больше не может бродить, как бывало, по Парижу «то ради Пьера, то ради Поля». Не может больше бродить и по любимым лесам. Ему трудно спуститься и подняться по лестнице во флигель дома, на улице Вандом, 5, где он живет. Друзья навещают его. Приходит старый песенник Антье, с которым они вспоминают прошлое. Приходят молодые поэты, которым он продолжает помогать до последних дней.
Беранже знает, что конец близок, еще когда он был в силах, он написал прощальную песню. Она обращена к Франции:
О Франция, мой час настал: я умираю!
Возлюбленная мать, прощай: покину свет, —
Но имя я твое последним повторяю.
Любил ли кто тебя сильней меня? О нет!
Я пел тебя, еще читать не наученный,
И в час, как смерть удар готова нанести,
Еще поет тебя мой голос утомленный.
Почти любовь мою — одной слезой. Прости!
Последняя его весна печальна. Жюдит больна. Больна смертельно. Он сидит у ее постели, держит ее руку в своих, глядит в ее потухающие глаза, когда-то такие синие.
— Смелее, Жюдит, смелей! Скоро мы опять будем вместе.
Он не ошибся. Пережил ее всего на три месяца.
Последние дни он лежал в полузабытьи. Откуда-то издали доносились голоса друзей и как будто слышались голоса тех, кто уже ушел… Какие-то попы склонялись над ним. Зачем они здесь? Звучали в голове строки «Последней песни».
14 июля Беранже, может быть, в последний раз видел,
Как солнце радостно всходило в этот день.
16 июля 1857 года его не стало.
Над гробом Беранже разыгралось то самое, что предсказал он в песне «Смерть и полиция».
Империя, боялась, как бы похороны поэта-песенника, столь любимого народом, не превратились в массовую демонстрацию. О дне похорон не было объявлено. Лучше втихомолку. Кордоны войск стояли вдоль улиц, по которым проносили гроб, сопровождаемый горсточкой друзей. Толпу силой оттесняли в переулки. Полиция приложила все старания, чтобы похитить у народа возможность сказать последнее прости великому поэту-песеннику Франции.
По завещанию Беранже его похоронили в одной могиле с Манюэлем.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ