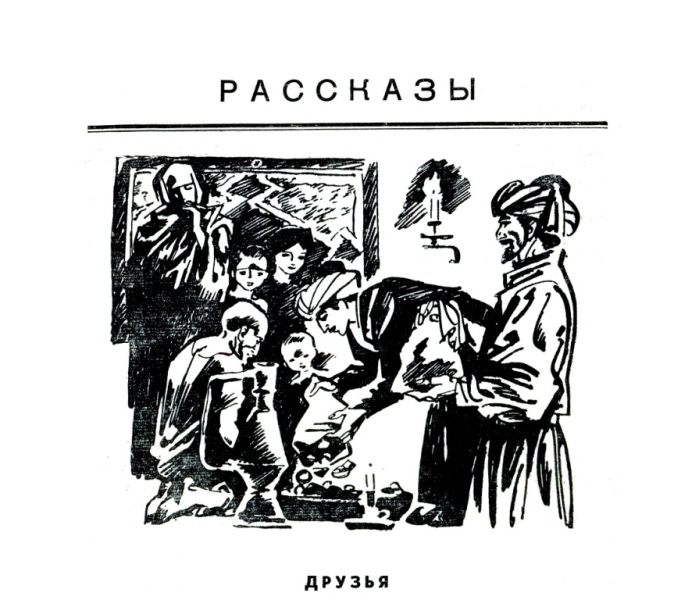 РАССКАЗЫ
РАССКАЗЫ
ДРУЗЬЯ
Тяжелая заржавевшая дверь полутемной камеры со скрежетом приоткрылась. Усатый тюремный надзиратель — одна рука на кинжале, в другой связка ключей — бросил на узника беспокойный взгляд, быстро отступил назад и захлопнул дверь. С минуту он стоял в коридоре, прислушиваясь к тому, что происходит в камере, потом отошел, неслышно ступая.
Гордое спокойствие заключенного вызывало у надзирателя страх и недоумение. Уже в который раз, приоткрыв дверь, тюремщик заставал поэта в одной и той же позе, но не подавленность, не растерянность, а твердая решимость угадывалась в этих скрещенных на груди руках, в слегка закинутой назад голове с высоким лбом мыслителя.
«Я видел многих узников, но такого еще не встречал, — тихо пробормотал надзиратель. — Откуда в нем это спокойствие? Ведь на рассвете его должны казнить…»
О бесстрашном поэте Вагифе[6] надзиратель немало слышал и раньше, но впервые увидел его тут, в тюрьме. Мужество этого осужденного на смерть человека в кандалах и наручниках и пугало, и вызывало невольное уважение.
Силясь освободиться от тревожного чувства, надзиратель прошелся несколько раз по коридору, заглянул к другим арестованным, но не выдержал и вновь остановился у камеры Вагифа. Он не решился вторично отпереть дверь и прильнул глазом к небольшому проему, заделанному чугунной решеткой.
Вагиф все так же стоял посреди тесной камеры и, глядя невидящим взором спокойных глаз, произносил какие-то слова, то очень тихо, то громче. Голос его был так мелодичен, слова лились так плавно, что казалось, будто он не говорит, а поет.
Не обращавший раньше внимания на надзирателя, сейчас Вагиф резко обернулся к двери и спросил насмешливо:
— Что тебе нужно? Или ты спешишь первым принести мне новые вести?
Надзиратель отшатнулся было, вспугнутый вопросом, но взгляд Вагифа, исполненный гнева и презрения, пригвоздил его к месту.
— Что за новая весть? Приговор нашего могущественного шаха окончателен, — пробормотал надзиратель и, в досаде на собственную неуверенность, зло добавил: — Завтра в это время ты уже покинешь светлый мир. Но могучий шах проявил великодушие: голова твоя будет водружена на самой вершине башни, сложенной в Шуше из человечьих черепов.
Эти зловещие слова вызвали у поэта лишь горькую ироническую усмешку.
— Не берись предсказывать, — сорвалось с его уст.
— А ты что, сомневаешься в этом?
— Да, сомневаюсь. И в тебе, и в твоем шахе, и в его приговоре.
— Знай, что воле шаха никто и никогда не смел перечить!
— У жизни свои законы. Земля моего родного края не однажды разверзалась под ногами тиранов, поглотит она и твоего шаха.
От ужаса надзиратель прикрыл глаза.
— Теперь я понимаю, — заговорил он тихо. — Наверно, ты из-за своего языка и страдаешь. Если бы ты пал к ногам шаха и молил простить вину, он облегчил бы тебе наказание.
— Разве ты знаешь, в чем моя вина?
— Конечно, знаю. Ты был визирем[7] Ибрагим-хана и советовал ему, подобно грузинам, принять опеку России. Ты даже ездил вместе с другими к генералу Зубову, и русский царь подарил тебе украшенный драгоценными камнями посох. Такие подарки не дают понапрасну. Мог ли простить такое наш могущественный шах?
— Шах — злодей, палач. Земля давно горит под его ногами, — перебил Вагиф. — Он пленник народа, и ему не уйти от народной мести. А у меня найдутся верные друзья, которые придут мне на помощь в этот тяжкий час.
— Замолчи! Ты узник и не смеешь разговаривать!
— Говорю тебе, узник не я, а шах. А вот ты кто?
Надзиратель не нашелся что ответить. Испуганно огляделся по сторонам — не подслушивают ли их. Увидев, что в коридоре никого нет, вздохнул с облегчением и поспешно отошел прочь от двери.
И Вагиф отошел в глубь камеры. Он опустился на железное сиденье, приделанное к стене, охватил голову ладонями и погрузился в глубокое раздумье.
В памяти его мгновенно ожили пленительные картины родной Шуши: заснеженные горные вершины; долины, по которым мчатся быстроногие джейраны; бархатные луга; реки, змеями вьющиеся меж холмов…
Поэту казалось, будто слух его ловит нежное журчание родников, голоса перекликающихся чабанов, пение ашугов. Он словно ощутил теплое дыхание обогретого весенними лучами ветра.
Доведется ли ему вновь увидеть родные места, обнять сына Алибека, встретиться с близкими людьми и самым дорогим из них, поверенным всех тайн — поэтом Видади[8]? Доведется ли им, как прежде, усевшись рядом, состязаться в искусстве стихосложения? Он стал повторять мысленно, потом вслух стихи своего друга, которые казались ему сверкающими в воздухе молниями. Счастливое состязание, когда и гордишься, и любуешься соперником, и в то же время готов жизни не пожалеть, чтобы победить его!
Вагиф на какой-то миг забыл, что находится в темнице. Ему представилось, что они с Видади и в самом деле сидят рядом на берегу Куры: легкий ветерок, шепчущиеся листья, звонкоголосый родник — все вторит музыке слов.
Неужели он лишится этого навсегда?
Как знать, бывает, что спасение запаздывает всего лишь на несколько секунд, и рука, протянутая для помощи, повисает в воздухе.
«Ну что ж, умирая, по крайней мере не буду испытывать угрызений совести, — подумал Вагиф. — В жизни я старался, насколько мог, исполнить человеческий свой долг: нуждающимся не отказывал в помощи, никому не причинил несправедливого зла. Страдания народа были и моими страданиями, его радости — моими радостями».
Самыми счастливыми для Вагифа были дни, проведенные с Видади. Он припомнил, как однажды во время праздника Новруз-байрама предложил другу: «Пойдем прогуляемся по городу и зажжем свет для тех, у кого в доме в этот праздничный вечер не будет огня».
Взяв с собой по узелку гостинцев, друзья отправились в квартал бедняков. Они постучались в дверь самой бедной хижины и вошли. Хозяева тепло и почтительно приветствовали нежданных гостей, оказавших им уважение в этот праздничный вечер. Однако за улыбками пряталось недоумение: ведь этот праздник принято проводить у родного очага, в кругу своей семьи…
Некоторое время гости сидели молча, разглядывая комнату, сырую, с низким потолком и узким окном, слабо освещенную свечой, которая стояла на вделанной в стену металлической решетке. На стене висел необычайной красоты ковер. Посреди аккуратно прибранной, но полупустой комнаты на полу был постелен простой палас, и на нем стоял большой медный поднос — он был пуст, по краям — незажженные свечи; обычай не позволял зажечь огонь, который не мог осветить хотя бы скромный, но праздничный ужин.
Вагиф бросил на Видади взгляд, полный грусти. Невольно вспомнилось собственное прошлое — тяжелые дни детства, дни бедности и нужды.
Люди вязнут в сластях и сахаре,
А у нас и сухого кизила нет…
Видади молчал. Вагиф бережно взял у него из рук узелки с угощением, подошел к подносу и высыпал из него сладости. Он попросил у хозяина огня, зажег одну за другой свечи и вернулся на место. Друзья с улыбкой переглянулись. Так радостно было смотреть на загоревшиеся восторгом личики детей. В бедную хижину пришел настоящий праздник, с угощением, с веселыми танцующими огнями.
Поздравив хозяев с праздником, гости поднялись. Вагиф взял на руки подбежавшего к нему худенького, бледного мальчугана, прижал к себе на мгновение и направился к двери. Но Видади удержал его за руку, подвел к висевшему на стене ковру. Указывая на тончайшие переплетения сложного узора, Видади произнес восхищенно:
«Как велико народное искусство! Как раскрывается здесь душа человека, стремящегося к прекрасному!»
— Да, он велик, народ, наш народ, — несколько раз повторил Вагиф, и слова эти гулко прозвучали под низкими сводами камеры.
В окошко постучали — видно, голос поэта потревожил надзирателя. Но Вагиф, казалось, не слышал этого сердитого торопливого стука. Он чувствовал себя счастливым. Может ли бояться смерти человек, кровно связанный с народом, имеющий такого друга, как Видади? Никогда!
Будто вспомнив нечто важное, Вагиф быстрыми шагами подошел к окошку, постучал по чугунным прутьям и, увидев надзирателя, спросил:
— Может, теперь сообщишь мне новости?
— Замолчи! Я не понимаю, чего ты хочешь?
Надзиратель, впадавший всякий раз при этом вопросе поэта в состояние мрачной тревоги, отступил в глубь коридора.
Но в тот же вечер до камеры Вагифа донеслись шум и оглушительные крики. В тюремном коридоре послышались топот, глухие испуганные возгласы. Ворота тюрьмы сотрясались от ударов десятков сильных рук.
Вагиф припал к окошку, прислушался. Среди беспорядочного шума, говора, сердитых выкриков он ничего не мог разобрать. Несколько минут он стоял неподвижно, прислонившись к стене. Затем, будто приняв решение встретить смерть лицом к лицу, поднял голову, расправил плечи и опять шагнул к двери камеры.
Шум и грохот усиливались. Вагиф снова напряженно прислушался. До него донесся глухо, но отчетливо прозвучавший голос:
— Отворяйте двери, противиться бесполезно! Каджар[9] убит! Освободите Вагифа!
— Если хоть один волос упадет с головы нашего поэта, мы сдерем с вас шкуру! — крикнул другой.
Вагиф понял, что тюрьма окружена и под ее стенами идет яростное сражение.
Перед людской лавиной дрогнули чугунные ворота, настежь распахнулись тяжелые створки. Поток людей хлынул внутрь. Впереди всех бежал Видади. Надзиратель, торопливо кланяясь, отпер камеру Вагифа и швырнул на пол связку ключей. Никто не заметил, как он исчез, растворился в толпе.
Друзья обнялись.
— Аллах даровал нам тебя вновь, слава ему! — воскликнул Видади.
— Слава народу! — дрогнувшим голосом произнес Вагиф.
Толпа вместе с освобожденными узниками выплеснулась на улицу. Бурлила, клокотала возбужденная улица. Вооруженные люди почтительно приветствовали двух своих поэтов — Вагифа и Видади. Лица светились радостью и победным торжеством.
Из уст в уста передавались слова, которые произнес Вагиф, обращаясь к другу:
На круговращение судеб земных,
Видади, взгляни!
В тот же вечер Видади принес Вагифу сбереженный им украшенный драгоценностями посох…
Но, пожалуй, во сто крат дороже драгоценного посоха стихи поэта, которые сберег в своей памяти азербайджанский народ.
1956
Перевела О. Романченко
 БУКЕТ РОЗ
БУКЕТ РОЗ
Мирза Джалил[10] сидел за столом и читал письмо, которое ему только что принес посыльный: «Я видел твою дурацкую писанину и хочу сказать тебе, что ты пустозвон. Перестань издеваться над честными мусульманами. Если ты и впредь станешь писать такие же глупости, я возьму старый маузер, доберусь на фаэтоне из селения Касу́м-Кенд до станции Билиджи́, а оттуда приеду прямо в Тифлис. Зайду к тебе и скажу: «Салам алейкум». Выну из кармана маузер и не торопясь всажу в тебя обе пули, которые давно уже храню. Потом, если удастся, скроюсь. Если же нет… Когда пристав поведет меня по улицам, тифлисские мусульмане будут спрашивать: «Что натворил этот безумец? Откуда он родом?» Им ответят: «Он заставил плакать мать Моллы Насреддина» Слова эти станут для меня лучшей наградой.
Лезгинский Касум-Кенд».
Ни тени тревоги или смятения не отразилось на лице Мирзы Джалила, привыкшего к непрерывным угрозам и клевете. Отбросив письмо, он лишь подумал с горькой усмешкой: «Нашли чем пугать! Убийством. Детей запугивают ведьмой, а меня — смертью».
Мирза Джалил и раньше предполагал, что последние его статьи вызовут яростный гнев фанатичного духовенства и всех сторонников старого. Напечатанные в журнале «Молла Насреддин», они призывали к раскрепощению азербайджанских женщин и потому не могли не вызвать откликов. Религия, семейный уклад, отсталость, даже сила привычки — все это делало женщину рабой в семье родителей и в семье мужа.
Мирза Джалил, будто ему стало душно в комнате, распахнул окно и выглянул на улицу. Оттуда ворвался многоголосый говор, смех, цокот лошадиных копыт по мостовой. Нарядно разукрашенные фаэтоны, покачиваясь, катили мимо окон.
Летний вечер был прекрасен, и доносившаяся откуда-то негромкая музыка, казалось, была рождена самой природой, этим теплым, ласковым ветром.
Но тут Мирза Джалил заметил человека в высокой папахе, который не спеша прохаживался по тротуару. Это был один из самых отъявленных бандитов — кочи, как они себя называли, преданный холуй всех тех, кто хорошо оплачивал самые сомнительные услуги.
«Что ему понадобилось тут, в Тифлисе? — неприязненно подумал Мирза Джалил. — Уж не за мной ли следит? А может, он приехал не один?»
Сразу вспомнив только что полученное угрожающее письмо, Мирза Джалил прикрыл окно, сел за стол и задумался.
Немало таких трудных минут приходилось переживать ему, но никто не видел, чтобы он пал духом, либо потерял самообладание. Он умел держать себя в руках, а между тем в сердце пылала ненависть к прогуливающемуся под окнами мерзавцу. Казалось, она все росла, эта зловещая фигура с громадными ручищами, с тупым, угрюмым взглядом из-под надвинутой на глаза папахи. Мирзе Джалилу представилось, как этот самый кочи вместе с другими подобными ему бьет нагайкой и гонит куда-то женщин, осмелившихся сбросить чадру. Женщины кричат, падают, но поднимаются снова, отбиваются камнями. Люди, которые видят эту страшную сцену, жалеют женщин, но подойти боятся…
Нет, нет, прочь от этой страшной картины! Перед мысленным взором уже возникает другая картина, рожденная пылким воображением творца, умеющего заглянуть в будущее.
Солнечный день. Небо в ярко-красных отблесках. И природа, и люди будто одеты в свадебный наряд. Гремит музыка, победная, торжествующая, поют люди.
А вдали высятся трубы фабрик и заводов, настежь распахнуты двери школ, клубов, библиотек, музеев. Народу так много, что буквально яблоку негде упасть, и в этой оживленной толпе — женщины, девушки. Одни с книгами и тетрадями идут на занятия, другие спешат на работу к заводам и фабрикам. Среди женщин есть композиторы, врачи, художницы, рабочие, ученые, инженеры. Они свободны, никто больше не смеет занести над ними нагайку. Как прекрасна жизнь! Значит, не пропали даром годы борьбы. Пролитая кровь расцвела пышными цветами счастья… И в своей статье Мирза Джалил предсказывал великое будущее женщин, которые найдут достойное поприще для применения своих умственных и душевных сил.
Стук в дверь прервал мысли Мирзы Джалила. Он поднялся, провел рукой по лбу, пригладил волосы. У самой двери остановился, прислушался. Может быть, ему лишь показалось, что кто-то стучал? Или это хочет напомнить о себе тот, кто прохаживался под окнами? Придется открыть — будет хуже, если он начнет ломать дверь. «Но разве допустят такое мои грузинские друзья и соседи? — подумал Мирза Джалил. — Ведь я не одинок».
— Кто там?
— Отворите, пожалуйста! — послышался женский голос.
Мирза Джалил с недоумением открыл дверь.
— Можно войти?
— Добро пожаловать!
В комнату вошли женщина средних лет с умным, спокойным лицом и оживленная, несколько сконфуженная девушка с букетом роз в руках.
Волнение Мирзы Джалила сразу как рукой сняло. Он радушно предложил посетительницам сесть, стараясь не показать, что приход их привел его поначалу в замешательство. Он не сразу нашелся, с чего начать разговор, и тогда девушка, смело и доверчиво глядя ему в лицо, заговорила первая:
— От души благодарим вас. Ваша статья «Армянские и мусульманские женщины», которая напечатана в журнале «Молла Насреддин», очень-очень нужна всем нам. Знали бы вы, с каким восторгом встретили ее наши женщины! Наверно, сегодня представительницы армянок и грузинок тоже придут благодарить вас. Они готовы бороться вместе с нами, женщинами Азербайджана, которым пока что труднее всего. Эта статья поможет женщинам всего Востока отстаивать свою свободу. Мы знаем, вам угрожают, вас пытаются запугать, но мы слышали и о вашем бесстрашии. Поверьте, друзей у вас больше, чем врагов…
С этими словами она осторожно положила яркий букет роз на стол Мирзы Джалила.
Так вошла в его жизнь та, что навсегда стала ему верной подругой в беде и в радости: Гамида-ханым.
1956
Перевела О. Романченко
 ГЛОТОК ВОДЫ
ГЛОТОК ВОДЫ
…Я шел по щербатой пригородной дороге. То и дело мимо меня проносились грузовики, оставляя густой шлейф пыли. Отирая со лба пот, я машинально провожал взглядом летящие МАЗы и ЗИЛы, но, как назло, кабины были заняты, а трястись в кузове на такой дороге не хотелось.
Вот и сейчас мимо меня пронесся рычащий грузовик. Рядом с водителем сидел уже немолодой человек. На мгновение профиль его показался мне знакомым. Словно вспышка молнии озарила мою память…
Да, нас мучили жажда и голод. Вагон был набит до отказа, иголке некуда было упасть. Во рту пересохло. Красный туман застилал мне глаза, и я уже никого и ничего не видел. Но вот состав, скрежеща, остановился. Духота стала еще невыносимей. И вдруг сквозь замутненное сознание до меня донесся звон жести.
Две украинки, совсем юные девчата, поднесли к вагону ведра с водой.
Вода! Она сверкала на солнце, переливалась, манила!
Что поднялось в вагоне! Пленные, привязав к искореженным консервным банкам или к горлышку бутылки бечевку, опускали их вдоль вагонной стены, кое-как зачерпывали сияющую серебром воду и припадали иссохшими ртами к ней.
Но не всем доставался глоток воды. Везло только тем, кто хоть немного сил сохранил, да тем, кто был повыше ростом. А я еле доставал до зарешеченных окон нашей тюрьмы.
Моему товарищу по несчастью повезло. Бала́ Али́ был сильнее меня, а главное, на две головы выше. Вот он бережно подтянул к себе наполовину расплеснутую грязную консервную банку и, закрыв глаза, припал к ней. Я смотрел на его громадный движущийся кадык, на стекающие по горлу капли и еле шевелил запекшимися губами.
Бала Али открыл глаза и встретил мой взгляд… И тогда он с трудом оторвался от своей банки и хрипло сказал:
— На, пей…
Спазм сжал мне горло. Я пил воду — самый драгоценный подарок товарища, она была удивительно хороша, эта днепровская вода. И не так уж много было ее, но она и впрямь вернула мне жизнь, вернула веру в нее…
А мой друг по несчастью смотрел на меня глубокими, часто мигающими глазами.
Потом на перроне послышались резкие голоса:
— Шнель, шнель!
Это конвойные прогоняли украинских девчат.
Поезд двинулся в неизвестное.
Много горя и страданий перенес я на этом пути. С Бала Али мне пришлось расстаться: нас отправили в разные места.
И вот теперь, много лет спустя, на жаркой пригородной дороге мне показалось, что человек, сидевший рядом с водителем, похож на моего старого товарища. Да что там — похож! Ей-богу, это Бала Али!
Постой, но я же давным-давно забыл фамилию человека, спасшего меня от верной смерти. Но это он, черт возьми!
И я стал восстанавливать в памяти лицо Бала Али. Роста-то он был высоченного, а голова небольшая, волосы ежиком, на правой щеке бородавка. Долговязый парень, любивший соленое слово и шутку, он и в страшном немецком плену ухитрялся сохранять добродушие.
Человек, сидевший в кабине машины, был в рабочей одежде. Или он грузчик?
Как же я не бросился за машиной, не крикнул? На меня словно нашло какое-то оцепенение. Впрочем, я почти тут же побежал за грузовиком, но того и след простыл…
Я должен найти этого человека. Обязательно. Но как? Фамилии его я не помню, места и года рождения не знаю. Адресный стол тут не поможет. В громадном многолюдном городе мне мог помочь лишь счастливый случай.
И меня охватило острое чувство потери и сожаления. Казалось, что встреча с ним принесет мне то же ощущение счастья, как и тогда, когда я пил воду, которую он отдал мне.
…Шли годы. Я не встречал Бала Али. Мы, может, жили в одном городе, и у меня вошло в привычку оглядываться, когда на улице я встречал людей очень высокого роста.
В этом году январь оказался необычайно холодным. Снежная вьюга мела с непостижимым для южного города постоянством. Мороз. Гололед. Из всех видов транспорта только метро работало без перебоев. Мне пришлось значительно изменить свой маршрут и ездить на метро, иначе я бы систематически опаздывал на работу.
Метро в эти морозные дни работало с необычайной нагрузкой. Как-то я вышел из вагона и, спеша к эскалатору, увидел впереди высокого человека, и мне вновь показалось, что это мой Бала Али. Я рванулся к нему, но, увы, толпа разъединила нас, и я потерял его из виду. Толкнув одного, другого и получив в ответ несколько чувствительных толчков, я поднялся по эскалатору, вышел на проспект, но и тут была тьма народу. Правда, я заметил на Бала Али большую черную папаху. Это был неплохой ориентир. И все-таки он исчез.
Опять меня охватило чувство потери и разочарования.
И вдруг, слава богу, далеко, на противоположной стороне проспекта, я заметил знакомую черную папаху.
Я кинулся к переходу, но вспыхнул красный свет, поток машин закрыл от меня заветную папаху. Я стоял, дрожа от нетерпения, проклиная строгие правила уличного движения.
А машины следовали одна за другой, будто четки, нанизанные на нитку. Наконец-то можно переходить.
Я побежал. Мне стало жарко, я уже не боялся опоздать на работу или простудиться — ведь такой случай едва ли повторится. С того дня, как я увидел друга в кабине, на пригородной дороге, прошло без малого лет пять! Два раза я падал и поднимался, облепленный снегом, на потеху мальчишкам.
Я успел заметить, что Бала Али свернул к большому заснеженному дому, и, боясь окончательно потерять его, во все горло заорал:
— Эй, Бала Али, стой, погоди!
Прохожий, шедший позади него, оглянулся и, проследив за моим отчаянным взглядом, остановил человека в папахе. Тот обернулся ко мне.
Я с облегчением вздохнул, потирая ушибленное колено.
Конечно, это был мой товарищ. Это был Бала Али. Он не спеша подошел ко мне и с недоумением спросил:
— Ты меня?
— Тебя, Бала Али, тебя! — выкрикнул я взволнованно. — Наконец-то!
— Я Бала Али. Но я тебя не знаю, дорогой. Ты, видно, ошибся…
— Ошибся? — возмутился я. — Ты в концлагере был?
Что-то изменилось в лице Бала Али.
— Ну, был. А в чем дело?
— Не узнаешь меня?
— Нет, не узнаю.
— Так я же…
— Погоди, — перебил он меня. — Тут не место для разговора. Видишь, люди собираются. Пойдем-ка ко мне домой, там поговорим…
Мы поднялись на второй этаж заснеженного дома.
Бала Али помог мне снять пальто, усадил за стол:
— Отдышись сперва, а то ты, извини, как паровоз пыхтишь.
И усмехнулся.
Клянусь, он сразу помолодел. Передо мной был прежний Бала Али, только с седым ежиком, да бородавка на щеке стала больше.
— Ты извини меня, дорогой. Много лет прошло, много воды утекло, поневоле кое-кого забудешь.
— Воды, говоришь, много утекло? Я, к слову, про воду тебе и напомню. Забыл, как нас в вагоне везли в Германию, как мы умирали от жажды, как ты дал мне напиться из твоей консервной банки? Эх ты…
Бала Али с просиявшим лицом вскочил и обнял меня:
— Вспомнил, вспомнил! Только ты тогда в очках был…
— Верно. Тогда я был близорук, а теперь наоборот, дальнозоркий. Что поделаешь — старость.
— Нет, дорогой, ты гораздо моложе меня.
— Почему ты так думаешь?
— Потому, что у тебя память молодая, а я… Ну, ладно, ты лучше расскажи, что с тобой было после того, как нас разлучили?
— Что было? Или забыл, как к нам в лагерь пришли эсэсовцы? Здоровых и крепких в одну сторону, меня с другими слабосильными — в другую…
— Это-то я хорошо помню, — вздохнул Бала Али. — Знаешь что, дорогой, давай не будем вспоминать об этом, слишком много тяжелого и страшного было. Лучше послушай, как мне повезло: я ведь убежал из лагеря, долго скитался, а потом попал к партизанам. Спасибо Мехти́.
— Ты говоришь о Мехти Гусе́йн-заде́?
Я смотрел на него во все глаза.
— Подумать только, ведь и мне через некоторое время удалось бежать с его помощью, и я партизанил. Как же мы не встретились друг с другом? Ты в каком отряде был?
— В отряде имени Гарибальди.
— А я в бригаде Бозовишка…
…Мы пили чай и говорили о превратностях нашей военной судьбы, и я вовсе забыл, что мне надо на службу. Я только думал о том, что наконец-то Бала Али воскрес для меня, что у меня будет еще один добрый друг, с которым связано так много, что я буду в праздники приглашать его в гости — ведь что может быть лучше человеческого общения!
Но, когда я узнал, что Бала Али простой рабочий на заводе, мне, откровенно говоря, стало обидно за него и захотелось оказать ему добрую услугу.
— А что, если я помогу тебе устроиться на место получше?
— Не надо.
— Но я… Но мне хочется как-то отблагодарить тебя. Ведь ты тогда, может быть, спас меня от смерти.
Бала Али насупился:
— Отблагодарить… за глоток воды? Я тогда не думал о благодарности. И ты, наверно, так сделал бы, или ты забыл тех украинских девчат?.. Знаешь, что я тебе скажу? То, что ты в такую метель, в такой снегопад бежал за мной, то, что ты столько лет стремился к этой встрече, искал меня, — это и есть твоя благодарность!..
Перевел А. Плавник
 ДОБРЫЙ ПУТЬ
ДОБРЫЙ ПУТЬ
От своего друга Павла из города Ромны получил Паша́ такое письмо: «Почти четверть века мы переписываемся, а ни разу не повидались. Нехорошо это, Паша. Раньше мы были людьми занятыми, а теперь, слава богу, оба пенсионеры. Свободное время имеется и у меня, и у тебя. Прошу тебя, приезжай, погостишь, потолкуем, отведем душу…»
Паша, высокий, костистый старик, отложил письмо, снял очки, протер их, надел и продолжал чтение: «Сам знаешь, когда ты был здесь, ромнинские скважины можно было по пальцам пересчитать. Приезжай, погляди, какая теперь тут красота, какие промыслы — сердце не нарадуется. А ведь как-никак ты один из первых открывал тут нефть. Опять же, и сражался ты тут, и немало горя повидал, и геройство свое показал. Тебя, Паша, помнят в Ромнах. Приезжай…»
Паша отпил из стакана глоток остывшего чая, перечел последнюю фразу: «А мои дела хороши. Как и ты, я вырастил своих детей, поставил на ноги. У каждого своя семья, живут дружно. Вот только без дела сидеть не могу, занялся садоводством. Такой сад разбил — приедешь, полюбуешься…»
«А в самом деле, почему бы не поехать, — подумал Паша. — Прав Павел. Поеду, повидаюсь с другом, проветрюсь…»
Город Ромны был очень дорог потомственному нефтянику Паше. Еще до войны его послали на помощь украинским бурильщикам, начавшим разведку нефти. Павел работал вместе с ними, у них завязалась крепкая дружба.
А потом грянула война, фашисты захватили Ромны, и Паша, не успевший эвакуироваться, оказался в тылу врага. Наступили тяжелейшие дни. Паша чудом спасся от гестаповцев, скитался долгое время по окрестным деревням, оборванный и полуголодный. Потом судьба улыбнулась ему: он попал в один из действовавших недалеко от города партизанских отрядов.
Нефтяник стал партизаном. И воевал он не хуже, чем работал… Много воды утекло с той поры, но Паша не мог забыть тех лет и города, с которым так много было связано хорошего и горького.
Годы труда и годы сражений оставили в душе неизгладимый след.
Павел принял Пашу радушно, по-братски. Встреча душевно обрадовала старых друзей, они как бы помолодели.
Павел водил гостя по нефтяным промыслам, и тот диву давался: небольшие разведывательные участки, где он когда-то работал, превратились в громадные, отлично оснащенные промыслы. Ромны стали родиной украинской нефти, и Паша на мгновение почувствовал себя садовником, некогда посадившим тонкие саженцы и вдруг увидевшим чудесный сад.
Он приехал к Павлу недельки на две, но задержался здесь дольше. Целыми днями копались старики в саду, вспоминали прошлое.
Сад у Павла был действительно замечательный.
— Отлично ты поступил, занявшись садоводством. Клянусь, завидую. Вернусь домой, обязательно последую твоему примеру. У тебя, брат, деревца как вышки, честное слово!
Павел радовался похвале друга. Он был лет на пять моложе Паши, не так смугл и широкоплеч, но на здоровье не жаловался.
В саду Паша подружился со школьниками. Каждый день они окружали его шумной стайкой, помогали окучивать грядки и расспрашивали, без конца расспрашивали про Баку и, главное, о том, как дедушка Паша партизанил в их крае. Гость вспоминал случаи из партизанской жизни, и ребята слушали как завороженные.
А спустя несколько дней Пашу пригласили в районный клуб поделиться своими воспоминаниями. Но Паша наотрез отказался от приглашения, ссылаясь на недомогание.
Павел никак не мог одобрить такого поступка:
— Обидел ты моих земляков, Паша!
— Никого я обижать не хотел. Сам подумай: за труд меня щедро наградили. А за войну? Буду я сидеть в клубе рядом с людьми, у которых вся грудь в орденах, буду рассказывать, как воевал, а у меня ни ордена, ни медали… Какой, подумают люди, ты герой, если боевой награды не заслужил? Знал бы я, что дело примет такой оборот, я бы и ребятам ничего не говорил, а то, чего доброго, и они засомневаются…
— Это уж ты загнул, Паша, — с укоризной заметил Павел. — Многие в городе знают о твоих партизанских подвигах, в городском музее даже твой портрет висит. Если бы ты поискал боевых друзей, они бы подтвердили твои слова… А лучше всего в военный комиссариат обратиться.
— Не затем я сюда приехал, чтобы в семьдесят лет ордена выпрашивать, — сердито сказал Паша.
— Послушай, но бывают же случаи, когда солдат не получил кровью заработанную награду…
Паша ничего не ответил.
Он по-прежнему собирал вокруг себя ребят, рассказывал им, как бурятся нефтяные скважины. Но мальчишек интересовала война, и они покоя не давали старику своими вопросами. А один, самый маленький и юркий, белобрысый мальчишка с желтыми веснушками на носу, вдруг спросил:
— Дедушка, а где ваши ордена?
— Нет их у меня, сынок.
— Не может быть, дедушка. Вы же воевали!
«Вот до чего дошло, — с горечью подумал Паша. — Может, хотя бы для того, чтобы ребятам доставить радость, пойти в военкомат?»
И через день-два старый партизан пошел к военкому и обо всем ему рассказал…
Паша решил задержаться в Ромнах — может, удастся что-нибудь выяснить.
А школьники никак успокоиться не могли. Как-то пришел к нему в сад со своими друзьями тот самый малыш с веснушками на носу:
— Дедушка Паша, а мы всем классом решили в Москву написать, чтобы вам награду дали.
— Какую награду, сынок?
— Чтобы вам орден дали, дедушка.
Паша поднял малыша на руки:
— Так, значит, вы верите тому, что я вам рассказывал?
— Конечно, верим! — хором ответили ребята.
— Раз вы мне верите, я поведу вас туда, где был партизанский бой. Пойдете со мной вон на ту горку, у лесной опушки?
— Пойдем, дедушка!
— Завтра воскресенье. Приходите-ка сюда утром пораньше…
В погожее утро Паша, постукивая суковатой палкой, повел ребят к лесной опушке. Он шел легко, не напрягаясь. Казалось, воспоминания боевых лет придавали ему силы. Дети шли за ним цепочкой.
Они поднялись на большой холм, и здесь Паша остановился. Нежарко грело утреннее солнце. Вокруг расстилался безбрежный простор, серебрились верхушки берез, и ясная тишина — тишина мира и плодородия — плыла над зеленым полем и неподвижным лесом.
Ребята невольно притихли.
Паша поднялся выше, к громадному камню, нависшему над холмом, и стал что-то нащупывать в высокой траве.
Ребята, затаив дыхание, следили за каждым его движением.
И вдруг его рука дрогнула, ее обжег холод старого заржавленного железа.
Паша стал раскапывать мягкую почву, ребята энергично помогали ему. Наконец они вытащили весь покрытый ржавчиной немецкий автомат, вернее, то, что осталось от автомата. Диск был продырявлен.
— Об этом автомате я вам рассказывал, ребята. Я отнял его у фашиста и стрелял из этого оружия, пока не кончились патроны. А потом автомат мне пришлось зарыть, потому что я должен был идти в разведку, в тыл врага…
— Дедушка Паша, отдайте нам этот автомат. Мы в школе организовали военно-исторический музей.
Паша вернулся в Баку.
Через месяца полтора он получил письмо от Павла.
Паша, по привычке не торопясь, протер свои очки и стал читать. Павел писал: «Ты себе не представляешь, какую деятельность развернули твои ребята. Оказывается, они написали письмо в Министерство обороны. Так-то. Честное слово, все обошлось без меня. Им удалось отыскать бывшего командира партизанского отряда Шашурина. Он тебя хорошо помнит. Оказывается, когда-то в штабе какой-то дурак-писарь до неузнаваемости переиначил твою фамилию. Вот в результате такой, так сказать, технической ошибки и не посылали тебе твоих боевых наград. А еще могу тебе сообщить, что ромнинский горсовет решил присвоить тебе звание почетного гражданина нашего города. Думаю, что ты вполне заслужил это, дорогой друг…»
Паша перечитал письмо Павла и надолго задумался. Он видел перед собой оживленные и пытливые ребячьи лица, слышал их звонкие голоса.
И тут же, не откладывая дела в долгий ящик, написал Павлу ответ: «Теперь твоя очередь приехать ко мне. Не думай оттягивать поездку, хоть на недельку расстанься со своим садом. Знаешь, как у нас в народе говорят? «Приезд друга — праздник!»…
1968
Перевел А. Плавник
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ