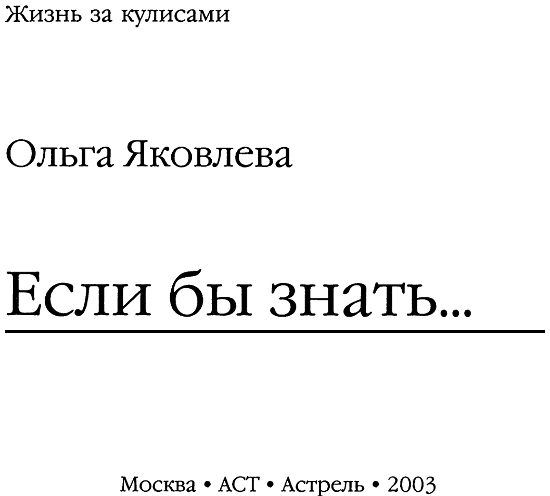
Ольга Яковлева Если бы знать… Жизнь за кулисами
I
Я приехала сюда, чтобы что-то написать. Громко сказано. Я не писатель.
Тогда зачем? Трудно ответить на этот вопрос даже себе. Надо. Кому? Чтобы что? Тщетно маюсь в поисках ответа.
Исповедь? Нет. Перед кем?
Воспоминания? Нет. Исследование? Тем более. Чувство вины? Возможно. Разве не испытывают чувство вины те, кто потерял близких и продолжает жить? Я продолжаю жить, хотя жизнь моя ушла вместе с ними.
А может быть, все проще. Я хочу отдать дань тем, кому я была попутчицей в жизни. Это не они уходят — это мы умираем.
«Какие красивые деревья и, в сущности, какая должна быть около них красивая жизнь».
Деревья красивые, жизнь страшная, а смерть унизительна — умершие не могут ответить, возразить или воспротестовать… Презрительное молчание.
Может, желание высказаться за них? И в свой адрес тоже? Похоже на истину…
В детстве, под одеялом, когда начинаешь думать о смерти и доходишь в мыслях до самого конца, до ужаса истины, что смерть неизбежна, некоторое время барахтаешься в этом ужасе: а где же я буду? Ответ не находится, и тогда весь этот ужас быстро отодвигаешь: нет, это случится не скоро, да и не со мной, — когда-нибудь, очень не скоро, еще будет срок додумать. Но проходит время, и если к этой теме возвращаешься, то не только не додумываешь, а уже отбрасываешь сразу же, чтобы не зацепиться за нее, не погрузиться в этот ужас.
По каким законам живет человек? Кто-то сказал: «Двое — это уже грустно». Когда двое — это уже трагедия. Трагедия необратимого конца. Потому что эти двое — единственные друг для друга. А впереди — расставание. Рано или поздно. Но расставание. Может быть, лучше уж раньше…
А если близких больше? И после каждой потери думаешь только об одном: как же ты продолжаешь жить? Если мамы уже нет? Как продолжают жить все, когда уходят папы и мамы? Все кончается, а мы продолжаем эту неразгаданную жизнь, дышим, по инерции делаем то же самое, суетимся, барахтаемся. Иногда даже смеемся. Как это происходит?
Видимо, все дело в жизни, «в ней самой». Но ощущение такое, будто с каждой смертью у тебя, из тебя вырывают незаменимые куски, — а ты все равно продолжаешь жить, несмотря на то что ты, собственно, уже не есть ты.
Если бы вовремя дать маме антибиотики, не было бы отека легких; если бы папу отвести раньше на исследование, он бы не скончался после операции; если бы приехала квалифицированная реанимация… Если бы… — все еще были бы живы. Если бы все были живы… Вечная жизнь для близких…
Скульпторы мне сказали: иди, ходи, смотри памятники — поймешь, что хорошо, что плохо. И я пошла…
Я хожу по кладбищам в поисках нужного надгробия. Это целая наука — надгробия на могилах.
Не выше, не ниже. Не помпезней, не вычурней — там все равны: вечность. Новые погосты заселяются, как квартиры живущих. За неделю — гектары… И все молодые — 23, 35, 37, 42, 47, 49, 57. Старше нет. До 60 почти никто не дожил. Я это видела. На всех кладбищах. Это возраст, это срок?
Мои даты повыше — 62, 69. Для кого — выше? Кто отмеряет этот срок?! Или это мы, живущие, сокращаем срок близких? Скорее, именно так. Жизнь. Прекрасная и ужасная. Все дело в этом. И мы — прекрасные и ужасные.
Я люблю жизнь. А может, лучше — ничего не любить, чтобы не было трагедии расставания? Ничего не желать — и не будет разочарования.
Театр похож на жизнь — прекрасен и ужасен, хотя это всего лишь театр. Учреждение для игр взрослых людей. Казалось бы, он должен быть только прекрасен.
Спорт — тоже занятие для взрослых: чтобы быть сильными, здоровыми, крепкими. Ан нет. Ничего не желай — ни быть первым, ни быть лучшим, а иначе — обратный результат. Ни силы, ни здоровья. Нельзя быть талантливым, умелым, успешным, честным — ряд доблестей можно продолжить — результат противоположный. Как и в театре, в спорте люди играют всерьез. Если слишком честны и ответственны, то драма неизбежна, максимализм гнетет, а игра должна быть легкой. Ведь она игра. «Не высовывайся». А французы вообще говорят: «Живи в тайне» — и все, мол, будет хорошо.
Ленком — Московский театр имени Ленинского комсомола.
Я обещала прийти в этот театр, когда еще училась на третьем курсе Щукинского училища. Я уже играла тогда в Вахтанговском театре — Эдвиж в «Шестом этаже». Б. Равенских звал меня в Театр имени Пушкина, меня звали в «Сатиру». Но надо было заканчивать четвертый курс. И я, конечно, всем отказывала.
В том же году я показывалась в Ленком. Вернее, помогала показываться другим — студентам 4 курса, выпускникам. И директор Ленкома Анатолий Андреевич Колеватов сказал мне: «Мы вас хотим взять». Я говорю: «Но я на третьем курсе». — «Так доучивайтесь и приходите. Только вы ведь не придете». Я говорю: «Нет, почему же, приду». — «К нам?» — «К вам». И поскольку я обещала — окончив институт, я и пришла… в этот театр.
Театров, которые меня приглашали, было много, а я вот пришла к ним. Почему? Потому что с меня взяли обещание. Конечно, можно было не обещать. Но меня спровоцировали, чтобы я сказала «да», — и я сказала. А коли сказала «да» — значит, так и будет. И, заканчивая четвертый курс, я уже заранее знала, что иду в Ленком.
И вот наступила осень, открытие сезона. Я иду в свой первый театр. Сначала пошла, конечно, в парикмахерскую, чтобы непременно хорошо выглядеть. Но как только предстоит что-нибудь важное, меня обязательно так обкорнают, что уже и не знаешь — идти на это важное событие или не идти. Вот и на этот раз я в парикмахерской чуть-чуть задумалась — и мне быстренько выстригли слева кучу волос. А справа уже не далась. Так и пошла на сбор труппы: левая сторона выстрижена выше уха, а справа почему-то все закрыто — и скулы, и подбородок, волосы почти до плеч. И в таком вот виде меня представили труппе.
Посмотрела репертуар театра. Как-то… невнятно. Господи, что это за заведение такое — театр? Пыльно, душно, темно, грязно. И в этой пыли и темноте я тоже что-нибудь буду играть? Как-то это скучно.
Нет, театр как заведение мне не понравился.
Ну ввелась, поиграла. Летом забеременела актриса Рита Струнова, и мне пришлось ввестись сразу на две-три ее роли. И еще много ролей надавали — в «Вестсайдской истории», в «Нашествии» Л. Леонова, «До свидания, мальчики» Б. Балтера. Значилась пьеса о Лермонтове, по-моему Оскара Ремеза. Спектакль был не очень вразумительный…
Вводилась я и на роль княжны Мэри. Жена Ремеза, критик Татьяна Чеботаревская, на репетициях кричала басом из пустого партера: «Почему у вас такая большая грудь?!» Дело в том, что я вышла на сцену в чужом костюме. У меня мелькнула дерзкая мысль — отвернуть ворот, лиф платья и сказать: «Если в этот лиф поместить мою грудь вместе с вашей (а у нее была роскошная, пышная грудь), платье, которое мне дали костюмеры, все равно будет велико».
Но это было бы слишком дерзко. Даже для моих молодых лет.
Народная артистка Елена Алексеевна Фадеева однажды сказала мне: «В вас что-то есть, но у вас очень непропорциональное тело». Или голова, не помню, но что-то во мне было непропорционально. Я почему-то заплакала. А что остается делать, когда говорят, что у тебя что-то непропорционально…
В общем, я огорчилась. Думаю — ну если я такая непропорциональная, то, может, и не надо мне в театре работать. А играя вводы (видимо, после разговора с Фадеевой), вдруг поняла: у меня и на сцене что-то не то происходит.
Пришла в гримерную и плачу над сумкой с гримом. Роняю слезы. Заходит гримерша Клавочка (она и сейчас в Ленкоме работает) и говорит: «Олька, ты такая хорошая девка! И зачем ты в артистки пошла?» Действительно, зачем?..
Вот в таких сомнениях, не очень довольная ни собой, ни театром, я продолжала работать. И одновременно — болеть…
Я с юности была болезненной. И болезни случались все какие-то странные. Сваливались, как кирпич на голову. То мононуклеоз — кто-нибудь слышал? — инфекционное заболевание крови. А кератит — когда расползается роговая оболочка глаз? То арахноидит… Причем всеми этими заболеваниями болеют обычно старики, дети, студенты, солдаты — ни к одной из этих категорий к 22 годам я себя причислить не могла. Не говоря уж о гепатите, солярите или простеньком обморожении… И до сего времени не оставляют они меня своими странностями: в пятьдесят, например, — вдруг детская свинка…
Когда в театр пришел Анатолий Васильевич Эфрос, я уже проработала там год. Но, в общем-то, было неинтересно. Хотя перспективы открывались большие, я все же собиралась уходить.
Колеватов, когда водил Анатолия Васильевича по «актерской галерее» в фойе, где были вывешены фотографии актеров, дал мне весьма нелестную характеристику. Подойдя к моему портрету, он сказал: «Вот эта артистка — жена знаменитого футболиста. Она очень капризна, очень болезненна. Скучно ей в театре. Собирается уходить».
Анатолий Васильевич тогда сказал Колеватову: «У этой девочки опущены углы рта — это предвещает ей драматическую судьбу».
А дальше… Анатолий Васильевич смотрел спектакли. Всем хотелось с ним поговорить, но он был необщительным, замкнутым, казалось, даже суровым. 39-летний человек с несколько странной внешностью. Он будто жил в особом, собственном мире. Странными движениями что-то проделывал со своими волосами — зачесывал их пятерней или забрасывал назад, как-то странно пошмыгивал носом.
Знакомясь с труппой, Анатолий Васильевич приглашал актеров к себе в кабинет и беседовал с ними. Мы были молодые, нам все было интересно: «а с тобой о чем он разговаривал?.. Ну, а с тобой о чем?..» И все рассказывали друг другу, какое впечатление у них осталось после общения с новым главным режиссером.
Его спектакли уже прогремели тогда в Центральном детском театре, все о нем знали, говорили, что он очень хороший режиссер. Но поскольку я в институте, видимо, жила своей жизнью, то мало об этом слышала.
Беседы его с актерами происходили примерно так. Вызывал он, допустим, молоденькую актрису и (как она рассказывала) спрашивал у нее: «Ну, а вы могли бы сыграть Бесприданницу?» Актриса эта была бойкая, не очень стеснительная, и отвечала: «Вот как актриса Н. играет? Запросто!»
Пока шло знакомство, все очень волновались: новый человек, как он посмотрит на нас, у кого получится с ним контакт… Одним словом, все были в волнении.
Пришла и моя очередь. Анатолий Васильевич, глядя на меня, то ли посмеивался, то ли просто улыбался. Я была очень стеснительная и разговаривала с ним, опустив глаза. Спрашивал он примерно следующее: «А вот эта артистка, на ваш взгляд, хорошая или не очень?» Я говорила: «Нет, почему, она хорошая». — «А вот эта артистка — она хорошая или не очень?» Я говорю: «Нет, она характерная». — «А что такое характерная?» — «Характерная — это которая может делать все!» — «А вы бы хотели играть, допустим… Бесприданницу?» — «Нет, я бы не хотела». — «А что бы вы хотели играть?» Я говорю: «Ну, вот… „104 страницы про любовь“ Эдика Радзинского. (Я уже сыграла ввод в пьесе „Вам 22, старики“ и прочла его новую пьесу.) Вот, — говорю, — эту героиню молодую я бы попробовала, пусть не в первом составе…» — «А, ну хорошо. Идите».
На первом собрании, когда Анатолий Васильевич уже познакомился со всей труппой, он сказал: «Репертуар я посмотрел, с вами более или менее познакомился, — теперь мы будем очень много и быстро работать». И сразу же назвал пьесы, которые начнем репетировать. Оставил в репертуаре спектакль, который тогда готовился, «До свидания, мальчики» по повести Балтера. И назвал еще несколько пьес: В. Розова «В день свадьбы», А. Арбузова «Мой бедный Марат». И «104 страницы про любовь» Радзинского.
Эту пьесу, между прочим, поначалу должен был ставить Юрий Петрович Любимов.
Он был педагогом по актерскому мастерству в училище, вел занятия и на нашем курсе. С этим связан один комичный эпизод. Мы с Андреем Мироновым репетировали отрывок на французском языке, из Мольера, не помню, какая пьеса — может быть, «Мнимый больной». Я играла этакую разбитную бабенку, она все время нещадно ругала своего мужа. А Андрюша играл Сганареля.
Репетировали мы в зале для обучения военному делу — там были очень высокие окна, и Юрий Петрович на репетиции все время почему-то заставлял меня влезать на подоконник и оттуда бросать реплики. Будто внизу, на полу, никак нельзя было… И он просил: «Нетточка (он меня называл почему-то Нетточка — к тому времени я уже была замужем за Игорем Нетто, капитаном сборной Союза по футболу), Нетточка, ну задери юбку». Я спрашивала:
«А зачем?» — «Ну-у… просто так». Я говорила: «По-моему, нет необходимости. (Это будучи студенткой второго курса!) Нет никакой необходимости, Юрий Петрович». — «Ну все-таки, задери юбку!» — «Нет, с этим я подожду».
Когда подошел экзамен, я сама себе сшила из ситца красную юбку. На сцене, по ходу действия, я развешивала белье и при этом вовсю ругала Андрюшу-Сганареля: «Бурдюк с вином! Бандит! Вор! Негодяй! Гадина!» В конце концов я так разошлась, что прихватила края подола и заткнула их за пояс. Я выполнила просьбу режиссера — но задирания юбки как такового не случилось! Юбка была очень широкая. Она была такая широкая, что сколько бы я ее ни задирала, все равно ноги оставались закрыты.
Когда я первый раз сделала это на сцене — на экзамене, — то смеялась больше всех Ада Владимировна Брискиндова, преподавательница французского языка, — она наблюдала наш поединок на репетициях: задеру я юбку или нет. Не задрала. Задрала на экзамене — но так, чтоб и волки были сыты, и овцы целы.
И вообще с «задиранием юбки», со всякими стриптизными делами у меня не складывалось на сцене. Позже с Анатолием Васильевичем репетировали мы «Мой бедный Марат», в третьем акте была такая сцена: Лика и Леонидик — они уже в возрасте — возвращаются из театра и переодеваются к ужину. Анатолий Васильевич говорит: «Оля, вы, когда будете из-за ширмы выходить, постепенно снимайте с себя все — сначала оставьте там пальто, потом пиджак, а когда снова выходите на авансцену, снимите за ширмой блузку». Я замерла. «А потом, — говорит, — снимите…» Я спрашиваю: «Что? Комбинацию, что ли?» — «Ну… почему… да, можно и это», — как-то он так, аккуратненько сказал. Я говорю: «А можно в следующий раз?» — «Можно». — «Ну хорошо, завтра я сделаю». А пока что продолжаю репетировать «на память физических действий», то есть делаю вид, будто бы разоблачаюсь — до белья.
На следующий день на репетиции, когда подошел момент «разоблачаться», я сняла блузку — но под ней оказалась спортивная футболка Игоря с длинными рукавами. Потом зашла за ширму, бросила еще одну фразу — о спектакле, который мы смотрели, — и сняла эту футболку с длинными рукавами: на мне осталась майка с рукавами до локтя. А на спине — герб Советского Союза. Эфрос и те, кто присутствовал в зале, уже лежали от смеха. Я продолжала, как бы ничего не замечая, вести сцену. Снова уйдя за ширму, я сняла еще одну майку — рукава оказались еще покороче, и на груди написано: «Спартак». Когда я сняла и эту майку, под ней оказалась майка с номером «6» — я стала шестым номером сборной Союза.
Слов моих уже никто не слушал. Они все едва ли не валялись в проходе и кричали: «Пошла к черту, дура, уморила нас, пошла вон, уйди со сцены!»
С раздеванием было покончено раз и навсегда. Подобные новомодные веяния не очень у меня проходили.
Так вот, «104 страницы про любовь» должен был ставить Юрий Петрович Любимов. Эдик Радзинский как-то рассказал мне, что Любимов жаловался: «Что же это происходит? Все в театре, как ни приду, чуть ли не заглатывают меня и по телефону звонят: мы, мол, хотим играть эту стюардессу. А единственная, кто может играть эту роль, эта фря (это я, значит) — эта фря ничего не просит. Проходит мимо меня и даже головы не повернет в мою сторону, чтобы попросить: „Дайте мне это сыграть“».
Ну, с Любимовым не случилось, и спектакль этот ставил Анатолий Васильевич. И слава Богу.
А на том первом собрании, когда все уже более или менее с главным режиссером познакомились и как бы поуспокоились, произошел один эпизод.
Еще до этого у меня случился со старожилкой театра конфликт. Мы с ней были заняты в одном старом спектакле, кажется, в «Опасном возрасте» С. Нариньяни, и сидели в одной гримерке. Когда я приходила гримироваться, там постоянно звучало радио, городская сеть: бравурная музыка и всякие громогласные дикторы. Мне это мешало сосредоточиться, и я выдергивала штепсель — любые посторонние шумы перед спектаклем и во время спектакля я всегда переживала болезненно. Она молча подходила и включала радио. А я снова так же молча выключала. Однажды дело дошло почти до физического столкновения. Я уж не помню, кто «победил», помню только, что упорно выключала шумное радио.
И вот эта актриса (довольно полная, килограммов на сто, наверное) поднимается и говорит: «Что-то нужно делать с Яковлевой!» Эфрос спрашивает: «А что с ней нужно делать?» — «Понимаете, — говорит, — молодая артистка, а так себя ведет! Приходит в театр и выдергивает радиоточку!» Мы, мол, слушаем, а ей, видите ли, мешает. Вот, мол, она какая — ну, вроде, наглая.
Только она не знала, кому жаловалась: потом выяснилось, что и для Анатолия Васильевича шум в театре — это то, чего просто не должно быть. Когда шли спектакли или прогоны, генеральные репетиции, он ходил вокруг сцены, закрывал двери, следил, чтобы не хлопали дверью лифта, не шумели, не звонил бы телефон, — все это он переживал, как… ну, словно шум при спящем больном ребенке.
Уже позже, в Театре на Малой Бронной, произошло однажды настоящее сражение с телефоном. Точнее — с директором. На спектакле «Месяц в деревне» зазвонил телефон на пульте помрежа — буквально в метре от зрителя — театр-то маленький. (Анатолий Васильевич иногда говорил актерам: «Что это вы все такие тщеславные? Не забывайте, вы всего лишь „театр в подворотне“ — это оф-оф-оф-оф-бродвей».) Услышав звонок, я вышла за кулисы, сняла трубку и повесила. Но звонки продолжались. Кто-то упорно звонил по внутренней линии на сцену из самого театра! Во время спектакля! Тогда я взяла и дернула за шнур — трубка отлетела. После этого я вернулась на сцену.
Директор И. Коган издал приказ: «За порчу театрального имущества Яковлевой объявить выговор». Я подходила к стенду и срывала выговор, но на следующий день приказ, подписанный Коганом, появлялся снова: «За нанесенный материальный ущерб Яковлевой объявить выговор». Я дописывала внизу: «Это лучше, чем раздавать имущество театра и стол Михоэлса дарить своему другу Хренникову». Приказ с моими добавлениями срывал уже Эфрос. Продолжалось это довольно долго. А Анатолий Васильевич внушал дирекции: то, что произошло с телефоном на сцене, — естественно, потому что если вы в театре не можете обеспечить тишину за кулисами, то актеров, реагирующих на это, надо поощрять, а не вывешивать приказы с выговорами.
Так вот, пока эта актриса выступала, я сидела и болтала ногой. Но в душе — какой позор, какой стыд! Меня скомпрометировали, а я ведь только начинаю… Стало обидно, потекли слезы… Я ушла с собрания, выйдя из театра, побежала через дорогу, чтобы поймать такси.
Меня догнал Радзинский — и вытащил чуть ли не из-под машины, так как я перебегала улицу не глядя. Он рассказал мне, чтó там происходило дальше. Та актриса продолжила свой монолог и на глазах родила сплетню: «Вот сейчас, уходя из театра, она (то есть я!) сказала: „Все равно он меня любит!“» (Вранье, конечно, полное.) На что будто бы Анатолий Васильевич заметил: «Ну раз она сказала, значит, так и есть». На этом конфликт был исчерпан.
Еще прежде Анатолий Васильевич смотрел прогон «До свидания, мальчики», и все волновались. Выпускал этот спектакль режиссер С. Штейн. Я там должна была играть главную героиню — рыженькую девочку, которая живет в южном городе. Ее репетировала артистка (высокая такая, она мне напоминала артисток 30-х годов), которая работала в театре уже лет восемь. А мне не давали репетировать, и довольно долго. И вдруг, когда стало известно, что будет смотреть Эфрос, мне сказали: «Пройдешь одну репетицию и будешь показывать спектакль Эфросу». Я говорю: «Как я могу показывать, если ни разу не репетировала?» — «Нет, на показе будете репетировать вы», — настаивал режиссер. «Нет, я не буду». — «Нет, будете». В итоге меня вытолкнули на сцену, и я кое-как, с грехом пополам, не зная мизансцен, сыграла.
После просмотра, на обсуждении, Анатолий Васильевич долго молчал и потом как-то сосредоточенно-вяло сказал: «Ну вот… Я ничего не буду говорить о спектакле, я ничего не понял, но мне понравилась — если это можно назвать понравилась, — артистка, которая бегала в красных чулках и синей юбке. Она меня взволновала — если это можно назвать волнением. И я все время ждал, когда она выбежит и что-нибудь быстро-быстро начнет говорить…»
После этого меня стали дразнить «любимой артисткой Эфроса».
Когда мы встретились, мне было семнадцать с половиной. Я только что приехала из Алма-Аты и начала учиться в театральном институте.
Он протянул мне руку и говорит: «Я Нетто».
Я была далека от спорта. По радио, конечно, слышала, что есть футболист с такой фамилией. Ну и что?..
Я ему так и ответила: «Ну и что? А я Яковлева».
Потом в кино ходили, в театры, гуляли… Он был хорошо воспитан, всегда корректен и, как это сказать, — выдержанный, что ли… То есть вел себя, как — по моим представлениям — и должен вести себя молодой человек: без всяких особых приставаний.
Он был словно большой ребенок Однажды, еще в начале знакомства мы с ним поссорились. Я переехала на другую квартиру — ни телефона, ни адреса ему не оставила. Игорь узнал адрес в институте и пришел ко мне. Просил, чтобы мы продолжали видеться. Мне его жалко стало…
Через год он сделал мне предложение. И оно мною должно было «рассматриваться». Ну абсолютно книжный вариант. Как в романах.
Ухаживал он красиво. И весело. Игорь любил мою студенческую театральную компанию. Когда случались «знаменательные события» (их команда выигрывала или я сдавала экзамен), у нас всегда собирались гости. Готовились к экзаменам, веселились, танцевали. А затем в его «Победу» набивалось чуть ли не по десять человек — надо было всех развезти по домам. И кто-нибудь кричал: «Какие правила, давайте прямо по газонам!..»
Вокруг нашей пары много чего происходило. Мои родители, например, были категорически против брака. Не против Игоря — против замужества вообще: я ведь училась только на втором курсе. Папа, помнится, кричал маме (он был очень темпераментный): «Ты ей объясни, что такое замужество! Нет, ты ей объясни!»
Что он имел в виду, я не знаю, но явно не хотел, чтобы дочь так рано выходила замуж. В институте даже на заседании кафедры обсуждался вопрос: как объяснить студентке Яковлевой, что не нужно выходить замуж за спортсмена. Но тогда мне ничего не сказали. Только лет через пятнадцать я от педагогов узнала об этом.
Гавриил Дмитриевич Качалин, тренер, в свою очередь, говорил: «Оля, что вы делаете? Одумайтесь! Зачем?!» Видимо, знал о бескомпромиссном характере Игоря. Это принято называть трудным характером. А на самом деле он был просто ответственен и честен. И еще он был не слишком разговорчивым. Если у него случался конфликт, никогда не рассказывал, вообще о неприятностях умалчивал — не любил перекладывать свои проблемы на чужие плечи. Особенно на слабые. Я только догадывалась — что-то произошло, а потом кто-нибудь из друзей рассказывал, с кем, по какому поводу и как он конфликтовал.
Не любил ни осуждать, ни злословить. Иногда бросит одну фразу, и она объясняет многое. Ссорились мы с ним только по домашним делам: кому пробки выкручивать, кран чинить — в итоге спасал сосед Анатолий Ильин, который по дому умел делать все. А я заводилась: «Ильин может все, а ты почему не можешь?» Он мне отвечал: «Я не электрик!» Я в ответ: «Ильин тоже футболист, а не электрик!» Сейчас смешно вспоминать, а тогда обидно было.
Но Игорь меня подкузьмил. Он иногда что-то записывал в блокнот, какие-то фразы. И недавно я прочла там: «Нельзя мыть сковородку над чайной посудой. (Яковлева)».
Записал наверняка ради шутки, а сейчас читаешь как осуждение…
Поначалу Игорь очень ревновал меня. Звонит со сборов: «Где была?» — «Дома, рубашки гладила». — «Нет, я звонил — тебя не было!»
Когда познакомился поближе с моими театральными друзьями, полюбил их больше своей компании. Впрочем, своей компании, спортивной, у него и не было. Не знаю почему, но ребята-футболисты особенно между собой не дружили. С Ильиным, правда, он много общался, когда еще был здоров.
В спортивном магазине друзья были. В Большом театре — Юрий Жданов, Ефимов. Академик Шаталин. Шахматисты, журналисты. Дружил с соседями. И конечно со своими — по спорту — Н. Дементьевым, Анатолием Коршуновым, который ему часто помогал, приходил в больницу. Всех не назовешь. Многие умерли — Евгений Минаков, Эдик Красс. Были друзья на фабрике «Рот-Фронт». Качалин тоже много помогал Игорю. Компания разнообразная, как и у меня. Когда времена повеселей были, встречались часто.
Игорь был компанейским человеком. На вечеринках очень любил танцевать. Особенно с моей подругой Верочкой М.
В детстве он мечтал стать ударником. Привил мне вкус к джазовой музыке — Эллингтону, Армстронгу, Фитцджеральд.
Любил пошутить. Любил собак, лошадей. С азартом играл на ипподроме. В молодости у нас нередко из-за этого происходили шуточные скандалы. Я говорила: «Тебе некуда деньги девать? Отдай тому, кому они нужнее». Однажды уперлась: «Играть не пойдешь». А он все-таки собрался и ушел. Тогда я позвонила на ипподром и попросила объявить по радио, что Нетто нужно срочно домой, у него в квартире пожар. И объявили. И он примчался. Повеселились.
Я в молодости веселой была. Приехал он как-то с игры, с международного матча. Наши выиграли, и у Игоря настроение было хорошее. Он собирался на банкет в «Метрополь». А жен тогда на такие мероприятия не приглашали. Не хотелось его отпускать. Я в это время красила волосы к спектаклю на завтра. Он пошел в душ голову перед банкетом освежить, я и говорю: «Игорь, давай тебе тоже волосы укреплять будем, у меня хна осталась — подержишь две минуты и смоешь». Он отбрыкивался, а я пристала. С трудом он согласился, и я его пепельные волосы намазала рыжей хной. Прошло пять минут, десять, пятнадцать… А я все говорю: «Еще двух минут не прошло». И когда он уже понял и начал смывать сам, оказался ярко-рыжим. Что тут началось! Он за мной гоняется — видимо, поколотить хотел, — а я кричу ему: «Сейчас я все исправлю, я тебя намажу басмой, и все пройдет!» А басма на рыжие волосы дает зеленый цвет… Но я уж не стала больше развлекаться, а начала смывать хну. Раз десять смывала — до конца никак не отмывалось. Так и пошел на банкет светло-рыженьким. Но настроение было хорошее…
Как-то уехали они в Южную Америку. Дай-ка, думаю, позвоню, развлеку его. А какой город, какая гостиница — не знаю. Разыскивала через континенты. Сначала через Канаду, потом через Северную Америку. Телефонистки почему-то решили, что я из газеты, — и на всех языках: «Связи не дадим — ни „Правде“, ни „Комсомольской правде“!» Я уж американским телефонисткам говорю: «Да я не из „Правды“ и не из „Комсомолки“! Я жена игрока советской сборной, где-то они там в Чили, найдите его». И нашли, и соединили. Газетам не пошли навстречу, а мне дали свободную линию, и я поговорила с Игорем. Очень он обрадовался и удивился: как это я его разыскала?
Однажды я позвонила в аэропорт, чтобы узнать, как добралась их команда до Кюрасао. Они через это Кюрасао опять летели в Южную Америку. Игорь мне потом рассказал, что именно в этот момент у самолета отказал один двигатель, затем другой и они кое-как вернулись в Кюрасао, еле приземлились. Мне же, когда я дозвонилась, телефонистка после продолжительного молчания ответила — все нормально. А на открытке, которую Игорь мне отправил после аварии, об этом ни слова, только: «Здесь очень красиво, много цветов и бассейнов». Рассказал через два месяца, когда уже вернулся.
Профессии у нас были разные, но каждый прекрасно понимал, что означает для другого его дело. Если у меня вечером спектакль, Игорь старался по утрам не будить меня, не шуметь. Возился тихо на кухне, что-то жарил, а потом стучал в дверь: «Яковлева, обедать!»
Если же у него намечался отъезд на игру, я подлаживалась под его расписание: никаких гостей, подруг, ничего, что могло бы помешать ему отдыхать. Да и после игры — я ведь не знала, какой будет результат…
Это было абсолютное правило. Не исключаю, что именно обоюдное внимание и было основой нашей совместной жизни. К тому же мы часто подолгу не видели друг друга. Видимо, и это столько лет сохраняло наш союз.
Есть люди, которые помнят о детстве все — или говорят, что помнят, — чуть ли не с пеленок. А я себя помню очень фрагментарно. Когда случалось что-нибудь из ряда вон.
Одно из первых ярких впечатлений — как меня привели первый раз в детский сад. Это было в 1945 году.
Сестра сшила мне платье из линялого голубого ситчика. То ли ситчика, то ли сатина. Из линялого — поскольку она переделала это платье из своего, которое уже достаточно носила. На нем были черные круги с такими закрученными разводами.
Детей привели раньше, а я почему-то вошла позже…
Тут я отвлекусь немножко. С детства, помню, мне тяжело было войти в комнату, где уже все собрались. Видимо, поэтому я и сейчас не хожу на всякие тусовки. Потому что уже ведь все пришли! А меня нет. Я не из тех, кто приходит первым, прихожу как бы с оттяжкой. Не специально, а потому что не успеваю. Но когда понимаешь, что придется войти позже всех, то по мне уж лучше совсем не пойти. Чтоб не привлекать внимание к себе. (Хотя, наверно, никто бы особенно и не заметил.)
Но тогда почему я опаздывала на репетиции? Я, правда, понимала, что это наглость большая. Приходила и быстро садилась в угол. Поскольку Анатолий Васильевич меня хорошо знал, он или потом мне что-то говорил, или как-то смягчал ситуацию, не акцентировал мои опоздания. А опаздывала я часто. Всегда торопилась, бежала, но почему-то опаздывала…
…И вот мне предстояло войти в комнату, где все дети уже сидят. И все чем-то заняты. Я войду — и сейчас же на меня все обратят внимание…
И я вошла. А они никакого внимания на меня не обращают. Игрушки все разобраны. Мне играть не с чем. Дети заняты, мной не интересуются. Что же мне делать — стать у стены в углу и стоять? И тогда я взялась за подол плохо сшитого платья и сказала: «А у меня новое платье!» И все обратили на меня внимание.
А дальше? Я думала, они мне уступят какую-то игрушку, и я буду играть вместе с ними — рыбку ловить магнитом из картонной коробки или еще что-то. Но они почему-то привязались к этому платью, и я сразу же поняла, что мое платье несовершенно, и дети это видят. Хотела убежать, а они погнались за мной и начали спрашивать: «А лакированные ботинки у тебя есть?» Я говорила: «Есть!» — «А бархатное платье у тебя есть?» Я говорила: «Есть!»
(Почему-то плачу, вот удивительно. Видимо, и тогда плакала. Себя, наверно, жалко, какая-то глупость…)
И так они меня загнали в угол, спрашивая: «А красный фартук у тебя есть?» На все я отвечала: «Есть!»
Время было послевоенное, и, конечно, ни у них ничего не было — они откуда-то об этом только слышали, — ни у меня.
Потом меня загнали в раздевалку — длинные ряды шкафчиков для одежды, на дверцах нарисованы груши, яблоки. Я влезла в такой шкафчик и оттуда на всё отвечала: «Есть!» На все их вопросы — «Есть!»
Вытащить меня из этого шкафа долго никто не мог. Я закрылась изнутри. Не выходила ни на обед, ни на ужин. Когда давали какао (это считалось большим деликатесом!), я отказалась и от какао. Уже истекло время пребывания в детсаду — а я все не выходила.
Наконец пришла мама и вызволила меня из ящика. Воспитательница принесла бидончик с какао, но я громко сказала: «Не бери ты, мама, их какао!» Мама повела меня домой (о моей замечательной маме я еще расскажу) — оказалось, у меня температура 39°.
Больше меня в детский сад не водили.
…Спустя много лет я наблюдала за поведением 27 детей в детском саду. Из своего окна на восьмом этаже. Детский сад — во дворе. Построены у них маленькие домики деревянные, для детей. Сидят дебелые воспитательницы внизу: кто ноги на солнышке вытянул, загорает, кто книжку читает, ля-ля-тополя друг с другом. И вот я вижу, как дети загоняют одного ребенка в угол. (Опять плачу. Ну не глупость ли…) Вижу, вырывают из забора палки, да стараются покрупнее, и гоняются за этим ребенком. А у него сопливый нос, на шее платок, а на голове невероятная дурная розовая шапка. И еще у ребенка сверху платье, из-под него торчат жуткие шаровары. И не менее жуткие туфли с носками. Это так мама обрядила его в сад. И вот дети, чувствуя, что ребенок болен, некрасив, бедно одет, считают, что могут вырывать палки из забора и гоняться за ним, загонять его в маленький домик с дверью, с окошками. И там они его бьют, достают палками через окошки.
Я думаю: что же из ребенка может вырасти, если его с детства забивают в присутствии взрослых? Его бьют, а воспитательницы сидят и ничего не видят. Я с восьмого этажа кричу: «Вы что, тетки! Не видите, что у вас с ребенком делают?»
Известно, чтó будет дальше. Дальше у него поднимется температура, и родители его заберут. И он всю жизнь будет бояться тесных контактов с остальной массой народонаселения — он будет избегать публичных встреч. Так приобретаются комплексы.
Видимо, правду говорят: все закладывается в детстве. Когда приобретен какой-нибудь комплекс, как его удачно ни скрываешь в течение жизни, в какие-то моменты всякие прикрытия вдруг исчезают и понимаешь, что остался незащищенным. Как это тяжело. Я тоже долго носила свой «горб» — боязнь публичности — и тщательно скрывала его.
Как вообще можно, с детства обладая комплексом публичной боязни, пойти в актрисы? Один мой знакомый обо мне говорит: первой ее авантюрой было то, что она пошла в актрисы. Ну в самом деле, как с этаким комплексом можно пойти в актрисы? Невероятно…
Действительно, почему я пошла в артистки?
Почему… Неисповедимы пути Господни.
Итак, с одной стороны — боязнь публичности, а с другой — в детстве я была абсолютной бандиткой, свободолюбивой и бесшабашной. И при этом — стеснительной. Что за адова смесь, которая не давала спокойно жить ни мне, ни окружающим?
И в институте моя стеснительность очень даже проявлялась и мешала. Иосиф Матвеевич Раппопорт, руководитель курса, когда не ладилось с дипломным спектаклем, говорил мне: «Что вы все норовите уйти со сцены? Вы тем лучше играете, чем ближе к выходу за кулисы. А когда скрываетесь за кулисами, то просто счастливы. Так и норовите — к выходу и за кулисы. Ну хорошо, мы понимаем, что у вас специфика, индивидуальность вот такая. И здесь, в институте, мы, педагоги, защищаем вас от вас самой, мы с вами боремся и вас же опекаем, поскольку вы еще юное существо. А пойдете в театр — что там будете делать? Что будете делать в театре?»
Ну, слава Богу, встретился режиссер, который прекрасно понимал «специфику» индивидуальности.
Со времен спектакля «104 страницы» я всегда играла с распущенными волосами. У меня тогда прическа была очень пышная. И чтобы не быть анфас к публике, я поворачивалась профилем, — и в любой сцене норовила затолкать волосы в рот и там их терзать, закрывая при этом пол-лица. И волосами, и рукой. Анатолий Васильевич иногда говорил: «Оля, что вы все время волосы заглатываете, сколько вы можете их проглотить?»
Все время старалась закрыть лицо, и только когда это удавалось, могла что-то сделать по роли.
Однажды Эфросу это надоело и в «Ромео и Джульетте» он сказал: «Сделайте ей такую шапочку, как у „Дамы с горностаем“ Леонардо!»
И мне сделали такую шапочку. Никаких волос — все было под шапочкой, закрыться нечем. Он поставил меня анфас к зрительному залу, и я уже не могла ни уйти, ни развернуться. Должна была стоять фронтально, лицом на зрительный зал, стоять без всяких ужимок и гримас.
Такие попытки он делал еще в «Счастливых днях несчастливого человека» — выводил меня просто на авансцену и заставлял вести диалог анфас к зрителю. Но там у меня в руках был прутик, еще что-нибудь, так что я находила возможность отвернуться от зрительного зала.
На Бронной моя подружка, помреж, говорила: «Дружочек, ты знаешь, как ты в „Женитьбе“ играешь? Ты лучше всего играешь, когда поворачиваешься к залу спиной!» Благо там была масса удобных для меня мизансцен, я разворачивалась — и оказывалась лицом к помрежу. Она говорила: «Ты так хорошо играешь, но почему ты все время лицом ко мне и спиной к зрителям? Мне-то хорошо. Но когда ты разворачиваешься к ним, могла бы так же поиграть…»
И вот с таким характером — боязнь, незнание себя, сомнение, имеешь ли ты на это право, — я пошла в актрисы…
Иногда у меня спрашивают, почему я не снимаюсь в кино. Да, наверно, все потому же — я очень застенчивый человек Я всегда сомневалась по поводу своей фотогеничности. И боюсь камеры. Да я всего боюсь — камеры, помещений, новых людей. Однажды во время каких-то съемок, когда уже был подписан контракт, закрылась дома и буквально забилась под кровать — чтобы не идти на съемки. И только Эфросу с трудом удалось уговорить меня продолжить, провоцируя тем, что придется платить неустойку. Хотя в этих съемках он был совершенно не заинтересован: я нужна ему была в театре, где у меня было много работы.
Начались репетиции. Анатолий Васильевич передал пьесу Радзинского «104 страницы про любовь» своей помощнице, второму режиссеру Наташе Зверевой. Вы, говорит, репетируйте пока, я потом посмотрю. Сам он в это время выпускал на сцене «В день свадьбы» Розова.
И вдруг меня срочно отзывают из репзала, с репетиции «Страниц», на сцену: актриса, которая репетировала в розовской пьесе Лиду, попала в больницу. Это была Света Данильченко, киноактриса, очень красивая. Ее привел в театр Эдик Радзинский специально на эту роль. И вот вдруг у нее заражение крови, кровотечение, что-то страшное… И меня вызывают — буквально дня за два до премьеры. Роль небольшая — прежняя любовь героя приехала в день его свадьбы и между ними должно произойти тайное объяснение.
Анатолий Васильевич говорит мне: «Вот, попробуйте сыграть эту роль. Возьмите текст и выходите на сцену». (Это была сдача спектакля.) Я спрашиваю: «А что делать?» Анатолий Васильевич отвечает: «А вы ничего не делайте. Просто проговаривайте текст и ничего не делайте». Я думаю: как же это — ничего не делать?.. Но если режиссер говорит, значит, надо так и делать — то есть «ничего не делать».
Я взяла текст, быстро его выучила и вышла, проговаривая текст. Так и проговорила всю роль.
После репетиции Анатолий Васильевич устроил в репзале публичное обсуждение. На сдачу он пригласил много критиков — были почти все театральные критики Москвы. (Анатолий Васильевич любил тогда их собирать.) И вот каждый — каждый! — критик вставал и говорил: «Яковлева вышла на сцену и ходила, ничего не делая, проговаривая текст. Спектакль замечательный, но только вот Яковлева, которая играла Лиду, — это что-то чудовищное».
Я осознала, что я «что-то чудовищное». Вот тут и обнаружился мой «комплекс» — сомнения в собственных способностях. Все меня долго убеждали в обратном, но ничего не помогало. Я словно споткнулась. Тихо вышла из зала, и дома мне стало совсем нехорошо. Звонил Анатолий Васильевич, долго объяснял, что все ерунда и вовсе не так, вы выполнили то, что я вас просил, и все это надо забыть, надо продолжать работать… В общем, все, мол, нормально. И что же тут может быть нормально? Помню, плакала в голос — понимала одно: я испортила спектакль, испортила премьеру, в общем, провал.
Это была моя первая неудача в театре.
В будущем я наблюдала, как Анатолий Васильевич иногда просил повторить сцену: «Технически, технически пройдите. Не затрачиваясь, в полноги, ну, намечайте „на ля-ля“, как бы проигрывайте только мелодию и переходы. Мне достаточно видеть, что вы понимаете смысл, на чем строится сцена». Да, так можно репетировать, это бывает забавно, но молодые не знали еще эту методу. И, памятуя случай с «Днем свадьбы», где я аккуратно завалила роль (слава Богу, не спектакль), я тихонько говорила молодым артистам: «Не делайте глупости, не верьте ему. Не верьте ему, когда он говорит „ничего не играйте“. Ничего никогда не делайте в полноги — играйте так, как вам кажется нужным, в полную силу». И когда они действительно играли, как бы не слушая его, пренебрегая его просьбой «технически проходите», — он бывал удовлетворен. Режиссеру не всегда надо верить. Надо знать, когда ему можно — и нужно — не поверить.
После этой злополучной сдачи я продолжала репетировать «104 страницы». Пришел Анатолий Васильевич и, вроде бы даже не посмотрев прежние репетиции, начал предлагать делать что-то новое. Мне сразу стало очень легко с ним репетировать — я свободно приняла его стиль, его метод.
Он сказал: «Давайте работать этюдным методом».
До этого этюдным методом я не репетировала. Когда Анатолий Васильевич чуть-чуть правил спектакль другого режиссера «До свидания, мальчики», он говорил актерам: «Да-да-да, в том направлении идете», — но больше разговаривал с режиссером — новые декорации и прочее…
А тут он сказал: «Будем делать этюды на тему — вы в метро, и вы хотите оттолкнуть молодого человека, который вас обидел».
Позже он описывал мне эту репетицию: я Володю Корецкого (он играл Электрона) так отталкивала — самым натуральным образом, — что сдвинула пару рядов кресел, которые были принесены из зрительного зала. Так отчаянно я его отталкивала. А поскольку физическое действие переросло в нервное, тут же со мной случилась истерика. После этого Анатолий Васильевич, по-моему, понял, что со спектаклем будет все в порядке, и почти не делал мне замечаний. Он только обозначал выходы, детали: «Выйдете оттуда и так, припудривая нос, проведете всю сцену. А потом возвратитесь…» — ну и в таком роде. Интуиция моя на репетициях стала просыпаться, я начала сама что-то делать…
Потом — не в начальном периоде, когда Анатолий Васильевич показывал и объяснял, а уже ближе к концу — он на репетициях сидел в ложе с Радзинским. И Эдик рассказывал мне, что время от времени Анатолий Васильевич толкал его и говорил: «Слушай, Эдик, откуда такие девки берутся? Как такие рождаются?»
В «104 страницах» мне стал понятен его метод работы: через показ, через этюд, с текстом, лишь приближенным к пьесе, но в нужном направлении. Этот метод давал исполнителю полную свободу. Он определял и задачу, и смысл того, что ты, собственно, делаешь в этой сцене, — но давал и полную свободу для импровизации. Он как бы открывал актеру грудную клетку для свободного дыхания, подводил его к интуитивному поведению на сцене.
Некоторые говорили, что не понимают, чего хочет Анатолий Васильевич. Мне же казалось, что я поняла его легко и сразу. Он ставил высокие сложные задачи, задачи невыполнимые, как бы стоящие перпендикулярно к материалу, — но они были ясны. И когда говорят, что язык Эфроса непонятен, мне это как-то странно… Помню, пришедший позднее на Бронную Козаков недоумевал на репетициях «Месяца в деревне». Эфрос говорил: «Это гроза, гроза, гроза… Что-то тревожное в воздухе… куда-то несет ее, несет…» Миша Козаков спрашивал: «Гроза — это метеорологически?» Тут я начинала хохотать: «Гроза — это географически»…
Я не театровед. Не мое это дело, да и, находясь внутри театра, трудно, невозможно заниматься исследованием творчества Анатолия Васильевича. Должен быть взгляд извне. Прошло 12 лет со дня смерти — и ни одного маломальского исследования не появилось. Критикесса, которая ходит к Наташе Крымовой[1], в день смерти Анатолия Васильевича клятвенно уверяет в своей «речи» за столом, что ни единое слово Анатолия Васильевича не будет пропущено и забыто. В этот же день, заседая в редколлегии на радио, она не пропустила в эфир передачу, составленную из высказываний Анатолия Васильевича, записанных с его голоса на пленку. Может, она употребила это выражение в прямом смысле — а мы, дураки, восприняли в переносном?!!
В далеком Кишиневе ученик Вениамина Апостола (в свою очередь ученика Эфроса) Г. Олтяну сделал фильм об Анатолии Васильевиче, исследуя только одну фразу из его записей (цитирую по памяти): «А что, если сбросить всякий ритм, мотор, установить камеру и медленно, на одном изобразительном фоне (остановившемся) насытить кадр (сцену) глубоким содержанием? То есть вдумчиво, без спешки». Ученик ученика проделал этот эксперимент. Без денег, без поддержки. Он даже хотел сделать свой фильм пособием для театральных вузов, чтобы молодые могли исследовать метод Эфроса, — но опять же нужны деньги. Он обращался к знаменитым актерам, которые, руководя какими-то фондами, на страницах печати не ленились объясняться в любви к Эфросу. Но денег не дали. Никто. Мы бежим дальше. Это вне наших интересов.
Марина Зайонц составила книгу воспоминаний об Эфросе. Она пролежала несколько лет и вышла в издательстве «Арт» в 2000 году при поддержке Министерства культуры и СТД. Широко известный журналист, ведущий телепрограммы об истории страны, анализируя 1975 год, даже не упомянул о премьерах Эфроса. О чем угодно — где отдыхали, на каких курортах, в каком количестве, что покупали, что носили, как шили юбки и во что были одеты актрисы на экране. А ведь 1975-й — это и «Женитьба» и «Вишневый сад» (на Таганке). Даже если не упоминать остальное — вполне достаточно. Это были заметные явления в театре. Да если бы и упомянул, было бы смешно. Через всю «антологию» истории страны идет его личный «изобразительный ряд»: он на одном курорте, он на другом курорте, он одет в Армани, или в Валентино, или во что-то еще… Это — главное, и это видно.
Клиповое сознание, клиповая история, знаковое мышление. Манкурты. А если остановиться?! И без спешки, вдумчиво? Сколько театральных и телевизионных открытий сделано Эфросом — их расхватали, присвоили те же телеведущие и режиссеры. На бегу хватаем, присваиваем и бежим, не анализируя. И мое — мое, и чужое — тоже мое. Смена крупных планов на телевидении, создающая ритм, — ход, придуманный Эфросом. Я не думаю, что не надо это использовать, но хотя бы отдавать себе отчет… Анализируя метод Станиславского (в той самой передаче, которая не пошла на радио в день смерти Анатолия Васильевича), Эфрос размышляет вслух над постулатами Станиславского. Та самая критикесса, которая клялась, что ни одно его слово, ни одна запятая не будут пропущены для истории театра (или кто-то из ее единомышленников), напишет на полях передачи жлобское: «А он что — при этом присутствовал?» — или что-то подобное: «А он это знает?» — или: «Он это видел?» Не видел — но анализировал. Продумывая, отдавал дань и скорбел. Может, не только о Станиславском, но и о нас, живущих?..
В далеком Израиле — в котором Эфрос никогда не был, куда не собирался, — израильский писатель Арье Элкана, автор книги о Мейерхольде, написал книгу и об Эфросе — довольно детальное исследование его творчества. Плюс собственные фантазии на тему биографии и личной жизни художника — по фактам, далеким от истины, потому что никто (в том числе и я) не ответил на его письма с просьбой поучаствовать в создании книги об Анатолии Васильевиче — поделиться достоверными сведениями. Он свою книгу завершил на основании печатных материалов — и, надо сказать, по духу кое-что в ней угадано верно. Издал за свой счет — но ни в издательствах, ни у театральных критиков не нашла она никакого отклика. «Мы это знаем» — был самый удобоваримый ответ. Ну и?! Писателем написаны труды о двух режиссерах — Мейерхольде и Эфросе. А нам не интересно! Почему в Кишиневе молдаванам, а в Израиле (куда меня, кстати, пригласили написать в тишине эти лоскутные наброски) израильтянам интересно — помнить, исследовать, поддерживать русскую культуру, — а нам нет? Потому что это — евреи о еврейских режиссерах в России? Нет. Потому что это — люди о людях. Об их творчестве и судьбах в России. Их затронуло, а нас — нет. Мы бежим отмечаться на тусовках, собраниях, спешим самоутвердиться, стать в очередь за местом под крылом у власти, и как следствие — за материальными благами. Отмечаемся и отмечаем…
Оля!
Во-первых, мой Димка[2] передает тебе привет. Он спрашивает: «Это та Яковлева, которая болела в Перми и к которой мы приходили? А тебе кто больше нравится — Дмитриева или Яковлева?»
Я осторожно отвечаю: они обе хорошие артистки.
«А мне — Яковлева. Она хорошо играет в „104 страницах“ у и у нее симпатичная внешность».
Так вот, человек с симпатичной внешностью! — очень без тебя плохо! Уж не говорю о том, что спектакли отменяются и толпа стоит менять билеты. (На это довольно страшно глядеть — кажется, что все рухнуло, чем год занимались.)
Но плохо не только поэтому. Плохо, что нет рядом такого милого, такого чудесного друга.
Когда человек болеет и отсутствует — легко проверить, насколько он тебе нужен. Так вот, мне кажется, что какая-то жуткая яма образовалась.
Тут показывались несколько артисток, но я смотрел и все видел тебя, и думал, как все-таки здорово, что в этом театре оказалась ты. Такой, как ты, — нет ни в «Современнике», нигде.
У тебя, наверное, уйма недостатков, но есть что-то такое, чего нету других, даже самых прекрасных артисток Я с удовольствием и даже с волнением вспоминаю, как ты серьезно сидишь перед своим зеркалом в гримерной и как бежишь на выход, и как между картинами мчишься переодеваться. Ты во всем такая, что думаю я о тебе с огромным уважением и любовью, и так грустно, что уже столько дней приходится приходить в театр, где тебя нет.
Вчера в райкоме комсомола было непростое заседание, где нас пытались побить, но мы откричались. Вообще, кругом назревают какие-то скандальчики, и это все очень беспокоит.
О «Марате» были еще 2 рецензии — в «Комсомолке» и в «Московском комсомольце». И та, и другая статьи, в общем, доброжелательные и не злобные. Тебя не трогают, да вообще никого не ругают. Но будут еще рецензии плохие, этим пахнет.
Про то, что ты больная, знает, по-моему, четверть Москвы. Сегодня были у Павлова, и тот спрашивает — «Ну как Яковлева?»
Мне очень больно думать, что ты где-то там сидишь взаперти. Я даже как-то виноватым себя чувствую, да я, вероятно, и на самом деле виноват. Замучил тебя совсем. Тебе, конечно, давно надо было отдохнуть и полечиться. «Моя бедная Лика!»
Я каждый день сижу на репетиции Брехта. Там много очень хороших кусков, но много и муры. Левка[3] стал играть хорошо местами, не сравнить с тем, как раньше играл. Збруева перекрасили для кино. Лучше всех по-прежнему Круглый. Умница и какой-то благородный человек.
Нона — мрачна, как всегда.
Критик Патрикеева ходит на все спектакли и что-то пишет.
О, господи!
Возвращайся-ка ты скорее и возьми свои кисточки в руки. А где моя божья коровка? Кто ее кормит? А вдруг твоя злая и свирепая собака ее проглотит? Или откусит у нее рог?
А куда выходит твое окно?
Выздоравливай! Эй! Выздоравливай, а не то побью твои окна из рогатки. Приду с Дуровым, и он побьет.
Постигать свою маму я начала очень поздно. Я ее любила, но… как животное. Конечно, я ею гордилась, но главное — просто любила, вот как животное любит, инстинктом. Все время хотелось ее поцеловать — под подбородком, в шею. Я могла ее поднять, и мама хихикала у меня на руках…
И все же — родителей своих мы не понимаем. Не понимаем, чтó они переживают, переходя в другой возраст, все дальше и дальше удаляясь от молодости — к своей… кончине. Не понимаем. Только когда сами переживаем этот возраст, лишь тогда начинаем понимать: а-а-а-а, вот-вот-вот… вот что они тогда испытывали — то же, что испытываешь ты сейчас, будучи теперь в их тогдашнем возрасте.
Мама меня иногда поражала. Она умела уважать своих детей. Она уважала в ребенке личность. При всех детских выходках.
Скажем, на меня жалуются соседи: «Ваша Ольга сделала то-то и то-то!» Допустим — «Она… что-то там украла!» Или: «Ваша Ольга побила нашего мальчика Вову!» (А Вова — здоровый парень. Ольге лет семь, а Вове лет десять.) Или: «Ваша Ольга подавила ваших цыплят!»
О чем-то я маме сама рассказывала, о чем-то — нет. Мама выслушивала соседей и говорила: «Значит так! То, что у вас пропало, моя Ольга не брала! Она не может взять чужое. Да, моя Ольга, видимо, побила вашего Вову. Я ее накажу. И моя Ольга действительно раздавила сегодня трех цыплят, но она мне уже об этом сказала. Я сама попросила ее согнать их в сарай, и она, бегая за ними…»
Да, эти цыплята имели привычку внезапно останавливаться под ногой — ты не успеваешь отступить, а он вдруг остановился — и ты его давишь. После этого я, открыв рот, кричала «а-а-а-а-а-а-а-а!» и со слезами бежала догонять всю эту свору цыплят, мне их нужно было согнать. Но какой-то один опять останавливался, я наступала, и уже этот пищал у меня под ногой, и я опять кричала «а-а-а-а-а-а!» во все горло. Я приходила к маме с истерикой и говорила: «Мама, ну если б одного, а то трех!» Мама, видимо, это понимала и как-то меня успокаивала.
Мама. Мама не только уважала детей. Она еще воспитывала в нас чувство свободы. Как это у нее получалось, не знаю. Допустим, шла я в парк играть. А тогда играли только в «Тарзана». Я залезала на дерево и изображала там то ли Джейн, то ли Читу, то ли самого Тарзана — пыталась летать, качаться на «лианах», на ивах, на вязах…
И приходила мама. Она не звала меня обедать домой — она приходила в парк. А он напротив дома был, этот парк, с балкона можно было крикнуть. Но мама не кричала. Она собирала узелок с едой, банку с окрошкой или вареники с вишнями, приходила в парк, ставила под дерево и кричала: «Чита! Твой обед прибыл!» Я была маме очень благодарна — спускалась вниз, хватала этот узелок и лезла опять на дерево. И обед у меня происходил там, на дереве…
Здорово, дружище! Здорово, милая Мерлин Монро!Когда читаю твои письма, так хочется тебя защитить от всего. И от больницы, и от всех переживаний! Ты такая прелесть, что кто-то тот, что все распределяет, решил, что с тебя хватит. И не дал тебе толстой кожи, которая спасала бы тебя от всех бед, и физических, и психологических. Где бы взять немножко этой кожи, чтоб можно было иногда прикрываться?!
Но не горюй, помни все-таки, что тебя не всем обделили, ей-богу, об этом тоже надо помнить, чтобы жить и чтобы не грустить сверх меры! Ты талантлива, чудесна, ты редкий человеческий экземплярчик, ты не просто один из муравьев муравейника. Черт возьми, ведь должно быть все-таки хоть какое-то осознание этого и хоть какая-то радость от этого.
Вот ты, наверное, переживаешь, что Малявину ввели в «104». Ты, конечно, не сознаешься в этом, но ты переживаешь, как переживаю я, когда узнаю, что ту же пьесу, что ставлю я, ставит, допустим, Товстоногов или Ефремов. Но что тебе переживать! Если даже она сыграет хорошо, то, значит, ты играешь особенно!
Но пока она сыграла не очень хорошо. Хотя она и подходит и многое делает интересно — все очень сырое и неотесанное. Но даже если все будет не сырое — тебе не надо переживать, как не надо переживать Дмитриевой, если взамен нее будет играть Нюрка из «Современника».
Одним словом, если у тебя есть какие-то переживания на этот счет (а они не могут не быть!! — потому что все мы люди, да еще актеры или режиссеры), то постарайся бросить их, потому что эти переживания у таких, как ты, бывают только оттого, что они не могут увидеть самих себя и погордиться собой!
Бедные вы мои Монры, как вам все-таки трудно живется на свете. Эх, если бы вам немножечко больше уверовать в себя и не психовать и набираться здоровья.
Но вот ужас, может быть, вы бы тогда уже не были Монрами?!
Когда я смотрел прогон с Малявиной и делал ей замечания, то пытался как-то объяснить образ и понял, что говорю уже не про образ, а рассказываю о тебе. Она это, наверное, сможет когда-нибудь сыграть, но тебе это играть не нужно, потому что это ты и есть. А раз так, то уж никакой игрой это не заменишь.
В театре, мне кажется, мало кто знает тебя хорошо. Кроме меня, может, Валентина Измайловна да Николай Николаевич[4], Броня, Журавлева, не знаю, кто еще. Но кто тебя знает, тот тебя ни на кого не променяет.
Уже сегодня, когда написал письмо, — получил твое. Я уверен, ты сама не помнишь, что там написано. Это полное неверие ни в какие человеческие отношения! Это стыдно! Тебя тут все-таки вспоминают, а ты!.. А еще обещала вчера по телефону, что все поняла, как я сказал. Я верил и весь день вспоминал тебя спокойной! Так нельзя! Или ты совсем не веришь ни мне, ни Вал<ентине> Изм<айловне>, ни Ник<олаю> Николаевичу?!
Больше не хочу об этом писать! Жду твоего звонка завтра в 10:50 в т<еат>р.
Сейчас, если нет готовой записки, — не спеши, а то мы уедем на совещание в управление.
Если не будешь мне доверять — я буду очень злиться!!!
Официальные письма твои противные. А те первые — удивительные и замечательные.
В Ленкоме успешно прошли подряд три спектакля — ну, более или менее успешно для молодой начинающей актрисы: «До свидания, мальчики», очень милый спектакль, потом — «104 страницы про любовь», у которого, судя по прессе, был громкий успех. И «Мой бедный Марат» — тоже не очень ругали.
Помню забавный эпизод на репетициях «Марата». У нас было два состава: Лику играли Рита Струнова и я. И получалось так, что я все время репетировала, а Струнова приходила, надевала костюм и сидела смотрела. Она была очень дисциплинированная артистка. А костюм для репетиций я нашла сама — валенки, платье, платок, перевязанный накрест. И я смотрю — Рита одета точно так же, тот же подбор одежды со склада. Мы оказались в одинаковых шубейках и платках. Я это увидела и говорю: «Ритка, давай выйдем обе на сцену. Скажем: „Анатолий Васильевич, выбирайте, какая ваша на сегодня“».
Так и сделали — вместе вышли на сцену, одинаково одетые. А помрежа предупредили: скажи, мол, Анатолию Васильевичу, пусть он сам выберет, какая сегодня репетирует. Он начал жутко хохотать — мы были абсолютно одинаковые, одного роста, а лица закрыли платками — совсем не различить.
И он выбрал меня. По непонятным признакам. Как один мой знакомый говорит — «мистика и инфернальность»!
После «104 страниц» Радзинский написал пьесу «Снимается кино». Он привез ее в Ленинград, где мы тогда гастролировали с Ленкомом.
Читка была назначена в гостинице «Ленинградская», в чьем-то очень большом номере. Держался Анатолий Васильевич так, что по нему было видно: пьеса очень стоящая.
Сидела почти вся труппа. И Радзинский. Читал Эфрос.
Пьеса заинтересовала всех. Тема острая: художник и власть, любовь и семья, искусство и идеология. Творческий тупик художника. Эфрос часто останавливался, как-то странно дергал носом, приглаживал волосы пятерней, молчал — и после с трудом продолжал. Потом до меня дошло: это он преодолевал спазм в горле. Удерживал слезы. И то, как он переживал перипетии пьесы, заставило многих эмоционально сосредоточиться, а в конце уже все, почти не скрывая, шмыгали в тишине носами.
Автор был доволен. На него тоже произвела сильное впечатление эмоциональная читка пьесы. Он повторял: «Да, это, скажу я тебе… да, это…»
Только Шура Ширвиндт после читки отпускал полуиронические шуточки — но он и сам был взволнован и, подсмеиваясь над автором и Эфросом, скрывал свое волнение. Ведь главного героя предстояло играть ему, что он впоследствии прекрасно и сделал.
Когда мы следом за «Маратом» подошли к репетициям этой новой пьесы Радзинского, я, видимо, что-то уже возомнив о себе, стала не очень доверять режиссеру.
Поначалу я не должна была играть в «Снимается кино». Впереди в планах стоял «Мольер» Булгакова. Поскольку в труппе была уже Валя Малявина, Анатолий Васильевич сказал: «Вы одноплановые актрисы, Оля, — выберите, что бы вы хотели играть: „Снимается кино“ или „Мольера“. Если вы играете „Снимается кино“, тогда Валя будет играть в „Мольере“. Через год, примерно. А если вы соглашаетесь на „Мольера“, то в „Снимается кино“ я сейчас назначу Малявину».
Я выбрала «Мольера». Стало быть — в репетициях «Снимается кино» я не участвую.
И вот-вот уже распределение, и должны начаться репетиции, — вдруг приходит Анатолий Васильевич и говорит: «Понимаете, какая штука — Радзинский сказал: „Эксперимент с такой-то актрисой я вам позволяю, эксперимент с таким-то актером я вам разрешаю, эту роль я вам отдаю на откуп и поступайте, как хотите, но что касается Ани — мое первое условие, чтобы играла Яковлева“».
Но настроение, я вижу, у него хорошее. Спрашиваю: «И что из этого следует?» Он говорит: «Следует то, что вы сейчас начинаете репетировать „Снимается кино“». Я говорю: «Но у нас договор, что я буду потом „Мольера“ играть, я выбрала ту роль». — «Ну, это будет не скоро, там посмотрим. Радзинский поставил такое условие — он отдает пьесу нам, только если…» — ну и так далее.
(С Валей у нас вообще происходили интересные вещи и впоследствии, какие-то «перепутки» постоянно. Первая «перепутка»: я не хотела и не должна была играть Аню, но Радзинский поставил условие, что должна играть я. Значит, Валя переходит на «Мольера».)
И вот, на гребне первых успехов, когда я начала много воображать о себе (как же, мне предложены на выбор две роли!), я приступаю к репетициям «Снимается кино».
Пьеса мне очень нравилась, репетиции проходили удивительно весело — Эфрос был в приподнятом настроении, репетировал замечательно. Но поскольку все актеры уже, как говорится, вкусили успеха, то и вели они себя… соответственно.
Ширвиндт еще и до «104 страниц» был известен в Москве как автор и участник всех капустников. Круглый сыграл к тому времени немало — и в «Современнике», и в кино, и в «Бедном Марате». Збруев — уже снялся в кино, сыграл «Марата» и другие спектакли.
Ну, Софья Владимировна Гиацинтова — это особый разговор. Мы очень гордились, что она репетирует вместе с нами. Свой монолог Старой Актрисы она читала неподражаемо — так приподнято, так одухотворенно. Когда она произносила знаменитую фразу — «Актрисе всегда семнадцать лет!» — зал обязательно аплодировал.
Было в этом спектакле нечто «мистическое». Финал Анатолий Васильевич придумал, как нам тогда казалось, очень странный («Восемь с половиной» Феллини еще никто не видел!): откуда-то — словно бы ниоткуда — выходил человек с трубой и звучала пронзительная мелодия Дэва Брубека. Труба пела о вечности, о вечной драме и тоске. Своеобразный камертон всего спектакля, его кульминация.
И вот я, уже осмелев на площадке, стала, так сказать, активно работать над ролью. Я почему-то думала, что если героиня продавщица, то надо ее снабдить какими-то соответствующими атрибутами. Я чуднó одевалась на репетиции — во все яркое, пестрое. В речь Ани вставляла свои словечки, прибаутки ей придумывала, — хотя смысл роли был совершенно в другом. Анатолий Васильевич часто мне говорил: «Оля, не надо этого! Сюда улицы не надо! Играйте ирреально!».
Ирреально, реально… Я вроде бы понимала умом: это что-то отстраненное, не из здешних мест. И на другую мелодию. Но в живом общении и в бытовых ситуациях пьесы это было трудно сделать — и поэтому роль наполнялась всяким мусором. Он мне постоянно говорит: «Играйте ирреально, ирреально», — а я гну свою линию, несколько заземленную.
Однажды на репетиции Анатолий Васильевич так рассердился на мои «импровизации», что швырнул в меня из зала реквизиторскую трубу. На сцену. Но не попал, — уж не знаю, к счастью или несчастью: тогда бы уже ситуация развивалась по-другому, если б он попал. Но он не попал. Специально или случайно, тоже не знаю.
Я, конечно, тут же обиделась и ушла с репетиции. С одной стороны, мне было смешно: серьезный человек швыряет на сцену реквизиторскую трубу… Нет, в самом деле, смешно. А с другой стороны, как же мое достоинство! И надо делать вид, что ты очень обижена. И вот так, смеясь и одновременно делая обиженный вид, я ушла со сцены.
В таких случаях моим любимым убежищем в театре был туалет. Я там закрывалась и выудить меня оттуда никто не мог. Потом я, конечно, возвращалась на сцену, потому что при всех наших шутках в Ленкоме все-таки была дисциплина и все, что переступало границы этики, казалось вопиющим. Тогда уже Анатолий Васильевич гневался по-настоящему.
Произошло бурное объяснение: «Вы не должны… — А вы не имеете права… — А вы мне не возражайте… А у меня нервный момент, я не выдерживаю, когда вас так много и все со своими заскоками», — и так далее.
Ребята разошлись и веселились вовсю.
Помню, на одной из репетиций Анатолий Васильевич из зала выговаривал Шуре Ширвиндту (что-то у него не получалось) в таком духе: «Шура! Возьмите себя в руки! Вы играете кинорежиссера, измученного своими проблемами! Во-первых, у него не сытое лицо — а у вас такое лицо, будто жир капает изо всех мест! Как будто вы хорошо позавтракали чем-то жирным! И будто у вас вообще никаких проблем! Вы какой-то сытый, Шура!» Мне тогда даже показалось, что это очень оскорбительные замечания. И Шуре, наверно, действительно было обидно, но у него всегда сохранялось потрясающее чувство юмора.
Шура произнесет два слова по роли — Анатолий Васильевич сразу начинает ему говорить: какое у вас лицо, мол, неинтеллектуальное и неизмученное. Или кричит в гневе: «Стоп! Репетиция закончена!»
И вот актеры начинают репетировать другую сцену: Кинорежиссер (которого играет Шура Ширвиндт) разговаривает с Актером. То есть на сцене происходит то же, что на репетиции у Эфроса: они никак не могут снять очередной эпизод. Актер (его играет Державин) сбивается и должен идти текст Режиссера: «Нет! Стоп! Камера, стоп! Второй дубль!»
Шура Ширвиндт говорит по тексту роли: «Камера, стоп!» — и вдруг начинает кричать своему другу Мише Державину: «Миша! Ты посмотри, какое у тебя лицо! У тебя такое лицо, будто из него со всех сторон жир льется! Ведь ты играешь измученного актера! Такое ощущение, что ты только что жирно позавтракал!» — что-то в этом роде.
Эфрос уже чуть ли не на полу валяется, хохочет вместе со всеми. Но Шура не теряет серьёза. И продолжает кричать. «Стоп! Репетиция окончена! Перерыв!» В зале все хохочут, а Шура продолжает: «Так! Второй дубль!»
И тут вдруг Державин вытаскивает из кармана веревку и начинает методично наматывать ее на руку, демонстрируя этим режиссеру свое оскорбленное самолюбие. Даже не веревку, а канат какой-то. Он делает один виток на руке, другой, третий, канат тянется из кармана бесконечно… Не знаю, откуда он брался, то ли Миша обмотался им весь — метров двадцать намотал на руку! Тут уже не выдержал Ширвиндт, и репетиция действительно остановилась — хохотали все. В этот день, по-моему, со всеми была истерика.
Вот в один из таких нервно-веселых дней Эфрос в меня и метнул что-то…
Потом, когда спектакль был уже выпущен, мы посмотрели «Восемь с половиной» Феллини. Всей труппой спустились вниз, на первый этаж, в зал Дома политпросвещения (он находился в здании Ленкома), там нам показали этот фильм. Эфрос плакал, да и все актеры тоже.
Глядя на подобную ситуацию в фильме Феллини, я поняла — что такое ирреально. И очень пожалела, что сопротивлялась Эфросу, привнеся в роль бытовую окраску. Ирреально — значит, следовало выбрать какое-то совершенно незаметное, нейтральное платье и как бы просквозить по всем картинам. Как дух, как мечта. Смысл пьесы у Радзинского был не менее глубок, чем у Феллини. Плюс наша родная почва. Героя Феллини мучали проблемы внутреннего порядка, а у нашего добавлялись еще и социально-идеологические.
Про наш спектакль говорили, что это парафраз к фильму Феллини. Но, ей-Богу, никто из нас до этого даже не знал о его существовании. Идеи носятся в воздухе.
Анатолий Васильевич написал тогда письмо Феллини и получил ответ, которым очень гордился…
После войны одно время близ домов во дворе строили сараи. Мы жили «цивилизованно», но в этих сараях держали всякую живность. Однажды завели поросенка, откормили его, и вот пришла пора его убивать. Мама закрыла меня на ключ в детской.
Форточка в детской выходила на пожарную лестницу, мы жили на втором этаже. Я высовывала голову в форточку и смотрела — видимо, была уже большая и не могла пролезть в форточку.
Зато раньше, когда я была поменьше и мама работала на заводе телефонисткой (у моей мамы много профессий было в жизни), а папа часто уезжал в командировку (он был коммерческим директором на разных заводах), мне иногда одной становилось страшно, — и я пролезала в форточку, в очень маленькую форточку, в одних трусиках, и прибегала на завод встречать маму после смены. При этом нужно было пробежать через кладбище. А смена кончалась около двенадцати часов. Я из своей детской выползала в форточку, спускалась по лестнице и бежала через все кладбище. Но поскольку было темно и страшно, открывала рот в начале кладбища и заканчивала орать, только когда утыкалась в мамин живот. Мчалась через все кладбище, потом по улице, которая вела к заводу, — и все время кричала…
И вот, когда подошло время заколоть этого несчастного поросенка, начались приготовления. Меня закрыли в детской. Но я уже знала: в доме затевается что-то нехорошее. Я высовывала голову в форточку, смотрела на сарай, в котором находился поросенок. Поняв, что все уже произошло, и услышав, как кто-то вошел в дверь, — кто-то из тех, кто вместе с моими родителями что-то сделали поросенку! — я пробила рукой окошко в двери детской (дверь была отчасти застекленной, с деревянными филенками), протащила через осколки голову, руки, и первому, кто проходил с тазом, с органами там всякими, — поросенка уже не было! — вцепилась зубами в икру. Оторвать меня было невозможно. Мне с трудом разжимали челюсти. Началась истерика. Такова была моя месть.
Как-то еще до этого мама мне на день рождения подарила… козу. Маленькую козочку. На день рождения — надо же было такое придумать! Козочку назвали Мартой, в честь моего дня рождения. В марте мне исполнилось семь лет.
Она жила у нас в квартире. А когда наступило лето — с мая или даже с апреля, на Украине весна наступает рано, — стала пасти козочку на папином 53 заводе. Пасла ее все лето. Построила на территории завода для нее домик из кирпичей. Когда был ливень или сильный ветер, мы с козой в нем прятались — в этом домике из кирпичей, который я сама сложила.
Осенью меня отвели в школу. С папиным старым портфелем…
У всех детей были новые портфели. Маленькие, детские. А мне решили дать в школу большой портфель. Я маленькая, а портфель большой — папин, старый.
И тут же снова возникает «комплекс». Что я с этим портфелем только не делала, трудно себе представить. Я его била, я на нем ездила, как на санках, — но нового портфеля мне не покупали.
В школе я вела себя точно так же, как когда-то в детском саду. «А у тебя ручка такая есть?» — спрашивали меня. Я говорила: «Есть». «А такая у тебя есть?» — «Есть!» На все говорила — «Есть!» И учительница маме как-то сказала: «Ваша Оля очень хвастливая. Говорит, что у нее дома есть все». Мама покивала, но мне ничего не сказала. Видимо, мама что-то про меня понимала — почему я так говорю. Этого не было, а я говорила: «Нет есть!»
Помню, как я начала кататься на коньках. Я каталась на одном коньке. У всех — то есть не у всех, но у многих — были коньки как коньки, а у меня — один. Почему один, не знаю, но каталась я на нем на одном. Это продолжалось год, наверно. Потом, лет в восемнадцать, у меня появились коньки. Два конька. Но я уже не каталась. На одном каталась, а на двух — нет. Один раз попробовала, покаталась — этого было достаточно…
…Так вот, коза паслась, а я сидела в школе. Когда гудел на заводе гудок, в двенадцать, — я его слышала, — занятия еще продолжались. Но я складывала свои книжки-тетрадки и говорила: «Ну вот, Анна Георгиевна, теперь я пошла, мне нужно забирать козу!» И уходила. Мама, смеясь, пыталась объяснить учителям, что ребенок еще не привык к школе, «она там козу у нас пасет». Но и потом, как только звучал гудок, я поднималась и говорила: «Мне нужно забирать козу. Она пасется у папы на заводе».
Маленькая козочка выросла, и ее отвезли «на откорм» в колхоз, где папа часто бывал, — папин завод, видимо, шефствовал над этим колхозом. Я по ней очень скучала.
Но, видимо, условия голодных послевоенных лет не были столь романтичными, — козу потом зарезали. Да, ее зарезали, а мне принесли сделанный из нее коврик. Постелили под ноги. Коврик я, конечно, отбросила от кровати. Сказала родителям, что мне такого коврика не нужно.
Году, наверно, в 1965–1966 Ленком ездил на гастроли в Харьков. Привезли «До свидания, мальчики», «104 страницы», «Снимается кино», «Марат».
Удивительное свойство памяти — когда начинаешь вспоминать что-нибудь натужно, ничего не получается. А непроизвольно — одна конкретность ведет за собой другую. И вот вспомнила, как в Харькове мы репетировали «Ромео и Джульетту» — задолго до того, как пришли в Театр на Малой Бронной. (По-моему, еще раньше в Центральном детском театре Анатолий Васильевич тоже начинал репетировать эту пьесу.)
На гастролях в Харькове, правда, это был урок-класс, без распределения ролей, репетировали в большом номере Анатолия Васильевича. Все актеры сидели по окружности. Задавалась тема этюда — и дальше кто сам вызывался, кого назначали, но все играли всех. Кажется, мужчины даже играли женские роли и наоборот. Главное — схватить суть заданного этюда. Это было очень интересно. Сидишь на стуле — и кажется, что ты вышел бы и сделал все лучше. Но это кажется, пока ты на стуле. А выйти в центр комнаты, когда на тебя глазеют все остальные, страшно.
Помню, когда вызывали меня персонально, я умудрялась затиснуться за какой-нибудь стул или даже под стол и оттуда меня было не вытащить. На время меня оставляли в покое, а затем повторялось то же самое. И хотелось — и было страшно: только бы не начинать! Мне предлагали стать на стул, но, поскольку все актеры сидели низко, я никак не могла встать на стул — ведь я окажусь выше и вообще буду вся обозрима, со всех сторон!
Но то были всего лишь этюды, со своим текстом. Все трудности ждали впереди, в Театре на Малой Бронной. Шекспир. Стихи. И моя зажатость… Но об этом после.
Наши ребята на гастролях резвились, по молодости. Смешной случай был с Леней Каневским — актеры потом рассказывали в театре как анекдот.
Он тогда уже сыграл большую роль в спектакле «Что тот солдат, что этот». Первый громкий успех. Группой куда-то едут на городском автобусе. Актеры, еще не прошедшие, так сказать, «школу возмужания», — разговаривают громко, возбужденно, обсуждая дела театральные. И вот Леня громко спрашивает что-нибудь вроде: «А когда репетиция?» Ему отвечают: «Вот тогда-то…» А он: «А сегодня мы какой спектакль играем?» И так далее. Кондукторша слушала, слушала, и вдруг говорит Лене: «Скромнее надо держаться, Соломон!»
Однажды Анатолий Васильевич водил меня по Харькову, показывал родной город. Он хотел найти дом, в котором родился. Мы блуждали по дворам, но, по-моему, кроме места, где дом когда-то стоял, он ничего не нашел.
И Анатолий Васильевич вернулся грустный, с каким-то необъяснимым чувством, его даже не определить. Он вообще был очень чувствительный, эмоциональный на редкость. В этих поисках было что-то глубоко личное — детство, папа, мама. Вместе с тем это было как-то связано и с будущим, с драмой, которую он предчувствовал. Он, видимо, очень хорошо знал, что означает фраза: «О если б навеки так было…»
Никогда не нужно возвращаться к своим пепелищам. Я как-то пыталась найти в Греции дом, где мы жили с Игорем в 1975 году. Но район перестроился, я даже не могла найти ту улицу — там была масса улочек, и они все строились, строились, и, по-видимому, все приметы старого исчезли. Остался только кинотеатр. А тех лавочек, в которые я заходила по утрам за хлебом, и тех знакомых, которые работали рядом в магазинчике, в бакалее, и с которыми мы дружили, — ничего этого не оказалось. Я увидела новый микрорайон. Не смогла найти даже улицу, где были рынки — они собирались каждую неделю, по вторникам или четвергам. Мы жили рядом, буквально в трехстах метрах, — но ничего нельзя было найти…
В Харькове наши спектакли хорошо принимались публикой. Харьков отличался благодарной студенческой аудиторией — в городе было много учебных заведений. У людей, которые приходили на спектакли, лица отличались от тех, какие встречались нам в других городах Украины. Мы еще бывали в Киеве, в Донецке — там другая аудитория. Потом на разных встречах в Москве я не раз слышала: «А я из Харькова, помните, у вас были гастроли? Вот, бросил политехнический (или другой технический вуз) и сейчас я кинорежиссер (или театровед, или администратор). Это благодаря вам я уехал в Москву за театральным делом».
На этих гастролях создалась полуконфликтная ситуация, немножко смешная. Поскольку я довольно часто болела, на мои роли всегда назначались два состава. А играли мы сразу на двух площадках. Я шла в один театр играть, допустим, «До свидания, мальчики», а в другом театре «104 страницы» играла Валя Малявина. (Опять «перепутка» с Валей!)
И вот, когда я уже собралась выходить из номера, чтобы идти играть «Мальчиков», звонят из театра и говорят: «Ольга Михайловна…» — нет меня тогда еще не называли Ольга Михайловна: «Оля, ты сейчас должна идти играть „104 страницы“». — «Как так?» — «Вот так. У Вали Малявиной сел голос, поэтому она „Страницы“ играть не может, а сможет сыграть только „До свидания, мальчики“».
А я обычно на спектакль собираюсь, как солдат в поход, — ведь каждый раз другая подготовка, другая прическа, грим, другие мелочи надо взять на спектакль, для меня это очень важно. Если я забуду дома ту расческу, которой причесываюсь, или кисточку, которой нужно доводить глаза, или не то белье возьму — для меня просто драма, если подобное случается.
Бывало, кольцо не то наденешь — и уже что-то мешает. Мне трудно это объяснить, со стороны, наверное, может показаться — мелочи, пустяки, но для меня они значили очень многое, от них зависело мое самочувствие на спектакле. Бывало: парик в порядке, платье повесили вовремя и вовремя надели, нигде не разорвано, все поглажено, ничего не забыла — не к чему придраться, все идеально. И такая легкость возникает, такое хорошее настроение. Работаешь легко.
Мне однажды наша гримерша сказала: «У тебя было хорошее настроение — а ты так хорошо играла». Я говорю: «Ты что же предполагала?» Она: «Ну, я думала, ты специально всем недовольна бываешь, чтобы себя накачать, а уже потом на сцену». Вот так.
У меня бывали моменты счастья, когда ну всем довольна, и вокруг, и в себе самой, и чувствовала себя неплохо, — какая это радость, работай — не хочу. А когда разозлишься, перекособочило всю, внутри трясет, потом выходишь на сцену… и конечно же все это отражается в роли. Мне необходимо, чтобы все отлажено было, швы на месте, ленты на месте. В день спектакля я вообще не человек, ничего делать не могу. Актер должен выйти на сцену как после бани — чистым. Сегодня выхожу на сцену и отдаю все.
Я так на этом подробно остановилась, чтобы понятно было — что для меня всегда значили неожиданные замены-перемены.
Итак, иду на спектакль, на который меня переназначили, по дороге встречаю Анатолия Васильевича и говорю: «Анатолий Васильевич, что это такое? Я не могу так! Я собираюсь, что-то делаю перед спектаклем — я должна быть готова!» Он мне: «Оля, идите и спокойно играйте „Страницы“».
В другой раз готовлюсь играть «Страницы», — звонят мне в номер: «Валя Малявина подвернула ногу, и сегодня она может играть только „Страницы“, потому что в „Мальчиках“ надо бегать. Так что вы идете играть „Мальчиков“». И опять встречаю Эфроса и говорю: «Что это такое? Я больше так не могу — мне надо быть готовой к тому, что сегодня вечером буду играть!» Он говорит: «Оля, я вас прошу, идите спокойно играйте „Мальчиков“».
И так повторялось раза три.
Анатолий Васильевич относился к Вале Малявиной очень хорошо и связывал с ней какие-то планы. Но когда мы приехали в Москву, Валя Малявина сказала Анатолию Васильевичу, что уходит из Ленкома — ее приглашают в Театр Вахтангова. Там, мол, все родные, а тут она будет только за Яковлевой «подбирать подметки». (Примерно так) Анатолий Васильевич был очень огорчен. Он мне рассказал суть разговора и о том, что расстроен, и по поводу планов насчет Малявиной.
Вале Анатолий Васильевич сказал: «Валя, вы заняты в двух репертуарных спектаклях, которые пользуются успехом, и впереди три работы, о которых вы знаете: „Мольер“, „Вера Засулич“ и „Три сестры“».
Анатолий Васильевич уже тогда планировал «Три сестры» и вынашивал, как мне кажется, очень интересный замысел. Мы знали по фотографиям, по старым афишам, что во МХАТе сестер играли Тарасова, Еланская, Книппер в возрасте уже довольно солидном. Я даже не представляла себе, что может быть иначе. Но читаешь у Чехова — 24 года, 17 лет, 28 лет — и к своему зрелому возрасту только успеваешь сыграть старшую сестру. Мне 25 — значит, на Ирину уже не имею права.
В труппе были Оля Дзисько, Ира Печерникова и Валя Малявина, и у Эфроса неожиданный план: чтобы впервые, пожалуй, возраст актрис соответствовал указаниям Чехова. Сделать трех сестер — «три березки». Дзисько, которой было лет 27, играла бы Ольгу, Малявина — Наташу, молоденькая Печерникова — Ирину, и я — Машу. Этот замысел уже сам по себе казался мне красивым.
Я в общем-то со всеми дружила, особенно с Олей и с Ирой. Вот с Валей как-то не сложились отношения. Может, из-за одного смешного эпизода. Когда я в очередной раз заболела и лежала в больнице, Валю ввели в «104 страницы» — она тогда еще училась в институте, была студенткой. Потом я посмотрела спектакль и зашла к Вале в гримерную. «Валя, — говорю, — по-моему, очень хорошо. Но, мне кажется, драматические куски ты могла бы сделать и сильнее». На что Валя мне сказала: «Да? А я думаю, что и так хорошо!» Ну так — значит, так…
В продолжение темы. Еще тогда Анатолий Васильевич Вале сказал: «Насчет подбирания подметок за Яковлевой — это вы преувеличиваете. В Харькове на гастролях было совершенно иначе, Валя, как я наблюдал». — «Ну, может, я ненормальная, что от таких хороших творческих условий ухожу». — «Нет, — сказал Анатолий Васильевич, — вы, Валя, очень нормальная, вы даже слишком нормальная — а искусство делают люди ненормальные». На этом разговор закончился.
Но, несмотря на то что сказал Вале Малявиной Анатолий Васильевич (может быть, сгоряча), мне все-таки кажется, что актеры — самые нормальные люди на свете. И актрисы. Вот я иногда смотрю на некоторых актрис: сыграет главную роль — а потом заботится о муже, о ребенке, еще сварит варенье, посадит какую-нибудь рассаду, засолит огурцы, сыграет что-нибудь на гитаре, быстро накроет стол на 12 персон, соорудит праздничный ужин, вымоет посуду — и тут же облачится в вечернее платье. И будет красивой. На мой взгляд, это самые нормальные люди.
Где-то у Цветаевой я прочитала, как она говорит своей дочери: «Аля, сними фасоль с плиты!» Аля разводит руками: «А как это делается?» — «Нет, это не моя дочь!» — возмущалась Цветаева. Значит, Цветаева это могла, а дочь уже не может. Впрочем, думаю, позднее та тоже смогла…
Валя ушла в Театр Вахтангова. И однажды Театр Вахтангова и Ленком встретились на гастролях в Киеве. Валя что-то играла в Театре Вахтангова, но не очень значительное, а мы привезли и «Мольера», и «104 страницы», и «До свидания, мальчики» — весь ее репертуар. Она подошла к нашему директору Колеватову и попросила: «Я тут совершенно ничего не делаю, дайте мне хоть один спектакль сыграть!»
А Колеватов наш был человек фальстафовского плана — мог грубовато пошутить с артистками, иногда позволял себе хватать за всякие места. Впрочем, сама я этого за ним не замечала, только слышала от других. В одном капустнике даже показывали, как мимо Колеватова нужно проходить — сначала держать руки на груди, а потом, когда уже оказываешься к нему спиной, надо прикрыть руками где-то пониже спины, и при этом делать быстрые повороты, чтобы успевать прикрыть и там, и там. Но это такая шутка, а шутка — она и есть шутка. Однажды — это было на гастролях — он увидел, как наша крупная (в прямом смысле) актриса, беседуя с Эфросом на скамье в парке около театра, слишком уж склонилась к нему, — так он умудрился через весь парк крикнуть ей: «Грудь-то сними с режиссера!» Одним словом — фальстафовского плана человек.
И Вале Малявиной он отказал без церемоний: ну уж, мол, нет — ушла так ушла.
Вообще-то к вводам на свои роли я относилась спокойно. Так спокойно, что Эфрос даже перестал назначать на мои роли дублеров. В начале в какой-то момент я считала, что мне это необходимо, потому что к физической усталости добавлялась уже и творческая: не хватало времени настраивать себя перед каждым спектаклем. Потом вижу: что такое? Вводится новая актриса — все нормально, и спектакль перестает быть моим. Он становится чужим — я чувствую, что ответственность разделяет со мной еще кто-то. «Счастливые дни», «Ромео и Джульетта», «Брат Алеша», «Женитьба». Раз — и не мое! И я тихо, тихо отхожу в сторону… В общем, просила, чтобы назначали в те спектакли, в которых у меня нет замены.
Вначале, когда второго состава еще не было и я заболевала, то очень нервничала. Так как театр не был заинтересован в отмене спектаклей, меня возили на спектакль из больницы. Какой может быть толк от больной актрисы? Приходилось делать двойные усилия, потом, выпотрошенную, бросали на больничную койку. И одновременно уговаривали — ты пока поиграй, а мы за это время введем другую. Врачи протестовали. Но порочный круг разорвать не могли…
Здравствуй!Расскажу тебе все-таки, в чем ты не права!
Когда выпускали «Марата», я все с ужасом думал: а вдруг ты сляжешь, что будет?! Полетит все к черту. Не пойдут 2 спектакля из 3-х, что я тут сделал. Это значит, вся годовая адовая работа насмарку. Каждый день вставал и ложился с мыслью — а вдруг ты заболеешь??!
Но ты держалась стойко и тащила воз.
А потом ты слегла. Рассказать тебе этот ужас невозможно. Как будто бы все остановилось. Отменилось спектаклей не так уж много, но впечатление было полного краха. Главное, неясно было, сколько это продлится. А вдруг тебя продержат долго.
Колеватов сидел бледный и говорил — мы виноваты, что не подготовили замену, зная ее здоровье. Надо что-то предпринимать.
Если к этому прибавить всяческие тучи, которые на нас надвигались со всех сторон по другим вопросам из райкомов, из министерств, из управления, если добавишь к этому еще и легкий шум, который поднимали милые незанятые актеры, то в целом создавалась обстановка ПАНИКИ!!!
И хотя я знал, что мне никто не нужен больше в «104 страницах» и в «Марате», кроме Яковлевой, — я вынужден был предпринять 100 мер сразу.
Я вызвал Малявину и дал ей роль.
Я вызвал Струнову и с ней говорил.
Я говорил с Дугиной, я попросил Збруева, Круглого и Барского искать актрис. И все это я сделал не потому, что хочу заменить Яковлеву, а потому что боюсь, что ее некому будет заменить, если она заболеет.
Театр ищет возможность продолжать работу, а не идти на провал. Иначе и быть не может, и это не есть какое-либо предательство к актрисе. Вот если бы она была здорова, а втихую от нее искали других — тогда это было бы неприлично, а когда человека кладут в больницу и, чтобы не сорвать работу и дать полечиться этому человеку, ищут дублера — в этом нет и тени предательства.
Тут еще можно добавить, что, как только я понял, что тебя будут выпускать из больницы играть, — я тотчас приостановил всякие вводы в «Марата», хотя пошел я на большой риск, так как тебя однажды могут не отпустить и театру опять придется отменять спектакль.
Неужели не понятно, сколько горя приносит мне одна мысль, что спектакль может пойти без тебя?!
Но разве можно было не предпринять хоть каких-нибудь запасных мер, которые не поставили бы т-р в дурацкое положение.
Когда Дуров недавно повредил себе ногу, я срочно вызвал Харитонова и сказал: ходи на репетиции Брехта. Я знал, что не собираюсь давать в обиду Левку и что, если нога его будет в порядке, играть будет он и репетировать будет он. Ну, а если нога не будет в порядке?!!?
Кроме того, скажи, пожалуйста, что это за дружба и что это за честность, если даже друга отгораживать от творческого соревнования.
Такое отгораживание всегда плохо кончается.
А тебе, в частности, мне кажется, и бояться нечего, как нечего бояться (прости за старый пример) Дмитриевой, если к ней на всякий случай подставят даже очень хорошего дублера.
Ты говоришь, что живешь в больнице на нервах. А чего нервничать? Ведь дело у тебя сделано — прекрасно сыграны 2 роли, о тебе узнали, тебя полюбили, играешь ты их со всей отдачей, индивидуально, если так можно сказать, даже больница тебя возит, чтобы ты играла спектакль. Я жду не дождусь тебя для следующих работ. Так чего же нервничать?!
Конечно, у тебя болит, ты больна, от этого часто настроение плохое — это я понять могу, сочувствую, переживаю за тебя и вместе с тобой. Но пускай к этим вещам ничего не прибавляется лишнего, т. к. нечему прибавляться.
Ты говоришь — «Я так устала!»
Так отдохни хоть немножко!
Предстоит Ленинград, а потом новые работы, предстоит тысяча всяких встрясок, а ты вместо того, чтобы спокойно полежать и полечиться, когда есть возможность, — психуешь!
Крути лучше волчок, выглядывай в окошко, бегай к автомату (только не нервно). Твоя больница не похожа на больницу, в ней не так грустно. Да и лежать-то осталось считаные дни, а там — в Ленинград, где все ждут тебя крепкой и здоровой! Будь же умницей, дурацкая голова, и не потрать даром эту неделю.
После того как я не доверилась режиссуре в полной мере в «Снимается кино», решила, что больше так поступать не буду. В «Чайке» решила довериться полностью. Меня вообще беспокоило, что мне дали играть «Чайку». Но Анатолий Васильевич обращался с материалом легко и свободно — как со своим близким, — и это прибавляло уверенности.
В труппе и на репетициях царила атмосфера довольно развеселая. Леня Каневский, к примеру, репетировал Якова, слугу. Эпизодическая роль — но что он вытворял, уму непостижимо. Они договорились «раскалывать» на сцене Валю Смирницкого (который играл Треплева). Тот был тогда очень смешливый и легко поддавался на шутки, любая мелочь выбивала его, он начинал хохотать до слез. Каневский — Яков готовил подмостки для треплевского спектакля с Ниной Заречной и изображал «огни». Каждый день Леня появлялся из-за кулис с новым сюрпризом — или наклеит жуткий огромный нос, больше, чем собственный, или выйдет с окладистой седой бородой до пояса, или в клоунском рыжем парике. Смирницкий просто уползал со сцены от хохота. Каждый день все ждали — что будет на этот раз. Вытворяли, что хотели. Атмосфера была замечательная.
Это все на репетициях, конечно. (Но иногда позволяли себе кое-что и на спектакле.) Поскольку у меня была очень ответственная роль, я старалась ни шагу не отступать от режиссерского рисунка. Нет, на фокусы Каневского я тоже реагировала, всегда смеялась. Вероятно, это входило в программу репетиций, создавало легкое настроение — иначе репетиция превращалась бы в обычную муку, нудоту. Но при этом все хорошо знали, что делать и как делать. За общий смысл, за трактовку, за мизансцены и прочее отвечал режиссер, мы даже не предполагали, что может быть иначе. Но при этом знали, что актеры ответственны за многое другое, чего не мог сделать за нас режиссер. А пока мы как бы шалили. Мы были детьми.
И все же в репетициях «Чайки» меня что-то смущало. Эфрос намечал слишком резкие ходы. Скажем, показывая, он предложил приспособление: на реплике «Сон!» крутил удочкой над головами зрителей — мне это казалось грубоватым, преувеличенным. Я говорила об этом Анатолию Васильевичу, но он требовал, чтобы я делала еще резче. Мне казалось, нарушается мера.
Впоследствии, вскоре после премьеры, Анатолий Васильевич, как он это часто делал, отказался от «Чайки» — считал, что это пройденный этап, неудачный для него. Он уже думал о будущем спектакле, о будущих репетициях. А то, что за спиной, его уже не интересовало.
В последние месяцы жизни он мне сказал однажды: «Все время надо держать в руках пуговицу». «Пуговица» — это то, чем человек будет занят завтра. И это, собственно, держит его на земле. Если у него нет перспективы — этой «пуговицы», — тогда очень плохо. «Пуговицей» для него всегда был будущий спектакль. Никогда не было, чтобы Анатолий Васильевич не знал — что он будет делать через месяц, через два, через полгода, через год. Видимо, положение репертуарного театра обязывало и приучало к этому — репертуар надо планировать, заранее составлять афишу — это, видимо, в нем всегда сидело, и последующую работу он продумывал задолго вперед.
Фантазия по поводу будущей работы дает силы. Можно что-то придумывать, сочинять. Это стало и для меня увлекательным и необходимым. Надо, чтобы в мозгу все время возникало что-то новое. Еще до выпуска очередной премьеры актеру необходимо знать, какая работа впереди.
И вот подошла премьера. На сдачу должна была собраться театральная общественность. А я к тому времени уже знала, что это такое: она способна или возносить до небес, может, и незаслуженно, или ругать без меры.
Завтра придется мне перед этой общественностью играть «Чайку». Кто играл «Чайку»? Комиссаржевская. И еще многие актрисы — и мало кому она удавалась. Соотношение Комиссаржевская и Яковлева — для меня было даже не соотношение. Я думала: так, Комиссаржевская — а завтра буду играть я, любопытно! Комиссаржевская — и я. «Чайку». Чехова. И все придут смотреть. У многих «Чайка» проваливалась. И у Комиссаржевской она не совсем получалась. А ты — выйдешь и сыграешь? Может быть, ты лучше? И вот завтра, в 11:00, все соберутся… Не-е-е-ет, не будет этого! Комиссаржевская — и я? Нет! Этого никогда не будет!
Я себе отказала в праве играть эту роль и… сделала очередную глупость: выпила снотворного больше, чем нужно, — чтобы завтра проспать, избежать позора любым способом.
Каков будет результат — второй шаг редко продумываю. Только бы не было завтрашнего утра!
На грим я всегда приходила заранее, но на этот раз вовремя не пришла. Из театра позвонили и послали за мной машину. Привезли в театр полусонную, чем-то отпаивали.
В зале уже собралась вся «театральная общественность», и мне пришлось выйти на сцену. Продираясь сквозь сон, я пыталась что-то играть. Конечно, когда человек не очень твердо стоит на ногах, это видно. Думаю, никто не понял, что произошло: может, кто-то подумал, что я пьяная — скорей всего, именно так, хотя мне это никогда не было свойственно. Во всяком случае, нашлись такие, что высказались простенько — в том духе, что Эфрос неуважительно относится к классике, а Яковлева играла пьяная.
Каким-то образом доиграла. На последнюю картину я вышла в перчатках, которые приготовили реквизиторы, и, как мне потом рассказали, из перчаток на нитке свисал ярлык. Наверняка это заметили всего человека два из первого ряда, не больше, но все равно это было ужасно. Я доказала всем и самой себе, что я не Комиссаржевская и, более того, я вообще… никто.
Я уже рассказала о своем первом в жизни общественном учреждении. Это был детский садик Первый и последний день в садике.
Потом, видимо, я… мужала. И школой возмужания были пионерские лагеря. Очевидно, после того случая в детсаду я поняла, что в жизни надо быть побойчей. И когда меня отправляли в пионерский лагерь, после второго или третьего класса, уже была настроена по-боевому.
Меня провожала мама. И всех детей провожали. Мамы плакали, дети жались к родителям. А моя мама стояла спокойно, уверенно — как взрослый человек со взрослой дочерью.
Я иногда из озорства говорила: «Мать! А ты чего же не плачешь? Все плачут, а ты как-то… Давай начинай рвать волосы на себе, и вообще, чтоб бежала за автобусом, пыль поднимала, чтобы падала, а я буду голосить из автобуса!» Мама смеялась, она любила, когда я бушевала. Сама она была очень стеснительной — подхихикивала мне от удовольствия, но старалась сохранять чинность.
Внешне мама вообще была похожа на такую, ну, среднеарифметическую учительницу. Скромно одевалась, носила белые или бледно-голубые блузки, кружевные воротнички — всегда внешне опрятна. У нее были седоватые, какие-то голубоватые волосы. Она их собирала в пучок, а первую прядь надо лбом иногда накручивала на гвоздик Мы с сестрой часто посмеивались: «Что ж ты, мама, не завилась под гвоздик?» Мама смущалась, улыбалась, но умела сохранять неприступный вид.
Однажды я поехала в пионерлагерь на Азовское море. С подружкой. Вернее, наши мамы дружили, а нам еще это предстояло.
Лагерь был далеко, и с нами поехали наши мамы. Сначала всех довезли до города и детей поместили в какой-то школе, где мы должны были переночевать, а уж утром ехать на Азовское море. Но родителей в школу не пустили, они всю ночь провели под окнами.
Девочка, которая со мной поехала, была очень пугливой. Я же, порядочно хулиганистая, как только началась ночь, принялась ее пугать: вот, сейчас привидения придут! Надела на себя простыню и бегала по огромной школе, где рядами спали дети. А эта девочка, Света Модзалевская, почему-то действительно испугалась — так плакала, так кричала… Я уже не рада была, что затеяла эту игру, боялась, что Светина мама заберет ее на следующее утро, уедет, а вместе с ними уедет и моя мама, возмущенная моим ужасным поведением, а я поеду на Азовское море одна. (В общем-то, так и случилось…)
В лагерях у меня складывались странные отношения со сверстниками, я их почти не помню. Дружила я там, в основном, со старшими — с вожатыми или с воспитателями. Не знаю, почему. Мне был интересен взрослый мир? Не думаю. Может, я хотела как-то проявиться? Так или иначе, со взрослыми я легко находила общий язык И ко мне относились, в общем, по-взрослому, но с некоторой иронией, по-доброму и с интересом.
В школе, в начальных классах, я тоже выделялась: все ходили в форме, а я без. Не специально, просто (как я теперь понимаю) послевоенная бедность не позволяла даже форму купить. И поэтому я ходила в каких-то «необыкновенных» платьях — в платьях моих сестер, родной и двоюродных, чем «веселила» моих одноклассников. Да и я страдала, хотя мне нравилось ходить не в форме.
Когда я подросла, ко мне стали привязываться мальчишки. И папа ходил меня встречать. С ведром. Не знаю, почему-то он меня так берег — папа был очень ревнивый. Он как поливал сад или огород, так с ведром и шел кварталов за пять встречать дочь из школы. Меня это смущало, и я все время пыталась от него отстать. А сзади шли толпой мальчишки, и чего им от меня нужно было, я не понимала. Дразнили не дразнили, но все время хотели задеть — то за косу дернут, то репликой донимают, а я все норовила в бой вступить. Но поскольку рядом шел папа, то думала: если вступлю в бой, то папа с ведром тоже вступит. Вот так между Сциллой и Харибдой добиралась до дома.
Если меня не встречал папа, его замещала моя сестра. Когда я возвращалась из школы или просто с гулянья во дворе, — вбегала в подъезд и за мной, как правило, бежала свора мальчишек. А сестра, Галя, стояла в подъезде со сковородкой. Как только я пробегала, она сковородкой щелкала первого догонявшего! Какой-то кошмар… Так она их по очереди… лускала. Очень смешно было.
Вот такая предметная опека у меня была — то с ведром, то со сковородкой. Бред, но какой веселый!
Актерская репутация — дело тонкое. Она зависит от взлетов, падений, всяких поворотов, от масштаба и содержания личности — и прочая, и прочая, и прочая. Сохранить творческую репутацию очень-очень сложно. Надо делать поменьше глупостей.
Но актерский инструмент — это его собственная психика. По-моему, сюда включаются и болезненные преувеличения, и обостренное самолюбие, и депрессия или, наоборот, эйфория, — все входит в инструмент актера, и то, и другое, и третье. Но только все это должно быть каким-то образом уравновешено. Все время должны быть весы, чтобы эйфория не преобладала над депрессивностью или наоборот. Актера все время надо удерживать в равновесии, чтобы присутствовало и то, и то, и то — в равной мере. Если верх возьмет эйфория или, скажем, преувеличение собственной значимости в театре — это так же плохо, как глубокая депрессия, когда актеру кажется, что он не нужен, что у него нет никакой перспективы.
Анатолий Васильевич в одной из своих книг рассказывал о том, как актрисы, уже с опытом, долго не работавшие, внешне опускались — но стоило дать им роль, они тут же расцветали, молодели.
Актерская психика вообще очень интересная тема. В Ленинграде какой-то научно-исследовательский институт даже занимался разработкой тестов, которые позволяли классифицировать актеров, делать выводы об их индивидуальной психике — в анкете были десятки, сотни вопросов. Я одну такую анкету читала, там было 284 вопроса. На какие-то 50 вопросов еще смогла ответить, в другой анкете, но когда мне дали 284, стало жутковато, я, нервно хохотнув, сказала: нет, не потяну даже при большом количестве свободного времени.
Это что касается актерской профессии. Но есть еще человеческая индивидуальность, которая никуда не исчезает с самого рождения. У каждого — своя «специфика», свой комплекс, и каждый свою особенность знает, и эта особенность или расцветает, или он ее скрывает. Хотя, как ни скрывай, она все равно проявится — со стороны всегда заметно, что один глуповат, другой жадноват, третий конъюнктурщик, четвертый боязлив. Когда долго живешь в коллективе, это как в семье, как дети у мамы — знаешь и достоинства, и пороки каждого, всегда можно сказать, что один может это сделать, а другой нет. И когда происходит что-то неординарное и кто-то поступает необычно, говорят: «Да? Не может быть!»
Но это — если не подумав. А если подумать, с актерской психикой может быть всякое — это тот самый нервный «рабочий инструмент», и он переутомляется. Существует понятие «усталость металла» — так что уж говорить о живых клетках, которые руководят и управляют актерским «инструментом».
Иногда в тебе что-то зашкаливает, — и потом начинаешь себя корить, предъявлять максимальные претензии: как же я могла, как же до такой степени опустилась, как себе это позволила?..
Однако, когда я вот так начинаю себя бичевать, люди, которые ко мне хорошо относятся, говорят: «Ой, ну это же понятно, ты человек эмоциональной профессии…» Становится грустно. Не все, видимо, понимают, что люди моей профессии пользуются особым инструментом. Кто работает метлой, кто совком, кто с электронным прибором, кто с микроскопом, — актер работает собственным организмом. Это, конечно, не оправдание, но, очевидно, что-то наслаивается на все твое существование и, в частности, на бытовое.
Есть у меня замечательная подруга, Галя Масленникова, человек редкого благородства. Она в этой жизни меня, грешную, вечно успокаивает. Когда начинаю себя терзать, она говорит: «Олечка, ну у тебя же другая эмоциональная структура, у тебя профессия эмоциональная, у тебя другой склад, ведь это же понятно». Или, оправдывая меня, уговаривает: «Ну они же тебя вынудили, ну если бы ты знала, ты бы этого не сделала!» — Или: «Ну ты же не можешь иначе, у тебя другая специфика!» Или: «Что бы ни сделала, все равно будет плохо».
Она намекает на то, что у меня другая нервная система. И постоянно меня оправдывает. Я вижу, что это не совсем справедливо, и начинаю смеяться. Я говорю: «Галя, по-моему, ты оправдала бы меня, даже если бы я совершила убийство. Но это неправильно». Она начинает что-то толково, логично, мудро говорить, и я успокаиваюсь: она как бы гасит мои максимальные амплитуды, пытается не дать мне уйти в другую крайность — в сторону самобичевания.
Анатолий Васильевич был очень хорошим педагогом и стремился удерживать актерскую психику в равновесии между необоснованной эйфорией и необоснованной депрессией.
Для очень многих он был и остается Учителем, но не «поучателем». Поучение, назидание были для него неприемлемы, он этого стеснялся, старался избегать. А если и воспитывал, то силой собственной личности, чувством ответственности, требовательностью, прежде всего по отношению к самому себе. Еще — собственным мужеством. Более смелого человека я не знала, и это при его мягкости, сдержанности, деликатности. Когда он все же считал нужным что-то внушить актерам, он делал это неназойливо, полушутя. Он любил и умел шутить, но и это делал мягко, хотя в шутках его заключалось всегда и что-то серьезное.
Он говорил, что театр, репетиция, спектакль — игра, игра должна доставлять в первую очередь удовольствие. Но это еще и труд, который мог быть подчас и мучительным. Мучительным и для него, и для актеров. Мучительство и радость — как бы два полюса, которые он один умел уравновешивать, две фазы, две актерские крайности: либо депрессия, уход в себя, самокопание, какое-то «скукоживание», либо самоуспокоенность, преувеличенная фанаберия. А. В. умел в актере крайности балансировать — чтобы тот ощущал и постоянную неудовлетворенность, недовольство собой и в то же время осознавал достоинство профессии, значимость того, что делает.
Однажды на гастролях в городе Скопле (это уже в Театре на Таганке) мы ехали на репетицию втроем — Анатолий Васильевич, я и актер Володя Щеблыкин, с которым мы тогда были дружны.
Бывает, чем люди ближе, тем больше у них претензий друг к другу. Это как бы претензии к себе самой. Уж коли ты с человеком дружишь, значит, он тебе по каким-то качествам подходит — это твой выбор. И если он «не совершенен» — вроде бы ты виноват: ты же его выбрал. Возникает замкнутый круг. И получается, что с тем человеком, который ближе, невольно, как я говорю, «охамеваешь». К этому человеку счет уже по мелочам — он должен быть во всем идеальным, ведь это твой выбор. Какой-то детский максимализм.
И вот Володя вдруг говорит: «Анатолий Васильевич, скажите ей, пожалуйста, — чего она меня шпыняет? Все время меня туркает, туркает, туркает! Где ты, говорит, тебя тут ждут, а ты черт-те где ходишь! А я тапочки относил! Искал женщину!» (Об этих тапочках я еще расскажу.)
Анатолий Васильевич ничего не понимает, поворачивается к нему и говорит, грустно так: «Ой, Володя, лучше уж пусть она вас пошпыняет. Потому что если она принимается грызть себя, то это страшная картина!» И мы начинаем хохотать.
Но это не так смешно, как кажется. Иногда, в приступах самокритики, ты начинаешь закручиваться в какую-то улитку, с актерами такое часто бывает, — и раскрутить тебя обратно довольно сложно, ведь наслаивается и работа и что-нибудь еще.
Анатолий Васильевич, конечно, знал о моем вечном недовольстве собой. (Он вообще о нас едва ли не все знал.) Бывало, звонит вечером, спрашивает: «Ну что, опять сидите одна, грызете себя? Уж лучше грызите кого-нибудь другого».
Но мне, пожалуй, никогда не было чересчур плохо из-за сугубо театральных, творческих дел. Вот вспоминаю — и не вижу (до последних лет жизни Анатолия Васильевича, об этом разговор особый) не вижу ничего сверхтрагического в прошлом. Хотя многое было: давление начальства, идеология, анонимки, предательство учеников, «хамство черни», некоторая пошлость актерской среды (случается) — но это не кажется мне безысходным. В театре у меня всегда был основной интерес — постоянное фантазирование по поводу новой работы. А без этого — какие бы ни установились распрекрасные отношения — все равно там нечего делать.
В связи с работой, пожалуй, у меня не было таких огорчений, не было так горько, как иной раз в связи с мелкими конфликтами, — возможно, даже по бытовым, домашним пустякам. Почему-то в семейной жизни это горше и как-то безнадежней, чем на работе. Казалось бы, для человека работа значит больше, чем дом, — ведь это его дело, он там проводит большую часть времени. Но иногда домашние неувязки болезненней, чем театральные неудачи. Хотя таковых в своей жизни особо не припоминаю. Если был громкий провал, все-таки он происходил на уровне искусства…
Анатолий Васильевич, видимо, зная мой характер и состояние нервной системы в течение долгих-долгих лет, всегда угадывал, когда мне плохо. Когда одолевали какие-нибудь обиды, он успокаивал меня очень своеобразно. Прекрасно понимая мою «специфику», он часто говорил: «Оля, ну они же вас не знают, — и смеялся. — Вы такая чудорашная. Они же вас не знают!»
Эту фразу он повторял мне иногда и совсем по другим поводам.
Однажды произошел у меня забавный эпизод с актером N. Мы с ним ехали в одном вагоне на кинопробу на «Ленфильм». Он в одну съемочную группу, я — в другую. Ну, разговоры о театре, как живешь, у меня был полуинфаркт, у меня сердце, я вот в эту группу, а ты в какую… Потом N меняется местами с каким-то генералом, моим соседом, и мы оказываемся в одном купе. Треплемся — пойдем завтра в БДТ или еще куда-нибудь. А уже поздно, надо бы поспать — утром встречают ассистенты, и прямо с поезда — в студию, на съемочную площадку. И я произношу такую полупошловатую фразу из анекдота: «Ну, спать будем или чего?» И выключаю свет. В темноте через некоторое время ко мне тянется рука N. Я уж не знаю, может, для рукопожатия… Я говорю: «Ты чего? Спать нужно!» Зажигаю свет. Начинаю разговаривать, так сказать, отвлекать мужчину. И все-таки почему-то опять повторяю ту же фразу: «Ну спать, наконец, будем или чего?» Гашу свет — и опять тянется рука. Я говорю: «Эй, ты чего?» Опять зажигаю свет, разговариваем, но, видимо, до меня дошло, и в третий раз я на этой фразе уже не настаиваю — говорю: «Спать нужно. А не вести полоумные ночные беседы». N насупился, утром о театре ни слова. Нас встречает ассистент, мы расходимся по разным группам. И, конечно, ни в какой театр мы не идем.
Я приезжаю и рассказываю Анатолию Васильевичу этот эпизод. А он говорит: «О-оля, ну они же вас не зна-ают!»
У нас был очень строгий папа. Можно даже сказать, суровый. Мама обычно сглаживала все углы. Самое страшное наказание для нас — ее: «Расскажу папе!» Но чаще всего не рассказывала, папа узнавал о чем-то лишь случайно.
Однажды, когда я училась в девятом классе — в Алма-Ате, — пришла повестка из прокуратуры. Мне! Мама была дома, а сестра как раз приехала на каникулы, она заканчивала юридический факультет в Ростовском университете. И обе очень всполошились. Спрашивают: «Кого ты побила?» Я говорю: «Никого». — «Или обозвала кого-нибудь?» Я говорю: «Нет, никого». Они мне не поверили. И тогда последовало: «Говори, такая-сякая! Иначе расскажем папе! Но лучше, чтобы папа не знал. Если тебя, бандитку, в шестнадцать лет уже вызывают в прокуратуру!..» Я говорю: «Вызывают и вызывают — я схожу». — «Нет, одна не пойдешь, ты несовершеннолетняя, я пойду с тобой», — заявила сестра. В общем, паника в доме: меня уже в прокуратуру!
Наступил этот день. Мама осталась дома, а мы с сестрой отправились. Она мне сказала: «Я буду охранять твои права — ты несовершеннолетняя, и все беседы буду вести я. А ты сиди и молчи».
Когда мы вошли в кабинет, следователь спросил у сестры: «А вы зачем пришли?» Она сказала, что она будущий юрист, а я несовершеннолетняя. «Ну и что? Разве я не могу задать ей два вопроса? Вашей несовершеннолетней сестре?» Сестра говорит: «Нет, вы можете задать их только при мне». — «Ну хорошо, но вообще-то лучше, чтобы вы вышли». Но сестра все же осталась.
Первый вопрос: «Вы заказывали пальто в таком-то ателье?» Я говорю: «Заказывала». — «Вы сами или родители?» — «Я сама». Тут оба открыли глаза — и сестра, и следователь: мол, как же так — разрешили заказывать девочке самой?!
А мама ничего в этом страшного не видела. Я хотела заказать себе модное пальто, мама купила ткань, мех. Тогда начиналось время «стиляг». В моде были широкие воротники с мехом, пояс с пряжкой и непременные большие карманы. Я сказала: «Мама, я буду шить пальто, если только я сама буду заказывать, сама выбирать фасон. А иначе мне и не нужно». Она говорит: «Ну хорошо, иди заказывай сама».
Потом следователь спрашивает: «Деньги вы куда платили за заказ? Приемщику или в кассу?» Я говорю: «Не помню». — «Как это вы не помните?» — «Я-не-пом-ню!» — «У вас сохранилась квитанция?» — «Не знаю, сохранилась или нет, надо поискать. Я не помню, куда платила. Может, и в кассу». — «Как это вы не помните, всего три месяца прошло». — «Значит, моей памяти это не интересно запоминать».
Сестра сказала, что квитанцию мы дома поищем и принесем, и спросила: «А в чем, собственно, дело?» Как он объяснил, в ателье деньги за работу брали левым образом, напрямую, а не через кассу. И прокуратура занялась этим — взяли список заказчиков, адреса и вызывали всех. Я внутренне обрадовалась, что «надежды» взрослых не оправдались: я никого не побила, никого не оскорбила на улице. Я шла и прыгала. Мама была довольна. А папе, по-моему, так и не рассказали…
Я играла «Чайку», постоянно преодолевая свой страх перед ней. И вот как-то раз на гастролях одна актриса, намного меня старше, в этаком хулиганистом настроении сказала: «Олька, тут такой бальзам продают! Дай-ка я тебе принесу». Я спрашиваю: «А как я буду играть-то?» — «Для бодрости духа, это тебя взбодрит!» А у меня всегда было низкое давление: 65, 45, такие цифры, и мне постоянно требовалось напряжение, чтобы заставить себя играть на эмоциональном подъеме, сил, как правило, не было. Она говорит: «Ну, 50 граммов бальзама! Может, разбавим водичкой». И приносит, втихую, в театре был полный запрет на спиртное, тем более во время спектакля.
Я — с лучшими намерениями, чтобы прибавить себе сил, — выпила этот бальзам. И, конечно, на сцене ничего заметно не было, но, когда я проходила мимо Эфроса, он уловил, видимо, запах.
После спектакля он собрал труппу и устроил жуткий разнос: как может себе позволить взрослая актриса принести на спектакль и дать молодой выпить, что это такое?! И далее без паузы — по спектаклю, как мы играли… Одним словом, разгромил нас в пух.
Стали обсуждать — как же он узнал, что принесла именно она, а не другая? Она думала, это я ему сказала: «Никто же не знал!» А я ей говорю: вычислить взаимоотношения в труппе для него не составляет никакого труда. По-видимому, он перебрал всех, кто это может сделать из занятых в спектакле, и вычислил. Вообще, Анатолий Васильевич по движению ресниц понимал, что тот или другой актер думает и говорит ли актер правду. Мне кажется, он всегда это знал.
В связи с трагикомической темой «алкоголизма» мне вспомнилось время, когда я только пришла в театр, еще до появления Анатолия Васильевича. В Ленкоме работала актриса, известная по кино. Колеватов говорил ей, бывало, так: «Как это вы (называл по имени-отчеству) позволяете себе в театре пить? Какой пример вы подаете молодой актрисе Яковлевой?»
А когда я поехала с Ленкомом на первые гастроли, меня поселили вместе с той актрисой, с которой потом у меня будет конфликт из-за радиоточки в гримировочной. Директор, когда меня видел, спрашивал: «Ну как там Луценко?» Я говорю: «Да нормально, Анатолий Андреевич». — «Не пьет?» — «Да я не знаю. В номере не пьет». — «А как же она каждую ночь пьяная? Может, она в бачке прячет? А ты не видишь?» — «В каком бачке?» — говорю. «В унитазе, в бачке прячет, а потом напивается к вечеру». Я говорю: «Анатолий Андреевич, может быть и такое, но я не слежу ни за взрослой актрисой, ни за бачком унитаза».
Пришло время, и у меня появились первые кавалеры. Наверное, в классе девятом.
За мной очень ухаживал один мальчик, Эдик Лебенков, из другой школы. Когда мы возвращались с танцев домой, он спрашивал: «Если найду звезду, я тебя поцелую?» Я оглядывала все небо и говорила: «Если найдешь, то, конечно… может быть…» — зная, что из облаков ни одна звезда не появится. Но где-то между тучами он все же выискивал звезду и говорил: «Вон-вон-вон-вон!..» А я, то ли видя, то ли не видя ее, говорила: «Нет там никакой звезды! Все ты врешь!» На том и кончалось.
Когда я уехала из Алма-Аты, мне сказали, что Эдик часто приходил под наш балкон и подолгу там сидел. Я уехала, не попрощавшись с ним. Даже не сказала, когда уезжаю. Не знаю, почему. Видимо, чтобы не причинять ему боль. Я знала, что для него это будет удар. Думала: пусть уж узнает позже.
У меня как-то странно складывалось с кавалерами. Например, я уходила на танцы, а в это время Эдик Лебенков сидел у меня дома и с моей мамой пил чай. Потом заявлялись мои подруги и уводили этого красивого мальчика — будто бы шли с ним искать меня. А на самом деле он им очень нравился. Когда я приходила домой, мама говорила: «Смотри, Олька, они вместе с Эдиком как бы тебя ищут, но Эдика они загуляют». Я отвечала: «Ну и хорошо».
А в балетном классе у меня был еще один кавалер. Совершенно потрясающий. Люди туда ходили разномастные и разновозрастные, и среди них был Толик Тельпугов — вроде как полублатной. У него было очень много наколок… Но танцевал он хорошо!
И он-таки решил в меня влюбиться, очень часто провожал домой. Обычно мы долго стояли в подъезде, и мама говорила: «Ну что же вы тут стоите? Зайдите в дом». Чаю, мол, попьем.
Однажды она все же завела Толика Тельпугова в дом — накрыла стол, чашки с блюдцами, салфетки. Но Толик Тельпугов чашку на блюдце никогда не держал, и у него от волнения так дрожали руки, что он расплескивал чай. Да и папа был суров. Видя лицо папы, Толик понял, что, может, и не надо больше ухаживать за этой девушкой: да еще постоянно приглашают в дом — нечего, мол, стоять под окнами или под балконом, идите лучше в дом, — на наших глазах время проводите.
Больше у Толика Тельпугова никогда не возникало желания приходить к нам домой и даже провожать меня. На этом все и закончилось.
Примерно году в 1966 я ездила на гастроли в Ереван — играть с местными актерами «104 страницы». Так сказать, поднимать финансы в русском театре. Там не поскупились на рекламу: с самолета бросали листовки с моими фотографиями и с таким текстом: «Выступает популярная артистка из Москвы!» (В листовке была прелестная опечатка: артистка из Москвы оказалась «полулярная».) А когда я открывала окно в номере гостиницы, с улицы на меня смотрел плакат с моей фамилией большими буквами — я тут же окно захлопывала и задергивала штору. К двери номера была приставлена стража, чтобы никто не прорвался в мой номер.
Я туда приехала вместе с художницей Ленкома Тамарой Надировой. Не хотелось одной ехать в Армению, трусила. А Тамара была армянка, и я говорила в шутку: «Может, мне с тобой легче будет?».
Ну вот, приехали мы. И утром побежала я, обламывая каблуки (опаздывала!), на репетицию. Театр был метрах в двадцати, по диагонали. Мне говорят: «Куда вы так торопитесь? У нас опоздать на репетицию невозможно! Во-он наши актеры все сидят в кафе. Пьют коньяк». Я говорю: «Как коньяк? Перед репетицией?!» — «Да, коньяк. Армянский». Я бежала мимо них, опаздывая на одну-две минуты, а мне говорили: «Спокойно, спокойно, сейчас они подползут!» И они «подползали» на репетицию где-то так к половине двенадцатого…
Во время репетиции на сцене шел спектакль. В паузе я зашла в зал и увидела актера с запоминающейся индивидуальностью — он играл Ричарда Третьего. У него была своеобразная манера игры, он чуть-чуть пробрасывал слова и как-то загребал на сцене ногами. И говорил с каким-то акцентом, даже не с армянским.
После репетиции меня пригласили в гости, на балконе делали шашлыки — прямо на балконе! И я спросила у главного режиссера, Саши Григоряна: «Вот этот актер, Ричард III, почему он с каким-то акцентом говорит? Я слышала, как он говорит в жизни — без акцента. А на сцене почему-то с акцентом». Саша мне отвечает: «Так это он играет с английским акцентом!» И объяснил: поскольку Шекспир английский автор, актер взял такую «краску» — играет с английским акцентом. Я, конечно, посмеялась. Но про себя отметила, что индивидуальность у актера очень притягательная. И в это же время вышел фильм «Здравствуй, это я», который мне очень понравился, — там у него была замечательная работа. Это был Армен Джигарханян.
Ереван — городок маленький и уютный. На другое утро после спектакля я гуляла по улицам — из лавочек высовывались люди, включая тех, которые чистили обувь, и говорили: «Здравствуйте! А мы вчера были на спектакле! Нам очень понравилось!» Забавно и симпатично: как в деревне — все знакомы, все знают друг друга. Хотя было непривычно, и я смущалась.
Вернувшись в Москву, я попросила Анатолия Васильевича, чтобы он посмотрел Джигарханяна. Армен приехал на наши гастроли в Киев со своим другом Левой Назаряном, тоже из ереванского Театра русской драмы. Анатолий Васильевич с ними поговорил и сказал: «Хорошо, приезжайте в Москву, будем думать».
В Киеве тогда собралась шумная веселая компания, приехал Игорь на свой футбольный матч. Прихожу в гостиницу, а мне говорят: «У вас подселение». — «Какое еще подселение?!» — «Мы в ваш номер раскладушку для вашего мужа поставили». Я удивилась: «Там же некуда — одноместный номер, крохотный!» — «Да мы шутим, поселили напротив». Я вошла в номер — на столе уже стояла большая корзина с фруктами. Это значит — Игорь приехал, сходил на рынок И оставил записку: «Пошел отдыхать». (Помню, даже на гастроли в Новосибирск, где с фруктами было плоховато, Игорь присылал мне самолетом корзины фруктов. Их привозили ко мне в номер…)
В вечер после его игры мы большой компанией — Анатолий Васильевич с сыном, я с Игорем, Ширвиндт с Державиным, Джигарханян со своим другом, — отправились во Дворец спорта на концерт Эллингтона. То ли музыкант был под воздействием наркотиков, не знаю, — но дойти до рояля не мог, его приволакивали на сцену два негра и, почти как тряпку или кошку, бросали к роялю… А дальше звучала божественная музыка! (Как в том анекдоте: «Мне бы только до рояля дотащиться, а там я — король».)
Вскоре Армен Джигарханян был принят в труппу Ленкома и начал репетировать «Страх и отчаяние в третьей империи». Они с Анатолием Васильевичем очень подружились.
(Когда Анатолия Васильевича из Ленкома уволили, Армен остался в театре. Я говорю: «Что ж ты остался, ты ведь не актер из массовки, мог бы уйти в другой театр». Он сказал: «Знаешь, сейчас такая ситуация — в стране, в идеологии… и на „Мосфильме“…» Мол, надо сидеть тихо, не делать волны. Ну, он старше и, наверно, был умнее меня…)
Однажды мне нужно было поговорить с Анатолием Васильевичем, а он был занят с Джигарханяном — предстоял ввод Армена в какой-то спектакль. Они репетировали в кабинете Эфроса. Прождав длительное время, я решила дать им понять, сколько они там заняты разговором.
Перед кабинетом был огромный репетиционный зал. Мы недавно закончили репетицию, и в зале оставалось много рабочей мебели: столы, стулья, шкафы, тумбочки. Я эту мебель тихо перенесла к двери кабинета главного режиссера, забаррикадировав выход. Нагромоздила гору — конечно, не одна, мне помогали. И потом мы удалились по своим делам.
Домой я пришла не сразу, а через какое-то время. Меня встретила Анна Ивановна (женщина, которая много лет помогала мне по хозяйству) жалобными воплями: «Ну и натворили они тут!» Я говорю: «Кто?» — «Ну эти, Джигарханян с Эфросом! И вообще, не понимаю вас, артистов! Я думала — интеллигенция, интеллигенция, а они придут, картошку с капустой трескают, все время просят то соленых огурцов, то капусты!»
Я зашла в квартиру — там все вверх дном: стол, стулья перевернуты, диван задвинут, шкафы передвинуты, с письменным столом что-то не так и повсюду обрывки газет и множество бумажек. По всей квартире. Приехали вдвоем и отомстили. Я, конечно, начала тихо повизгивать от смеха, а Анна Ивановна говорит: «Ой, Олька, смотри! Этот Джигарханян! Где он пройдет, этот армянин, там двум евреям делать нечего!»
Ну тогда актеры вытворяли кое-что и похлеще. В одной желтенькой газетенке, где любят выуживать всякие небылицы и ходячие анекдоты из театральной жизни, прочитала, будто я разбрасывала свое белье по собственной гримерной. Но разве эти «театроведы» не знают, что, когда актриса приходит на спектакль, она гримируется, переодевается сначала в халат, а потом в театральный костюм, — и, конечно же, белье свое в мешке за собой 89 на сцену не уносит, а оставляет в гримерке.
Но иногда случалось, что шутники-актеры проникали в гримерную и забрасывали мои колготки на люстру, откуда я их потом не сразу могла достать. Обычно возглавлял все эти шуточки Ширвиндт. Я жаловалась Софье Владимировне Гиацинтовой: «Может, — говорила я, — они позволяют себе так шутить, потому что у меня такой беспорядок на столе?» Она отвечала: «Ой, Олечка, вы не волнуйтесь. Я видела многих артистов на своем веку — и у кого порядок на гримировочном столике, у того непорядок в голове!» Это, правда, не очень меня успокаивало…
Софья Владимировна была особенная женщина. Исключительная. Как будто из Серебряного века.
Иногда на гастролях, где-нибудь в Вильнюсе, мы с ней шли после спектакля в гостиницу, и она мне говорила: «Ой, Оля, ну что же это за публика!» Хотя Вильнюс был приятный город. Зрители умудрялись приходить, скажем, на «Чайку» с каким-нибудь трогательным цветочным горшком, с одним цветком посредине, и вручали этот глиняный горшок с цветком. А Софья Владимировна после спектакля говорила: «Ой, Олечка, какая нынче скучная жизнь! Вот раньше, бывало, подарят букет — а там брильянты! Или брильянтовое колье. Или приедут на лошадях, на тройках — и к „Яру“!» Я в ответ: «Куда это, Софья Владимировна, вас заносит! Какие тройки, какие брильянты, какой „Яр“?..»
Вообще-то Софья Владимировна была довольно закрытым человеком. Она никогда не жаловалась.
Да и у тех, кто начинал в шестидесятых, было дурным тоном жаловаться. Мы были счастливы и погружены в работу. И даже позже, во времена так называемого застоя, словно не замечали ничего вокруг — все было несущественно. Занимались делом.
Однажды Софья Владимировна сказала Эфросу на репетиции: «Вот, Анатолий Васильевич, вы все время говорите о самовыражении на сцене — но, мне кажется, что некоторым актерам, может, и не надо самовыражаться, может, кое-кому надо бы и попридержать это самое самовыражение».
Святые слова.
В нашей семье никогда не приветствовались мои детские увлечения театром. В каких бы кружках я ни занималась: чтецком, балетном или кукольном.
Когда мне было лет десять-одиннадцать, я ходила в Дом культуры — там мы занимались кукольным театром. Мы тогда приехали из Тамбова на Украину, и родители строили дом. (Мы часто переезжали — жили в Тамбове, где я родилась, и в Ростове, и в Запорожье, и в Алма-Ате.) Так вот, мне говорили: столько-то ведер извести накопаешь из ямы, тогда пойдешь в свой кукольный театр. И я, с воплями и все проклиная, накапывала свои ведра извести — для чего, не знаю, скорее всего для побелки… Я тогда еще не вникала, для чего это нужно.
Впрочем, дети обычно не вникают в строительство домов своих родителей. Только тогда начинают вникать, когда сами строят свой дом. А все, что у родителей, — это как бы не их, они должны от родительского дома что-то получать, а не вкладывать. И только когда начинают строить свой дом, тогда уже копают свою известь и стараются приручить к этому своих детей, а дети… — ну и так далее. Но это отдельная, поразительная тема.
Так вот, накопав несколько ведер извести, все бросала, быстро умывалась и бежала в свой кукольный театр. Я уже умела лепить кукол. Мы начинали с того, что сами их делали — лепили из бумаги, с клеем, пользовались болванками. Потом мы этих кукол разрисовывали, одевали и только тогда начинали работать с ними, учиться их водить.
В школе, конечно, узнали, что я езжу далеко в город и там занимаюсь кукольным театром. И тогда кто-то предложил: а почему бы не устроить кукольный театр у нас в школе?
Ну устроила в школе кукольный театр. Ширму сделали, все, что положено. В общем, представление прошло — уж не помню, хорошо ли, нет ли, только очень много нервов было затрачено. А результат не помню. Процесс помню, а результат — нет.
Потом папу перевели в Алма-Ату. Но там я тоже не задерживалась в стенах школы.
Мои увлечения шли во многих направлениях. Я очень любила танцевать и занималась в балетом кружке. Не в школе, а опять же в очередном Доме культуры. Мы танцевали номера из «Лебединого озера» и народные танцы — венгерские, испанские. А еще я любила читать со сцены — занималась так называемым «художественным чтением». «Посещала» я и еще что-то. Сестра меня даже дразнила: «Драмкружок, кружок по фото, а еще мне петь охота. Ты еще не поешь?» Ну, я подвывала разные песенки. Тогда еще были патефоны, я ставила пластинку и подпевала вслух. А сестра кричала: «Кончай выть!» Этим любовь к пению ограничилась. (О подвывании я еще расскажу, как я в институте это делала…)
Из всей Алма-Аты, со всей округи, выдвигали исполнителей на республиканские фестивали. Или как это называлось — олимпиады. И я в нескольких участвовала.
Я все норовила получить премию за «художественное чтение». Но ни за одно «художественное чтение» мне ни разу даже грамоты не дали. Грамоты я всегда получала за танцы. Как только заканчивалось чтение, переодевалась, чтобы станцевать венгерский танец, — мне тут же и грамоту.
На последнем фестивале, где мне вручили грамоту за очередной венгерский танец, я вела концертную программу. В Театре оперы и балета имени Абая, два длиннющих отделения. И, видимо, перетрудилась: было очень много участников — оркестр, певцы, танцоры и прочее… Одним словом, я заболела туберкулезом — врачи обнаружили очаги, сказали: надо колоть антибиотики. Поскольку мне было всего семнадцать лет, я врачам не поверила — но тем не менее не преминула немножечко потерроризировать родителей: мол, коли я буду лечиться, так вы уж купите мне вот эти туфли (или еще что-то). Родители обещали, что все мне купят, только бы я ходила на уколы.
Я сказала «хорошо» и пошла к своей учительнице по танцу, Леониде Михайловне Белозерской. Бывшая балерина, которая вела у нас танцкласс. «Так и так, говорю, у меня очаги нашли». Она сказала: «Знаешь что? У меня есть одно средство. Натри лук, целую луковицу, в маленький стаканчик — и дыши ртом, а выдыхай через нос. Поделай так недели две, и никаких очагов у тебя не будет».
Я это все проделывала, хотя мало верила. (И тот самый Эдик Лебенков приносил мне луковицы.) Но через три недели, когда меня проверили на рентгене, никаких очагов не оказалось. Потом, гораздо позже, находили какие-то спайки. Леонида Михайловна, видимо, много чего знала про эту жизнь…
Когда я приехала в Алма-Ату, у меня был чудовищный украинский акцент. На Украине ведь говорят с мягкой буквой «гэ». А в Алма-Ате проживало много репрессированных, ссыльных или оставшихся на проживание и среди них — большая прослойка интеллигенции, так что город был вполне столичный. В школе ученики посмеивались над моим выговором, и когда я читала стихи на уроках литературы, все очень веселились.
Поскольку я была очень самолюбива, быстро сообразила, что к чему, и очень скоро у меня появилась четкая, грамотная русская речь, потому что в школе были очень хорошие преподаватели русского языка и литературы. Когда я поступала в институт, только Андрей Миронов и я получили по сочинению «пятерки».
Наш учитель физики почему-то любил говорить: «Ну что, девочки, солдатам письма пишете?» Подружки у меня были все казашки. И они дружно отвечали: «Нет, не солдатам! А офицерам!» А классный руководитель посмеивался: «Олька, ты первая выйдешь замуж!» Я в ответ: «Да что вы, Анатолий Иванович, вот уж о чем я не думаю…» И первой вышла не я — первая вышла замуж ученица восьмого класса, беременная на каком-то месяце. Тогда это было настоящее происшествие. Учителя старались об этом поменьше говорить, скрывали от учеников.
В то время я запоем читала и прочла всю классику, прежде всего западную. Это не было школьным заданием или каким-то насилием со стороны — просто мне было интересно. Хотя многое из того, что читала, как сейчас понимаю, могла бы и не читать.
Тогда же, в восьмом классе, я поступила в театральную студию при ТЮЗе. Театр был в центре города, далеко от школы. Так случалось, что все мои театральные увлечения находились далеко от дома. Студией руководил замечательный (это я потом слышала и от преподавателей Щукинского училища) провинциальный режиссер Андрей Прасолов.
Первые мои театральные впечатления — от алма-атинского ТЮЗа. И еще — от Театра оперы и балета имени Абая. В ТЮЗе мне нравилась актриса Кулаковская — лет сорока, с удлиненным лицом, карими глазами. Что-то было в ней интеллигентное, нежлобское, что-то очень трогательное. Был еще любимый актер, но его я не запомнила, даже фамилию не помню. Нет, нет. На мужчин память плохая. Не помню ничего!
В оперном театре я смотрела «Бахчисарайский фонтан». Хана танцевал артист Бекбасынов. Как он танцевал! Сколько муки на лице! Это мученическое лицо было для меня воплощением искусства. Может, поэтому я и полюбила Анатолия Васильевича — его искусство тоже через муку выражалось, через страдание. Детские впечатления — самые сильные и стойкие. И меня привлекало то, в чем сквозила драма, в чем было что-то страдальческое.
В театральной студии мы готовили и потом играли пьесу Любимовой «Мои друзья», еще какой-то юношеский репертуар. Там занимались ребята и постарше меня, из десятого класса, а мне было лет пятнадцать.
Закончили мы студию — она была двухгодичной, — вызывает меня к себе Прасолов и спрашивает: «Оля, а что вы собираетесь делать дальше?» Я говорю: «Как закончу школу, видимо, поеду в Москву поступать в институт. В театральный».
Почему так решила? Не знаю. Вспоминаю свои первые — еще совсем детские — впечатления от кино. В послевоенные годы шло очень много трофейных фильмов. Я видела и «Укрощение строптивой» (не по Шекспиру), и «Даму с камелиями» с Гретой Гарбо, и фильмы с Марикой Рокк, и с Соней Хени, и «Большой вальс» с Мелицией Корьюс, с ее шляпами, платьями, вальсами. Тогда все это поражало мое воображение. Казалось жутко красивой жизнью! Иногда я заглядывала в зеркало, смотрела на себя довольно критически, но почему-то улыбалась и думала: «А может, мне в артистки?» Физиономия была не слишком приятна, ну — смазливенькая, ну — ямочки на щеках, глаза такие… большеватые… Так что же, — может, действительно?.. Может, в артистки пойти?..
Итак, я Прасолову ответила, что поеду поступать. Он сказал: «Оля, вы не думайте, что в Москве жизнь такая уж сладкая. Что вы приедете и сразу поступите. Пока вы здесь — я за вас отвечаю. Я могу предложить вам работу, и я буду вас поддерживать. А поедете в Москву, там конкурс — кто будет вас поддерживать, за вас отвечать?» Я говорю: «Спасибо за предложение остаться в театре. Но я хочу еще учиться. Не думаю, что мне нужно уже работать».
Да, я могла остаться в театре, в ТЮЗе. По-моему, Прасолов только двоим предложил из студии — мне и еще одной девочке.
Но — не осталась…
С приходом Эфроса в Ленкоме образовался настоящий веселый «клуб» из его прежних актеров, пришедших из Центрального детского, и работавших в Ленкоме Ширвиндта, Збруева, других. В «красном уголке» в конце коридора, где располагались гримерки, травили всякие байки, истории, анекдоты, которые я, впрочем, никогда не запоминала. Да и смеялась-то я после разъяснений Ширвиндта. Об этом у него есть рассказ — как я воспринимаю анекдоты, которые надо разжевывать несколько раз, чтобы я поняла, где и над чем смеяться.
И были еще в Ленкоме два замечательных человека — Николай Николаевич Сосунов, главный художник театра, и Валентина Измайловна Лалевич, его жена, тоже художница. Он был инвалидом, без ног, ездил на машине с ручным управлением. Отчаянный максималист — любой компромисс, который, как ему казалось, Эфрос допускал на протяжении этих трех-четырех лет, непременно вызывал непримиримую реакцию Николая Николаевича. При своих дружеских творческих отношениях очень часто они хлопали дверьми и расходились по разным кабинетам.
Поскольку я была совсем юной, мне льстило, что меня допустили в круг взрослых людей. Относились они ко мне сверх меры уважительно. Это были настоящие, без дешевой «театральности», люди. Я к тому времени уже перенесла болезнь Боткина. Николай Николаевич обычно сидел на репетициях (на каждой репетиции сидел главный художник!) — и он, бывало, подходил к Анатолию Васильевичу и говорил: «Анатолий Васильевич, надо сделать перерыв, Оле пора есть творог!» Я, конечно, очень смущалась — но репетиция действительно иной раз прекращалась, и я спускалась в комнату художников, где Валентиной Измайловной был для меня приготовлен творог.
Иногда Сосунов ссорился с Анатолием Васильевичем, даже из-за того, что тот «не с теми общается».
Заместителем директора в театре был Григорий Салай, порядочный пройдоха. Когда Анатолия Васильевича освободили от занимаемой должности (это называлось — «по идеологическим мотивам»), Салай сказал: «Я тоже ухожу из театра — по идейным соображениям, из-за того, что сняли Эфроса!» — и потащил по коридору два увесистых мешка документов из бухгалтерии! Он там всякие дела творил! Когда рассказывали, невозможно было поверить.
Допустим — гастроли в Кисловодске. Шли «Снимается кино», «104 страницы», «До свидания, мальчики», «Мой бедный Марат» — популярные спектакли, и зал, конечно, наполнялся публикой. Может, не на сто процентов, но около того. Однако в отчетах почему-то значилось — 75 процентов! (Кстати, это для начальства было дополнительной каплей к тому, чтобы избавиться от Эфроса. Чтоб не влезал… Но об этом отдельный рассказ…)
На гастролях в Киеве публика просто валом валила, зал заполнялся чуть ли не в двойном размере: администрация умудрялась, якобы по ошибке, продать два комплекта билетов на один спектакль! И те, кто пришли первыми, рассаживались, а у каждого кресла стояли «опоздавшие» и скандалили: «Это мое место!» Спектакль задерживался на полчаса, как-то всех рассаживали, куда-то распихивали, — а в отчетах опять же стояло: «заполняемость — 75 процентов». Но актеры-то все видели, знали, почему задержка спектакля: глянешь в зал, а там толпища народу, и всех надо куда-то рассовать сегодня же или устроить на будущий спектакль, на котором снова будет два комплекта билетов и все повторится. И это — «75 процентов заполнения»!
Николай Николаевич был за то, чтоб навести порядок в финансах. Что происходит с театром? Ведь все отчеты шли к начальству. И он подталкивал Анатолия Васильевича к тому, чтобы тот разобрался, а Анатолий Васильевич говорил: «Нет, я не полезу в это». При том что театры в той системе относились к «идеологическому фронту», финансы тоже трогать нельзя было — как только художники лезли в финансы, тут же подводилась идеологическая база, и, конечно, страдал художник, а не администрация, которая управляла финансами.
Анатолий Васильевич, видимо, это знал: чувствовал, что в финансы лезть не надо, никогда — они тут же организуют ответный марш-бросок, и у тебя мигом окажется «не та идеология» — они всегда победят. Но Николай Николаевич настаивал на том, чтобы выяснить все до конца, разоблачить махинации. Он ведь был коммунистом, но очень честным и порядочным коммунистом. По-настоящему благородным человеком и — оч-чень бескомпромиссным.
Несмотря на мой, так сказать, глуповатый возраст, я понимала, что ссориться им нельзя. Они замечательно работали вместе еще с Детского театра. Николай Николаевич прошел войну, и не таких уж он был современных взглядов на жизнь — но оформлял спектакли в новой, современной эстетике. Конечно, они делали спектакли вместе с Анатолием Васильевичем, работали долго, вдумчиво. Их спектакли были тогда открытием для Москвы.
Обычно мне как-то удавалось их мирить. Но однажды они оба уперлись. Да, Анатолий Васильевич не хотел влезать в финансы, но, видимо, Николай Николаевич все же уговорил его. Парадоксально, но из-за этого они и поссорились: Николай Николаевич сердился, что Анатолий Васильевич не шел в своих выяснениях до конца, а Эфрос обижался на Николая Николаевича за его максимализм. Вот в чем была суть конфликта. Помирить их не удавалось никаким образом. И Николай Николаевич ушел в другой театр, вместе с Валентиной Измайловной.
Уже после смерти Николая Николаевича, на Малой Бронной, Анатолий Васильевич будет с Валентиной Измайловной работать над костюмами к «Брату Алеше» по Достоевскому.
А потом умерла и Валентина Измайловна Лалевич. И я не могу себе простить, что не успела с ней попрощаться, не могу избавиться от чувства вины. Ведь именно она и Николай Николаевич ввели меня в театре во «взрослую» компанию. И относились ко мне с любовью и вниманием, уважительно… И уже не поправишь, не отмолишь — с этим жить дальше. О близких людях следует думать, пока они живы. Потому что иначе потом — такая мука. И казнить себя будешь: ну какие могли быть счеты, какие обиды…
Так вот, как только были задеты финансы, тут же понеслись во все инстанции анонимки. (Мне вообще кажется, что анонимки родились вместе с советским театром.) «Финансовые гении» зашевелились. С этого момента, по-моему, началась война с администрацией и нелады в Ленкоме.
Уже выпуская «Снимается кино», мы знали, что ждать ничего хорошего не приходится — само собой, со стороны начальства. И Анатолий Васильевич шел на это, можно сказать, сознательно — он прекрасно понимал, что получается не очень-то «проходимый спектакль»: герой — кинорежиссер, фильм которого «закрывают», затрагивается и начальство, и критика, и идеология.
Но с этим спектаклем произошел, так сказать, «начальственный» казус. Вот попадались же и среди чиновников удивительные люди.
Спектакль принимал сам Евсеев — кажется, начальник столичного управления культуры. (У него, по-моему, не было одной ноги, ходил с палочкой.) Так вот — он прямо-таки душой болел за наш спектакль. Просто влюблен был в «Снимается кино» — и запрещал! Не мог его выпустить «по долгу службы». При всей труппе он говорил: вот, мол, спектакль не пойдет, но, с другой стороны, он не может его запретить — спектакль ему нравится, и нужно найти выход, может, мы чего-нибудь переделаем, а кроме того, пришла еще одна анонимка… — и так далее.
И начальник Евсеев заболел! Он так разрывался между обязанностями советского функционера и велениями своего сердца, что даже запил и попал в больницу. В нем произошла, так сказать, сшибка: ему спектакль нравится, но он его должен запрещать, он его должен запретить, но спектакль ему нравится. И эта сшибка вызвала алкогольный синдром, который и довел беднягу до больницы. Но и из больницы через Эдика Радзинского он поддерживал с театром связь, поскольку в спектакле нужно было что-то изменять, чуть-чуть приглаживать, и Эдик был у нас связным.
Евсеев и ко мне почему-то относился очень хорошо. Спрашивал обо мне у Эдика и просил, чтобы я пришла к нему в больницу. Но Анатолий Васильевич говорил: «Не ходите, он человек пьющий, у него алкогольная горячка».
Когда спектакль в конце концов вышел, Евсеев так обрадовался, что прислал на премьеру ящик шампанского, Гиацинтовой — цветы и для меня — большую-большую коробку каких-то необыкновенных конфет. Видимо, из начальственных закромов. Эфрос выхватил у посыльных коробку и сказал: «Она шоколад не ест!» (Он знал, что у меня была болезнь Боткина, гепатит.) Шампанское мы, конечно, выпили.
В день премьеры Евсеев звонил в театр и спрашивал, как идет спектакль! Это мне напоминает Хрущева, который разгромил художников-абстракционистов, а потом, в конце жизни, на чердаке, говорят, малевал абстрактные картины. Не самые худшие проявления начальственных людей. Вот и от этого чиновника остались у меня светлые впечатления — ну посудите сами, какой еще начальник пришлет актерам на премьеру цветы и ящик шампанского.
Поток жалоб и анонимных доносов тем временем густел.
В это же время актеры взялись вдруг «выяснять отношения» с главным режиссером. Чуть ли не ночью собирались на какие-то сходки и выясняли: кто кого больше любит — режиссер актеров или актеры режиссера, что кому будет предложено играть, и т. д. и т. п. И тон был взят весьма максималистский. Это, в основном, те, кого Эфрос привел из Детского театра, — они почему-то присвоили себе право выяснять с ним отношения.
А аборигены театра Ленинского комсомола в это время исправно строчили анонимки. «Свои», значит, выясняли, почему Эфрос работает не только с ними, а актеры-старожилы выясняли с помощью писем по инстанциям и анонимок — почему он работает только с вновь пришедшими! Изнутри это выглядело именно так.
Анонимки сочинялись на разные темы. Разоблачали «ущербную идеологию», семейственность — якобы он родственников в спектаклях занимает. Я уж не знаю, кто там у Эфроса был родственником в нашем театре. Почему-то говорили о Ширвиндте. И не только о родственниках — писали, что вообще вокруг него евреев что-то очень много. Анатолий Васильевич кое-что мне рассказывал, а одну анонимку я читала сама. Все это писали — из театра.
Конечно, главными в анонимках были тезисы насчет идеологии, что и повторили официальные власти чуть позже, когда решили «разобраться» с этими «сигналами». Меня даже вызывал Б. Покаржевский, тогда секретарь Свердловского райкома КПСС. О чем мы разговаривали — почти сгладилось в моей памяти. Может, потому что тема для меня была крайне неинтересна. Помнится, он спрашивал: могу ли я под этими пунктами подписаться? А пункты были такие: неправильный подбор репертуара, его несоответствие названию Театра имени Ленинского комсомола; Эфрос развел семейственность. О том, что он еврей, в этой анонимке тоже было. И еще — о его якобы предвзятом отношении ко мне. Вот это я помню четко — он у меня спросил: не чересчур ли хорошо Эфрос ко мне относится?
Я отвечала примерно так правильная репертуарная политика театра — это когда на спектакль вызывают конную милицию, а публика выламывает в театре двери. Вот это и есть репертуарная политика. И можно ли что-то иметь против Чехова, Брехта, Булгакова, Радзинского, Розова? Что еще лучше можно придумать? Насчет «еврейского вопроса» я сказала: никто ведь и не скрывает, не утаивает. Разве вам это неизвестно? И что — это преступление? Собственно, что это за «пункт» такой? Насчет родственных связей, говорю, точно не знаю, в документы не смотрела, этим вопросом не интересовалась. А что касается моих взаимоотношений, то, я помню, сказала так на этот вопрос позвольте мне не отвечать.
Еще было что-то. Чуть ли не из десяти пунктов послание.
Я не помню, эту ли анонимку или другую, с подобными же «пунктами», обсуждали на общем собрании. При полной труппе, при начальстве анонимки разбирали! И на все «пункты» отвечал Анатолий Васильевич. Когда подошли к последнему — почему такое преувеличенное внимание к Яковлевой и каковы с ней взаимоотношения — начальник, который вел собрание, промямлил, что на этот вопрос Эфрос может и не отвечать. Но Анатолий Васильевич при полном сборище актеров, всего коллектива и начальства и при полном молчании зала, сказал: «Нет, почему? Здесь вообще все очень просто: любил, люблю и буду любить». Зал был потрясен. Я тоже. Думала: что-то должно произойти. Ничего не произошло. Так все в молчании и разошлись.
Бывали письма и не анонимные. И к тем, кто писал открытые письма и подписывался, Анатолий Васильевич относился уважительно. Противник — но открытый. Все понятно. Он говорил, например, что вот Дмитрия Днепрова, секретаря парторганизации, он уважает — тот в открытую говорит, что спектакли Театра Ленинского комсомола, репертуар, не соответствуют его названию. Мол, может быть и такая точка зрения, вполне. Он имеет право на такую точку зрения, и не скрывает, что он это написал. Это вызывает уважение.
Да, Анатолий Васильевич смотрел на жизнь широко…
Но самое удивительное, что в театре тогда знали, кто писал анонимки. Знал и Анатолий Васильевич, знала и я. Все всё знали. Впоследствии мне иногда предлагали — и Анатолий Васильевич, и другие режиссеры — встретиться с этими «актерами-писателями» как с партнерами на радио или на телевидении, в одной передаче, — я никогда не давала согласия. И в жизни с ними не встречаюсь до сих пор.
Не хочу их называть. У них есть жены, дети, внуки. Бог им судья. Это дело совести каждого человека. И его крест. Так что пусть уж они со своей совестью сами разбираются.
Однажды меня вызвали на Петровку, 38: пришла анонимка — якобы я занимаюсь валютными операциями. Художники Валентина Измайловна и Николай Николаевич всполошились, а я говорю: «А чего такого, даже машину присылают за мной!» Тут они еще больше испугались, позвонили Эфросу и сказали: «Нашу Олю — на Петровку!» И просили, чтобы я, как только вернусь, срочно дала им знать. Николай Николаевич, когда меня провожал, вышел к тем, которые меня забирали от театра, и сказал: «Вы ее берете — я засекаю время!» Человек войну прошел, ничего не боялся.
Я приехала туда в белом пальто — я вообще тогда одевалась довольно броско, «фирменно», как сейчас говорят. Сидят там молодые мальчики. Говорят мне: «Вот пришла анонимка на вас — валютные операции. Как нам прикажете поступать?» Все они были старше меня, может, на десяток лет. Я говорю: «Ребятки, если бы я даже занималась этими валютными операциями, вы думаете, я так просто и сказала бы вам: „Да, я занимаюсь“? И вообще, вы ведь с юридическим образованием — мне кажется это несколько странно: почему вы занимаетесь разбором анонимок? А почему бы вам как юристам не заняться вопросом: кто же пишет анонимки? Это слишком просто: вы меня вызвали и побеседовали. О чем? О том, что написано в чужом письме. Но оно пришло к вам, это ваша переписка — я-то здесь при чем? По-моему, дело чести юриста — разобраться: а кто пишет? Значит, он больше знает? Может, у него и надо спросить, какими валютными операциями я занимаюсь?» Мальчики как-то смешались: «Ну что вы, мы наоборот, мы на защите ваших прав, мы вообще ее порвем». Я говорю: «Ну и не надо было меня вызывать — порвали бы тихо у себя, и инцидент исчерпан!»
Я приехала в театр, там уже был Анатолий Васильевич, они долго ждали, волновались. И Анатолий Васильевич говорит, как-то легко: «Ну, Оля, да они просто хотели с вами познакомиться, видели спектакль, хотели посмотреть на вас — и все дела». Да и для меня это была просто глупость, и больше ничего.
Но бочка катилась и катилась по инстанциям, от райкома комсомола до райкома партии, от райкома партии до МГК, и так она докатилась почти до самого верха — и там начали «решать». Анатолий Васильевич встречался с Шапошниковой[5]…
Но это было уже без меня — Игорь тогда работал на Кипре, и мне надо было уезжать к нему. Помню, мы все смотрели приехавшего с «Дон Жуаном» Жана Вилара, а назавтра я улетела на Кипр. Уезжала я в более или менее спокойном состоянии. Это был март 1967 года.
Там в посольстве меня просили рассказать о театре Ленком — доходили вести и туда. И я рассказывала. И еще не знала, что этот первый мой театр для меня кончился…
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ