Искусство Древней Греции (Ю.Колпинский)
Общая характеристика культуры и искусства Древней Греции
Искусство Древней Греции, сыгравшее важнейшую роль в развитии культуры и искусства человечества, было определено общественным и историческим развитием Греции, глубоко отличным от развития стран и народов Древнего Востока. В Греции, несмотря на наличие рабства, огромную роль играл свободный труд ремесленников, — до тех пор, пока развитие рабовладения не оказало на него своего разрушительного действия. В Греции сложились в рамках рабовладельческого общества первые в истории принципы демократии, давшие возможность развиться смелым и глубоким идеям, утверждавшим красоту и значительность человека.
Греческие племена, населявшие самую южную часть Балканского полуострова, многочисленные острова Эгейского моря и узкую прибрежную кайму малоазийского побережья, перейдя от первобытно-общинного строя к классовому обществу, создали небывалую по своему богатству и многогранности культуру, изобразительное искусство и архитектуру.
Греческие племена и племенные союзы населяли разделенные крутыми хребтами гор долины, рассыпанные по морю острова. При переходе к классовому обществу они образовали ряд небольших городов-государств, так называемых полисов. По сравнению с огромными рабовладельческими деспотиями Древнего Востока, объединившими под своей властью много разных племен и народов и сконцентрировавшими огромные материальные ресурсы, греческие города-государства были очень малы. Полис, то есть город и прилегающая сельская округа, часто насчитывал лишь несколько тысяч семей.Греческие племена ахейцев, ионийцев, эолийцев и дорийцев в первые века существования античного общества не были объединены в единую державу. Несмотря на наличие многочисленных экономических, политических, культурных связей, полисы были независимыми государствами и вели каждый свою политику. Даже пришедшее со временем сознание общегреческого единства и возникновение ясных представлений об Элладе — Греции, как стране, имеющей общую историческую судьбу, — и о народе эллинов (как стали звать себя греки) не привело к политическому единству Греции в годы расцвета ее культуры.
И все же не могущественные державы Древнего Востока с их мощной тысячелетней культурой, с их чудовищными по размерам пирамидами, храмами, статуями,с фантастическими богатствами, накопленными правителями, и не менее фантастической нищетой закабаленной, рабски бесправной многоплеменной народной массы, а сравнительно бедные греческие полисы создали великий перелом в мировых судьбах искусства и культуры.
В Древней Греции сложилось искусство, проникнутое верой в красоту и величие свободного человека — гражданина полиса. Произведения греческого искусства поражали последующие поколения глубоким реализмом, гармоническим совершенством, духом героического жизнеутверждения и уважения к достоинству человека.
Не случайно Софокл, великий греческий трагический поэт, мог сказать в своей «Антигоне»: «Много в природе дивных сил, но сильней человека нет».
Фолософские взгляды, отчасти политические воззрения и прежде всего литература и искусство Древней Греции непосредственно или через эллинистическую и римскую культуру оказали огромное влияние на всю последующую историю культуры человеческого общества. В особенности это относится к истории народов западной и восточной Европы, но также и западной, центральной и восточной Азии. «Без того фундамента, который был заложен Грецией и Римом, не было бы и современной Европы» [30]Ф. Энгельс, Анти-Дюринг, М., 1951, стр. 169.), — писал Энгельс.
Действительно, даже христианство, враждебное духу «языческой» древности, определившее в значительной мере формы развития культуры и искусства средневековой Европы, сложилось в рамках поздней античной культуры. Средневековье широко обращалось к наследию древнегреческой философии, архитектуры и искусства, хотя большей частью и искажало их. Замечательные достижения культуры ряда народов феодальной Азии, в частности Средней Азии, были тесно связаны с переработкой наследия собственно греческой и своей местной античной художественной традиции; это сказывалось в прогрессивных, материалистических по своей направленности философских учениях, в медицине, отчасти и в литературе и искусстве.
Искусство и культура Возрождения в своей борьбе за идеалы гуманизма и реализма, как и в своей критике средневековья, особенно широко черпали из сокровищницы греческого наследия. Даже самое название эпохи Возрождения возникло как обозначение возрождения античной, то есть греческой и римской культуры.
Передовые художники и мыслители 17 — 18 вв. в западной Европе и в России в своей борьбе за утверждение идеалов гражданственного служения обществу, в своей критике феодальной системы также постоянно обращались к античным образам и преданиям. В них они находили примеры и образцы для возвеличения своей борьбы, своих общественных идеалов. Замечательный расцвет русской классицистической архитектуры и монументальной скульптуры в конце 18 и первой трети 19 в. также был связан с глубокой переработкой античного наследия.

Древняя Греция.

Греческая колонизация.
Гёте и Шиллер, Байрон и Китс, Державин и Пушкин, Белинский и Горький глубоко ценили культуру Древней Греции.
Высокую оценку древнегреческому искусству и эпосу дали классики марксизма. Маркс указывал, что они «в известном смысле сохраняют значение нормы и недосягаемого образца»[31].
Исторические условия, сделавшие возможным необычайный по сравнению с культурами Древнего Востока прогресс философии, науки и искусства античной Греции, сложились в период классики, в 5 и 4 вв. до н.э.
В основе расцвета искусства Древней Греции лежит прежде всего развитие в греческих рабовладельческих городах-государствах свободной гражданской жизни.
Греческая демократия была демократией ограниченной, рабовладельческой, обеспечивавшей интересы только свободных, и в первую очередь рабовладельцев. Выключение рабов из жизни общества, лишение их человеческих прав было уродливой чертой рабовладельческого общества.
Но по сравнению с общественным укладом восточных деспотий она вмела огромное прогрессивное значение. Свободные члены общины были гражданами, а не бесправными подданными владыки, как на Востоке. Они активно участвовали в управлении государством. Более того, свободный отличался от раба именно в той мере, в какой был полноправным членом своей общины, своего города-государства. Искусство Древней Греции было проникнуто духом служения идеалам коллектива политически активных свободных граждан.
Прогрессивные стороны греческой культуры во всей их полноте сложились не сразу.
История Древней Греции и соответственно история греческого искусства прошла следующие ступени своего развития.
1. Так называемая гомеровская Греция (12 — 8 вв. до н.э.) — время распада родовой общины и зарождения рабовладельческих отношений. На этот период приходится развитие эпоса и появление первых, примитивных памятников изобразительных искусств.
2. Архаика, или период образования рабовладельческих городов-государств (7 — 6 вв. до н. э.). Это — время борьбы складывающейся собственно античной демократической художественной культуры с остатками и пережитками старых общественных отношений и с условными, еще далекими от реализма художественными тенденциями. Время это отмечено сложением и развитием греческой архитектуры, скульптуры, художественных ремесел, расцветом лирической поэзии.
3. Классика, или период расцвета греческих городов-государств (5 и большая часть 4 в. до н.э.). Это — период первого расцвета античного рабовладельческого общества на ранней стадии его развития. Для этого времени характерен рост гражданского самосознания, активное участие в общественной жизни массы свободного населения. Классика — это время высокого расцвета философии, важных естественнонаучных открытий, блестящего развития поэзии и в особенности драмы, высочайшего подъема в архитектуре и полной победы реализма в изобразительных искусствах. В конце этого периода (4 в. до н.э.) наступает первый кризис рабовладельческого общества, развитие полиса приходит к упадку, что во второй половине 4 в. вызывает кризис искусства классики.
4. Эллинистический период (конец 4 — 1 в. до н.э.) — период кратковременного выхода из кризиса рабовладельческого общества путем образования больших империй, консолидации класса рабовладельцев под эгидой эллинистических монархий. Очень скоро, однако, наступило неизбежное обострение всех неразрешимых противоречий рабовладения, разорение и бесправие основной массы свободного населения, чудовищное богатство крупных рабовладельцев и утеря гражданских свобод. Искусство постепенно теряет тот дух гражданственности и народности и ту высокую реалистическую типизацию, которые ему раньше были свойственны. В дальнейшем эллинистические государства были завоеваны Римом и включены в состав его державы, а их искусство частично растворилось в римском искусстве.
Наиболее своеобразным и характерным периодом в развитии древнегреческого искусства является период классики, период наивысшего расцвета античного искусства и культуры, когда раскрылись во всей полноте наиболее прогрессивные черты рабовладельческой демократии. Не случайно Маркс, сравнивая эпоху Перикла, вождя афинской демократии 5 в., и эпоху Александра Македонского, говорил о первой, как об эпохе наибольшего внутреннего расцвета, а о второй, как об эпохе наибольшего внешнего расцвета.
В цветущую пору развития греческого общества сознание свободных граждан было проникнуто чувством гражданской ответственности, характеризовалось непосредственным переплетением личных и общественных интересов. Право гражданства было великой честью, непременным условием для существования действительно достойного человека.
Так, свободнорожденный афинянин в день своего восемнадцатилетия торжественно включался в списки граждан; при этом он произносил клятву: «Я не посрамлю священного оружия и не оставлю товарища в битве, буду защищать и один и со многими все священное и заветное, не уменьшу силы и славы отечества, но увеличу их; буду разумно повиноваться существующему правительству и законам, установленным и имеющим быть принятыми; а если кто будет стараться уничтожить законы или не повиноваться им, я не допущу этого и буду бороться с этим против него и один и со всеми; буду также чтить отечественные святыни. В этом да будут мне свидетели боги».
Одной из важнейших привилегий и обязанностей гражданина была защита отечества с оружием в руках: полисы постоянно враждовали друг с другом, правда, объединяясь в случае нападения на Грецию общего врага (так, например, было при войнах с Персией и Македонией). Еще большее значение имело право каждого гражданина участвовать в управлении государством. В ряде наиболее демократически организованных полисов, например в Афинах, некоторые общественные должности замещались ежегодно в порядке жеребьевки. В пору своего расцвета греческий город-государство почти не знал особого сословия чиновников. Высшим законодательным органом было собрание всех граждан полиса.
Конечно, не во всех общинах господствовали демократические порядки. Но даже там, где господствовала аристократия, члены общины были лично свободными и в той или иной мере участвовали в общественной и политической жизни государства. Естественно и то, что среди свободных граждан не было внутреннего единства. В каждом полисе шла ожесточенная борьба, полная драматических перипетий, между массой трудящегося демоса (то есть народа) и представителями старой родовой аристократии и нарождающейся новой богатой верхушки. И все же во время самой ожесточенной классовой борьбы граждане полиса в период его восходящего развития ощущали свою кровную связь с народной общиной, с государством, на непосредственном опыте убеждались в прямой связи своего личного благополучия с благоденствием и силой своего родного полиса в целом.
Так, Фукидид в своей «Истории Пелопоннесской войны» вкладывает в уста Перикла — вождя Афинской демократии — следующие слова: «Я держусь того мнения, что благополучие государства, если оно идет по правильному пути, более выгодно для частных лиц, нежели благополучие отдельных граждан при упадке всего государства в его совокупности. Ведь если гражданин сам по себе благоденствует, между тем как отечество разрушается, он все равно гибнет вместе с государством...». Для грека идеал гармонически развитого совершенного человека, так же как и свойственный архитектуре или театру широкий общественный характер, был естественным следствием всего строя его общественной жизни.
Следует подчеркнуть, что подлинный расцвет города-государства и в особенности его культуры был связан с тем начальным периодом развития рабовладельческих отношений, когда не выявилась полностью их враждебность труду свободного производителя (крестьянина и особенно ремесленника), разоряемого и унижаемого конкуренцией дешевого рабского труда. Наоборот, на первых порах рост обмена и торговли, накопление материальных богатств в связи с эксплуатацией рабов способствовали развитию земледелия и ремесел. Крестьяне и ремесленники, иногда использующие труд одного или нескольких рабов, но всегда лично занятые производительным трудом, составляли военную и политическую основу могущества полиса в цветущую пору его развития.
Именно благодаря активной роли демоса греческое искусство, особенно в 5 в. до н.э., носило общественно-гражданский характер, было проникнуто духом народности.
На развитие труда свободных граждан в античном обществе в классическую пору его существования обращает внимание Маркс, отмечая, что «как мелкое крестьянское хозяйство, так и независимое ремесленное производство... представляют экономическую основу классического общества в наиболее цветущую пору его существования, после того как первоначалньая восточная общинная собственность уже разложилась, а рабство еще не успело овладеть производством в сколько нибудь значительной степени» [32].
Собственно говоря, первые признаки кризиса античного города-государства и всего рабовладельческого общества, возвестившие конец наиболее цветущей поры античной культуры, были связаны в значительной степени именно с наметившимся уже в самом конце 5 в. до н.э. упадком труда свободных. «Не демократия привела Афины к гибели, как это утверждают европейские школьные педанты, виляющие хвостом перед монархами, а рабство, которое сделало труд свободного гражданина презренным» [33].
Весь уклад жизни и в период архаики и особенно в годы расцвета города-государства носил по преимуществу общественный характер; большую часть своего досуга свободнорожденный проводил не в своем узком семейном кругу, а на площади народных собраний, в храме, в палестрах, в театре. На людях, в коллективе проходила самая интересная и содержательная часть личной деятельности и личного досуга свободного гражданина. В этих условиях искусство не могло не иметь общественно-воспитательного характера.
Вся скульптура и живопись, не говоря уже об архитектуре, принадлежала непосредственно общине. Вплоть до 4 в. до н.э. в частном пользовании отдельного гражданина находились лишь художественно исполненные вазы, небольшие статуэтки и другие произведения, главным образом прикладного искусства.
Физическую силу и красоту высоко ценили в Греции повсеместно. Физическая и волевая закалка имела огромное значение в подготовке полноценного участника народного ополчения — защитника отечества. Вместе с тем спорт, постоянная тренировка воспринимались как непременное условие воспитания гармонически развитого прекрасного человека. Общегреческие спортивные состязания в Олимпии (на Пелопоннесском полуострове) приобрели огромное значение: это был смотр физической и духовной доблести; на состязания не допускались люди, запятнавшие себя неблаговидными, противообщественными поступками. По олимпиадам велся счет времени, победителям сограждане воздвигали статуи. Созерцание на состязаниях прекрасных обнаженных тел и вместе с тем представление о неразрывной связи физической силы и красоты с душевной значительностью безусловно способствовали расцвету искусства, в частности скульптуры. Большое значение в развитии эстетического чувства имели театральные представления, первоначально связанные с общенародными культовыми празднествами, так же как и состязания певцов на празднествах в честь богов. Способствовали развитию художественного вкуса и торжественные процессии в честь бога — покровителя полиса; так, например, традиционное шествие афинян в праздник Больших Панафиней, посвященное богине Афине, являлось по существу демонстрацией могущества и красоты афинского народа.
Искусство Древней Греции во многом было связано с религиозным культом. Не следует, однако, забывать, что и сама греческая религия при этом являлась одной из форм общественной государственной деятельности. Каждая община имела своего бога-покровителя, олицетворявшего единство общины. Боги эти (как, например, Афина Паллада, покровительница Афин) занимали вместе с тем свое особое место в общегреческом сонме богов, обитавших на Олимпе. В Греции отсутствовала специальная каста жрецов, подобная той, которая существовала в Египте или государствах Двуречья. Лишь при некоторых общегреческих святилищах существовали немногочисленные жреческие организации. Так, большое значение имел Дельфийский оракул, как своего рода олицетворение идеи культурного и народного единства политически разрозненной Греции (но еще большее значение в этом отношении имели олимпийские игры).
Религиозные воззрения греков в значительной мере сохранили свою связь с народной мифологией и не превратились в систему строго установленных догм, сковывающих всякое самостоятельное проявление мысли и творчества, как это было, например, в средневековом христианстве. Античная мифология, особенно в пору своего сложения и развития, не сводилась к системе религиозных представлений. В античных мифах-сказаниях, сложившихся еще в конце доклассового общества, была воплощена в наивно-фантастических и художественно наглядных образах вся совокупность представлений греков о действительности.1
Гениальная догадка и наивное заблуждение, правда и вымысел здесь тесно переплетались. В мифологических воззрениях древних греков содержались зачатки истории и философии, а не только религии. Мифологический характер мышления во времена перехода от первобытной общины к классовому обществу определялся тем, что человек далеко еще не подчинил себе силы природы; законы развития общества тем более не могли быть им научно поняты, поэтому его представления носили подчас фантастический характер. Но вместе с тем развитие художественной фантАзии, воплощение самых общих представлений о природных и общественных силах в наглядных конкретных образах-олицетворениях способствовали расцвету искусства. Само сознание имело поэтически-образный характер.
Маркс подчеркивает, что «греческая мифология составляла не только арсенал греческого искусства, но и его почву» [34].
Если эпос, возникший на заре истории греческого общества, в образах богов и народных героев-богатырей давал в непосредственно-наивной мифологической форме широкую картину жизни греческого народа и воплощение его идеалов, то в эпоху расцвета города-государства дело обстояло уже иначе.
Греки в эту пору уже заложили основу философско-материалистического объяснения мира. Зарождались точные науки, делались первые шаги по созданию науки исторической. Вера в силу и величие ума и воли человека получала все большее распространение. Но, все изучая и все испытуя согласно законам разума, философ-мудрец мыслил не только в формах логических категорий, но очень часто в форме живых образов, наглядных олицетворений. Так, представление о законе необходимости, господствующем в жизни, формулировалось не в форме точных логических положений, а в образе «все живое бичом голода и любви гонится к корму». Диалектическая идея вечного движения и развития воплощается в образном сравнении «нельзя дважды войти в одну и ту же реку» (Гераклит Эфесский, фрагмент 91).
Искусство гораздо более непосредственно, чем наука, было связано с мифологией. Во-первых, искусство того времени было связано с миром народных этических и эстетических представлений. Система же этических и эстетических взглядов древних греков воплощалась в значительной мере в известных каждому греку образах, олицетворениях и сюжетных ситуациях древних мифов. К мифам и мифологическим образам, которые были насыщены большим общественным и этическим содержанием, и обращается в первую очередь греческое искусство. Греческие мастера развивали или перерабатывали их в связи с изменением общественных и этических взглядов общества. Близкие и знакомые с детства каждому греку образы богов и героев, как и события их воображаемой жизни, получали соответственную духу времени трактовку.
Но мифология не только была арсеналом греческого искусства, не только вооружала его рядом знакомых народу образов и тем, но и являясь его почвой, его образно-поэтической основой. Поэтически художественный склад сознания древнего греческого общества развился первоначально в мифах и в них выразился.
Характерная черта мифологической подосновы греческого искусства — это ее антропоморфизм, то есть глубокое очеловечение мифологических образов. Именно интерес к человеку, утверждение величия и красоты мира его чувств, мыслей и поступков получили наибольшее развитие в Древней Греции, что и выделило ее мифологию среди мифологий других народов древности и сделало ее особенно благоприятствующей расцвету искусства.
По мере сложения античного общества космогонические представления отходили в мифологии на второй план. Антропоморфные же олицетворения сил природы и общества приобретали все более конкретно-реальные и пластически законченные очертания. В образах Аполлона, Афины, Геракла, Тезея находили свое воплощение представления древних греков о наиболее типических и совершенных качествах общественного человека, о господстве разума, закона, гармонии, порядка как качеств общественных, побеждающих в героической борьбе неразумное, звериное, стихийное. Так, миф о Касторе и Полидевке утверждает идею нерушимой силы дружбы-товарищества; мифы о Геракле и Тезее воспевают величие подвигов, совершаемых на благо человечества; миф об Оресте говорит о святости возмездия за совершенное преступление.
Мифологические воззрения древних греков в своем дальнейшем развитии утверждали в качестве меры высшего совершенства красоту человека. Образам полулюдей-полузверей (кентаврам, сатирам) была отведена подчиненная роль олицетворений низших стихийных сил природы.
В отличие от греческой мифологии мифология древневосточных деспотий так и не освободилась от тех причудливо-фантастических форм, которые были связаны с древнейшими тотемическими представлениями и воплощали силы рода и племени в образах священных животных. Древневосточное общество, в целом враждебное достоинству человека, за редкими исключениями, не ушло в своих мифологических и поэтических представлениях дальше образов, «божественность» которых была неотделима от их полузвериной, чудовищно фантастической, а не светлой человеческой природы.
Греческий же герой Геракл завоевал свое право на включение в сонм богов именно своей борьбой против диких сил природы и победой над ними. Греческие храмы постоянно украшались изображениями победоносной борьбы людей — греков, руководимых богом солнца и творчества Аполлоном и богоподобными героями Тезеем и Перифоем, — с безобразными и свирепыми полузверями-кентаврами.
Поэтому, хотя общественное сознание Древней Греции в своем развитии в эпоху расцвета и отошло от буквального понимания мифов, определенная мифологическим мышлением поэтическая сила образов в высокой мере содействовала жизненной силе и реализму искусства греческой классики.
Прогрессивная роль греческого реализма в общих чертах может быть сведена к следующим моментам.
Во-первых, в греческом искусстве раньше, чем где бы то ни было, была всесторонне раскрыта в художественно совершенных образах физическая и духовная красота реального человека.
Во-вторых, в греческом искусстве основным содержанием впервые в истории стало реалистически правдивое отражение основных задач и противоречий жизни общества. Иногда это отражение жизни давалось непосредственно. Так, например, в драме Эсхила «Персы» была отражена героическая борьба греков против персидского нашествия и решена в духе интересов рабовладельческой демократии тема патриотизма. Но в большинстве случаев основные задачи общественной жизни отражались греками все же косвенно — в образах, почерпнутых из мифов и сказаний. Правда, древними греками осознавались вполне отчетливо общественный смысл этих образов и их связь с важнейшими идеями современности[35].
В-третьих, огромным завоеванием явилось утверждение светской общественно-воспитательной роли искусства, лишь по форме носившего часто культовый характер. По сравнению с искусством Древнего Востока это было большим шагом вперед.
Эстетическое совершенство и реалистическая жизненная сила искусства Древней Греции имели значение всемирно-исторического прогрессивного переворота в судьбах мировой художественной культуры.
Памятники древнегреческого искусства доставляют нам огромное эстетическое наслаждение и дают яркое представление о жизни и мировоззрении эпохи, ушедшей в далекое прошлое. Однако произведения греческого искусства, сохранившиеся до наших дней, — это лишь ничтожная часть былого богатства. Произведения ряда крупнейших мастеров Греции не дошли до нас в подлинниках. Поэтому восстановление истинной картины развития греческого искусства вызывает необходимость в сложной работе как по исследованию сохранившихся памятников искусства, так и по изучению всех косвенных сведений, дающих нам представление о художественной жизни Древней Греции.
Основным источником наших знаний об искусстве Древней Греции являются сохранившиеся памятники. Архитектурные и скульптурные памятники Афин, Пестума или Олимпии дают нам высочайшие образцы художественного творчества греческого народа. Но многие античные статуи, до нас дошедшие, не являются греческими подлинниками. О значительной части памятников мы можем иметь представление лишь по мраморным копиям, выполненным древнеримскими мастерами. В эпоху расцвета Римской империи (1 — 2 вв. н.э.) римляне стремились украшать свои дворцы и храмы копиями с прославленных греческих статуй и фресок. Так как почти все крупные греческие бронзовые статуи были переплавлены в годы гибели античного общества, а мраморные — в большей своей части разрушены, то часто только по римским копиям, обычно при этом неточным, мы можем судить о ряде шедевров греческой скульптуры.
Греческая живопись в подлинниках также почти не сохранилась. Большое значение имеют фрески позднеэллинистического характера (воспроизводящие иногда более ранние образцы), сохранившиеся в раскопанных из-под засыпавшего их пепла и лавы римских городах Помпеях и Геркулануме, а также некоторые фрески, найденные в развалинах древнего Рима, в Болгарии, на юге СССР и в ряде других мест. До некоторой степени представление о монументальной живописи Древней Греции могут дать изображения на греческих вазах. Но греческие вазы, прекрасные по форме и украшенные росписью, удивительной как по своему реализму, так и по тонкому чувству формы сосуда, дошедшие до нас в большом количестве, сами по себе представляют высочайшую художественную ценность.
Изображения на греческих монетах, маленькие статуэтки, ювелирные изделия, также художественно ценные сами по себе, часто интересны и тем, что сохраняют нам более или менее приблизительные копии несохранившихся памятников монументального греческого искусства.
Большое значение при изучении греческого искусства имеют также письменные свидетельства древних авторов, описания памятников искусства и упоминания о них в древнегреческих и древнеримских литературных произведениях, стихах, философских трактатах и т. п. Наибольшее значение в качестве источников истории греческого искусства имеют «Описание Эллады Павсания, «Естественная история» Плиния, «Картины» Филостратов, старшего и младшего, «Описание статуй» Калли-страта, «Десять книг об архитектуре» Витрувия.
Искусство Гомеровской Греции
Древнейший начальный период развития греческого искусства носит название гомеровского (12 — 8 вв. до н.э.). Это время отразилось в эпических поэмах — «Илиаде» и «Одиссее», автором которых древние греки считали легендарного поэта Гомера. Хотя поэмы Гомера сложились в своем окончательном виде позднее (в 8 — 7 вв. до н.э.) — в них рассказывается о более древних общественных отношениях, характерных для времени разложения первобытно-общинного строя и зарождения рабовладельческого общества.
В гомеровский период греческое общество в целом сохраняло еще родовой строй. Рядовые члены племени и рода были свободными земледельцами, отчасти пастухами. Некоторое развитие получили ремесла, носившие преимущественно сельский характер.
Но постепенный переход к железным орудиям, улучшение методов ведения сельского хозяйства повышали производительность труда и создавали условия для накопления богатств, развития имущественного неравенства и рабства. Однако рабство в эту эпоху носило еще эпизодический и патриархальный характер, рабский труд применялся (особенно вначале) преимущественно в хозяйстве племенного вождя и военного предводителя — басилевса.
Басилевс являлся главой племени; он объединял в своем лице судейскую, военную и жреческую власть. Басилевс управлял общиной совместно с советом родовых старейшин, — называемым буле. В наиболее важных случаях созывалось народное собрание — агора, состоявшее из всех свободных членов общины.
Племена, расселившиеся в конце 2 тысячелетия до н.э. на территории современной Греции, находились тогда еще на поздней ступени развития доклассового общества. Поэтому искусство и культура гомеровского периода складывались в процессе переработки и развития тех, по существу еще первобытных, навыков и представлений, которые принесли с собой греческие племена, лишь в малой степени усвоившие традиции более высокой и зрелой художественной культуры Эгейского мира.
Однако некоторые сказания и мифологические образы, сложившиеся в культуре Эгейского мира, вошли в круг мифологических и поэтических представлений древних греков, так же как различные события истории Эгейского мира получили образно-мифологическое претворение в сказаниях и в эпосе древних греков (миф о Минотавре, троянский эпический цикл и др.). Зародившаяся в гомеровский период монументальная архитектура древнегреческих храмов использовала и по-своему переработала сложившийся в Микенах и Тиринфе тип мегарона — зала с сенями и портиком. Некоторые технические навыки и опыт микенских зодчих также были использованы греческими мастерами. Но в целом весь эстетический и образный строй искусства Эгейского мира, его живописный, утонченно экспрессивный характер и орнаментальные, узорные формы были чужды художественному сознанию древних греков, первоначально стоявших на более ранней ступени общественного развития, чем перешедшие к рабовладению государства Эгейского мира.
12 — 8 вв. до н.э. были эпохой сложения греческой мифологии. Мифологический характер сознания древних греков получил в этот период свое наиболее полное и последовательное выражение в эпической поэзии. В больших циклах эпических песен нашли отражение представления народа о его жизни в прошлом и настоящем, о богах и героях, о происхождении земли и неба так же, как и народные идеалы доблести и благородства. Позже, уже в период архаики, эти устные песни были сведены в большие художественно завершенные поэмы.
Древний эпос наряду с неразрывно связанной с ним мифологией выразил в своих образах жизнь народа и его духовные стремления, оказав огромное влияние на все последующее развитие греческой культуры. Его темы и сюжеты, переосмысленные в соответствии с духом времени, разрабатывались в драме и лирике, отражались в скульптуре, живописи, рисунках на вазах.
Изобразительные искусства и архитектура гомеровской Греции при всем их непосредственно народном происхождении не достигли ни широты охвата общественной жизни, ни художественного совершенства эпической поэзии.
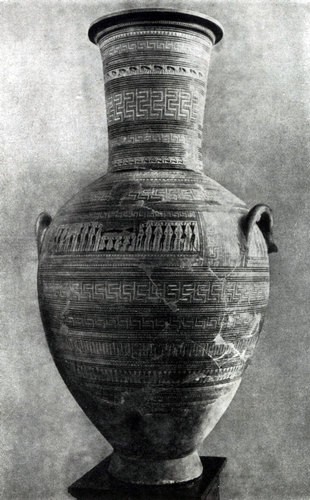
112. Дипилонская амфора. 9—8 вв. до н. э. Афины. Национальный музей.
Самыми ранними (из дошедших до нас) художественными произведениями являются вазы «геометрического стиля», украшенные геометрическим орнаментом, нанесенным коричневой краской по бледножелтоватому фону глиняного сосуда. Орнамент покрывал вазу обычно в верхней ее части рядом кольцевых поясов, иногда заполнявших всю ее поверхность. Наиболее полное представление о «геометрическом стиле» дают так называемые дипилонские вазы, относящиеся к 9 — 8 вв. до н.э. и найденные археологами на древнем кладбище близ Дипилонских ворот в Афинах. Эти очень большие сосуды, высотой иногда почти в рост человека, имели погребальное и культовое назначение, по форме повторяя глиняные сосуды, служившие для хранения больших количеств зерна или растительного масла. На дипилонских амфорах орнамент особенно обилен: узор состоит чаще всего из чисто геометрических мотивов, в частности плетенки-меандра (меандровый орнамент сохранялся в качестве орнаментального мотива и на всем протяжении развития греческого искусства). Кроме геометрического орнамента широко применялся схематизированный растительный и животный орнамент. Фигуры животных (птиц, зверей, например лани и др.) многократно повторяются на протяжении отдельных полос орнамента, придавая изображению ясный, хотя и однообразный ритмический строй.
Важной особенностью более поздних дипилонских ваз (8 в. до н.э.) является введение в узор примитивных сюжетных изображений со схематизированными, сведенными почти к геометрическому знаку фигурами людей. Эти сюжетные мотивы очень разнообразны (обряд оплакивания умершего, состязание колесниц, плывущие суда и т. п.). При всей своей схематичности и примитивности фигуры людей и особенно животных обладают известной выразительностью в передаче общего характера движения и наглядностью рассказа. Если по сравнению с росписями крито-микенских ваз изображения на дипилонских вазах более грубы и примитивны, то по отношению к искусству доклассового общества они безусловно знаменуют шаг вперед.
Скульптура гомеровского времени дошла до нас лишь в виде мелкой пластики, большей частью явно культового характера. Эти небольшие статуэтки, изображающие богов или героев, делались из терракоты, слоновой кости или бронзы. Найденные в Беотии терракотовые статуэтки, сплошь покрытые орнаментом, отличаются примитивностью и нерасчлененностью форм; отдельные части тела едва намечены, другие непомерно выделены. Такова, например, фигура сидящей богини с ребенком: ее ноги слиты с сиденьем (троном или скамьей), нос огромен и подобен клюву, передача анатомического строения тела совершенно не интересует мастера.

113 а. Конь. Геракл и кентавр. Бронзовые статуэтки из Олимпии. 8 в. до н. э. Нью-Йорк. Метрополитен-музей.
Наряду с терракотовыми статуэтками существовали и бронзовые. «Геракл и кентавр» и «Конь», найденные в Олимпии и относящиеся к концу гомеровского периода, дают очень наглядное представление о наивной примитивности и схематизме этой мелкой бронзовой пластики, предназначавшейся для посвящений богам. Статуэтка так называемого «Аполлона» из Беотии (8 в. до н.э.) своими вытянутыми пропорциями и общим построением фигуры напоминает изображения человека в крито-микенском искусстве, но резко отличается от них фронтальной застылостью и схематической условностью передачи лица и тела.
Монументальная скульптура гомеровской Греции до нашего времени не дошла. О ее характере можно судить по описаниям древних авторов. Основным видом Этой скульптуры были так называемые ксоаны — идолы, выполненные из дерева или камня и представлявшие собой, повидимому, грубо обработанный ствол дерева или блок камня, завершенный еле намеченным изображением головы и черт лица. Некоторое понятие об этой скульптуре могут дать геометрически упрощенные бронзовые изображения богов, найденные при раскопках храма в Дреросе на Крите, построенного в 8 в. до н.э. дорийцами, уже задолго до того поселившимися на этом острове.

113 6. Пахарь. Терракота из Беотии. 8 в. до н. э. Париж. Лувр.
Чертами более живого отношения к реальному миру обладают лишь некоторые терракотовые статуэтки из Беотии, относящиеся к 8 в., как, например, статуэтка, изображающая крестьянина с плутом; несмотря на наивность решения, эта группа сравнительно более правдива по мотиву движения и менее связана неподвижностью и условностью искусства гомеровского периода. В такого рода изображениях можно видеть некоторую параллель созданному в то же время эпосу Гесиода, воспевающему крестьянский труд, хотя и здесь изобразительное искусство выглядит очень сильно отставшим от литературы.
К 8 в., а возможно еще и к 9 в. до н.э., относятся и древнейшие остатки памятников ранней греческой архитектуры (храм Артемиды Орфии в Спарте, храм в Термосе в Этолии, упоминавшийся храм в Дреросе на Крите). В них использовались некоторые традиции микенской архитектуры, главным образом общий план, подобный мегарону; очаг-жертвенник помещался внутри храма; на фасаде, как и в мегароне, ставились две колонны. Наиболее древние из этих сооружений имели стены из сырцового кирпича и деревянного каркаса, поставленные на каменном цоколе. Сохранились остатки керамической облицовки верхних частей храма. В целом архитектура Греции в гомеровский период находилась на начальной ступени своего развития.
Искусство Греческой архаики
В период архаики (7 — 6 вв. до н.э.) греческое искусство далеко ушло от примитивных форм искусства гомеровского периода. Оно стало несравненно сложнее и, что самое главное, вступило на путь реалистического развития, с трудом преодолевая устойчивую косность давно сложившихся условных форм и борясь с ней. Прогрессивные завоевания и открытия в искусстве периода архаики неодинаково осуществлялись в разных областях искусства; всего больше их было в архитектуре и вазовой живописи, относительно меньше — в скульптуре, еще во многом скованной консервативными культовыми традициями.
Сложность и противоречивость искусства периода архаики объяснялись переходным характером этого исторического этапа в развитии греческого общества.
Власть главы племени, басилевса, еще в 8 в. до н.э. была сильно ограничена господством родовой аристократии — эвпатридов, сосредоточивших в своих руках богатства, землю, рабов, — а затем, в 7 в. до н.э., исчезла вовсе. Разложение старых первобытно-общинных отношений, имущественное неравенство, как и все шире применявшийся рабский труд, привели к сложению в Греции рабовладельческого строя. Развитие торговли и ремесел вызвало расцвет городской жизни и временный рост наряду с рабским и свободного труда, а вместе с ним — демоса, то есть массы свободных граждан полиса, противостоявшей старой родовой аристократии.
Период архаики стал временем ожесточенной классовой борьбы между старой родовой знатью — эвпатридами и народом — демосом, то есть массой свободных членов общины. Демос состоял из нескольких социальных групп (земледельцы, ремесленники, купцы и т. д.); интересы их не всегда совпадали, но эвпатриды были враждебны всем им. Поэтому, хотя формы перехода греческих общин к рабовладельческому строю были различны, наиболее важной и типичной для этого времени была борьба демоса против эвпатридов. Эвпатриды стремились к закабалению свободных общинников, что могло повести развитие греческого общества по пути, в какой-то мере напоминающему путь развития восточных рабовладельческих деспотий. Не случайно поэтому в процессе формирования греческого искусства в 7 и 6 вв. до н.э. встречались произведения, близкие по духу древневосточному искусству.
Значительное влияние древневосточных культур на искусство архаики объяснялось в основном тем, что художники складывавшегося в Греции рабовладельческого общества, решая стоявшие перед ними задачи, широко пользовались опытом и дости-. жениями в области искусства более древних культур рабовладельческого Востока. Вместе с тем по мере того как становилось все более ясным, что путь сложения рабовладельческого общества в Греции существенно отличается от Востока, все ярче выступало и своеобразие путей художественного развития Древней Греции. Восточные влияния, таким образом, отходили на второй план, и собственно античные черты определили характер наиболее передовых и типических явлений в искусстве архаики.
Победа, полная или частичная, широкой массы свободных крестьян, ремесленников, купцов и мореплавателей и ликвидация старых родовых учреждений привели к утверждению собственно античного варианта рабовладельческого общества.
В течение 7 — 6 вв. до н.э. широко раздвинулись границы распространения греческих поселений. Недостаточная плодородность земли приросте населения на материке и островах Греции, развитие морской торговли и в особенности обострение социальных противоречий в городах-государствах привели к образованию греческих колоний по отдаленным берегам Средиземного и Черного морей. Особенно большое значение в дальнейшей, истории древнегреческой культуры имели греческие поселения в Южной Италии и Сицилии (так называемая Великая Греция).
Период архаики был периодом создания греческого рабовладельческого общества и государства и сложения многих важных сторон греческой культуры и искусства. Это был период бурного развития общества, период роста его материальных и духовных богатств.
История архаического искусства в основном была историей преодоления старой художественной культуры родового общества и постепенной подготовки принципов реалистического искусства рабовладельческого полиса, которое утвердилось в дальнейшем, в 5 в. до н.э., после разгрома эвпатридов.
Именно в период архаики складывается система архитектурных ордеров, которая легла в основу всего дальнейшего развития античной архитектуры. В это же время расцветает повествовательная сюжетная вазопись и постепенно намечается путь к изображению в скульптуре прекрасного, гармонически развитого человека. От древнейшего периода культуру архаики отличают также возникновение и расцвет лирической поэзии, чрезвычайно важной для сложения греческого реализма, появление которой связано с выделением личности из рода и интересом к миру личных чувств человека.
Искусство архаики отличается большим своеобразием и обладает при всех его существенных ограниченных чертах своими собственными художественными достоинствами.
В целом изобразительные искусства периода архаики несли в себе еще очень много условности и схематизма. Реалистические черты, возникавшие в архаическом искусстве, не получали последовательно реалистического художественного обобщения. Композиция еще имела условный характер, в особенности групповая: изображение события сводилось нередко к символическому сопоставлению фигур, либо — в вазописи и рельефе — к ряду отдельных изображений, часто не связанных единством действия, а иногда даже и единством места и времени. Вместе с тем многообразные античные мифы и сказания впервые стали предметом широкого отражения в изобразительных искусствах. К концу периода архаики в искусство все чаще стали проникать и темы, взятые из реальной действительности.
К концу 6 в. новые, классические тенденции начинают приходить во все большее противоречие с методами и принципами архаического искусства. Хотя племенные различия давали еще о себе знать в греческом искусстве периода архаики, борьба передовых сил в архаическом искусстве с течениями, им враждебными, происходила во всех местных школах Греции и была важнее и существеннее различий между дорической и ионической школами, хотя эти различия были вполне отчетливыми и довольно значительными.
Ионическое (или ионийское) искусство по преимуществу было связано с культурой торговых полисов островной и малоазийской Греции, большинство которых было населено ионийской группой греческих племен; в целом это искусство отличалось большим изяществом, декоративной утонченностью, интересом к передаче движения. Дорическое (или дорийское) направление было связано главным образом с областями материковой Греции, преимущественно населенной дорийцами. Дорические мастера особенно настойчиво разрабатывали задачи создания монументального героического искусства; их заслуга заключалась прежде всего в правдивой передаче человеческого тела и его пропорций.
Особое место в искусстве эпохи архаики заняла аттическая школа. В ней с наибольшей полнотой выразились прогрессивные стороны искусства архаики, особенно в конце архаического периода.
В архитектуре архаики проявились с наибольшей силой прогрессивные тенденции искусства этого времени. Уже в глубокой древности искусство Греции создало новый тип здания, ставший в ходе веков ярким отражением идей демоса, то есть свободных граждан города-государства.
Таким зданием был греческий храм, принципиальное отличие которого от храмов Древнего Востока заключалось в том, что он являлся центром важнейших событий общественной жизни граждан города-государства. Храм был хранилищем общественной казны и художественных сокровищ, площадь перед ним была местом собраний и празднеств. Храм воплощал идею единства, величия и совершенства города-государства, незыблемость его общественного уклада.
Архитектурные формы греческого храма сложились не сразу и в период архаики претерпели длительную эволюцию. Однако в искусстве архаики была уже в основном создана продуманная, ясная и вместе с тем очень разнообразно применявшаяся система архитектурных форм, которая легла в основу всего дальнейшего развития греческого зодчества.
Времена, когда храм был родовым или царским святилищем, ушли в далекое прошлое. Уже в 7 в. до н.э. жертвенник окончательно был вынесен из здания храма на площадь перед ним. Это было вызвано тем, что храм и площадь перед ним стали центром массовых народных процессий и празднеств, объединявших всех свободных граждан города. В эпоху архаики были опыты создания огромных храмов, в которых могли бы поместиться большие массы народа, но чаще всего греческие храмы были сравнительно с сооружениями Древнего Востока не слишком велики и не подавляли человека своими размерами.
Являясь воплощением гражданского единства города-государства, храм ставился в центре акрополя или городской площади, получая наглядно подчеркнутое господство в архитектурном ансамбле города. Поэтому, хотя в старых священных местах (как, например, в Дельфах), часто находившихся на далеком расстоянии от городов, и сооружались новые более совершенные храмы, самый тип храма развивался, разрешая задачу создания архитектурного центра общественной жизни, способного ясно выразить духовный и гражданский строй города-государства. Ясность и простота основных архитектурных форм храма и их художественное совершенство, доступное и близкое народу, приобретали особое значение.
Общественный смысл и чисто земной, человеческий характер греческого храма не менялся оттого, что он посвящался богу — покровителю города: развитие самой греческой религии шло ко все более решительному очеловечению ее образов. Храм, посвященный богу, был всегда обращен главным фасадом на восток, храмы, посвящавшиеся обожествленным после смерти героям, обращались на запад, в сторону царства мертвых.
Простейшим и древнейшим типом каменного архаического храма был так называемый «храм в антах». Он состоял из одного небольшого помещения — наоса, открытого на восток. На его фасаде, между антами, то есть выступами боковых стен, были помещены две колонны. Всем этим «храм в антах» был близок к древнему мегарону. В качестве главного сооружения полиса «храм в антах» был мало пригоден: он был очень замкнут и рассчитан на восприятие только с фасада. Поэтому он позднее, особенно в 6 в. до н.э., использовался чаще всего для небольших сооружений (например, сокровищниц в Дельфах).

114 6. Сокровищница афинян в Дельфах. Конец 6 в. до н. э.
Более совершенным типом храма был простиль, на переднем фасаде которого были размещены четыре колонны. В амфипростиле колоннада украшала как передний, так и задний фасад, где был вход в сокровищницу.
Классическим типом греческого храма стал периптер, то есть храм, имевший прямоугольную форму и окруженный со всех четырех сторон колоннадой. Периптер в основных чертах сложился уже во второй половине 7 в. до н.э. Дальнейшее развитие храмовой архитектуры шло главным образом по линии совершенствования системы конструкций и пропорций периптера.
Создание периптера позволило свободно помещать здание в пространстве и придало всему строю храма торжественную строгую простоту.
Основные элементы конструкции периптера также очень просты и глубоко народны по своему происхождению. В своих истоках конструкция греческого храма восходит к деревянному зодчеству с глинобитными стенами. Отсюда идет двускатная крыша и (впоследствии каменные) балочные перекрытия; колонны тоже восходят к деревянным столбам. Но это не значит, что конструкция греческих храмов являлась механическим перенесением деревянных конструкций в каменное зодчество. Архитекторы Древней Греции хорошо понимали и учитывали конструктивные свойства строительных материалов. Вместе с тем они стремились подчеркнуть и развить художественные возможности, скрытые в самой конструкции здания. В результате этой работы сложилась ясная и цельная художественно осмысленная архитектурная система, которая позднее, у римлян, получила название ордера (что означает порядок, строй). Применительно к греческому зодчеству слово ордер подразумевает в широком смысле этого слова весь образный и конструктивный строй греческой архитектуры, главным образом храма, но чаще имеет в виду только порядок соотношения и расположения колонн и лежащего на них антаблемента (перекрытия).
Эстетическая выразительность ордерной системы была основана на целесообразной гармонии соотношения частей, образующих единое целое, и на ощущении упругого, живого равновесия несущих и несомых частей. Даже совсем незначительные изменения пропорций и масштабов ордера давали возможность свободно видоизменять весь художественный строй здания.
В эпоху архаики греческий ордер сложился в двух вариантах — дорическом и ионическом. Это соответствовало и двум основным местным школам в искусстве.
Дорический ордер, по мнению греков, воплощал идею мужественности, то есть гармонию силы и торжественной строгости. Ионический ордер, наоборот, был легок, строен и наряден; когда в ионическом ордере колонны заменялись кариатидами, то не случайно ставились именно изящные и нарядные женские фигуры.
Греческая ордерная система не являлась отвлеченным трафаретом, механически повторяющимся в каждом очередном решении. Ордер был именно общей системой правил, исходящих из общего метода решения. Само же решение всегда носило творческий, индивидуальный характер и сообразовывалось не только с конкретными задачами и целями строительства, но и с окружающей природой, а в период классики — и с другими зданиями архитектурного ансамбля. Каждый храм был создан именно для данных условий, для данного места. Отсюда то ощущение художественной неповторимости, которое вызывают в зрителе греческие храмы.
Все эти замечательные качества и особенности греческой архитектуры получили свое полное развитие лишь в период классики, в 5 — 4 вв. до н.э.) но были подготовлены в значительной мере уже в архаический период.
Дорический храм-периптер был отделен от земли каменным основанием — стереобатом, который был несколько шире колоннады храма и обычно состоял из трех массивных ступеней, шедших вдоль всех четырех фасадов. Верхняя ступень и вся верхняя поверхность стереобата, или стилобат, служила как бы постаментом для храма. В наос, то есть прямоугольное помещение, из которого состоял собственно храм, свет проникал или через световые люки в потолке, или через двери. Вход в наос помещался за колоннадой со стороны главного фасада и был оформлен пронаосом, напоминающим по конструкции портик «храма в антах». Иногда кроме наоса существовал еще опистодом — помещение, находившееся позади наоса, с выходом в сторону заднего фасада.
Наос (с пронаосом и опистодомом) был со всех сторон окружен колоннадой, называвшейся «птерон» («крыло»). Колоннада периптера (то есть храма, «со всех сторон окрыленного»), возвышаясь над горизонталью стилобата, поддерживала перекрытие (опорные балки и карниз), над которым поднималась кровля, покрытая черепицей или мраморными плитками. Внутри наоса было прохладно, царил легкий сумрак. Оживленная игра света и тени в колоннаде создавала переход от яркого света дня к сумраку наоса. Стоявший на стереобате храм создавал у зрителя своей упругой и мощной колоннадой, держащей тяжелое перекрытие, впечатление ясного и гармонического равновесия сил.
Колонна была важнейшей частью ордера, так как она являлась основной несущей частью (см.рисунок). Колонна дорического ордера опиралась непосредственно на стилобат; ее пропорции в архаический период были обычно приземистыми и мощными (высота равна 4 — 6 нижним диаметрам). Дорическая колонна состояла из ствола, заканчивавшегося вверху капителью. Ствол был прорезан рядом продольных желобов — каннелюр; они шли вдоль всего ствола колонны и игрой света и тени подчеркивали ее объемность, а также усиливали общий вертикальный строй всей колоннады. Колонны дорического ордера не были геометрически точными цилиндрами. Кроме общего сужения кверху они имели на высоте одной трети некоторое равномерное утолщение — энтазис, — хорошо заметное на силуэте колонны. Энтазис, подобно напряженным мышцам живого существа, создавал ощущение упругого усилия, с которым колонны несли антаблемент. Дорическая капитель была очень проста; она состояла из эхина — круглой каменной подушки, — и абаки — невысокой каменной плиты, на которую ложилось давление антаблемента.

Пропорциональное соотношение греческих архитектурных ордеров: дорического, ионического и коринфского.
Антаблемент складывался из архитрава, то есть балки, которая лежала непосредственно на колоннах и несла всю тяжесть перекрытия, фриза и карниза. Архитрав дорического ордера был гладким. Дорический фриз состоял из триглифов и метоп. Триглифы по своему происхождению восходили к выступающим торцам балок; они разделялись на три полосы вертикальными желобками. Метопы были прямоугольными плитами, когда-то, в 8 — 7 вв. до н.э., керамическими, а затем, с 7 в. до н.э. — каменными; они заполняли промежутки между триглифами. Карниз завершал антаблемент.
Треугольники, образованные на переднем и заднем, фасадах — под двускатной крышей, — назывались фронтонами. Конек крыши и ее углы венчались скульптурными (обычно керамическими) украшениями, так называемыми акротериями. Фронтоны и метопы заполнялись скульптурой.
Колонна ионического ордера легка и стройна, она выше и тоньше по своим пропорциям, чем дорическая колонна, ее высота равна 8 — 10 нижним диаметрам. Ионическая колонна имела базу, из которой она словно вырастала кверху. Каннелюры, в дорической колонне сходившиеся под углом, в ионической колонне разделены плоскими срезами граней. От этого количество вертикальных линий как бы удваивалось, что сообщало колонне особенную легкость. Благодаря тому что желобки в ионической колонне были врезаны глубже, игра света и тени на ней была богаче и живописнее.
Капитель ионического ордера имела эхин, образующий два изящных завитка — волюты. Из-за волют капители угловых колонн требовали сложного разрешения. Архитрав ионического ордера был разделен по горизонтали на три полосы, отчего он казался более легким. Фриз шел сплошной лентой вдоль всего антаблемента. Карниз был богато декоративно обработан.
Система дорического ордера в своих основных чертах сложилась уже в 7 в. до н.э. и определила собой главную линию развития греческого зодчества на Пелопоннесе и в Великой Греции (то есть Сицилии и Южной Италии). Ионический ордер сложился к концу 7 в. до н.э. Он получил развитие прежде всего в малоазийской и островной Греции, в богатых торговых городах, близко соприкасавшихся с культурой Востока.
Позднее, уже в эпоху классики, получил развитие третий ордер — коринфский, — близкий к ионическому и отличавшийся от него главным образом тем, что в нем колонны, несколько более вытянутые по пропорциям (высота колонны доходит до 12 нижних диаметров), были увенчаны пышной и сложной корзинообразной капителью, составленной из растительного орнамента — стилизованных листьев аканфа — и завитков (волют).
Для эволюции архаических дорических храмов характерен переход от тяжеловесных и приземистых пропорций к пропорциям более стройным и гармонически ясным.
Более ранние храмы нередко имели слишком грузные капители или слишком короткие стволы колонн; соотношение количества колонн на длинных и торцовых сторонах часто было таким, что храм оказывался чрезмерно вытянутым в длину; иногда на фасаде ставилось нечетное число колонн, что не давало возможности выделить главный вход и сделать его главной осью композиции. Постепенно все такие недостатки исчезали.
Одним из древнейших дорических храмов был храм Геры (Герайон) в Олимпии (7 в. до н.э.); сохранившиеся остатки этого храма дают ясное и наглядное представление как о плане храма, так и об общем расположени и соотношении частей архаического дорического периптера.

114 а. Храм Геры (Герайон) в Олимпии 7 в. до н. э.
Много дорических храмов было построено в архаический период в Великой Греции. Наиболее известны развалины храмов в Селинунте и так называемая «Базилика» в Пестуме. В «Базилике» подчеркнута прежде всего мощь и устойчивая сила сооружения; гармония пропорций в ней отсутствует, особенно из-за слишком вздутого энтазиса.

115. Храм Аполлона в Коринфе. Конец 6 в. до н. э.
Одним из наиболее совершенных сооружений поздней архаики был храм Аполлона в Коринфе (на Пелопоннесе). Его план такасе еще несколько удлинен (на фасадах 6 колонн, на длинных сторонах — 15); крепкие и тяжелые колонны поставлены довольно часто. Но в этом храме на первый план уже выступает ясность и гармоничность пропорций, общая монументальная строгость и сила архитектурных форм.
Храм Аполлона в Коринфе, построенный во второй половине 6 в. до н.э., является произведением зрелого мастерства. Его следует рассматривать как непосредственного предшественника замечательных храмов классического периода. В нем уже с очень большой художественной полнотой выражено нравственное величие и гармония рождающейся новой, демократической художественной культуры Греции. Если в лирике 7 — 6 вв. до н.э. (у Алкея или у Сафо) нашла свое художественное утверждение сила и красота пробудившихся чувств и переживаний человека — гражданина города-государства, то в архитектуре нашли свое выражение идеи величия и красоты родного полиса и единства его наиболее передовых демократических сил.
В архаической архитектуре как ионического, так и дорического ордера, строившейся из известняка, нашла широкое применив яркая раскраска. Основным было чаще всего сочетание красного и синего цветов. Раскрашивались тимпаны фронтонов (то есть их треугольное поле под двускатной крышей) и фоны метоп, триглифы и некоторые другие детали антаблемента. Раскрашивалась и скульптура, украшавшая архаические храмы. Раскраска повышала ощущение праздничности облика архитектуры и, кроме того, особенно в дорическом ордере, подчеркивала архитектонику его частей.
Ионическая архитектура, в целом развивавшаяся в архаический период в том же направлении, что и дорическая, отличалась от нее большим богатством декорации, большим изяществом и легкостью. Даже старому типу храма «в антах» ионический ордер придал необычайно нарядный облик; так строились еще в 6 в. до н.э. небольшие здания, окружавшие главный храм, например, сокровищница сифнийцев в Дельфах с фигурами празднично одетых девушек (кор) вместо колонн.
Храмы Ионии, то есть городов побережья Малой Азии и островов, отличались особенно большими размерами и роскошью убранства. В этом сказалась тесная связь городов-государств малоазийской Греции с культурой Востока. Храмы эти оказались в стороне от основной линии развития греческой архитектуры. Архитектура греческой классики широко разработала все лучшие стороны ионического ордера, но осталась чуждой пышной роскоши этих грандиозных храмов архаической Ионии; эта черта ионической архитектуры получила свое дальнейшее развитие лишь в период эллинизма.
Из архаических храмов Ионии наибольшей известностью пользовался первый храм Артемиды в Эфесе, законченный постройкой во второй половине 6 в. до н.э. и достигавший более 100 м в длину. Храм этот был не периптером, а диптером — его колоннада была двойной. Глубокий пронаос состоял из четырех рядов колонн, по две в каждом ряду. Колонны на западном и восточном фасадах опирались на барабаны, украшенные скульптурными рельефами.

Храм Артемиды в Эфесе. Реконструкция.
По сравнению с дорическими периптерами храм Артемиды в ЭФесе поражал своей величиной и великолепием, богатой игрой светотени и сложным ритмом сменяющихся рядов колонн, но ему недоставало строгой соразмерности и ясной простоты, присущей дорическим храмам поздней архаики. Именно строители дорических храмов с наибольшей полнотой выразили передовые художественные идеи своего времени, и в дальнейшем выработанный ими продуманный и строгий тип периптера разрабатывался и совершенствовался в качестве ведущего типа архитектурного сооружения в период классики.
Период архаики был периодом расцвета художественных ремесел. Потребность в изделиях прикладного искусства вызывалась ростом благосостояния значительной части свободного населения и развитием заморской торговли. Особенно высокого расцвета достигла греческая керамика.
Греческие вазы служили для самых разнообразных целей и потребностей. Они были очень разнообразны по форме и размерам. Обычно вазы покрывались художественной росписью. Лучшие произведения мастеров архаической вазописи были подлинными художественными созданиями, и, видимо, сами мастера относились к ним со всей серьезностью и ответственностью. Не случайно поэтому многие вазы носят подпись создавшего их мастера, а иногда и двух — горшечника и художника. ЭТО5 кстати, указывает на выросшее чувство ценности личности и ее дарований. Конечно, художественно выполненные и богато расписанные вазы не были предназначены для повседневных бытовых нужд. И все же расцвет вазописи тесно связан с творческим отношением ремесленника к своему труду и с его глубоким пониманием единства практической и эстетической ценности вещи, которое так свойственно народному искусству.
В 7 и особенно в 6 в. до н. э. сложилась довольно стройная, хотя и допускающая отдельные вариации система постоянных форм ваз, имевших разное назначение. Так, амфора предназначалась для хранения вина и масла; кратер — для смешивания (во время пИра) воды с вином; из килика пили вино; в стройном лекифе хранились благовония для возлияний на могилах умерших. По сравнению с керамикой гомеровского периода формы и пропорции ваз стали строже и красивее. Своим ясным, тонко почувствованным ритмом, соразмерностью всех частей греческие вазы превзошли сосуды и Древнего Египта и Эгейского мира. Размещение рисунков на вазах и их композиционный строй были тесно связаны с формой вазы.
Эволюция вазовых росписей шла от схематичных и отвлеченно-декоративных изображений к композициям развернуто сюжетного характера, наглядно повествующим о действиях и поступках изображенных героев. Смелые реалистические искания художников-вазописцев часто опережали развитие скульптуры.

116 а. Коринфская ваза. Конец 7 —начало 6 в. до н. э. Париж. Лувр.
Во времена ранней архаики (7 в. до н.э.) в греческой вазописи господствовал так называемый «ориентадизирующий» (то есть подражающий Востоку) стиль. Центрами этого направления были торговые города островной и малоазийской Греции, а также Коринф. Вазы с островов Мелоса, Родоса и из Коринфа отличались нарядностью росписи, носившей в основном декоративный характер. Росписи эти выполнялись коричневой краской нескольких тонов, от почти красного до буровато-коричневого. Целый ряд мотивов орнамента благодаря торговым и культурным связям был заимствован с Востока. Художники этих ваз соединяли в одной композиции схематичные изображения человека, животных или фантастических существ с чисто орнаментальными мотивами, стремясь заполнить все поле композиции, не оставляя пустых мест, и этим создать впечатление декоративного целого. Принципиальной разницы между изображением людей и орнаментом мастер не видел.
В 6 в. до н.э. на смену ориентализирующему стилю пришла так называемая чернофигурная вазопись, зародившаяся еще в 7 в. Узорный орнамент был вытеснен четким силуэтным рисунком, характеризующим общий облик фигуры и более или менее выразительно передающим жест и движение. Рисунки людей и животных заливались черным лаком и отчетливо выделялись на красноватом фоне обожженной глины; иногда добавлялись белый цвет и процарапывание узора одежды, волос и т. п. по поверхности лака. Последовательно проходившая перед зрителем вереница фигур развертывала ясную и понятную ленту повествования.
Так, на одном коринфском кратере середины 6 в. до н.э. изображен бег колесниц, медные треножники, предназначенные в награду победителю, и зрители, приветствующие победителей.
Наибольшего расцвета чернофигурная вазопись достигла в Аттике. Название одного, из предместий Афин, славившегося в 6 и 5 вв. до н.э. своими гончарами, — Керамик — превратилось в название изделий из обожженной глины.

116 6. Кратер Клития и Эрготима (Ваза Франсуа). Около 560 г. до н. э. Флоренция. Археологический музей.
Кратер Клития, выполненный в мастерской Эрготима около 560 г. до н.э. (так называемая «Ваза Франсуа»), может дать представление обо всем изобразительном богатстве чернофигурной вазописи. Рисунок на огромном кратере разбит на ряд поясов. Большинство из них носит конкретный сюжетный характер и посвящено рассказам о целом ряде событий (охота на каледонского вепря, состязание колесниц и т. п.). Центральную часть занимает изображение бракосочетания родителей Ахилла — Пелея и Фетиды. Ниже изображен Ахилл, преследующий Троила; самый нижний ряд заполнен изображениями животных и чудовищ. Человеческие фигуры лишены какой-либо индивидуальной характеристики: они плоскостны, и их движения резки и угловаты; животные (особенно лошади) точнее по рисунку, изящнее и живее. Каждая полоса в отдельности дает затейливый ритмический узор и вместе с тем наглядный рассказ, изобилующий подробностями; оформление вазы в целом представляет собой явный пример перехода от «коврового» заполнения всей поверхности вазы к более строгой композиционной архитектонике.
Крупнейшим аттическим вазописцем середины 6 в. до н.э. (550 — 530), с наибольшей силой раскрывшим все живые и прогрессивные стороны чернофигурной вазописи, был Эксекий. В его руках мифологические сказания и эпизоды из гомеровского эпоса превратились в выразительные сцены, хотя он сохранил еще ограниченные стороны силуэтного рисунка. Таков, например, рисунок на амфоре, изображающий Аякса и Ахилла, играющих в кости; их восклицания написаны тут же, рядом с фигурами.

117 а. Эксекии. Дионис в ладье. Роспись килика. После 540 г. до н. э. Мюнхен. Музей античного прикладного искусства.
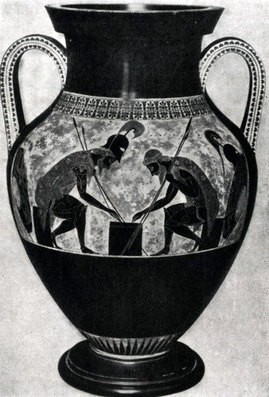
117 6. Эксекий. Аякс и Ахилл, играющие в кости. Роспись амфоры. Около 530 г. до н. э. Рим. Ватикан.
Представление о высоком мастерстве Эксекия дает изображение Диониса в ладье (роспись дна килика), отличающееся тонким чувством ритма и мастерством композиции. Изображен миф о Дионисе — о его чудесном спасении от морских разбойников, которых он превратил в дельфинов. Удлиненные и изогнутые силуэты корабля и дельфинов великолепно вписаны в круг. Разбросанные по полю композиции дельфины с выгнутыми спинами создают полную беспокойного движения игру линий, напоминающую о плеске волн. Большая по сравнению с ними ладья со стремительно выгнутой линией борта, с наполненным ветром парусом как бы плавно скользит по поверхности моря. Прихотливый узор виноградной лозы, выросшей на мачте, венчает композицию.
Если килик Эксекия поражет утонченной поэзией и глубоким пониманием гармонии композиции, то росписи Андокида (третья четверть 6 в. до н.э.) замечательны смелым введением в силуэтную чернофигурную вазопись обильных реалистических мотивов, вступающих норой в противоречие с приемами плоскостной архаической вазописи. Хорошее представление о творчестве Андокида может дать амфора, выполненная в его мастерской, с изображением Геракла и Цербера (Музей изобразительных искусств имени Пушкина). Следует отметить живое движение Геракла, ставшего на одно колено и приманивающего Цербера.
Росписи поздних чернофигурных ваз дали впервые в греческом искусстве образцы многофигурной композиции, в которой все действующие лица находились в реальной взаимосвязи, диктуемой характером события.
По мере дальнейшего нарастания реализма в греческом искусстве в вазописи наметилась тенденция к преодолению плоскостности и условности, заложенной во всей художественной системе чернофигурной вазописи. Это привело около 530 г. до н.э. к целому перевороту в технике вазовой росписи — к переходу к так называемой краснофигурной вазописи со светлыми фигурами на черном фоне. Законченные образцы новой техники были созданы в мастерской Андокида, но в полную меру все художественные возможности краснофигурной вазописи были раскрыты уже в период классического искусства.
Таким образом, в вазописи, как и в архитектуре, к концу архаического периода получили исключительно важное значение реалистические тенденции, во многом подготовившие победу реализма в искусстве Греции эпохи классики.
Гораздо более противоречивым было развитие архаической скульптуры.
Почти до самого конца архаического периода — до середины 6 в. до н.э. создавались строго фронтальные и неподвижные статуи богов, словно застывшихв торжественном покое. На этих статуях, несших в себе сковывающие и далекие от жизни древние традиции, лежала печать канонической схемы, не позволявшей художникам нарушать правила, установившиеся для изготовления такого рода культовой скульптуры. В отвлеченности и даже иногда геометризме форм сказывались приемы, идущие еще от искусства гомеровского периода.
К такому типу статуй относятся «Артемида» с острова Делоса, «Гера» с острова Самоса, «Богиня с гранатовым яблоком» Берлинского музея.

118 а. Артемида Делосская. Мрамор. Около 650 г. до н. э. Афины. Национальный музей.
«Артемида» с острова Делоса (7 в. до н.э.), принесенная в дар богине некоей Никандрой (как следует из надписи на статуе), представляет собой почти нерасчлененный каменный блок со слабо намеченными формами тела. Голова поставлена прямо, волосы симметрично падают на плечи, руки опущены вдоль тела, Ступни ног кажутся механически приставленными к глыбообразной массе длинной одежды. Происхождение такой статуи от примитивного древнего ксоана не вызывает сомнений, и новым здесь является лишь некоторое стремление к правильной пропорциональности человеческой фигуры.

118 6. Гера Самосская. Мрамор. Около 560 г. до н. э. Париж. Лувр.
Что в данном случае нельзя говорить только о неумении изобразить человеческую фигуру или о недостатке мастерства, ясно видно на примере статуи «Геры» с острова Самоса (первая половина 6 в. до н.э.), сделанной примерно через сто лет после предыдущей. Художник, создавший эту статую, . очень хорошо передал различные ткани — тяжелой верхней и тонкой нижней одежды, тщательно изобразил складки, несомненно правильно установил пропорции Этой женской фигуры. Однако статуя напоминает скорее ствол дерева, а не живое человеческое тело; она кажется скованнее и мертвеннее, чем самые условные из египетских статуй. По сравнению с искусством гомеровского периода здесь есть, конечно, много нового и прежде всего — строгая, ясная пропорциональность и объемность фигуры. Но подлинно реалистических задач такое искусство еще не ставит: задачей художника было создать торжественное, застывшее изваяние, предмет культа, священный и таинственный образ божества.
В статуе «Богини с гранатовым яблоком» (6 в. до н.э.) сохранилась, в противоположность статуе «Геры», голова, лишенная, как и вся статуя, живого выражения. От этого лишь нагляднее становится общий условный характер такого рода религиозной скульптуры, близко напоминающий аналогичное искусство Древнего Востока. Но складки одежды, симметричными изгибающимися линиями идущие сверху вниз, общая изысканность силуэта и нарядная расцветка придают статуе при всей ее манерности своеобразное чувство праздничности.
«Восточным», ориентализирующим духом отличались сидящие фигуры правителей (архонтов), расставленные вдоль дороги к древнему храму Аполлона (Дидимейону) близ Милета (в Ионии). Эти схематичные, геометрически упрощенные статуи, похожие на каменные глыбы с сухо прочерченными линиями складок одежды, были сделаны очень поздно — в середине 6 в. до н.э. Образы правителей (имя одного из них — Харес — сохранилось в надписи на статуе) трактованы как торжественные культовые изображения. Можно представить себе, что таким могло стать все искусство Греции, если бы в нем не победила передовая гуманистическая и демократическая тенденция художественного развития.
Статуи, созданные художниками этого консервативного и условного направления, нередко были колоссальных размеров, также подражая в этом смысле Древнему Востоку. Такой была, например, несохранившаяся бронзовая статуя Аполлона в Амиклах (6 в. до н.э.), известная по описаниям и изображениям на монетах и достигавшая около 13 м в высоту. Судя по описанию Павсания, этот Аполлон был похож на медную колонну с приставленными к ней головой и руками.
Было бы, однако, совершенно неправильно считать, что в архаической скульптуре господствовало отвлеченное мировоззрение и преобладала мертвая и условная торжественность. Наряду с чуждыми реализму тенденциями, затруднявшими живое развитие искусства, в архаической монументальной скульптуре были тенденции более жизнеспособные и более передовые, и за ними оказалось будущее.
Особенно типичными для периода архаики были прямо стоящие обнаженные статуи героев, или, позднее, воинов, так называемые куросы.
Тип куроса сложился на протяжении 7 и начала 6 в. до н.э. первоначально, повидимому, на Пелопоннесском полуострове. Его появление имело большое прогрессивное значение для дальнейшего развития греческой скульптуры. Самый образ куроса — сильного, мужественного героя или воина — был связан с развитием гражданского самосознания человека; он означал большой шаг вперед по сравнению со старыми художественными идеалами. Связанные сначала с культом героев, эти статуи куросов к 6 в. до н.э. стали связываться с еще более жизненными образами идеальных воинов, — они начали служить надгробиями воинов и ставиться в честь победителей на олимпийских и других состязаниях, которые сами изменили свое первоначальное значение празднеств в честь умершего.
Это выдвижение в качестве героя наряду с богами также и человека — атлета и воина — показывало, что архаическое греческое искусство путем возвеличивания лучших, самых сильных и самых мужественных граждан начало ставить задачи общественного воспитания людей, утверждая передовые этические идеалы своего времени. Хотя в куросах не было никакого индивидуального, портретного характера и никакого определенного переживания, в них явственно ощущался общий дух суровой мужественности и собранной энергии, который сближал строй этих статуй с идейным содержанием ранней дорической архитектуры.
Общее развитие типа куроса шло в сторону все большей верности пропорций, преодоления элементов геометрического упрощения и схематизма, ухода от условной декоративной орнаментальности в трактовке деталей. Однако до самого конца 6 в. до н.э. сохранялся фронтальный и неподвижный строй этих статуй, словно выключавший их из реального пространства, из реальной жизни. Это глубокое противоречие самого типа статуи куроса — между их общественным содержанием и традиционной условностью формы — не могло быть разрешено архаическим искусством. Для этого понадобились радикальные сдвиги и перемены в человеческом сознании, которые произошли после реформ Клисфена и окончания греко-персидских войн. Черты ранней дорической трактовки типа куроса очень наглядно выражены в скульптурной группе Полимеда Аргосского, посвященной легендарным героям — Клеобису и Битону. От этой группы сохранилась лишь одна целая статуя, другая дошла в обломках. Полимед, работавший в Аргосе на Пелопоннесе, — одно из первых исторически достоверных имен мастеров греческого искусства; жил он в первой половине 6 в. до н.э.

119 а. Полимед из Аргоса. Статуя Клеобиса (или Битона) из Дельф. Мрамор. Около 600 г. до н. э. Дельфы. Музей.
Для «Клеобиса» (или Бптона, так как неизвестно, кто из них изображен в сохранившейся статуе) характерна резко и довольно еще грубо подчеркнутая структура человеческого тела; он поставлен строго фронтально и почти симметричен, если не считать того, что его левая нога выдвинута вперед, условно изображая движение фигуры. В этом изображений физически развитого и хорошо подготовленного к борьбе бойца-гоплита его духовные качества (мужественность, сила духа, решимость и т. п.) показаны еще в самой примитивной и неопределенной форме.

119 6. Аттический курос. Мрамор. Около 600 г. до н. э. Нью-Йорк. Метрополитен-музей.
Другим примером ранней статуи куроса может служить курос Метрополитенского музея в Нью-Йорке, более стройный, но не менее схематичный по своей форме (в особенности это относится к геометризированному и орнаментальному исполнению деталей головы).
К середине 6 в. до н.э. куросы начали становиться более живыми и человечными, мышцы тела стали моделироваться лучше, пропорции стали более правильными. Стремление придать выразительность лицу статуи привело к сложению очень часто повторяющейся в архаической скульптуре схемы так называемой «архаической улыбки». Улыбка эта имела вполне условный характер, но все же она, видимо, должна была выражать состояние той жизнерадостности и уверенности в своих силах, которыми был проникнут весь образный строй статуи. Правда, нередко эта «архаическая улыбка», чрезмерно подчеркнутая и орнаментально трактованная, придает куросам несколько манерный облик (как, например, в так называемом «Аполлоне Тенейском», сделанном в первой половине 6 в. до н.э.).

121 а. Так называемый Аполлон Птойос из святилища Аполлона Птойоса близ Фив. 6 в. до н. э. Мрамор. Афины. Национальный музей.
Так называемый «Аполлон Птойос» (из Беотии) является хорошим образцом куроса времен поздней архаики. Более точная моделировка формы, благородство пропорций и верное чувство строения человеческого тела придают этой статуе несравненно большую жизненную убедительность; ее строгая простота гораздо более соответствует образу героя, чем преувеличенно подчеркнутая физическая сила более ранних куросов. Тем более неоправданной выглядит здесь традиционная схема фронтальной и неподвижной композиции.
В статуях куросов и других произведениях монументальной архаической скульптуры есть несомненная близость к искусству Древнего Египта, которое было известно в Греции и могло служить примером для греческих художников до тех пор, пока новые идейные задачи греческой демократии окончательно не переросли традиции и влияния искусства Древнего Востока.
Сковывающие тенденции условного и отвлеченного решения человеческого образа в архаическом греческом искусстве особенно наглядно проявились в тех скульптурных произведениях, где нужно было изображать движение.

121 6. Архерм. Статуя летящей Ники с острова Делоса. Мрамор. Первая половина 6 в. до н. э. Афины. Национальный музей.
К таким произведениям относилась статуя богини победы — Ники — с острова Делоса, выполненная в первой половине 6 в. до н.э. ионийским (хиосским) мастером Архермом. Эта статуя стояла на высокой колонне; фигура вырисовывалась на фоне неба и была рассчитана только на одну точку зрения — спереди. Ника была изображена летящей; статуя дошла до нас сильно поврежденной, но ее первоначальный вид можно представить себе по сохранившемуся фрагменту. Движение было изображено в полной мере символически: верхняя часть тела дана в фас, как и изогнутые, поднятые вверх крылья, а согнутые в коленях ноги — в профиль, без всякой связи с неподвижным торсом. Орнаментальные завитки волос, условная архаическая улыбка и яркая раскраска довершали общее нарядное декоративное впечатление от этой статуи. Однако ни схема «коленопреклоненного бега» (как был назван археологами этот наивный прием изображения движения), ни общая плоскостность и узорность всей фигуры не передавали реального движения.
Чаще, чем в круглой скульптуре, но большей частью столь же условно изображалось движение и в архаических рельефах 7 в. и первой половины 6 в. до н.э.

120 а. Медуза. Рельеф фронтона храма Артемиды на острове Корфу. Известняк. Около 590 г. до н. э. Корфу. Музей.
Такой характер имел, например, рельеф на фронтоне храма Артемиды на острове Корфу (первая половина 6 в. до н.э.), очень плоскостный и примитивный. В центре Этого фронтона находилась большая фигура летящей горгоны Медузы с двумя симметрично расположенными лежащими пантерами по сторонам от нее; по углам фронтона были изображены битва Зевса с гигантом и сидящая Гея. Таким образом, фронтон этот не был посвящен единому событию, а объединял различные (и данные к тому же в очень разных масштабах) фигуры, связанные лишь общим декоративным замыслом. «Коленопреклоненный бег» Медузы изображал ее полет по той же схеме, что и в «Нике» Архерма.

120 6. Персей, убивающий Медузу. Метопа храма «С» в Селинунте. 7—6 вв. до н. э. Известняк. Палермо. Национальный музей.
Попытки преодолеть чисто внешний, декоративный способ объединения фигур и показать их взаимную связь через единство действия все же были. Такие попытки видны в рельефных метопах одного из многочисленных храмов в Селинунте (на острове Сицилии) так называемого храма «С» (первая половина 6 в. до н.э.). Наряду с рельефами, выполненными в совершенно плоскостной декоративной манере («Похищение Европы»), среди метоп этого храма есть и такие, где фигуры объемны и их действиям придана наглядность, хоть и очень наивно выраженная. В рельефе «Персей, убивающий Медузу», Персей, напутствуемый Афиной, настигает убегающую Медузу и отрубает ей голову мечом. Однако и Персей, и Афина, и Медуза, вопреки естественным требованиям сюжетной ситуации, повернуты лицами к зрителю, лишь ноги их поставлены в профиль (а «бег» Медузы изображен по привычной схеме). Лица всех трех фигур совершенно одинаковы. Как в этой метопе, так и в другой, где изображен Геракл, несущий карликов-кекропов, фигуры поставлены строго вертикально, ноги и руки резко согнуты под прямым углом, как бы повторяя углы метопы.
Такой условный прием изображения движения держался долго. Еще в середине 6 в. до н.э. он с необычайной последовательностью был применен в метопе одной из сокровищниц в Дельфах, где были изображены Диоскуры, похищающие быков. Однообразное повторение следующих друг за другом фигур и столь же одинаковых групп идущих «в ногу» быков превращает этот рельеф почти что в орнаментальный узор, украшающий архитектурное сооружение.
Со второй половины 6 в. до н.э. в архаической скульптуре (в том числе и в рельефе) начали яснее и отчетливее выступать реалистические искания. Они явно противоречили тем условным и декоративно-орнаментальным схемам, каких было столь много в ранней архаике. Их появление свидетельствовало о приближении глубоких перемен в общественной жизни и в художественной культуре Греции.
Наиболее передовой из греческих художественных школ поздней архаики стала аттическая школа. Афины, главный город Аттики, уже в позднеархаический период получили значение крупнейшего художественного центра, куда стекались мастера со всех концов Греции.
Произведения аттической школы этого времени отличаются глубоким чувством пластики и объемности человеческого тела; мотивы движения в аттическом архаическом искусстве значительно реальнее, чем в дорическом. Лучшие, наиболее передовые скульпторы Ионии нашли применение своим исканиям именно в Афинах, а не на родине. Сочетание достижений дорической и ионической школ на основе развития местной аттической традиции — характерная особенность искусства Аттики.
Афины были свободны от односторонности развития других, преимущественно земледельческих или преимущественно торговых полисов, и процесс формирования рабовладельческого полиса проходил здесь в наиболее последовательной и органической форме. Особенно большое значение здесь получил демос, уже очень рано ставший чрезвычайно грозным врагом для аристократии. В истории Афин с наибольшей полнотой выразились все характерные черты рабовладельческой демократии полиса и его культуры.
Поэтому уже к концу 6 в. до н.э. искусство аттики становится самым прогрессивным; на основе его реалистических исканий складываются наиболее плодотворные предпосылки перехода к искусству классики.
Очень большая разница между аттической скульптурой первой половины 6 в. до н.э. и скульптурой второй половины века свидетельствует о быстроте развития искусства Афин в архаический период. Найденные на Афинском акрополе фрагменты фронтона первого храма Афины (Гекатомпедона), построенного в первой половине века, говорят о еще очень условном и примитивном характере аттической скульптуры в то время. Эти фрагменты, относящиеся к сцене битвы Зевса с фантастическим трехглавым чудовищем Тифоном, интересны, в частности, тем, что на них очень хорошо сохранилась раскраска. Архаического художника не смущали яркосиняя борода Тифона и красный цвет его лица или сочетание зеленых, желтых и красных волос, покрывающих огромный змеиный хвост чудовища (кстати сказать, очень хорошо заполняющий низкий угол треугольника фронтона).
Во второй половине 6 в. до н.э. наиболее значительные черты аттической школы начали выступать вполне явственно. К этому времени художественная жизнь Афин стала очень интенсивной, что объяснялось подъемом экономической мощи и культуры Аттики.
Одна из фронтонных композиций второго Гекатомпедона в Афинах, который был перестроен из старого, писистратовского, около 530 г. до н.э., изображала битву богов с гигантами и резко отличалась от скульптурной декорации прежнего храма. В ней на смену плоскостной резьбе окончательно пришло пластическое, объемное изображение фигур действующих лиц. Главное внимание мастера было обращено на выразительность движений борющихся тел. Контраст между орнаментальным характером более ранней аттической скульптуры и жизненно конкретными чертами этих новых скульптурных произведений Аттики подучил здесь свое яркое выражение.
Среди фрагментов фронтонных скульптур второго Гекатомпедона особенно жизненно выразительна группа, изображающая Афину, которая повергает на землю гиганта Энкелада. Развертывание фигур в одной плоскости, несколько искусственное и нарочитое, так же как и орнаментальная трактовка волос Афины, напоминает,что эта скульптура еще не разрывает рамок архаического искусства. Но в лице Афины есть уже такая ясная соразмерность и одухотворенность, каких раньше греческое искусство не знало.

122. Голова Афины с фронтона второго Гекатомпедона из группы, изображающей борьбу Афины с гигантом. Мрамор. Вторая половина 6 в. до н. э. Афины. Музей Акрополя.

123. Мосхофор (человек, несущий теленка) с Афинского акрополя. Мрамор. Около 570 г. до н. э. Афины. Музей Акрополя.
Одним из высших достижений архаического искусства Афин конца 6 в. до н.э. были найденные на Акрополе прекрасные статуи девушек (кор) в нарядных одеждах. Эти статуи были созданы не только художниками Афин, но и приезжими ионийскими скульпторами, включившимися в общую работу над украшением выросшего и разбогатевшего города. Среди них особенно выделяются «Девушка в пеп-лосе» и знаменитая статуя девушки, обычно просто называемая «Кора с Акрополя».

124. Девушка в пеплосе. Фрагмент. Мрамор. 540—530 гг. до н. э. Афины. Музей Акрополя.

125. Кора с Акрополя в Афинах. Мрамор. Конец 6 в. до н. э. Афины. Музей Акрополя.
В первой из них особенно хорошо лицо, оживленное ясной, словно немного удивленной улыбкой. Вторая, хорошо сохранившая первоначальную раскраску, отличается верностью и стройностью пропорций, тонкостью и изяществом улыбающегося, хотя и неподвижного лица. Традиционная фронтальность и застылость позы сочетаются здесь с жизненно правдивой передачей всего облика девушки. Тщательно отделанные складки одежды и пряди волос, словно струящиеся и бегущие в мерном и вместе с тем разнообразном ритме, придают этой статуе праздничный и радостный, необычайно жизнеутверждающий строй. Среди всех скульптурных произведений, дошедших до нас от периода архаики, эти акропольские коры несут в себе больше всего предвестий классического искусства. Вместе с тем в них как бы подведены итоги развитию художественного языка архаики. Наивный схематизм искусства гомеровской Греции остался далеко позади, но и пластическая свобода искусства классики оказывалась еще недостижимой. Представление о ценности человека раскрывалось еще в значительной мере косвенно — в праздничном характере целого, в исполненном острого чувства изящного силуэте фигуры.
Живые черты есть и в рельефных изображениях на аттических надгробных плитах или стелах, относящихся к концу 6 и самому началу 5 в. до н.э. Так стела Аристиона дает строгий и спокойный образ гражданина-воина. Аристион изображен в профиль, с копьем в руке. Рельеф очень плоский, но тонкое чувство соотношения планов и несомненное знание строения человеческого тела позволили мастеру достичь достаточно ясной материальности и объемности изображения.
Передовые мастера конца архаики во многих других городах-государствах Греции в целом шли по пути, близкому к достижениям аттической школы и, возможно, иногда под непосредственным воздействием искусства Афин. Так очень близким к принципам аттической школы было найденное в Беотии и выполненное в самом конце 6 или начале 5 в. до н.э. Алксенором, скульптором с о. Наксоса, надгробие, на котором изображен человек, закутанный в длинный плащ (гиматий), стоящий скрестив ноги и опершись на посох; у его ног прыгает собака, стремясь привлечь внимание хозяина. Чувство одухотворенности и жизненной выразительности движения человека подводит эту вещь вплотную к искусству ранней классики. Но вместе с тем некоторый схематизм в моделировке формы и неточности в передаче раккурса, а также столкновение нового реалистического понимания композиции с условностью в трактовке формы говорят о том, что грань, отделяющая искусство архаики от искусства классики, еще не перейдена.

127. Гермес и хариты. Фрагмент рельефа с острова Фасоса. Мрамор. 470—460 гг. до н. э. Париж. Лувр.
Насколько далеко ушло живое развитие аттического искусства конца 6 в. до н.э. наглядно показывает прекрасный рельеф «Гермес и хариты», при всех своих ясно ощущаемых архаических чертах полный необычайно естественного и правдивого движения и чувства.

126. Так называемый «Аполлон из Пьомбино». Бронза. Высота 1,15 м. Около 500 г. до н. э. Париж. Лувр.
Под несомненным воздействием аттического искусства возникли в городах северного Пелопоннеса опыты более живой трактовки традиционных статуй куросов. Сохраняя всю монументальную строгость и фронтальность статуи и стремясь в то же время придать ей некоторое движение, эти пелопоннесские мастера стали отставлять и сгибать одну ногу куроса, сгибать в локте руку и применять другие такие же приемы, придававшие спокойно стоящей фигуре некоторое оживление. Представление об этих исканиях дает бронзовая статуя юноши, сделанная около 500 г. до н.э., — так называемый «Аполлон из Пьомбино», воспроизводящая утраченную статую работы скульптора Канаха, относительно еще очень мало отличающуюся от старого типа куроса и в то же время трогающую своей несомненной живой правдивостью. Как и в «акропольских корах», мы находимся здесь на пороге классического искусства.
Искусство Греческой классики (Начало 5 — середина 4 в. до н.э.)
С первых десятилетий 5 в. до н.э. начался классический период развития греческой культуры и греческого искусства. Для Древней Греции это был период наивысшего расцвета драмы, политического красноречия, архитектуры, скульптуры, монументальной живописи и вазописи. Высоко совершенное, последовательно реалистическое и полное глубокого чувства красоты, искусство греческой классики определило собой новый и наиболее важный этап в развитии всего мирового искусства.
Искусство классики — это искусство греческого города-государства цветущей поры его развития, связанной с победой демократии в Афинах и других греческих полисах. Реформы Клисфена в конце 6 в. до н.э. утвердили в Афинах окончательную победу демоса над аристократией — эвпатридами; в результате этих реформ было сломлено могущество аристократии и заложены основы для быстрого и яркого развития афинской рабовладельческой демократии.
К началу 5 в. до н.э. сложились два наиболее противоположных по своему укладу города-государства Древней Греции: Афины и Спарта. В Афинах наиболее полно выразили себя принципы рабовладельческой демократии, опиравшейся в основном на расцвет ремесла и морской торговли. В земледельческой, отсталой по своему общественному развитию Спарте, самом сильном в военном отношении полисе Греции, получил развитие консервативно-аристократический политический строй, обеспечивший господство сплоченной группы воинов-рабовладельцев — спартиатов — над массой бесправных рабов-земледельцев — илотов.

Аттика (Древняя Греция).
Соперничество и борьба Афин и Спарты определили в дальнейшем пути исторического развития Греции. Но для истории искусства Спарта осталась совершенно бесплодной, не выдвинув ни одного художника в ряды мастеров, создавших искусство греческой классики.
В первой четверти 5 в. до н.э. Греция подверглась нашествию полчищ Персидской державы. Победа народных ополчений объединившихся полисов, защищавших свою независимость от грозного завоевателя, чрезвычайно ускорила рост общественного самосознания эллинов. Это была победа свободной, сознательной демократии над восточной деспотией. Мильтиад — предводитель афинян и их союзников в битве при Марафоне (490 г. до н.э.) — прекрасно выразил в своей речи перед боем тот моральный дух, которым был проникнут каждый афинянин, указав, что только от них самих зависит «или положить на Афины иго рабства, или укрепить свободу». Решающие победы над персами — морская при Саламине (480) и на суше, при Платеях (479) — укрепили сознание силы и значения греческого общества, способствовали утверждению основных принципов его мировоззрения и культуры. Вместе с тем победа над персами благоприятствовала дальнейшему экономическому, расцвету полисов, в особенности Афин.
Центром развития классической эллинской культуры стали в основном Аттика, северный Пелопоннес, острова Эгейского моря и отчасти греческие колонии в Сицилии и Южной Италии — так называемая Великая Греция. Малоазийские города (Милет и др.), хотя и оправились от разгрома, учиненного персами, но уже не могли играть былой ведущей роли в экономической и культурной жизни Греции.
Во время греко-персидских войн начался первый период развития классического искусства — ранняя классика, продолжавшаяся примерно четыре десятилетия (490 — 450 гг. до н.э.). Художники этого времени нашли новые художественные средства для создания монументального искусства, воплотившего в своих образах этические и эстетические идеалы победившей рабовладельческой демократии. Изображение человека во всем богатстве и свободе его действий, поиски обобщенных типических образов, построение реалистической групповой композиции, новое понимание синтеза скульптуры и архитектуры, решительное обращение к сценам из реальной повседневной жизни (особенно в вазописи) стали важнейшими, основными чертами этого периода в развитии классического греческого искусства. Во второй четверти 5 в. до н.э. (то есть в 475 — 450 гг. до н.э.) архаические традиции, тормозившие развитие реалистического искусства (в скульптуре и живописи), были окончательно преодолены, и принципы классики получили свое законченное выражение в творениях таких мастеров, как неизвестные авторы олимпийских фронтонов и особенно знаменитый афинский скульптор Мирон. Мирон старший среди великих мастеров классики, завершил период творческих исканий ранней классики, подготовив греческое искусство к еще большему подъему в последующие годы — к зрелой, или высокой, классике.
Время наивысшего расцвета древнегреческого искусства — в «эпоху Перикла» — продолжалось примерно также четыре десятилетия — с 450 по 410 г. до н.э. Художественные создания периода высокой классики отличались героической величавостью, монументальностью и гармоничностью человеческих образов и одновременно жизненной непринужденностью, естественностью и простотой. В эти годы творили великие мастера греческого искусства — скульпторы Фидий и Поликлет, зодчие Иктин и Калликрат. Произведения этого времени в области архитектуры, скульптуры, вазописи и монументальной живописи являются прекрасными примерами того художественного обаяния, которого может достигнуть искусство, вдохновляемое верой в совершенство человека, воплощающее передовые общественные устремления своей эпохи и верное принципам реализма.
К концу 5 в. до н.э. растущее применение рабского труда начало отрицательно сказываться на процветании свободного труда, вызывая постепенное обнищание рядовых свободных граждан. Разделение Греции на независимые и соперничающие друг с другом полисы начало тормозить дальнейшее развитие рабовладельческого общества. Длительные и тяжелые Пелопоннесские войны (431 — 404гг. до н.э.) между двумя союзами городов, возглавлявшимися Афинами и Спартой, ускорили экономический и политический кризис полисов. Искусство классики к концу 5 — началу 4 в. до н.э. вступило в свой последний, третий, этап развития.
В этот период поздней классики искусство развивалось в условиях кризиса греческого рабовладельческого полиса. Оно в некоторой мере утратило героический, гражданственный характер, ясную гармонию своих монументальных образов. Вместе с тем в искусстве великих мастеров поздней классики разрабатывались новые задачи раскрытия в образах искусства мира внутренних переживаний человека иди бурной, беспокойной человеческой деятельности. Их искусство стало более драматичным и лиричным, более психологически углубленным.
Македонское завоевание во второй половине 4 в. до н.э. положило конец самостоятельному существованию греческих городов-государств. Оно не уничтожило традиции греческой классики, но в целом с этого времени развитие искусства пошло по другим путям.
Искусство ранней классики (Так называемый «строгий штиль» 490 — 450 гг. до н.э.)
Героическая эпоха греко-персидских войн и годы, непосредственно за ними последовавшие, были временем бурного роста рабовладельческих полисов. В борьбе с персами они доказали свою жизнеспособность и силу и вступили вслед за тем в пору своего наивысшего могущества. Начался период широкого строительства общественных архитектурных сооружений, создания монументальной скульптуры и фресок, которые утверждали силу и значение греческих городов-государств, достоинство, величие и красоту человека. Произошел решительный перелом в развитии искусства.
Черты архаической условности некоторое время еще давали о себе знать и в вазописи и особенно в скульптуре. Но это были теперь только лишь быстро уходящие в прошлое пережитки архаической традиции. Все греческое искусство в течение первой трети 5 в. до н.э. было пронизано напряженными поисками методов реалистического изображения человека, в первую очередь правдивой передачи движения, так же как и создания естественной, свободной от принципов декоративной симметрии групповой композиции. В вазописи, а затем и в скульптуре и монументальной живописи победил реализм. Решительно расширился круг тем и сюжетов. Синтез скульптуры и архитектуры стал пониматься как свободное содружество и взаимодополнение равноправных и самоценных искусств.
Монументальный и общественный характер архитектуры греческой классики, ее тесная связь с жизнью коллектива свободных граждан, с государственными культами богов, олицетворявших единство полиса, нашли свое яркое и сильное выражение уже в период ранней классики.
Ведущую роль в это время играл дорический ордер. Передовые черты греческой архитектуры предшествующего, архаического периода получили теперь широкое и свободное развитие. Глубокое соответствие всего образного строя дорического ордера духу гражданской героики 5 в. до н.э. особенно помогало раскрытию всех заложенных в нем художественных возможностей.
Периптер стал господствующим типом здания в греческой монументальной архитектуре. Классический тип периптера и вся система его пропорций получили свое развитие именно в эти годы.
По своим пропорциям храмы стали менее вытянутыми, более цельными, в них была преодолена несоразмерность и тяжеловесность архаических архитектурных пропорций. В больших храмах внутреннее помещение — наос — обычно разделялось двумя продольными рядами колонн на три части. В небольших храмах зодчие обходились без внутренних колонн, подпирающих перекрытие наоса. Исчезло применение на торцовых фасадах колоннад с нечетным числом колонн, мешавшее расположению входа в храм в центре фасада. Обычным соотношением числа колонн торцового и бокового фасадов стало 6 к 13 или 8 к 17; число колонн боковой стороны было равно удвоенному числу колонн торцового фасада плюс одна колонна.

План храма Посейдона в Пестуме.
В глубине центральной части наоса, обрамленной внутренними колоннадами, прямо против входа находилась статуя божества. Планировка храма получила логически ясную стройность и монументальную торжественность. Строго продуманная система расположения и соотношения всех элементов конструкции храма вела к созданию образа величавого, ясного и простого.
Зодчие ранней классики тонко чувствовали связь системы пропорций архитектурных форм с абсолютными масштабами здания и с его размерами относительно человека и окружающего ландшафта. Выработка постоянной системы частей ордера и их формы происходила одновременно со все более свободным и многообразным построением их пропорциональных соотношений. Незначительные изменения пропорций вызывали соответствующие изменения в равновесии несомых и несущих частей. Видоизменяя соотношения пропорций всех частей здания, Зодчие видоизменяли и весь характер его образной выразительности. Поэтому каждый храм периода классики сочетал в себе принципы выработанного вековым опытом канонического решения с моментами, свойственными конкретно только данному храму. Это придавало ему индивидуальное своеобразие и делало его неповторимым произведением искусства.Этим достигалось и решение задачи соотношения храма с окружающей средой и определялся самый его характер, то мощный и величественный, то легкий и изящный.
Эта черта греческой архитектуры характерна для всего строя древнегреческого художественного сознания. Так, например, греческая трагедия тоже развивалась в традиционных и строгих формах театральных канонов. Вместе с тем у одного и того же драматурга, например Эсхила или Софокла, в каждой драме в соответствии с характером изображаемого конфликта и с образным строем этой драмы существенно видоизменялось соотношение пролога, эпилога, хоровых партий, построение поэтической речи главных героев и т. д.
Памятником переходным от поздней архаики к ранней классике являлся построенный около 490 г. до н.э. храм Афины Афайи на острове Эгине. Размеры его невелики. Отношение колонн — 6 к 12. Колонны стройны по пропорциям, но антаблемент еще непомерно тяжел. Храм был построен из известняка и покрыт расписанной штукатуркой. Фронтоны были украшены выполненными из мрамора скульптурными группами (ныне находящимися в Мюнхенской глиптотеке). Расположение храма на верху высокого берегового склона хорошо показывает, как умели греческие зодчие связывать строгую дорическую архитектуру с окружающим пространством природы.
Переходный характер имел и храм «Е» в Селинунте (Сицилия). От храма на острове Эгине он отличался чрезмерной вытянутостью пропорций (отношение колонн 6 к 15). Колонны его приземисты и часто расположены; антаблемент очень высок, его высота почти равна половине высоты колонны. В целом своей грузной мощью он напоминает храмы 6 в. до н.э., хотя обработка деталей, членение форм отличаются уже большей четкостью и строгостью исполнения.
Наиболее полно типические черты архитектуры ранней классики воплотились в храме Посейдона в Пестуме (Великая Греция) и в храме Зевса в Олимпии (Пелопоннес).

128. Храм Посейдона в Пестуме (южная Италия). Вторая четверть 5 в. до н. э.

129. Храм Посейдона в Пестуме. Внутренний вид.
Храм Посейдона в Пестуме, построенный во второй четверти 5 в. до н.э., хорошо сохранился. Полный строгого величия, мощный и несколько тяжелый, он возвышается на трехступенчатом основании. Невысокий стилобат, низкие, но широкие ступени подчеркивают впечатление спокойной, уравновешенной силы. Колонны (отношение 6 к 14;см. рисунок с планом храма Посейдона в Пестуме) сравнительно массивны; сильный энтазис создает ощущение упругого напряжения колонны, словно с усилием подъемлющей перекрытие. Вся колоннада выступает на фоне затененного пространства; глубокие горизонтальные тени от далеко выступающих абак ложатся на колонны, подчеркивая линию столкновения несущих и несомых частей. Все основные элементы архитектурной композиции резко выражены, архитектурные детали только выявляют основные отношения архитектурного строя, и это тоже усиливает впечатление сосредоточенной мощи.
Храм был рассчитан на восприятие с разных расстояний. Издали храм с его относительно невысокими колоннами кажется несколько меньшим, чем в действительности, и вместе с тем очень компактным и строгим по формам. Вблизи становятся ясными большие по сравнению с человеком размеры колонн и ощутимыми общие размеры храма; детали (в том числе более частые, чем обычно, каннелюры), делаясь хорошо видимыми, оттеняют массивность пропорций и величину здания. Контраст впечатлений от далекой и близкой точек зрения способствует нарастанию по мере приближения чувства силы и величия всего сооружения. Этот прием сопоставления нескольких точек зрения чрезвычайно характерен для принципов архитектуры классики. Греческий архитектор классической поры всегда стремился создавать архитектурный образ, ориентированный на человеческое восприятие, учитывающий и организующий путь движения зрителя.
Храм Зевса в Олимпии, построенный между 468 и 456 гг. до н.э. архитектором Либоном, имел значение общеэллинского святилища и являлся самым крупным храмом всего Полопоннесса. Храм почти полностью разрушен, но на основании раскопок и описаний древних авторов его общий вид может быть достаточно точно реконструирован.
Это был классический дорический периптер (отношение колонн 6 к 13), построенный из твердой породы известняка (ракушечника), что давало возможность добиться почти чеканной точности и чистоты исполнения деталей. Пропорции храма отличались строгостью и ясностью. Их суровость смягчалась праздничной по своему характеру окраской. Храм был украшен большими скульптурными группами на фронтонах. Метопы наружного фриза, как и в большинстве храмов ранней классики, были лишены скульптурных украшений. 3а наружной колоннадой над портиками пронаоса и опистодома на метопах триглифного фриза были помещены скульптурные композиции, по шесть на каждом фризе. Сюжеты этих рельефов были тесно связаны с общественным назначением храма, бывшего центром обширного архитектурного ансамбля Олимпии — священного центра общеэллинских спортивных состязаний. На фронтонах были изображены легендарное состязание на колесницах Пелопса и Эномая и битва греков (лапифов) с кентаврами, на метопах — подвиги Геракла. Внутри храма с середины 5 в. до н.э. помещалась выполненная из золота и слоновой кости статуя Зевса работы Фидия.
Таким образом, в храме Зевса в Олимпии уже нашел свое воплощение характерный для классической Греции синтез архитектуры и скульптуры, о котором подробно будет речь дальше, при описании Парфенона, и были окончательно утверждены принципы архитектурной классики.
Очень важной частью греческого искусства в классический период была вазопись, в которой вашел свое яркое выражение реализм классики.
Период расцвета города-государства был и периодом расцвета художественных ремесел различных видов прикладного и декоративного искусства. Ведущее место среди них продолжала сохранять керамика, украшенная высокохудожественной росписью.
Вазопись была проникнута традициями народного художественного ремесла с его чувством художественной ценности каждой вещи, созданной творческим трудом человека. Хотя лучшие вазы, выполненные крупнейшими и ведущими художниками, в большинстве своем и предназначались для культовых приношений или служили для украшения праздничных пиров — все же именно живая и постоянная связь с народным искусством мастеров-горшечников и мастеров-рисовальщиков определяла их высокое художественное совершенство.
В период ранней классики реалистические тенденции передовых художников-вазописцев поздней архаики получили быстрое и глубокое развитие, став уже в годы греко-персидских войн господствующими. Краснофигурная техника в это время окончательно вытеснила чернофигурную. Она давала возможность реалистически изображать объем и движение, строить любые раккурсы, естественно и свободно моделировать человеческое тело.
Художественное мировоззрение классики, основанное на глубоком интересе к окружающей жизни и к реальному человеку, быстро расширило круг возможностей реалистического изображения, заключенный в краснофигурной технике. Вместо плоскостного силуэта чернофигурной вазописи художники стали строить трехмерные тела, взятые в самых разнообразных и живых поворотах и раккурсах. Эта свободная и убедительная передача движения, далекая от условной игры черных пятен и процарапанных по черному лаку линий, дополнялась еще и большей естественностью красноватого цвета глины, которой пользовались теперь для изображения человеческих фигур, так как он несравненно ближе был представлению о загорелом обнаженном теле, чем блестящий черный цвет лака. Черные линии рисунка на светлом фоне глины передавали теперь мускулы и детали тела, позволяя реалистически воспроизводить строение тела человека и его движение. Это дало мощный толчок развитию искусства рисунка.
Мастера краснофигурной вазописи стремились не только конкретно изображать тело и движение человека — они пришли к новому, реалистическому пониманию композиции, постоянно рисуя сложные сцены мифологического и бытового содержания. В некоторых отношениях развитие вазописи опередило развитие скульптуры. В вазописи многие реалистические открытия, аналогичные открытиям скульптуры второй четверти 5 в. до н.э., появились уже в последние годы 6 в. и в первые десятилетия 5 в. до н.э., то есть в период после реформ Клисфена и в годы войны.
Композиция вазописи ранней классики становилась все более законченной и целостной, она была естественно ограничена внутренней поверхностью плоской чаши или боковой поверхностью между ручками вазы. В пределах отведенной для композиции поверхности вазы художники-вазописцы с исключительной свободой и наблюдательностью передавали самые разнообразные сцены повседневной жизни, так же как и героические события мифов и гомеровского эпоса. Традиционные мифические сюжеты переосмыслялись, насыщаясь новыми мотивами, почерпнутыми из жизни.
Виднейшими мастерами вазописи этого времени были Евфроний, Дурис и Бриг, работавшие в Афинах. Всем им было свойственно стремление к естественности изображения. Но степень новизны, то есть освобождения от архаической условности и завоевания реалистической свободы, была у них неодинаковой.
Больше других был связан с архаической узорностью и орнаментальностью старший из этих мастеров — Евфроний (работавший в самом конце 6 в. до н.э.; позднее он стал владельцем мастерской, где работали другие рисовальщики).

130 а. Евфроний. Тезей у Амфитриты. Роспись килика. Около 500—490 гг. до н. э. Париж. Лувр.

130 6. Евфроний. Гетеры, играющие в коттаб. Роспись килика. Начало 5 в. до н. э.
В вазах, расписанных Евфронием, с изображением Тезея у Амфитриты или гетер, играющих в коттаб, стремление к слишком свободным и сложным раккурсам и движениям, при отсутствии еще разработанного метода реалистического рисунка, привело к условной плоскостности некоторых деталей; много места у Евфрония занимают и чисто декоративные элементы: узоры на одеждах и т. п.
Позже, в первой четверти 5 в. до н.э. мастера научились находить такие художественные средства изображения движения, которые могли, не разрушая целостности поверхности сосуда, давать ощущение трехмерной пространственности рисунка, и это привело к окончательному преодолению архаического принципа плоскостности изображения. Правда, вазопись на всем протяжении 5 в. до н.э. оперировала в основном графическими средствами изображения, не преследуя собственно живописных задач (например, передача светотени). От архаики оставались в течение некоторого времени лишь элементы нарядности, изощренного линейного контура, игравшего в какой-то мере еще чисто декоративную роль. Именно такие отзвуки архаического искусства имеются в некоторых работах Дуриса — одного из самых замечательных рисовальщиков ранней классики.

132 а. Дурис Эосс с телом Мемнона. Роспись килика. Около 490—480 гг. до н. э. Париж. Лувр.
В вазах, рисунки которых исполнены Дурисом, чувствуется зависимость его художественных приемов от характера сюжета; больше нарядности и орнаментального ритма в рисунках на мифологические темы («Эос с телом Мемнона»), больше простоты и непринужденной свободы в рисунках на темы повседневной жизни («Школьная сцена»). Поразительны легкость и виртуозность построения художником любой сложной позы, любого реального жеста (например, в изображении сидящего учителя).

132 6. Бриг. Последствия пирушки. Роспись килика. Около 480 г. до н. э. Вюрцбург. Университет.
Ближе к началу второй четверти 5 в. до н.э. многочисленнее и совершеннее становятся композиции, сознательно ставящие задачу органической связи жизненно естественного изображения с формой и ритмическим строем сосуда. Мастера вазописи все более ясно стали представлять себе, что архитектурная красота форм сосуда никогда не должна разрушаться изображением, что их тесная связь должна служить к их взаимной пользе. Таков рисунок работы Брига (около 480 г. до н.э.), украшающий дно чаши для вина, хранящейся в Вюрцбургском музее. Кстати, сама тема последнего рисунка непосредственно связана с назначением сосуда: добросердечная девушка поддерживает наклоненную голову злоупотребившего вином юноши. Обладатель чаши, осушая ее, имел возможность созерцать на ее дне это шутливое напоминание о необходимости знать меру всем вещам. Две стоящие фигуры превосходно вписаны в круглое дно чаши, и вместе с тем они отличаются на редкость смелым и простым построением трехмерной формы. Глубокое уважение к ценности и красоте реальной человеческой жизни дало возможность Бригу наполнить даже такую прозаическую тему подлинным изяществом.
Бриг был смелым пролагателем новых путей, и его открытия сыграли важнейшую роль в становлении реалистических принципов классики. По сравнению с Евфронием Бриг в своем творчестве сделал большой шаг вперед. Его рисунки, очень разнообразные по темам, жанровым и мифологическим, не только отличаются жизненной непосредственностью и естественной простотой, но и решают многие задачи драматического построения действия. Его ваза, посвященная Троянской войне, отличается подлинным пафосом изображения битвы, напоминавшего современникам Брига события греко-персидских войн.

133. Бриг. Взятие Трои. Роспись килика. Около 490—480 гг. до н. э. Париж. Лувр.
Меньшая зависимость художников-вазописцев от сковывающей архаической традиции и их непосредственная связь с художественным ремеслом приводили к тому, что реалистический характер художественной культуры ранней классики сказался в вазописи не только раньше, но и в более широком обращении к повседневному быту, чем это могло иметь место в монументальной скульптуре. Можно даже предположить, что мастера монументальной скульптуры пользовались опытом передовых мастеров вазописи, которые в начале 5 в. до н.э. опередили скульпторов именно в области передачи действия и движения человека.
Очень интересно изображение мастерской скульптора на чаше неизвестного мастера 480-х гг., полное глубокой серьезности и уважения к труду. Правда, здесь показано художественное ремесло, более уважаемое благодаря значению его изделий. О работе скульптора рассказано очень подробно и точно: вокруг печи для отливки бронзы работают мастера, монтируется готовая статуя, развешаны инструменты и бронзовые рельефы. Но обстановка дана лишь этими предметами -художник не изображает стен, на которых они висят: в вазописи, как и в скульптуре или монументальной живописи, окружающая человека среда не интересовала художника, который показывал только людей — их действия, выразительную осмысленность, целесообразность их движений и поступков. Даже инструменты, которыми действует человек, и плоды его труда показывались лишь для того, чтобы был понятен смысл действия, — вещи, как и природа, занимали художника только в их отношении к человеку. Этим объясняется отсутствие пейзажа в греческой вазописи — как ранней, так и высокой классики. Отношение человека к природе, к ее силам и явлениям передавалось через изображение самого человека, через его реакцию на явление природы.

131. Пелика с ласточкой. Конец 6 — начало 5 в. до н. э. Ленинград,. Эрмитаж.
Так, лирика наступающей весны воплощена на краснофигурной «вазе (пелике) с ласточкой» (конец 6 — начало 5 в. до н.э.; Государственный Эрмитаж) в изображении мальчика, юноши и взрослого человека, увидевших вестницу весны — летящую ласточку. Три фигуры, различные и по своему сложению и по своим позам, связаны одним действием и образуют целостную и живую группу. Общее чувство, объединяющее этих людей, смотрящих вверх на ласточку, выражено в надписях, сопровождающих каждую фигуру и связанных в короткий диалог. Юноша, первым увидевший ласточку, говорит: «Смотри, ласточка»; его старший собеседник подтверждает: «Правда, клянусь Гераклом»; мальчик радостно восклицает, заключая беседу: «Вот она — уже весна!»
Во второй четверти 5 в. до н.э. греческая вазопись приобретает невиданную ранее строгую и ясную гармонию, но она вместе с тем в какой-то мере теряет ту непосредственную остроту и яркость, какой отличались работы первых вазописцев классического искусства — Дуриса или Брига. Но вазопись этого времени, так же как и монументальную живопись, целесообразнее рассмотреть вместе с искусством Эпохи Перикла — искусством высокой классики.
В северной части Пелопоннеса, в аргосско-сикионской школе, наиболее значительной из школ дорического направления, скульптура складывавшейся классики разрабатывала в основном задачу создания спокойно стоящей человеческой фигуры. Глубоко перерабатывая в свете новых художественных задач старые дорические традиции, крупнейший мастер школы Агелад уже в начале 5 в. до н.э. стремился решить проблему оживления спокойно стоящей фигуры. Перенос центра тяжести тела на одну ногу позволил Агеладу и другим мастерам этой школы достигнуть свободной естественности позы и жеста человеческой фигуры. Очень большое значение имела также последовательная разработка аргосско-сикионскими мастерами продуманной системы пропорций, раскрывающей реальную красоту совершенного человеческого тела.
Ионическое направление в том же стремлении овладеть жизненной убедительностью изображения человека шло своим путем, сообразно своим старым традициям. Мастера ионического направления особенно много внимания обращали на изображение человеческого тела в движении.
Однако различие между этими двумя направлениями в классический период не имело существенного значения. Передовые мастера обоих направлений, хотя шли разными путями, но цель имели общую — создание реалистического образа совершенного человека. Уже в 6 в. до н.э. аттическая школа синтезировала лучшие стороны обоих направлений: к середине 5 в. до н.э. она наиболее последовательно утвердила основные принципы передового реалистического искусства, связанного с расцветом Афин, и приобрела значение руководящего общеэллинского центра искусства. Главный город Аттики — Афины — к середине 5 в. до н.э. собрал и объединил лучшие художественные силы Эллады для создания памятников и архитектурных сооружений, восхвалявших достоинство и красоту афинского, а вместе с ним и всего греческого народа (вернее, свободных граждан греческих полисов).
Важной особенностью греческой скульптуры периода классики была ее неразрывная связь с общественной жизнью, которая сказывалась как в характере образа, так и в ее месте на городской площади.
Греческая скульптура периода классики имела общественный характер, она была достоянием всего коллектива свободных граждан. Естественно поэтому, что развитие общественно-воспитательной роли искусства, раскрытие в нем нового эстетического идеала сказывались наиболее полно в монументальных скульптурных произведениях, связанных с архитектурой или стоявших на площадях. Но в то же время именно в таких работах с особенной наглядностью отразилась та глубокая ломка всего строя художественных принципов, какой сопровождался переход от архаики к классике. Новые общественные идеи победившей демократии пришли в резкое столкновение с условностью и отвлеченностью архаической скульптуры.
Противоречивый, переходный характер некоторых скульптурных произведений начала 5 в. до н.э. отчетливо выступает во фронтонных группах храма Афины Афайи на острове Эгине (около 490 г. до н.э.).
Фронтонные скульптуры Эгинского храма были найдены в начале 19 в. в сильно разрушенном виде и тогда же реставрированы знаменитым датским скульптором Торвальдсеном. Один из наиболее вероятных вариантов реконструкции композиции фронтонов был предложен русским ученым В. Мальмбергом. Композиция обоих фронтонов была построена на основе строгой зеркальной симметрии, что в какой-то мере придавало раскрашенным скульптурным группам, выступавшим на цветном фоне фронтонов, черты орнаментальности.
На западном фронтоне была изображена борьба греков и троянцев за тело Патрокла. В центре находилась неподвижно стоящая, строго фронтальная, словно развернутая на плоскости фронтона фигура Афины, бесстрастно-спокойная и как бы незримо присутствующая посреди сражения. Ее участие в происходящей борьбе показано лишь тем, что ее щит обращен наружной стороной к троянцам и в ту же сторону повернуты ступни ног. Только по этим символическим намекам можно догадаться, что Афина выступает как защитница эллинов. Если не считать фигуры Париса в высоком изогнутом шлеме и с луком в руках, нельзя было бы и отличить греков от их врагов, настолько фигуры зеркально повторяются на левой и на правой половине фронтона.
Все же в фигурах воинов уже нет архаической фронтальности, их движения реальнее, анатомическое строение правильнее, чем было обычно в искусстве архаики. Хотя все движение развертывается строго по плоскости фронтона, оно в каждой отдельной фигуре достаточно жизненно и конкретно. Но на лицах сражающихся воинов и даже раненых дана одинаковая условная «архаическая улыбка» — явный признак связанности и условности, плохо совместимый с изображением напряженно борющихся героев.
В эгинских фронтонах сказалась еще сковывающая косность старых архаических канонов. Композиционное единств было достигнуто внешними, декоративными способами, самый принцип соединения архитектуры и скульптуры был здесь, по существу, еще архаическим.

134 а. Геракл с восточного фронтона храма Афины-Афайи на острове Эгине. Мрамор. 490—480 гг. до н. э. Мюнхен. Глиптотека.
Правда, уже в восточном фронтоне Эгинского храма (сохранившемся много хуже западного) был сделан несомненный шаг вперед. Сравнение фигур Геракла с восточного фронтона и Париса — с западного наглядно показывает большую свободу и правдивость в изображении человека у мастера восточного фронтона. Движения фигур здесь менее подчинены плоскости архитектурного фона, более естественны и свободны. Особенно поучительно сравнение статуй раненых воинов на обоих фронтонах. Мастер восточного фронтона уже видел несоответствие «архаической улыбки» тому состоянию, в котором находится воин.

Западный фронтон храма Афины Афайи.Реконструкция.

134 6. Раненый воин с восточного фронтона храма Афины-Афайи на острове Эгине. Мрамор. Около 490—480 гг. до н. э. Мюнхен. Глиптотека.
Мотив движения раненого воина воссоздан в строгом соответствии с жизненной правдой. В некоторой мере скульптор овладел здесь не только передачей внешних признаков движения, но и изображением через это движение внутреннего состояния человека: жизненные силы медленно покидают атлетически сложенное тело раненого воина, рука с мечом, на которую опирается полулежащий воин, медленно сгибается, ноги скользят по земле, не давая больше надежной опоры телу, мощный торс постепенно опадает все ниже. Ритм клонящегося тела подчеркнут по контрасту вертикально поставленным щитом.
Овладение сложным и противоречивым богатством движений человеческого тела, непосредственно передающим не только физическое, но и душевное состояние человека, — одна из важнейших задач классической скульптуры. Статуя раненого воина с восточного фронтона Эгинского храма была одной из первых попыток решения этой задачи.
Для разрушения сковывающей условности архаического искусства исключительно большое значение имело появление скульптурных произведений, посвященных конкретным историческим событиям, наглядно воплощавших общественные и нравственные идеалы победившей рабовладельческой демократии. При их относительной малочисленности они являлись особенно ярким признаком роста общественно-воспитательного, гражданского содержания искусства, его реалистической направленности.
Мифологическая тема и сюжет продолжали господствовать в греческом искусстве, но культовая и фантастически сказочная сторона мифа отошла на второй алан, почти исчезла. На первый план теперь выдвинулась этическая сторона мифа, раскрытие в мифологических образах силы и красоты этического и эстетического идеала современного греческого общества, образное воплощение волнующих его идейных задач. Реалистическое переосмысление мифологических образов, приводившее к отражению в них современных идей, осуществлялось греческими художниками периода классики так же, как великими греческими трагиками 5 в. до н.э. — Эсхилом и Софоклом.
В этих условиях появление отдельных произведений искусства, непосредственно обращенных к фактам реальной истории, хотя и принимающим иногда мифологический оттенок, было глубоко закономерным. Так, Эсхил создал трагедию «Персы», посвященную героической борьбе греков за свободу.
Скульпторы Критий и Несиот создали в начале 470-х годов до н.э. бронзовую группу Тираноубийц — Гармодия и Аристогитона, — взамен увезенной персами архаической скульптуры, изображавшей этих же героев. Для греков 5 в. до н.э. образы Гармодия и Аристогитона, убивших в 514 г. до н.э. афинского тирана Гиппарха и при этом погибших, были примером самоотверженной доблести граждан, готовых отдать жизнь для защиты гражданских свобод и законов родного города[36]. Композиция несохранившейся до наших дней группы может быть восстановлена по древнеримским мраморным копиям.

135. Критий и Несиот. Гармодий и Аристогитон. Около 477 г. до н. э. Мраморная римская копия (с последующими дополнениями) с утраченного бронзового оригинала. Неаполь. Национальный музей.
В «Гармодии и Аристогитоне» впервые в истории монументальной скульптуры была поставлена задача построения скульптурной группы, объединенной единым действием, единым сюжетом. Действительно, например, архаическая скульптура «Клеобис и Битон» Полимеда Аргосского может рассматриваться лишь условно как единая группа, — по существу это просто две стоявшие рядом статуи куросов, где взаимоотношения героев изображены не были. Гармодий же и Аристогитон объединены общим действием — они наносят удар врагу. Движение сделанных по отдельности и поставленных под углом друг к другу фигур сходится в одной точке в которой стоит воображаемый противник. Единая направленность движения и жестов фигур (в частности, занесенной для удара руки Гармодия) создает необходимое впечатление художественной цельности группы, ее композиционной и сюжетной законченности, хотя следует подчеркнуть, что движение это трактовано в общем еще очень схематично. Лишены выражения были и лица героев.
Согласно дошедшим до нас сведениям в древнегреческих источниках, ведущими мастерами, определившими решительный поворот скульптуры 70 — 60-х гг. 5 в. до н.э. к реализму, были Агелад, Пифагор Регийский, Каламид. Представление об их творчестве до некоторой степени можно составить по римским копиям с греческих статуй этого времени, а главное, по ряду сохранившихся подлинных греческих статуй второй четверти 5 в. до н.э., выполненных неизвестными мастерами. Общую картину развития греческой скульптуры до середины 5 в. до н.э. можно представить себе с достаточной ясностью.

136 а. Бегун. Бронзовая статуэтка из Олимпии. Первая четверть 5 в. до н. э. Тюбинген. Университет.
Понятие о греческом искусстве 70 — 60-х гг. 5 в. до н.э. дают также небольшие бронзовые статуэтки, дошедшие до нашего времени. Их значение особенно велико потому, что бронзовые греческие оригиналы, за редкими исключениями, утрачены и судить о них приходится по далеко не точным и сухим римским мраморным копиям. Между тем именно для 5 в. до н.э. характерно широкое применение бронзы как материала для монументальных скульптур.

137 6. Пифагор Регийский. Гиацинт, или Эрот Соранцо. Вторая четверть 5 в. до н. э. Мраморная римская копия с утраченного бронзового оригинала. Ленинград. Эрмитаж.
Одним из самых последовательных, новаторов начального периода ранней классики был, повидимому, Пифагор Регийский. Основной целью его творчества было реалистическое изображение человека в естественно-жизненном движении. Так, по описанию древних известна его статуя «Раненый Филоктет», поражавшая современников правдивой передачей движений человека. Приписывается Пифагору Регийскому статуя «Гиацинт» или (как ее называли прежде) «Эрот Соранцо» (Государственный Эрмитаж, римская копия). Мастер изобразил юношу в тот момент, когда он следит за полетом брошенного Аполлоном диска; он поднял голову, тяжесть тела перенесена на одну ногу. Изображение человека в целостном и едином движении — вот основная художественная задача, которую ставил перед собой художник, решительно отбросивший архаические принципы строго фронтальной и неподвижной статуи, последовательно и глубоко развивавший черты реализма, накопленные в искусстве поздней архаики. Вместе с тем движения «Гиацинта» еще несколько резки и угловаты; некоторые стилистические особенности, например в трактовке волос, непосредственно примыкают к архаическим традициям. В этой статуе смело и резко поставлены новые художественные задачи, но не до конца еще создана соответствующая этим задачам стройная и последовательная система нового художественного языка.
Реалистическая жизненность, неразрывное слияние философского и эстетического начала в художественном образе, героическая типизация образа реального человека — это основные черты складывавшегося искусства классики. Общественно-воспитательное значение искусства ранней классики было неразрывно и естественно слито с его художественным обаянием, оно было лишено каких-либо элементов нарочитого морализирования. Новое понимание задач искусства сказывалось и в новом понимании образа человека, в новом критерии красоты.

138. Дельфийский возничий. Бронза. Около 470 г. до н. э. Дельфы. Музей.
Особенно ясно рождение нового эстетического идеала раскрывается в образе «Дельфийского возничего» (вторая четверть 5 в. до н.э.). «Дельфийский возничий» — одна из немногих дошедших до нас подлинных древнегреческих бронзовых статуй. Она была частью не дошедшей до нас большой скульптурной группы, созданной пелопоннесским мастером, близким к Пифагору Регийскому. Суровая простота, спокойное величие духа разлиты во всей фигуре возничего, одетого в длинную одежду и стоящего в строго неподвижной и вместе с тем естественной и живой позе. Реализм этой статуи заключается в первую очередь в том чувстве значительности и красоты человека, которым пронизана вся фигура. Образ победителя на состязаниях дан обобщенно и просто, и хотя отдельные детали выполнены с большой тщательностью, они подчинены общему строгому и ясному строю статуи. В «Дельфийском возничем» было выражено уже в достаточно определившейся форме характерное для классики представление о скульптуре, как о гармоническом и жизненно убедительном изображении типических черт совершенного человека, показанного таким, каким должен быть каждый свободнорожденный эллин.

137 а. Аполлон из Помпей. Вторая четверть 5 в. до н. э. Бронзовая римская копия. Неаполь. Национальный музей.
Та же реалистическая типизация образа человека целиком переносилась мастерами ранней классики и на образы богов. «Аполлон из Помпеи», представляющий собой римскую реплику греческой (севернопелопоннесской) статуи второй четверти 5 в. до н.э., отличается от архаических «аполлонов» не только несравненно более реалистической моделировкой форм тела, но и совсем иным принципом композиционного решения фигуры. Вся тяжесть тела перенесена здесь на одну левую ногу, правая нога слегка отодвинута в сторону и вперед, придан легкий поворот плечам по отношению к бедрам, чуть склонена на бок голова; руки прекрасного юноши, каким изображен здесь бог солнца и поэзии, даны в свободном и непринужденном движении. На первый взгляд эти кажущиеся мелкими перемены в тот период накопления реалистических средств были на самом деле чрезвычайно важными: каждое изменение в художественных приемах, уводившее от архаики, было не просто техническим новшеством, а выражением новых черт в мировоззрении.
В таких статуях полностью была преодолена условная фронтальная композиция и столь же условная скованность архаических статуй. Хотя уже в конце 6 и самом начале 5 в. до н.э. ряд мастеров и пытался перерабатывать в этом направлении схему архаической статуи куроса, все же успешно разрешить задачу изображения естественного, органически целостного движения художники сумели лишь после глубоких изменений во всем художественном мировоззрении — в годы после победы в греко-персидских войнах.

139. Зевс Громовержец. Найден в море у мыса Артемисион. Бронза. Около 460 г. до н. э. Афины. Национальный музей.
Героический характер эстетических идеалов ранней классики получил свое совершенное воплощение в бронзовой статуе «Зевса Громовержца», найденной в 1928 г. на дне моря у берегов острова Эвбеи. Эта большая статуя (высотой более 2 м) наряду с «Дельфийским возничим» да,ет нам ясное представление о замечательном мастерстве ваятелей ранней классики. «Зевс Громовержец» по сравнению с «Возничим» отличается еще большим реализмом в моделировке форм тела, большей свободой в передаче движения. Широко расставленные, чуть согнутые ноги придают упругость стремительному шагу фигуры. Несомненно великолепен был полный величественной мощи широкий размах рук Зевса (дошедших лишь в обломках), далеко занесшего назад правую руку с зажатой в ней молнией, которую он через мгновение метнет в невидимого нам противника, в чью сторону обращено его одухотворенное лицо. Мышцы могучего торса напряжены. Игра световых бликов на темной бронзе, несомненно, еще более подчеркивала крепкую лепку форм. В статуе «Зевса Громовержца» была хорошо решена задача выражения в скульптуре общего душевного состояния героя. Эта бронзовая статуя Зевса, возможно, близка по своему характеру творчеству Агелада, мастера, создавшего ряд известных в древности статуй, в которых он (судя по описаниям древних) сделал важнейший шаг на пути совершенствования реалистической передачи человеческого тела в движении или в покое, полном сдержанного оживления.

136 6. Мальчик, вынимающий занозу. Вторая четверть 5 в. до н. э. Бронзовая римская копия. Рим. Палаццо Консерватори.
О развитии скульптуры ранней классики в направлении ко все большему реализму свидетельствует и статуя «Мальчика, вынимающего занозу», дошедшая до нас в мраморной римской копии с бронзового оригинала второй четверти 5 в. до н.э. Фигурка мальчика отличается естественностью угловатой позы, реалистической передачей форм тела подростка. Только волосы, словно не подчиняющиеся силе тяжести, даны несколько условно. Жизненная наблюдательность напоминает здесь полные реализма сцены на вазовых рисунках этого времени. Однако это не просто жанровая скульптура. Статуя рассказывает о подростке, прославившемся своей доблестью во время состязания в беге. Острый шип вонзился ему в ногу, но мальчик продолжал бег и первым достиг цели.

143 а. Статуя победительницы в беге. Вторая четверть 5 в. до н. э. Мраморная римская копия с утраченного бронзового оригинала. Рим. Ватикан.
Большим успехом в изображении реального движения и вместе с тем в создании реалистически правдивого и типического образа было появление таких статуй, как «Победительница в беге». На смену угловатой резкости «Гиацинта» и других ранних классических статуй пришло строгое гармоническое единство, передающее впечатление естественности и свободы. Одетая в короткий хитон, с открытой правой грудью, девушка изображена в момент окончания бега. Впечатление замедляющегося бега достигнуто легким движением стройных ног, чуть уловимым поворотом плеч, отведенными в стороны руками. Статуя была сделана из бронзы; римский копиист, повторивший ее в мраморе, добавил грубую подпорку.
Художники второй четверти 5 в. до н.э. не знали сложных внутренних характеристик. Но, изображая реальный облик человека и его действия, они неизменно передавали весь строй его духовной жизни и характера.
Так, несмотря на некоторую резкость и угловатость движения, развернутого в одной плоскости, несомненным драматизмом отличается замечательная статуя «Раненой Ниобиды», хранящаяся в Музее Терм в Риме. Эта статуя, возможно, входила в не дошедшую до нас фронтонную группу.

142 а. Нереида с Памятника нереид из Ксанфа. Мрамор. Третья четверть 5 в. до н. э. Лондон. Британский музей.

142 6. Нереида с Памятника нереид из Ксанфа. Мрамор. Третья четверть 5 в. до н. э. Лондон. Британский музей.

143 6. Раненая Ниобида. Вероятно, одна из фигур фронтонной композиции. Мрамор. Середина 5 в. до н. э. Рим. Музей Терм.
Задача изображения человеческого тела во всей его жизненной естественности была поставлена и в статуях «Нереид из Ксанфа», выполненных ионийским мастером около середины 5 в. до н.э. «Нереиды» украшали «Памятник нереид» в Малой Азии. Отзвуки архаической схемы «коленопреклоненного бега» еще заметны в трактовке этих фигур (ноги, данные в профиль, не вполне соответствуют положению верхней части тела). Однако «Нереиды» отличаются необычайно живой моделировкой тела, чему способствует изящество тонких, словно струящихся складок их одежд.
Ярким примером переосмысления привычных мифологических сюжетов в годы радикальной ломки традиций архаики и становления искусства классики является замечательный рельеф, исполненный, вероятно, также ионийским мастером второй четверти 5 в. до н.э. и изображающий рождение Афродиты из пены морской (так называемый «Трон Людовизи»); на боковых сторонах этого мраморного «трона» или, скорее, постамента для статуи Афродиты изображены обнаженная девушка, играющая на флейте, и одетая в длинную одежду женщина перед курильницей. Ясная и простая гармония, спокойная естественность движений фигур и реалистическая жизненность их группировки резко отличают эти произведения от архаических рельефов.

144. Трон Людовизи. Рождение Афродиты. Мрамор. Около 470 г. до н. э. Рим. Музей Терм.

145 а. Трон Людовизи. Девушка, играющая на флейте. Мрамор. Около 470 г. до н. э. Рим. Музей Терм.

145 6. Трон Людовизи. Женщина, приносящая жертву. Мрамор. Около 470 г. до н. э. Рим. Музей Терм.
На центральной из трех сторон «Трона Людовизи» — две нимфы, склонившись, поддерживают выходящую из волн Афродиту; спокойному ритму движений подымающейся Афродиты и распрямляющихся нимф соответствует ритм тонких складок их одежд. Облекающий тело Афродиты влажный пеплос покрывает ее тонкой сетью волнистых линий, подобных струйкам воды. Морская галька, на которую опираются ступни нимф, говорит о месте действия. Хотя в строгой симметрии композиции и есть отголоски архаического искусства — они уже не могут нарушить реалистическую жизненную силу этого рельефа.
Изображенные по сторонам от центральной группы сидящая нагая девушка, играющая на флейте, и женщина, закутанная в плащ и совершающая воскурение богам, композиционно почти тождественны друг другу. Однако вся группа далека от чисто декоративной орнаментальной симметричности архаической композиции. Фигуры объемны и трехмерны, они даны в естественных и свободных позах. Сидящая девушка непринужденно откинулась назад. Одна нога ее закинута на другую, чем особенно подчеркивается реальная пространственность рельефа. Ее фигура полна изящества. Пальцы легко и быстро скользят по флейте. Поза сидящей молодой женщины — жены и матери, хранительницы домашнего очага — строже, неподвижнее, движение рук спокойно и размеренно. Обе эти фигуры, в своем различии воплощающие разные стороны красоты и любви, как бы объединены образом Афродиты, под чьей властью они равно находятся и разные стороны служения которой они обе воплощают. От механического сочетания фигур, имевших отвлеченно-символический характер, искусство обратилось к целостному, органическому и живому художественному образу, в котором были воплощены основные этические и эстетические представления.
Таким образом, греческая скульптура ранней классики к 50-м гг. 5 в. до н.э. прошла чрезвычайно большой путь развития. Следующим важным шагом к высокой классике были фронтонные группы и метопы храма Зевса в Олимпии (50-е гг. 5 в. до н.э.).

150. Голова Афины. Фрагмент метопы храма Зевса в Олимпии. См. илл. 149а.

151. Голова Атласа. Фрагмент метопы храма Зевса в Олимпии. См. илл. 149а.
Общий стиль олимпийских скульптур уже приближается к стилю скульптур Мирона. Павсаний приписывает авторство скульптур фронтонов храма Зевса Пэонию из Менде и Алкамену Старшему, но подтверждения этому пока не нашлось. Во всяком случае, авторами этих скульптур были первоклассные художники.
Восточный фронтон посвящен мифу о состязании Пелопса и Эномая, положившем основание олимпийским играм, западный — битве лапифов с кентаврами. Оба фронтона резко отличаются от фронтонов Эгинского храма с их декоративной условной композицией. Мастера олимпийских фронтонов понимали скульптурную группу в первую очередь как изображение реального события. Расположение фигур определяется прежде всего смыслом события, тем участием в событии, которое характерно для каждой фигуры. Уравновешенность композиции в данном случае способствовала строгой ясности и цельности рассказа. Статуи Олимпийского храма замечательны подлинным реализмом. Не случайно открытые в 70-х гг. 19 в. скульптуры Олимпии вызвали известное разочарование в среде археологов и искусствоведов того времени, представлявших себе искусство 5 в. до н.э. как некое «идеальное» и «гармоническое» искусство и «шокированных» суровой силой реализма и «грубоватостью» образов этих замечательных памятников, достойно завершающих собой период реалистических исканий ранней классики.

Восточный фронтон храма Зевса в Олимпии.Реконструкция.
Отказавшись от полного подчинения скульптурного образа задачам декорации архитектурных форм, скульпторы олимпийских фронтонов установили иные и более глубокие связи между архитектурным и скульптурным образами, которые вели к их равноправию и их взаимному обогащению и наиболее последовательное выражение нашли спустя четверть века в построенном под руководством Фидия Парфеноне.
Миф, которому посвящен восточный фронтон храма Зевса, сводится к следующему. Царю Эномаю было предсказано, что он умрет от руки мужа своей дочери Гипподамии. Чтобы избегнуть этой участи, Эномай, обладавший сказочно быстрыми лошадьми, объявил, что руку дочери получит тот, кто победит его в состязании на колесницах. Побежденный же должен был расстаться с жизнью, и многие женихи были убиты жестоким и коварным Эномаем. Наконец, Пелопсу при помощи хитрости удалось победить Эномая: подкупленный им возничий Эномая вынул чеку из оси колесницы и подменил ее сделаной из воска. Эномай разбился на смерть во время состязания. Восточный фронтон храма Зевса изображает героев перед началом состязания. Величественная фигура Зевса в центре фронтона, торжественный покой, охватывающий всех участников событий, придает фронтону ту строгую и вместе с тем праздничную приподнятость, которая соответствует композиции, расположенной над главным входом в храм. Отсутствие резких движений, почти симметрическое расположение фигур вовсе, однако, не приводят к застылости и неподвижности. Покой этот — кажущийся, он полон внутреннего напряжения.
Хотя статуи восточного фронтона дошли до наших дней в сильно разрушенном состоянии и их расположение также окончательно еще не установлено, все же общий характер их поз и жестов можно представить с достаточной достоверностью. Во всяком случае, пять центральных фигур — Зевс, Эномай, его жена Стеропа, Пелопс и Гипподамия, — стоящие в спокойных позах, словно отвечая строгому ритму колонн, над которыми они возвышаются, при симметричности своей расстановки очень различны и индивидуальны по своему облику и жестам.

Западный фронтон храма Зевса в Олимпии.Реконструкция.
Одно из величайших завоеваний классического искусства состояло в том, что оно сумело, в отличие от искусства Древнего Востока, показать роль и значение каждого человека в его взаимоотношениях с другими людьми, дать его не как безличную составную частицу, растворяющуюся в общем, нередко орнаментальном строе какой-либо многофигурной композиции, а именно как личность, как сознательного участника общего действия, занимающего в нем ясное и определенное место. В олимпийских фронтонах были впервые найдены многие важные стороны Этого завоевания классического искусства.
По сторонам от центральной группы на восточном фронтоне были размещены колесницы с лошадьми, слуги, зрители, по углам фронтона — лежащие фигуры, олицетворяющие местные реки. Некоторые из этих статуй отличаются особенно резко подчеркнутой реалистической правдивостью — так, например, тщательно передано одряхлевшее тело сидящего старика или грубоватый жест вытаскивающего занозу мальчика. Можно даже думать, что мастер, создавший этот фронтон, сознательно стремился подчеркнуть свой разрыв со старыми принципами архаической условности, показывая, что в своем образном мышлении он идет от жизни, а не от условной схемы.
Реалистические принципы скульпторов храма Зевса в Олимпии особенно наглядно раскрылись в композиции западного фронтона, изображающей битву лапифов с кентаврами. Этот фронтон дошел в сравнительно менее поврежденном виде и вызвал меньше разногласий относительно его реконструкции. Особенно ценно то, что здесь сохранились многие головы статуй, высоко совершенные по своему исполнению. Для западного фронтона, так же как и для восточного, характерно свободное от строгой симметрии общее композиционное равновесие обеих половин фронтона. Этот фронтон с большой статуей Аполлона в центре состоит из ряда отдельных групп сражающихся и борющихся людей и кентавров; группы взаимно уравновешиваются по общей своей массе и по интенсивности движения, не повторяя нисколько одна другую. Фигуры борющихся точно вписаны в пологий треугольник фронтона, причем напряжение и резкость движений возрастают к углам фронтона — по мере удаления от спокойно стоящей фигуры Аполлона. Его строгое и ясное лицо и властный, направляющий жест, которым он указывает лапифам, как одолеть диких и буйных кентавров, служат своего рода психологическим и драматическим центром всей этой сложной и вместе с тем легко обозримой композиции.
Центральные стоящие фигуры — Аполлона, Тезея и Перифоя — снова, как я в восточном фронтоне, в какой-то мере повторяют размеренный ритм колоннады, тем самым словно подчеркивая спокойную силу и уверенность, которые они вносят в напряжение битвы. В действии, в героической борьбе с враждебными человеку силами как бы очеловечивается тот дух мужественности и единства, который воплощен в архитектуре храма Зевса.

152. Мирон. Дискобол. Голова. Около 450 г. до н. э. Мраморная римская копия с утраченного бронзового оригинала. Рим. Музей Терм.
В мифе, изображенном во фронтонной группе, рассказывается, как приглашенные на свадьбу царя лапифов Перифоя кентавры, полулюди-полузвери, олицетворяющие низшие стихийные силы природы, бросились похищать лапифских женщин. Руководимые Тезеем и Перифоем и воодушевленные поддержкой Аполлона, лапифы истребили кентавров. Хотя на фронтоне битва показана в полном разгаре, победа людей явно предопределена. Созданные неведомым художником образы Аполлона, невесты Перифоя — Дейдамии или женщины, схваченной кентавром за волосы, принадлежат к числу самых совершенных и самых привлекательных созданий ранней греческой классики. Борьба человеческой воли и разума со вспышкой стихийных и необузданных сил — такова полная человечности героическая идея, которой проникнута эта замечательная скульптурная группа. Впрочем, различие лапифов и кентавров дано здесь в пределах общих эстетических норм; законы красоты действуют и в изображении уродливых кентавров, трактованных без какой-либо натуралистической подчеркнутости.

148 а. Женщина, схваченная кентавром за волосы, с западного фронтона храма Зевса в Олимпии. Мрамор. 460—450 гг. до н. э. Олимпия. Музей.

I48 6. Женщина, схваченная кентавром за волосы, с западного фронтона храма Зевса в Олимпии. Голова. См. илл. 148а.

146. Дейдамия с западного фронтона храма Зевса в Олимпии. Голова. Мрамор. 460—450 гг. до н. э. Олимпия. Музей.
Изображения на метопах храма Зевса, посвященные подвигам Геракла, близки по своему духу фронтонным композициям. Рельефы метоп отличаются лаконической простотой и ясностью образов, яркой выразительностью действия. Расположение фигур на метопах, характер их движения тесно связаны с архитектурой, нигде не нарушая границ, отведенных рельефу архитектурной конструкцией. Так в метопе, изображающей Геракла, поддерживающего с помощью Афины небесный свод, и Атласа, несущего ему яблоки Гесперид [37], все фигуры своими вертикалями повторяют вертикали колонн и обрамляющих метопу триглифов. Вместе с тем горизонталь тяжелого карниза, лежащего на фризе, используется для передачи ощущения той тяжести, которую несет Геракл; его руки, поднятые над головой, как бы подпирают конструкцию карниза.

149 а. Геракл и Атлас. Метопа храма Зевса в Олимпии. Мрамор. 468—456 гг. до н. э. Олимпия. Музей.

149 6. Битва Геракла с Критским быком. Метопа храма Зевса в Олимпии. 468— 456 гг. до н. э. Париж. Лувр; часть метопы. Олимпия. Музей.
Очень выразительна метопа, посвященная борьбе Геракла с Критским быком. Перекрещивающиеся разно направленные движения Геракла и быка создают устойчивую композицию, вписанную в квадрат метопы; движения этих фигур совпадают с диагоналями квадрата и тем самым включаются в общую систему геометрических отношений и пропорций, характерных для архитектурного сооружения. Вместе с тем строгое равновесие композиции нисколько не помешало скульптору утвердить победу человека: свободное и смелое движение Геракла полно энергии и стремительности, сила и воля героя торжествуют над мощью быка.
Действенный и морально значительный образ народного героя Геракла не случайно появился на фризе олимпийского храма Зевса, так же как и битва с кентаврами на его фронтоне. Для искусства греческой классики реальный человек е его живыми чувствами и героическими подвигами стал основной темой.
Образ гражданина и воина, человека, гармонически развившего свои физические и нравственные качества, стал центральным в искусстве классики. Однако трудовая деятельность человека, условия его быта, связь с окружающей средой сравнительно мало и редко изображались в греческом монументальном искусстве классического периода. Образ человека раскрывался конкретно, но общественная жизнь — лишь косвенно. Для греческой классики было естественным выражение общественных конфликтов и норм поведения в образах сказочных и мифологических.
Реализм классики 5 в. до н.э. отличался своей, только ему свойственной системой средств выражения. Так, пропорции тела и многообразные формы движения уже в ранней классике стали важнейшим средством характеристики общего состояния духа, которому соответствовало данное движение. Эта особенность искусства классики сложилась в течение второй четверти 5 в. до н.э., достигнув полной отчетливости в скульптурах Олимпийского храма. Раскрытие реалистической содержательности и художественной выразительности жеста было одним из самых больших завоеваний греческой классики, проложившим путь к подлинно реалистическому изображению человека во всей жизненной правдивости и целостности его бытия.

140. Дельфийский возничий. Голова. См. илл. 138.

141. Зевс Громовержец. Голова. См. илл. 139.
Медленнее и с большим трудом, но и лицо человека в классической скульптуре освободилось от той психологической застылости и отвлеченной безличности, которая была свойственна архаической греческой скульптуре. Действительно, лицо «Дельфийского возничего» проникнуто ясной серьезностью, взгляд «Зевса Громовержца» суров и грозен, лица сражающихся кентавров на западном фронтоне Олимпийского храма искажены яростью, лицо Аполлона, ири всей его строгой обобщенности, выражает властный порыв, гнев, умеряемый волевым напряжением. Но нигде здесь типическое обобщение не сочетается с индивидуализацией образа. Личное своеобразие человека, неповторимый склад его характера далеко не в полную меру вошли в круг интересов художников греческой классики. Эта сторона реалистического раскрытия образа человека смогла во всю силу развернуться в передовом искусстве лишь после перелома от средневековья к новому времени — в эпоху Возрождения, в 17 или в 19 в.

147. Аполлон с западного фронтона храма Зевса в Олимпии. Голова. Мрамор. 460—450 гг. до н. э. Олимпия. Музей.
Создание правдивого и глубоко значительного типического образа человека как нормы и образца для каждого человека-гражданина имело для греческой классики большее значение, чем раскрытие индивидуального человеческого характера. В этом заключалась огромная сила и вместе с тем границы реализма греческой классики. Поэтому и в олимпийских скульптурах вполне реальные и различные душевные состояния носят обобщенный характер, в них нет сколько-нибудь сложных и психологически углубленных переживаний.
С этим связана и следующая особенность греческой скульптуры и вообще греческого изобразительного искусства ранней и высокой классики: лицо человека еще не заняло по отношению к человеческому телу преимущественного или исключительного права на передачу душевной жизни. Она в равной мере выражена во всем теле, во всех его движениях, включая и мимику лица.
Эта особенность в значительной мере определила и своеобразный характер развития портрета в греческой классике. Первоначально наиболее распространенным видом портретной (по своему назначению) скульптуры была статуя победителя на олимпийских состязаниях. Но победитель, с точки зрения древних греков, удостаивался статуи за то, что своей победой утверждал славу родного города, за то, что он выступал как мужественный и примерный гражданин, становясь образцом для других. Статуя победителя заказывалась городом-государством для прославления победителя, но вместе с тем и для прославления города, представителем которого на состязаниях был победитель. Естественно, что именно в таком плане он и изображался художником. Доблестный дух в гармонически развитой теле — это считалось самым ценным в человеке. Но этими свойствами греческий юноша, участник олимпийских игр, реально и обладал. Поэтому, вероятно, и общину и самого победителя вполне удовлетворяло то, что его имя стояло на постаменте, на котором возвышалась типически-обобщенная прекрасная статуя.
Первые портреты в собственном смысле слова, которых удостаивались граждане, выдающиеся своими заслугами перед полисом и избранные на одну из самых почетных и ответственных общественных должностей, также были еще лишены резко выраженной индивидуальной характеристики. Портрет стратега (в Мюнхенской глиптотеке) дает нам представление о портрете этого периода: формы лица переданы очень обобщенно и просто, с суровой выразительностью. Художник создал образ государственного деятеля, спокойного и решительного, но этот образ не передает неповторимых черт характера именно данного человека. Да и признаки ярко выраженного внешнего сходства вряд ли занимали скульптора.
С наибольшей силой творческие искания ранней классики, ее поиски героических, типически-обобщенных образов выразились в деятельности великого греческого скульптора Мирона из Элевтер. Мирон работал в Афинах в конце второй и в начале третьей четверти 5 в. до н.э. Подлинные работы Мирона до нас не дошли. О них приходится судить по мраморным римским копиям.
Стремясь к единству гармонически прекрасного и непосредственно-жизненного, Мирон освободился от последних отзвуков архаической условности, от угловатой резкости движений и одновременно от резкого подчеркивания деталей, к которому прибегали иногда мастера второй четверти 5 в. до н.э., желавшие таким путем придать особенную правдивость и естественность своим статуям. Именно в творчестве этого аттического мастера окончательно сливаются ионическая и дорическая художественные традиции. Мирон стал мастером, синтезировавшим в своем творчестве основные качества реалистического искусства ранней классики.
С наибольшей силой особенности искусства Мирона выражены в «Дискоболе», описанном в следующих выражениях Лукианом: «Не говоришь ли ты о метателе диска, который склонился в движении метания, повернул голову, смотря на свою руку, держащую диск, и слегка согнул одну ногу, как будто готовясь выпрямиться одновременно с ударом»[38]. До нас дошло несколько не всегда точных, а иногда и не полностью сохранившихся римских копий знаменитой статуи Мирона. Большой интерес представляет бронзовая статуэтка 5 в. до н.э., изображающая дискометателя, видимо, современная статуе Мирона. Приводимый снимок воспроизводит слепок, синтезирующий на основе описания Лукиана лучшие римские копии.

153. Мирон. Дискобол. Около 450 г. до н. э. Мраморная римская копия с утраченного бронзового оригинала. Рим. Музей Терм.
«Дискобол», как и многие другие статуи такого типа, поставлен в честь определенного лица. В центре внимания художника стояла задача изображения сильного и прекрасного духом и телом человека, находящегося в напряженной и стремительном движении. Мирон изобразил метателя диска в тот момент, когда он вкладывает все свои силы в бросок диска. Несмотря на напряжение, которое пронизывает фигуру, статуя производит впечатление устойчивости. Это определяется выбором момента движения: взято мгновение перехода одного движения в другое, кульминационная точка в развитии движения.
Упруго согнувшись и крепко упираясь ногой в землю, юноша отбросил назад руку с диском. Еще мгновение, и тело, как пружина, стремительно распрямится, рука с силой выбросит диск в пространство. Мгновение покоя придает монументальную устойчивость образу, но в этом мгновении сочетаются завершившееся движение и предощущение всего последующего движения, действие героя охватывается во всей его законченной полноте, во всей его цельности. Конкретная жизненность движения слита с ясной законченностью, целостностью образа, что так близко было греческому эстетическому сознанию, считавшему прекрасным только то, что ясно выражало основную сущность явления. Композиция статуи сводит сложный и противоречивый мотив движения к немногим ясным и жизненно убедительным жестам, дающим ощущение сосредоточенной, сконцентрированной силы. Несмотря на сложность движения, в статуе «Дискобола», как и вообще в скульптуре классики, сохраняется единая точка зрения, позволяющая сразу увидеть все образное богатство статуи.
Спокойное самообладание, господство над своими чувствами — характерная черта греческого классического мировосприятия, определяющая меру этической ценности человека. Образы Мирона, так же как и замысел западного олимпийского фронтона, вырастают на той же почве, которая еще в 6 в. до н.э. породила двустишие:
Слишком в беде не горюй и не радуйся слишком при счастье.
То и другое умей доблестно в сердце носить
Утверждение красоты разумной воли, сдерживающей силу страсти и придающей ее выражению достойную человека форму, нашло свое особенно ясное выражение в созданной Мироном для Афинского акрополя скульптурной группе «Афина и Марсий».

154. Мирон. Афина. Середина 5 в. до н. э. Мраморная римская копия с утраченного бронзового оригинала. Франкфурт.

155. Мирон. Марсий. Середина 5 в. до н. э. Мраморная римская копия с утраченного бронзового оригинала. Рим. Латеранский музей.
Согласно мифу, Афина среди различных направленных на благо людям изобретений создала двойную флейту. Но когда она заиграла на ней, то услышала смех других богинь. Склонившись над источником, она увидела в своем отражении, как во время игры уродливо раздулись ее щеки. Афина бросила флейту и прокляла инструмент, нарушающий прекрасную гармонию человеческого лица. Силен Марсий, пренебрегая проклятием Афины, кинулся подбирать флейту. Мирон изобразил то мгновение, когда Афина, уходя, гневно обернулась на ослушника, а Марсий в испуге отпрянул назад.
Снова, как и в «Дискоболе», взято краткое мгновение, в котором заключено наивысшее напряжение действия, и снова в выбранной ситуации содержится полное раскрытие всего события. Вместе с тем здесь впервые в истории скульптуры, да и в истории искусства вообще, показано столкновение разных характеров.
Этот конфликт наглядно раскрывает как подлинные характеры персонажей, так и существо их взаимоотношений. Как в зерне содержится все растение, так и в этой мифологической скульптурной группе заключена возможность всего дальнейшего пути развития реалистической сюжетной композиции, показывающей взаимоотношения характеров, связанных общим действием, единым жизненным событием.
Афина и Марсий являются как бы антиподами. Это характеры прямо противоположные друг другу. Движение стремительно откинувшегося назад и взмахнувшего руками силена грубо и резко; его сильное тело лишено гармоничности. Властное и гневное, но сдержанное движение Афины полно естественного и строгого благородства. Лицо Марсия грубо: выпуклый лоб, звериные уши, приплюснутый нос делают его в какой-то мере типическим обобщением уродства. Лицо разгневанной богини выдает гнев лишь презрительно полуопущенными губами, суровостью взгляда. Гнев должен умеряться сдерживающей силой норм и законов, следование которым и определяет достоинство общественного человека. Вместе с тем голова Афины — яркий пример совершенного слияния в скульптурной форме физической и духовной красоты человека. Строгая соразмерность пропорций, ясный, открытый взгляд, естественность выражения — все сливается в единый, полный жизни и гармонии образ.
В целом мироновская группа «Афина и Марсий», как и олимпийские фронтоны, образно утверждает идею превосходства разума, человеческого начала над противостоящими им стихийными, инстинктивными силами. Вместе с тем композиция эта является апологией Афины, покровительницы города Афин, образно воплощающей идею Афинского государства.

158. Круг Мирона. Голова Афины. Мрамор. Середина 5 в. до н. э. Рим. Музей Баррокко.
Возможно, что эта группа была помещена на Акрополе также и потому, что Марсий, почитаемый во враждебной Афинам Беотии, был выставлен здесь в обидном свете. Конечно, афиняне не в этом видели основную художественную ценность группы. Однако то, что в образную мифологическую форму естественно и закономерно воплощались и политические страсти, — очень характерно для искусства того времени.
О произведениях Мирона, не дошедших до нас даже в копиях, можно судить по отзывам античных писателей.
Известно, что он изобразил прославленного аргосского бегуна Лада, добившегося победы в состязании ценой собственной жизни (он умер от разрыва сердца, добежав до цели). Об этой статуе можно судить по дошедшей до нас эпиграмме неизвестного поэта:
Полон надежды бегун: на кончиках губ лишь дыханье.
Видно: втянувшись вовнутрь, полыми стали бока.
Бронза стремится вперед за венком; не сдержать ее камню.
Ветра быстрейший бегун, чудо он Мирона рук.
Из литературных источников известно, что Мирон сделал гигантскую статую сидящего Геракла, а также изображение коровы, восхитившее современников близостью натуре.
К произведениям, родственным по духу искусству Мирона и образующим переход от фронтонов Олимпии к искусству высокой классики, относится рельеф аттического мастера, изображающий Афину, опирающуюся на копье (около 460 г. до н.э. .

156. Афина, опирающаяся на копье. Мраморный рельеф с Афинского акрополя. Около 460 г. до н. э. Афины. Музей Акрополя.

157. Апоксиомен и мальчик. Мраморный рельеф. Середина 5 в. до н. э. Дельфы. Музей.
В этом рельефе хорошо передано состояние ясной и светлой думы, в которую погружена Афина. Строгий ритм складок пеплоса Афины оттеняет свободную и естественную грацию ее движения. Легкий наклон фигуры вперед усиливает ощущение непринужденного покоя и только что закончившегося движения.
Близка к кругу творческих задач искусства Мирона и замечательная статуя крылатой Ники-Победы, работы ионийского скульптора Пэония из Менде (3-я четверть 5 в. до н.э.). Созданная в честь одержанной мессинянами победы, «на украшала архитектурный ансамбль Олимпии.

159. Пэоний. Ника, спускающаяся с небес. Из Олимпии. Мрамор. Третья четверть 5 в. до н. э. Олимпия. Музей.
Статуя, изображающая богиню победы, была помещена на высоком девятиметровом трехгранном постаменте. Крылатая Ника, спускающаяся с неба на распростертых крыльях, едва касалась ногами летящего орла. Мастерски передано ощущение парящего полета, напоминающего планирующий спуск большой птицы. Хотя мотив летящей женской фигуры и фантастичен, свойственное реализму греческой классики чувство органической цельности и жизненности образа придало статуе Ники живую убедительность. Поэтический образ крылатой и прекрасной победы нашел здесь свое правдивое и наглядное воплощение. Сильно поврежденная статуя Ники Пэония дошла до нас в мраморном подлиннике, по которому можно судить о мастерстве фактурной и светотеневой обработки поверхности мрамора.
Ко времени деятельности Мирона и Пэония, вероятно, относится прелестная фигурка Афины, выпускающей из протянутой руки сову (Британский музей). Небольшая по размерам бронзовая статуэтка отличается монументальной строгостью и простотой. Хотя трактовка складок несколько напоминает более раннее искусство второй четверти 5 в. до н.э., — благородная естественность и гармония движения и пропорций тела приближают эту статуэтку к произведениям высокой классики. Так же как и в «Афине» Мирона, в этой маленькой фигурке босоногой девушки передано ясное и светлое состояние духа, в спокойном изяществе ее движений — обаяние чистоты и молодости.
Искусство высокой классики (450 — 410 гг. до н.э.)
Вторая половина 5 в. до н.э. была временем особенно значительного расцвета искусств. Этот период именуется высокой классикой.
Ведущая роль в расцвете искусства высокой классики принадлежала Афинам — самому развитому в политическом, экономическом и культурном отношении полису.
Искусство Афин этого времени служило образцом для искусства других полисов, в особенности тех, которые были в орбите политического влияния Афин. В Афинах работало множество местных и приезжих художников — архитекторов, живописцев, скульпторов, рисовальщиков краснофигурных ваз.
Архитектура третьей четверти 5 в. до н.э. выступала как свидетельство победы разумной человеческой воли над природой. Не только в городах, но и среди дикой природы или на пустынных берегах моря ясные и строгие архитектурные сооружения господствовали над окружающим пространством, внося в него упорядоченный гармонический строй. Так, на крутом мысе Суний, в 40 км от Афин, на далеко выдвинутой в море самой восточной точке Аттики около 430 г. был сооружен храм бога морей Посейдона, словно первый город Эллады с гордостью утверждал этим свое морское могущество.
Передовая архитектурная мысль получила выражение не только в сооружении отдельных, выдающихся своими художественными качествами зданий, но и в области градостроительства. Впервые в эпоху Перикла была широко осуществлена правильная (регулярная) планировка городов по единому продуманному замыслу. Так была, например, распланирована военная и торговая гавань Афин — Пирей.
В отличие от большинства более древних греческих городов в Пирее мощеные улицы одинаковой ширины шли строго параллельно друг другу; под прямым углом их пересекали поперечные, более короткие и узкие улицы. Работы по планировке города были (не ранее 446 г. до н.э.) проведены архитектором Гипподамом из Милета — выходцем из малоазийской Греции. Восстановление городов Ионии, разрушенных во время войны персами, поставило перед зодчеством задачу строительства по единому плану. Здесь и возникли первые в истории архитектуры опыты общей планировки, на которые опирался в своей деятельности Гипподам. Главным образом планировка сводилась, как это было и в Пирее, к общей разбивке кварталов, причем при планировании улиц учитывался характер рельефа местности, а также направление ветров. Определялись заранее также и места расположения основных общественных зданий. Жилые дома Пирея были невысокими зданиями, выходившими на улицу глухими стенами, а внутри имевшими дворик с портиком на северной его стороне перед входом в жилые помещения. Эти жилые дома были относительно единообразны: в населенном свободными гражданами полисе 5 в. до н.э. не было того разительного неравенства, которое было характерно для позднейших городов эллинистического и римского времени.
В Афинах и при Перикле сохранилась старая, нерегулярная планировка. Но город украсился многочисленными новыми сооружениями: крытыми портиками (стоями), дававшими тень и защиту от дождя, гимнасиями — школами, где богатые юноши обучались философии и литературе, палестрами — помещениями для обучения мальчиков гимнастике и т. д. Стены этих общественных учреждений нередко покрывались монументальной живописью. Так, например, стены стой Пойкиле, то есть «Пестрой» стой, были украшены фресками знаменитого живописца середины 5 в. до н.э. Полигнота, посвященными темам Троянской войны и другим мифическим и историческим эпизодам. Все эти здания были сооружены по решению народа для удовлетворения его потребностей. Граждане Афин широко пользовались своей общественной архитектурой.
Но самым главным сооружением эпохи Перикла был новый ансамбль Афинского акрополя, который господствовал над городом и его окрестностями. Акрополь был разрушен во время персидского нашествия; остатки старых зданий и разбитые статуи были употреблены теперь на выравнивание поверхности холма Акрополя. В течение третьей четверти 5 в. до н.э. были возведены новые постройки — Парфенон, Пропилеи, храм Бескрылой Победы. Завершающее ансамбль здание Эрехтейона строилось позже, во время Пелопоннесских войн.
На холме Акрополя, таким образом, разместились основные святилища афинян и прежде всегр Парфенон — храм Афины Девы, богини мудрости и покровительницы Афин. Там же помещалась казна Афин; в здании Пропилеи, служившем входом на Акрополь, находились библиотека и картинная галлерея (пинакотека). На склоне Акрополя собирался народ на драматические представления, связанные с культом бога земного плодородия Диониса. Крутой и обрывистый, с плоской вершиной, холм Акрополя образовывал своего рода естественный пьедестал для венчающих его зданий.
Чувство связи архитектуры с пейзажем, с окружающей природой — характерная черта греческого искусства. Она получила свое последовательное развитие в годы расцвета классики. Греческие архитекторы превосходно умели выбирать места для своих построек. Храмы строились на скалистых мысах, на вершинах холмов, в точке схода двух горных гребней, на террасах горных склонов.
Храм возникал там, где ему было словно приготовлено место самой природой, и вместе с тем его спокойные, строгие формы, гармонические пропорции, светлый ирамор колонн, яркая раскраска противопоставляли его природе, утверждали превосходство разумно созданного человеком сооружения над окружающим миром. Мастерски располагая по местности отдельные здания архитектурного ансамбля, греческие зодчие умели находить такое их размещение, которое сочетало их в свободное от строгой симметрии органически естественное и вместе с тем глубоко продуманное единство. Последнее диктовалось всем складом художественного сознания эпохи классики.
С особенной ясностью этот принцип раскрылся в планировке ансамбля Акрополя.

160. Акрополь в Афинах. Вид с запада.
Планировка и постройка Акрополя при Перикле были выполнены по единому продуманному плану и в сравнительно короткое время под общим руководством великого скульптора Греции — Фидия. За исключением Эрехтейона законченного в 406 г. до н.э., все основные сооружения Акрополя были воздвигнуты между 449 и 421 гг. до н.э. Вновь построенный Акрополь должен был не только воплотить представление о могуществе и величии Афинской морской державы и утвердить передовые идеи греческой рабовладельческой демократии на высшей ступени ее развития, но и выразить — впервые в истории Греции — идею общеэллинского единства. Весь строй ансамбля Акрополя времен Перикла пронизан благородной красотой, спокойно-торжественным величием, ясным чувством меры и гармонии. В нем можно видеть наглядное осуществление слов Перикла, полных гордости за культуру «сердца Эллады — Афин»: «Мы любим мудрость без изнеженности и красоту без прихотливости».

План Афинского акрополя:1. Пропилеи. 2. Храм Ники Аптерос. 3. Эрехтейон. 4. Место расположения второго Гекатомпедона. 5. Парфенон
Полностью смысл планировки Акрополя можно понять, лишь учитывая движение торжественных процессий в дни общественных празднеств.

163. Мнесикл. Пропилеи Афинского акрополя. 437—432 гг. до н. э.
В праздник Больших Панафиней — день, когда от имени всего города-государства афинские девушки приносили в дар богине Афине вытканный ими пеплос, — шествие входило на Акрополь с запада. Дорога вела вверх, к торжественному входу на Акрополь — Пропилеям, построенным архитектором Мнесиклом в 437 — 432 гг. до н.э. . Обращенную к городу дорическую колоннаду Пропилеи обрамляли два неравных, но взаимно уравновешенных крыла здания. Одно из них — левое — было больше, но зато к меньшему примыкал выступ скалы Акрополя — Пиргос, увенчанный маленьким храмом Ники Аптерос, то есть Бескрылой Победы («бескрылой» — чтобы она никогда не улетала из Афин).

161. Калликрат. Храм Ники Аптерос. Между 449—421 гг. до н. э. Вид с юга.

162. Калликрат. Храм Ники Аптерос. Вид с востока.
Этот небольшой по размерам, кристально ясный по форме храм был построен архитектором Калликратом между 449 и 421 гг. до н.э. Расположенный ниже других построек Акрополя и словно отделившись от общего массива холма, он первый у входа на Акрополь встречал процессию. Храм отчетливо выступал на фоне неба; четыре стройные ионические колонны на каждой из двух коротких сторон храма, построенного по принципу амфипростиля, придавали зданию ясное, спокойное изящество.

Афинский акрополь.
В планировке Пропилеи, так же как и храма Ники Аптерос, были умело использованы неровности холма Акрополя. Второй, обращенный к Акрополю и также дорический портик Пропилеи был расположен выше наружного, так что, проходя сквозь Пропилеи, шествие подымалось все выше, пока не выходило на широкую площадь. Внутреннее пространство прохода Пропилеи было оформлено ионическими колоннами. Таким образом, при строительстве Акрополя все время последовательно проводилось сочетание обоих ордеров.
Принцип свободной планировки и равновесия вообще характерен для греческого искусства, в том числе и для архитектурных ансамблей классического периода.
На площади Акрополя, между Пропилеями, Парфеноном и Эрехтейоном, стояла колоссальная (7 м высоты) бронзовая статуя Афины Промахос («Воительницы»), созданная Фидием еще до постройки нового ансамбля Акрополя в середине 5 в. до н.э.

165. Иктин и Калликрат. Парфенон. 447—432 гг. до н. э. Вид с северо-запада.
Парфенон был расположен не прямо против входа на Акрополь, как в свое время стоял архаический храм Гекатомпедон, а в стороне, так что был виден от Пропилеи с угла. Это Давало возможность одновременно охватывать взглядом западный фасад и длинную (северную) сторону периптера. Праздничное шествие двигалось вдоль северной колоннады Парфенона к его главному, восточному фасаду. Большое здание Парфенона уравновешивалось стоявшим по другую сторону площади изящным и сравнительно небольшим зданием Эрехтейона, оттенявшим монументальную строгость Парфенона своей свободной асимметрией.

164. Площадь на Акрополе перед Парфеноном (направо) и Эрехтейоном (налево).
Создателями Парфенона были Иктин и Калликрат, начавшие строительство в 447 г. до н.э. и закончившие его в 438 г. Скульптурные работы на Парфеноне — Фидия и его помощников — продолжались до 432 г. Парфенон имеет по 8 колонн по коротким сторонам и по 17 по длинным: общие размеры здания 31 X 70 м, высота колонн — 10,5 м .
Парфенон стал совершеннейшим созданием греческой классической архитектуры и одним из высочайших достижений в истории зодчества вообще. Это монументальное, величественное здание возвышается над Акрополем подобно тому, как сам Акрополь возвышается над городом и его окрестностями. Хотя Афины располагали достаточно большими средствами, — вовсе не гигантские размеры, а гармоническое совершенство пропорций, прекрасная соразмерность частей, правильно найденные масштабы здания по отношению к холму Акрополя и по отношению к человеку определили собой впечатление монументальности и высокой значительности Парфенона. Героизация и возвеличение, а не умаление человека, легли в основу образного воздействия Парфенона. Соразмерное человеку, легко схватываемое с первого взгляда сооружение полностью соответствовало эстетическим идеалам классики.
Парфенон выстроен из квадров пентелийского мрамора, сложенных насухо.
Колонны Парфенона поставлены чаще, чем в ранних дорических храмах, антаблемент облегчен. Поэтому кажется, что колонны легко держат перекрытие. Незаметные для глаза курватуры, то есть очень слабая выпуклая кривизна горизонтальных линий стилобата и антаблемента, а также незаметные наклоны колонн внутрь и к центру здания исключают всякий элемент геометрической сухости, придавая архитектурному облику здания изумительную жизненность и органичность. Эти легкие отступления от геометрической точности были результатом продуманного расчета. Центральная часть фасада, увенчанного фронтоном, зрительно давит на колонны и стилобат с большей силой, чем боковые стороны фасада, совершенно прямая горизонтальная линия основания храма казалась бы зрителю слегка прогнутой. Для компенсации этого оптического эффекта поверхность стилобата и другие горизонтали храма делались зодчими классического времени не вполне точно горизонтально, а выгнутыми кверху. Ощущение еле уловимой выгнутости стилобата Парфенона усиливает впечатление упругого напряжения, которым пронизан весь его облик. Этой же цели служат и другие оптические поправки, введенные архитектором в ясный и упорядоченный строй периптера.

План Парфенона.
Благородство материала, из которого был построен Парфенон, позволило применить обычную в греческой архитектуре раскраску только для подчеркивания конструктивных деталей здания и для образования цветного фона, на котором выделялись скульптуры фронтонов и метоп. Так, были применены красный цвет для горизонталей антаблемента и фона метоп и фронтонов и синий — для триглифов и других вертикалей в антаблементе; праздничная торжественность сооружения подчеркивалась узкими полосками сдержанно введенной позолоты.
Выполненный в основном в дорическом ордере, Парфенон включил отдельные элементы ионического ордера. Это соответствовало общему стремлению классики и, в частности, создателей ансамбля Акрополя к объединению дорических и ионических традиций. Таков ионический по своему характеру зофор, то есть фриз, проходящий по верху наружной стены наоса за дорической колоннадой периптера, или четыре колонны ионического ордера, украшавшие внутри собственно «Парфенон» — зал, находящийся за наосом.
Парфенон был украшен исключительной по своему совершенству скульптурой. Эти статуи и рельефы, частично дошедшие до нас, были выполнены под руководством и, вероятно, при непосредственном участии Фидия — величайшего среди великих мастеров высокой классики. Фидию же принадлежала и 12-метровая статуя Афины, стоявшая в наосе. Кроме работ, выполненных для Акрополя, к которым Фидий приступил уже зрелым мастером, им был создан ряд монументальных тальных статуй культового назначения, как, например, гигантская статуя сидящего Зевса, стоявшая в храме Зевса в Олимпии, поражавшая современников выражением человечности. К сожалению, ни одна из знаменитых статуй Фидия не дошла до нас. Сохранилось лишь несколько мало достоверных римских копий, вернее было бы сказать — вариантов, восходящих к фидиевским статуям Афины и к другим его работам («Амазонка», «Аполлон»).
Для Акрополя Фидий создал три статуи Афины. Самой ранней из них, созданной, невидимому, еще при Кимоне во второй четверти 5 в. до н.э. и заказанной на средства из марафонской добычи, была упоминавшаяся выше Афина Промахос, стоявшая на площади Акрополя. Второй была меньшая по размерам Афина Лемния (то есть лемносская). Третья, Афина Парфенос (то есть Афина Дева), была создана в 40-е годы 5 в. до н.э., так как в 438 г. она уже была поставлена в храм.
Насколько можно судить по репликам и по описаниям, культовые статуи Фидия воплощали образ вполне реального в своей основе человеческого совершенства. Величие богов Фидия раскрывалось в их высокой человечности, а не божественности.

179. Фидий. Голова Афины Лемнии. Третья четверть 5 в. до н. э. Мраморная римская копия с утраченного бронзового оригинала. Болонья. Музей. Фотография сделана с бронзированного слепка в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (Москва).
Так, Афина Промахос («Воительница»), изображенная в полном вооружении, спокойно и властно озирала распростертый у ее ног город и бдительно охраняла его от грозящих опасностей. Связь с окружающей жизнью, конкретность сюжетного мотива были, очевидно, характерны для этой статуи. О том, каким огромным жизненным содержанием могли насыщаться образы высокой классики, дает представление хранящаяся в музее Болоньи прекрасная римская копия головы Афины Лемнии, хотя некоторые ученые выражали сомнение, действительно ли это копия с фидиевской статуи. Особую жизненную силу придает образу сочетание возвышенной красоты с вполне определенным выражением лица, передающим полное напряженной настороженности внимание, энергию и уверенность в себе.
Торс Афины Лемнии, дошедший до нас в римской мраморной копии (Дрезден), дает понятие о том совершенстве, с которым Фидий создал спокойно и торжественно стоящую монументальную статую. Прекрасен ясный и простой силуэт, легко читаемый на большом расстоянии; выразительно переданы внутреннее напряжение и сдержанная энергия движения. Эта статуя — пример совершенного разрешения тех задач, которые ставила еще ранняя классика, стремясь создать образ, сочетающий монументальное величие с конкретной жизненностью.
Афина Парфенос несколько отличалась от более раннпх Афин Фидия. Культовый характер статуи, стоящей в храме, требовал большей торжественности образа. Отсюда — включение в изображение Афины символических деталей: змея у ног Афины, фигуры Победы на ее протянутой правой руке, пышного шлема, венчающего ее голову, и т. п. Тем же определена и возвышенная бесстрастность образа, если верить довольно отдаленным репликам римского времени.

177. Афина Варвакион. Уменьшенная мраморная копия римского времени с Афины Парфенос Фидия, законченной после 438 г. до н. э. Афины. Национальный музей.
На круглом щите Афины была представлена битва греков с амазонками, полная бурного движения и непосредственного чувства жизни. Среди действующих лиц Фидий поместил отмеченное портретным сходством изображение Перикла и свой автопортрет, что было проявлением новых исканий, не характерных для реализма ранней и высокой классики и предвещающих приближение следующего этапа в развитии классического искусства. За Эту дерзкую затею Фидий был обвинен в безбожии. «Особенно его обвиняли в том, что он, изображая на щите битву с амазонками, вычеканил свое собственное изображение в виде плешивого старика, поднявшего двумя руками камень, а также прекрасный портрет Перикла, сражающегося с амазонкой. Он очень искусно расположил руку, поднимающую копье перед лицом Перикла, как будто хотел скрыть сходство, но оно все же видно с обеих сторон» (Плутарх, биография Перикла).
Одной из примечательных особенностей статуй Афины Парфенос и Зевса Олимпийского была хрисоэлефантинная техника исполнения, существовавшая, впрочем, и до Фидия. Деревянная основа статуй была покрыта тонкими листами Золота (волосы и одежда) и пластинками слоновой кости (лицо, руки, ступни ног).

196 а. Таманский сфинкс. Раскрашенный фигурный лекиф из Фанагории. Конец 5 в. до н. э. Ленинград. Эрмитаж.

196 6. Греческая монета с изображением Афины . Вторая половина 5 в. до н. э.

196 в. Греческая монета с изображением нимфы Аретузы 4 в. до до н. э.
Представление о впечатлении, какое могла производить хрисоэлефантинная техника, может дать небольшой фигурный лекиф аттической работы конца 5 в. до н.э., найденный в Северном Причерноморье на Таманском полуострове, так называемый «Таманский сфинкс», одна из жемчужин античной коллекции Государственного Эрмитажа в Ленинграде. Эта ваза — прекрасный образец греческой фигурной керамики классического времени, замечательный тонким чувством радостной красочности, сочетанием изящества с монументальной ясностью образа. Золотые косы, диадема и ожерелье, белое, легко тонированное розовым лицо и грудь явно навеяны образцами хрисоэлефантинной техники.
Если представить себе, что сияющая золотом статуя Афины находилась в помещении относительно темном по сравнению с ярко освещенной солнцем площадью Акрополя, что полоски позолоты на наружных частях Парфенона как бы подготавливали зрителя к ожидаемому зрелищу, что внутри наос был раскрашен красным и синим цветом и ряд деталей был выделен позолотой, то придется признать, что золотое сияние статуи Афины гармонировало с общим характером красочной гаммы архитектурной отделки здания.
Наиболее полное представление о творчестве Фидия и вообще о скульптуре периода расцвета классики могут дать сохранившиеся в подлинниках, хотя и сильно поврежденные скульптурные группы и рельефы, украшавшие Парфенон[39].
Скульптуры эти, как уже упоминалось выше, были созданы группой лучших ваятелей, руководимых Фидием. Весьма вероятно, что Фидий непосредственно участвовал и в выполнении самих скульптур. Можно утверждать, что во всяком случае композиционное решение, трактовка сюжетов и, возможно, эскизы фигур принадлежат Фидию. Вплоть до наших дней скульптурный ансамбль Парфенона является непревзойденным художественным памятником.
Все 92 метопы храма были украшены мраморными горельефами. На метопах западного фасада была изображена битва греков с амазонками, на главном, восточном фасада — битва богов с гигантами, на северной стороне храма — падение Трои, на южной, лучше сохранившейся, — борьба лапифов с кентаврами. Темы эти имели глубокий смысл для древних эллинов. Битва богов и гигантов утверждала, в образе борьбы космических сил, идею победы человеческого начала над первозданными стихийными силами природы, олицетворенными чудовищными гигантами, порождением земли и неба. Близка по значению первой теме и тема борьбы греков-лапифов с кентаврами. Троянские сюжеты имели более непосредственное историческое значение. Исторический миф о борьбе греков с троянцами, олицетворяющими малоазийский Восток, ассоциировался в представлении эллинов с недавно одержанной победой над персами.
Большая многофигурная группа, помещенная в тимпане восточного фронтона, была посвящена мифу о чудесном рождении богини мудрости Афины из головы Зевса. Западная же группа изображала спор Афины и Посейдона за обладание Аттической землей. Согласно мифу, спор решался сравнением чудес, которые должны были произвести Посейдон и Афина. Посейдон, ударив трезубцем о скалу, исторг из нее соленую целебную воду. Афина же создала оливковое дерево — эту основу сельскохозяйственого благополучия Аттики. Боги признали чудесный дар Афины более полезным людям, и владычество над Аттикой было передано Афине. Таким образом, западный фронтон, который первый встречал направляющуюся к Парфенону торжественную праздничную процессию, напоминал афинянам о том, почему именно Афина стала покровительницей страны, а главный, восточный фронтон, у которого заканчивалась процессия, был посвящен теме чудесного рождения богини — покровительницы Афин и торжественному изображению Олимпа.
Вдоль стены наоса за колоннами, как уже упоминалось, шел зофор, изображающий праздничное шествие афинского народа в дни Великих Панафиней, что непосредственно самой своей темой связывало ясно продуманный ансамбль скульптур Парфенона с реальной жизнью.
Скульптуры Парфенона дают ясное представление о том огромном пути, который был пройден греческим искусством за какие-нибудь 40—50 лет, отделяющие время создания акропольского комплекса от скульптур Эгинского храма.

167. Фидий и его ученики. Борьба лапифа с кентавром. Метопа Парфенона. Мрамор. Лондон. Британский музей.
Сохранившиеся метопы, посвященные преимущественно борьбе лапифов с кентаврами, представляют собой двухфигурные композиции, последовательно развертывающие перед зрителем перипетии этой борьбы. Поражает разнообразие движений и неистощимое богатство мотивов борьбы в каждой новой паре сражающихся. То кентавр, занеся над головой тяжелую чашу, нападает на упавшего и Закрывающегося щитом лапифа, то сплелись в жестокой схватке, вцепившись друг другу в горло, лапиф и кентавр, то, широко раскинув руки, гарцует над безжизненным телом павшего грека кентавр-победитель, то стройный юноша, схватив левой рукой за волосы кентавра, останавливает его стремительный бег, а правой заносит меч для смертельного удара.

166. Фидий и его ученики. Борьба лапифа с кентавром. Метопа Парфенона. Мрамор. Лондон. Британский музей.
Метопы эти были явно выполнены разными мастерами. В некоторых из них еще есть та резкая угловатость движения и подчеркнутая передача отдельных деталей, которая была, например, в западном фронтоне храма Зевса в Олимпии, посвященном тому же сюжету. В других, притом самых лучших, можно видеть все мастерство высокой классики в естественном и свободном воспроизведении любого реального действия и то глубокое чувство меры, которое неизменно сохраняет гармоническую красоту образа совершенного человека. Движения лапифов и кентавров в этих метопах непринужденно свободны, они обусловлены только характером той борьбы, которую они ведут, — в них не остается никаких отзвуков слишком очевидного и строгого подчинения архитектурной форме, какое было еще в метопах храма Зевса в Олимпии. Так в превосходном рельефе Парфенона, где полуобернувшийся назад лапиф, властной рукой ухватив за волосы кентавра, останавливает его стремительный бег и сгибает его тело, подобно тому как сгибают тугой лук, композиция подчинена логике движения фигур и сцены в целом и вместе с тем естественно соответствует пределам отведенного архитектурой пространства.
Этот принцип как бы непроизвольной, свободно возникающей гармонии архитектуры со скульптурой, полностью осуществляющей свои образные задачи и не разрушающей при этом архитектурного целого, — одна из важнейших особенностей монументальной скульптуры высокой классики.

170. Фидий и его ученики. Кефал, или Тезей с восточного фронтона Парфенона. Мрамор. Лондон. Британский музей.
На этом же принципе построены и композиции обоих фронтонов. При рассмотрении любой из фигур фронтонов в отдельности трудно предположить, что они включены в композицию, строго определенную архитектурной конструкцией. Так, поза полулежащего юноши Кефала с восточного фронтона вполне обусловлена самим мотивом движения фигуры, и вместе с тем она легко и ясно «вписывается» в острый угол фронтона, в котором находилась эта статуя. Даже на западном фронтоне храма Зевса в Олимпии движения фигур при всей их реалистической правдивости в общем были строго развернуты по плоскости фронтона. В таких статуях Парфенона, как Кефал (по другому толкованию — Тезей), достигнута полная свобода и естественность движения.
О композиции восточного фронтона и прежде всего о ее несохранившейся центральной части можно судить по рельефу на так называемом Мадридском путеале, где, впрочем, нарушен принцип треугольного расположения фигур. Фидий отказался от выделения оси симметрии композиции вертикально стоящей центральной фигурой. Прямая связь, которую получала при таком решении композиция фронтона с ритмом колоннады, была заменена гораздо более сложным соотношением. Свободные в своих движениях, полные жизни фигуры создавали группу, естественно размещенную в пределах треугольника фронтона и образующую ясно законченное и замкнутое в себе художественное целое. В центре фронтона были изображены сидящий на троне полуобнаженный Зевс и справа от него — полуобернувшаяся к нему и быстро двигающаяся к правому краю фронтона Афина в длинном хитоне и вооружении. Между ним и в вершине треугольника находилась парящая в воздухе Ника (Победа), венчающая Афину. За Зевсом, налево, был изображен Прометей (или Гефест), отшатнувшийся назад с топором в руке; справа от Афины — сидящая фигура Деметры, присутствовавшей здесь, вероятно, в своей роли родовспомогательницы. Таким образом, равновесие композиции было достигнуто здесь сложным перекрестным соответствием спокойно сидящих и стремительно движущихся фигур. Далее, по обе стороны центральной группы, располагались другие боги Олимпа. Из всех этих фигур сохранилась лишь сильно поврежденная крайняя левая — Ирида, вестница богов. Она полна бурного движения: складки ее длинной одежды развеваются от ветра, игра света и тени еще более усиливает динамику этой статуи. Слева, в самом углу фронтона, был помещен Гелиос — бог солнца, поднимающийся из вод Океана на квадриге; справа — опускающаяся книзу, так же как и Гелиос срезанная нижней чертой фротона, богиня ночи Никс (или Селена) со своим конем. Эти фигуры, обозначавшие смену для и ночи, тем самым показывали, что рождение Афины имеет значение для всей вселенной от востока до крайнего запада.

169. Фидий и его ученики. Оры с восточного фронтона Парфенона. Мрамор. Лондон. Британский музей.
Полулежащая фигура юноши — Тезея или, быть может, пробуждающегося Кефала, мифического охотника, встающего с зарей на охоту, — встречает Гелиоса. Рядом с ним были расположены две сидящие женские фигуры, которые обычно считаются Орами. Вслед уходящей ночи глядела (судя по зарисовке фронтона, сделанной в 17 в.) одна из трех прекрасных девушек, дочерей ночи — богинь судьбы Мойр. Эти три одетые в длинные одежды женские фигуры образующие группу в правом конце фронтона и дошедшие до нас, хотя и без голов, но в сравнительно более сохранном состоянии, принадлежат, как и фигура Кефиса с западного фронтона, к числу величайших сокровищ греческого искусства.

168. Фидий и его ученики. Мойры с восточного фронтона Парфенона. Мрамор. Лондон. Британский музей.
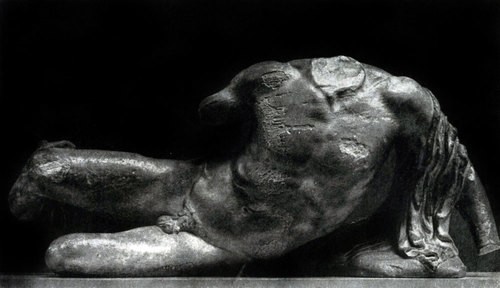
171. Фидий и его ученики. Кефис с западного фронтона Парфенона. Мрамор. Лондон. Британский музей.
Из уцелевших статуй сильно разрушенного западного фронтона наиболее совершенны Кефис, плавные, текучие линии тела которого, действительно, словно олицетворяют реку Аттики, группа Кекропа, легендарного основателя Афинского государства, с его молодой дочерью Пандросой и фигура Ириды.

172. Фидий и его ученики. Кекроп и его дочь Пандроса с западного фронтона Парфенона. Мрамор. Афины. Парфенон.

173. Фидий и его ученики. Ирида с западного фронтона Парфенона, Мрамор. Лондон. Британский музей.
Красота и величественность фронтонных скульптур Парфенона достигнуты отбором тех тонко прочувствованных естественных движений, которые своей свободной целесообразностью с наибольшей полнотой передают пластическую красоту и этическое совершенство человека.
Фриз (зофор) Парфенона дает ясное представление об особенностях построения классического рельефа. Все планы, на которые расчленяется рельеф, идут параллельно друг другу, образуя как бы ряд слоев, замкнутых между двумя плоскостями. Сохранению плоскости стены содействует единое, направленное строго параллельно плоскости стены движение многочисленных фигур. Ясная смена планов и ясный ритмический строй фриза рождают впечатление необычайной целостности изображения.
Перед создателями зофора стояла сложная композиционная задача. Необходимо было опоясать стены на протяжении около двухсот метров рельефом с изображением одного события — народного шествия, — избежав и монотонности и пестроты, и передать на плоскости стены невысоким рельефом все богатство и многообразие парадного шествия и его торжественную стройность. Мастера зофора блестяще справились со своей задачей. Ни один мотив движения на фризе ни разу в точности не повторяется, и, хотя фриз наполнен множеством разнообразных фигур людей, идущих, едущих на конях или колесницах, несущих корзины с дарами или ведущих жертвенных животных, всему фризу в целом присуще ритмическое и пластическое единство.
Фриз начинается со сцен подготовки юношей-всадников к шествию. Спокойные движения юношей, завязывающих ремни на сандалиях или чистящих коней, оттеняются время от времени вторгающимся сюда резким движением вставшего на дыбы коня или каким-либо стремительным жестом юноши. Далее мотив движения развивается все более быстро. Сборы закончены, начинается само шествие. Движение то убыстряется, то замедляется, фигуры то сближаются, почти сливаясь друг с другом, то пространство между ними расширяется. Волнообразный ритм движения пронизывает весь фриз. Особенно замечательна вереница скачущих всадников, в которой мощное в своем единстве движение складывается из бесконечного многообразия схожих, но не повторяющихся движений отдельных фигур, различных и по своему облику. Не менее прекрасно строгое шествие афинских девушек, длинные одежды которых образуют мерные складки, напоминающие каннелюры колонн Парфенона. Ритм движения девушек особенно оттеняется повернутыми навстречу мужскими фигурами (распорядителей празднества). Над входом, на восточном фасаде — боги, смотрящие на процессию. Люди и боги изображены одинаково прекрасными. Дух гражданственности делал возможным для афинян горделивое утверждение эстетического равенства образа человека образам божеств Олимпа.

174. Фидий и его ученики. Девушки. Фрагмент фриза Парфенона. Мрамор. Париж. Лувр.

175. Фидий и его ученики. Всадники. Фрагмент фриза Парфенона. Мрамор. Лондон. Британский музей.

176 а. Фидий и его ученики. Олимпийские боги. Фрагмент фриза Парфенона. Мрамор. Лондон. Британский музей.

176 6. Фидий и его ученики. Всадники. Фрагмент фриза Парфенона. Мрамор. Афины. Парфенон.
Направление, представленное в искусстве скульптуры второй половины 5 в. до н.э. Фидием и всей аттической школой, им возглавляемой, занимало ведущее место в искусстве высокой классики. Оно наиболее полно и последовательно выражало передовые художественные идеи эпохи.
Фидий и аттическая школа создали искусство, синтезирующее все то прогрессивное, что несли в себе работы ионических, дорических и аттических мастеров ранней классики до Мирона и Пэония включительно.
Однако из этого не следует, что художественная жизнь сосредоточилась к началу второй половины века только в Афинах. Так, сохранились сведения о работах мастеров малоазийской Греции, продолжало процветать искусство греческих городов Сицилии и южной Италии. Наибольшее значение имела скульптура Пелопоннеса, в частности старого центра развития дорийской скульптуры — Аргоса.
Именно из Аргоса вышел современник Фидия Поликлет, один из великих мастеров греческой классики, работавший в середине и в третьей четверти 5 в. до н.э.
Искусство Поликлета связано с традициями аргосско-сикионской школы с ее преимущественным интересом к изображению спокойно стоящей фигуры. Передача сложного движения и активного действия или создание групповых композиций не входили в круг интересов Поликлета. В отличие от Фидия Поликлет был в известной мере связан с более консервативными кругами рабовладельческого полиса, которые в Аргосе были гораздо сильнее, чем в Афинах. Образы статуй Поликлета перекликаются со старинным идеалом гоплита (тяжеловооруженного воина), сурового и мужественного. В своей статуе «Дорифора» («Копьеносца»), выполненной около середины 5 в. до н.э., Поликлет создал образ юноши-воина, воплощавший идеал доблестного гражданина.

178. Голова эфеба. Бронза. Третья четверть 5 в. до н. э. Париж. Лувр.
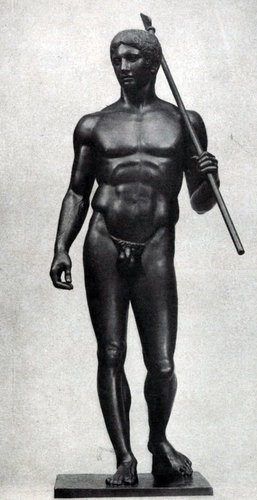
180. Поликлет. Дорифор. Около 440 г. до н. э. Мраморная римская копия с утраченного бронзового оригинала. Неаполь. Национальный музей. Фотография сделана с бронзированного слепка в Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (Москва).
Бронзовая статуя эта, как, впрочем, и все произведения Поликлета, в подлиннике до нас не дошла; она известна только по мраморным римским копиям. Статуя изображает крепко сложенного юношу с сильно развитыми и резко подчеркнутыми мускулами, несущего на левом плече копье. Вся тяжесть его тела опирается на правую ногу, левая же отставлена назад, касаясь земли только пальцами. Равновесие фигуры достигнуто тем, что приподнявшемуся правому бедру соответствует опущенное правое плечо и, наоборот, опустившемуся левому бедру — приподнятое левое плечо. Такая система построения человеческой фигуры (так называемый «хиазм») придает статуе мерный, ритмический строй.
Покой фигуры Дорифора сочетается с внутренним напряжением, придающим его, казалось бы, внешне бесстрастному образу большую героическую силу. Точно рассчитанная и продуманная архитектоника построения человеческой фигуры выражена здесь в сопоставлении упругих вертикальных линий ног и бедер и тяжелых горизонталей плеч и мускулов груди и живота; этим создается проникнутое противоборствующими силами равновесие, подобное тому равновесию, которое дает соотношение колонны и антаблемента в дорическом ордере. Эта система художественных средств, разработанная Поликлетом, была важным шагом вперед в реалистическом изображении человеческого тела в скульптуре. Найденные им закономерности скульптурного изображения человека реально отвечали духу героической мужественности, который был характерен для образа человека классического периода Греции.

181 а. Круг Поликлета. Обнаженный юноша. Бронзовая статуэтка. Конец 5 в. до н. э. Париж. Лувр.
В стремлении теоретически обосновать рожденный реальной жизнью обобщенный типический образ совершенного человека Поликлет пришел к сочинению «Канона». Так был назван им его теоретический трактат и сделанная по правилам теории статуя; в них была разработана система идеальных пропорций и законов симметрии, по которым должно строиться изображение человека. Такая нормативная тенденция таила в себе опасность возникновения отвлеченных схем. Можно предполагать, что римские копии усилили те черты отвлеченности, которые были свойственны произведениям Поликлета. Среди дошедших до нашего времени подлинных греческих бронзовых статуэток 5 в. до н.э. некоторые, несомненно, более близки по духу искусству Поликлета. Такова хранящаяся в Лувре статуэтка обнаженного юноши. Несколько тяжеловатые пропорции, как и мотив сдержанного движения, напоминают работы Поликлета. Греческий оригинал дает возможность оценить особенности художественного языка Поликлета, утраченные в переложении римских копиистов. Луврский молодой атлет при всей аналитической точности и выверенности построения отличается естественностью жеста, жизненной убедительностью образа.
Под конец жизни Поликлет отошел от строгого следования своему «Канону», сблизившись с мастерами Аттики. Его «Диадумен» — юноша, увенчивающий себя победной повязкой, — статуя, созданная около 420 г. до н.э., явно отличается от «Дорифора» более изящными и стройными пропорциями, легким движением и большей одухотворенностью образа.

181 6. Поликлет. Диадумен. Около 420 г. до н. э. Мраморная римская копия с утраченного бронзового оригинала. Афины. Национальный музей.
До нашего времени дошла римская копия «Раненой амазонки» Поликлета и римская же статуя «Амазонки Маттеи», восходящая к оригиналу Фидия. Они дают в известной мере возможность наглядно сопоставить особенности фидиевского и поликлетовского вклада в искусство классики.
Фидиевская амазонка изображена в тот момент, когда она, оглядываясь на приближающегося врага, опирается на копье, готовая вскочить на коня. Ее прекрасные пропорции лучше передают строение сильного тела девушки, чем построенные по «Канону» почти мужские пропорции амазонки Поликлета. Стремление к активному действию, непринужденная и выразительная красота движения характерны для искусства Фидия, художника более многогранного, чем Поликлет, более полно сочетающего в единое целое совершенную красоту образа с его конкретной жизненностью.
Поликлет изобразил раненую амазонку. Ее сильное тело ослабело, она облокотилась левой рукой на опору, правая рука ее закинута за голову. Но только Этим и ограничился Поликлет; в лице статуи нет выражения боли и страдания, нет и реалистического жеста, передающего движение страдающего от раны человека. Эти элементы отвлеченности позволяют передать только самое общее состояние человека. Но идеал мужественной сдержанности человека, растворение его переживаний в общем духе властвования собой — эти характерные особенности искусства Поликлета несли в себе высокие понятия о достоинстве совершенного человека — героя.
Если Поликлет смог дать рядом с высоким и прекрасным искусством Фидия и его сотоварищей по украшению Акрополя свой важный и значительный вариант искусства высокой классики, то иначе сложилась судьба его творческого наследия. В конце 5 в. до н.э., в годы Пелопоннесских войн, продолжатели Поликлета вступили в прямую борьбу с реалистической традицией фидиевской школы. Такие пелопоннесские скульпторы конца 5 в. до н.э., как Каллимах, искали лишь отвлеченного нормативного совершенства, далекого от всякого живого чувства действительности.
Но и в аттической школе, в кругу учеников и последователей Фидия, реалистические искания получают в последней четверти 5 в. до н.э. некоторые новые черты.

183. Кресилай. Портрет Перикла. Около 440 г. до н. э. Мраморная римская копия. Лондон. Британский музей.
Среди непосредственных учеников Фидия, полностью остававшихся верными учителю, выделяется Кресилай, автор героизированного портрета Перикла. В этом портрете глубоко и сильно выражены спокойное величие духа и сдержанное достоинство мудрого государственного деятеля. Полные жизни прекрасные человеческие образы можно видеть и в других работах Кресилая (например, голова статуи эфеба, победителя в состязании).

182. Кресилай. Голова эфеба. Вторая половина 5 в. до н. э. Мраморная римская копия с утраченного оригинала. Нью-Йорк. Метрополитен-музей.
С другой стороны, в том же кругу Фидия стали появляться произведения, ищущие усиления драматического действия, обостряющие темы борьбы, столь широко представленные в рельефах Парфенона. Рельефы такого рода, насыщенные бурными контрастами и напряженной динамикой, с грубоватой резкостью реалистических деталей были выполнены скульпторами, которых пригласил Иктин для украшения построенного им храма Аполлона в Бассах (в Фигалии). Этот фриз, изображающий битву греков с кентаврами и амазонками, вопреки обычным правилам находился в полутемном наосе и был выполнен в высоком рельефе с энергичным использованием контрастов света и тени. В эти рельефы (правда, ' далеко не первоклассные по качеству) впервые были введенны элементы более субъективного и эмоционально заостренного восприятия, чем это было обычно принято. Передача бурных и грубо выразительных движений сражающихся, данных в разных раккурсах, усиливало это впечатление.
Среди мастеров фидиевской школы к концу 5 в. до н.э. появилось также тяготение к выражению лирического чувства, стремление с особенной мягкостью передать грацию и изящество движений. При этом образ человека оставался типически-обобщенным, не утрачивая свою реалистическую правдивость, хотя и теряя нередко героическую силу и монументальную строгость, столь характерные для произведений, созданных несколькими десятилетиями раньше.
Наиболее крупным мастером этого направления в Аттике был ученик Фидия — Алкамен. Он был продолжателем Фидия, но для его искусства характерны черты утонченного лиризма и более интимной трактовки образа. Алкамену принадлежали и некоторые статуи чисто фидиевского характера (например, колоссальная статуя Диониса). Однако новые искания всего яснее выступали в его работах другого порядка, как, например, в знаменитой статуе Афродиты, стоявшей в саду на берегу реки Илисса, — «Афродита в садах». Она дошла до нас в копиях и репликах римского времени.

184. Алкамен. Афродита в садах. Конец 5 в. до н. э. Мраморная реплика из Музея Терм в Риме.
Афродита была изображена Алкаменом спокойно стоящей, слегка склонившей голову и изящным движением руки откидывающей с лица покрывало; в другой руке она держала яблоко, возможно, дар Париса, признавшего Афродиту прекраснейшей среди богинь. С большим мастерством Алкамен передал сбегающие вниз складки тонкого длинного одеяния Афродиты, облекающего ее стройные формы. Совершенная красота человека была окрашена здесь восхищенным и нежным чувством.

185. Ника. Рельеф балюстрады храма Ники Аптерос. Мрамор. Около 409 г. до н. э. Афины. Музей Акрополя.

186. Надгробие Мнесарете из Афин. Фрагмент. Мрамор. Начало 4 в. до н. э. Мюнхен. Глиптотека.

187. Ника, развязывающая сандалию. Рельеф балюстрады храма Ники Аптерос. Мрамор. Около 409 г. до н. э. Афины. Музей Акрополя.

188. Надгробие Гегесо из Афин. Мрамор. Около 410 г. до н. э. Афины. Национальный музей.
В еще большей степени такие поиски лирического образа нашли свое осуществление в созданных около 409 г. до н.э. мраморных рельефах балюстрады храма Ники Аптерос на Акрополе. Эти рельефы изображали девушек, совершающих жертвоприношение. Замечательный рельеф «Ника, развязывающая сандалию» — один из шедевров скульптуры высокой классики. Лиризм этого произведения рождается и из совершенства пропорций, и из глубокой мерцающей светотени, и из нежной мягкости движения, подчеркнутого текучими линиями складок одежды, необычайно изящного, живого и естественного движения. Очень большую роль в сложении этого лирического направления в высокой классике сыграли многочисленные рельефы на надгробных стелах, прекрасные образцы которых были созданы в конце 5 в. до н.э. Таково, например, «Надгробие Гегесо», несущее в своей чисто бытовой жизненной правде высокое поэтическое чувство. Среди многих дошедших до нас надгробных рельефов конца 5 — начала 4 в. выделяются также стела Мнесарете и надгробие в форме лекифа из Ленинградского Эрмитажа. Древние греки очень мудро и спокойно относились к смерти: в надгробиях классического периода нельзя найти ни страха смерти, ни каких-либо мистических настроений. Они изображают живых людей, их тема — прощание, проникнутое задумчивым размышлением. Надгробные стелы классической поры своим светлым элегическим настроением были призваны утешить, поддержать человека в его страдании.

План Эрехтейона.
Изменения в художественном сознании, наметившиеся в последние десятилетия 5 в. до н.э., нашли свое выражение и в архитектуре.

189. Иктин. Храм Аполлона в Бассах (Фигалии). Последняя треть 5 в. до н. э.
Уже Иктин смело расширил творческие искания архитектурной мысли классики. В храме Аполлона в Бассах он впервые ввел в здание наряду с дорическими и ионическими элементами также и третий ордер — коринфский, хотя еще только лишь одна колонна внутри храма несла такую капитель. В Телестерионе, который был построен Иктином в Элевсине, он создал сооружение необычного плана, с обширным колонным залом.

190. Эрехтейон. Вид с юго-востока. Около 420—406 гг. до н. э.
Столь же новым было прихотливо асимметрическое построение здания Эрехтейона на Афинском акрополе, выполненного неизвестным архитектором в 421 — 406 гг. до н.э.

191 а. Эрехтейон. Портик кор.

191 6. Эрехтейон. Северный портик.

Гидрия.
Место расположения здания в общем ансамбле Акрополя и его размеры были вполне определены характером зодчества периода расцвета классики и замыслом Перикла. Но художественная разработка этого храма, посвященного Афине и Посейдону, внесла новые черты в архитектуру классического времени: живописную трактовку архитектурного целого — интерес к сопоставлениям контрастных архитектурных и скульптурных форм, множественность точек зрения, раскрывающих новые, разнообразные и сложные впечатления. Эрехтейон построен на неровном северном склоне Акрополя, и его планировка продуманно включила в себя использование этих неровностей почвы: храм состоит из двух находящихся на разном уровне помещений, он имеет разной формы портики на трех сторонах — в том числе знаменитый портик кор (кариатид) на южной стене — и четыре колонны с промежутками, закрытыми решетками (замененными позднее каменной кладкой) на четвертой стене. Ощущение праздничной легкости и изящной стройности вызвано применением в наружном оформлении более нарядного ионического ордера и прекрасно использованными контрастами легких портиков и глади стен.
В Эрехтейоне не было наружной раскраски, ее заменяло сочетание белого мрамора с фиолетовой лентой фриза и позолотой отдельных деталей. Это единство цветового решения в большой мере служило объединению разнообразных, хотя и одинаково изящных архитектурных форм.
Смелое новаторство неизвестного автора Эрехтейона развивало живую творческую традицию высокой классики. Однако в этом здании, прекрасном и пропорциональном, но далеком от строгой и ясной гармонии Парфенона, уже пролагались пути к искусству поздней классики — искусству более непосредственно человечному и взволнованному, но менее героическому, чем высокая классика 5 в. до нашей эры.
Вазопись в эпоху высокой классики развивалась в тесном взаимодействии с монументальной живописью и скульптурой.
Опираясь на реалистические завоевания первой трети века, вазописцы высокой классики, однако, стремились умерить ту резкость в передаче деталей натуры или мотивов движения, которая встречалась ранее. Большая ясность и гармоничность композиции, величавая свобода движения и, главное, большая духовная выразительность стали характерными чертами вазописи этого времени. Вместе с тем вазопись несколько отошла от той конкретной жанровости сюжетов, которая наблюдалась в первой трети века. В ней появилось больше героических изображений на мифологические темы, сохранявших всю человечность ранней классики, но явно искавших монументальной значительности образа.
Вазописцев середины 5 в. до н.э. стало привлекать изображение не только действия, но и душевного состояния героев, — углубилось мастерство жеста, цельность композиции, хотя и за счет некоторой утраты той непосредственности и свежести, какие отличали творения Дуриса или Брига. Как и в скульптуре высокой классики, в образах вазописи этого времени передавались самые общие состояния человеческого духа, еще без внимания к конкретным и индивидуальным чувствам человека, к их противоречиям и конфликтам, к смене и борьбе настроений. Все это еще не входило в сферу внимания художников. Зато ценой некоторой обобщенности чувства было достигнуто то, что человеческие образы, созданные вазописцами середины 5 в. до н.э., обладают такой типичностью и столь ясной чистотой своего душевного строя.

192. Кратер из Орвьето. Афина. Геракл и аргонавты. Около 450 г. до н. э. Париж. Лувр.
Монументальная строгость и ясность характерны для росписи знаменитого «Кратера из Орвьето» — хранящейся в Лувре вазы со сценой гибели Ниобидов на одной ее стороне и изображением Геракла, Афины и Аргонавтов на другой. Фигуры свободно и естественно расположены по поверхности вазы, хотя для сохранения целостности этой поверхности художник избегает перспективных уменьшений, фигур, по смыслу размещенных на втором плане. Мастерское владение раккурсами, живые, естественные позы фигур подчинены строгому, спокойному ритму, объединяющему изображение со столь же гармоничной формой вазы. В «Кратере из Орвьето» краснофигурная вазопись достигает одной из своих вершин.
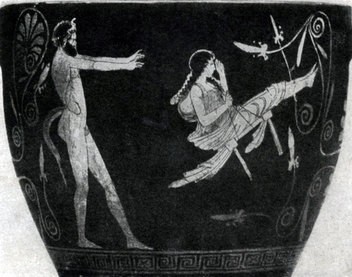
193 а. Сатир, качающий девушку на качелях. Роспись скифоса. Около 430 г. до н. э. Берлин.
Примерами вазописи высокой классики могут служить такие сделанные во второй половине века рисунки, как «Сатир, качающий на качелях девушку во время весеннего праздника», как «Полиник, протягивающий ожерелье Эрифиле» (так называемая «Ваза из Лечче») и многие другие.

193 6. Полиник, предлагающий ожерелье Эрифиле. Роспись пелики (так называемой Вазы из Лечче). Вторая половина 5 в. до н. э. Лечче (Италия). Музей.
Около середины века получили широкое распространение лекифы с росписью по белому фону, служившие для культовых целей (связанных с погребением умерших). В них нередко рисунок достигал особенной непринужденной легкости (подчас переходившей в небрежность); он наносился черным лаком, обрисовывая основные линии фигуры, и после обжига раскрашивался (почему иногда из-за стершейся краски фигуры выглядят обнаженными). Образцом мастерского рисунка на белом фоне является изображение девушки, приносящей дары умершему, на аттическом лекифе Бостонского музея.

197. Девушка у гробницы. Роспись белого лекифа. Третья четверть 5 в. до н. э. Бостон. Музей изящных искусств.

Ойнохойя.

Амфора.

Стамнос.

Скифос.
К концу 5 в. до н.э. вазопись начала приходить в упадок. Уже Мидий и его подражатели стали перегружать рисунки на вазах декоративными деталями; в этой нарядной узорной орнаментации фигуры людей, изображенные в затейливых раккурсных построениях, потеряли свое первенствующее значение — они стали безличными и одинаковыми, теряясь посреди развевающихся драпировок. Кризис свободного труда в конце 5 в. особенно пагубно отразился на творчестве мастеров-керамистов и рисовальщиков. Вазопись начала утрачивать художественное качество, превращаясь постепенно в механическое и безликое ремесло.
Не дошедшая до нас живопись классического периода, насколько можно судить по высказываниям древних авторов, имела, так же как и скульптура, монументальный характер и выступала в неразрывной связи с архитектурой. Выполнялась она, видимо, чаще всего, фреской; не исключена возможность, что в 5 в. до н.э., во всяком случае во второй половине его, употреблялись клеевые краски, а также восковые (так называемая энкаустика). Клеевые краски могли применяться как прямо по специально подготовленной стене, так и по грунтованным доскам, которые укреплялись непосредственно на стенах, предназначенных для росписи.

194 а. Аполлон, убивающий гиганта Тития. Роспись килика. Около 470 г. до н. э. Мюнхен. Музей античного прикладного искусства.

194 6. Дионис и его свита. Роспись лекифа. Около 430 г. до н. э. Берлин.
Живопись в 5 в. до н.э. носила строго обобщенный монументальный характер и создавалась для определенного места в архитектурном ансамбле. Сколько-нибудь достоверных сведений о существовании станковых произведений не сохранилось. Как монументальная скульптура дополнялась мелкой пластикой из терракоты или бронзы, тесно связанной с художественным ремеслом и с прикладным искусством, так и монументальная живопись, минуя ее собственно станковые формы, дополнялась вазописью, неразрывно связанной с искусством керамики. Монументальная живопись занимала важное место в художественной жизни того времени. Лучшие произведения пользовались большой славой. Крупнейшие мастера живописи были широко известны и окружены общественным почетом наряду с выдающимися скульпторами, поэтами, драматургами своего времени.

Пелика.

Лекиф.

Кратер.

Кратер.
Живопись 5 в. до н.э. по своим эстетическим принципам была очень близка скульптуре, находясь в тесной взаимосвязи с ней. По существу изобразительные Задачи живописи в основном сводились к иллюзорному воспроизведению объема человеческого тела. Задача изображения среды, окружающей человека, его взаимодействия с ней в живописи 5 в. не ставилась. Собственно живописные средства изображения — светотень, колорит, передача атмосферы, пространственной среды— только зарождались, и то в основном в конце 5 в. до н.э. Но основной целью и в конце века оставалось стремление найти художественные средства, передающие пластическую объемность.

195. Прощание воина. Роспись стамноса. После 440 г. до н. э. Мюнхен. Музей античного прикладного искусства.
Лишь позже, уже в период поздней классики, в связи с общим изменением характера художественных идей, эти достижения стали использоваться сознательно для изображения человека в окружающей его природной и бытовой среде, для более богатой живописной и эмоциональной его характеристики.
Таким образом, 5 в. до н.э. — Это время сложения предпосылок для раскрытия изобразительных возможностей живописи. Вместе с тем реалистическое изображение человека или группы людей в разнообразных действиях, оперирование верными анатомическими пропорциями, правдивая передача телесности и объемности человеческих форм, зарождение последовательно реалистического понимания сюжета означали большой прогрессивный шаг в истории живописи по сравнению с более ранними условными или чисто декоративными композициями.
Крупнейшим мастером второй четверти и середины 5 в. до н.э.) современником Мирона, был Полигнот — уроженец острова Фасоса, получивший за свои работы, выполненные им для Афин, почетное звание афинского гражданина.
Круг тем Полигнота был близок к темам, к которым обращались мастера фронтонных композиций и рельефов. Это были эпические темы (из «Илиады», поэм Фиванского цикла) и мифологические (битва греков с амазонками, битва с кентаврами и др.).Важной особенностью вописи Полигнота было обращение к темам исторического характера. Так, в пинакотеке в Афинах, росписью которой руководил Полигнот, среди других фресок было выполнено изображение «Битвы при Марафоне».

Лекиф.

Килик.
По всей вероятности, однако, эти картины на исторические темы носили тот же обобщенно-героический характер, что и композиции, воспевающие высокие подвиги мифических героев. Подобно тому как «Персы» Эсхила, посвященные морской победе эллинов над полчищами Ксеркса, построены по тем же художественным принципам, что и его «Орестея» или «Семеро против Фив», так и эти исторические композиции Полигнота решались, видимо, в том же плане, что и мифологические картины, и входили вместе с ними в один и тот же общий ансамбль.
Одной из самых знаменитых работ Полигнота была роспись «Лесхи (дома собраний) книдян» в Дельфах, описание которой сохранил нам Павсаний, где Полигнот изобразил «Гибель Трои» и «Одиссея в Аиде».
Известно, что Полигнот употреблял только четыре краски (белую, желтую, красную и черную); видимо, его палитра не отличалась слишком резко от той, что применялась мастерами вазописи. Согласно описаниям, цвет у Полигнота носил характер раскраски и цветная моделировка фигуры им почти не применялась. Но его рисунок отличался высоким совершенством. Он верно в анатомическом отношении передавал тело в любых раккурсах и движениях. Древние восхищались тем, что Полигнот достиг совершенства в изображении лица, что он впервые стал передавать душевное состояние, в частности с помощью приоткрытого рта стремясь придать лицу черты эмоциональной выразительности. Подобные опыты в скульптуре осуществлялись мастерами западного олимпийского фронтона как раз в годы расцвета деятельности Полигнота.
Описания картин Полигнота дают основание полагать, что мастер не ставил перед собой задачи дать целостное изображение среды, в которой происходит действие. Древние авторы упоминают об отдельных предметах природы и обстановки, сюжетно связанных с действиями героев, например о камешках морского берега, но изображенных не на всей картине, а лишь для определения местонахождения героя. «До коня продолжается морской берег, и на нем видны камешки, далее на картине нет моря», — говорит Павсаний, описывая картину Полигнота «Гибель Трои». Видимо, Полигнот и другие живописцы 5 в. до н.э. еще не до конца осознавали все возможности живописи и не ощущали принципиальной разницы между изображением гальки морского берега на рельефе (как в сцене рождения Афродиты на «Троне Людо-визи») и задачей изображения морского побережья на картине. Никаких сведений о решении Полигнотом задач перспективы или светотени у древних авторов нет. Композиция, судя по всему, носила более или менее фризообразный характер.

Лекиф.
Современники Полигнота высоко ценили его живопись за те же качества, которые они ценили и в скульптуре: величие духа, высокую нравственную силу (этос) героев, правдивость в изображении прекрасного человека.

Алабастр.
Полигнот очень много сделал для реалистического, ясного и конкретного изображения человека в живописи. Последующее развитие греческого искусства, непрестанный рост интереса к внутреннему миру человека, к непосредственному чувственному восприятию его образа, появление большего интереса к быту и окружающей среде постепенно расширяли круг изобразительных задач, стоящих перед живописью.
Во второй половине и в конце 5 в. до н.э.. появился ряд живописцев, тесно связанных с общими тенденциями в развитии скульптурной аттической школы конца 5 в. до н.э. Наиболее известным мастером этого времени был Аполлодор Афинский. Для его живописи, трактовавшей традиционные сюжеты в более интимной и жанровой манере, чем его предшественники, характерны большая свобода цвета и интерес к моделировке форм тела посредством светотени. Плиний говорит об Аполлодоре, что «он первый начал передавать тени». Большое значение имеют указания древних авторов, дающие основания предполагать, что Аполлодор и другие живописцы конца 5 в. до н.э. (Зевксис, Паррасий) стали разрабатывать не только задачи изображения человеческого тела в движении, но и перспективу, как линейную, так и воздушную. Неизменной целью этих живописцев оставалось создание реалистических, прекрасных и живых человеческих образов.
Начиная с Аполлодора греческая живопись перестала быть воспроизведением скульптурно трактованных фигур на плоскости стены, а стала живописью в собственном смысле этого слова. Аполлодор одним из первых живописцев перешел и к писанию картин, не связанных органически с архитектурным сооружением. В этом отношении он не только развивал далее высокие традиции классики 5 в. до н.э., но и намечал новые пути реалистического искусства, ведшие к поздней классике.
Искусство поздней классики (От конца Пелопоннесских войн до возникновения Македонской империи)
Четвертый век до н.э.. явился важным этапом в развитии древнегреческого искусства. Традиции высокой классики перерабатывались в новых исторических условиях.
Рост рабства, концентрация все больших богатств в руках немногих крупных рабовладельцев уже со второй половины 5 в. до н.э. мешали развитию свободного труда. К концу века, особенно в экономически развитых полисах, все явственнее выступал процесс постепенного разорения мелких свободных производителей, приводивший к падению удельного веса свободного труда.
Пелопоннесские войны, явившиеся первым симптомом начавшегося кризиса рабовладельческих полисов, чрезвычайно обострили и ускорили развитие этого кризиса. В ряде греческих полисов возникают восстания беднейшей части свободных граждан п рабов. Вместе с тем рост обмена вызывал необходимость создания единой державы, способной завоевать новые рынки, обеспечить успешное подавление восстаний эксплуатируемых масс.
Осознание культурного и этнического единства эллинов также вступало в решительное противоречие с разобщенностью и ожесточенной борьбой полисов друг с другом. В целом полис, ослабленный войнами и внутренними раздорами, становится тормозом дальнейшего развития рабовладельческого общества.
В среде рабовладельцев происходила ожесточенная борьба, связанная с поисками выхода из кризиса, угрожавшего основам рабовладельческого общества. К середине века складывается течение, объединявшее противников рабовладельческой демократии — крупных рабовладельцев, купцов, ростовщиков, возлагавших все свои надежды на внешнюю силу, способную военным путем подчинить и объединить полисы, подавить движение бедноты и организовать широкую военную и торговую Экспансию на Восток. Такой силой явилась экономически относительно неразвитая Македонская монархия, обладавшая мощной, в основном земледельческой по своему составу, армией. Подчинение греческих полисов Македонской державе и начало завоеваний на Востоке положили конец классическому периоду греческой истории.
Распад полиса повлек за собой утрату идеала свободного гражданина. Вместе с тем трагические конфликты общественной действительности вызывали появление более сложного, чем раньше, взгляда на явления общественной жизни, обогащали сознание передовых людей того времени. Обострение борьбы материализма и идеализма, мистики и научных методов знания, бурные столкновения политических страстей и одновременно интерес к миру личных переживаний характерны для полной внутренних противоречий общественной и культурной жизни 4 в. до н.э.
Изменившиеся условия общественной жизни привели к изменению характера античного реализма.
Наряду с продолжением и развитием традиционных классических форм искусству 4 в. до н.э., в частности зодчеству, приходилось решать и совершенно новые задачи. Искусство впервые начало служить эстетическим потребностям и интересам частного человека, а не полиса в целом; появились и произведения, утверждавшие монархические принципы. На протяжении всего 4 в. до н.э. постоянно усиливался процесс отхода ряда представителей греческого искусства от идеалов народности и героики 5 в. до н.э.
Вместе с тем драматические противоречия эпохи находили свое отражение в художественных образах, показывающих героя в напряженной трагической борьбе с враждебными ему силами, охваченного глубокими и скорбными переживаниями, раздираемого глубокими сомнениями. Таковы герои трагедий Еврипида и скульптур Скопаса.
Большое влияние на развитие искусства оказал завершавшийся в 4 в. до н.э. кризис наивно-фантастической системы мифологических представлений, далекие предвестия которого уже можно увидеть в 5 в. до н.э. Но в 5 в. до н.э. народная художественная фантазия все еще черпала материал для своих возвышенных этических и эстетических представлений в искони знакомых и близких народу мифологических сказаниях и верованиях (Эсхил, Софокл, Фидий и др.). В 4 же веке художника все более интересовали такие стороны бытия человека, которые не укладывались в мифологические образы и представления прошлого. Художники стремились выразить в своих произведениях и внутренние противоречивые переживания, и порывы страсти, и утонченность и проникновенность душевной жизни человека. Зарождался интерес к быту и характерным особенностям психического склада человека, хотя и в самых еще общих чертах.
В искусстве ведущих мастеров 4 в. до н.э. — Скопаса, Праксителя, Лисиппа — была поставлена проблема передачи переживаний человека. В результате этого были достигнуты первые успехи в раскрытии духовной жизни личности. Эти тенденции сказались во всех видах искусства, в частности в литературе и драматургии. Таковы; например, «Характеры» Теофраста, посвященные анализу типических особенностей психического склада человека — наемного воина, хвастуна, парасита, и т. д. Все это указывало не только на отход искусства от задач обобщенно-типического изображения совершенного гармонически развитого человека, но и на обращение к кругу проблем, которые не стояли в центре внимания художников 5 в. до н.э.
В развитии греческого искусства поздней классики явно различаются два Этапа, обусловленных самим ходом общественного развития. В первые две трети века искусство еще очень органично связано с традициями высокой классики. В последнюю треть 4 в. до н.э. происходит резкий перелом в развитии искусства, перед которым новые условия общественного развития ставят новые задачи. В это время особенно обостряется борьба реалистической и антиреалистической линий в искусстве.
Греческая архитектура 4 в. до н.э. имела ряд крупных достижений, хотя ее развитие протекало очень неравномерно и противоречиво. Так, в течение первой трети 4 в. в архитектуре наблюдался известный спад строительной деятельности, отражавший экономический и социальный кризис, который охватил все греческие полисы и особенно расположенные в собственно Греции. Спад этот был, однако, далеко не повсеместный. Наиболее остро он сказался в Афинах, потерпевших поражение в Пелопоннесских войнах. В Пелопоннесе же строительство храмов не прерывалось. Со второй трети века строительство снова усилилось. В греческой Малой Азии, а отчасти и на самом полуострове были возведены многочисленные архитектурные сооружения.
Памятники 4 в. до н.э. в общем следовали принципам ордерной системы. Все же они существенно отличались по своему характеру от произведений высокой классики. Строительство храмов продолжалось, но особенно широкое развитие по сравнению с 5 в. получило строительство театров, палестр, гимнасиев, закрытых помещений для общественных собраний (булевтерий) и др.
Одновременно в монументальной архитектуре появились сооружения, посвященные возвеличению отдельной личности, и притом не мифического героя, а личности монарха-самодержца, — явление совершенно невероятное для искусства 5 в. до н.э. Таковы, например, усыпальница правителя Карий Мавсола (Галикар-насский Мавзолей) или Филиппейон в Олимпии, прославлявший победу македонского царя Филиппа над греческими полисами.
Одним из первых архитектурных памятников, в которых сказались черты, свойственные поздней классике, был перестроенный после пожара 394 г. до н.э. храм Афины Алеи в Тегее (Пелопоннес). И само здание и скульптуры, его украшавшие, были созданы Скопасом. В некоторых отношениях храм этот развивал традиции храма в Бассах. Так, в тегейском храме были применены все три ордера — дорический, ионический и коринфский. В частности, коринфский ордер применен в выступающих из стен полуколоннах, украшающих наос. Полуколонны эти были связаны между собой и стеной общей сложнопрофилированной базой, шедшей вдоль всех стен помещения. В целом храм отличался богатством скульптурных украшений, пышностью и многообразием архитектурного декора.

Театр в Эпидавре.

План святилища Асклепия в Эпидавре.

221. Поликлет Младший. Театр в Эпидавре. Около 330 г. до н. э.
К середине. 4 в. до н.э. относится ансамбль святилища Асклепия в Эпидавре, центром которого был храм бога-врачевателя Асклепия, но самым замечательным зданием ансамбля был построенный Поликлетом Младшим театр, один из красивейших театров древности. В нем, как и в большинстве театров того времени, места для зрителей (театрон) располагались по склону холма. Всего было 52 ряда каменных скамей, которые вмещали не менее 10 тыс. человек. Эти ряды обрамляли орхестру — площадку, на которой выступал хор. Концентрическими рядами театрон охватывал более полуокружности орхестры. Со стороны, противоположной местам для зрителей, орхестра замыкалась скеной, или в переводе с греческого — палаткой. Первоначально, в 6 и начале 5 в. до н.э., скена и была палаткой, в которой готовились к выходу актеры, но уже к концу 5 в. до н.э. скена превратилась в сложное двухъярусное сооружение, украшенное колоннами и образующее архитектурный фон, перед которым выступали актеры. Из внутренних помещений скены на орхестру вело несколько выходов. Скена в Эпидавре имела украшенный ионическим ордером просцениум — каменную площадку, поднимавшуюся над уровнем орхестры и предназначенную для проведения отдельных игровых эпизодов главными актерами. Театр в Эпидавре был с исключительным художественным чутьем вписан в силуэт пологого склона холма. Скена, торжественная и изящная по своей архитектуре, освещенная солнцем, красиво вырисовывалась на фоне синего неба и далеких контуров гор и в то же время выделяла из окружающей природной среды актеров и хор драмы.
Наиболее интересным из дошедших до нас сооружений, воздвигнутых частными лицами, являются хорегический памятник Лисикрата в Афинах (334 г. до н.э.). Афинянин Лисикрат решил в этом памятнике увековечить победу, одержанную подготовленным на его средства хором. На высоком квадратном в плане цоколе, сложенном из продолговатых и безукоризненно отесанных квад-ров, возвышается стройный цилиндр с изящными полуколоннами коринфского ордера. По антаблементу над узким и легко профилированным архитравом протянут непрерывной лентой фриз со свободно разбросанными и полными непринужденного движения рельефными группами. Пологая конусообразная крыша венчается стройным акротерием, образующим подставку для того бронзового треножника, который и явился призом, присужденным Лисикрату за победу, одержанную его хором. Сочетание изысканной простоты и изящества, камерный характер масштабов и пропорций составляют особенность этого памятника, отличающегося тонким вкусом и изяществом. И все же появление сооружений такого рода связано с утерей архитектурой полиса общественной демократической основы искусства.
Если памятник Лисикрата предвосхищал появление произведений эллинистической архитектуры, живописи и скульптуры, посвященных частной жизни человека, то в созданном несколько ранее «Филиппейоне» нашли свое выражение другие стороны развития архитектуры второй половины 4 в. до н.э. Филиппейон был сооружен в 30-е годы 4 в. до н.э. в Олимпии в честь победы, одержанной в 338 г. македонским царем Филиппом над войсками Афин и Беотии, пытавшимися бороться с македонской гегемонией в Элладе. Круглый в плане наос Филиппейона был окружен колоннадой ионического ордера, а внутри украшен коринфскими колоннами. Внутри наоса стояли статуи царей Македонской династии, выполненные в хрисоэлефантинной технике, до тех пор применявшейся только при изображении богов. Филиппейон должен был пропагандировать идею главенства Македонии в Греции, освятить авторитетом священного места царственный авторитет особы македонского царя и его династии.

Памятник Лисикрата.

Галикарнасский Мавзолей. Реконструкция.
Пути развития архитектуры малоазийской Греции несколько отличались от развития архитектуры собственно Греции. Ей было свойственно стремление к пышным и грандиозным архитектурным сооружениям. Тенденции отхода от классики в малоазийской архитектуре давали себя знать особенно сильно. Так, построенные в середине и конце 4 в. до н.э. огромные ионические диптеры (второй храм Артемиды в Эфесе, храм Артемиды в Сардах и др.) отличались весьма далекой от духа подлинной классики пышностью и роскошью убранства. Эти храмы, известные по описаниям древних авторов, дошли до нашего времени в очень скудных остатках.
Наиболее ярко особенности развития малоазийской архитектуры сказались в построенном около 353 г. до н.э. архитекторами Пифеем и Сатиром Галикарнасском Мавзолее — гробнице Мавсола, правителя персидской провинции Карий.
Мавзолей поражал не столько величавой гармонией пропорций, сколько грандиозностью масштабов и пышным богатством убранства. В древности он был причислен к семи чудесам света. Высота Мавзолея, вероятно, достигала 40 — 50 м. Само здание представляло собой довольно сложное сооружение, в котором сочетались местные малоазийские традиции греческой ордерной архитектуры и мотивы, заимствованные у классического Востока. В 15 в. Мавзолей был сильно разрушен, и точная реконструкция его в настоящее время невозможна; лишь некоторые самые общие его черты не вызывают разногласий ученых. В плане он представлял собой приближающийся к квадрату прямоугольник. Первый ярус по отношению к последующим выполнял роль цоколя. Мавзолей являлся огромной каменной призмой, сложенной из больших квадров. По четырем углам первый ярус был фланкирован конными статуями. В толще этого огромного каменного блока находилось высокое сводчатое помещение, в котором стояли гробницы царя и его жены. Второй ярус состоял из помещения, окруженного высокой колоннадой ионического ордера. Между колоннами были поставлены мраморные статуи львов. Третий, последний ярус представлял собой ступенчатую пирамиду, на вершине которой помещались стоявшие на колеснице большие фигуры правителя и его жены. Гробница Мавсола была опоясана тремя рядами фризов, однако их точное местонахождение в архитектурном ансамбле не установлено. Все скульптурные работы были выполнены греческими мастерами, в том числе Скопасом.
Сочетание давящей силы и огромных масштабов цокольного этажа с пышной торжественностью колоннады должно было подчеркнуть могущество царя и величие его державы.
Таким образом, все достижения классического зодчества и искусства вообще были поставлены на службу новым, чуждым классике общественным целям, порожденным неотвратимым развитием античного общества. Развитие шло от изжившей себя обособленности полисов к мощным, хотя и непрочным рабовладельческим монархиям, дающим возможность верхушке общества укрепить устои рабовладения.
Хотя произведения скульптуры 4 в. до н.э., как и вообще всей Древней Греции, дошли до нас главным образом в римских копиях, все же мы можем иметь о развитии скульптуры этого времени гораздо более полное представление, чем о развитии архитектуры и живописи. Переплетение и борьба реалистических и антиреалистических тенденций приобрели в искусстве 4 в. до н.э. гораздо большую остроту, чем в 5 в. В 5 в. до н.э. основным противоречием было противоречие между традициями отмирающей архаики и развивающейся классики, здесь же отчетливо определились два направления в развитии самого искусства 4 в.
С одной стороны, некоторые скульпторы, формально следовавшие традициям высокой классики, создавали искусство, отвлеченное от жизни, уводившее от ее острых противоречий и конфликтов в мир бесстрастно холодных и отвлеченно прекрасных образов. Это искусство по тенденциям своего развития было враждебна реалистическому и демократическому духу искусства высокой классики. Однако не это направление, виднейшими представителями которого были Кефисодот, Тимофей, Бриаксис, Леохар, определило характер скульптуры и вообще искусства этого времени.
Общий характер скульптуры и искусства поздней классики в основном определялся творческой деятельностью художников-реалистов. Ведущими и величайшими представителями этого направления были Скопас, Пракситель и Лисипп. Реалистическое направление получило широкое развитие не только в скульптуре, но и в живописи (Апеллес).
Теоретическим обобщением достижений реалистического искусства своей эпохи явилась эстетика Аристотеля. Именно в 4 в. до н.э. в эстетических высказываниях Аристотеля принципы реализма поздней классики получили последовательное и развернутое обоснование.

198. Кефисодот. Эйрена с Плутосом. Около 370 г. до н. э. Мраморная римская копия с утраченного оригинала. Мюнхен. Глиптотека.
Противоположность двух направлений в искусстве 4 в. до н.э. выявилась не сразу. Первое время в искусстве начала 4 в., в период перехода от классики высокой к классике поздней, эти направления иногда противоречиво переплетались в творчестве одного и того же мастера. Так, искусство Кефисодота несло в себе и интерес к лирическому душевному настроению (что получило свое дальнейшее развитие в творчестве сына Кефисодота — великого Праксителя) и вместе с тем черты нарочитой красивости, внешней эффектности и нарядности. Статуя Кефисодота «Эйрена с Плутосом», изображающая богиню мира с божком богатства на руках, сочетает новые черты — жанровую трактовку сюжета, мягкое лирическое чувство — с несомненной склонностью к идеализации образа и к его внешней, несколько сентиментальной трактовке.
Одним из первых скульпторов, в творчестве которого сказалось новое понимание реализма, отличное от принципов реализма 5 в. до н.э., был Деметрий из Алопеки, начало деятельности которого относится еще к концу 5 в. Судя по всем данным, он был одним из самых смелых новаторов реалистического греческого искусства. Все свое внимание он уделил разработке методов правдивой передачи индивидуальных черт портретируемого лица.
Мастера портрета 5 в. в своих работах опускали те детали внешнего облика человека, которые не представлялись существенными при создании героизированного изображения, — Деметрий первым в истории греческого искусства встал на путь утверждения художественной ценности неповторимо личных внешних особенностей облика человека.

199. Деметрий из Алопеки. Портрет философа Антисфена. Около 375 г. до н. э. Мраморная римская копия с утраченного оригинала. Рим. Ватикан.
О достоинствах, а вместе с тем и о границах искусства Деметрия можно в какой-то мере судить по сохранившейся копии с его портрета философа Анти-сфена, исполненного около 375 г. до н.э. , — одной из последних работ мастера, в которой с особой полнотой выразились его реалистические устремления. В лице Антисфена совершенно очевидно показаны черты его конкретного индивидуального облика: покрытый глубокими складками лоб, беззубый рот, взлохмаченные волосы, растрепанная борода, пристальный, немного хмурый взгляд. Но в этом портрете нет сколько-нибудь сложной психологической характеристики. Важнейшие достижения в разработке задач характеристики духовной сферы человека были осуществлены уже последующими мастерами — Скопасом, Праксителем и Лисиппом.
Крупнейшим мастером первой половины 4 в. до н.э. был Скопас. В творчестве Скопаса нашли свое наиболее глубокое художественное выражение трагические противоречия его эпохи. Тесно связанный с традициями и пелопоннесской и аттической школы, Скопас посвятил себя созданию монументально-героических образов. Этим он как бы продолжал традиции высокой классики. Творчество Скопаса поражает своей огромной содержательностью и жизненной силой. Герои Скопаса, подобно героям высокой классики, продолжают быть воплощением самых прекрасных качеств сильных и доблестных людей. Однако от образов высокой классики их отличает бурное драматическое напряжение всех духовных сил. Героический подвиг больше не носит характера поступка, естественного для каждого достойного гражданина полиса. Герои Скопаса находятся в необычном напряжении сил. Порыв страсти нарушает гармоническую ясность, свойственную высокой классике, но зато придает образам Скопаса огромную экспрессию, оттенок личного, страстного переживания.
Вместе с тем Скопас ввел в искусство классики мотив страдания, внутреннего трагического надлома, косвенно отражающего трагический кризис этических и Эстетических идеалов, созданных в эпоху расцвета полиса.
В течение своей почти полувековой деятельности Скопас выступал не только как скульптор, но и как архитектор. Дошло до нас лишь очень немногое из его творчества. От храма Афины в Тегее, славившегося в древности своей красотой, дошли лишь скудные обломки, но и по ним можно судить о смелости и глубине творчества художника. Кроме самого здания Скопас выполнил и его скульптурное оформление. На западном фронтоне были изображены сцены битвы Ахилла с Телефом в долине Каика, а на восточном — охоты Мелеагра и Аталанты на каледонского вепря.

200. Скопас. Голова раненого воина с западного фронтона храма Афины-Алеи в Тегее. Мрамор. Первая половина 4 в. до н. э. Афины. Национальный музей.
Голова раненого воина с западного фронтона по общей трактовке объемов, казалось бы, близка Поликлету. Но стремительный патетический поворот запрокинутой головы, резкая и беспокойная игра светотени, страдальчески изогнутые брови, полуоткрытый рот придают ей такую страстную выразительность и драматизм переживания, которого высокая классика не знала. Характерной особенностью этой головы является нарушение гармонического строения лица ради подчеркивания силы душевного напряжения. Вершины дуг бровей и верхней дуги глазного яблока не совпадают, что создает полный драматизма диссонанс. Он вполне ощутимо улавливался древним греком, глаз которого был чуток к самым тонким нюансам пластической формы, особенно когда они имели смысловое значение.
Характерно, что Скопас первым среди мастеров греческой классики стал отдавать решительное предпочтение мрамору, почти отказавшись от применения бронзы, излюбленного материала мастеров высокой классики, в особенности Мирона и Поликлета. Действительно, мрамор, дающий теплую игру света и тени, допускающий достижение то тонких, то резких фактурных контрастов, был ближе творчеству Скопаса, чем бронза с ее четко отлитыми формами и ясными силуэтными гранями.

203. Скопас. Менада. Середина 4 в. до н. э. Уменьшенная мраморная римская копия с утраченного оригидала. Дрезден. Альбертинум.
Мраморная «Менада», дошедшая до нас в небольшой поврежденной античной копии, воплощает образ человека, одержимого бурным порывом страсти. Не воплощение образа героя, способного уверенно властвовать над своими страстями, а раскрытие необычайной экстатической страсти, охватывающей человека, характерно для «Менады». Интересно, что Менада Скопаса, в отличие от скульптур 5 в., рассчитана на обозрение со всех сторон.
Танец опьяненной Менады стремителен. Ее голова запрокинута назад, отброшенные со лба волосы тяжелой волной спадают на плечи. Движение резко изогнутых складок короткого разрезанного на боку хитона подчеркивает бурный порыв тела.
Дошедшее до нас четверостишие неизвестного греческого поэта хорошо передает общий образный строй «Менады»:
Камень паросский — вакханка. Но камню дал душу ваятель.
И, как хмельная, вскочив, ринулась в пляску она.
Эту менаду создав, в исступленье, с убитой козою,
Боготворящим резном чудо ты сделал, Скопас.
К произведениям круга Скопаса относится также статуя Мелеагра — героя мифической охоты на каледонского вепря. По системе пропорций статуя представляет собой своеобразную переработку канона Поликлета. Однако Скопас резко подчеркнул стремительность поворота головы Мелеагра, чем усилил патетический характер образа. Скопас придал большую стройность пропорциям тела. Трактовка форм лица и тела, обобщенно-прекрасного, но более нервно-выразительного, чем у Поликлета, отличается своей эмоциональностью. Скопас передал в Мелеагре состояние тревоги и беспокойства. Интерес к непосредственному выражению чувств героя оказывается для Скопаса связанным в основном с нарушением цельности и гармоничности духовного мира человека.

201. Скопас. Надгробие юноши с реки Илисса. Мрамор. Афины. Национальный музей.
Резцу Скопаса, невидимому, принадлежит прекрасное надгробие — одно из лучших, сохранившихся от первой половины 4 в. до н.э. Это «Надгробие юноши», найденное на реке Илиссе. Оно отличается от большинства рельефов такого рода особой драматичностью изображенного в нем диалога. И ушедший из мира юноша, и прощающийся с ним печально и задумчиво поднесший руку к устам бородатый старец, и склонившаяся фигурка сидящего погруженного в сон мальчика, олицетворяющего смерть, — все они не только проникнуты обычным для греческих надгробий ясным и спокойным раздумьем, но отличаются особой жизненной глубиной и силой чувства.
Одним из самых замечательных и самых поздних созданий Скопаса являются его рельефы с изображением борьбы греков с амазонками, сделанные для Галикарнасского Мавзолея.
Великий мастер был приглашен к участию в этой грандиозной работе вместе с другими греческими скульпторами — Тимофеем, Бриаксисом и молодым тогда Леохаром. Художественная манера Скопаса заметно отличалась от тех художественных средств, которыми пользовались его сотоварищи, и это позволяет выделить в сохранившейся ленте фриза Мавзолея рельефы, им созданные.
Сравнение с фризом Больших Панафиней Фидия дает возможность особенно наглядно увидеть то новое, что свойственно галикарнасскому фризу Скопаса. Движение фигур в панафинейском фризе развивается при всем его жизненном многообрАзии постепенно и последовательно. Равномерное нарастание, кульминация и завершение движения процессии создают впечатление законченного и гармонического целого. В галикарнасской же «Амазономахии» на смену равномерно и постепенно нарастающему движению приходит ритм подчеркнуто контрастных противопоставлений, внезапных пауз, резких вспышек движения. Контрасты света и тени, развевающиеся складки одежд подчеркивают общий драматизм композиции. «Амазономахия» лишена возвышенного пафоса высокой классики, но зато столкновение страстей, ожесточенность борьбы показаны с исключительной силой. Этому способствует противопоставление стремительных движений сильных, мускулистых воинов и стройных, легких амазонок.
Композиция фриза построена на свободном размещении по всему его полю все новых и новых групп, повторяющих в различных вариантах все ту же тему беспощадной схватки. Особенно выразителен рельеф, в котором греческий воин, выдвинув вперед щит, наносит удар по откинувшейся назад и занесшей руки с топором стройной полуобнаженной амазонке, а в следующей группе этого же рельефа дается дальнейшее развитие этого мотива: амазонка упала; опершись локтем о землю, она слабеющей рукой пытается отразить удар грека, беспощадно добивающего раненую.

205. Скопас. Битва греков с амазонками. Фрагмент фриза Галикарнасского Мавзолея. Мрамор. Около 350 г. до н. э. Лондон. Британский музей.
Великолепен рельеф, который изображает резко откинувшегося назад воина, пытающегося противостоять натиску амазонки, схватившей его одной рукой за щит, а другой наносящей смертельный удар. Слева от этой группы изображена амазонка, скачущая на разгоряченном коне. Она сидит обернувшись назад и, видимо, мечет дротик в преследующего ее врага. Конь почти наезжает на откинувшегося назад воина. Резкое столкновение противоположно направленных движений всадницы и воина и необычная посадка амазонки своими контрастами усиливают общий драматизм композиции.

204. Скопас. Битва греков с амазонками. Фрагмент фриза Галикарнасского Мавзолея. Мрамор. Около 350 г. до н. э. Лондон. Британский музей.
Исключительной силы и напряженности полна фигура возничего на фрагменте третьей дошедшей до нас плиты фриза Скопаса.

202. Скопас. Возничий. Фрагмент фриза Галикарнасского Мавзолея. Мрамор. Около 350 г. до н. э. Лондон. Британский музей.
Искусство Скопаса оказало огромное влияние как на современное ему, так и на позднейшее искусство Греции. Под непосредственным влиянием Скопаса была, например, создана Пифеем (одним из строителей Галикарнасского Мавзолея) монументальная скульптурная группа Мавсола и его жены Артемисии, стоявшая на квадриге на вершине Мавзолея. В статуе Мавсола высотой около 3 м сочетаются подлинно греческая ясность и гармония в разработке пропорций, складок одежд и пр. с изображением не греческого по своему характеру облика Мавсола. Его широкое, строгое, немного грустное лицо, длинные волосы, длинные спадающие усы не только передают своеобразный этнический облик представителя другого народа, но свидетельствуют также и об интересе скульпторов этого времени к изображению душевной жизни человека. К кругу искусства Скопаса могут быть отнесены прекрасные рельефы на базах колонн нового храма Артемиды в Эфесе. В особенности привлекательна нежная и задумчивая фигура крылатого гения.
Из младших современников Скопаса только влияние аттического мастера Праксителя было столь же длительным и глубоким, как влияние Скопаса.
В отличие от бурного и трагического искусства Скопаса Пракситель в своем творчестве обращается к образам, проникнутым духом ясной и чистой гармонии и спокойной задумчивости. Герои Скопаса почти всегда даны в бурном и стремительном действии, образы Праксителя обычно проникнуты настроением ясной и безмятежной созерцательности. И все же Скопас и Пракситель взаимно дополняют друг друга. Пусть по-разному, но и Скопас и Пракситель создают искусство, раскрывающее состояние человеческой души, чувства человека. Как и Скопас, Пракситель ищет путей раскрытия богатства и красоты духовной жизни человека, не выходя за пределы обобщенного образа прекрасного человека, лишенного неповторимо индивидуальных черт. В статуях Праксителя изображается человек идеально прекрасный и гармонически развитый. В этом отношении Пракситель более тесно, чем Скопас, связан с традициями высокой классики. Более того, лучшие творения Праксителя отличаются даже большей грацией, большей тонкостью в передаче оттенков душевной жизни, чем многие произведения высокой классики. Все же сравнение любого из произведений Праксителя с такими шедеврами высокой классики, как «Мойры», ясно показывает, что достижения искусства Праксителя куплены дорогой ценой утраты того духа героического жизнеутверждения, того сочетания монументального величия и естественной простоты, которое было достигнуто в произведениях эпохи расцвета.
Ранние произведения Праксителя еще непосредственно связаны с образцами искусства высокой классики. Так, в «Сатире, наливающем вино» Пракситель использует поликлетовский канон. Хотя «Сатир» дошел до нас в посредственных римских копиях, все же и по этим копиям видно, что Пракситель смягчил величавую строгость канона Поликлета. Движение сатира изящно, фигура его отличается стройностью.

208 6. Пракситель. Отдыхающий сатир. Середина 4 в. до н. э. Мраморная римская копия с утраченного оригинала. Рим. Капитолийский музей.
Произведением зрелого стиля Праксителя (около 350 г. до н.э.) является его «Отдыхающий сатир». Сатир Праксителя — изящный задумчивый юноша. Единственная деталь в облике сатира, напоминающая о его «мифологическом» происхождении, — это острые, «сатировские» уши. Однако они почти незаметны, так как теряются в мягких локонах его густых волос. Прекрасный юноша, отдыхая, непринужденно облокотился о ствол дерева. Тонкая моделировка, как и мягко скользящие по поверхности тела тени, создают ощущение дыхания, трепета жизни. Наброшенная через плечо шкура рыси своими тяжелыми складками и грубой фактурой оттеняет необычайную жизненность, теплоту тела. Глубоко посаженные глаза внимательно глядят на окружающий мир, на губах мягкая, чуть лукавая улыбка, в правой руке — флейта, на которой он только что играл.

206. Пракситель. Гермес с Дионисом. Фрагмент. Мрамор. Середина 4 в. до н. э. Олимпия. Музей.

207. Пракситель. Гермес с Дионисом Голова Гермеса.
С наибольшей полнотой мастерство Праксителя раскрылось в его «Отдыхающем Гермесе с младенцем Дионисом» и «Афродите Книдской».
Гермес изображен остановившимся во время пути. Он непринужденно опирается на ствол дерева. В несохранившейся кисти правой руки Гермес, повидимому, держал гроздь винограда, к которой и тянется младенец Дионис (пропорции его, как то было обычным в изображениях детей в классическом искусстве, не детские). Художественное совершенство этой статуи заключено в поразительной по своему реализму жизненной силе образа, в том выражении глубокой и тонкой одухотворенности, какое сумел придать прекрасному лицу Гермеса скульптор.
Способность мрамора создавать мягкую мерцающую игру света и тени, передавать тончайшие фактурные нюансы и все оттенки в движении формы была впервые с таким мастерством разработана именно Праксителем. Блестяще используя художественные возможности материала, подчиняя их задаче предельно жизненного, одухотворенного раскрытия красоты образа человека, Пракситель передает и все благородство движения сильной и изящной фигуры Гермеса, эластичную гибкость мускулов, теплоту и упругую мягкость тела, живописную игру теней в его кудрявых волосах, глубину его задумчивого взгляда.
В «Афродите Книдской» Пракситель изобразил прекрасную обнаженную женщину, снявшую одежду и готовую вступить в воду. Ломкие тяжелые складки сброшенной одежды резкой игрой света и тени подчеркивают стройные формы тела, его спокойное и плавное движение. Хотя статуя предназначалась для культовых целей, в ней нет ничего божественного — это именно прекрасная земная женщина. Обнаженное женское тело, хотя и редко, привлекало внимание скульпторов уже высокой классики («Девушка флейтистка» из трона Людовизи, «Раненая Ниобида» Музея Терм и др.), но впервые изображалась обнаженная богиня, впервые в культовой по своему назначению статуе образ носил столь свободный от какой-либо торжественности и величественности характер. Появление такой статуи было возможно лишь потому, что старые мифологические представления окончательно потеряли свое значение, и потому, что для грека 4 в. до н.э. эстетическая ценность и жизненная выразительность произведения искусства стала представляться более важной, чем его соответствие требованиям и традициям культа. Историю создания этой статуи римский ученый Плиний излагает следующим образом:
«...Выше всех произведений не только Праксителя, но вообще существующих во вселенной, находится Венера его работы. Чтобы ее увидеть, многие плавали на Книд. Пракситель одновременно изготовил и продавал две статуи Венеры, но одна была покрыта одеждой — ее предпочли жители Коса, которым принадлежало право выбора. Пракситель за обе статуи назначил одинаковую плату. Но жители Коса эту статую признали серьезной и скромной; отвергнутую ими купили книдяне. И ее слава была неизмеримо выше. У книдян хотел впоследствии купить ее царь Никомед, обещая за нее простить государству книдян все огромные числящиеся за ними долги. Но книдяне предпочли все перенести, чем расстаться со статуей. И не напрасно. Ведь Пракситель этой статуей создал славу Книду. Здание, где находится эта статуя, все открыто, так что ее можно со всех сторон осматривать. Причем верят, будто эта статуя была сооружена при благосклонном участии самой богини. И ни с одной стороны вызываемый ею восторг не меньше...».
Афродита Книдская вызвала, особенно в эпоху эллинизма, ряд повторений и подражаний. Ни одно из них не могло, однако, сравниться с оригиналом. Позднейшие подражатели видели в Афродите лишь чувственное изображение красивого женского тела. На самом же деле истинное содержание этого образа гораздо более значительно. В «Книдской Афродите» воплощено преклонение перед совершенством как телесной, так и духовной красоты человека.
«Книдская Афродита» дошла до нас в многочисленных копиях и вариантах, частью восходящих еще ко времени Праксителя. Лучшими из них являются не те копии Ватиканского и Мюнхенского музеев, где фигура Афродиты сохранилась целиком (это — копии не слишком высокого достоинства), а такие статуи, как неаполитанский «Торс Афродиты», полный удивительной жизненной прелести, или как замечательная голова так называемой «Афродиты Кауфмана», где превосходно передан характерный для Праксителя задумчивый взгляд и мягкая нежность выражения лица. К Праксителю восходит и торс «Афродиты Хвощинского» — прекраснейший, памятник в античной коллекции Музея изобразительных искусств имени Пушкина.

209 а. Пракситель. Аполлон Сауроктон. Голова (см. илл. 208а).

209 6. Пракситель. Голова Афродиты Книдской (Афродита Кауфмана). До 360 г. до н. э. Мраморная римская копия с утраченного оригинала. Берлин. Собр. Кауфмана.

210 а. Афродита Хвощинского. Мрамор. Начало 3 в. до н. э. Москва. Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.

210 6. Торс Афродиты. 4 в. до н. э. Мраморная римская копия с утраченного оригинала. Неаполь. Национальный музей.
Значение искусства Праксителя заключалось также и в том, что некоторые его работы на мифологические темы переводили традиционные образы в сферу обыденной повседневной жизни. Статуя «Аполлона Сауроктона» представляет собой, по существу, лишь греческого мальчика, упражняющегося в ловкости: он стремится пронзить стрелой бегущую ящерицу. В изяществе этого стройного молодого тела нет ничего божественного, и самый миф подвергся такому неожиданно жанрово-лирическому переосмыслению, что в нем ничего не осталось от прежнего традиционного греческого образа Аполлона.

208 а. Пракситель. Аполлон Сауроктон. Третья четверть 4 в. до н. э. Мраморная римская копия с утраченного оригинала. Рим. Ватикан.

213 а. Пракситель. Артемида из Габий. Около 340—330 гг. до н. э. Мраморная римская копия с утраченного оригинала. Париж. Лувр.

213 6. Юноша из Марафона. Голова (см. илл. 2126).
Таким же изяществом отличается и «Артемида из Габий». Молодая гречанка, поправляющая естественным, свободным жестом одежду на своем плече, совсем не похожа на строгую и гордую богиню, сестру Аполлона.

211 а. Девушка, закутанная в плащ. Танагрская статуэтка. Терракота. Конец 4 в. до н. э.

211 6. Афродита в раковине. Танагрская статуэтка. Терракота. Конец 4 в. до н. э. Париж. Лувр.
Работы Праксителя получили широкое признание, выражающееся, в частности, и в том, что были повторены в бесконечных вариациях в мелкой терракотовой пластике. К «Артемиде из Габий» близка по всему своему строю, например, замечательная танагрская статуэтка закутанной в плащ девушки, да и многие другие (например, «Афродита в раковине»). В этих произведениях мастеров, скромных, оставшихся нам неизвестными по имени, продолжали жить лучшие традиции искусства Праксителя; тонкая поэзия жизни, свойственная его дарованию, сохранена в них в несоизмеримо большей степени, чем в бесчисленных холодно-жеманных или слащаво-сентиментальных репликах известных мастеров Эллинистической и римской скульптуры.

212 а. Голова Евбулея из Элевсина. Мрамор. Вторая половина 4 в. до н. э. Афины. Национальный музей.

212 6. Статуя юноши. Найдена в море близ Марафона. Бронза. Середина 4 в. до н. э. Афины. Национальный музей.
Большую ценность представляют и некоторые статуи середины 4 в. до н.э. выполненные неизвестными мастерами. В них своеобразно сочетаются и варьируются реалистические открытия Скопаса и Праксителя. Такова, например, бронзовая статуя эфеба, найденная в 20 в. в море около Марафона («Юноша из Марафона»). Эта статуя дает пример обогащения бронзовой техники всеми живописными и фактурными приемами праксителевского искусства. Влияние Праксителя сказалось здесь и в изяществе пропорций и в нежности и задумчивости всего облика мальчика. К кругу Праксителя относится и «Голова Евбулея», замечательная не только деталями, в частности, великолепно переданными волнистыми волосами, но и — прежде всего — своей душевной тонкостью.
В творчестве Скопаса и Праксителя нашли свое наиболее яркое и полное разрешение задачи, стоявшие перед искусством первой половины 4 в. Их творчество при всем его новаторском характере было еще тесно связано с принципами и искусства высокой классики. В художественной культуре второй половины века и особенно последней его трети связь с традициями высокой классики становится менее непосредственной, а частично утрачивается.
Именно в эти годы Македония, поддержанная крупными рабовладельцами ряда ведущих полисов, добилась гегемонии в греческих делах.
Сторонники старой демократии, защитники независимости и свобод полиса, несмотря на свое героическое сопротивление, потерпели решительное поражение. Поражение это было исторически неизбежным, так как полис и его политическое устройство не обеспечивали необходимых условий для дальнейшего развития рабовладельческого общества. Исторических же предпосылок для успешной революции рабов и ликвидации самих основ рабовладельческого строя еще не было. Более того, даже самые последовательные защитники старых свобод полиса и враги македонской экспансии, как, например, знаменитый афинский оратор Демосфен, отнюдь не помышляли о низвержении рабовладельческого строя и выражали лишь интересы приверженных к принципам старой рабовладельческой демократии широких слоев свободной части населения. Отсюда историческая обреченность их дела. Последние десятилетия 4 века до н.э. были не только эпохой, приведшей к установлению гегемонии Македонии в Греции, но и эпохой победоносных походов Александра Македонского на Восток (334 — 325 гг. до н.э.), открывших новую главу в истории античного общества — так называемый эллинизм.
Естественно, что переходный характер этого времени, времени коренной ломки старого и зарождения нового, не мог не получить своего отражения и в искусстве.
В художественной культуре тех лет шла борьба между искусством ложноклассическим, отвлеченным от жизни, и искусством реалистическим, передовым, пытающимся на основе переработки традиций реализма классики найти средства к художественному отражению уже иной, чем в 5 в., действительности.
Идеализирующее направление в искусстве поздней классики именно в эти годы с особой ясностью раскрывает свой антиреалистический характер. Действительно, полная оторванность от жизни придавала еще в первой половине 4 в. до н.э. произведениям идеализирующего направления черты холодной отвлеченности и искусственности. В работах таких мастеров первой половины века, как, например, Кефисодот, автор статуи «Эйрены с Плутосом», можно видеть, как постепенно классические традиции лишались своего жизненного содержания. Мастерство скульптора идеализирующего направления сводилось подчас к виртуозному владению формальными приемами, позволяющими создавать внешне красивые, но по существу лишенные подлинной жизненной убедительности произведения.
К середине века, и особенно во второй половине 4 в., это по существу уходящее от жизни консервативное направление получило особенно широкое развитие. Художники этого направления участвовали в создании холодно-торжественного официального искусства, призванного украшать и возвеличивать новую монархию и утверждать антидемократические эстетические идеалы крупных рабовладельцев. Эти тенденции сказались достаточно ярко уже в декоративных по-своему рельефах, выполненных в середине века Тимофеем, Бриаксисом и Леохаром для Галикарнасского мавзолея.
Наиболее последовательно искусство ложноклассического направления раскрылось в творчестве Леохара, Леохар, афинянин по происхождению, стал придворным художником Александра Македонского. Именно он создал ряд хрисоэлефантинных статуй царей Македонской династии для Филиппейона. Холодный и пышный классицизирующий, то есть внешне подражающий классическим формам, стиль произведений Леохара удовлетворял потребностям складывающейся монархии Александра. Представление о стиле произведений Леохара, посвященных восхвалению Македонской монархии, дает нам римская копия с его героизированного портретного изображения Александра Македонского. Обнаженная фигура Александра имела отвлеченно-идеальный характер.
Внешне декоративный характер носила и его скульптурная группа «Ганимед, похищаемый Зевсовым орлом», в которой своеобразно переплетались слащавая идеализация фигуры Ганимеда с интересом к изображению жанрово-бытовых мотивов (лающая на орла собачка, оброненная Ганимедом флейта).

218. Леохар. Аполлон Бельведерский. Около 340 г. до н. э. Мраморная римская копия с утраченного бронзового оригинала. Рим. Ватикан.
Самой значительной среди работ Леохара была статуя Аполлона — знаменитый «Аполлон Бельведерский»[40].
В течение нескольких веков «Аполлон Бельведерский» представлялся воплощением лучших качеств греческого классического искусства. Однако ставшие широко известными в 19 в. произведения подлинной классики, в частности скульптуры Парфенона, сделали ясной всю относительность эстетической ценности «Аполлона Бельведерского». Безусловно, в этом произведении Леохар показал себя как художник, виртуозно владеющий техникой своего мастерства, и как тонкий знаток анатомии. Однако образ Аполлона скорее внешне эффектен, чем внутренне значителен. Пышность прически, надменный поворот головы, известная театральность жеста глубоко чужды подлинным традициям классики.
К кругу Леохара близка и знаменитая статуя «Артемиды Версальской», полная холодного, несколько надменного величия.

219. Круг Леохара. Артемида Версальская. Третья четверть 4 в. до н. э. Мраморная римская копия с утраченного оригинала. Париж. Лувр.
Величайшим художником реалистического направления этого времени был Лисипп. Естественно, что реализм Лисиппа существенно отличался как от принципов реализма высокой классики, так и от искусства его непосредственных предшественников — Скопаса и Праксителя. Однако следует подчеркнуть, что Лисипп был очень тесно связан с традициями искусства Праксителя и особенно Скопаса. В искусстве Лисиппа — последнего великого мастера поздней классики,— так же как и в творчестве его предшественников, решалась задача раскрытия внутреннего мира человеческих переживаний и известной индивидуализации образа человека. Вместе с тем Лисипп внес новые оттенки в решение этих художественных проблем, а главное, он перестал рассматривать создание образа совершенного прекрасного человека как основную задачу искусства. Лисипп как художник чувствовал, что новые условия общественной жизни лишали этот идеал какой бы то ни было серьезной жизненной почвы.
Конечно, продолжая традиции классического искусства, Лисипп стремился создать обобщенно-типический образ, воплощавший характерные черты человека его эпохи. Но сами эти черты, само отношение художника к этому человеку были уже существенно иными.
Во-первых, Лисипп находит основу для изображения типического в образе человека не в тех чертах, которые характеризуют человека как члена коллектива свободных граждан полиса, как гармонически развитую личность, а в особенностях его возраста, рода занятий, принадлежности к тому или другому психологическому складу характера. Таким образом, хотя Лисипп и не обращается к изображению отдельной личности во всем ее неповторимом своеобрАзии, все же его типически обобщенные образы отличаются большим разнообразием, чем образы высокой классики. Особенно важной новой чертой в творчестве Лисиппа является интерес к раскрытию характерно-выразительного, а не идеально-совершенного в образе человека.
Во-вторых, Лисипп в какой-то мере подчеркивает в своих произведениях момент личного восприятия, стремится передать свое эмоциональное отношение к изображаемому событию. По свидетельству Плиния, Лисипп говорил, что если древние изображали людей такими, какими они были на самом деле, то он, Лисипп, — такими, какими они кажутся.
Для Лисиппа было также характерно расширение традиционных жанровых рамок классической скульптуры. Он создал много огромных монументальных статуй, предназначенных для украшения больших площадей и занимавших свое самостоятельное место в городском ансамбле. Наибольшей известностью пользовалась грандиозная, в 20 м высотой, бронзовая статуя Зевса, предваряющая появление колоссальных статуй, типичных для искусства 3 — 2 вв. до н.э. Создание такой огромной бронзовой статуи было обусловлено не только стремлением искусства того времени к сверхъестественной грандиозности и мощи своих образов, но и ростом инженерных и математических знаний. Характерно замечание Плиния о статуе Зевса: «В нем вызывает изумление то, что, как передают, рукой его можно привести в движение, а никакая буря его потрясти не может: таков расчет его равновесия». Лисипп наряду с сооружением огромных статуй обращался и к созданию небольших, камерных по размеру статуэток, являвшихся собственностью отдельного лица, а не общественным достоянием. Такова настольная статуэтка, изображавшая сидящего Геракла, принадлежавшая лично Александру Македонскому. Новым являлось также обращение Лисиппа к разработке в круглой скульптуре больших многофигурных композиций на современные исторические темы, что безусловно расширяло круг изобразительных возможностей скульптуры. Так, например, знаменитая группа «Александр в битве при Гранике» состояла из двадцати пяти сражающихся конных фигур.
Достаточно наглядное представление о характере искусства Лисиппа дают нам многочисленные римские копии с его произведений.

215. Лисипп. Апоксиомен. Третья четверть 4 в. до н. э. Мраморная римская копия с утраченного бронзового оригинала. Рим. Ватикан.

216 6. Лисипп. Апоксиомен. Голова (см. илл. 215).
Особенно ярко понимание Лисиппом образа человека воплотилось в его знаменитой в древности бронзовой статуе «Апоксиомен». Лисипп изобразил юношу, который скребком счищает с себя песок арены, приставший к его телу во время спортивного состязания. В этой статуе художник очень: выразительно передал то состояние усталости, которое охватило юношу после пережитого им напряжения борьбы. Подобная трактовка образа атлета говорит о том, что художник решительно порывает с традициями искусства греческой классики, для которой было характерно стремление показать героя или в пре-дельном напряжении всех его сил, как, например, в работах Скопаса, или мужественным и сильным, готовым к совершению подвига, как, например, в «Дорифоре» Поликлета. У Лисиппа же его Апоксиомен лишен всякой героичноети. Но зато такая трактовка образа дает Лисиппу возможность вызвать у зрителя более непосредственное впечатление жизни, придать образу Апоксиомена предельную убедительность, показать не героя, а именно только молодого атлета.
Однако неверно было бы сделать вывод, что Лисипп отказывается от создания типического образа. Лисипп ставит себе задачу раскрытия внутреннего мира человека, но не через изображение постоянных и устойчивых свойств его характера, как это делали мастера высокой классики, а через передачу переживания человека. В Апоксиомене Лисипп хочет показать не внутренний покой и устойчивое равновесие, а сложную и противоречивую смену оттенков настроения. Уже сюжетный мотив, как бы напоминающий о той борьбе, которую юноша только что пережил на арене, дает зрителю возможность представить себе и то страстное напряжение всех физических и духовных сил, которое выдержало это стройное молодое тело.
Отсюда динамическая острота и усложненность композиции. Фигура юноши вся как бы пронизана зыбким и изменчивым движением. Движение это свободно развернуто в пространстве. Юноша опирается на левую ногу; его правая нога отставлена назад и в сторону; корпус, который легко несут стройные и сильные ноги, слегка наклонен вперед и в то же время дан в резком повороте. В особенно сложном повороте дана его выразительная голова, посаженная на крепкую шею. Голова Апоксиомена повернута вправо и одновременно чуть склоняется к левому плечу. Затененные и глубоко посаженные глаза устало смотрят вдаль. Волосы слиплись в беспокойно разбросанные пряди.
Сложные раккурсы и повороты фигуры влекут зрителя к поискам все новых и новых точек зрения, в которых раскрываются все новые выразительные оттенки в движении фигуры. В этой особенности заключается глубокое своеобразие лисип-повского понимания возможностей языка скульптуры. В Апоксиомене каждая точка Зрения существенно важна для восприятия образа и вносит в это восприятие нечто принципиально новое. Так, например, впечатление стремительной энергии фигуры при взгляде на нее спереди при обходе статуи постепенно сменяется ощущением усталости. И, лишь сопоставляя чередующиеся во времени впечатления, зритель получает законченное представление о сложном и противоречивом характере образа Апоксиомена. Этот метод обхода скульптурного произведения, развитый Лисиппом, обогатил художественный язык скульптуры.
Однако и здесь прогресс был куплен дорогой ценой — ценой отказа от ясной целостности и простоты образов высокой классики.

216 а. Лисипп. Отдыхающий Гермес. Третья четверть 4 в. до н. э. Бронзовая римская копия с утраченного оригинала. Неаполь. Национальный музей.
Близок к Апоксиомену «Отдыхающий Гермес», созданный Лисиппом или одним из его учеников. Гермес словно на мгновение присел на край скалы. Художник передал здесь покой, легкую усталость и одновременно готовность Гермеса продолжить стремительно быстрый полет. Образ Гермеса лишен глубокого нравственного содержания, в нем нет ни ясной героики произведений 5 в., ни страстного порыва Скопаса, ни утонченного лиризма праксителевских образов. Но зато характерные внешние особенности быстрого и ловкого вестника богов Гермеса переданы жизненно и выразительно.
Как уже говорилось, Лисипп особенно тонко передает в своих статуях момент перехода из одного состояния в другое: от действия к покою, от покоя к действию; таков утомленный Геракл, отдыхающий опершись о палицу (так называемый «Геракл Фарнезе»). Выразительно показывает Лисипп и напряжение физических сил человека: в «Геракле, настигающем Киренскую лань» с исключительной остротой противопоставлена грубая сила грузного тела Геракла стройности и изяществу фигурки лани. Эта композиция, дошедшая до нас, как и другие произведения Лисиппа, в римской копии, входила в серию 12 скульптурных групп, изображавших подвиги Геракла. В эту же серию входила и группа, изображающая борьбу Геракла с немейским львом, тоже дошедшая до нас в римской копии, хранящейся в Эрмитаже.

217 6. Лисипп. Геракл со львом. Вторая половина 4 в. до н. э. Уменьшенная мраморная копия римского времени с утраченного бронзового оригинала. Ленинград. Эрмитаж.
Особенно большое значение имело творчество Лисиппа для дальнейшей эволюции греческого портрета. Хотя в конкретной передаче внешних черт облика портретируемого Лисипп и не пошел сколько-нибудь дальше Деметрия из Алопеки, он уже вполне ясно и последовательно ставил себе целью раскрытие общего склада характера изображаемого человека. Этого принципа Лисипп придерживался в равной мере как в портретной серии семи мудрецов, носившей исторический характер, так и в портретах своих современников.
Так, образ мудреца Биаса для Лисиппа — это в первую очередь образ мыслителя. Впервые в истории искусства художник передает в своем произведении самый процесс мысли, глубокой, сосредоточенной думы. Чуть склоненная голова Биаса, его насупленные брови, немного сумрачный взгляд, крепко сжатый волевой рот, пряди волос с их беспокойной игрой света и тени — все это создает ощущение общего сдержанного напряжения. В портрете Еврипида, несомненно связанном с кругом Лисиппа, передано чувство трагического беспокойства, скорбная; мысль. Перед зрителем не просто мудрый и величавый муж, каким бы показал Еврипида мастер высокой классики, а именно трагик. Более того, лисипповская характеристика Еврипида соответствует общему взволнованному характеру творчества великого драматического поэта.

214. Голова Александра Македонского с острова Коса. Мрамор. Повидимому, работа эллинистического скульптора, восходящая к оригиналу Лисиппа третьей четверти 4 в. до н. э. Стамбул. Музей.
Наиболее ярко своеобразие и сила портретного мастерства Лисиппа воплотились в его портретах Александра Македонского. Некоторое представление об известной в древности статуе, изображавшей Александра в традиционном облике обнаженного героя-атлета, дает небольшая бронзовая статуэтка, хранящаяся в Лувре. Исключительный интерес представляет мраморная голова Александра, выполненная эллинистическим мастером с оригинала работы Лисиппа. Эта голова дает возможность судить о творческой близости искусства Лисиппа и Скопаса. Вместе с тем по сравнению со Скопасом в этом портрете Александра сделан важный шаг в сторону более сложного раскрытия духовной жизни человека. Правда, Лисипп не стремится воспроизвести со всей тщательностью внешние характерные черты облика Александра. В этом смысле голова Александра, как и голова Биаса, имеет идеальный характер, но сложная противоречивость натуры Александра передана здесь с исключительной силой.
Волевой, энергичный поворот головы, резко откинутые пряди волос создают общее ощущение патетического порыва. С другой стороны, скорбные складки на лбу, страдальческий взгляд, изогнутый рот придают образу Александра черты трагической смятенности. В этом портрете впервые в истории искусства выражены с такой силой напряжение страстей и их внутренняя борьба.
В последней трети 4 в. до н.э. в портрете разрабатывались не только принципы обобщенной психологической выразительности, столь характерной для Лисиппа. Наряду с этим направлением существовало и другое — стремившееся к передаче внешнего портретного сходства, то есть своеобразия физического облика человека.

217 а. Круг Лисиппа, возможно, Лисистрат. Голова кулачного бойца из Олимпии. Бронза. Около 330 г. до н. э. Афины. Национальный музей.
В бронзовой голове кулачного бойца из Олимпии, выполненной, возможно, Лисистратом, братом Лисиппа, точно и сильно переданы грубая физическая сила, примитивность духовной жизни немолодого уже бойца-профессионала, мрачная угрюмость его характера. Расплющенный нос, маленькие, широко поставленные и глубоко посаженные глаза, широкие скулы — все в этом лице говорит о неповторимых чертах отдельного человека. Примечательно, однако, что мастер подчеркивает как раз те особенности в индивидуальном облике модели, которые согласуются с общим типом человека, обладающего грубой физической силой и тупым упорством. Голова кулачного бойца — это и портрет и в еще большей мере — определенный человеческий характер. Этот пристальный интерес художника к изображению наряду с прекрасным характерно-уродливого является совершенно новым по сравнению с классикой. Автор портрета при этом совершенно не интересуется вопросами оценки и осуждения уродливых сторон человеческого характера. Они существуют — и художник изображает их максимально точно и выразительно; какой-либо отбор и оценка не имеют значения — вот принцип, который ясно выражен в этом произведении.
Таким образом, и в этой области искусства шаг вперед в сторону более конкретного изображения действительности сопровождался утерей понимания высокого воспитательного значения искусства. Голова кулачного бойца из Олимпии по своему характеру, собственно говоря, уже выходит за пределы искусства поздней классики и тесно связана со следующим этапом в развитии греческого искусства.
Не следует, однако, полагать, что в искусстве 4 в. до н.э. уродливые типы, уродливые явления жизни не подвергались осмеянию. Как в 5 в. до н.э., так и в 4 в. были широко распространены глиняные статуэтки карикатурного или гротескного характера. В некоторых случаях эти статуэтки являлись повторениями комических театральных масок. Между гротескными статуэтками 5 в. до н.э. (особенно часто создававшимися во второй половине века) и фигурками 4 в. до н.э. существовало важное различие. Статуэтки 5 в. при всем своем реализме отличались известной обобщенностью форм. В 4 в. они носили более непосредственно жизненный, почти жанровый характер. Некоторые из них являлись меткими и злыми изображениями выразительных типов; ростовщика-менялы, Злобной уродливой старухи и т. д. Богатой коллекцией таких глиняных статуэток обладает Ленинградский Эрмитаж.
В поздней классике получили свое развитие реалистические традиции живописи последней четверти 5 в. до н.э. Ее удельный вес в художественной жизни 4 в. до н.э. был очень велик.
Крупнейшим среди живописцев середины 4 в. до н.э. был Никий, которого особенно высоко ценил Пракситель. Пракситель, как и большинство мастеров его времени, поручал живописцам тонировать свои мраморные статуи. Тонировка эта была, повидимому, очень легкой и осторожной. В мрамор втирались растопленные восковые краски, мягко оживлявшие и согревавшие холодную белизну камня.
Ни одно из подлинных произведений Никия не дошло до нашего времени. Известное представление о его творчестве дают некоторые из настенных росписей в Помпеях, весьма не точно повторяющие сюжеты и композиционные решения, разработанные Никнем. На одной помпейской фреске воспроизведена известная картина Никия «Персей и Андромеда». Хотя фигуры носят еще статуарный характер, все же по сравнению с 5 в. до н.э. картина отличается свободой в передаче раккурсов и движений фигур. Пейзаж намечен в самых общих чертах, ровно настолько, насколько это нужно, чтобы создать самое общее впечатление того пространства, в котором размещаются фигуры. Задача развернутого изображения среды, в которой живет и действует человек, еще не была тогда поставлена — античная живопись только в эпоху позднего эллинизма подошла вплотную к решению этой проблемы. Эта особенность живописи поздней классики была совершенно естественна и объяснялась тем, что греческое художественное сознание более всего стремилось к раскрытию образа человека. Зато те свойства языка живописи, которые давали возможность тонкой моделировки человеческого тела, с успехом развивались мастерами 4 в. до н.э., и в особенности Никием. По отзывам современников, мягкая светотеневая моделировка, сильные и вместе с тем тонкие цветовые сопоставления, лепящие форму, широко применялись Никием и другими художниками 4 в. до н.э.
Наибольшего совершенства в мастерстве живописи, согласно отзывам древних, достиг Апеллес, бывший наряду с Лисиппом самым знаменитым художником последней трети века. Иониец по происхождению, Апеллес явился виднейшим мастером живописного портрета поздней классики. Особой известностью пользовался его портрет Александра Македонского; Апеллес создал также ряд аллегорических композиций, дававших, согласно сохранившимся описаниям, большую пищу уму и воображению зрителей. Некоторые его композиции такого характера были настолько подробно описаны современниками, что вызвали в эпоху Возрождения попытки их воспроизведения. Так, например, описание апеллесовой «Аллегории клеветы» послужило канвой для картины, созданной Боттичелли на эту же тему. Это описание создает впечатление, что если у Апеллеса изображение людей и передача их движений и мимики отличались большой жизненной выразительностью, то общая композиция носила несколько условный характер. Фигуры, воплощающие определенные отвлеченные идеи и представления, словно проходили одна за другой перед глазами зрителей.
Апеллесова «Афродита Анадиомена», украшавшая храм Асклепия на острове Косе, судя по всему, особенно полно воплощала реалистическое мастерство художника. Картина эта в древности была не менее знаменита, чем «Афродита Книдская» Праксителя. Апеллес изобразил обнаженную Афродиту выходящей из воды и выжимающей из волос морскую влагу. Современников в этом произведении поражало не только мастерское изображение влажного тела и прозрачной воды, но и светлый, «сияющий негой и любовью» взгляд Афродиты. Повидимому, передача душевного состояния человека — безусловная заслуга Апеллеса, сближающая его творчество с общей тенденцией развития реалистического искусства последней трети 4 в. до н.э.
В 4 в. до н.э. была широко распространена и монументальная живопись. На основании старых описаний можно сделать вполне вероятное предположение, что монументальная живопись прошла в период поздней классики тот же путь развития, что и скульптура, но, к сожалению, почти полное отсутствие сохранившихся подлинников лишает нас возможности дать ей развернутую оценку. Все же такие памятники, как недавно открытые росписи в Казанлыке (Болгария), 4 или начала 3 в. до н.э. , дают известное представление об изяществе и тонкости живописи поздней классики, так как эти фрески сделаны, несомненно, греческим мастером. В этой росписи, правда, нет никакой пространственной среды, фигуры даны на плоском фоне и мало связаны общим действием. Видимо, роспись создана мастером, вышедшим из какой-либо провинциальной школы. Все же открытие этой росписи в Казанлыке можно считать одним из самых замечательных событий в изучении древнегреческой живописи.

222 а. Роспись купольной гробницы в Казанлыке (Болгария). Фрагмент. Конец 4— начало 3 в, до н. э.

222 6. Роспись купольной гробницы в Казанлыке (Болгария). Фрагмент. Конец 4— начало 3 в. до н. э.

223. Роспись купольной гробницы в Казанлыке (Болгария). Фрагмент. Конец 4— начало 3 в. до н. э.
В период поздней классики продолжали процветать и прикладные искусства. Однако наряду с собственно греческими центрами художественных ремесел в последней трети 4 в. до н.э., особенно в эпоху эллинизма, получают развитие центры малоазийские, Великой Греции (Апулия, Кампанья) и Северного Причерноморья. Формы ваз все более усложняются; чаще, чем в 5 в. до н.э., встречаются вазы, подражающие в глине технике дорогих серебряных ваз с их сложной и тонкой чеканкой и профилировкой. Очень широко применяется раскраска выпуклых рельефных изображений, помещаемых на поверхности вазы.
Появление ваз такого рода было следствием роскоши и пышности частной жизни, характерной для богатых домов 4 в. до н.э. Относительное экономическое процветание в 4 в. греческих городов южной Италии определило особенно широкое распространение ваз такого стиля именно в этих городах.
Часто создают мастера керамики 4 в. до н.э. и фигурные вазы. Причем, если в 5 в. до н.э. мастера ограничивались обычно изображением головы человека или животного, реже отдельной фигурой, то в 4 в. они часто изображают целые группы, состоящие из нескольких тесно сплетенных и ярко раскрашенных фигур. Таков, например, скульптурный лекиф «Афродита в сопровождении двух Эротов» малоазийского происхождения.

220 а. Золотой ритон из Панагюриштского клада. Пловдив. Болгария. Археологический музей.

220 6. Золотая ваза из Панагюриштского клада. Пловдив. Болгария. Археологический музей:
Широкое распространение получила художественная работа в металле. Особый интерес представляют сосуды и блюда из серебра, украшенные рельефными изображениями. Такова «чаша Орсини», найденная в 18 в. в Анцио, с рельефным изображением суда Ореста. Замечательные золотые изделия найдены недавно в Болгарии. Однако в целом прикладные искусства и особенно вазопись не достигают в 4 в. до н.э. того высокого художественного совершенства той тонкой связи композиции с формой сосуда, которые были столь типичны для вазописи 5 в.
Искусство второй половины 4 в. до н.э. завершило собой длительный и славный путь развития греческой классики.
Классическое искусство впервые в истории человечества поставило своей целью правдивое раскрытие этической и эстетической ценности человеческой личности и человеческого коллектива. Искусство классики в своих лучших проявлениях впервые в истории классового общества выразило идеалы демократии.
Художественная культура классики сохраняет и для нас вечную, непреходящую ценность, как одна из абсолютных вершин в художественном развитии человечества. В произведениях классического искусства впервые нашел свое совершенное художественное выражение идеал гармонически развитого человека, были правдиво раскрыты красота и доблесть физически и нравственно прекрасного человека.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ