Глава X. Красная весна

Как бы пунктирно классики ни описывали светлое коммунистическое будущее, они сходились на том, что в этом счастливом будущем будут раскрепощены резервные человеческие творческие возможности, что это будет эра всеобщего творческого раскрытия, эра обретения человеком и человечеством полноты, целостности, подлинности, творческого единства со своей «сущностью». Империализм убивает моцартовское начало даже в тех, кто в высшей степени расположен к его раскрытию. Коммунизм же пробудит это начало даже в тех, кто отчужден от этого, спящего в нем начала.
Коммунизм это начало разбудит в каждом. В этом смысле он и является Весной — временем пробуждения от зимнего сна. И разбужено будет в каждом именно высшее творческое начало. Можно ведь и другое начало разбудить — низшее!
Разбуженное низкое начало — это Черная весна.
Разбуженное высшее начало — это Красная весна.
А разбудить высшее начало можно в каждом человеке. Да-да, именно в каждом!
Расходясь в частностях, споря до хрипоты по вопросу о содержании этого высшего начала, о предельных (или беспредельных) возможностях такого очеловечивания (использую это слово по аналогии с исихастским обожением), все классики сходились в главном.
В том, что коммунизм разбудит высшее начало. Завершив предисторию и начав историю подлинную. Да-да, начав, а не закончив Историю! Всечеловеческое царство разбуженного высшего начала — вот что такое коммунизм для Маркса и Энгельса, Ленина и Плеханова, Богданова и Луначарского, Сталина и Троцкого — для всех!
Что это за начало… Как оно будет разбужено… Об этом спорят… Но что речь идет именно о всечеловеческом царстве разбуженного высшего начала… Это — рамка коммунистического консенсуса. Она же — принцип Красной весны.
Я уже обсуждал два варианта мобилизации — идеологический и сотериологический. Оба эти варианта линейны. Что значит — «линейны»? Это значит — имеют начальную и конечную точку. Начальная точка — это нагрянувшая беда. Конечная — избавление от беды. Беда — нагрянувший страшный враг, стремящийся к уничтожению всего сообщества, к которому я принадлежу. И меня самого. А также моей семьи, моих детей и близких. Враг конкретен. Свидетельство его намерения явлено в качестве несомненного ужаса (а не чьих-то рассказов о тайных происках ЦРУ). Таков сотериологический вариант линейной мобилизации. Начальная точка А — нападение врага. Конечная точка Б — победа над врагом. Из точки А в точку Б направлена «стрела реализуемой цели». Так обстоит дело в случае линейной сотериологической мобилизации. Но фактически аналогично дело обстоит и в случае линейной идеологической мобилизации. Здесь точка А — нападение не внешнего, а внутреннего классового врага, подчинившего тебя и близких, сосущего соки, заедающего твой век эксплуататора. Итак, любая линейная мобилизация — это сражение с очевидным злом за достижение очевидного и абсолютно необходимого блага. Сотериологическая мобилизация — это
Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой.
Что касается идеологической мобилизации, то лучше всего это сформулировал Бертольт Брехт:
Меня научили в школе
Закону: мое — не твое!
Когда я всему научился,
Я понял, что это — не всё.
У одних был сытный завтрак,
Другие кусали кулак…
Вот так я впервые усвоил
Понятие «классовый враг».
Революционная деятельность — это подготовка к свержению классового врага. Революция — это свержение классового врага. Гражданская война — это отпор попыткам классового врага восстановить утраченные позиции.
Стабилизационный период, наступающий после завершения Гражданской войны, — окончательное подавление и устранение классового врага как препятствия к построению новой жизни.
Коллективизация, индустриализация и культурная революция — построение новой жизни (она же — социализм).
Все это время присутствует ясность, необходимая для идеологической мобилизации. Есть четкие, крупные цели, осуществление которых требует концентрации ресурсов, плана, администрирования. То есть временно-мобилизационных по сути форм организации жизни. Они оправданы. Они дают ощутимый результат, не зря называемый «русским чудом».
Кроме того, в воздухе пахнет войной. Надо торопиться. Надо готовиться к неминуемой войне.
Развернутая идеологическая мобилизация сочетается с подготовительной сотериологической(«Если завтра война, если враг нападет, если темная сила нагрянет, — Как один человек весь советский народ За свободную родину встанет»).
К 1941 году новая жизнь построена. Враг хочет отнять всё сразу. И завоеванную в трудах немыслимых новую жизнь (с ее очень яркими и ясными благами), и жизнь как таковую.
1945-й — мы отстояли право на жизнь.
1950-й — мы восстановили новую жизнь, построенную к началу войны. И даже вышли на новые рубежи.
Все это время — скажем так, с начала века и до его середины, мобилизационная модель была оправдана. Она прекрасно решала свои задачи. То есть налицо было единство содержания (этих самых, решаемых с помощью мобилизации, задач) и формы, то есть приспособленных для решения этих задач мобилизационных структур («институтов мобилизации»). Нельзя при этом сказать, что всё это не было подвержено изменениям. Отнюдь! Ведь не сохранила же партия, взяв власть, мобилизационно-конспиративную форму, идеально соответствовавшую задачам предшествующего периода! Нет, изменения формы, необходимые для осуществления нового содержания, реализовывались своевременно, продуманно и системно. Но всё это происходило в рамках вышеописанной линейной мобилизации. Что делать теперь? Оставаться в этих же рамках (сохранять монополию КПСС на власть, плановую систему и т. д.)? Или же выходить за эти рамки, переходя от пятидесяти лет линейной мобилизации к нормальному, здоровому, но не мобилизационному состоянию?
Но ведь структура (или институты) мобилизации — это не шеренги из легко перепрограммируемых роботов! Это люди, имеющие свои интересы, навыки, тип сознания. Мало того, эти люди объединены в социальную общность, если и не имеющую классовой природы (вопрос, требующий отдельного обсуждения), то, как минимум, являющуюся достаточно плотной макросоциальной группой. Налицо тем самым не только личные интересы, ориентации, навыки, представления, но и всё то же самое на более высоком — макросоциальном, групповом — уровне.
Назовем всё это мобилизационной Формой и признаем, что наличие у этой Формы всех черт автономной субъектности позволяет ей защищать самое себя от чьих-либо поползновений, видите ли, продиктованных разрывом между Формой и Содержанием. «Извините, хозяин — барин! Мы, защищая нашу Форму, сочиним такое содержание, которое будет оправдывать сохранение Формы. Реализуя этим наш интерес! Содержание, господа злопыхатели, сочиняют подконтрольный нам аппарат и подконтрольные этому аппарату умники-консультанты. У которых — тот же интерес, что и у аппарата, намертво к нам пристегнутого. Так-то вот!»
Рассуждающая таким образом Форма (а Форма, имеющая субъектность, обладает всем ассортиментом возможностей, вытекающих из факта субъектности, в том числе и возможностью рассуждать) становится на путь превращения.
Она стремится сначала подчинить себе Содержание.
Потом она начинает подавлять бунт этого самого Содержания.
А потом, во имя самоспасения, она начинает Содержание ликвидировать.
Форма, уничтожающая свое Содержание, — вот высшая ступень превращения.
Любая мобилизационная линейная модель эффективна для решения простых, очевидных, жизненно важных задач. Таких, как ликвидация безграмотности, борьба с массовыми заболеваниями и эпидемиями, беспризорностью, разрухой, скученностью, недоеданием, разгулом уголовщины, бандитскими (например, басмаческими) набегами. Чем выше уровень бедственности, тем нужнее эффективная мобилизационная модель. И тем выше очевидная эффективность этой модели. Использование модели приводит к быстрому исправлению бедственных ситуаций. Начавшееся избавление порождает прилив сил. В итоге, беда достаточно быстро преодолевается.
Любые модификации линейной мобилизационной модели не слишком отклоняются от основной, базовой мобилизационной модели, каковой, безусловно, является модель военная. В основе которой — простота, аскетизм, дисциплина, коллективизм, нацеленность на очевидные крупные свершения, централизованное обеспечение средствами, позволяющими эти свершения осуществлять, предельно четкое разделение труда, такая же четкость алгоритмов и процедур, осуществляемых каждым участником коллективного действия, преобладание нематериальных стимулов над материальными, жертвенность, подвижничество.
Основной посыл вполне очевиден: «Не до жиру, быть бы живу».
Что касается вышеописанных слагаемых, то все они могут быть обнаружены в пределах того самого военного, воинского начала, которое является очевидным фундаментом любой мобилизационной модели.
Простота. Не случайно же все ходят строем!
Аскетизм. Все одеты в военную форму, то есть в одинаковую одежду. Все получают один и тот же тип питания. Вариации в одежде и типе питания регламентированы статусом и родом деятельности. Самочинные вариации разрушительны. Солдат в кроссовках и тренировочном костюме — это чаще всего не солдат, а волонтер или бандит.
Дисциплина. Приказ. Подчеркнутое, ритуализированное повиновение (вытягивание «в струнку» при отдаче приказа, произнесение ритуального «слушаюсь, так точно», отдание чести, ритуальный подход к отдающему приказ и ритуальный же отход от него для исполнения приказа и так далее).
Коллективизм. Жизнь в военном лагере или казарме. Сведение к нулю обычных форм частной жизни. Реальное формирование военного братства со всеми его древними элементами, часть из которых адресует к глубочайшей архаике.
Нацеленность на очевидные крупные свершения — отстоять объект или умереть, захватить объект, победить или умереть.
Централизованное обеспечение средствами, позволяющими реализовывать очевидные крупные, судьбоносные свершения («судьба войны решается в Сталинграде», «отступать некуда, позади Москва», «стоять насмерть», «если дорог тебе твой дом», «их нужно сбросить с перевала») — подвоз боеприпасов и техники, обеспечение одеждой и питанием, организация помощи, лежащей за рамками возможностей тех, кто решает конкретную судьбоносную задачу.
Предельно четкое разделение труда — я — пехота, ты — бог войны, я — лейтенант, ты — сержант и так далее.
Четкость алгоритмов и процедур — всё, начиная с разборки и сборки автомата, доводится до автоматизма, позволяющего действовать, преодолевая неизбежный страх смерти.
Преобладание нематериальных стимулов — ордена, медали, благодарности, звездочки на погонах… Всё это — «нематериальное стимулирование воинского труда» (равно как и любого мобилизационного, то есть в чем-то воинского труда).
Жертвенность, подвижничество — это альфа и омега военной жизни. Ведь что такое война? Это гибель очень большого числа молодых, здоровых людей. Это страдания раненых. Это множество калек, обреченных на пожизненное физически неполноценное существование. Что для людей, постоянно лицезрящих эту изнанку военной жизни, искупает такие чудовищные издержки? Что побуждает их идти навстречу опасности, а не избегать ее всеми допустимыми средствами? Страх перед карой со стороны государства? Но мало ли способов уйти от опасности и одновременно избежать кары? К подвигу и жертвенности адресует воинская присяга. Почитание подвигов и жертвенности, военная жертвенная героика… В любой по-настоящему сильной армии этому придается ничуть не меньшее значение, чем созданию и освоению военной техники, совершенствованию стратегии и тактики ведения военных действий. Спору нет, военный профессионализм — важнейшее слагаемое победы. Но ничуть не менее, а возможно и более важным ее слагаемым является сила воинского духа. Военный «профи», лишенный идеи, жертвенности, любви к тому, чему ты служишь, — это бандит, ландскнехт. Но даже превращаясь в такового, он обязательно продолжает исповедовать какой-нибудь квазижертвенный, квазиподвижнический культ, оправдывающий его воинскую «кшатрийскую» (ставшее нарицательным название индийской воинской касты) избранность, отделенность от мирских утех, обрученность с «Госпожой Смертью».
С этим всегда соседствует какая-то концепция воздаяния, вознаграждения. Тебя будет чтить потомство… Если не потомство, то твой род, твой клан, твое племя, твое военное братство, отделенное от прочих обрядом воинской жертвенности. Жертвенность… Нет «жертвенности вообще»… Есть жертва, возлагаемая на определенный алтарь. Оскверните алтарь — и жертвенность «испарится». И тогда воинский клан, воинское сословие, воинское братство превратятся во враждующие суперпрофессиональные мафии. Сегодня — такая инерционная вражда. А завтра? Любая вражда требует готовности умирать… За что? Зачем нужны земные блага, если ты воспользоваться ими не можешь… Умирают всегда за что-то, обладающее очевидно большей ценностью, чем твоя жизнь… За материальные блага? За бабки? Если в международный правовой язык с легкой руки Березовского и Абрамовича уже вошло слово «krisha», употребляемое британским консервативным судьей как проработанное понятие, то почему бы такой же статус не придать и слову «babky»? Так вот, за бабки не умирают. За них убивают.
Поэтому, начав с грызни, воинские суперпрофессиональные мафии начнут рано или поздно о чем-то договариваться на своих «стрелках» («strelky» — еще один новорусский вклад в международную юриспруденцию XXI века). Всё начнется с частных договоренностей, которые высокие договаривающиеся стороны будут постоянно нарушать, «кидая» друг друга (еще один новый международный правовой термин — «kidniak»). Договориться же основательно, создав глобальный общак («obschak»), мафии смогут лишь об одном — безнаказанном ограблении народов.
Безнаказанном — потому что давшие клятву защищать свои народы, получившие от народов соответствующие возможности военные профи, предавшие народы, окажутся вне конкуренции. Что смогут противопоставить обманутые народы Военной Форме, объявившей войну Военному Содержанию?
Сначала: «Есть такая профессия — Родину защищать». В конце: «Есть такая профессия — родину истреблять»… Это вполне закономерная динамика, в отличие от нормальной называемая не э-волюцией, а ин-волюцией… (На языке закрытых структур то же самое называется «контринициацией».)
Лев Троцкий, наломавший много дров и, в отличие от Сталина, никогда не любивший Россию, стал, в итоге, в ряды людей, изменивших духу Красной весны. Но всё это не исключает прогностической силы его отдельных утверждений.
Утверждение троцкистов о неминуемости термидорианского перерождения большевизма заслуживает самого внимательного рассмотрения. Термидор — это исторически несомненная глубокая метаморфоза якобинцев, осуществивших Великую Французскую буржуазную революцию и мягко уничтоженных контрреволюционными силами. Да, именно мягко уничтоженных. Ибо революционная Форма, став обособляться от революционного Содержания, в конце концов стала это Содержание беспощадно уничтожать.
Троцкисты, как и ленинская гвардия изучавшие опыт своих предшественников, заявляли: «Оторванная от широких масс партия может в лучшем случае погибнуть в неравном бою. А в худшем? Скажете — сдаться в плен? Но в политических битвах в плен не берут. В худшем — она предаст интересы породившего ее класса». Именно в подобном предательстве видели большевики вообще и троцкисты в первую очередь негативный урок Великой Французской революции. Ленина возможность повторения термидора, то есть отчуждения революционной Формы [то есть ВКП(б)] от революционного Содержания («Красного Проекта», «Красной весны») беспокоила ничуть не меньше, чем Троцкого.
Именно этим беспокойством проникнуты все его последние работы (в первую очередь — «О нашей революции» и «Как нам реорганизовать Рабкрин»). Да и Сталин, которого Троцкий несправедливо обвинил в термидорианстве и бонапартизме, яростно пытался осмыслить феномен «отрыва Формы от Содержания» и что-то противопоставить подобному явлению, которое классики именовали «превращением Формы».
К началу XXI века подобные превращения обсуждаются не только обществоведами, но и биологами. Ибо именно на таком превращении (формировании злого Содержания под маской благой Формы) основана и мутация, и каллогенез (истребление здорового начала иммунитетом, призванным это начало защищать), и действие вирусов. Это же обсуждают культурологи, анализирующие «умирание культур», психологи, исследующие способность психики как Формы отчуждаться от своего Содержания… Словом все, вплоть до физиков…
Но здесь давайте просто перефразируем тезис об оторванной от широких масс партии и рассмотрим следующее сходное утверждение:
«Оторванная от народа Сила, призванная народ защищать, может в лучшем случае быть разгромлена. А в худшем? Сдаться в плен? Нет, в великих битвах в плен не берут. В худшем — она предаст своих творцов — народ и идею. И превратится из силы, защищающей народ, в Антисилу, народ беспощадно уничтожающую». Только на этой стадии исследования К-17 могут, наконец, выйти за рамки «аналитики элитного заговора» (для одних — зловещего, а для других освобождающего от зла коммунизма) к чему-то большему.
В самом деле, потратить столько времени только на аналитику проекта Андропова, внутрипроектных конфликтов, развала проектного содержания, злоключений борющихся друг с другом клочков лишенной этого Содержания элитно-чекистской Формы — конечно, можно… Как-никак, это поможет спрогнозировать ближайшее будущее, на 99 % носящее летальный характер. Ибо какой другой характер в этом случае может иметь будущее нашей родной страны? Но для того, чтобы противопоставить что-то реальное этому самому, столь высоковероятному и ненавидимому нами летальному исходу, нужна не только аналитика крайне важного, но всё равно локального феномена К-17, а нечто гораздо большее.

Элита КГБ повела себя как форма, отчужденная от своего содержания. Ибо, являясь по своему содержанию силой, должной защищать народ, проект и государство, она как отчужденная форма занялась чем-то другим. Да, это так. Но чем именно? И каковы слагаемые этой метаморфозы? Ибо, не выявив эти слагаемые, мы уподобляемся так называемым конспирологам, забалтывающим так называемую специсторию вместо того, чтобы ее обсуждать.
Первое слагаемое — отчуждение формы от содержания. Это вам не злоумышление (или благой замысел) группы заговорщиков, для одних — спасителей, а для других — погубителей. Формой, равно как и содержанием, обладает всё: живое и неживое… доразумное и разумное…
Зацикливание на КГБ и его элите сегодня так же контрпродуктивно, как и уход от обсуждения природы нашего нынешнего неблагополучия, явно имеющего, наряду со многим другим, долгую элитно-спецслужбистскую подоплеку.
И всё же — почему КПСС не помешала КГБ? Что произошло с армией и ГРУ как конкурентом КГБ? Что произошло, наконец, с народом, принесшим колоссальные жертвы на алтарь проекта, отброшенного им же с невероятной безлюбостью? Им же — или не им же?
Можно ли так перефразировать описание термидорианского феномена: «Народ, оторванный от Истории, может в лучшем случае погибнуть, а в худшем — пасть, предав соборное единство живых и мертвых, свой Долг, свою Миссию, свое предназначение, свою судьбу»?
Перефразировав таким образом описание природы термидорианства, я всего лишь показываю, сколь велики новые возможности анализа случившейся с нами беды. И сколь нелепо бросаться из крайности в крайность, заменяя восхваление «спасительного чекизма» проклятиями в адрес «андроповских погубителей». Право, стоило бы вместо этого приглядеться к бытовым мелочам, имеющим глубочайшее содержание. Например, к пафосно, а не иронически произносимому многими нашими элитариями словосочетанию «господа чекисты».
Если слово «товарищи» — это форма, единая с содержанием слова «чекисты» (содержанием, связанным с Дзержинским, Всероссийской чрезвычайной комиссией, карающим мечом революции и так далее), то слово «господа», соединяемое с тем же самым «чекисты», — это нечто другое. И в высшей степени непростое. Утверждая непростоту исследуемого словосочетания, таящуюся внутри него семантическую и даже метафизическую загадку, я вовсе не утверждаю, что каждый из гордо говорящих «господа чекисты» или даже хоть кто-то из горделиво использующих это словосочетание — причастен каким-то тайнам, сознательно участвует в термидорианском или даже более опасном перерождении, понимает, чем превращенная форма отличается от обычной и так далее.
Возможно, кто-то из особо изощренных членов К-17/5 (изощренных членов К-17/3 мне видеть не доводилось) и может на досуге залетать в подобные эмпиреи[39]. Весьма вероятно, что в этих эмпиреях живет кто-то из престарелых консультантов К-17/5. И уж наверняка «балдела» от этой «зауми» «Телема» как таковая и ее адепт Михаил Бахтин.
Но сила процессов не в том, какое количество вовлеченных в «это» объектов (личностей, групп, сообществ) осознает, во что они вовлечены и куда именно направлен поток, по течению которого они плывут с превеликим для себя удовольствием. Сила процессов — в могуществе их подлинного источника. Именовали ли себя «чекистами» товарищи, работавшие в КГБ СССР в 60-е, 70-е, 80-е годы? Конечно, именовали. Но — без нынешнего придыхания. Говорилось: «Мы из конторы глубинного бурения». Или: «Мы из «Детского мира». За пределами сообщества наряду с ругательным словом «гэбня» использовалось нейтральное обозначение «комитетчики». До этого — «эмгэбэшники».
Чекисты — это люди в кожанках, считающие себя карающим мечом партии, это такие аскеты, как Дзержинский и выпестованные им «пролетарские рыцари». Слово «чекисты» потеряло магию задолго до краха СССР. Его дежурно произносили. Дежурно же снимали фильмы об этих «рыцарях-аскетах» с горячим сердцем, холодной головой и чистыми руками. Но пафос чекизма исчез уже при Ягоде и Ежове. Заменивший же их Лаврентий Павлович Берия — человек, далеко не чуждый революционного пафоса (достаточно взглянуть на его юношеские фотографии), — ну уж никак не стремился к воскрешению реального чекистского духа. Понимал, что этот дух несвоевременен, не отвечает запросу Иосифа Виссарионовича (запретившего булгаковский «Батум», воспевавший революционное прошлое товарища Кобы), несовместим с эпохой завершения мобилизации. Любой мобилизации — как сотериологической, так и идеологической.
Кто из сталинских соратников больше всего хотел оформить завершение эпохи мобилизации? Да-да, любой мобилизации! Не только сотериологической (завершенной по объективным причинам), но и идеологической. То есть той, которая могла бы перерасти в нелинейную духовную мобилизацию, но не могла продолжаться, оставаясь мобилизацией а) линейной и б) устремленной из реального неблагополучия в реальное же благополучие? Ведь для того, чтобы осуществлять на этой основе мобилизацию, нужно сочетание идеологического антибуржуазного пафоса с осознанием остроты своего реального неблагополучия (нищета, скученность и так далее). А если острое неблагополучие преодолено? О нелинейной духовной мобилизации не помышлял никто из ближайших соратников Сталина. Отдельный вопрос — позиция самого вождя, пережившего к 1950 году как минимум два инсульта.
А то, что потенциал линейной идеологической мобилизации скоро будет исчерпан, понимали все без исключения соратники Иосифа Виссарионовича. Понимали они и то, что потенциал этот тает благодаря свершениям КПСС, торжеству определенного общественно-политического устройства. Советская система, возглавляемая КПСС, победив в войне, обнулила свой потенциал линейной сотериологической мобилизации, а выведя народ из ситуации объективной нехватки всего и вся — обнулила потенциал линейной идеологической мобилизации. Уже нет карточек… Нет той скудности, в которой все осознанно жили десятилетиями… И, наконец, сколько можно бороться с пережитками капитализма? Буржуазный класс разгромлен! Стерты все следы его существования! Уничтожены все возможности классового реванша. Да, товарищ Сталин говорит, что хотя классовых предпосылок реставрации капитализма нет, но «остались живые люди». Но, во-первых, это он цепляется за мобилизационность, являясь духом и квинтэссенцией оной, а во-вторых… Во-вторых, товарищи, задумаемся над реальным содержанием этих его гениально-опасных слов! Кого именно имеет в виду Отец и Учитель, говоря об «оставшихся живых людях» как предпосылке реставрации капитализма? Не нас ли с вами он имеет в виду?








Итак, все (или почти все) из тех, кем окружил себя Сталин (каждый лидер несет ответственность за то, кем именно он себя окружил), хотели политически и всячески оформить завершение эпохи мобилизации. Разберемся с тем, каковы были шаги на пути подобного оформления.
Первый шаг — убийство Сталина — живого воплощения духа линейной мобилизации, олицетворения ее всевоительно-аскетического начала. Я имею в виду физическое убийство, совершенное в 1953 году.
Второй шаг — попытка сталинского окружения начать осторожный перевод страны на рельсы так называемого «нормального», немобилизационного существования. Реформы Берии… Очень сходные идеи Маленкова и других убивших Сталина прагматиков, понимающих, что пора, освободившись от духа мобилизации, олицетворенного Сталиным, освобождаться и от мобилизационного содержания, и от формы, с этим содержанием нелинейным образом связанной. Но эта Форма с большой буквы, миль пардон, — не гегелевская абстракция, а очень мощная КПСС, занятая не только идеологическим окормлением советского народа, но и управлением всей жизнью страны. КПСС с ее номенклатурой — это стержень управления всем на свете. В этом, кстати, не понимаемая многими разница между КПСС советской эпохи и нынешней Русской Православной Церковью.
Церковь не является аппаратом управления сегодняшней страной. Она в какой-то степени идеологически окормляет… Даже не страну, а, полусгнивших «господ чекистов», которые без этого окормления сгниют окончательно — как говорили советские пропагандисты, «в рекордно короткие сроки». Итак, сегодняшняя РПЦ, во-первых, идеологически окормляет не весь народ, а часть элиты и некоторые, не очень внятные макросоциальные общности, и, во-вторых, имеет нулевое управленческое значение.
А КПСС идеологически окормляла всех и имела абсолютное, а не нулевое, управленческое значение.
Какую Форму-2 можно противопоставить такой мощнейшей Форме-1? Только бериевское МГБ! Но бериевское МГБ — оно ведь именно бериевское! Берия хотел переводить СССР на рельсы так называемой «нормальной жизни» — и все другие хотели того же самого. Но без подавления Формы-1 (то бишь КПСС) этого сделать было нельзя. А подавлять Форму-1 можно было только Формой-2, то бишь МГБ. А это не акционерное предприятие, в котором у всех убийц Сталина примерно одинаковые пакеты акций. Это предприятие, в котором у Лаврентия — 100 %, а у остальных — 0 %. Хватка Лаврентия всем известна. Может быть, МГБ и переведет страну с рельс мобилизации на рельсы так называемой нормальной жизни, реализовав общую цель всех ликвидаторов Сталина. Но один из этих ликвидаторов станет «авторитарным модернизатором», а все остальные… не на пенсию уйдут, а в могилу. Причем известным каждому бериевско-меркуловско-кабуловским способом. Впечатляющие зверские пытки, унизительные признания, истребление семей и так далее.
Итак, стратегическая задача так называемой «нормализации» требует подавления КПСС и возвышения МГБ, а совокупный интерес освободившихся от Сталина политических тяжеловесов требует освобождения от всего, что связано с МГБ. То есть физической ликвидации Берии и его ближайших сподвижников и свирепой зачистки ведомства, слишком прочно связанного с пугающим всех Лаврентием.
Андропов начал медленно, расшаркиваясь и озираясь по сторонам, восстанавливать госбезопасность во второй половине шестидесятых годов. Восстановил он ее к середине семидесятых. А многие ли из ныне живущих способны в полной мере ощутить (да-да, не только осознать, а именно ощутить!), в какой степени было раздавлено МГБ в период с 1953 по 1963 год? Оно было раздавлено в слизь, укатано в асфальт, превращено в сообщество специфических полуизгоев.
Да, оправившись к середине семидесятых, оно снова возжелало осуществления гениального замысла Лаврентия Павловича о переводе страны с мобилизационных рельс на рельсы так называемой нормальной жизни.
Но, во-первых, возжелало оно этого с невероятной затаенностью, свойственной всему, связанному с К-17.
Во-вторых, ушедший в тень аппарат Берии приобрел новое мафиозное качество (неотменяемое свойство всех «недорепрессированных» политических аппаратов).
В-третьих, это была уже другая страна, с иным качеством советско-коммунистических убеждений.
В-четвертых, и тогда никто не пошел на прямое замещение брежневско-сусловской КПСС андроповским КГБ. Вместо этого — продление невнятицы еще на 10 лет. И преступная карнавальная перестройка, исключающая движение по рельсам нормальной жизни, невозможной без морали, этоса, культурных и мировоззренческих регуляторов и, наконец, без отвержения всего криминального и утверждения внятных и притягательных правовых норм.
Но вернемся в те далекие годы.
Второй шаг завершился расстрелом Берии и его сподвижников, разгромом МГБ и укреплением КПСС, задействованной наряду с армией для разгрома МГБ.
И на что же после этого могут рассчитывать Маленков и другие? Что они могут после этого использовать для освобождения от мобилизации и перехода на так называемые нормальные рельсы? Какую Форму-3, если Форма-2 подавлена, а Форма-1 носит мобилизационный характер? Не на армию же опираться для перехода на немобилизационные рельсы?
Тут есть лишь одна возможность — медленного разложения Формы-1 и восстановления, опять же очень и очень медленного, Формы-2. На ближайшие годы надо затаиться, исподволь мешая окончательной зачистке Формы-2, всегда мешавшей Форме-1, ненавидимой Формой-1 (равно как и Формой-3) с эпохи пресловутых сталинских репрессий.
Разложение же Формы-1 можно продолжить, используя и настроения в массах, и настроения в партийной номенклатуре. Только делать это надо не через ущемление Формы-1, а через возвеличивание этой Формы! И нарастания разрыва между Формой и ее содержанием.
Третий шаг — убийство имени и духа Сталина. Сталин-человек убит в 1953 году. А сталинский дух, то бишь дух линейной мобилизации, убит в 1956-м. В 1953-м линейная мобилизация лишилась своего лидера, но не лишилась духа, с этим лидером связанного. В 1956 был убит сам дух линейной мобилизации, олицетворяемый личностью Великого вождя, образом этого вождя и так далее. Толку-то — убить тело, не убив имя. В 1956 имя было убито. Дух был убит.
Но дух и содержание — вещи разные! Тонкую мобилизационную субстанцию, разлитую в обществе, осуждением Сталина не убьешь. Тем более что Форма-1, убивая свое содержание, всячески себя возвеличивает. «Возвращение к ленинизму, марксизму-ленинизму, большевизму»! Тут ведь можно нарваться аж на духовную нелинейную мобилизацию. А ну как идеи, позволяющие ее осуществить, растабуируют, реабилитируют, и… Соединят с активом, ждущим нового полноценного мобилизационного послания? Тут есть одна возможность — еще больше раздуть Форму-1 и с ее помощью так извратить содержание, чтобы не номенклатура всеядная, а настоящий актив, способный эту номенклатуру тем или иным образом потеснить, а то и заместить, — ошалел, заметался, рассыпался и так далее.
Четвертый шаг — разрушительное послание, обнародованное на XXII съезде КПСС. Этот шаг я уже подробным образом описал. Помимо этого разрушительнейшего стратегического деяния осуществлена и более мелкая, но многообещающая затея. Армия отброшена в глубочайший политический андеграунд и одновременно «накормлена до отвала» всем, что не имеет отношения к политике (деньгами, ресурсами, элитным формальным статусом и так далее). Пусть разлагается и этот политический конкурент.
Пятый шаг — отстранение Хрущева и вырывание с корнем любых мобилизационных содержаний при еще большем раздутии Формы-1, являющейся не превращенной лишь при наличии мобилизационного содержания. Теперь эта Форма-1 обеспечивает некий развитой социализм в виде своего псевдо- и даже антисодержания. Потенциальный мобилизационный актив, отчаявшись, заболевает пресловутой «смертной» экзистенциальной болезнью.
Развитие всех форм данного заболевания становится главной задачей сил, разлагающих пухнущую Форму-1. Десять миллионов членов КПСС, двадцать миллионов… Все социальные лифты — только через вступление в КПСС. Хочешь стать завмагом, директором совхоза? Милости просим в КПСС!
Шестой шаг — утверждение во власти Брежнева (не Шелепина или кого бы то ни было еще, а именно Брежнева — максимально антимобилизационной фигуры).
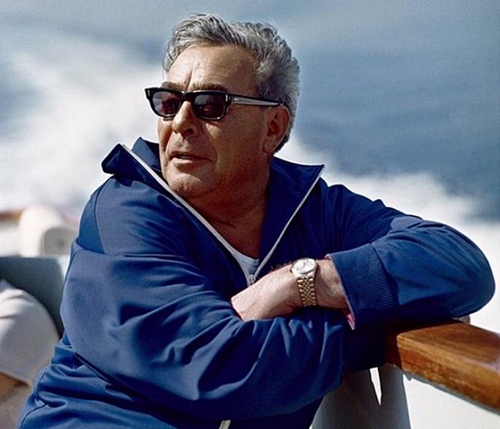
Седьмой шаг — укоренение Андропова в КГБ. Уже стерта даже память о Берии. Число людей, глубоко впитавших некое достаточно невнятное, между прочим, «подлинно бериевское начало», крайне невелико изначально. Часть людей, в принципе способных это впитать по своему менталитету и статусу (поди теперь, разберись, кто и впрямь это впитал, а кто удовлетворялся личной преданностью Лаврентию и элементарным служебным рвением) — расстреляна или посажена. Другая часть людей — сломлена произошедшим с Лаврентием Павловичем. Сколько осталось стойких бериевцев? И бериевцы ли они?
Да, в Азербайджане что-то сохранилось от клана Мир Джафара Багирова… Но тут еще надо разобраться, являлся ли Багиров «бериевцем», или Берия — «багировцем».
Да, есть госплановская тройка «Байбаков-Браудо-Гильперсон», достаточно прочно интегрированная в бериевскую «внутреннюю партию» и восстановившая номенклатурные позиции.

Да, есть опекаемый Берией клан кавказских «воров в законе».
Да, есть семейство Гвишиани, верного соратника Берии. И есть связи этого семейства сразу с несколькими весомыми номенклатурными группами, прежде всего с «группой Косыгина»…
Но я уверен, что ничуть не меньшее, а возможно, и гораздо большее значение имеют не люди, объединенные более или менее прочными связями, а сгусток настроений, способных к самостоятельному формированию необходимых для Андропова позиций. Я имею в виду те стартовые позиции, без существования которых Андропов провалился бы со своей затеей К-17 если не на второй день, то уж точно на второй месяц.
Сталин превратил органы безопасности в особого рода карательный орган, нацеленный, прежде всего, не на подавление разного рода массовых недовольств, а на ротацию партийной элиты. Причем ротацию постоянную и кровавую.
Конечно, Сталина (как и любого авторитарного лидера) очень беспокоила военная элита. Но с ней он довольно быстро договорился. Ее он довольно быстро приучил не лезть в политику. Тех же, кому нестерпимо хотелось в политику поиграть, предложил увлекательную антибериевскую игру, она же «русская», она же «антикавказская». Сталин не испытывал ни тени беспокойства на тему собственной причастности кавказскому клану: для Буденного и других участников этой игры Сталин давно уже был русским царем, а не кавказским ставленником. Сталина гораздо больше беспокоило равновесие разного рода кланов, необходимость чем-то уравновесить явно рвущегося к власти Лаврентия.
Но больше всего Сталина беспокоила партийная номенклатура. Хотя бы потому, что фраза «армия вне политики» имеет хоть какой-то смысл, а фраза «партия вне политики», согласитесь, смысла лишена полностью.
КПСС нельзя обязать не заниматься политикой. Кроме того, какая-то мобилизационная структура нужна. Если Сталин — мобилизационный лидер, то он обязан предъявить мобилизационную политическую структуру. Так что свести КПСС на нет невозможно. Но держать ее элиту (то бишь номенклатуру) в состоянии глубочайшего дискомфорта, постоянно терзать эту элиту репрессиями — тоже совершенно необходимо. Иначе она и мышей ловить перестанет (расслабится, обуржуазится и так далее), и вознамерится посягнуть на своего лидера.
Контроль за элитой КПСС, расправа над элитой КПСС — вот основная функция органов, возглавляемых товарищем Берией. Да, нужен еще и контроль над армией, подавление в нем вируса политической субъектности. Но у наших военных тяга к подобной субъектности всегда носила и слабый, и ущербный характер. Тут что СССР, что Российская империя. А вот за КПСС, которой как-никак предписано быть и политическим субъектом, и идеологией, и конституцией, — нужен глаз да глаз.
Нельзя десятилетиями действовать подобным образом, не оправдав чем-то правомочность и необходимость подобных действий. Ненависть к партии вообще и партийной элите в первую очередь — можно сказать, в крови у органов. И как ты кровь ни переливай — это остается.
Но партийная элита ненавидит органы столь же сильно. И по столь же понятным причинам: слежки, доносы, черные воронки, расстрелы, пытки, ГУЛАГ…
На что это всё похоже? Конечно же, на ненависть бояр к опричнине Малюты Скуратова. И на ненависть опричнины к боярам. Но там всё носило не настолько планомерно длительный характер.
Итак, для КПСС расправа над Берией — это еще и укорачивание органов. Номенклатура КПСС хочет одного — чтобы эти самые органы никогда больше не могли ее, номенклатуру, терзать. Пусть они терзают всяких там диссидентов и прочих недовольных. Но — руки прочь от партии!
Конечно, партия имела и свою разведку, и свою внутрипартийную карательную инстанцию (Комитет партийного контроля), и многое другое, включая особую партийную тюрьму. Но органы при Сталине существенно поколебали неприкасаемость отечественного монопольного политического субъекта.
Расправа над Берией (да и над Сталиным тоже) нужна была для утверждения абсолютной неприкасаемости высшей партийной касты. Да и не только высшей…
Теперь представим себе, какую остроту ненависти к партии, номенклатуре и всему прочему должна была испытать система, именуемая «органы», когда ее стали растаптывать, унижать, терзать… Носила ли эта ненависть открытый характер? Безусловно, нет. Носила ли эта ненависть хоть и закрытый, но осознанный характер? Если речь идет о большинстве советских людей с соответствующим погонами на плечах, ответ должен быть категорически отрицательным.
К моменту назначения Ю. В. Андропова председателем КГБ СССР всё это могло иметь только подсознательный, «неявно субкультурный характер». Да и то — лишь для наиболее продвинутого в этом направлении меньшинства. Но почва, безусловно, была. Историческую память полностью стереть невозможно. Любое крупное закрытое профессиональное сообщество позиционирует себя по принципу «мы и они» и в соответствии со своим внутренним «фольклорным» субкультурным преданием. Посеять в эту почву нужные зерна, бережно ухаживать за всходами, взрастить посев, собрать урожай — вот в чем была задача К-17, коль скоро узкая группа единомышленников хотела сформировать дееспособную внутреннюю партию. И с этой задачей Андропову удалось справиться. Говоря родственникам Берии, что Лаврентий Павлович был великим человеком, замыслившим спасительный проект, что он, Андропов, видит свою миссию в том, чтобы завершить великое дело Лаврентия Павловича, Юрий Владимирович, что называется, нарывался. Но, будучи весьма осторожным человеком, он мог столь дерзко себя вести, только оценив разницу между состоянием дел к моменту расстрела Берии и ситуацией так называемого застоя.
Всем, кого всерьез интересует, насколько велика разница между 1953 и 1980 годами, рекомендую по многу раз вчитываться в тот лозунг, который у позднесоветского человека не вызывал никакого энтузиазма: «Да здравствует Коммунистическая партия Советского Союза — вдохновитель и организатор всех наших побед!».
Это — блестящая формула линейной идеологической мобилизации. Должна ли она становиться лозунгом? Конечно же, нет. И это первое, над чем необходимо задуматься. В самом деле, зачем развешивать повсюду на красных полотнищах формулу, которую необходимо не декларировать, а осуществлять? Это может делаться, согласитесь, только тогда, когда о реальном осуществлении чего-либо подобного не может быть и речи. А лозунги вывешивать надо — и к праздникам, и вообще.
Кстати, почему их надо вывешивать? Вот, например, сегодня их у нас никто не вывешивает! И в Европе, и в США, и в том же Китае — нет их и в помине. А ведь живут! Потому что лозунги, вывешенные повсюду, — это черта мобилизационного существования. Того самого линейного идеологического мобилизационного существования, которое КПСС должна обеспечивать. Подчеркиваю: она не лозунги должна вывешивать, она мобилизацию должна осуществлять! Лозунги — форма. Мобилизация — содержание. КПСС в позднесоветское время воинственно отказывается от мобилизации как содержания, ради осуществления которой ей делегированы определенные полномочия, но не хочет отказываться от этих самых полномочий! Напротив, чем в большей степени шарахается КПСС от мобилизации как содержания — тем в большей же степени она раздувает собственные полномочия как мобилизационную форму.
Осмыслив это первое и наиважнейшее обстоятельство, переходим ко второму, в общем-то, не менее важному.
А ведь насколько точна формула, которую зачем-то превратили в крайне неубедительный лозунг! Функции линейного идеологического мобилизационного субъекта формула эта и впрямь задает с предельной емкостью и конкретностью.
Первая функция — вдохновлять. Являясь субъектом идеологической линейной мобилизации, ты обязан вдохновлять массы. Если ты не можешь их по-настоящему вдохновлять, какой ты к черту «линейно мобилизующий», «идеологический» и так далее? Ты — отвратительная превращенная форма, в лучшем случае упивающаяся отсутствием мобилизационного содержания. Но это именно в лучшем случае из возможных.
Вторая функция (и именно вторая, а не абы какая) линейного идеологического мобилизационного субъекта — организовывать вдохновленных тобой людей. Всё должно происходить именно в таком порядке. Сначала ты должен вдохновить людей на большую Победу. Да, именно Победу! А ведь где победа, там и война. Итак, сначала ты должен позвать людей на войну: «Вот оно, зло! Не мобилизуемся — худо будет!» Люди должны и вдохновиться, и насторожиться («а ведь и впрямь зло, и впрямь угроза!»). Они вдобавок должны согласиться с тем, что ты будешь этой войною руководить (почему-то им должно быть ясно, что именно ты имеешь право руководить подобной войной). Затем ты должен организовать военные действия людей, вдохновленных тобою на войну. И — довести войну до победного конца.
Отсюда вывод — если ты не можешь вдохновлять людей, твое мобилизационное содержание строго равно нулю. Да, конечно же, ты вдобавок должен уметь организовывать людей! В противном случае они вдохновятся, поколготятся и разбегутся.
Но если они не вдохновятся, что ты будешь организовывать? Нормальную, безвдохновительную работу? Милости просим, организуй! Но как нормальный, а не мобилизационный субъект.
• Подавай заявку на роль организатора.
• Вступай в разумную конкуренцию с другими заявителями.
• Выигрывай в конкурентной борьбе.
• Организуй, опираясь на обычные, а не мобилизационные мотивы.
• Предъявляй результат, не называя его победой.
• Получай очередную заявку… Получай очередную оценку. Так и живи! Живи нормально! Организуй нормальных, невдохновленных людей, предъявляя им нормальные, а не мобилизационные цели.
Так живут в Австрии, Швеции! Между прочим, вполне неплохо живут. А главное — нормально. Хочешь и ты нормальное нормально организовывать — переходи с рельс мобилизации на рельсы нормальной жизни! И не развешивай по улицам мобилизационные формулы. Но ты-то, голубчик, хочешь пользоваться мобилизационным статусом (однопартийность, плановое управление хозяйством, отсутствие нормальных выборных процедур) — и никого ни на что не вдохновлять! Ты что же думаешь, что мы идиоты и этого не понимаем? Или что мы в восторге от твоего очевидного мухлежа?
В 1953-м, в 1956-м, в 1961-м подобные умонастроения отнюдь не преобладали. Потому что партия еще могла и вдохновлять, и очень эффективно организовывать. Была свежа память о том, что сравнительно недавно партия обладала способностью весьма мощно вдохновлять на победы широчайшие народные массы. А ну как она снова займется тем же, приведя и цели, и методы их осуществления в соответствие с вызовами новой эпохи?
В 1953-м подавляющее большинство советских граждан было уверено в том, что так оно и будет.
В 1956-м эта уверенность существенным образом снизилась. Сомнения прокрались в души очень и очень многих.
В 1961-м сознание тех, кто верил в новую мобилизацию, в КПСС как ее безальтернативный источник, кто жаждал этой мобилизации и был готов вести за собой широкие массы, было буквально взорвано.
С 1964-го по 1980-й — шестнадцать лет подряд — партия словами и делами своих вождей убеждала и актив, и массы в том, что никого она ни на что мобилизовывать не намерена. Что она сознательно обнуляет свое мобилизационное содержание. Но что мобилизационную форму и вытекающие из нее монопольные привилегии она будет только наращивать.
Какую поддержку получил бы Берия, разгромив КПСС и предъявив обществу проект перехода с мобилизационных рельс на рельсы условной «нормальной жизни»? Может быть, и не нулевую, но достаточно скудную. Оценив эту поддержку в одну условную единицу, мы не можем не признать того, что аналогичное деяние Андропова привело бы к поддержке в сто, а возможно, и в тысячу тех же «условных единиц».
Нормальная жизнь…
В советском КГБ было Первое главное управление, работники которого трудились за рубежом, добывая необходимую секретную информацию. Сидит такой работник в какой-нибудь Австрии… Или даже в ГДР… И видит, что, в отличие от его собственной Родины, здесь всё устроено нормально. Нормальные аккуратные люди живут в нормальных аккуратных городах с черепичными крышами, подметенными мостовыми, покрашенными аккуратнейшим образом скамейками, подстриженными газонами, уютными кофейнями и пивными. Нормальные люди не бегут куда-то с вытаращенными глазами, а чинно идут, раскланиваясь друг с другом. Их жизнь ничуть не менее регламентирована, чем жизнь воюющей армии. Но это совсем, совсем другая регламентация. Механистичность этой жизни трогательна и сентиментальна. Это не механистичность пресса, штампующего заготовки. Нет, эта механистичность скорее напоминает функционирование часов на башне городской ратуши. Мелодичный бой в строго положенное время… Изящные фигурки, появляющиеся в строго положенный момент и чинно следующие одна за другой.
Конечно, мир кипящих страстей обладает исключительной привлекательностью. Но мир спокойствия и размеренности, вежливости и чистоты, мир приветливой упорядоченности… У этого мира есть свое огромное обаяние. Попадая из мира, в котором это обаяние напрочь отсутствует, в мир, состоящий из чистоты, аккуратности, спокойствия, корректности, размеренности, умильности, советский человек испытывает нечто наподобие шока. Нет, он не перестает добывать секретную информацию, рисковать при этом, исполняя служебный долг. Но если иноземная умильность по каким-то причинам оказывается созвучна строю его души, он начинает ее любить. Ему еще в разведшколе внушали, что такая любовь должна уравновешиваться идеологической ненавистью к стране, входящей в империалистический блок. Но чтобы уравновесить чувство умиления при виде прибранности, причесанности, упорядоченности их «буржуинской жизни» чувством идеологической ненависти к чуждому началу, за красивым фасадом которого скрывается фундаментальное зло, нужна КПСС как вдохновитель всего на свете. Мобилизационной по своей сути любви… Мобилизационной же ненависти…
Не секретарь парткома нужен — чаще всего «никакой»… заведомо скучноватый… И не передовица газеты «Правда», из которой ясно, что мобилизационного содержания нет и не будет никогда, а мобилизационная форма будет распухать… и заедать жизнь… Не давать людям вот так нормально, прилично, упорядоченно, рыночно, размеренно…
При нулевом мобилизационном потенциале умиление их нормальной буржуазностью может породить только одно — желание, чтобы у тебя на Родине тоже всё было так же нормально, как и у них. Это и есть типичный «пэгэушный патриотизм». Пэгэушный — от ПГУ (Первое Главное управление) КГБ СССР.
Явление, согласитесь, не новое. Те же просвещенные офицеры войск Российской империи, прошедшие всю Европу, дабы она освободилась от ига Наполеона… Впоследствии — декабристы. Никакой прямой аналогии, конечно, нет. Ибо декабристов согревал высокий идеал освобождения крестьян от и впрямь ужасного крепостного рабства, калечащего человека, «ближнего твоего». Пэгэушников терзало другое — их буржуинское благолепие, их ухоженность, их уют. Исключительно редко — их так называемая свободная пресса. Гораздо чаще — их тротуары и магазины.
Но ведь и впрямь чистая мостовая лучше грязной… Черепичная аккуратная крыша лучше дырявой шиферной… Аккуратный ватерклозет лучше загаженного сортира… Уютный чистый ресторанчик лучше заплеванной пивной… Магазины без очередей с заполненными прилавками лучше… И так далее. Так почему же не возжелать, чтобы у тебя на Родине было лучше — так, как в этом дальнем, чужом краю? Чтобы не кривились избы, не хлюпала грязь, не давились в очередях. Чтобы нормально было, понимаете?! Норррмально!
Это слово теперь чаще других повторяют с экрана наши VIP — как служившие в ПГУ, так и никакого явного отношения к органам не имевшие. Но вслушайтесь — одна и та же интонация, никак не свидетельствующая о действительном тяготении к чему-то нормальному. Они ведь буквально рычат: «Нужна норррмальная жизнь!» Зрачок расширен. Голосовые модуляции никак не говорят о нормальности, которая взыскует «их» интонаций — мягких, спокойных, благостных. А наши про необходимость их немобилизационной благостности вещают с псевдомобилизационным надрывом. Содержание в корне противоречит мобилизации. А форма… «Я вас, суки, научу австрийскому «норррмальному благолепию!»
Норррмальная жизнь… Во имя права на нее были разрушены все реальные советские нормы. Да и всечеловеческие нормы тоже: «Мы не сметем совок, не раскрепостив «сексуальность»! А также агрессивную криминальность, алчность…» Итак, при безусловном участии Бахтина, раскрепостили Низ. То есть не высшее творческое начало, а его прямую противоложность — начало, изгнанное человеком в тот момент, когда он вырывался из дочеловеческого, звериного состояния. И, вырываясь, создал запреты (табу). Сначала— запрет на кровосмешение. Потом — морально-религиозные запреты, они же Заповеди. Потом — послания Христа, взыскующие любви и налагающие запрет на расчеловечивание того, кто, как и ты, имеет живую душу. Потом — «Свобода, Равенство, Братство». Потом — Коммунистический манифест о скором пришествии Красной весны, раскрепощающей и пробуждающей высшее творческое начало («Из царства необходимости в царство свободы»).
Так восходил человек, мечтавший о раскрепощении и пробуждении своего высшего начала. Но можно же возжелать и раскрепощения, пробуждения начала низкого, то есть Черной весны. Ее-то и возжелали фашисты. И пробудили, раскрепостили дремлющее Зло, отброшенное в ходе вочеловечивания. Столкновение фашистов с коммунистами как раз и было столкновением Черной весны с весною Красной. Красная весна победила. Черная — всего лишь отступила, уползла в то логово, из которого выползла. Это ведь очень древнее, так сказать, «примордиальное» логово. Выдираясь из звериного инферно, человек отделял высшее начало от низшего. Называя «высшим» то, что отдаляет его от собственной предыстории, а «низшим» — то, что тянет назад, в дочеловеческую, звериную инфернальность.
Каким бы кровавым ужасом ни была пропитана история — она намного добрее и бескровнее предыстории. «Вверх» — значит подальше от предысторического ужаса. История как плата за подобное удаление есть благо до тех пор, пока ты наращиваешь свое человеческое сущностное начало и зарубками на древе жизни фиксируешь: «Еще больше удалился! Ура!» Смысл истории — в этом удалении от предыстории. Свобода человека — это свобода от предыстории. А значит, это и свобода для истории.
Но история не может быть только удалением от чего-то, именуемого предысторией. История — это еще и приближение к чему-то. К чему?
Страдая от кровавых мук и унижений, ниспосланных историей, благословляя историю за то, что она спасает от предыстории, человечество мечтало о чем-то большем, нежели историческое «тяни-толкай» («вырываемся из предыстории, она тянет назад, а мы вырываемся… и так — навеки»). Человечество называло это большее «раем на Земле». Никакого религиозного запрета на построение «рая на Земле» не существует. Ни в христианстве, ни в других мировых религиях.
Другое дело — споры о том, что такое «рай на Земле». Измученные голодом люди часто наделяли этот рай вульгарно-потребительскими чертами. Мол, булки будут расти на деревьях, молочные реки, кисельные берега и так далее. Но всё же преобладало совсем иное отношение к раю на Земле. Считалось, что после построения такого земного Рая удастся каким-то образом сокрушить предысторическое как таковое. Подробнейшим образом обсуждалось, как это будет сделано. Что именно необходимо построить, дабы лев обнялся с агнцем, агрессия была превращена в любовь и так далее.
Никто из подлинных, глубоких хилиастов (именно так назывались мечтавшие о рае земном и создававшие для этого рая необходимые предпосылки) не считал, что в раю земном мирская плоть будет бесконечно наслаждаться низменными утехами. Именно раскрепощение высшего творческого начала считалось содержанием райской земной (равно как и райской небесной) жизни.
В ряду высоких хилиастических утопий есть место и для Иоахима Флорского (мечтавшего о Царстве Святого Духа, которое должно утвердиться вслед за Царством Отца и Царством Сына), и для Карла Маркса, мечтавшего о переходе человечества из Истории в Сверхисторию. Конечно же, своеобразие Маркса (а также его большевистских последователей) в том, что его хилиазм носит светский характер. Миссия построения рая земного возложена на человеческий род, освобожденный от оков эксплуатации, отчуждения, классовых антагонизмов, эгоистических распрей. Но, всячески подчеркивая своеобразие марксистского хилиазма, все исследователи марксизма признают, что учение Маркса неразрывно связано с хилиазмом. Даже Ленин, крайне негативно относившийся к разного рода духовным изыскам, называл в числе трех источников марксизма утопический социализм. А уж он-то весь соткан из хилиастических мечтаний, реализуемых через построение особых (конечно же, неомонастырских) коммун, весьма похожих на общины и братства, созданные религиозными хилиастами.
Что же тогда такое не рычание о норррмальной жизни, а подлинно нормальная жизнь? И существует ли она, если под ней иметь в виду не просто комфорт, потребительство, чисто плотское благолепие? Подлинно нормальная жизнь изобретена Западом. Она отнюдь не сводится к любому — даже самому изящному и деликатному — потаканию плоти. Как и всё великое, идеал нормальной жизни метафизичен по своей сокровенной сути. Суть эта в том, что рай земной невозможен в силу неискоренимости злого человеческого начала. «Что вы ни делайте с живущим на земле человеком, как вы его ни воспитывайте, как ни освобождайте от эксплуатации — зло останется и потребует своей доли в предприятии под названием «человек». Чем яростнее вы будете бороться с правом зла на долю в этом предприятии, тем сокрушительнее будет ваше поражение и тем большую долю зло завоюет в итоге в опекаемом вами от его присутствия предприятии. Да и кто вы такие, чтобы опекать подобное предприятие? Вы сами — такое же предприятие. Вас самих надо опекать!
Знаем мы этих опекунов человечества! Чай, не ангелы! Монахи — те реалистичнее! Они на помощь божью рассчитывают! Его именем себя от зла огораживают денно и нощно — обеты, епитимья, memento mori… А вы-то, коммунисты, на что рассчитываете? Брежнев или Суслов будут вас от зла оберегать? А они-то сами? А Сталин ваш? А Ленин?» — вот что говорят реалисты коммунистическим романтикам, чей проект, по мнению реалистов, обречен на страшное поражение.
Что же предлагают сами реалисты вместо коммунистических (шире — хилиастических) преодолений низшего начала, раскрепощений и пробуждений начала высшего, очищений, освобождений et cetera?
Они предлагают для начала признать неистребимость злого начала в существе из плоти и крови, именуемом «человек». Это первый пункт их программы, порожденной не низостью, а благородством, не корыстью, а заботой о человечестве. Иначе этот первый пункт программы называется «антропологический пессимизм».
Второй пункт — утилизация зла. Если зло неистребимо, то его надо правильно использовать. Антропологический котел неисправимого зла, накрытый крышкой исторических «табу», в любую минуту может взорваться. Но если соорудить паровоз и правильно использовать энергию этого зла, то род человеческий может двинуться в правильном направлении. Каковым является не рай земной, а оптимизация доли зла в проекте Человек.
Третий пункт программы — организация всего, что касается сосуществования неисправимых злых человеческих существ. Если всё регламентировать, задействовать часть зла на благие цели, спалив эту часть в котле правильно организованного действия… Если другую часть зла канализировать в наиболее безопасном направлении, то жизнь станет не благой, но приемлемой.
Четвертый пункт — механистичность как основа преодоления зла. Источник зла — звериное начало. Оно неискоренимо. Но ведь в механизме такого начала нет! И чем больше человек будет «омеханизмен», тем в большей степени он будет очищен от зла. «Омеханизменность» может быть разнообразной — как социальной, так и антропологической.
Социальная «омеханизменность» — это и есть пресловутый немецкий порядок («орднунг»). Никакого особого отличия немецкого порядка от порядка в его общезападном понимании не существует. Просто немцы, будучи наименее западным из всех западных народов, взяв на вооружение западную философию «среднего пути» и «омеханизменности», стали исполнять этот поздно взятый ими на вооружение принцип со страстностью неофитов. Орды германских варваров разрушили римский принцип организованности вместе с самим Римом. И стали пировать на обломках цитадели права, норм и порядка с особой варварской свирепостью. В отличие от каких-нибудь вестготов, эти варвары даже не восхищались Римом, рухнувшим под тяжестью собственных пороков и варварского напора. Прошли столетия. Приняв христианство, варвары стали тосковать по Риму, назвав в итоге свою державу Священной Римской империей.
Поняв, что хаос, любезный сердцу подлинного германца, не дает победить соседей, немецкие варвары начали сковывать внешними нормами порядка, то есть «омеханизменности», неискоренимый внутренний хаос. Особо усердствовали пруссаки, заряженные хаосом сильнее, нежели остальные варварские племена. Хаос германской свирепости, помноженный на омеханизменность, доведенную до предела, создал армию полуроботов, над которой справедливо потешались и Наполеон, и Суворов.
Фридрих, именуемый Великим, надрывно омеханизмевал армию. Ему вторили Мольтке и другие корифеи немецкой военной школы. Бисмарк распространил это же начинание своих предшественников (уравновешивание свирепого хаоса как содержания предельной омеханизменностью форм) на всю немецко-прусскую жизнь. На этой бисмарковской основе произошло объединение Германии, укрепление империи Гогенцоллернов и многое другое. Всё это в итоге сыграло существенную роль в зачатии монстра, именуемого Первая мировая война.
Всем стало понятно, что норррмальная жизнь является укрощенным зверем, периодически срывающимся с цепи. Образ пса Френира, взятый из северно-европейской мифологии, очень четко выразил существо возникшей всемирно-исторической ситуации.
Да, пока зверь скован нормами, законами, рациональной «деликатной» свирепостью буржуазного государства — идет норррмальная жизнь. Пронизанная ужасом и тоской бессмыслия, начиненная скукой и много еще чем, но обладающая своими существенными преимуществами. Но это ненадолго. Зверь срывается с цепи — и эта самая норррмальная жизнь превращается в иррациональную кровавую суперсудорогу, в наинормальнейшую Европу, буквально заваленную трупами.
Стало также ясно, что Первая мировая война беспрецедентно чудовищна и по масштабам массовых убийств, и по применяемым для этого средствам (химическое оружие в таких масштабах никто потом не осмелился применять, включая Гитлера), и по бессмыслию. Зачем стали друг друга убивать? Чего добивались? Рассуждения о чьих-то геополитических интересах, о переделе мира, о зловещем британском заговоре, о всяких там Базилях Захаровых, жаждущих продать оружие, никого не убеждали. Ибо все понимали, что подобные факторы при всей их важности ситуацию никоим образом не исчерпывают. Что главным виновником произошедшего была эта самая норррмальная жизнь. Что колоссальные человеческие страдания, неслыханные жертвы, выбрасывание из жизни целого поколения (названного потерянным) — это плата за возможность реализации некоей норррмальной жизни. Накопилась агрессия — спустили пар — успокоились — агрессия снова накапливается — снова спускаем пар… И так далее.
Во главе угла всегда был и всегда будет только один вопрос — вопрос о человеке. Если норррмальный ответ на этот вопрос демонстрирует свою несостоятельность, нужны другие варианты ответа на тот же самый вопрос. Гуманистический созидательный пессимизм, гуманистический созидательный прагматизм, гуманистический созидательный скептицизм… Всё это, принятое на вооружение западным человечеством в XVI веке нашей эры, было необратимо дискредитировано Первой мировой войной. Всё это невозможно было усовершенствовать, избавив от сокрушительных недостатков. Ибо в основе крушения «этого» лежали даже не законы неравномерности развития, и уж тем более не законы неравномерности распределения, порождавшие обогащение меньшинства за счет обнищания большинства. Всё это можно было попытаться отрегулировать. А вот закон накопления потенциала «озверивания» в норррмальном человеке, не освобожденном от зла, а всего лишь приговоренном к сожительству со злом, скованным цепями морали, закона, цепями нормативных предписаний, специализаций, ролевых функций… Как быть с этим неумолимым законом? И человечеством, осознавшим, в чем его перспектива, коль скоро этот закон не будет чем-то как-то преодолен?
Техника будет развиваться… Техника массовых убийств будет развиваться в первую очередь. Озверивание снова и снова будет вступать в свои права… И что же? Какое светлое будущее? Самоистребление человечества? Какое настоящее? Все, понимая неизбежность именно такого исхода, томятся в темнице опостылевших норм, установлений, предписаний и прочих скучных, мертвых «регулятивностей»?
Мирная, благополучная, бесконечно скованная регламентами, доведенная до максимальной механистичности норррмальная жизнь. Со всеми ее прелестями — скукой, политкорректностью, скрытой полицейщиной, доносительством, подавленностью, грызней, страхом, копошащимся в подполье пороком, холодом бездушевности… Такая вот норррмальная жизнь длится, длится… Бац! Все вдруг начинают зачем-то убивать друг друга… Судорога бессмысленной массовой бойни… Наубивались, успокоились и снова — скука, порядок, механистичность, умильное отупление и прочие прелести норррмальной жизни… Понаслаждались, подустали, поднакопили иррационализма, агрессии?.. Снова массовые убийства… Еще более массовые, чем предыдущие (Рис. 4).

Европейское человечество, разочаровавшись в норррмальности жизни и не имея никаких альтернатив, могло бы исторически капитулировать. Последствия подобной капитуляции, формы, в которых она бы стала осуществляться — всё это по катастрофичности могло существенно превзойти любые ужасы мировых войн.
Но тут Россия заявила о Красном проекте, то есть о том, что у скомпрометировавшего себя — гуманистическо-пессимистического! — проекта норррмальной жизни есть гуманистическая же, но оптимистическая альтернатива. Отчаявшаяся Европа увидела воочию, как на территории огромного государства Красная весна становится способом реального бытия сотен миллионов реальных людей. Она увидела, как эти реальные люди творят реальные чудеса в сфере экономики, культуры, социальной жизни. В европейском обществе возник ответный импульс: если норррмальная жизнь не сулит ничего, кроме омеханизмевания и человеческих чудовищных жертвоприношений во славу этого омеханизмевания, то, может быть, стоит присмотреться к русскому опыту, русскому новому слову, ставшему новой плотью общественного бытия, русскому историческому проекту?! Ведь в Европе гораздо лучшие стартовые возможности, чем у русских! В Европе иной уровень образования, иной уровень развития производственных сил! Западная элита могла по-разному отнестись и к советскому рукотворному чуду (которое она, как мне кажется, вполне справедливо назвала «русским») и к той системе надежд и ожиданий, которую это чудо породило на Западе. Это был бы единственный разумный ответ на месседж, полученный из Советской России. Ведь дело не в том, как именно производить вещи и регулировать социальную жизнь. Это можно делать по-разному.
Вспоминается одесский анекдот. Один из игравших в преферанс, проигравшись в пух и прах, умирает от инфаркта. Компания посылает гонца к жене и поручает гонцу сообщать жене о смерти мужа так, чтобы она не отправилась к праотцам вслед за своим супругом. Дипломатичный гонец говорит:
— Мадам, Исаак Моисеевич… Вы только не волнуйтесь, мадам!
Темпераментная супруга кричит:
— Что случилось?!
Гонец:
— Умоляю Вас, мадам, не волнуйтесь! Исаак Моисеевич…
Супруга (перебивая гонца):
— Что, что с Исааком?
Гонец:
— Он играл в карты.
Супруга:
— Ну?!
Гонец:
— Ну и проиграл!
Супруга:
— О, чтоб он сдох!
Гонец:
— Не волнуйтесь, мадам! Уже!
Александр Зиновьев, сильно поработавший на разрушение СССР, дискредитацию коммунизма и советского образа жизни (чего стоит название одной из его книг: «Хомо советикус» — именно на основе этого названия популяризирован отвратительный перестроечный мем «совок»), раскаявшись под конец жизни, стал рассуждать о постепенном превращении западного общества в человейник, то есть в человеческий муравейник. Мир праху философа! Но интеллектуальная дискуссия не прекращается после смерти интеллектуала, потому можно сказать — не самому Зиновьеву, а его немалочисленным почитателям: «Не волнуйтесь, уже!»
Нор-р-р-мальная жизнь — это и есть человейник, то есть чередование пауз и конвульсий, заложенное в саму антропологическую концепцию непреодолимости злого начала в человеке, необходимости это начало не избывать, а регулировать, подчиняя весьма сомнительной идее некоего условного блага. Какого блага? Ну, например, блага прогресса… Сразу же вспоминаются не худшие строки из «Антимиров» А. Вознесенского: «Все прогрессы реакционны, если рушится человек».
«Рушащийся» человек — это человек, не способный раскрепостить (и уж тем более пробудить) свои высшие творческие способности. Это человек, признавший неискоренимость антропологического и социального Зла. Это человек, отчаянно пытающийся оптимальным образом отрегулировать свои отношения с неистребимым, неискоренимым «злым началом своим». Каким именно? Очень разным. Например, звериным предысторическим. Вот уже и Фрейд по этому поводу высказался, и Юнг. А есть еще неискоренимое социальное зло! А еще есть… О, как их много — модификаций неискоренимого злого начала! И, раз оно таково, надо всё, что можно, отрегулировать. Взнуздать этого неуничтожаемого Зверя! Оседлать его… И ехать на нем… Куда? В сторону еще большей отрегулированности этих же отношений… Ведь именно так формулирует свою задачу нормализаторский гуманизм. Окей! Оседлай зверя, поехали… Едем, давим в себе тоску… А потом… Потом этот самый Зверь сбрасывает седока, скидывает узду и начинает бесчинствовать… Бессмысленная кровавая бойня… миллионы трупов… Вой всеобщего ужаса! Нагулявшись вволю, Зверь устает и позволяет уцелевшим муравекам (если социум превращен в человейник, то элемент его — муравек) снова оседлать себя и продолжить путь… Вплоть до нового часа «Ч», когда седок и всадник поменяются местами и прогрессистский мирный кортеж (гуманисты используют взнузданного Зверя) превратится в оргиастическую кровавую скачку, приносящую человейнику и муравеку урон еще больший, нежели предыдущая скачка. Александр Зиновьев называл советского человека хомо советикусом. Он горделиво повествовал о своем вкладе в дело развала СССР.
Когда СССР развалился, Зиновьев взвыл. И начал рассуждать о скором пришествии ужасного «человейника». Но разве не хомо советикус, осмеянный Зиновьевым, был единственной реальной — осуществленной, явленной человечеству — альтернативой муравеку? Зиновьев не читал Достоевского, подробно описавшего, как именно из людей будет выхолащиваться их человеческая сущность? Как именно норррмальное общество будет превращаться в мир особо продвинутых муравьев, тоскующих, в отличие от нормальных муравьев, по чему-то «этакому». И потому — особо опасных как для самих себя, так и для собственно природного мира, из которого зачем-то эти супермуравьи выделились.
Да что там Достоевский! Мы что, не видели воочию этих супермуравьев, ползающих по городам западного мира? Впрочем, только ли западного? Так ли уж отличаются от западных супермуравьев обитатели азиатских государств, вставших на путь «догоняющей модернизации»? Конечно, супермуравьи в Азии — более голодные и живые. А супермуравьи на Западе — более сытые и сонные. Но, во-первых, это всё равно супермуравьи. А, во-вторых… Раньше или позже азиатские супермуравьи наедятся, сожрут (частично или до конца) западных супермуравьев и воспроизведут те же циклы: тоскливый сон на бегу — конвульсия — новый сон — новая конвульсия… И так вплоть до неизбежного самоуничтожительного финала.
С Зиновьевым я встречался уже после его возвращения в Россию. Впечатление было донельзя странное. Передо мной был человек, явно неспособный к публичному изложению своей позиции. Он то проклинал СССР, то проклинал Запад, то, срываясь, кричал, что посвящает свои новые книги ушедшему поколению «мальчишек в буденовках». Мои знакомые убеждали меня в том, что Зиновьев невероятно умен… Может ли умный человек, сказав «мы метили в коммунизм, а попали в Россию», продолжать отрекомендовывать себя в качестве блистательного стрелка и учить других меткой стрельбе по целям… «Рабинович стрельнул, Пух — и промахнулся, И попал немножечко в меня…»
Но если бы дело было только в одном Зиновьеве! По рецептам Бахтина, Баткина, Кристевой, Ракитова и других К-17, расстреляв коммунизм, поставил на грань небытия и Россию, и человечество… Этого хотели умники, консультировавшие Андропова? Этого хотели международные круги, с которыми вели далеко идущие консультации и члены К-17, и его вышеупомянутые продвинутые агенты?
Можно уничтожить коммунизм как конкурирующее жизнеустройство и СССР как геополитического конкурента. Но что делать с человеком и человечеством? Вести и дальше мир по пути норррмализаций и конвульсий? Но ведь финал не за горами! Он очевиден для слишком многих! Теперь он ясен уже и как нечто конкретное. НАТО готовится к удару по Сирии…
Израиль требует от США удара по Ирану… А проблема Израиля? И записной враг Израиля, гуру Демократической партии США Збигнев Бжезинский, и записной друг Израиля, гуру Республиканской партии США Генри Киссинджер заявляют одно и то же. Что у Израиля нулевые шансы продлить свое существование даже на 10 лет! Мнение отдельных, выживших из ума стариков? А руководители 16 спецслужб США, подписавшие доклад, в котором говорится о том же самом? Они тоже — выжившие из ума старики?
Американская элита радикально преобразует мир! В нужном ей новом мире теперь нет места ранее ею же опекаемому Израилю. Но ведь не только ему! И что же это за «новый мир»? Элита США объективирует происходящее. Мол, началось «глобальное пробуждение», оно породило «исламское торнадо», что мы можем с этим поделать? Но кто сооружает на самом деле это «глобальное пробуждение»? Кто организует «торнадо»? Та же элита США! Она не понимает, чем чревата ее затея? Израиль — вполне живое, энергичное государство, обладающее ядерным оружием! Оно согласится на самоликвидацию? Это исключено. Так что же тогда планируется?
Иран и Израиль обменяются ядерными ударами? Это совместимо с сохранением глобального равновесия? Историософский тупик Модерна порождает все остальные тупики. Сам же он порожден тупиком, в который человечество загнала норррмальная антропологическая модель того же Модерна, то бишь капитализма. Два этих тупика — антропологический и историософский — порождают третий, геополитический тупик. А дальше — «реал-политика». Иран, Россия, Китай полностью сдадут Сирию? Россия и Китай сдадут Иран? Китай сдаст Россию (или Россия сдаст Китай) и… сдастся сам? Полно, готовы ли приговоренные страны обреченно сдавать друг друга?
Достаточно Китаю заступиться за Иран (не заступился — пиши пропало!) и начнется война, поразительно напоминающая Первую мировую. Только вот война эта будет ядерной! Есть ли шанс избежать такого сценария? Да, он есть! И что с того? Вскоре в соседней точке (или точках) сложится аналогичная ситуация… Чуть раньше или чуть позже вновь ослабнет регулятивная узда Модерна. Вновь возобладает усталость от норррмальности… Вновь переполнится чаша неравномерности развития производительных сил в этих самых норррмальных странах, вновь алчность хозяев норррмальной жизни возобладает над их страхом потерять всё (и то ведь — откуда страх, если нет Советского Союза и коммунизма).
Бац… Вновь Зверь сбросил Седока и с упоением стал пожирать человечество как в Первую мировую… Но теперь уже ядерными зубами… Возникает естественный вопрос — отказавшись от Красной Весны, то есть от раскрепощения и пробуждения высших творческих сил в человеке и человечестве — что могут и хотят развивать и совершенствовать отказавшиеся? Регулятивную норррмальность — или пожирательную способность этого самого Зверя? Можно, конечно, отказаться от развития всего сразу — и неисправимо злой (а значит, подлежащей лишь норррмализации) антропосферы, и техносферы (зачем ее развивать, если антропосфера не норррмализуема окончательно). Но это еще надо суметь остановить слабо регулируемое развитие техносферы. Как говорится, легко сказать, но трудно сделать. А главное — и этот сценарий, с его чудовищными последствиями, можно осуществить только на обломках современного мира.
Обломки эти не могут не напоминать обломки, порожденные чернобыльской катастрофой. Этого хотят силы, уничтожившие СССР и коммунизм? И что же это тогда за силы?
Попытаемся ответить на этот вопрос без «умножения сущностей». То есть предполагая, что организаторы нового мира руководствуются в своих планах и проектах разумом, а не страстью. На первый взгляд, иначе и быть не может. Сильные мира сего сильны именно потому, что прагматичны, реалистичны. Они сильны потому, что лучше других понимают закономерности реального мира. Они, уловив тенденции быстрее других и понимая лучше других, чем эти тенденции чреваты, делают надлежащие выводы. Их выводы неумолимо логичны. Раз таковы тенденции, то делать надо то-то и то-то. Так скажут вам все специалисты, знакомые не понаслышке с сильными мира сего и потому справедливо презирающие все теории заговора, и впрямь страшно далекие от реальности.
Так-то оно так… но разве когда-либо кто-либо строил новый мир на основе преклонения перед реальностью и здорового прагматизма? Извините — так удерживали старый мир, спасая его от слишком быстрого обрушения.
Вспоминаются строки Беранже, французского поэта XIX столетия:
В новый мир по безвестным дорогам
Плыл безумец навстречу мечте,
И безумец висел на кресте,
И безумца назвали мы Богом!
Мечты, как мы знаем, бывают разными. В том числе и очень зловещими. Нацисты тоже плыли навстречу своей мечте — мечте о Черной весне, ликвидирующей творение злого и бездарного бога. Поэтому апология мечты как таковой, противопоставление благостности мечтаний злу ползучего рационализма и прагматизма категорически неприемлемы. Но цель любой аналитики — неспешное выявление природы явления, а не судорожная оценка качества оного. Поймем, в чем суть, — дадим оценку. Но сначала — это неспешное скрупулезное понимание, а потом — волевое действие.
Поэтому давайте для начала зафиксируем, что все новые миры создавали страсть и мечта. Затем оговорим, что эти «новые миры» могут быть созданы как высокой, благородной, возвышающей мечтой, порождающей такую же страсть, так и мечтой диаметрально противоположной. После этого установим, что всегда любые разнокачественные новые миры строили не разум и прагматизм, а разные по качеству мечтания и страсти. Они и только они! Установив это, иначе отнесемся к суждениям знатоков по поводу рациональности и прагматичности сильных мира сего, строящих новый («американский») мир бесстрастно и немечтательно. На основе «голого интереса», презирающего романтику с ее утопическими «задвигами». Убедимся в том, что эти суждения осведомленных людей противоречат реальному историческому опыту человечества. Убедившись в этом — откажемся от дешевых конспирологических построений с еще большей категоричностью. Почему? Потому, что антитеза — или мечта и страсть, отвергающие реальность во имя нового мира, или восхваляющий эту реальность «ползучий прагматизм» — от лукавого! Не или-или, а и-и! Только по такому принципу осуществлялись все исторические проекты. Все революции, действительно приносившие человечеству новые возможности Восхождения, менявшие облик мира, обогащавшие содержание человеческой жизни, привносившие в мир новые великие смыслы. Все, кто это делали, были и мечтателями, и прагматиками. Воистину это так. Об этом свидетельствует вся история человечества.
Итак, у меня есть все основания для того, чтобы опровергнуть тезис рационалистов и начать анализировать те страсти и мечтания, коими руководствуются сильные мира сего, осуществляя то, что Ницше называл переоценкой ценностей, и, переходя от подобной переоценки — к глобальной сокрушительной перестройке.
Но я не поддамся этому соблазну. И возьму за отправную точку «Его Величество Классовый Интерес».
1917 год. В России произошла Великая Октябрьская Социалистическая революция. Человечеству предъявлена великая новизна во всем — в идеологии и хозяйственной практике, культуре и социальной жизни. Россия поплыла по совсем-совсем безвестным дорогам навстречу мечте.
Вместо карты и компаса — «Капитал» Карла Маркса. У руля — капитан, который постоянно говорит команде: «мы движемся в те Края, которые воспевали наши великие якобинские предшественники!»
Итак, строители новой России воспевают якобинских предшественников, утвердивших в Европе принципы великой и всеобъемлющей Нормы («норрр-мальной жизни!», «норррмального человека!»), а Европа лицезреет чудовищное, неслыханное безумие, неопровержимо свидетельствующее о том, что принцип Нормы, провозглашенный просветителями и утвержденный якобинцами, — не работает. Что дальнейшее следование этому принципу может кончиться только уничтожением человечества. При этом никакого другого принципа не может выдвинуть никто, кроме сошедшей с ума России — полуразрушенной, истерзанной, нищей. Эта Россия лепечет что-то новое на абсолютно чужом для нее марксистском идеологическом языке. А все остальные — или молчат, потупившись, или начинают вторить России. Что должны делать в этих условиях холодные, умные, хищные, властные, безмерно богатые люди, чувствующие, что у них почва уходит из-под ног? Что они должны делать, напарываясь после этого на чудовищный кризис 1929 года?
Читать Маркса — это первое. Не могут они не начать читать этого опасного мыслителя. А также его очень эксцентричных русских последователей.
И второе. Чувствуя, как эта почва уходит у них из-под ног, они должны нащупывать другую почву, не так ли? Или нащупывать ее — или рушиться в бездну. А поскольку господствующий буржуазный класс настроен не суицидально, и у него явно нет желания рушиться в бездну, то он начинает нащупывать новую почву.
Памятуя при этом, что «новое — это хорошо забытое старое».
Итак, класс начинает читать Маркса и Ленина. Но мало прочесть! Надо разобраться в написанном. Властный инстинкт показывает представителям продвинутой верхушки этого класса, что сами как следует разобраться они не смогут. Что это потребует помощи интеллектуалов высшего класса. И что эти интеллектуалы не окажут помощи, если с ними не будут построены совершенно новые отношения. Надо торопиться! С каждым месяцем всё большее количество таких интеллектуалов перебегает в лагерь большевиков! Уже в двадцатые годы отборные интеллектуалы, не оскоромившиеся большевизмом, были введены в элитные закрытые структуры в качестве полноценных партнеров господствующего буржуазного класса.
Кризис 1929 года… Буржуазный класс понимает: «Надо торопиться!» Маркс и Ленин уже прочитаны достаточно внимательно, хотя о полноценном интеллектуальном реагировании на вызов марксизма-ленинизма говорить еще рано. «Еще бы пять-шесть лет!» — говорят исследователи, кооптированные в закрытые элитные структуры правящего класса. «Вы с ума сошли!» — отвечают им представители буржуазной элиты. «Если мы не начнем реализовывать полноценную антисоветскую антикоммунистическую стратегию немедленно, мы потеряем власть в течение этих самых пяти-шести лет! Не тяните! Не вдавайтесь в детали! Не шлифуйте осуществленные наработки! Предложите что-то в виде первого, пусть и грубого, приближения. Мы не можем ограничиваться силовым противодействием большевикам. Да, мы их сажаем и будем сажать. Мы их убиваем и будем убивать. Но этого мало! Они говорят об объективных тенденциях, в силу которых наша власть вскоре рухнет! Они лгут? Или говорят правду?»
Представители интеллектуального класса, кооптированные в закрытые элитные буржуазные структуры отвечают: «Большевики говорят правду. Объективные исторические закономерности выявлены Марксом и Лениным с гениальной прозорливостью. Эти закономерности существуют. Еще несколько шагов на историческом пути, по которому много тысячелетий движется многострадальное человечество — и…»
«И что?» — с холодным бешенством спрашивают буржуазные, особо умные и сильные, господа.
«И вы окажетесь не у дел, — отвечают интеллектуалы, — Вас ждет участь ваших предшественников. Те тоже сажали в тюрьмы представителей вашего класса, убивали их… И даже жгли на кострах. Вы, надеюсь, понимаете, что этого недостаточно для сдерживания объективных исторических тенденций?»
«Еще как понимаем! — отвечают буржуазные господа, — Не понимали бы мы этого — не кооптировали бы вас в господствующую элиту. Ну так что же делать?»
«Объективные процессы, выявленные Марксом и Лениным, действуют неумолимо лишь постольку, поскольку существует история, — отвечают интеллектуалы господам, находящимся на буржуазном Олимпе. — Если историю убить, если сломать ей хребет — большевики окажутся обесточены. Да и не только они».
Большинство буржуазных особо продвинутых господ, выслушав кооптированных во власть интеллигентов, несущих подобную ахинею, недоуменно разводит руками: «Непонятно, что такое история… Где у нее хребет? Как его сломать?»
Но наиболее богатые, хищные и продвинутые хозяева буржуазного мира оживляются. Этих, оживившихся, человек пятнадцать. Но они контролируют чуть ли не четверть мирового капиталистического богатства. И обладают вдобавок огромным влиянием на остальных обитателей буржуазного Олимпа. Им верят. Ими восхищаются. Их побаиваются. Впрочем, всё это не возымело бы решающего значения, если бы не чудовищность ситуации. Позади — шок унизительной мировой бойни. Впереди — беспрецедентный мировой кризис, отнимающий у западного человечества даже суррогатную надежду на безбедное спокойное существование в интервалах между мировыми бойнями. Выход из кризиса, если верить ужасным марксистам, которые, увы, в прогнозах пока что не ошибаются — возможен только при условии ускоренного развязывания новой мировой войны. Или такая война, или социалистическая революция. Но ведь и война может породить опаснейшие последствия.
Сразу войну не развяжешь. Большевики готовятся к какому-то, будь оно неладно, «построению социализма в отдельно взятой стране».
То есть через какое-то время социальные низы в западных буржуазных странах не просто будут восхищаться большевиками. Они еще и смогут опереться на большевистскую мощь. Мощь страны, рапортующей обездоленным всего мира о своих невероятных успехах… В подобных условиях смертельно напуганный класс всегда идет за наиболее сильными — волевыми, дерзкими, умными, властными, богатыми, влиятельными и так далее — вожаками. И если эти вожаки не фыркнули, выслушав предложение интеллектуальных младших партнеров, рассуждающих о возможности победы над большевизмом в случае демонтажа истории — тудыть ее растудыть — что ж…
А, может, не так глупа и бессмысленна идейка, как это кажется на первый взгляд? В конце концов, вожакам виднее.
Вожаки же на этом этапе не нуждаются ни в каких санкциях всего буржуазного Олимпа. Им всего-то надо чуть-чуть изменить распорядок дня для того, чтобы осваивать экзотические предложения своих младших интеллектуальных партнеров. Деньги на детализацию этих разработок? Во-первых, интеллектуальные партнеры хотя и младшие, но отнюдь не бедные. Во-вторых, для самых амбициозных исследований обсуждаемых вопросов нужны средства, несопоставимые с контролируемыми мировыми богатствами. А в-третьих… Да, осуществление разработок — не детализация их, а именно воплощение в жизнь — потребует и огромных средств, и много чего еще. Но лучше отдать часть, чем потерять всё так, как это потеряли русские нюни и скупердяи.
— Что же вы имеете в виду под победой над большевизмом с помощью демонтажа истории? — спрашивает холеный, сотканный из властного высокомерия американец, прогуливаясь по дорожкам своего поместья вместе со столь же высокомерным интеллигентом, лишь недавно вовлеченным в господствующий класс в качестве полноценного элитного партнера.
— Да, в отличие от Вас, я не занимался всю жизнь идеями, теорией управления и другими тонкими материями. Но я получил блестящее образование. Я много читал. Да и практическая деятельность, которой я себя посвятил, не так груба, как это кажется стороннему наблюдателю. Итак, на одной чаше весов — мой жизненный опыт и мои знания. А на другой — ваши сомнительные идеи…
Высокомерный американец подбирает два камешка: один очень большой, другой совсем крохотный — и кладет их на ладонь, иллюстрируя свою, и без того достаточно очевидную мысль.
— Результат проведенного нами эксперимента настолько очевиден, что…
Американец, увидев, что его собеседник подбирает с дорожки несколько камешков, умолкает, с любопытством наблюдая за собеседником. Собеседник кладет на его ладонь рядом с крохотным камешком камень средней величины.
— Но ведь наш разговор состоялся, — говорит он американцу. — И не просто состоялся. Он породил массу последствий. Мы оказались лихорадочно введены в систему власти и управления, которую вы тщательно охраняли от посторонних. Вы предоставили нам неограниченные возможности для исследования интересующей вас теоретической проблематики. Вы изучили результаты наших исследований. То есть вы вложили в обсуждаемую сейчас проблему и деньги, и время, и усилия свои, и нечто большее. Вы, так сказать, поделились властью. То есть тем, чем никогда не делятся без особых, так сказать, оснований. А значит, эти особые основания налицо. Они-то — разве не гирька на той же чаше, где находятся мои, как вы сказали, странные рассуждения. Вы дорожите тем, что у вас хотят отнять коммунисты. Этим дворцом. Укладом жизни. Местом в обществе. И чем-то еще… Чем же? Своим правом творить историю? Но если история так важна сама по себе, то вы ли будете ее творить или ваши противники… Согласитесь, это не имеет решающего значения. На сторону коммунистов перешли многие представители русской буржуазии, русской аристократии. В советском обществе за ними сохранен очень высокий статус. Почему вас не устраивает такой вариант? А он ведь вас категорически не устраивает. И именно по этой причине мы с Вами сейчас беседуем. Так что же именно Вас столь категорически не устраивает?
— Меня не устраивает их пошлость — ответил американец, разглядывая положенный на его ладонь камень средней величины. — Они фантастически пошлы и не понимают этого. Они так непристойно радуются завоеванному праву жить, упиваясь жизнью. Это непристойно, неприлично — так упиваться жизнью. Они готовы умирать, отстаивая свое право так вот незатейливо, непосредственно упиваться тем, к чему не подобает относиться подобным образом. Но это бы еще полбеды. Упиваясь жизнью столь непристойным, нескромным и несдержанным образом, они во главу угла стремятся поставить некую справедливость.
Лицо американца исказила презрительная ухмылка.
— Бесстыдное упоение жизнью — и восхваление справедливости. Какая бездарность, глупость… И какое безвкусие!
Собеседник молчал и внимательно смотрел на американца.
— Вы не верите в то, что они реализуют нечто подобное? — спросил он, прерывая тягостное молчание.
— Нет, почему же! — ответил американец. — Я как раз верю в то, что им удастся подобным образом преобразовать мир. Верю, что они построят нечто умильное и стерильное. Но я в этом не хочу жить. Даже если мне предложат стать верховным правителем подобного мира! Я плюну в лицо тем, кто сделает мне подобное предложение, и буду воевать с приверженцами такого переустройства. Я буду воевать с ними безжалостно, используя любое оружие. Лучше уничтожить мир, чем лицезреть его в таком новом — умильно-стерильном — качестве. Потому что…
Американец замолчал, наблюдая за тем, как белка карабкается по высокой сосне.
— Потому что в этом новом мире не будет того единственного, что как-то примиряет тебя с неустранимой и всеобъемлющей пакостностью, присущей жизни как таковой.
— Чего не будет? — спросил собеседник, дождавшись момента, когда белка скрылась, перепрыгнув на соседнее дерево.
— Запаха, — ответил американец. — Того упоительного, загадочного, непонятного запаха, который будоражит тебя во сне и наяву, побуждает утром вставать с постели, дарит волю к жизни, волю к преодолению немыслимых тягот бытия. Запаха, источаемого и пожирающим, и пожираемым. Ибо всё пожираемое тоже занято пожиранием чего-то другого. Внутри этой стихии, которую упрощенно именуют «жизнью», нечто скрыто. Не знаю, чувствуете ли вы это, но я это чувствую с давних пор. С тех самых пор, когда мальчишкой, обнаружив, что в жизни смысла нет и не может быть, хотел покончить с собой. Мне вдруг привиделась эта самая жизнь — вся целиком, во всех ее прошлых, нынешних и будущих проявлениях. Поверьте мне, зрелище было невыносимо пакостное. И вдруг я уловил запах… Пахло тем, что пряталось внутри увиденной мною жизненности. Я вдруг понял, что внутри нее и впрямь что-то есть. Понял я и другое. То, что находится внутри, никогда не будет нам явлено. Но нам дано уловить, чем именно оно пахнет.
Белка зачем-то подбежала к американцу.
— Надо же, — сказал он, — до чего ручными и доверчивыми становятся эти твари, как только их перестают пожирать. Вот так и люди при этом самом социализме. Что значит — прекратить мистерию всепожирания? Это значит сгубить ее — ту самую, которая это пожирание организует и внутри него прячется.
— А может быть, она тогда перестанет прятаться? И вы сможете не улавливать ее запахи, балдея от них и одновременно мучаясь от непонимания их природы? — спросил собеседник.
— Не верю, — ответил американец. — Она никогда не перестанет прятаться. Она просто покинет нас. Знаете, как сказал один мудрый человек? «Мы доигрались со своим гуманизмом, — сказал он, — и субстанция Земли, обидевшись на нас, покинула Землю».
— Если уже покинула, — пожал плечами собеседник, — то что мы здесь обсуждаем?
— Ее возвращение, вот что, — ответил американец, разглядывая белку с каким-то непонятным для собеседника чутким и напряженным вниманием. — Если гуманизм породил ее уход, то дегуманизация, возможно, ее вернет.
— Что ж, это возможно, — ответил собеседник. («Далась ему эта белка», — подумал он, внимательно наблюдая за американцем.) — Но это возможно только в одном случае. Если всеобщее пожирание, вернувшись, потеряет любую направленность, даже банально-эволюционную. Ведь именно эта направленность огорчила субстанцию, возврата которой вы так жаждете. Согласны ли Вы посягнуть на направленность — не только на историческую, но и на любую?
— А почему бы нет?
Американец попытался поймать белку, проявив недюжинные способности охотиться за дичью, потерявшей осторожность. Но белке удалось улизнуть.
— Почему бы нет? — повторил американец с нескрываемым раздражением. — Если можно попытаться ее вернуть, эту самую субстанцию, которая нас покинула, то надо сделать всё для того, чтобы попытка увенчалась успехом.
— Всё? — спросил собеседник сдавленным голосом.
— Да, всё, — ответил американец.
— И вы отдаете себе отчет в том, что для этого придется сделать? — спросил собеседник, почуявший, что сейчас, наконец, его долголетние усилия дадут плоды. — Вы отдаете себе отчет в том, во что это обойдется и чем обернется?
— Конечно, — ответил американец. — За такую попытку и я, и те, кто разделяют мой подход, отдадут буквально всё, всем рискнут, через всё переступят — ради малейшего шанса достижения желанной цели.
— Что ж, тогда я готов заключить с вами договор, — произнес собеседник после долгой паузы, в течение которой он в последний раз оценивал серьезность намерений американца. Но вы должны понимать, что, во-первых, пожирание без направленности не имеет ничего общего с тем пожиранием, к которому привыкло человечество за тысячелетия. И, во-вторых…
— Что во-вторых? — спросил американец, который пытался обнаружить спрятавшуюся белку.
— Во-вторых, — сказал ему собеседник, — кроме той субстанции, о возвращении которой вы так мечтаете, есть еще и субъект.
— Да полно вам, — ответил американец, — нет никакого субъекта.
— Вы в этом уверены? — спросил его собеседник.
— Это единственное, в чем я абсолютно уверен, — ответил американец.
— Ну что ж, — сказал собеседник, — тогда по рукам!
И они пожали друг другу руки.
«Ишь ты, «нет субъекта», — хмыкнула спрятавшаяся белка, которая запомнила каждое слово из этого разговора. И чуть позже всё рассказала своим собратьям. А те — другим. В итоге всё дошло до ушей того самого субъекта, об отсутствии которого так опрометчиво объявил американец. Потому что там, где есть субстанция, всегда есть субъект. А также антисубъект и многое другое.
Но всё это я обсужу с читателем в следующей книге. Обязательно.
А пока — до встречи в СССР!
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ