Книга первая Детство Баджи
Часть первая Черный город

Утро
Ветер дул с моря. Влажный воздух устремлялся на берег, смешивался с дымом заводских труб, тяжело опускался на землю, окутывал собой Черный город.
Баджи спала.
Ей снилась арба. Большие колеса катились, шурша по песку. Темя лошади было украшено бахромой из голубых бусин, арба была устлана красным ковром. И в арбе сидела она, Баджи, и никто не прогонял ее, как прогоняли обычно, когда она цеплялась за арбу водовоза, въезжавшую в заводские ворота, которые охранял ее отец, сторож Дадаш.
«Куда арба едет?» — никак не могла понять Баджи.
— Вставай, вставай, дочка! — услышала она сквозь сон голос отца, почувствовала толчок в спину.
Баджи хотела встать, но голова ее была тяжела, тело разбито. Так бывало нередко на исходе тех летних ночей, когда в раскрытые окна проникал влажный воздух, насыщенный дымом, чадом, испарениями. Случалось, он доводил детей до обморока и удушья.
Пересилив себя, Баджи приподнялась. Сидя на ветхой подстилке у двери, она протерла отекшие, слипшиеся глаза. Они у нее были карие, ресницы — ровные и густые, как щеточки, брови у висков чуть загибались вверх. Запустив пальцы в копну иссиня-черных волос,
Баджи пыталась их расчесать, но жесткие сбившиеся волосы не поддавались. Впрочем, она не упорствовала: каждое утро причесываться и умываться — стоит ли? С одеждой тоже не пришлось долго возиться — Баджи осталась в той же рубашке, в той же юбчонке, в которых спала.
Баджи осмотрелась. Пуст угол брата — брат в школе. Пуст угол отца — отец у ворот. И хотя девочка не взглянула назад, в третий угол, она знала, что там мать.
— Дай пить! Жарко… — послышался голос матери.
Баджи принесла из кухни ковшик воды. Сара жадно потянулась к нему, но едва хлебнув, сплюнула на пол.
— Мертвая вода! — сказала Сара, покривившись. — Ты что принесла мне, дура? — накинулась она на дочь.
Баджи сообразила: кто-то переставил на кухне ведра, и второпях она зачерпнула из чужого ведра с опреснен ной морской водой; воду эту, хотя и годную для питья, но безвкусную, многие не пили, считая «мертвой» — вредной. Баджи вновь побежала на кухню и зачерпнула из другого ведра.
Взявшись за ковшик обеими руками, не отрываясь пила Сара. Капли воды стекали с краев ее губ на колени.
— Хорошая вода! — промолвила Сара, переводя дух, и протянула дочери пустой ковшик.
Это была вода из окрестных колодцев, из почвы, загрязненной отбросами.
— Укрой меня, здесь холодно… — сказала Сара, откидываясь на подстилку.
Баджи укрыла мать одеялом. Оно было ветхое, грязное, как, впрочем, все в комнате. Сара съежилась, ушла под одеяло. Веки ее сомкнулись.
«Неужели ей холодно? Может быть, просто не хочет работать и притворяется», — размышляла Баджи, с любопытством разглядывая мать.
Лицо Сары было желто. Глаза глубоко запали. Прямой ровный нос заострился, волосы, некогда густые и непокорные, как у дочери, теперь поредели, обвисли. А ведь Баджи хорошо помнила время, когда мать была здоровая и веселая.
Нет, нет — Сара не притворялась.
Несколько лет назад в лужах, канавах, гниющих отходах заводов свила себе гнездо малярия, неведомая здесь прежде. Теперь все чаще можно было встретить людей с желтыми, высохшими лицами, с бескровными губами, с лихорадочным блеском в глазах. Не пощадила малярия и Сару — целыми днями лежала больная Сара на подстилке возле окна.
Сидя на рваном паласе подле матери, Баджи мастерила из глины и палочек куклу. Но вскоре это наскучило ей. Она обвела глазами комнату — грязные стены со следами насекомых, закопченный потолок, щелистый пол. Все было знакомо ей здесь, в этой бедной комнате, где по приказу отца сидела она изо дня в день подле больной. Баджи пыталась развлечься — обводила пальцем поблекшие от времени узоры паласа, воображая: вот верблюд, вот осел, вот старая женщина…
Сколько времени просидела Баджи подле матери — час, два часа, может быть целое утро? Об этом Баджи не думала. Она лишь старалась не разбудить мать, так как, бодрствуя, мать была неутомима в просьбах и жалобах. Но сейчас глаза Сары были закрыты, тонкие бледные губы сжаты, и даже мухи, ползавшие по лицу, не могли ее разбудить. Ах, если бы мать спала как можно дольше!
Конский топот, скрип ворот прервали мысли Баджи.
«Арба!» — мелькнуло в ее сознании, и утренний сон всплыл в памяти. Быть может, не только во сне посчастливится ей прокатиться? И все, что удерживало Баджи подле больной — боязнь нарушить приказ отца, кукла, узоры паласа, — исчезло; вмиг она была у ворот.
Долговязый Дадаш распахнул ворота. Но въехала не арба водовоза, переваливаясь и скрипя, а мягко скользнул в ворота лакированный парный фаэтон с гранеными фонарями, сверкающими на солнце, с зеркальцем за облучком. И увидела Баджи не водовоза, а двух незнакомых, хорошо одетых людей, навстречу которым спешил заводский заведующий.
Шагая через чугунные трубы, пересекающие заводский двор, обходя рытвины и канавы, приезжие в сопровождении заведующего направились вглубь завода.
Дадаш запер ворота и поспешил вслед за ними. Баджи увязалась за отцом. Идя на почтительном расстоянии от заведующего, Дадаш жестами грозил дочери: иди домой! Но Баджи делала вид, что не замечает, и, не спуская глаз с приезжих, продолжала идти следом.
Подойдя к высоким белым цилиндрам толуоловой установки, приезжие замедлили шаг и вынули портсигары. Заведующий услужливо поднес им зажженную спичку. Баджи удивилась: известно, что на заводе курить запрещено; еще вчера заведующий уволил рабочего, замеченного с папиросой. Но приезжие курили, спокойно выпуская клубы дыма, не страшась заведующего. Очевидно, важные это были люди.
Баджи не ошиблась.
Один из них — член правления фирмы — прибыл в Баку из Петрограда для проведения на заводе ряда важных нововведений: шел 1915 год, завод приступал к изготовлению из нефти толуола для производства взрывчатых веществ на нужды армии. Второй — управляющий бакинской городской конторой — сопровождал члена правления.
Они долго осматривали завод.
Перед тем как уйти, член правления окинул взглядом высокие белые цилиндры и произнес, понизив голос:
— Есть основания опасаться поджогов… Будьте бдительны.
— Мы примем меры, — учтиво ответил управляющий. Он повернулся к заведующему и распорядился: — Никого из посторонних на территорию завода не допускайте. За нарушение — увольняйте без разговоров.
— Слушаюсь! — сказал заведующий и, стремясь показать свою исполнительность, тут же подозвал сто рожа. — Без моего разрешения никого, кроме рабочих, на завод не пропускай. Понял?
— Баш уста́, господин заведующий! — поклонился Дадаш.
— Что он сказал? — поинтересовался член правления.
— Говорит: ваше приказание понесу на голове, — перевел заведующий.
— На голове?
— По-ихнему это значит: так точно! — пояснил заведующий.
Член правления взглянул на Дадаша. Тот стоял в почтительной позе, держа папаху в руках. Лысая голова Дадаша была покрыта каплями пота.
— Это наш старый сторож — Дадаш, — сказал заведующий тоном, каким взрослых знакомят с детьми — одновременно поощрительным и снисходительным.
Дадаш смущенно заулыбался.
— Будем знакомы! — улыбнулся в ответ член правления и направился к фаэтону.
Заулыбалась и Баджи: ай да отец — с какими людьми разговаривает!
Пыль неслась за фаэтоном, увозившим гостей. Ушел в заводскую контору заведующий. Вернулся к воротам Дадаш. Пора было и Баджи возвращаться к постели матери.
«Мне жарко… Мне холодно… Дай пить…» — вспомнила Баджи с досадой.
К дому Баджи шла нехотя. Все привлекало ее внимание: воробьи, слетевшиеся на конский помет, кошка, шмыгнувшая за угол кочегарки, палка, лежащая на пути… У дверей кочегарки Баджи остановилась: большой огонь, во много раз больший, чем в кухонной плите, гудел, метался в топках-
— Не убежит? — спросила она кочегара, показывая на огонь.
— Не убежит, — спокойно ответил кочегар. — А убежит — вот кто поймает. — Он тронул веревку пожарного колокола.
Эта веревка поймает огонь? Странные вещи говорит кочегар. Обманывает, наверно! Баджи подошла к колоколу, стала на цыпочки, потянулась рукой к веревке.
— Укусит! — припугнул кочегар.
Баджи выбежала из кочегарки, помчалась не оглядываясь к кирпичной трубе.
— Эх ты, трусиха! — смеялся ей вслед кочегар.
Издали труба казалась тонкой, но Баджи знала: стоит приблизиться, и труба станет такой толстой, что не обхватишь ее двумя руками. Здесь, за толстой кирпичной трубой, Баджи считала себя в безопасности.
Закинув голову, смотрела Баджи, как, сужаясь, уходит труба в далекое небо — туда, где обитает аллах. И когда облака, гонимые ветром, неслись над трубой, кружилась у Баджи голова, и казалось, что валится на нее верхушка трубы на фоне обманчиво недвижных облаков…
Приятно средь жаркого дня бродить по тенистым ущельям между резервуарами, чувствовать себя крохотной среди этих железных громад. Сколько в них нефти, керосину? Наверно, целое море.
— Куда ты? — услышала вдруг Баджи голос отца. — Иди домой!
«Мне жарко… Мне холодно… Укрой меня…»
Баджи упрямо шагала не оборачиваясь.
«Без моего разрешения никого, кроме рабочих, не пропускай», — звучал в ушах Дадаша приказ заведующего, и Дадаш обязан был неукоснительно выполнять его. Но в тот момент, когда длинные руки Дадаша готовы были схватить непокорную дочь, она шмыгнула за резервуар.
Баджи ринулась вглубь ущелья, к пролому в заводской ограде, где проходили чугунные трубы, иг распластавшись на земле, как ящерица, скользнула в пролом.
Железные листы резервуаров и каменная ограда скрыли Баджи от Дадаша. Он обозлился и закричал во весь голос:
— Попадись только мне в руки!..
Но Баджи уже в самом деле не слышала его — она была на пустыре.
«Пошла вон!»
Полуденное солнце палило. Земля на пустыре рассохлась и посерела, и лишь местами, возле скреплений труб, пересекавших пустырь, чернели лужицы от просочившейся нефти. Возле одной из них сидел на корточках человек.
Чугунная толстая труба, выползавшая из пролома в заводской ограде, тянулась прямо к нему. Баджи ступила на трубу, сделала шаг, другой. Нефть внутри цокала и присвистывала, труба дрожала под босыми ногами Баджи. Раскинув руки в стороны, Баджи балансировала на трубе и, увлекшись, едва не наскочила на человека подле лужицы.
«Таги…» — узнала она разочарованно.
Первой здороваться с мужчиной девочке не полагается. Мужчине же не подобает одарять вниманием девчонку. Оба молчали.
Рваная, мокрая от пота рубаха едва прикрывала спину Таги. Голова была повязана грязным платком. Штаны из мешковины, подвернутые выше колен, обнажали худые, со вздутыми венами ноги. Сидя на корточках, Таги набрасывал тряпку на маслянистую буро-зеленую пенку лужицы и, когда тряпка набухала, отжимал ее сквозь туго сжатый кулак. Нефть тонкой струйкой стекала в подставленное ведро.
Таги был «мазутник».

Под знойным солнцем, под яростным ветром, с рассвета до темноты гнут свои спины мазутники — сборщики нефтяных отходов, эти люмпен-промышленники Черного города. Их оборудование несложно: шерстяная ворсистая тряпка, одно-два ведра и редко, в качестве роскоши, коромысло. Разгибает мазутник спину лишь для того, чтобы перебежать к новой луже, — нужно скорее наполнить ведра нефтью и сдать ее скупщику.
Таги в этот день был дурно настроен: солнце уже стояло над головой, а ведра оставались почти пустыми — нефть ушла в раскаленный песок и в трещины земли. С утра, правда, были жирные лужи, но подле них уже копошились люди, а, по неписаному закону мазутников, пришедший к луже первым — ее хозяин. Все утро Таги зорко оглядывал линии труб, но даже его опытный глаз не нашел ничего утешительного. Теперь Таги сидел на корточках у высохшей лужи, слушал, как в чугунной трубе гудит мощный поток нефти. Невеселые мысли одолевали Таги: солнце скоро начнет садиться — вряд ли удастся заработать на обед; ко всему — эта девчонка, стоящая над душой.
— Уйди отсюда! — отогнал он Баджи.
Но она не уходила: интересно смотреть, как собирают мазут.
— Говорю, уйди! Не то… — Таги замахнулся тряпкой.
Баджи отскочила. Стоя поодаль, она продолжала наблюдать за мазутником.
Хорошее дело — собирать мазут! Но разве можно сравнить мазутника с отцом? Заводский сторож сидит у ворот на скамейке, кого хочет — пускает на завод, а кого не хочет — гонит прочь. С отцом говорят важные люди, отец живет в большом доме. А мазутник? Мазутник ползает целый день по земле, важные люди с ним не разговаривают, и живет он невесть где. Нет человека ниже мазутника. И он же еще прогоняет ее!
Баджи презрительно оглядела Таги и побежала прочь.
Возле стены мальчишки играли в «альчики» — в бараньи бабки.
Баджи наблюдала, как, запущенные мальчишеской рукой, летят альчики по расчищенной дорожке к выставленным в ряд орехам. Раз! — и несколько орехов выбито. Играли мальчишки на деньги и на орехи. Проигравшимся милостиво разрешалось играть на оплеухи, которыми их звонко награждали удачники.
Баджи не спускала глаз с игроков. Вот бы ей дали выбить хотя бы один орех! Не раз, в одиночестве, она выставляла в ряд вместо орехов круглые камешки и издали выбивала их плоским голышком, воображая, что играет в «альчики».
— Дай кинуть! — шепнула она одному из мальчишек.
— Пошла вон! — ответил тот.
Какой-то мальчик, карманы которого оттопыривались от орехов, сказал великодушно:
— Пусть играет!
— А чем она будет платить, если проиграет? — спросил кто-то. — Орехов-то ведь у нее нет.
— Тем же, чем я! — подсказал неудачник, щеки которого горели от оплеух.
Взоры устремились на Баджи.
— Оплеуха против ореха, согласна? — спросил мальчик.
Баджи мотнула головой. Она согласна на все, только б ей дали кинуть альчик. Она-то уж не проиграет — она не раз испытывала свой глаз и руку!
Баджи дали альчик. Игроки расступились. Вот наиграет себе оплеух девчонка — не будет лезть куда не следует!
Баджи прицелилась, кинула альчик. Она не попала. Кинула снова, и снова не попала. Она не выбила ни одного ореха. Противник выбил пять.
— Пять оплеух! — радостно загоготали игроки.
Пять оплеух, которые закатит ей здоровенный мальчишка изо всей силы, в угоду зрителям? Этого Баджи не предвидела. Она просто хотела выиграть пять орехов.
— Пять оплеух! — требовали ревнители справедливости. — А ну!..
Как бы не так!
Баджи рванулась, пустилась со всех ног.
Она слышала свист, улюлюканье. Кто-то бежал за ней вдогонку. Летели вслед камни, один из них ударил ее в спину: надо уметь играть или платить долги!
Баджи закачалась, чуть не упала. Она едва спаслась, шмыгнув в дверь чайной.
Чай!
В этом коротеньком слове заключено для бедняка-азербайджанца немалое.
В зимние дни чай согревает тощий желудок, создавая иллюзию сытости. В жаркие летние дни чай утоляет жажду, вызванную острыми наперченными блюдами дешевой харчевни, соленым козьим сыром, чесноком. Приятный аромат чая освежает дыхание.
Порой хочется бедному человеку развлечься. Но чем? Вино запрещено кораном, а если бы и не было запрещено — дорого. Маковый сок, опиум, привозимый сюда из Персии? Есть, конечно, такие люди, которые ходят в большой караван-сарай, где персы-купцы торгуют этим зельем. Но зачастить туда — значит обречь семью на голод, исхудать, потерять силу. Чем же развлечься? И вот тут-то приходит на выручку чайная — она заменяет бедняку-азербайджанцу и клуб и кабак.
Стоя в дверях, Баджи наблюдала за жизнью чайной.
Два самовара пыхтели на стойке. Владелец чайной, накрест перевязанный полотенцами, потный и красный, не отрываясь смотрел на фарфоровый чайник, стоящий на угольках: едва появится пузырек — чай готов. Затем он споласкивал стаканы крутым кипятком с грохотом вращая их на блюдечке, решительным движением наполнял чаем и разносил на подносе. В стороне, у стены, старик слепец пел высоким дрожащим голосом, аккомпанируя себе на таре: его искусство должно было привлекать посетителей. В дальнем углу кто-то подпевал старику.
Баджи заслушалась… Внезапно владелец чайной плеснул в нее опивками: нечего заслонять вход! Баджи выскочила из чайной.
— Пошла вон! — услышала она вслед.
Баджи бродила по Черному городу.
На одном из углов она увидела халвачи́ — торговца халвой. На его складном столике лежали желтые кубы кунжутной халвы.
Подойдя вплотную, Баджи долго и молча смотрела, как халвачи́ разрезает халву на мелкие кубики, развешивает их на жестяных самодельных весах.
— Дай кусочек! — сказала она.
— Пошла вон! — ответил халвачи́.
Но Баджи не уходила.
С месяц назад она вот так же подошла к халвачи́ и смиренно попросила кусочек халвы.
«Нищенка!» — решил тогда халвачи́.
Но он не прогнал Баджи от себя в тот день. Он огляделся по сторонам. Улица была пустынна.
— Потанцуй — тогда дам, — сказал он, уставившись на Баджи.
Баджи было стыдно танцевать перед чужим мужчиной. Но халвачи́ заманчиво разрезал халву на маленькие кусочки, взвешивал их на своих весах и красиво раскладывал на столике; и чем меньше становились кусочки, тем доступней они казались Баджи. Кунжутная халва, сладкая, липкая! Глаза Баджи затуманились, рот наполнился слюной. Баджи не в силах была устоять и, не спуская глаз с халвы, стала танцевать.
Халвачи́ долго разглядывал Баджи, прежде чем дать кусочек. Ей было стыдно, но халвачи́ заплатил за стыд кусочком халвы, и Баджи была довольна.
Она обращалась к халвачи́ уже не впервые, и всякий раз он долго разглядывал ее, пока она жевала твердую кунжутную халву. Теперь Баджи почти не испытывала стыда. Она не торопилась: халва была вкусной, хотелось извлечь возможно больше радости из маленького желтого кубика.
С каждым разом халвачи́ уменьшал кусочки. Затем он стал ограничиваться тем, что соскребывал ножом прилипшую к деревянной дощечке патоку и, снимая ее другим ножом, давал Баджи вместо кубика тягучую стружку. Однажды он заявил:
— Хватит с тебя, если полижешь халву.
Становясь на цыпочки, Баджи тянулась к глыбе халвы, лизала липкие грани.
— Хватит! — отгонял ее халвачи́, как муху.
Вчера он обманул Баджи, не дав даже коснуться халвы. А сегодня и вовсе прогнал ее от себя…
Халвачи́ ошибался, считая Баджи нищенкой: она была обладательницей мешка с деньгами — так, по крайней мере, казалось ей, когда она держала в руках свой синий мешочек с несколькими копейками. Откуда были у нее эти деньги? Дважды в год — в праздники новруз и курбан-байрам — дарил Дадаш дочери по копейке; в синем мешочке была также копейка, найденная Баджи в щели пола. Правда, о том, чтобы истратить хотя бы одну из этих копеек, не могло быть и мысли: девочке надлежит копить деньги, чтобы в будущем улещать родственников мужа, особенно — злую свекровь. Баджи прятала синий мешочек глубоко в подстилке, по нескольку раз в день пересчитывала свои копейки. Она зорко хранила этот синий мешочек — жалкий откуп судьбе за далекое счастье…
Баджи пошла вдоль длинного одноэтажного здания.
Даже среди закопченных домов Черного города оно выделялось мрачностью и неприглядностью. Окна его находились у самой земли. Это были «номера» — наиболее дешевые жилища Черного города, приют нищеты.
Шум голосов, звук гармошки остановили Баджи у одного окна. Сквозь рваную занавеску Баджи удалось заглянуть внутрь комнаты. Какие-то женщины и мужчины сидели обнявшись и, раскачиваясь из стороны в сторону, пели хриплыми, пьяными голосами.
— Пьяницы! — пробормотала Баджи брезгливо, подражая отцу: Дадаш, соблюдая коран, не пил. Но в глубине души Баджи питала симпатию к пьяницам: много забавного делает пьяный человек — скандалит, дерется, валяется в лужах. Она просунула голову за занавеску.
— Куда прешь? — окликнул ее изнутри женский голос.
Баджи не двинулась с места… Кочегар напугал ее пожарным колоколом. Мазутник хотел хлестнуть ее тряпкой. Мальчишки кидали в нее камнями. Хозяин чайной плеснул в нее опивками. Халвачи́ отмахивался от нее, как от назойливой мухи. «Куда прешь?» — гнали ее теперь даже женщины из номеров. Все, все гнали ее от себя.
А куда, куда ей было идти?
— Сама пошла вон! — огрызнулась Баджи.
Кто-то кинул ей бранное слово.
— Бесстыжие! — крикнула она в ответ.
Она слышала, что так называют обитательниц номеров, знала — их презирают, и сама, не понимая за что, готова была их презирать.
Кто-то подскочил к окну. Баджи отбежала. Она бежала домой, шлепая по лужам, перебираясь через рытвины и канавы. Ноги ее были забрызганы грязью. Она ощущала усталость, голод и одиночество.
Вечер
Дом, в котором жила Баджи, казался ей огромным.
Она не раз принималась считать его окна, но всякий раз сбивалась со счета.
Зато она знала, кому какое окно принадлежит. Десять ярких окон в верхнем этаже — это квартира заведующего; шесть рядом с ними — квартира его помощника; два окна в первом этаже — квартира тети Марии, экономки; два следующих — квартира Теймура, старшего охранника. Затем шли одиннадцать мутных окон — квартиры, в которых жили рабочие. А самое крайнее окно с разбитыми стеклами — окно комнаты ее отца.
Дом этот был несколько чище, красивей, стройней соседних домов. Иногда над квартирой Дадаша слышались звуки пианино, нестройный топот ног. Там, взявшись за руки, танцевали дети, приехавшие в гости к дочерям заведующего. Сидя подле больной, Баджи прислушивалась к музыке, к топоту ног. Случалось, что с потолка сыпалась отсыревшая штукатурка. Весело было, наверно, там, наверху!
Это был «фирменный» дом. Разве можно было сравнить его с жалкими номерами?..
Семнадцать лет прожил Дадаш в этом доме.
До того жил он в старом азербайджанском селении на северном берегу Апшерона, с малых лет работал в садах и на трудных в этих краях пашнях, разрыхляя вязкие комья глины, выкорчевывая мотыгой острые камни и заросли цепкой верблюжьей колючки.
Дадаш любил родные края и не покинул бы их, если б не страх перед кровной местью. Сам он не был убийцей — аллах упаси! — но вселении пылала вражда двух родов, к одному из которых, на беду свою, принадлежал Дадаш. Он помнил: когда ему было десять лет, мать заклинала его брата, в ту пору грудного младенца, чтоб тот, когда вырастет, отомстил за убитого родича. Почему мать обращалась к грудному младенцу, а не к Дадашу, десятилетнему мальчику? Да потому, что старший сын был мягок сердцем и тих нравом, и мать не верила в то, что он сумеет отомстить. Младший сын вырос, убил кровника и бежал из родного селения, подставив этим своих родичей под нож или пулю мстителя. Это случилось вскоре после того, как Дадаш взял в жены Сару.
В те годы Сара была юной, почти девочкой. У нее был тонкий стан, брови, на висках чуть загибающиеся кверху, черные густые ресницы щеточкой, какие унаследовала от нее Баджи. Дадаш женился немолодым — ему было много за тридцать, но когда он смотрел на Сару, сердце его билось, как сердце юноши. Когда же он прикасался к ней — оно стучало, как молоток жестянщика. Никогда не стучало оно так громко за всю его прошлую жизнь.
В ночь, когда брат, убив кровника, исчез из родного селения, бежали на южный берег, в город, и Дадаш с Сарой, потому что не хочет человек, когда он счастлив, подставлять свое сердце под нож или пулю мстителя ивы» пускать из рук счастье, явившееся впервые за долгие годы.
В Черном городе нанялся Дадаш на завод сторожем и прослужил там бессменно семнадцать лет. К чему менять работу и местожительство без особой причины?
Разве в других краях хлеб слаще, а соль солоней? Первое время он с тоской вспоминал чистый песчаный берег, свежий северный ветер с моря, утреннюю росу на виноградных кустах родного селения. Но Дадаш не хотел искушать судьбу, не ходил на северный берег, боясь столкнуться с кровниками: ведь не только его мать, качая колыбель, могла нашептывать младенцу слова мести.
В Черном городе Сара родила Дадашу первенца, и счастью Дадаша не стало предела, потому что сын, как говорилось исстари, — это хозяин очага, золотое солнце, которое светом своим озарит весь свой род. И Дадаш еще крепче стал любить Сару.
Затем рождались у Сары дочери, болели какой-то странной болезнью и умирали, не успев покинуть колыбель. Но ни рождение их, ни болезнь, ни смерть не потрясали Дадаша и не умаляли его любви к Саре. Видно, так угодно было аллаху, что из пяти дочерей в живых осталась только одна младшая — Баджи.
Часами, пока не прогудит заводский гудок, сидел Дадаш перед Сарой, смотрел на ее черные брови, на ровные щеточки шелковистых ресниц, смотрел, как она кормит его первенца, и, ослепленный счастьем, не замечал, что она равнодушна к нему самому, — долговязому некрасивому мужчине, годившемуся ей по летам скорее в отцы, чем в мужья.
Впоследствии он все же заметил это. Не понял он только того, почему так случилось, что, заплатив за жену хорошие деньги и, значит, став, по святому закону, ее хозяином, не мог купить он вместе с ней ее любовь, а приобрел лишь ее боязнь и послушание, принятые им вначале за любовь.
Впрочем, боязнь и послушание порой покидали Сару, в нее вселялся шайтан, она метала громы и молнии, и домочадцы, кто как умел, спасались от ливня проклятий и домашней посуды. Сам глава семьи, махнув рукой, ускользал из дому, бормоча:
— Лучше беды в пути, чем ссора в доме!
Обманутый недолгим счастьем, Дадаш отвел в своем сердце рядом с любовью просторное место стыду и досаде, потому что досадно и стыдно мужчине, если он не имеет полной власти над своей женой.
— Почему так случилось? — сетовал он, встречаясь с сельским муллой Ибрагимом, своим старым знакомым.
— Ваши жены суть ваши пашни, они — в вашей власти, — отвечал мулла Ибрагим стихом из святой книги корана.
Порой Дадашу казалось, что Сара еще полюбит его.
«Ваши жены суть ваши пашни, они — в вашей власти», — повторял он про себя слова муллы Ибрагима, и на память ему всякий раз приходили трудные пашни родного селения — острые камни, и вязкие комья глины, и заросли цепкой верблюжьей колючки, которые приходится выкорчевывать мотыгой…
Баджи приоткрыла дверь, боязливо заглянула в щелку.
Все как обычно: мать — в своем углу у окна, отец — в своем, перед чайником, брат — с книжкой в руках. Но, вопреки обычному, мать еще не спала, а сидела, прислонившись к стене, отец не пил чая, брат не водил пальцем по книжке, — отец о чем-то рассказывал, а мать с братом внимательно его слушали.
Баджи проскользнула в комнату и незаметно опустилась на свою подстилку.
Несловоохотливый Дадаш был в этот вечер оживлен. Он, впрочем, всегда оживлялся, когда речь заходила о его двоюродном брате Шамси, ковроторговце, живущем в старой части города — в Крепости. И всегда домочадцы слушали эти рассказы с волнением и тайным сомнением, ибо то, о чем рассказывал Дадаш, казалось слишком прекрасным, чтоб быть правдой.
Вчера, по случаю пятницы, посетил Дадаш соборную Джума-мечеть, что находится в Крепости. Там было много мулл, но больше всех понравился Дадашу толстый мулла в коричневой, из верблюжьей шерсти абе́ — накидке, с пышной зеленой чалмой на голове — знак того, что носитель ее принадлежит к сеидам, потомкам пророка. Мулла громко и долго читал молитву. Важный, красивый мулла! Прослушав молитву и помолившись, Дадаш зашел проведать двоюродного брата Шамси, живущего в собственном доме неподалеку от Джума-мечети. Аллах великий, какой дом у Шамси! Размером он, разумеется, гораздо меньше, чем фирменный дом, — Дадаш любил подчеркивать, что живет в фирменном доме, это, считал он, придает ему важность в глазах Сары, — но зато какой красоты! В стенах — зеркала, на потолках нарисованы гурии рая, пол устлан коврами. Хозяин угощал Дадаша жирной бараниной, тающей во рту, и сладостями, ласкающими нёбо.
С замиранием сердца слушала Баджи рассказ отца.
«Неужели не врет?» — думала она.
Взгляд ее упал на ветхую одежду Дадаша, на засаленную папаху, скользнул по щелистому полу, грязным стенам, закопченному потолку. И дом, в котором она жила, представился ей особенно некрасивым, жалким.
— Хотелось бы мне позвать Шамси в гости, — промолвил Дадаш мечтательно. — Ведь он мне теперь как брат — семнадцать лет не видел я младшего брата. Кто знает, увижу ли вновь?.. Хотелось бы мне, в ответ на вчерашнее угощение, позвать Шамси и угостить его на славу, — ведь он богатый человек, не привык к бедной пище. Но я не пожалел бы никаких денег для такого родственника. И муллу хорошо бы пригласить, для красоты, — такого, какой читал молитву в Джума-мечети, если только такой согласится прийти ко мне.
— Я приготовила бы хорошее угощение! — сказала в ответ Сара, и глаза ее оживились: она умела вкусно готовить. — Только бы мне выздороветь…
— Они приедут, приедут! — воскликнул Дадаш обнадеживающе.
Баджи едва не подпрыгнула от восторга: приедут дядя Шамси и важный мулла, и в доме отца будут гости, как у заведующего! Она представляла себе дядю Шамси красивым и молодым.
— Хорошо бы, отец, позвать еще и дядю Газанфара… — робко вставил Юнус.
— Дядю Газанфара?.. — переспросил Дадаш и надумался. Помедлив, он ответил: — Дядю Газанфара мы позовем в другой раз — когда не будет Шамси.
Юнус смолк: не полагается сыну спорить с отцом.
Долго еще в этот вечер говорили между собой Дадаш и Сара. И хотя все, о чем они говорили, было полно интереса, глаза Баджи, помимо ее воли, сомкнулись.
Дадаш совершил пятый, последний за день, намаз. Уткнувшись лбом в ветхий палас, он попросил аллаха осуществить его мечту. Потом он прикрутил фитиль тусклой лампы. Лежа, он вспомнил, что следовало бы пробрать девчонку — весь день невесть где шляется. Но сон сковал его.
«Как люди разно живут, — думал Юнус, засыпая: — одни — в богатстве, другие — в нищете».
И только Сара все не могла уснуть.
«Я приготовила бы хорошее угощение — только бы мне выздороветь…» — повторяла она про себя.
— Пить! — шептала она сухими губами, отбрасывая одеяло. — Здесь жарко.
Никто не отвечал.
— Укройте меня, здесь холодно, — шептала она, ища рукой отброшенное одеяло.
Никто не слышал ее.
Ветер дул с моря. Влажный воздух устремлялся на берег, смешивался с дымом заводских труб, тяжело опускался на землю, окутывал собой Черный город.
Малярия
Однажды Сара сказала:
— Я знаю, отчего я болею. Это меня заколдовали души моих умерших дочерей — за то, что на поминках не было хорошего угощения. Надо пойти к гадалке, чтоб она расколдовала меня.
Да, сладости появлялись в доме Дадаша не часто, не было их и на поминках. Быть может, и впрямь были за это в обиде души умерших дочерей? Быть может, затем, чтобы не сетовать в мире загробном, вознаграждала себя Баджи в мире земном халвой со столика халвачи?
Собравшись с силами, пошла Сара вместе с Баджи к гадалке. Полдня мучила Сару гадалка всевозможными заклинаниями и за свой труд получила от Сары платок.
По совету гадалки отправились мать и дочь в старое селение Шихово — невдалеке от города, за морским мысом — к могиле Укеймы-хатун, дочери восьмого имама Ризы.
Стояла ясная осень. Зеленое море блестело под солнцем. Дымили пароходы в заливе. Первые птицы с севера весело кружили в воздухе. Прекрасный день! Баджи шагала без устали. Но Сара тяжело дышала и к могиле Укеймы-хатун добралась вконец измученная. Никогда не видела Баджи таких крупных капель пота на лбу матери.
Отдышавшись, Сара взяла Баджи за руку, и вдвоем они трижды обошли могилу. Затем она оторвала лоскут от своего платья и прикрепила его к могильному камню: известно, что, оставляя здесь лоскут от платья, в котором застигла человека болезнь, оставляешь и самую болезнь.
«Теперь вылечится», — подумала Баджи.
На обратном пути Сара еле волочила ноги, опиралась на плечо Баджи. Баджи дулась на мать за то, что та не дает ей наслаждаться видом зеленого моря, пароходов, полетом птиц. Она готова была убежать, если б не цепкая рука матери, державшая ее за плечо, и не страх перед отцом.
Домой Сара вернулась едва живая, и с этого дня уже не вставала с подстилки. Очевидно, она упустила что-то из наставлений гадалки, и Укейма-хатун не пожелала ей помочь. Но пойти к могиле Укеймы-хатун вторично и выполнить все в точности у Сары уже не было сил.
Соседи сочувствовали больной.
— От лихорадки хорошо помогают десять зубков чесноку, у нас всегда так лечат, — говорила соседка-грузинка.
Сара внимательно слушала.
«Теперь будет лечиться чесноком», — подумала Баджи, глядя в желтое лицо матери.
И верно: каждый день съедала теперь Сара десять зубков чесноку. Так, правда, лечили грузины, а не азербайджанцы, но чеснок был дешевым лекарством, нельзя было от него отказываться. А Саре очень хотелось вы лечиться, она готова была выполнять любые советы.
Все в комнате пропахло чесноком. Баджи не была избалована чистым воздухом, но даже она задыхалась в этом чесночном смраде.
— Позови доктора, в больницу ее нужно свезти, — советовала Дадашу тетя Мария, вдова машиниста Филиппова.
— Доктора?
Дадаш кивал головой в знак согласия, потому что он уважал покойного машиниста и не хотел обижать его вдову отказом.
Но Баджи знала, что звать к женщине-азербайджанке мужчину никак не полагается и что если б отец и позвал доктора, мать сама не подпустила бы его к себе. Разве ее мать бесстыдная баба из номеров? Наконец, где взять столько денег, чтоб позвать доктора?
Нет, доктору не было места в доме Дадаша. Оставалось лечить так, как лечили отцы и деды — обратившись к слову аллаха; а если не помогло — значит, на то была воля аллаха, против которой бессильно любое лечение.
Дадаш не поленился сходить в селение, где жил мулла Ибрагим, просил его помочь Саре и рассчитывал при этом, что сельский мулла запросит меньше, чем городской. Однако он просчитался: служитель аллаха накинул три гривенника за дальний путь, так что пришлось Дадашу заплатить ему как городскому да прошагать вдобавок с десяток верст.
Мулла Ибрагим не понравился Баджи: он был тщедушен, чалма у него была примятая, плоская как лепешка, аба — потертая, немногим лучше, чем одежда рабочих; Баджи хотелось увидеть муллу в пышной зеленой чалме, в богатой абе из верблюжьей коричневой шерсти — такого, о каком недавно рассказывал отец.
Но зато под абой у муллы Ибрагима была чернильница на веревочке — предмет мечтаний Баджи. Чернильница! С какой безнадежной завистью смотрела Баджи на школьников и на школьниц, когда они проходили мимо нее по улице и чернильницы на веревочках мерно раскачивались в такт шагам. В эти минуты Баджи походила на кошку, следящую за недоступной порхающей птицей.
Мулла Ибрагим вполголоса прочел молитву, извлек из-под абы две ленточки: бумажную белую и красную шелковую.
«Какая красивая! — восхищалась Баджи, глядя на шелковую. — Вот бы такую вплести в волосы!..»
— Эта стоит двадцать копеек, эта — сорок, — сказал мулла Ибрагим, указывая пальцем сперва на бумажную, затем на шелковую ленточку.
— Дай за сорок, — сказал Дадаш. — Может быть, она лучше поможет.
«Как дорого! — ужаснулась Баджи и, видя, что красная ленточка уже в руках отца, подумала: — Хорошо бы не заплатить!»
— Без платы молитва не даст помощи, — сказал мулла Ибрагим, словно прочтя мысли Баджи, и Дадаш, вздохнув, выложил мулле Ибрагиму четыре гривенника.
— Бильбили, вильвили, сильвили! — бормотал мулла Ибрагим странные слова, и сколько Баджи ни вслушивалась, она никак не могла попять, что они означают. Мудрено было, впрочем, что-либо понять в этом наборе бессмысленных слов. — Да уйдет лихорадка от Сары, Магометовой дочери, за высокие горы, под глубокие моря, под черную землю, в пещеры, в пропасти — силою молитвы ученейшего, мудрейшего, славнейшего муллы Ибрагима! — без ложной скромности и уже обычным человеческим языком завершил мулла Ибрагим свое заклинание.
Затем он расстелил ленточку на дне чашки, налил колодезной воды из ведра, что стояло на кухне.
— Пусть пьет но глотку в день — выздоровеет, — важно сказал мулла Ибрагим.
«Не выздоровеет», — подумала Баджи и покачала головой.
— Ты что мотаешь головой, коза? — прикрикнул Дадаш. — Кланяйся лучше мулле Ибрагиму за его благодеяния!
Баджи стала усердно класть поклоны, но про себя уныло твердила: «Не выздоровеет».
Болела Сара долго.
И все, кому было не лень, лечили ее — гадалки, соседки, мулла Ибрагим. Лишь одному человеку не было доступа к бедной Саре — доктору. Немало денег истратил Дадаш на лечение жены. Но Баджи уже никому не верила, — всегда, видно, будет мать больная.
Порой Сара протягивала к Баджи руки, привлекала ее к себе. Какие они у нее стали теперь топкие пожалуй, тоньше, чем у Баджи. Сара гладила голову дочери, и посеребренное кольцо скользило на ее похудевшем пальце. Высоким прерывистым голосом напевала Сара печальную песню без слов. О чем она пела? Что хотела сказать? Как приятно было лежать, уткнувшись в колени матери, чувствовать ласковую руку, слушать песню!..
Но тут к горлу Баджи вдруг подступали слезы. Что было причиной? Никто ведь не бил ее сейчас, не ругал, не прогонял. Баджи вырывалась из рук Сары, убегала из комнаты. Она носилась по улицам и пустырям, не замечая столика халвачи, медных самоваров чайной, не слыша пьяных криков в номерах. Она ни о чем не думала, даже о матери. Глаза ее были сухи. И только песня матери звучала в ушах.
Брат
Брат был высок ростом, худощав и фигурой своей походил на отца. Но лицом он — как и Баджи — был в мать.
— Это мой брат, — шептала Баджи каждому, не сводя глаз с Юнуса, когда он проходил мимо, не удостаивая ее даже взглядом, и добавляла всякий раз с гордостью: — А я — его сестра!
И так повелось, что все стали называть ее Баджи, что означает по-азербайджански сестра, а настоящее ее имя — Басти — вскоре позабылось. Даже отец и мать стали называть ее по-новому.
Пять лет назад пришел к Дадашу машинист Филиппов, увел Дадаша и Юнуса вглубь завода. Баджи пошла за ними.
Они вошли в кочегарку. По одну сторону гудели топки, в них метался большой огонь. Баджи стало страшно. По другую сторону топки были темны, молчаливы. Но и они показались Баджи не менее страшными своим безмолвием и чернотой.
— Раздевайся! — сказал машинист Юнусу, и тот скинул с себя рубаху и штаны. В ту пору Юнус был маленький, щуплый мальчишка.
«Сожгут!» — пронзило Баджи, но от ужаса она не в силах была даже крикнуть.
Машинист сунул в руки Юнуса долото и молоток, и Юнус полез в узкий люк погасшего котла, куда не пролезть взрослому человеку, — в черную пустоту и тишину. Вслед за тем оттуда послышались звуки — сперва неуверенные, глухие, затем окрепшие, звонкие. Это Юнус долотом и молотком сбивал со стенок котла накипь соли от морской воды.
«Бабай!.. — дрожала Баджи. — Бабай!..»
«Бабаем» — страшным злым стариком — не раз пугала ее мать.
Вскоре из люка в самом деле выполз бабай: волосы, ресницы и брови Юнуса были совсем белые, как у старика; глаза были красные и слезились. Баджи задрожала еще сильней. Но тут бабай провел рукой по волосам, по лицу, стряхнул с себя соль, и страх Баджи рассеялся: перед ней снова стоял ее брат. Машинист одобрительно хлопнул Юнуса по плечу, дал Дадашу денег. Юнус весело улыбнулся. И Баджи поняла, что брат бесстрашен.
Впоследствии топка уже не пугала Баджи. Но чувство, что брат бесстрашен, сохранилось надолго.
С тех пор, когда нужно было очищать котлы от накипи, машинист всегда обращался к Дадашу — он хотел дать заработать честному человеку: Дадаш не вступал в сделки, в какие вступали некоторые люди из заводской охраны, спуская по ночам нефть в воровские «ловушки» на пустыре. А самое главное: в работе долотом и молотком Юнус был сноровист и быстр и не давал накипи затвердеть.
С того дня, как Юнус заработал первые деньги, Дадаш полюбил сына еще сильнее. Не потому, что Дадаш был жаден до денег, как какой-нибудь лавочник или хозяин «ловушки» с пустыря. Нет, вовсе нет! Но потому, что работой своей и первым, хотя и грошовым, заработком осуществлял первенец надежды отца, крепил веру в сытые дни старости, когда сын избавит отца от забот о хлебе и старик уйдет от заводских ворот и будет окружен внуками, как голый камень окружен бывает зеленой травой и цветами.
Счастливое время!
Оно еще далеко впереди, кто знает — придет ли? Но Дадаш, получая за сына его заработок, с торопливой благодарностью выделял сыну долю и приказывал купить сладостей, чтобы умерилась горечь морской соли, осевшая у того на губах и в горле.
Нередко Юнус оставлял сладкий кусочек сестре. Отдавал он его украдкой, точно сбывал краденое, а не дарил ей добытое трудом своих щуплых мальчишеских рук в темном соленом котле: казалось ему, что отец будет в обиде, если он поделится подарком хотя бы даже с сестрой.
Однажды, в темном коридоре, Юнус сунул Баджи маковую лепешку. Баджи долго держала ее в руках, прежде чем съесть. Ах, если бы брат ее приласкал, поговорил бы с нею!.. Но брат никогда не прикасался к сестре: давая подарок, всегда торопливо отдергивал руку, потому что стыдно мальчику якшаться с девчонкой, хотя б и с родной сестрой.
Во время обеда Баджи наблюдала за отцом, распределявшим еду. Случалось, она чересчур смело тянулась к лучшему, Юнусу предназначенному куску, и Дадаш ударял ее по рукам: доля сына равна доле двух дочерей. Баджи не плакала, но в детском сердце ее шла война между любовью к брату и завистью…
Три года чистил Юнус котлы.
Рос Юнус быстро, и все трудней становилось ему пролезать через котельные люки. Однажды он едва не застрял в люке, и когда наконец вылез — плечи его были в ссадинах, шея вздулась. Он расправил плечи и выпрямился. Кочегары увидели, что перед ними уже не мальчик, а юноша.
— Отдай его в школу, — посоветовал машинист Дадашу.
В школу?
Дадаш вспомнил, как лет сорок назад его отец, бедный сельчанин, мечтавший сделать из сына ученого человека и не жалевший для этой цели последних своих грошей, привел его к сельскому мулле, державшему мелочную лавочку и одновременно обучавшему детей грамоте.
— Возьми себе, мулла, его мясо, а мне возврати кожу да кости, — молвил отец Дадаша, согласно обычаю, давая этим мулле право бить сына.
— Страх есть преддверие мудрости и добра для ребенка, — ответил мулла но пословице, оглядев худое тело мальчика.
В дальнейшем слова педагога не расходились с его действиями. Он бил учеников беспощадно — так, что Дадаш был счастлив, когда год спустя смерть отца избавила его от горькой науки. Он едва научился различать буквы и с трудом подписывал свое имя.
Воспоминания о школе были мрачны, но Дадаш, поразмыслив, все же решил отдать сына в школу, потому что всякий любящий отец хочет видеть своего сына не только богатым, но и ученым. Ко всему, Дадаш доверял машинисту Филиппову всей душой — хорошим, умным человеком был машинист.
Дадаш повел Сына в «русско-татарское городское училище». Так назывались в ту пору новые школы, в которых обучались мальчики-азербайджанцы.
Законоучителем в этой школе был друг Шамси, мулла хаджи Абдул-Фатах.
— Возьми себе, мулла, его мясо, а мне возврати кожу да кости, — сказал, вздохнув, Дадаш, как сорок лет назад сказал его отец.
Мулла кинул взгляд на Юнуса и улыбнулся.
— Не тревожься, отец, — сказал он, — в старину на такие слова отвечали: страх есть преддверие мудрости и добра для ребенка. Все это верно. Но дети, отец, это деревья нашего сада, нет нужды палкой подпирать неискривленные. Я верю, твой сын будет стройной пальмой.
— Возьми себе рубль, мулла, хотя твои слова стоят большего! — промолвил Дадаш растроганно и протянул мулле серебряный рубль.
— Я возьму его на дело аллаха, — сказал мулла, пряча рубль под абу. — Можешь купить сыну школьную шапочку…
Каждое утро заворачивал Юнус свои книжки и тетради в красный платок, брал кусок хлеба с луком, чернильницу на веревочке и шел в училище. Баджи провожала его до ворот, долго смотрела, как качается чернильница на веревочке в руке брата. Пустым было утро, если брат уходил рано и ей не удавалось его проводить.
Возвратившись из школы, Юнус тотчас садился на пол перед ящиком, служившим ему столом, и готовил уроки. Затаив дыхание наблюдали за ним отец, мать, сестра. Юнус читал вслух по книжке, водя пальцем, будто мулла, и выводил на бумаге завитки арабского шрифта, как базарный писец.
«Пальма! — звучало в ушах Дадаша. — Пальма!»
И думы о хлебе насущном, любви без ответа, близкой уже старости, болезни Сары — все невзгоды, теснившие сердце, вдруг исчезали.
Отец купил сыну школьную шапочку. Это была низенькая, персидского типа папаха из сукна, какие обычно носили богатые купцы и образованные люди, а также подражавшие им ученики русско-татарских училищ, надеявшиеся стать образованными и богатыми.
Юнус не расставался с шапочкой.
«Какой он красивый! — думала Сара, глядя на сына из своего угла. — Он будет нравиться женщинам!»
С завистливым восхищением смотрела Баджи на новую шапочку Юнуса: теперь брат был не только бесстрашным — он был умней, ученей всех на свете.
Дядя Газанфар
Время от времени приходил к Дадашу тот, о ком вспомнил Юнус, когда зашла речь о приглашении гостей, и кого назвал он дядей Газанфаром.
Газанфар, собственно, не был родичем ни Дадаша, ни Сары и даже не доводился им ни свояком, ни односельчанином. И приходил он на завод не к Дадашу, а к машинисту Филиппову, и Дадаша навещал лишь мимоходом, но Юнус и Баджи почему-то называли его дядей.
Лет пятнадцать назад пришлось Газанфару, подобно Дадашу, покинуть родное селение на северном берегу Апшерона. Случилось Газанфару — тогда еще юноше — увидеть во время сбора налогов, как сельский старшина ударил по лицу его соседа, бедняка Гулама, вступившего со старшиной в пререкания, и как Гулам в ответ ударил оскорбителя мотыгой. Полицейские, сопровождавшие старшину, набросились на бунтаря, а Газанфар кинулся ему на помощь. Вырвать Гулама из рук полицейских не удалось, и он погиб впоследствии где-то в Сибири, в рудниках. А Газанфар, спасаясь от мести старшины, сменил желтый песок родных мест на черную землю нефтепромыслов.
Вскоре, впрочем, эта земля стала ему не менее родной.
Кем только не работал Газанфар на промыслах! чернорабочим, тартальщиком, бурильщиком и, наконец, помощником мастера. Ему повезло: здесь, на промыслах, он сдружился с революционными рабочими и стал посещать один из кружков, какие создавались в ту пору высланными из центральной России русскими революционными социал-демократами. Образ погибшего Гулама не покидал его памяти, и каждое слово, услышанное в кружке, звало к новой борьбе.
Газанфар стал вести подпольную работу среди рабочих, особенно среди выходцев из окрестных селений, с которыми не порывал связи. Он агитировал против царя и власть имущих и распространял на промыслах, по поручению промысловой организации большевиков, ленинскую «Искру». В бурный девятьсот пятый год он организовывал рабочие боевые дружины, и однажды во время демонстрации, неся красное знамя, был настигнут казацкой плеткой и заключен в тюрьму. Выйдя из тюрьмы, Газанфар с еще большей страстью отдался революционной работе и, несмотря на преследования полиции, с избранного пути не сходил.
На этом пути довелось Газанфару увидеть многое, но ничто не оставило в его душе такого следа, как встречи со Сталиным. Незабываемые годы! Разве можно было забыть, как посчастливилось ему, Газанфару, действовать под руководством товарища Кобы во время знаменитой декабрьской забастовки бакинцев, распространяя прокламации, написанные самим Кобой, участвуя в столкновениях с войсками, посланными на подавление бастующих? Разве можно было забыть похороны славного Ханлара, когда по призыву Кобы он, Газанфар, вместе с другими товарищами обходил заводы, чтобы гудками вызвать рабочих на улицу и превратить похоронную процессию в политическую демонстрацию?
Незабываемые дни!..
Роста Газанфар был высокого, чуть пониже Дадаша, но почти вдвое шире его, плечистый, весь из мускулов. Ходил он в кожаных сапогах, в русской косоворотке с расстегнутым воротом, в пиджаке, наброшенном на плечи, в большой косматой папахе. Глаза у него были живые, веселые, губы — раскрытые в приветливой улыбке.
Как оживлялось жилище Дадаша, едва Газанфар переступал его порог!
— Бей! — в знак приветствия подставлял он Баджи свою широкую ладонь.
Баджи ударяла.
— Бей сильней! — смеялся Газанфар. — Иначе не чувствую!
Баджи ударяла сильней.
— Еще сильней! — восклицал Газанфар.
Баджи разбегалась с другого конца комнаты и ударяла изо всех сил. А Газанфар в ответ только смеялся и подзадоривал ее. Выбившись из сил, Баджи хмурилась: нет, ей не справиться с таким, как дядя Газанфар!
Любил Газанфар ловко подбрасывать к потолку детей Дадаша.
Как визжала Баджи, когда, оторвавшись от рук Газанфара, взлетала к потолку и падала, чтоб вновь оказаться в его сильных руках! А Юнус, напротив, казалось, совсем не испытывал страха.
— Я и тебя могу поднять до потолка, если прикажешь! — не раз предлагал Газанфар Дадашу с тайным намерением развлечь больную Сару.
— Да ну тебя! — отмахивался Дадаш. — Позорить хочешь меня при детях?
Но однажды, поняв, куда клонит Газанфар, улыбнулся и ответил:
— А я так думаю, Газанфар, что силенок у тебя на такое дело не хватит!
Газанфар в ответ засучил рукава, бережно взял Дадаша на руки, как ребенка, и поднял на вытянутых руках высоко к потолку. Длинные руки и ноги Дадаша при этом беспомощно болтались в воздухе. Вот была потеха! Давно не оглашалось жилище Дадаша таким громким смехом, как в этот день! Восторженно хлопая в ладоши и пританцовывая, хохотала до упаду Баджи; громко и весело смеялся Юнус, хоть и старался сдержать себя, чтоб не обидеть отца; смеялся под потолком, болтая руками и ногами, сам глава семьи. Озарилось улыбкой даже лицо Сары…
Не всегда, однако, бывал Газанфар таким весельчаком — случалось ему говорить с Дадашем и о серьезных вещах.
— Ты, Дадаш, человек хороший, но только слишком тихий, не можешь за себя постоять, — нередко говаривал Газанфар.
— Меня никто не обижает, — отвечал Дадаш.
— Никто? — усмехался Газанфар, и на веселое его лицо ложилась тень. — А хозяева?
— Хозяева меня уважают, — возражал Дадаш. — Недавно вот приезжал из Петрограда член правления, разговаривал со мной, шутил. Он меня не обижал.
— Значит, еще обидит. Все хозяева на один лад!
— Нет, — упорствовал Дадаш, — Мой хозяин — человек добрый.
— Не может быть, друг Дадаш, добрых хозяев, как не может быть добрых волков!
— Какой же мой хозяин волк? — недоумевал Дадаш и с убеждением в голосе добавлял: — Меня мулла сызмальства учил уважать хозяев и слушаться их.
— Ну и неправильно учил! А я скажу тебе, что любой хозяин хуже волка. Волк зарежет овцу, чтобы не погибнуть с голоду и прокормить волчат, а хозяева сдирают с нас семь шкур ради того, чтобы самим объедаться, в то время как рабочие пухнут с голоду.
— Живем мы, конечно, небогато… — нехотя признавал Дадаш, вспоминая свой скудный хлеб и ветхую одежду. — Но все же… Я, вот видишь, — благодарение хозяину! — живу в фирменной квартире… — И Дадаш удовлетворенным взором обводил грязные стены, закопченный потолок, щелистый пол.
— А как живут твои хозяева, ты видел?
— Незачем мне к ним ходить. Мое дело — держать вахту у ворот. Член правления приказал: посторонних на завод не пропускай!
Спорили Дадаш и Газанфар обычно долго: не так легко было переубедить Дадаша.
— Из одной мы с тобой, Дадаш, местности, можно сказать — земляки, а как не похож ты на наших людей! сказал однажды Газанфар., — Помнишь Мамеда Мамедьярова из селения Маштаги, который ушел работать на промысла в Балаханы? Или Балу Ами Дадашева, тоже маштагинца, который ушел работать в Раманы? Как они борются против хозяев, за рабочий народ! Сколько раз Мамеда арестовывала полиция, а он не прекращает борьбы. Да, наконец, возьми хотя бы меня самого… Нет, Дадаш, человек должен быть сильным, свободным, как ветер или море!
Дадаш развел руками.
— В одном саду растут деревья рядом, и то бывают разные — тутовое, скажем, и грушевое, яблоня и инжир, — промолвил он с застенчивой, смущенной улыбкой, точно винился в том, что не похож на ветер или море.
В другой раз Газанфар сказал:
— Есть у меня, Дадаш, такая книга… Называется «Максим Горький. Рассказы». Так вот, прочел я в этой книге «Песнь о Соколе» — вроде сказки.
И Газанфар стал рассказывать Дадашу содержание «Песни», слегка изменяя ее на свой лад — так, чтобы дошла она до сердца Дадаша.
— Красивая сказка… — задумчиво вымолвил Дадаш, когда Газанфар окончил, и, вздохнув, добавил. Разные есть в мире птицы и звери.
И на лице у него снова появилась застенчивая, смущенная улыбка, точно жалел он о том, что нет у него сильных крыльев за спиной и не может взлететь он высоко в небо, как сокол…
Часто вслушивался Юнус в эти беседы и споры, оторвавшись от книжки или застыв с пером в руке над недописанной страницей. И хотя надлежит сыну во всем соглашаться с отцом, какой-то тайный голос нашептывал Юнусу, что заблуждается его родной отец, Дадаш, а правду видит Газанфар.
Мазутник
Бедная Сара не нашла средств, чтобы излечиться от малярии.
Лицо ее стало совсем желтым. Некогда пышная грудь отвисла, как у старухи, живот вздулся. Быстрые живые глаза совсем потускнели. Куда девалась красота бедной Сары?
А ведь Сара, бесспорно, была красавицей! Дадаш отдал все до гроша, чтобы взять ее в жены. И она была ему женой семнадцать лет, пока аллах не взял ее к себе на небо.
Земная жизнь Сары была полна невзгод и горя, но, видно, там, на небе, Саре был уготован рай, потому что она была, в сущности, хорошей женщиной — вкусно готовила мужу обед, порой одаряла лаской, родила мужу сына-первенца.
Мертвая Сара лежала в гробу.
Баджи следила, как малолюдная процессия с двумя высокими фигурами, отца и брата, впереди скрылась за поворотом. Много дней ожидали ее, эту страшную гостью — смерть, и пот явилась она незримо и унесла в дальний путь спящую мать. Тоска сжала сердце Баджи, из глаз хлынули слезы.
Пусто, тихо было теперь в комнате. Лишь затхлый запах тряпья и чеснока напоминал о той, кого навсегда увезли за ворота, кто больше не стонет: «Мне жарко, мне холодно, дай пить».
Баджи перебралась на место матери: она знала — здесь, у окна, прохладней в летнее время; подстилка здесь более мягкая; отсюда, сидя на корточках перед низеньким подоконником, удобней наблюдать улицу и пустырь. Прекрасное место было у матери — зачем она покинула его?
Спустя неделю, когда Баджи сидела на новом месте, мастеря из лоскутков платье для куклы, вошел Дадаш в сопровождении Таги.
— Иди на старое место, здесь будет спать Таги, — сказал Дадаш. — Он будет теперь жить вместе с нами… Если спросят, кто такой Таги, скажешь: дядя. И называй его дядей.
Баджи сложила свои пожитки и вернулась на старое место у двери.
Зачем привел Дадаш мазутника в свой дом?
Дадаш жалел бездомного Таги. К тому же, как не использовать освободившийся угол в комнате, в которой остались жить всего два человека и девчонка? В фирменных домах, правда, запрещалось пускать к себе квартирантов и угловых жильцов, и приходилось, слегка покривив душой, представлять заводской администрации жильца как родственника. Так было принято поступать, а если квартирохозяин был на хорошем счету у администрации, на это смотрели сквозь пальцы.
«Говоря по справедливости, разве есть для кого-либо вред от этого?» — рассуждал Дадаш.
Торговаться Дадаш не умел и сдал мазутнику угол дешево. Это был скорее гуманный, нежели коммерческий акт.
Сидя на старом месте у двери, Баджи разглядывала Таги. Он, как всегда, был в отрепьях, руки его были разъедены сточными водами и нефтяными отходами всех видов. Нехитрое оборудование — ведра, тряпка и коромысло — находилось при нем.
Называть Таги дядей?
Что-то волнующее, заманчивое таилось для Баджи в слове «дядя», почти столь же прекрасном, как слово «брат». Рожденное, взлелеянное рассказами отца о дяде Шамси, оно неизменно сочеталось с именем Шамси, вызывало представление о собственном доме с зеркалами на стенах, с райскими гуриями на потолке, с мягкими коврами на полу. Дядей также был для Баджи и Газанфар, доставлявший ей столько веселых, радостных минут; дядей был для нее и покойный машинист Филиппов, не пропускавший случая погладить ее по голове или сунуть ей в руку конфету.
Но вот Баджи навязывали в дяди жалкого углового жильца, приказывали ей называть дядей мазутника Таги! Баджи была оскорблена в своих лучших чувствах. Она невзлюбила Таги.
Больше всего Баджи ненавидела его ведра.
Таги проносил их на завод во время вахты Дадаша, обычно в сумерках, чтобы не привлекать внимания, не задерживаясь проходил в комнату Дадаша и ставил их у двери — не совать же грязные ведра под нос хозяину или его первенцу. Ведра протекали, и нередко случалось, что за ночь к подстилке Баджи подбиралась темная жирная лужица. На смену чесночному смраду пришел запах нефти. Баджи не упускала случая сорвать на ведрах свою досаду на Таги — она пинала их ногами. Ведра жалобно громыхали.
Соседи знали, что мазутник не брат и даже не родственник Дадаша, но живя с Дадашем в ладу, не доносили администрации. Знал об этом и Теймур — старший охранник, в обязанность которого входило следить за порядком среди жильцов первого коридора — там, где жил Дадаш, — но он не притеснял сторожа, опасаясь, что и у того найдется что порассказать о ночных сделках старшего охранника с владельцами ловушек на пустыре.
Однажды Баджи столкнулась на улице с Теймуром.
— Это кто у вас там живет? — спросил Теймур, желая дать понять Дадашу через Баджи, что и Дадаш не безгрешен.
— Дядя! — не колеблясь, солгала Баджи.
— Хороший же у тебя дядя, — покривился Теймур, — мазутник!
Удар попал в цель. Баджи хотела сказать, что дядя ее — Шамси, ковроторговец, и что другой дядя — Газанфар, а мазутник Таги — угловой жилец и чужой. Она знала, что Таги тогда выгонят из фирменного дома, из комнаты отца, и она снова займет хорошее место у окна. Но она боялась ослушаться отца.
— Хороший! — упрямо сказала Баджи.
— А ты любишь своего дядю? — подзадоривал ее Теймур.
— Люблю! — прошептала Баджи, чувствуя, что задыхается.
— Может быть, ты и меня полюбишь? — усмехнулся Теймур, оглядывая ее с головы до ног так, как оглядывал ее халвачи.
Баджи повернулась и убежала…
В свободное время Дадаш и Таги сидят за чаем. Баджи им прислуживает. Не так это просто: за чаем кроткий Дадаш становится властительным ханом — капризным и требовательным.
Склонившись над кухонной плитой, следит Баджи, чтоб чай не перестоял. Летом, прежде чем появится на поверхности воды первый пузырек, немало капель пота надает с лица Баджи на раскаленную плиту и, шипя, испаряется. Зимой ветер выбивает из плиты огонь, он пышет через чугунные плитки прямо в лицо. Нередко форсунка наполняется до краев, горящий мазут переливается на пол, жильцы вбегают в наполненную дымом кухню, забрасывают огонь песком. Дадаш уже не раз обращался к заведующему, чтобы тот приказал исправить плиту, но заведующий неизменно отвечал:
— Плита в порядке. Незачем раскручивать вентили. Льете мазут, как воду, — благо бесплатный.
Дадаш уходил, покачивая головой: нет, плита не в порядке…
Как заправский чайчи, споласкивает Баджи стаканы крутым кипятком, с грохотом вращая их на блюдечке, решительным движением наполняет чаем, спешит в комнату, неся на подносе стаканы, из которых валит пар: холодный чай — это не чай!
Баджи ставит поднос между отцом и Таги, сидящими посреди комнаты на паласе. Она горда, когда с требовательных уст Дадаша срывается одобрительное:
— Хороший чай!
В ожидании, пока опорожнятся стаканы, Баджи слушает разговор. Несловоохотливый Дадаш стал после смерти Сары совсем молчаливым. Таги, напротив, говорит много, и, слушая его, Дадаш изредка вставляет:
— Так делала Сара… Так говорила Сара… Сара это любила…
Едва Дадаш произносит имя Сары, Таги тотчас заговаривает о другом — о чем-нибудь смешном, веселом.
— Угадай! — говорит Таги с хитрой улыбкой. — Идет месяц, идет год, день и ночь в дороге. Что такое?
Дадаш почесывает лысину. Что-то знакомое чудится ему в загадке, а вот, поди ж ты, не угадать!
«Вода!» — знает Баджи. Знает не потому, что ей самой удалось разгадать, а потому, что запас загадок Таги ограничен, и Таги повторяет одну и ту же загадку по многу раз, рассчитывая на слабую память Дадаша. Баджи, однако, не смеет ответить и только шевелит губами, точно желая помочь отцу в затруднении.
— Вода! — говорит наконец Таги, сжалившись над Дадашем.
— Правильно! — не то с одобрением, не то с досадой соглашается Дадаш: он вспоминает, что слышал от Таги эту загадку уже не раз.
— Угадай! — предлагает Таги снова. — С горы идет, как гора; руки похожи на ветви; наклоняется воду пить; ржет, как осел. Что такое?
Дадаш тянется рукой к лысине.
— Арба! — выпаливает Баджи, не удержавшись.
— Ай, молодец! — ударяет в ладоши Таги и смеется.
Рука Дадаша медленно опускается.
— Посмей еще раз вмешаться!.. — грозит он дочери.
Баджи хватает поднос с пустыми стаканами и убегает.
— Что такое, — загадал однажды Таги: — нефтепромышленник, а сам, как осел, тащит на себе резервуары?
Дадаш мучительно думает. Задумывается и Баджи — эту загадку она слышит впервые.
— Это я! — говорит Таги, с шутливой важностью тыча себя рукой в грудь. И так как взгляды Дадаша и Баджи выражают недоумение, он поясняет: — А вон мои резервуары… — он указывает рукой на мазутные ведра.
Взгляд Баджи следует за рукой Таги. Ведра, как обычно, стоят между ее подстилкой и дверью; вокруг — темные жирные пятна; тут же тряпка и коромысло.
«Нефтепромышленник, а сам, как осел, тащит на себе резервуары…»
Баджи пристально смотрит на ведра, на тряпку, на коромысло. И вдруг Баджи осеняет: верно, верно!
И тут же ей становится ясным, что Таги ненавидит свои ведра не меньше, чем она. Она весело вскрикивает и бьет в ладоши.
— Всюду сует девчонка свой нос! — ворчит Дадаш: он считает, что Баджи помешала ему разгадать загадку.
Филипповы
Второй коридор был отделен от первого только дощатой перегородкой, но там, за тонкими досками, был словно иной мир: там жили тетя Мария и Саша.
Год назад от несчастного случая, происшедшего по вине администрации, погиб машинист Филиппов. Тетя Мария не сразу подала иск. Стремясь задобрить вдову, администрация предоставила ей место экономки в заводской конторе, оставив жить в фирменном доме.
Тете Марии вручили ключи от шкафа с чайной посудой и полотенцами, и когда раздавался обеденный гудок, она разносила конторщикам чай и завтрак. Вскоре, когда истек срок для подачи иска, тете Марии пришлось уступить одну комнату старшему охраннику, жившему до этого в первом коридоре; во второй комнате она осталась жить со своим сыном Сашей.
В тот день, когда умер машинист Филиппов, пришел к заплаканной тете Марии Дадаш и сказал, что хотя он знает, какой золотой человек был машинист Филиппов, и что он, Дадаш, по сравнению с ним песок, пыль, он, Дадаш, готов сделать все, чтоб быть сироте полезным чем-нибудь. И, склонившись, он прижал к сердцу Сашу, как сына.
А затем вот смерть явилась и в дом Дадаша.
Часто ходили друг к другу Юнус и Саша. Они были сверстники, друзья. Редко говорил Саша о покойном отце, еще реже Юнус — о матери. Каждый таил боль в сердце.
— Играй с Сашей, как с братом, — приказывал Дадаш сыну. Но излишне было говорить об этом — мальчики были неразлучны.
Баджи смотрела на Сашу и всегда удивлялась, какие у него светлые волосы. Она знала, что волосы у русских людей светлые, и всякого с такими волосами считала русским, но столь светлых, как у Саши, ей еще никогда не доводилось видеть — вот разве что у тети Марии.
При жизни Сары тетя Мария казалась Баджи далекой, чужой; она жила во втором коридоре, она была женой машиниста. Но после того как матери не стало, тетя Мария словно приблизилась. Глаза у тети Марии были синие, щеки — белорозовые, нос — слегка вздернутый. А у матери глаза были карие, щеки — смуглые, матовые, нос — прямой. Почему же напоминала тетя Мария покойную мать? Почему хотелось Баджи подойти к тете Марии, стать подле нее, уткнувшись в ее фартук, в колени?
Баджи приходила во второй коридор, стучалась в дверь к тете Марии. Все в доме Филипповых было не таким, как в доме отца: здесь стояли кровати, стол, шкаф.
Хозяйка усаживала гостью на стул. Непривычно, но интересно сидеть на стуле! Баджи старалась сидеть спокойно: тетя Мария не любит, когда ерзают, если ж сидеть спокойно и наблюдать, как тетя Мария возится по хозяйству, можно заслужить вкусный кусочек.
А вот и книжная полка и над ней — две фотографии. На одной — машинист в машинном отделении среди рабочих, на другой — среди тех же людей дома, за столом, уставленным тарелками и стаканами. И тут и там машинист выглядит очень молодым, и хотя фотографии от времени выцвели и потускнели, Баджи безошибочно различает его среди других.
Книжная полка… Покойный Филиппов был человек умный, бывалый, к нему приходили потолковать о жизни, посоветоваться, попросить книгу. От него-то и получил Газанфар книжку рассказов Горького и прочел «Песнь о Соколе», которую пересказал Дадашу.
Здесь, подле книжной полки, нередко сиживал машинист Филиппов с одним странным человеком. Одет был тот человек не по-рабочему. У него была темная бородка, глубокие внимательные глаза, темные, красиво очерченные брови. Звали его обычно Степан Георгиевич, но иногда называли товарищ Степан.
— Кто он такой? — спросил однажды Юнус Сашу, провожая взглядом Степана Георгиевича, идущего к машинисту.
Саша ответил не сразу.
— Это наш друг… — вымолвил он наконец, но по тону его Юнус понял, что Саша о чем-то умалчивает, и не стал больше расспрашивать.
Однако в другой раз, когда Юнус завел речь о том, как трудно стало жить отцу из-за дороговизны, Саша в ответ сам напомнил ему о странном госте:
— Степан Георгиевич говорил, что плохо мы живем потому, что работаем не на себя, а на хозяев… И еще он говорил, что наступит время, когда не будет хозяев и рабочие люди сами будут пожинать плоды своих трудов.
— Сами, что ли, станут вроде хозяев? — удивился Юнус.
— Так выходит.
— Было б неплохо!.. Только вряд ли такое может быть.
— Почему?
— Какой же хозяин отдаст рабочим свой завод или промысел?
— Это верно, что не отдаст. Вот Степан Георгиевич и говорит, что рабочие должны эти заводы и промысла взять сами.
— Взять сами? — Юнус хмуро улыбнулся: — Попробуй-ка, возьми!
— А что, рабочие, по-твоему, такие слабые? — задорно спросил Саша.
Юнус вспомнил, как говорил Газанфар о море, о ветре и о соколе, который поднялся высоко в небо.
— Хотел бы я, чтоб они были сильны!.. — ответил он.
Спустя несколько дней друзья проходили мимо
большой текстильной фабрики. Трубы ее не дымили, у ворот толпились рабочие.
— Бастуют! — промолвил Саша. — Требуют прибавки… Говорят, забастовка уже кончается — рабочие победили! — Гордость звучала в голосе Саши, словно в победе этой была и его доля.
В другой раз, гуляя, друзья очутились на набережной.
Бухта в тот день выглядела необычно: куда девались длиннотелые нефтеналивные суда, неторопливо бороздившие воды бухты? Куда девались суетливые баркасы? Куда исчезли дымы пароходных труб и шипящие белые струи пара у бортов? Все суда стояли на приколе, лишенные жизни, и только на пристанях, где толпились моряки, было шумно и беспокойно.
— Наверно, и здесь бастуют, — заметил Юнус.
Саша кивнул:
— Это команды моряков торгового флота. Говорят, что и здесь бастующие скоро победят.
Юнус вслушался в беспокойный гневный шум, доносящийся с пристаней. Казалось, шумит и волнуется само море.
И Юнус понял: слабы рабочие люди только тогда, когда действуют в одиночку, и сильны, когда действуют сообща…
Баджи сидит на стуле рядом с книжной полкой. Керосиновая лампа освещает обеденный стол, за которым, склонившись над толстой книгой, сидят рядом Саша и Юнус. Баджи видит освещенные лица юношей.
«Кто из них лучше?» — сравнивает Баджи, и, как всегда, во всем она отдает предпочтение брату.
Саша ей тоже нравится: он добрый, он не прогоняет ее, не улюлюкает, не кидает ей вслед камни, как мальчишки с пустыря. Впрочем, может быть, он поступает так потому, что боится Юнуса? Саша ей нравится, но брат, брат красивее, умнее, смелее всех на свете!
Баджи знает, что в книгах есть картинки, на которых нарисованы дома и растения, люди и звери, каких она еще никогда не видела. Она узнала об этом из книги брата, заглядывая ему через плечо — украдкой, словно воруя глазами чужое добро.
Вот и сейчас Баджи хочется заглянуть в толстую книгу, лежащую на столе, — картинок там, наверное, столько, что не пересчитать! Но она сдерживает себя, опасаясь вызвать недовольство брата, — он не любит, когда она мешает ему разговаривать с Сашей.
Толстая книга, лежащая на столе, для Баджи недоступна. Но, может быть, можно заглянуть в какую-нибудь другую — из тех, что на полке? Как много там книг — толстых, тонких, больших, маленьких!.. Что, если взять самую тонкую, самую маленькую? Никто не заметит!
Баджи берет с полки книжку — самую тонкую, самую маленькую, перелистывает ее.
Баджи видит на картинках: вот солдата ведут в цепях; вот солдат обнимает женщину; вот солдат бросается в воду, а женщина, подняв руки, плачет на берегу.
В непривычных к книгам руках Баджи листы мнутся, на обложке появляется липкое пятно. Раз! — неловким движением надорван лист.
— Ну нет, Баджишка! Ты мне здесь книг не пачкай! — слышит Баджи голос Саши, и книжка исчезает из ее рук.
Баджи сидит на стуле рядом с книжной полкой. Она видит освещенное лампой лицо Саши, вернувшегося к столу. Он кладет тонкую книжку на стол рядом с толстой и снова оборачивается к Юнусу.
«Он такой же, как все!» — думает Баджи разочарованно.
Теймур
Однажды, преследуемая мальчишками, Баджи забежала во второй коридор — здесь, у тети Марии, ее спасение.
Баджи рванула дверь… Аллах великий!.. В незнакомой комнате, за столом, уставленным бутылками и едой, сидели Теймур и околоточный надзиратель. Оказывается, Баджи впопыхах ошиблась дверью. Она хотела выбежать, но не решилась: мальчишки, наверно, подстерегают ее в коридоре, чтобы убить.
— Что за кукла? — спросил околоточный.
— Дадашкина дочка, сторожа, — ответил Теймур, пренебрежительно махнув рукой.
Оба были изрядно пьяны.
Старшему охраннику надлежит согласовывать свою деятельность с околоточным надзирателем, который, наряду с заводской администрацией, является его начальством. По местному обычаю, подчиненный время от времени вручает начальнику «пешкеш» — подарок, иногда в форме угощения.
Теймур в этот день вручал околоточному «пешкеш». Стоя в дверях, не решаясь двинуться ни вперед, ни назад, Баджи наблюдала. Какая красивая комната у Теймура! Ковер на полу, ковер на стене, на нем два скрещенных кинжала. На другой стене — большая красивая картина, красивей, пожалуй, чем у тети Марии: в красках. Правда, на этой картине нет знакомых людей.
— Это монархи! — сказал околоточный, видя, что Баджи не сводит глаз с олеографии на стене. — Цари, так сказать.
Три десятка монархов теснились на дешевой олеографии. Цари поважней, посолидней, сидели в креслах в первом и во втором рядах; цари помельче — стояли позади, как младшие члены семьи на семейных купеческих фотографиях. Усатый Вильгельм II и Франц-Иосиф, упрятавшийся в свои седые бакенбарды, были перечеркнуты чернильным карандашом: с Германией и Австрией — война.
Горбоносый старик в красной феске смотрел с олеографии прямо на Баджи.
— Кто это? — осмелилась спросить Баджи, пальцем указывая на старика в феске.
— Это Абдулка! — сказал околоточный и вдруг строго спросил Теймура: — Ты почему же его не перечеркнул? Мы с турком тоже воюем.
— Хочешь, зарежу его? — угодливо предложил в ответ Теймур.
Околоточный махнул рукой:
— Режь!
Теймур вынул из кармана кинжал, обвел острием фигурку горбоносого старика в феске, наколол ее и, смяв, бросил под стол. На картине, где минуту назад сидел султан Абдул-Гамид, зияла теперь дыра.
— А это кто? — спросила Баджи, указывая пальцем на человека, сидящего в первом ряду в большом кресле, на самом видном месте.
Околоточный встал покачиваясь.
— Это его императорское величество самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский и прочая, и прочая, и прочая!.. — одним духом отбарабанил он. — Наш русский царь, — пояснил он обычным тоном. — Выпьем все за царя! — воодушевился он снова. — Теймурка, налей! Барышне тоже налей!
Теймур налил три стопки водки, одну придвинул Баджи.
— Нельзя, — сказала Баджи.
— Вино нельзя, коран не велит, а водку — можно! возразил Теймур. — Смотри, я сам мусульманин — и пью!.. Он лихо опрокинул в себя содержимое стопки, закусил ветчиной.
Комментарий к корану и поведение Теймура в соответствии с комментарием привели в восторг околоточного.
— Ты, Теймурка, мне нравишься! — воскликнул он растроганно. — Абдулку зарезал, водку пьешь, свининкой закусываешь!.. Дай же, дай же и барышне выпить и закусить, чего ты жалеешь?
— Пей, барышня! — сказал Теймур с напускной учтивостью, поднося стопку к лицу Баджи.
Баджи не двигалась.
— Пей, кукла! — строго сказал околоточный. — За здоровье царя нельзя отказываться.
— Пей, дура! — прикрикнул Теймур. — А не то… — он угрожающе взмахнул кинжалом перед лицом Баджи. Сталь сверкнула.
«Убьют!»
Теймур насильно влил водку в рот Баджи. Она захлебнулась.
— Умираю… — простонала она, схватившись за голову, но по хохоту Теймура и околоточного поняла, что не умрет.
— Попляши, кукла! Ваши хорошо пляшут, — сказал околоточный, когда Баджи опомнилась, и принялся хлопать в ладоши.
— Пляши, дура! — поддакнул Теймур, снова взмахнув кинжалом. — Перед халвачи, я видел, ты пляшешь!
Баджи мелко засеменила ногами и, раскинув руки в стороны, стала плавно вращать кистями рук. Околоточный хлопал в ладоши. Теймур щелкал в такт пальцами. Время от времени зрители подбадривающе кричали. Баджи плыла в танце, улыбаясь, кокетливо играя глазами, как взрослая.
— Лихо пляшет! — восхищался околоточный.
Баджи танцевала, а зрители время от времени подавали ей со стола куски еды. Теперь Баджи было легко, ей казалось, что она куда-то летит, как птица.
Но вдруг цари и кинжалы на ковре закачались, все пошло кругом. И Баджи показалось, что перед ней не два человека, а много людей, и что все они кружатся, кружатся вместе с ней. Она побледнела и зашаталась.
— Вон отсюда! — крикнул Теймур.
В коридоре Баджи стало плохо. Она стонала. Из квартиры Филиппова на стон ее выбежали Юнус и Саша.
Юнус бросился к Баджи. Он почувствовал запах водки и понял все. Вскипев, он ударил Баджи но щеке, ударил еще раз, наотмашь. Баджи упала, скрестила руки над головой, заплакала. Юнус подошел к двери Теймура, рванул ее, вошел в комнату. Вслед за ним вошел Саша.
— Это ты дал сестре водку? — спросил Юнус Теймура.
Теймур и околоточный переглянулись.
— Видишь — едят, чего же спрашивать? — сказал Теймур двусмысленно: фразой этой обычно приглашают к столу — садись, мол, и ешь.
— Ты зачем напоил сестру? — спросил Юнус, стиснув зубы, и брови его сошлись в одну черную полосу.
Захмелевший околоточный был равнодушен к происходящему: мало ли о чем спорят между собой охранник и сын сторожа?
Ты зачем напоил сестру? — повторил Юнус, двинувшись к столу.
— Твою сестру!.. — брезгливо пробормотал Теймур в ответ и, взявшись за кинжал, вышел из-за стола.
Кровь бросилась в лицо Юнусу. Он готов был ринуться на Теймура, но Саша во-время его удержал.
— Пусти, Сашка!.. Говорю, пусти!.. — кричал Юнус, стараясь вырваться. — Я убью этого негодяя!
Но Саша крепко держал Юнуса и насильно вывел его из комнаты.
Баджи лежала посреди коридора. Тетя Мария вытирала ей лицо мокрой тряпкой. Сознание Баджи мутилось.
Юнус прошел мимо, не взглянув на Баджи. Но она его увидела и остатком сознания вдруг поняла: он, ее брат, не боится Теймура! Вот бы и ей быть такой бесстрашной она бы выцарапала Теймуру глаза!
Юнус и Саша вышли во двор.
— Ты с кем связываешься? — сказал Саша, — Ведь он — дурной человек, «кочи», бандит.
— Это ты боишься кочи, — ответил Юнус, желая уколоть Сашу: он досадовал, что ему помешали ответить на оскорбление.
Саша оглядел худощавую фигуру друга.
— Храбрец ты, я вижу! — усмехнулся он. — Кулаками на кинжал!.. Ты бы лучше отвел домой сестру.
— Не умрет! — небрежно ответил Юнус. — В другой раз не будет шляться где не следует.
— Нечего сказать, хороший брат!
— А чем нехороший? — спросил Юнус вызывающе
— Плохой!
Юнус нахмурился. Он, Юнус, плохой брат? Он, разрешавший сестре смотреть через его плечо в книгу, когда он готовил уроки? Он, деливший с сестрой каждый вкусный кусочек? Он, готовый убить ее оскорбителя? Он, сердце которого сейчас ныло, как если б ударили его самого? Он, Юнус, плохой брат?
— Не ждал я от тебя таких слов, Сашка… — только и мог вымолвить Юнус в ответ.
С этого дня, завидя Теймура, Баджи пускалась наутек. С этого дня Теймур только и ждал случая, как бы ему сцепиться с Юнусом: разве не назвал тот его при околоточном негодяем? С этого дня Теймур стал настраивать заведующего против Дадаша, говоря, что он уже стар, дремлет на вахте и что пора заменить его новым сторожем, помоложе; при этом Теймур имел в виду поставить у ворот своего человека, который не будет соваться куда не следует.
Не терпелось Теймуру разделаться со всей семьей Дадаша.
Огонь
Злые осенние ветры веют с северо-востока, бросают на город степной апшеронский песок, сбивают с ног прохожих, срывают вывески, гудят в проводах.
Дадаш сидит у ворот, закутавшись с головой в бурку. Глаза его защищены от пыли большими очками; очки эти — подарок машиниста Филиппова, роскошь, которой Дадаш непрочь похвастать перед людьми. Юнус в школе. Дома только Баджи.
Приятно в такую погоду сидеть у Филипповых в теплой комнате, наблюдать, как возится по хозяйству тетя Мария, пить горячий чай, жевать вкусную лепешку. Увы, теперь Баджи боится ходить во второй коридор. Вот она и сидит дома одна, самовольно пристроившись на подстилке Таги возле окна, прислушиваясь к дребезжанию стекол. Воет шайтан в этих осенних злых ветрах.
В окно Баджи видит: шатаясь на ветру, как пьяный, с ведрами на коромысле, возвращается домой Таги. Баджи, однако, не спешит покинуть уютное местечко: пока еще Таги обогнет дом, задержится у ворот, чтоб перекинуться словцом с Дадашем, пока пройдет через двор, кухню, коридор, — у нее хватит времени, чтобы шмыгнуть в свой угол.
С рассвета гнул Таги спину над канавами, лужами, исхлестанный ветром, засыпанный пылью, вконец продрог; сдал раньше времени добычу — полтора ведра, шел домой отдыхать. В воротах обменялся словцом с Дадашем. Старику, видно, тоже не сладко в такую погоду с утра до ночи торчать у ворот.
На кухне топилась плита, было тепло. Вопреки обыкновению, Таги остановился: хоть бы немного согреться! Все теперь на работе, вряд ли кто явится сюда. Одеревеневшей рукой Гаги раскрутил вентиль. Струйка мазута взбухла, огонь в форсунке затрещал веселей. Таги опустился на табурет подле плиты. Тело его сладко заныло. Глаза закрылись. Не хотелось думать, что пора уходить в свой угол.
Баджи уже перебралась к себе на подстилку и дожидалась Таги. Где он? За это время он мог бы пройти свои путь дважды и вдоволь наговориться с отцом. Почему нет Таги?
Баджи заглянула в кухню.
Аллах милостивый! Таги спал, сидя на табурете, а горящий мазут, переполнив форсунку, переливался на пол, подбирался к рваным башмакам Таги.
— Огонь! Огонь! — закричала Баджи и, так как Таги не просыпался, кинулась во двор, к кочегарке, к пожарному колоколу.
Поднявшись на цыпочки, Баджи схватила веревку, изо всех сил забила в колокол. Звон разнесся по заводу Со всех сторон бежали рабочие.
— Огонь! — кричала Баджи. — Убежал!.. На кухне!..
С ведрами, наполненными песком, с лопатами, с ломами люди устремились к дверям кухни, из которой шел дымок.
Огню не дали распространиться — выгорел лишь кусок пола, да окна и двери, без того закопченные, стали совсем черными. Но Таги не повезло: промазученные башмаки и штаны вмиг были охвачены пламенем, ноги его обожжены.
Огонь был быстро потушен, люди уже возвращались к работе, а Баджи все так же яростно била в колокол: страшная это штука — бегущий огонь! Едва уговорили Баджи выпустить веревку, зажатую в кулаке.
— Как пономарь! — одобрительно посмеивались над ней русские рабочие.
— Умная девка! Дай бог здоровья отцу! — восторгались рабочие-азербайджанцы.
Кто-то сунул в руку Баджи конфетку.
— Молодец! — впервые в жизни похвалил свою дочь и Дадаш и жесткой рукой погладил ее по щеке.
Глаза Баджи сняли, она широко улыбалась. Ей хотелось кружиться, танцевать. Приятно быть в центре внимания, приятно, когда тебя хвалят!
Проходя домой через кухню, еще полную дыма, Баджи видела, как Таги, сидя на табурете, беспомощно расставив ноги, снимает с них тлеющее тряпье. Кто-то из соседей смазывал ему обожженные места кунжутным маслом. Интересно, конечно, посмотреть, как лечат от ожогов, и в другой раз Баджи не преминула бы протиснуться к Таги ближе всех, но сейчас она даже не замедлила шаги: сейчас она была выше того, чтоб отдавать свое внимание мазутнику Таги…
Заведующий вызвал Теймура.
— Кто это сделал? — спросил он строго.
— Таги, — ответил Теймур.
— Не знаю такого, — сказал заведующий раздраженно.
— Это мазутник, живет у Дадаша.
— А кто впустил его?
— Дадаш впустил.
«Есть основания опасаться поджогов, будьте бдительны», — вспомнил заведующий слова члена правления, приезжавшего летом из Петрограда. И, как нарочно, только вчера управляющий городской конторой объявил ему выговор за недостаточную охрану завода. «Это базар, а не завод! — звучал в ушах заведующего крик управляющего. — Вы забываете, что сейчас война!» И еще вспомнил заведующий, что комната его дочерей находится над первым коридором и распространись огонь — пострадали бы и они.
— В два счета пусть убирается с завода старый болван! — выкрикнул заведующий. — И ты хорош, старший охранник: не смотришь за порядком, пускаешь кого попало. Курица ты, а не старшин охранник!
«Хватит мне терпеть из-за этого старого осла и его отродья!» — озлился Теймур.
— Я говорил Дадашу: «Не пускай». Говорит. «Заведующий разрешил», — солгал Теймур.
— Твое счастье, что потушили во-время, — сказал заведующий. — Иди!
Теймур пришел к Дадашу.
— В два счета убирайся с завода, старый осел! — сказал Теймур. — Заведующий приказал… А тебя… — он погрозил кулаком Таги, сидевшему на полу, все так же беспомощно раскорячив обожженные ноги. — Если еще раз увижу тебя в Черном городе — убью, как собаку!
Он ушел, хлопнув дверью. Дадаш и Таги переглянулись.
— Пойду в больницу, — сказал Таги, пытаясь подняться. — Может быть, примут, хоть я не служащий и не рабочий.
— Ты не дойдешь, — сказал Дадаш.
Взяв своего друга на руки, он вынес, его во двор и, взвалив на мусорную тачку, повез в больницу. Он жалобно упрашивал доктора оставить Таги в больнице, обещал денег, и доктор наконец согласился.
— Здесь тебе будет еще лучше, чем у меня, — шепнул другу Дадаш на прощанье. — Тепло и кормят. Я бы сам непрочь здесь пожить, если б не дети.
— Дай бог здоровья твоим детям: если бы не Баджи — я был бы уж, наверно, на том свете, — ответил Таги дрожащим голосом.
Дадаш покатил пустую тачку к дому. По дороге он вспомнил о Теймуре.
«Теймур — дурной человек, всякое от него можно ждать», — размышлял он.
Наутро Дадаш остановил заведующего.
— Зачем Теймур врет про тебя? — сказал он, сняв папаху. — Говорит, что ты велел мне уходить с завода.
Заведующий снова вспомнил слова члена правления, и выговор от городского управляющего, и то, что комната его дочерей находится над первым коридором.
— Мало того, что рабочие повсюду бастуют, вы еще хотите поджечь завод! — сказал он возмущенно.
— Нет, — возразил Дадаш спокойно, — зачем рабочему человеку поджигать завод? Где ему без завода работать? И где зарабатывать на хлеб?.. — Он помолчал немного и добавил с уверенностью: — Пока я у ворот, ни один дурной человек на завод не пройдет!
Заведующий взглянул на Дадаша. Он много лет знал этого долговязого, лысого человека, стоящего у ворот, и понимал, что о поджоге не может быть и речи. Раздражение его улеглось.
— Ты хороший сторож, — сказал он. — Но колокол звонил на весь завод, все знают, что пожар возник из-за тебя. Если я не уволю тебя, каждый скажет: Дадаш сделал пожар, а заведующий его не уволил, — не беда, если и я сделаю… Помнишь, приезжал летом хозяин из Петрограда и приказывал: никого из посторонних на завод не пускать. Мы работаем теперь для войны…
Он чувствовал неловкость перед старым сторожем и потому говорил так пространно.
Но Дадаш не понимал: при чем тут война?
— Признайся, Дадаш, ты сам виноват, — сказал заведующий.
— Это вентиль виноват, — ответил Дадаш.
— Сколько раз я говорил, чтоб не раскручивали вентиль! — сказал заведующий с досадой. — Льете мазут как воду, благо бесплатный.
Но Дадаш упрямо покачивал головой:
— Это вентиль виноват, вентиль!
— Не вентиль, а жилец твой. А ты за него отвечаешь. Да еще за то, что пустил жить без разрешения. Понял?
Губы Дадаша задрожали.
— Я служу здесь семнадцать лет… — промолвил он, и трудно было понять, чего больше в его голосе — горечи или гнева.
— Ладно, — сказал заведующий, смягчившись. — Похлопочу о тебе в городской конторе.
Каждое утро подходил Дадаш к заведующему, снимал папаху, стоял перед ним с вопрошающим видом. Но заведующий не мог дать ответа: в городской конторе о пожаре не знали — разве это пожар? — и не хотелось самому напоминать о том, за что его не похвалят и что может кануть в неизвестность, если смолчать. Однако оставить сторожа на работе, скрыв его проступок, тоже было небезопасно, — найдутся враги, донесут в городскую контору, как следит заведующий за охраной завода: даже поджог сходит людям с рук. И заведующий понял, что лучше уволить сторожа, чем самому нажить из-за него неприятности.
Он снова вызвал Теймура.
— Пусть старик остается жить на заводе до конца месяца, а к воротам его не ставь, — сказал он Теймуру.
Вечером заведующий рассказал об этом жене он всегда перед сном рассказывал ей о событиях дня, — и она одобрила его за поблажку, оказанную старому сторожу: до конца месяца Дадаш подыщет себе новую работу и кров.
Теймур пошел к Дадашу.
— Будешь жить здесь до новолуния, а к воротам не становись, — сказал он Дадашу. — Заведующий приказал.
— Все врешь ты, — ответил Дадаш хмуро. — Я служу здесь семнадцать лет. Меня знает хозяин из Петрограда.
К полуночи Дадаш пошел на вахту. Было начало лунного месяца, ночь была темная. Не дойдя до ворот, Дадаш столкнулся со сменным.
— Ты что ж не дождался меня? — спросил он сменного.
Тот быстро прошел мимо Дадаша, словно не замечая его.
«Больной, что ли? — подумал Дадаш и вышел за ворота.
На скамейке сидел закутанный в бурку человек.
«Из Теймуровой шайки», — узнал Дадаш.
И вдруг ноги у него задрожали и подкосились: он понял, что у ворот, на скамейке, где просидел он семнадцать лет, сидит вместо него новый сторож. Чувство тоски и одиночества пронзило его, словно отняли у него что-то родное и дорогое, как в тот день, когда навеки закрыла глаза Сара…
Каждый вечер глядел Дадаш на небо. Месяц все увеличивался.
Много свободного времени было теперь у Дадаша. Он навещал в больнице Таги и всякий раз спрашивал:
— Куда ж ты пойдешь, Таги, когда выздоровеешь?
Таги отшучивался:
— Поеду в Петроград, в гости к члену правления!
— Далеко туда ехать, денег не хватит!
Таги переставал шутить.
— Я еще не внес тебе плату за угол, — смущенно говорил он Дадашу.
— Придет время — внесешь, — успокаивал его Дадаш. Странно: он чувствовал себя виноватым перед Таги.
Однажды, пересекая больничный двор, Дадаш увидел, как несут в мертвецкую какого-то покойника. Труп был покрыт бязевой окровавленной простыней, как туша в мясной лавке.
«Мне еще не скоро умирать, — подумал Дадаш, хотя я худой и плешивый…»
В один из этих дней к Дадашу пришел Саша.
— Тебя, я слышал, гонят с завода, выселяют из комнаты? — спросил он.
— Нет, — не признавался Дадаш. — Я живу здесь семнадцать лет. Меня знает хозяин из Петрограда. Меня не могут выселить.
— Нет, могут, — сказал Саша.
— Могут! — подтвердил Юнус.
Дадаш с изумлением взглянул на сына: впервые в жизни перечил ему сын.
— Я за тебя напишу письмо в Петроград, к хозяину, который тебя знает, — предложил Саша.
Дадаш в раздумье пожал плечами:
— Пиши, если хочешь.
Саша присел к ящику Юнуса и написал письмо в Петроград, к члену правления, который летом приезжал на завод. Перед тем как заклеить конверт, Саша перевел Дадашу письмо.
В письме говорилось, что если сторож Дадаш в чем-либо и виноват, то лишь в том, что без разрешения впустил углового жильца; в пожаре же виновата администрация, не следящая за ремонтом рабочих жилищ, за вентилями.
— Это вентиль виноват, вентиль! — горячо подхватил Дадаш.
В письме подчеркивалось, что пожар не наделал беды, что сторож Дадаш безупречно прослужил семнадцать лет, что это его первое упущение.
Дадаш одобрительно закивал головой.
— Пиши еще, что я вдов, что у меня двое детей, — сказал он.
— Не смей писать этого, Сашка, не смей! — закричал вдруг Юнус, а Дадаш снова с изумлением взглянул на сына: второй раз перечил ему сын. Что с ним такое? Чего он так сердится? На кого? Разве не правда, что он, Дадаш, вдов, что у него двое детей? Злое, злое время пришло для Дадаша: первенец поднимает на отца голос.
— Подпиши, — спокойно сказал Саша, протягивая Дадашу письмо. — А про то, что ты вдов и что у тебя двое детей, может быть, в самом деле писать не стоит.
Дадаш поставил в конце страницы маленькую закорючку, которой научил его сельский мулла. Так было всю жизнь — полвека, что прожил Дадаш на земле: другие люди что-то писали за него, а он, слушаясь их, покорно ставил куда ему указывали маленькую закорючку, означавшую его имя — Дадаш…
Проходя мимо номеров, Дадаш теперь испытывал стыд: ему казалось, что жильцы номеров всё про него знают и уже не он, а они смотрят на него свысока. Люди там жили, правда, неважные, в жалких квартирах, но ведь он скоро останется вовсе без крова. Уж лучше бы он жил здесь, в номерах, не пришлось бы, по крайней мере, покидать насиженное место.
А ветры с северо-востока дули, как на беду, особенно сильно, колючие, злые ветры. Нужно было позаботиться о крове. Ведь не мог же Дадаш, даже по крайности, искать ежевечерне ночлег или скитаться по углам, как Таги: кто впустит к себе безработного старика, вдовца с двумя детьми? В городе, правда, есть квартиры получше черногородских, но плата за них дорогая — не долго проживешь там на свои сбережения, которых едва хватит даже на жалкую комнатку в номерах.
Ах, фирменная квартира! Какой неожиданной бедой обернулась она для Дадаша, она — предмет его первой гордости после сына!
Дадаш стал ходить по заводам, искать место сторожа. Места были заняты. Порой Дадаш наталкивался на странное явление: сторожа у заводских ворот были хорошо, по-городскому одеты и не походили на обычных черногородских сторожей. Это были богатые люди, стремившиеся избежать мобилизации в армию, поступавшие с этой целью на заводы и промыслы в качестве сторожей и для отвода глаз время от времени отбывавшие вахту. Один раз, впрочем, оказалось свободное место, но Дадашу предложили представить отзыв с места старой службы. А какой мог он представить отзыв? Сторож, незаконно впустивший на завод постороннего человека, едва не спалившего завод!»
Дадаш пошел к Шамси просить о помощи — разве не был Шамси его родственником? Но сидя в большой комнате с зеркалами на стенах, с гуриями на потолке, с дорогими коврами на полу, Дадаш не стал просить. Смутился он, что ли, при виде богатств Шамси? Гордость, что ли, сковала его и без того тугой язык? Или, может быть, в тайниках души он упрямо надеялся, что его не уволят с завода? Сам того не предполагая, Дадаш стал просить за Таги, который вышел в этот день из больницы.
Просьба его увенчалась успехом.
Шамси, правда, не взял Таги к себе на службу и не дал ему крова, но он разрешил Таги сидеть у порога своего магазина, и это было немалой милостью: когда покупатель, приобретя ковер, подходил к выходу и звал «амбал!» — что означает «носильщик», — Таги не приходилось, подобно другим амбалам, бежать со всех ног на зов, толкая конкурентов и вырывая у них ковер, чтоб снести его к дому покупателя и заработать на кусок хлеба; Таги оставалось переступить порог магазина и, взвалив на плечи тяжелый ковер, тащить его, согнувшись в три погибели, к дому покупателя. Неокрепшие ноги Таги при этом дрожали и подгибались.
Как-то вечером вышел Дадаш к воротам, взглянул на небо. Месяц шел на убыль.
«Теперь уже скоро», — подумал Дадаш, и ему стало страшно. Он поспешил домой.
— Это она во всем виновата! — хмуро сказал он Юнусу, кивнув на Баджи. — В первый раз, что ли, переполняется форсунка? К чему было звонить на весь Черный город? Будь ты на месте девчонки, ты бы не стал звонить, а сам бы засыпал огонь песком из ящика. Никто б не узнал о пожаре, и все бы шло по-старому. Потому что ты — умный мужчина, а она — девчонка, дура.
Юнус молчал.
Конечно, Юнус не боялся огня, он с малых лет привык к нему в кочегарке. Но он также знал коварство огня, знал, что следует бить тревогу, едва огонь вырвался из назначенного ему предела. Засыпал бы он сам? Или, подобно Баджи, звал бы на помощь? Юнус не знал, что ответить. Но ему льстило, что отец в него верит, и он представил себе, как боролся бы с огнем один на один, как засыпал бы пламя песком из ящика.
— Я не стал бы звонить, — сказал он.
Баджи прислушивалась к словам отца и брата. Она понимала, что ее осуждают за то, что она била в колокол, но не могла понять — почему? Она помнила, как, переполнив форсунку, подбирался жаркий огонь но полу к башмакам Таги, грозил поджечь дом. Разве могла она погасить этот страшный огонь своими руками? И разве не погасили его люди сообща? Слова кочегара снова пришли ей на память: «А убежит — вот кто поймает!» Нет, не обманул ее кочегар!
«Не бойся, сестра!»
Месяц был на исходе.
Ответа из Петрограда не поступало — член правления был занят в особом совещании, устанавливавшем цены на нефть. Теймур кружил вокруг квартиры Дадаша, как ворон.
Дадаш решил пойти на северный берег: быть может, добрые родственники дадут ему кров и пищу, а он отплатит им работой в садах или на пашне; он знает эту работу — тридцать шесть лет копался он в песке и в траве и только семнадцать просидел на скамье возле заводских ворот.
Дадаш представил себе утреннюю росу на виноградниках, свежий ветер и чистое море — северный берег, каким он покинул его семнадцать лет назад. Ему стало легко от этих мыслей. Хватит ему коптеть в Черном городе! Сколько лет прошло с той поры, как он покинул родное селение! Неужели этого срока недостаточно, чтоб остыла самая мстительная кровь? В конце концов он скопит немного денег и откупится, аллах защитит его.
Дадаш собрался на северный берег.
Проходя мимо колодца, обсаженного деревьями, он вспомнил, как семнадцать лет назад шел мимо этого места. Совсем не изменился колодец, но деревья сильно выросли. Дадаш шагал и думал о том, как шел он когда-то в город по этой самой дороге полный сил и, чуть поотстав от него, по закону, шла любимая Сара, неся под сердцем первенца. Они уходили тогда от смерти — к жизни и счастью; а вот теперь он брел одиноко назад по этой самой дороге, усталый пожилой вдовец, с обидой в сердце, бездомный, как ветер…
Дадаш пробыл в селении целый день.
«Есть все же добрые люди, — думал он, возвращаясь домой, — спасибо, дали работу и кров».
Он возьмет детей на северный берег, будет работать на родной земле. Песок, зелень. Дети будут сыты, одеты. Юнус не бросит учения, станет ученым человеком, может быть выше муллы. Дадаш чувствовал себя обновленным, молодым. Он снова шел к жизни и счастью.
Было уже темно, когда Дадаш проходил мимо колодца, обсаженного деревьями, — он шел быстро, спеша поделиться радостью с сыном.
Вдруг он почувствовал сильный удар в спину. Боль пронзила его.
— Аллах!.. — прохрипел он, падая на дорогу…
Затем он лежал на скамье в мертвецкой, покрытый окровавленной простыней, как туша в мясной лавке. Юнус и Баджи стояли подле него. Служитель приоткрыл лицо мертвеца, и дети в один голос прошептали:
— Отец!..
Лицо Дадаша было желтей лица мертвой Сары, и только редкие иглы усов и бороды чернели на нем. Казалось, какой-то укор застыл на мертвом лице.
Баджи стало страшно. Ей хотелось бежать, упасть лицом на землю, спрятать глаза, чтоб не видеть того непонятного, страшного, что уже второй раз врывалось в ее жизнь и называлось — смерть.
Юнус стоял неподвижно, смотрел не отрываясь на отца. Семнадцать лет не видел отец родной земли и вот, едва ступив на нее, убит! Не спасли его долгие годы у заводских ворот, покорность, молитвы.
Юнус взглянул на Баджи. Сердце его сжалось.
55
«Сестра, — подумал он, — моя сестра!..»
Он взял Баджи за руку — впервые в жизни, как равную. Рука ее дрожала.
— Не бойся, сестра, — сказал он, — мы не расстанемся, я буду тебя защищать.
И он дал себе клятву, что будет ее защищать, и когда станет взрослым, она будет жить у него в тепле и сытости, и будет спать на мягкой постели, и он не расстанется с ней до самой смерти.
Они стояли перед мертвым отцом рядом, взявшись за руки, — высокий юноша и худенькая девочка, брат и сестра. И хотя ужас наполнял сердце Баджи, какая-то тайная надежда коснулась ее: она не одна, ее рука в руке брата.
Потом мертвецкую заперли на замок — как будто мог Дадаш уйти вслед за живыми и встретить по дороге верблюдов, которых встретили его дети, и слышать звон оловянных колокольцев на длинных верблюжьих шеях, и видеть над собой апшеронское синее небо и перелетных птиц с севера, которые реяли над головами его детей.
Гости
Дадаш лежал в мертвецкой. А на квартиру к нему с раннего утра шли гости.
Первым пришел следователь. Он был в форме, и Баджи решила: большой начальник, больше околоточного.
— Враги у покойного были? — допрашивал следователь соседей.
Все показывали, что сторож был человек мирный.
— Вот разве что не ладил в последнее время с Теймуром, старшим охранником, — добавляли некоторые.
«Нет, не охранник», — решил следователь.
Один только Саша на вопрос следователя твердо ответил:
— Были.
Следователь насторожился. Тогда Саша добавил:
— Друзья-то ведь не убивают.
— Имеешь подозрение на кого-нибудь? — спросил следователь.
Саша помедлил.
— Нет, — ответил он, — не имею.
— Тогда не болтай зря! — прикрикнул следователь.
«Кровная месть, типичная», — все более убеждался он.
Много лет занимал он место участкового следователя, нередко сталкивался с подобными убийствами, и они представлялись ему однообразными, неинтересными. Он считал, что создан для большой, сложной работы, и мечтал выдвинуться.
Приходили соседи и без вызова следователя.
Женщины с детьми на руках толпились у порога, говорили вполголоса, точно боясь нарушить чей-то покой.
Приходили рабочие, угрюмо топтались в комнате и в коридоре. Семнадцать лет встречал у заводских ворот этих людей сторож Дадаш приветственным словом «Здравствуй!» или на родном языке — «Салам!», и бодрей входили они в заводские ворота. А теперь вот пришли они к нему на квартиру сказать печальное слово — «прощай!» Хороший человек был сторож Дадаш, пусть мирно спит…
Пришел из города амбал Таги, не побоявшийся на этот раз угроз Теймура. Проходя через кухню, он оглядел черные стены и потолок, еще не выбеленные со дня пожара, и толстую струю мазута, переполнявшую форсунку.
«У них еще будут пожары!» — подумал он со злобой.
Приехал с промыслов и Газанфар. Его всегда веселые глаза сейчас глядели строго, губы, обычно раскрытые в приветливой улыбке, были сурово сжаты.
Войдя в комнату, он вспомнил, как рассуждал Дадаш о разных деревьях, растущих рядком в одном саду, и с горечью подумал: «Вот ты и срублен, бедняга!..»
Вскоре комната Дадаша и коридор переполнились так, что не могли вместить всех, кто хотел услышать или сам высказать слова печали и гнева. Кто-то предложил перейти к заводским воротам. Людей прибывало все больше и больше, с соседних заводов и даже с других концов Черного города, — кто же не знал сторожа Дадаша? Выступавшим приходилось становиться на скамью подле ворот, чтоб голос их слышен был всем.
О, если бы мог услышать и Дадаш, о чем говорили сейчас люди, стоящие на той самой скамье, у ворот, где просидел он в безмолвии и кротости семнадцать лет!
Захотелось сказать прощальное слово и Таги.
Он встал на скамью, чтоб поведать стоящим вокруг него людям, какой души человек был его друг Дадаш, но сердце его внезапно сжалось, в горле застрял ком, и Таги не смог ничего сказать.
— Теперь уже поздно говорить… — только и вымолвил он, вздохнув и смахивая слезу. — Дадаша не вернуть…
Сквозь тесные ряды протиснулся к воротам Газанфар и, встав на скамью во весь свой рост, со страстью воскликнул:

— Нет, друзья, нет! О таких делах никогда не поздно говорить!.. Вспомните, как мы хоронили когда-то Ханлара Сафаралиева, — его убили по указке хозяев наемные кочи, убили из-за угла! Вспомните, как двадцать тысяч рабочих пошли по призыву товарища Кобы за гробом Ханлара, в знак протеста против хозяев-убийц, и похороны превратились в бой за лучшую жизнь!.. Семнадцать лет честно служил Дадаш на заводе, и вот хозяева выбросили его с завода, из квартиры, как ненужную ветошь, как сор, и бедный Дадаш, наш брат рабочий, погиб. Кто, как не хозяева, виновны в его гибели? Заклеймим же позором презренных убийц и в знак протеста не выйдем на работу!
Все вокруг одобрительно зашумели, послышались гневные возгласы против хозяев, в воздух поднялись кулаки. Долго еще толпились рабочие у заводских ворот, и никто из них в этот день не вышел на работу.
Перед тем как расстаться, Газанфар подошел к Юнусу и, положив ему руку на плечо, сказал:
— Вот что, Юнус… Тебе с сестрой, видно, придется покинуть квартиру — на то хозяйское право. Где вы будете жить?
Юнус угрюмо молчал. Где? Если б ему самому могли указать!
— Может быть, переедете на промысла? — продолжал Газанфар. — Я бы помог тебе устроиться на работу в буровой, тартальщиком.
«На работу?»
Юнус вспомнил о шапочке, купленной покойным отцом по совету муллы, о низенькой, персидского типа папахе из сукна, какие обычно носили богатые купцы и образованные люди, а также подражавшие им ученики городских русско-татарских училищ, надеявшиеся стать образованными и богатыми. Неужели придется расстаться с книжками, с тетрадями, с этой шапочкой?
— Я не знаю… — ответил Юнус нерешительно.
Газанфар его понял.
— Обдумай все хорошенько, Юнус, не торопись, и если решишь переехать — приезжай! Во мне всегда найдете друга ты и сестра.
На прощанье он крепко пожал руку Юнуса, как мужчина мужчине, а Баджи отечески ласково погладил по голове.
Почтить память покойного явился и Шамси.
Он приехал вместе с другом своим, муллой хаджи Абдул-Фатахом, на парном фаэтоне, таком же красивом, как фаэтон управляющего.
Дядя Шамси был среднего роста, плотный, с небольшой округлой черной бородой. Он был в длинном сюртуке, в темной бархатной рубашке с наглухо за-стегнутым воротником. Совсем не таким представляла его Баджи по рассказам отца. Но он все же понравился ей: видно, богатый, важный человек.
Дядя Шамси оглядел комнату, вещи, племянника и племянницу и произнес как полагается:
— Аллах дал — аллах взял; да будет благословенно имя его!
На виду у всех он вытащил из кармана кошелек и послал Таги за сладостями. И бедный черный поднос знавший только стаканы с чаем и блюдечко с мелко наколотым сахаром, украсился большими кусками халвы из пшеничной муки с медом, и любой человек мог брать с подноса сколько душе угодно, чтоб умерить свою печаль по умершему.
«Хороший дядя!» — восхищалась Баджи, набив рот халвой, искоса поглядывая на Таги.
Мулла хаджи Абдул-Фатах ей тоже понравился.
У него, как и у дяди Шамси, была небольшая округлая борода, только края ее были подкрашены хной. Он был в коричневой, верблюжьей шерсти абе, чалма у него была зеленая, пышная, пояс — широкий, темно-красный. Разве можно было сравнить его с муллой Ибрагимом?
Шамси пошептался со своим другом, и тот приступил к заупокойной. Громко пел мулла. Хорошо пел.
«Бильбили, вильвили, сильвили!» — вспомнила Баджи с пренебрежением.
Она была огорчена, что мулла быстро закончил заупокойную. Она не знала, что нет нужды долго тревожить аллаха из-за бедного человека.
— Пусть дети заплатят мулле из своих денег сами — не то отец в раю может подумать, что они для него поскупились, и омрачит свое райское блаженство, — шепнул дядя Шамси Таги.
— А сколько нужно платить? — спросил Таги озабоченно.
— Сколько дадут, — ответил Шамси с достоинством. — Мулла хаджи Абдул-Фатах — божественный человек, денег ему не нужно, но только издавна порядок такой.
Таги передал Юнусу слова Шамси.
— Нет у меня денег, — сказал Юнус растерянно.
«Мешочек!» — подумала Баджн, и первым порывом было отдать мулле синий мешочек, чтобы отец в раю не думал дурно о ней и о ее брате и не омрачил бы своего райского блаженства. Но ей было жаль расстаться с мешочком, и она медлила.
Таги тронул Юнуса за руку:
— Я заплачу за тебя, Юнус. Я был должен Дадашу.
И Таги внес плату за угол в доме Дадаша, который он, Таги, потерял, а Дадаш обрел спокойный угол в раю.
Перед тем как уйти, мулла обратился к сиротам:
— Ваш отец ушел в сад аллаха, и вы должны теперь слушаться брата его, дядю Шамси, который заменит вам отца. Так велит нам святой коран.
«Вот мой новый отец!» — подумала Баджи и, не зная, к добру это или к худу, вопросительно взглянула на Юнуса, но не прочла в его лице ответа.
— Вы теперь мои дети, — сказал Шамси, оценивал взглядом Юнуса и Баджи. — Баджи будет жить в моем доме. А ты, Юнус, приищешь себе работу, — ведь ты уже почти взрослый.
Баджи заволновалась. Она будет жить в доме дяди Шамси! Там, где зеркала, картины, ковры.
— Я не хочу расставаться с сестрой! — промолвил Юнус хмуро, и Баджи насторожилась: брат становился ей поперек пути.
— Ты едва прокормишь себя самого, — сказал Шамси. — А у меня твоя сестра будет есть досыта, будет спать на мягкой подстилке, в хорошем доме, в тепле. У меня твоя сестра будет играть с моей дочкой Фатьмой, и через три зимы я выдам ее замуж за богатого человека… Вы теперь мои дети, и я сам хотел бы жить с вами не расставаясь, но я боюсь, что не смогу прокормить вас обоих так, как того заслужил ваш покойный отец. Тебе, Юнус, придется поступить на работу.
Юнус молчал. Быть может, правильно говорит Шамси и сестре у этого дяди будет лучше, чем у бедного брата?
«Чего он молчит?» — недоумевала Баджи.
— Слушай, дядя, — сказал наконец Юнус и, сделав шаг к Шамси, взглянул ему прямо в глаза. — Если ты памятью моего отца обещаешь беречь и любить мою сестру, как родную дочь, — клянусь, и я буду беречь и любить тебя, как отца, и все, что ты захочешь, я для тебя сделаю. Ведь твой сын еще маленький, — отец нам рассказывал, — разве не нужен ему верный брат?
— Мулла хаджи Абдул-Фатах свидетель, что я поступлю по совести, — молвил Шамси, приложив правую руку к сердцу.
— Я верю тебе, — сказал Юнус спокойней, и Баджи с радостью поняла, что брат отпустил ее к дяде Шамси.
Шамси отломил кусок халвы и сказал:
— А ты, Юнус, не медли насчет работы — ведь денег после себя твой отец не оставил.
Юнус решился спросить:
— А как же, дядя, с учением?
И, словно ища поддержки, бросил взгляд на муллу.
— Без хлеба учение в голову не пойдет! — ответил мулла хаджи Абдул-Фатах за себя и за Шамси.
Юнус смолк.
«Твой сын будет стройной пальмой!..» — вспомнил он с горечью и, снова подумав о шапочке, понял, что она ему больше не нужна.
Отломил кусок халвы из пшеничной муки с медом и мулла хаджи Абдул-Фатах.
— Я вижу, твоего отца здесь уважали как честного мусульманина, доверяли ему многое, — сказал он, жуя халву. — Ты бы мог помогать у ворот новому сторожу, и если будешь вести себя кротко и безропотно, как твой покойный отец Дадаш — да пребудет он вечно в раю! — тебя будут так же уважать хозяева и через год-два доверят тебе сторожить завод.
«Помогать сторожам из Теймуровой шайки?.. Стеречь добро убийц отца?..» — думал Юнус, перебирая в памяти то, о чем говорили люди у заводских ворот.
— Нет! — сказал Юнус твердо. — Я не хочу помогать стеречь ворота, не хочу быть сторожем чужого добра! Я не хочу жить в Черном городе. Я уйду на промысла!
Мулла хаджи Абдул-Фатах пожал плечами:
— Доброму мусульманину в любом месте должно быть хорошо!
— Вот и отцу теперь в гробу, наверно, тоже хорошо!.. — молвил Юнус с недобрым огоньком в глазах.
Шамси и мулла переглянулись и поднялись с мест.
— О вещах я позабочусь, — сказал Шамси на прощанье, хозяйским взглядом окидывая домашний скарб. Шамси был ближайший родственник, опекун, — именно он должен был взять на себя заботу об имуществе сирот.
Кто мог думать, что Шамси — невольный виновник смерти Дадаша? Да и сам Шамси удивился бы, обвини его кто-нибудь в таком злодеянии. С полгода назад, правда, он заплатил семье кровников выкуп, чтоб сберечь свою жизнь. Разве не вправе обезопасить себя от мести кровников человек, имеющий деньги? Разве кровь мусульман — вода, чтобы ей бесцельно струиться по мостовой, как мутному потоку во время дождя? Ведь святой коран не запрещает откуп за кровь? И вот — кто знает! — не откупись он, Шамси, от кровников — быть может, он сам оказался бы на месте Дадаша. Разумеется, Дадаша нельзя не пожалеть — славный был человек! — но, видно, на то была воля аллаха, что он не дал Дадашу средств откупиться и взял к себе в рай. И если уж так случилось, хорошо, что достойно проводили душу Дадаша в последний путь…
— Сестра, — сказал Юнус, когда все разошлись, — слушай меня хорошо. Я уйду на промысла работать, а ты пойдешь жить к дяде Шамси. Я заработаю деньги на промыслах и скоро возьму тебя от дяди Шамси, и ты будешь жить со мной в хорошем доме — в еще лучшем, чем у дяди Шамси, — будешь сыта и одета и по своей воле выйдешь замуж за хорошего человека.
Сердце Баджи сжалось.
«Ушла мать… Ушел отец… Теперь уйдет брат…» И вдруг ей показалось страшным покинуть насиженное жилище, расстаться с братом, уйти в чужой дом, к чужим, неведомым людям. Она почувствовала себя такой одинокой, как будто брата уже не было здесь. Юнус прочел этот страх в ее взгляде.
— Дядя Шамси тебя не обидит, — сказал он. — А если обидит… — брови Юнуса слились в одну полоску, губы сжались.
В тот же вечер Юнус отвел Баджи к тете Марии и повесил на дверь фирменной квартиры замок — горько ему было оставаться одному в осиротевшем доме. Тетя Мария уложила Баджи на кушетку, бережно укрыла одеялом.
Долго не спали в эту ночь тетя Мария, Саша, Юнус. Сидя за столом, они вспоминали Дадаша, Сару, Филиппова.
— Не было бы войны — может быть, отца и не уволили бы… — сказал Юнус, вздохнув. — Будь они прокляты, эти немцы! — добавил он в сердцах.
— Нет, — возразил Саша, помедлив, — дело не только в немцах.
Юнус удивленно взглянул на Сашу. Тот вышел из-за стола и вытащил из-под коврика, висевшего на стене, сложенный вчетверо листок.
— «Не ищите врагов в чужих странах: враг народа — это царское правительство, — прочел, понизив голос, Саша. — Если вы хотите, чтобы не было войн, чтоб вас не отрывали от семей и родного очага, если вы находите счастье народа в мирной свободной жизни, то поднимитесь против царского правительства! Вас вооружили — обратите оружие против врагов народа. Превратите войну в борьбу за освобождение народа!..»
Это было воззвание Кавказского комитета Российской социал-демократической рабочей партии к рабочим Баку и трудящимся Азербайджана.
— Степан Георгиевич говорил, что так оно и будет, — завершил Саша.
Слишком было необычным то, что прочитал Саша; Юнус многого не понял, но он постеснялся в этом признаться и, невольно протянув к листку руку, произнес только:
— Дай мне эту бумагу, я еще раз почитаю сам.
— Смотри, не показывай ее дурным людям, — предупредил Саша.
Едва проступил утренний свет, Юнус простился с тетей Марией и, задержав свой взгляд на спящей Баджи, попросил отпустить ее к дяде Шамси, когда тот за нею приедет.
Затем Юнус простился с Сашей. У ворог они долго стояли, взявшись за руки, и никак не могли расстаться.
Так на заре ушел Юнус на нефтяные промысла, что лежат между селениями на северном берегу Апшерона и большим шумным городом — на южном.
Юнус уже вышел в степь, а Баджи все еще не размыкала глаз — очень вкусно ела вчера Баджи, очень долго думала она перед сном о гостях, очень мягко было ей спать на кушетке.
Ах, гости! Кого только не было!
Был дядя Шамси, был русский большой начальник, был важный мулла. Были рабочие, жены их, дети. Много, много гостей пришло вчера в дом Дадаша и Сары.
Только самих хозяев не было дома…
Прощай, черный город!
Утром снова приехал Шамси на фаэтоне, и вслед за ним — Таги на арбе.
Шамси ходил по комнате и тыкал палкой:
— Поднос… Палас… Бурка…
И Таги выносил вещи своего бывшего квартирохозяина и друга: поднос, за которым он и Дадаш пили чай; палас, на котором они сидели друг против друга и беседовали; бурку, которой Дадаш разрешил ему укрываться в холодные дни…
Быстро уложен был скарб на арбу, хоть не позабыл Шамси даже мелочи.
— Полезай и ты! — сказал дядя племяннице.
С высоты арбы смотрела Баджи на обитателей дома, пришедших к воротам проводить дочку сторожа. Вот тетя Мария в синем переднике, вот новый сторож из Теймуровской шайки, вот Саша… Женщины с детьми на руках поглядывали на Баджи и перешептывались. Мальчишки сновали возле арбы и фаэтона в надежде прокатиться на запятках. Теперь Баджи не боялась их. Она хотела, чтоб все ее видели. Она хотела, чтоб ее видел Саша, искала его глазами, но он куда-то исчез.
«Он стыдится быть здесь ради меня, потому что я девчонка», — решила Баджи.
Шамси не намерен был затягивать проводы: он тронул палкой плечо фаэтошцика, и фаэтон покатил. Аробщик поднял свой кнут, арба тронулась вслед за фаэтоном. Тетя Мария поднесла к глазам синий передник.
«Чего она плачет?» — удивилась Баджи. Но вдруг ей самой захотелось плакать.
В этот миг из ворот вышел Саша, побежал за арбой.
«Что ему нужно?» — заволновалась Баджи.
Лошадь шла шагом. Саша легко нагнал арбу. Взявшись одной рукой за кузов, Саша другой рукой протянул Баджи маленький сверток:
— Это тебе на память, Баджишка, — не забывай!
Баджи схватила сверток, прижала к груди. Саша остался стоять посреди дороги, махая рукой.
Все меньше становились люди, и крайнее окно возле заводских ворот, и дом, большой фирменный дом.
Баджи проехала мимо номеров, где жили дурные женщины, мимо мазутников, гнущих спину над лужами. Мазутники узнавали Таги и приветствовали его, поднимая высоко в воздух свои тряпки. На углу стоял халвачи и резал халву. Баджи окинула его надменным взглядом: халвы и сладостей у нее будет теперь сколько душе угодно.
Вдруг она вспомнила о подарке Саши. Присев на корточки, она бережно развернула сверток. Книжка, книжка!
Лошадь лениво трусила. Баджи раскрыла книжку и сразу узнала: та самая! Вот солдата ведут в цепях; вот солдат обнимает женщину; вот солдат бросается в воду, а женщина, подняв руки, плачет на берегу. Почему солдат в цепях? Кто ему эта женщина? О чем, подняв руки, плачет она на берегу?
Позади оставались черные, желтые, красные резервуары, желтые, черные, красные трубы заводов, серый закопченный камень домов и оград. Впереди нависал железнодорожный мост — граница заводского района.
Прощай, Черный город!
Большие колеса арбы, громыхая, катились по мостовой. Темя лошади было украшено бахромой из бусин. И на арбе сидела она, Баджи, и никто не прогонял ее, как прогоняли обычно, когда она цеплялась за кузов арбы водовоза, въезжавшей в заводские ворота.
Мечты и сны сбывались.
Приехал в гости дядя Шамси, и толстый важный мулла читал молитвы, и сладкой халвы было сколько душе угодно. И брат держал сестру за руку, и вот она едет с книжкой в руках, как школьница, в большой город, в красивый собственный дом дяди Шамси.
Далеко впереди пылил фаэтон дяди.
Прощай, прощай, Черный город!
Часть вторая Крепость

Отец сказал правду
Баджи сидит на мягком ковре, ест из миски бараний суп.
Справа от Баджи — Ана-ханум, старшая жена Шамси, со своей дочкой Фатьмой, девочкой на год старше Баджи. Слева — Ругя, младшая жена, со своим трехлетним сынишкой Балой. Жены и дети наблюдают, как гостья ест. Так наблюдают обычно за появившимся в доме новым животным — собакой, кошкой.
Поев, Баджи вытирает мякишем хлеба стенки и дно миски. Хорошо накормила ее Ана-ханум, вот бы так каждый день!
— Вымой посуду! — говорит старшая жена, едва Баджи успевает проглотить сочный мякиш.
Из окон стеклянной галереи, нависающей над крохотным квадратным двориком, домочадцы наблюдают, как подле сточной ямы гостья моет посуду.
— Всегда будешь мыть! — объявляет Ана-ханум.
Слышится стук.
Входная дверь в домах Крепости ведет обычно во дворик, через который проходят в дом. Стучат в дверь дверным молотком, колотушкой.
— Спроси — кто? — кричит Ана-ханум из окна: не в обычаях Крепости каждому открывать двери.

Баджи через дверь спрашивает:
— Кто там?
— Таги, — отвечают за дверью.
— Таги! — передает Баджи старшей жене.
— Отопри! — разрешает Ана-ханум.
В полутьме Баджи долго возится со щеколдой.
— Это ты, Баджи! — улыбается Таги, входя в низкую дверь, но Баджи не удостаивает его ответом: она племянница Шамси, ковроторговца.
Таги послан сюда из магазина — за обедом. Он недолго задерживается и уходит с двумя горшочками в руках.
— Запри, Баджи! — приказывает старшая жена и, слыша звук хлопнувшей щеколды, добавляет: — Всегда будешь отпирать и запирать дверь. Только сначала спрашивай: «кто там?» и беги докладывать дяде или мне.
Отпирать и запирать дверь?
Сколько раз, глядя на отца, стоящего у ворот, мечтала Баджи быть на его месте. И вот она сама, как отец, будет теперь отпирать и запирать дверь. Добрая, видать, женщина старшая жена!..
Ана-ханум водит Баджи по комнатам. Глаза Баджи широко раскрыты: ковры, зеркала, на потолке нарисованы картины. Красиво!
Особенно нравится Баджи комната для гостей, убранная на персидский манер, четырьмя коврами: от входа расстилается большой широкий ковер, по бокам тянутся две узкие дорожки, одинаковые по узору и цвету, а поперек этих трех ковров у стены, противоположной входу, постлан небольшой, так называемый главный ковер, место для почетных гостей. Эти четыре ковра представляют собой карабахский «даста́» — единый по стилю ковровый комплект.
— Каждый день будешь чистить эти ковры, — говорит Ана-ханум. — А другие, на которые укажу, засыплешь махоркой, чтоб моль не съела, и снесешь в кладовую. И зеркала будешь вытирать каждый день, и обметать стены и потолок. Дядя любит, когда в комнате чисто. Понятно?
Баджи кивает головой.
— А без дела в его комнату не ходи, — добавляет Ана-ханум.
Чистя ковры, Баджи разглядывает их сложные узоры, гладит рукой нежный ворс. Да, не сравнить эти ковры с выцветшим рваным паласом, едва прикрывавшим щелистый пол в доме отца!
Вытирая зеркала, Баджи развлекается: надувает пузырем щеки, шевелит ушами, тянет к носу язык. Смешно! Разве можно сравнить эти большие сверкающие зеркала с тусклым зеркальцем матери?
Обметая стены и потолок длинной щеткой, тоже можно хорошо позабавиться: похлопать щеткой по толстым задам гурий, потрогать их распущенные длинные полосы. Эти стены, покрытые масляной краской, этот разрисованный потолок — разве можно сравнить их с сырыми стенами, с прокопченным потолком в доме отца?
Спасибо Ана-ханум, что позволила убирать комнаты!..
— Ты уже взрослая, — говорит Ана-ханум, роясь в сундуке. — Некрасиво ходить раскрытой, как лошадь. Крепость — это не Черный город, народ здесь приличный. Я подарю тебе чадру. Какую хочешь — белую или зеленую?
— Зеленую! — отвечает Баджи, и в лицо ей летит лоскут зеленого ситца, выцветшая чадренка с плеч Фатьмы.
Баджи набрасывает на себя чадру, смотрится в зеркало. Хорошо! Совсем как взрослая! Добрая, очень добрая женщина Ана-ханум: нарядила ее в зеленую чадру…
— Спать будешь на галерее, скоро весна, — говорит Ана-ханум, снабжал Баджи подстилкой.
— Мягкая! — говорит Баджи, щупая подстилку.
Вечером, глядя в окно галереи на звездное небо,
Баджи размышляет о своей жизни.
Сытно, красиво, приятно живется ей в доме дяди. Аллах великий! Вечный рай и блаженство да будут с отцом за то, что дал он ей такого дядю!
Ковроторговец
Месяц прожила Баджи в доме Шамси, а он ни разу с ней не говорил. Он даже не замечал ее, смотрел как сквозь стекло.
Кем была Баджи? Девчонкой-сиротой, бедной родственницей, взятой им в дом из милости, по доброте сердца.
А кем был Шамси? Вторым отцом, владельцем дома, ковроторговцем.
— Что такое ковер для мусульманина? — любил рассуждать Шамси вслух, перед другими людьми, или про себя. — Совсем не то, что для иноверца — русского, скажем, или немца, англичанина, американца!
Сам он, правда, не общался с немцами, англичанами, американцами и даже не представлял себе, где эти народы живут: лет пять назад впервые в жизни увидел он географическую карту в древней арабской книге, подаренной ему муллой Абдул-Фатахом. Но от агентов но закупке ковров, обивавших пороги магазинов, он знал, что народы эти любят ковры, хоть и используют их лишь как украшение жилища.
Разве только украшением служит ковер для мусульманина? Нет, разумеется, нет! Для мусульманина ковер — преданный спутник жизни, испытанный друг.
Еще до восхода солнца, когда слышны лишь голоса муэдзинов с минаретов мечетей, правоверный совершает на ковре свою первую молитву. На ковре совершаются трапеза и торговые сделки. На ковре ведет хозяин достойную беседу с почетным гостем и весело болтает с другом. На ковре, в одиночестве, с трубкой в зубах, предается он своим тайным мечтам и на ковре же совершает он последнюю, пятую молитву перед сном.
В пути ковер служит «мафрашем» — вместительным дорожным мешком для одежды и пищи, при верховой езде — «хурджином» — переметной сумой. Безворсовые ковры образуют крыши кибиток и арб, защищая кочевников от непогоды, ветра и дождя. Тяжелые ковры с высоким ворсом необходимы в холодных жилищах, чтобы прикрыть земляной пол и сберечь тепло. Из ковровой ткани делают изящные мешки для хлеба и сумки для различных нужд.
Да разве можно перечислить все случаи жизни, где ковер является другом мусульманину? Беспокойным дитятей ползает мусульманин по шелковистой глади ковра в младенческие годы и седым стариком, вытянувшись, находит на нем вечный покой.
При всем этом ковер остается радостью для глаз, особой утехой для знатоков, к числу которых Шамси справедливо причислял и себя.
В комнате, полной ковров, Шамси с одного взгляда распознавал персидский ковер — по нежности красок, изяществу узора. Слепым нужно быть, казалось Шамси, чтобы вмиг не отличить, скажем, казахские ковры, пушистые и блестящие, от текинских — плотных и матовых. Он с легкостью определял на глаз размер ковра в персидских аршинах и число узелков в квадрате, густотканность ковра. И хотя принято было считать, что персидский ковер, как говорится, «шах ковров», Шамси не меньше ценил красоту отечественных изделий. Взять, к примеру, кубинский ковер из селения Чичи, где ткали тонкий узор-крошку, или из селения Пиребедиль, где узор составлялся из очертаний цветов, растений, птиц и животных. До чего же красивы были эти ковры! Красота их раскрылась перед Шамси с особенной силой после того, как он сам, скупая ковры, побывал несколько раз в Кубинском уезде. Богатые леса и сады с разнообразной растительностью окружают селения ковроделов, — Шамси доводилось бывать там в пору весеннего цветения деревьев и осеннего листопада — и весь мир открылся ему, жителю серой Крепости, в красках. После этого, когда он смотрел на ковры из кубинских селений, ему казалось, что мир, представший перед ним в цветении деревьев и в ярком листопаде, перешел на ковры. И он понял, что многие из узоров справедливо называются «цветком яблони», «белой розой», «красной розой», «павлином», «джейраном».
«Искусные ковроткачихи в наших краях», — восхищался Шамси.
Но, правду сказать, еще больше, чем красота, привлекала Шамси в коврах прибыль, которую из любого ковра, при умении, легче выбить, чем пыль. Аллах, как известно, благословляет прибыль с торговли. Шамси умел дешево скупать ковры у ковроделов, в глуши далеких селений, и прибыльно продавать у себя в магазине. Быстрой сменой ковров, набрасывая один на другой, умел он утомить, сбить с толку покупателя и под конец подсунуть и сбыть ковер, который покупатель и не думал приобретать. Особенно ловко проделывал он это с теми, кто мало разбирался в коврах. Что ж, так им и надо!
Шамси не любил, хотя уважал покупателей-знатоков. Часами просиживали они у него в магазине, не спеша разглядывая и откладывая в сторону приглянувшиеся ковры. Нередко такой покупатель посылал слугу в ближайшую чайную и, распив с хозяином пузатый фарфоровый чайник, вновь принимался разглядывать и откладывать в сторону ковры уже из числа отобранных. Такой отбор производился порой по нескольку раз; случалось, знаток уходил вечером, так ничего и не купив, и вновь приходил на следующий день, с утра. Много было возни со знатоками, но Шамси не торопил их, потому что бесцельно было их торопить, и потому что торопливость — мать многих бед. Ко всему, Шамси знал: тот, кому приглянулся ковер, вернется и заплатит сколько ни спросят, потому что любовь к красоте вещей бывает у иных людей еще сильнее, чем любовь к женщине…
Шамси помнил время, когда большая часть городских домов находилась в пределах крепостных стен, а от отца своего, тоже ковроторговца, слышал он и о том времени, когда вне этих стен и вовсе не было домов.
За последние десятилетия город сильно разросся, и то, что некогда составляло древний Баку, стало лишь частью большого нового города — Крепостью, как ее теперь называли из-за сохранившихся крепостных стен. Стены эти крепко держали старый город в полукольце на западе и на севере, но с востока и юга им пришлось открыть путь к прибрежным улицам нового города, к морю.
Улицы в новом городе были, по сравнению с крепостными, прямые, широкие. Звенела конка, цокали по мостовой быстрые кони фаэтонов, изредка пролетал, гудя и обдавая прохожих пылью, одинокий автомобиль. Дома в новом городе были большие, высокие, и — что всего забавней казалось Шамси — не было надобности самому плестись но лестнице в верхние этажи: огромные ящики с зеркалами и бархатными сиденьями поднимали вверх по нескольку человек сразу.
Многие полюбили новый город, но Шамси остался верен старому.
В узких кривых переулочках и тупиках старой Крепости Шамси чувствовал себя спокойней. От дедов к отцам и сыновьям шла молва, что Крепость издревле спасала своих обитателей от врагов-иноземцев; эти кривые переулочки и тупики сопротивлялись даже тогда, когда высокие внешние стены Крепости уступали напору вражеских полчищ: защищать свою жизнь и добро здесь было легче, чем на широких просторах.
В Крепости целы были древние святые мечети, насчитывавшие сотни лет существования, и на заре здесь, казалось Шамси, чище звучал призыв муэдзинов к молитве. Здесь высилась Девичья башня, овеянная легендой, находился дворец ширван-шахов — древних властителей края, — ныне уже опустевший, полуразрушенный. Здесь, казалось Шамси, витал добрый дух мусульманства и старины.
В последние годы, правда, стали проникать в Крепость иноверцы. Шамси косился на чужаков, нарушающих своим чуждым говором и образом жизни этот добрый дух мусульманства и старины. Верно, и мусульмане в последние годы стали селиться далеко за пределами Крепости, в нагорной, северо-западной части города, а некоторые — прямо в гуще чужаков-иноверцев. «Но, скажите сами, — рассуждал Шамси, — что может быть хорошего от смешения местожительства народов? Ничего, ровным счетом ничего!» — сам отвечал он на свой вопрос и приводил доводы: все в этом мире имеет свое место; птица — в воздухе, рыба — в воде, зверь — в лесах и в пустынях.
Иногда он думал об азербайджанцах-нефтепромышленниках, богачах, селившихся в последние годы на новых улицах, в новых домах с большими окнами, с широкими общими входами, куда мог войти любой прохожий. Хотел бы он поселиться в таком доме? По правде говоря — нет! Камень тяжел на том месте, где он лежит. Конечно, Шамси хотел бы владеть десятой и даже сотой долей того, чем владел каждый из этих людей, он уважал их за богатство, но в глубине души не совсем одобрял их образ жизни — то, что встречались они в «Общественном собрании» с иноверцами, открыто пили вино, ели свинину, набирались чуждых привычек. Сам он предпочитал добрый старый уклад, по заветам отцов, в искривленных переулках и тупиках, в тесноватом, быть может, но истинно мусульманском доме; окна такого дома невелики, и узкая дверь раскрывается гостеприимно лишь для хорошего человека, родственника или друга, ибо дом твой, как справедливо говорится в пословице, — тайна твоя…
Шамси бодро шел по стезе аллаха, благословляющего прибыль с торговли, и мало-помалу преуспевал.
Война затронула благополучие Шамси.
Разрушены были многие ковроткацкие хозяйства, уменьшилось количество рабочих рук в селениях, на убыль пошло овцеводство, поднялись цены на грубую шерсть, которую стало усиленно спрашивать военное ведомство. Война оборвала связь Закавказья с международным рынком, сократила вывоз ковров, и те страны, названия которых — Германия, Англия, Америка — становились для уха Шамси столь же привычными, как Персия, Турция, Дагестан, вдруг снова оказались далекими и недоступными. Агенты посылали ковры кружным путем, через неведомый доселе Архангельск и даже через Владивосток, — но ковровый поток, бежавший с Закавказья долгие годы бурно и весело, неумолимо мелел с того жаркого летнего дня, когда была объявлена война.
Шамси встревожился: гибло любимое дело, он стал терпеть убытки.
Однако всякая палка, как говорят, о двух концах. Война действительно нанесла удар ковровому делу, но вместе с тем с ней открылся простор для поставок шерсти военному ведомству. И, поскольку Шамси был не в силах предотвратить удар, обрушившийся на ковроторговлю, он обратил свое внимание на поставку шерсти. Он хорошо знал все сырьевые районы и в поставках стал преуспевать, пожалуй, не меньше, чем прежде в ковроторговле.
Изредка, правда, он тосковал по любимому делу, но он лелеял надежду на то время, когда торговля коврами будет давать доходы более щедрые, чем торговля неуклюжими тюками шерсти, которых было немало теперь в его магазине, и до поры до времени утешался прибылью от поставок.
Вот какой человек был Шамси — почтенный, умный! Не глупей, пожалуй, многих персидских купцов с набережной.
А кем была Баджи? Девчонкой-сиротой, бедной родственницей, взятой им в дом из милости, по доброте сердца. О чем было ему говорить с ней?
Жены
Старшая и младшая жены живут в отдельных комнатах: Ана-ханум — с дочерью, Ругя — с сыном. У каждой есть много платьев, подушек, безделушек. Ни старшую, ни младшую жену Шамси не обделил.
Но стоит им встретиться, как завязывается перебранка.
— Всюду суешь ты свой нос! — ворчит Ана-ханум на Ругя. — Солдатская девка! Чтоб ты сгорела, проклятая!
— Старая ведьма! — огрызается Ругя, выведенная из терпения.
Глаза Ана-ханум суживаются.
— Эх ты, Семьдесят два! — брезгливо отплевывается она.
Баджи слушает.
Солдатская девка? Чтоб ты сгорела, проклятая? Так принято браниться, и брань эта не удивляет Баджи. Старая ведьма? Баджи уже убедилась, что в этом есть доля правды, хотя Ана-ханум всего сорок шесть лет. Но при чем тут «Семьдесят два»?
Позже Баджи узнала, в чем смысл этих слов.
Несколько лет назад, в одну из обычных поездок за коврами — на этот раз в Елисаветпольскую губернию — Шамси посетил знакомого ковродела. В мастерской, сидя на полу за станками, работали пять женщин. Завидя незнакомого мужчину, они натянули на себя платки, не слишком, правда, поспешно: деревенской женщине, работающей не покладая рук, трудно соблюдать закон с такой строгостью, с какой соблюдает его городская купчиха.
Шамси успел разглядеть одну из работниц, ткавшую большой ковер. Это была девушка лет пятнадцати, широколицая, полная, с большими живыми глазами, лукаво выглядывающими из-под платка. Шамси вспомнил сухощавую фигуру Ана-ханум и огладил бороду. За угощением после ковровой сделки он выпытал у хозяина, сколько тот платит ковроткачихам и кто эта девушка, ткущая большой ковер. Она оказалась дочерью бедного крестьянина, посылавшего ее на работу к ковроделу-хозяину. Несмотря на юные годы, она славилась в селении как искусная мастерица.
Шамси пришел к отцу девушки.
— Зачем твоей дочери получать один рубль в месяц и работать от зари до зари? — сказал он. — Отдай мне ее в жены, и я дам тебе по два рубля в месяц за три года вперед. У меня она будет целый день валяться без дела и сытно есть — как ханская дочь. Аллах не обделил меня достатком, я сразу выложу тебе семьдесят два рубля.
Десять ртов в семье крестьянина просили есть, и вот судьба посылает ему счастье: одну из дочерей можно выдать за городского ковроторговца и получить вдобавок семьдесят два рубля сразу. Когда еще заработает дочь такие деньги, получая по рублю в месяц? Не дожить! Но крестьянин знал, что купцы обычно обманывают крестьян, и сказал просительно:
— Позволь мне, уважаемый, подумать до конца месяца, и я дам тебе ответ.
До конца месяца оставалось дней десять, хотелось Шамси поскорей привезти к себе в дом молодую жену. Но он не забывал, что торопливость — мать многих бед.
— Подумай, — сказал он покладисто, — подумай. И если надумаешь, скажи об этом мулле — пусть он напишет «кебин», брачный договор.
В тот же день Шамси уехал домой. Он был уверен в согласии крестьянина и перед отъездом поручил своему давнишнему знакомому, местному человеку, заключить от его, Шамси, имени брачный договор: святой коран, как известно, не требует, чтобы при заключении брачного договора непременно лично участвовал будущий супруг — достаточно поручить это дело доверенному лицу.
Семьдесят два рубля — не малые деньги для бедного елисаветпольского крестьянина, и он, как и предвидел Шамси, отдал свою дочь Ругя в жены ковроторговцу.
В ближайшую поездку Шамси увез в город вместе с коврами и девушку. Он был втрое старше своей второй жены и уже мало уделял внимания женщинам, но вторая жена была юная и цветущая, щеки — кровь с молоком: шерстяная пыль ткацкой еще не успела осесть в легких и уничтожить румянец. Зубы у Ругя были белые, глаза веселые — даже старик молодеет с такой женой! Не сравнить было младшую жену со старшей, хотя старшая и отплевывалась брезгливо:
— Эх ты, Семьдесят два!
Не нужно думать, что Ана-ханум считала позорным самый факт купли-продажи Ругя. Дело было не в этом: она считала, что позорно ничтожна лишь сумма в семьдесят два рубля и что, здраво рассуждая, хорошую жену за эту сумму не приобрести. За нее самое еще лет тридцать пять назад, когда она была девочкой, свекор выложил триста рублей, с тем чтоб она вышла за его сына, Шамси, когда ей станет пятнадцать. Впрочем, это было вполне естественно — ведь она была дочерью почтенного городского торговца, а не мужика, и муж, приобретая такую девушку в жены, также приобретает себе в качестве тестя, как говорится, жирного петуха, а не жалкого червяка, с утра до вечера бесплодно роющегося в земле.
Шамси сдержал слово, данное крестьянину, и не неволил Ругя к работе. Говорят, что работа убивает женскую красоту, хватит с него одной некрасивой жены! Наконец неудобно перед людьми: узнают, что жена торговца ткет ковры для продажи, как простая работница, — подорван будет его авторитет купца, и сам хозяин низведен будет в глазах покупателей на уровень кустаря-ковродела, вся семья которого занята в производстве. Конечно, незачем младшей жене работать!
Но Ругя с малых лет привыкла к станку, ей было скучно целыми днями сидеть без дела, слоняться по комнатам. Нет в Крепости деревьев, цветов, гор, ничто не радует глаз. Однажды Ругя заявила Шамси, что хотела бы ткать не для продажи, а для себя, для развлечения. Шамси поразмыслил. Для себя? Что ж, с этим, пожалуй, можно согласиться, лестно иметь жену-искусницу, ткущую для утехи мужа; вытканным ею ковром можно похвастаться перед другом, перед почтенным гостем, перед покупателем-знатоком.
Нередко, когда Ругя сидит на полу за станком и ткет, Баджи становится позади и наблюдает, как мягким движением завязывает Ругя узелок, как уверенно приколачивает колотушкой ряд за рядом, как ровнехонько подстригает ножницами концы узелков, создавая ворсистую поверхность ковра. Баджи следит, как вплетаются в основу ковра узелок за узелком, ряд за рядом и как растет на основе рисунок ковра. Обычно Ругя ткет молча, сосредоточенно, не обращая внимания ни на юлящего подле нее Балу, ни на Баджи, внимательно наблюдающую за работой. Но иногда Ругя неожиданно оборачивается к Баджи и, как бы ища одобрения, отрывисто бросает, водя рукой по поверхности ковра:
— Миндаль…
— Рыба…
— Павлин…
— Цветок яблони…
Баджи вглядывается в узор и находит в нем очертания миндаля, или рыбы, или красивой птицы, или даже цветов яблони, которых она никогда р жизни не видала.
— Спелись, как видно! Парочка! — разносится по дому ворчливый голос Ана-ханум, снующей в поисках Баджи.
Мастерство Ругя, как, впрочем, и многое другое в младшей жене, было предметом зависти старшей. Ана-ханум ревновала Шамси к Ругя, считала, что та отняла у нее любовь мужа. Гордость женщины не позволяла ей видеть истинную причину охлаждения Шамси: она не хотела понять, что по летам годилась Ругя в матери; что, смолоду не отличаясь красотой, она с годами и вовсе стала нехороша; что она была сварлива, злопамятна; что ее соперница, напротив, была молода и свежа, обладала добродушным нравом. Охлаждение мужа Ана-ханум приписывала воображаемым козням Ругя, умению той подделаться к Шамси, выслужиться своим мастерством.
Это не значит, впрочем, что Ана-ханум осуждает хитрость. Напротив, она часто поучает свою дочь, подобно тому как некогда ее самое поучала мать:
— Если у женщины нет мешка золота, ей нужно иметь два мешка хитрости.
Два мешка хитрости!
Ана-ханум тоже садится за Станок.
«Хочет, видно, подладиться к Шамси», — понимает Баджи.
Ковер у Ана-ханум получается плохой — ряды неровные, краски грубые, то тут, то там зияют плешины. Шамси кривится. Ана-ханум ловит насмешливую улыбку Ругя. Посмеивается про себя и Баджи: «Вот тебе два мешка хитрости!»
Ана-ханум не сдается: «Эта мужичка нашла путь к сердцу Шамси, угодив его глазу. Что ж, и я знаю верный путь — угожу его чреву!»
Ана-ханум и прежде вкусно готовила, но с этих пор весь свой пыл увядающей женщины она посвящает искусству кулинарии.
В зимние дни в глиняном изящном горшочке золотится перед Шамси бараний суп, приправленный шафраном. Тают во рту разваренное мясо и фасоль. Кровь быстрее бежит по жилам после того, как съешь такой горшочек «пити». Летом прекрасно охлаждает довга́ — кислое молоко с мелко накрошенной зеленью. А плов, равно желанный летом и зимой! Плов с курицей, с бараниной, с сушеными фруктами, из лучшего «ханского» риса, ни одна крупинка которого не склеивается с другой. Блаженство рая испытывает чревоугодливый Шамси, получая все эти блага из рук Ана-ханум. Он даже прощает ей ее годы, худобу, сварливость.
«Два мешка хитрости!» — восхищается Баджи.
Кухонные дела Ана-ханум хранит в тайне: она опасается, что Ругя выведает ее секреты и сама займется стряпней. Старшей жене мерещится, что соперница готова подсыпать ей в кастрюльку песок, подбросить мыло. Аллах упаси войти в кухню, когда Ана-ханум готовит! Даже помощницу свою, Баджи, она выгоняет из кухни в особо важные минуты стряпни. Правда, она считает, что Баджи не посмеет сделать что-нибудь злое и вряд ли поймет, в чем секрет того или иного блюда. Но опасен дурной глаз девчонки — известно, как завистливы слуги и бедняки. «Нищие да не глядят на богатства, которыми аллах одаряет избранников», — разве не так учит пророк?..
По четвергам жены Шамси идут с детьми в баню.
У мужчины, если он хочет развлекаться вне дома, есть чайная, мечеть, магазин. А что есть у женщины, кроме бани?
Готовятся к походу спозаранку, наряжаются в лучшие платья — где, как не в бане, можно себя показать во всей красе, и на людей поглазеть, и посудачить? Кроме того, непристойно женам ковроторговца являться в баню налегке, словно только затем, чтобы вымыться, как женщинам из простонародья.
Ана-ханум старается нарядить и Фатьму: двенадцать лет дочке, скоро невеста. А мало, что ли, злых языков в бане? Разнесут слух по всей Крепости, что дочь ковроторговца Шамси одета как нищенка — кто после этого возьмет девку в жены?
Баджи наблюдает, как тщательно наряжает Ана-ханум свою дочку. Красивое платье! Самой Баджи, видно, придется пойти в том, в чем она ходит обычно — в обносках с плеча Фатьмы. Внезапно в лицо ей летит кофточка Фатьмы.
— Платье слуги — зеркало платья хозяина! — изрекает Ана-ханум. — Напяливай скорей!
Женщины идут по крепостным переулкам установленным строем — гуськом: впереди, как полагается, старшая жена, за ней — младшая, затем — Фатьма и, наконец, замыкая шествие, с тазами, бельем, банными принадлежностями на голове — Баджи.
Ана-ханум старательно кутается в чадру. Время от времени она неожиданно оборачивается и строго оглядывает спутниц — хорошо ли они скрыты от посторонних взоров? Кокетливая Ругя доставляет ей много забот: едва ступив на улицу, она стремится хотя бы мельком показать свое веселое лицо прохожим мужчинам — приятно, блеснув живыми глазами, поймать ответный взгляд и тут же лукаво прикрыться чадрой.
«Видно, считают ее красивой!» — думает Баджи, замечая, как оборачиваются мужчины вслед Ругя, оглядывая ее плотную фигуру.
— Вот скажу про твои проделки Шамси, тогда узнаешь, как вести себя! — грозит Ана-ханум младшей жене. Она не может успокоиться: странный народ эти мужчины — этакую деревенщину предпочитают ей, Ана-ханум, дочери и внучке городского купца!
— А ты еще, видно, рассчитываешь понравиться и стать невестой, что так кутаешься в чадру! — иронизирует в ответ Ругя: она намекает на то, что шариат — закон писаный — не осуждает, если чадру снимает старая женщина, уже не рассчитывающая вступить в брак.
— Замолчи ты, чертова мастерская! — шипит Ана-ханум, имея в виду предание о том, что бог научил человека полезным занятиям и ремеслам, а черт — праздному тканью узоров. Исстари узорное ковроткачество рассматривалось как неугодное богу занятие, а ковровый станок с принадлежностями назывался чертовой мастерской; с течением времени, правда, отношение к ковроткачеству изменилось, но пренебрежительное «чертова мастерская» сохранилось.
Всю дорогу жены грызутся. Слепые птицы, на миг выпущенные на волю, они злобно клюют друг друга, не видя неба, солнца, людей…
Наконец все четверо в бане.
Ана-ханум наливает в таз горячую воду и вновь затевает перебранку с Ругя. В пылу ссоры она роняет таз, окатывает себе ноги горячей водой.
— Баджи! — пронзительно визжит она. — Тащи скорей холодную воду! Я горю!
Баджи хватает таз и мчится к крану за водой, но ее оттесняют другие женщины. Сквозь громыхание тазов, плеск воды, шум голосов слышатся вопли Ана-ханум. Наконец Баджи удается набрать воду и плеснуть на ноги Ана-ханум.
— Из-за вас все это — из-за тебя, Семьдесят два, и из-за твоей прислужницы… — хнычет Ана-ханум, разглядывая свои побагровевшие ноги. — Чтоб вы сгорели, проклятые!
Ругя в ответ кивает на ноги Ана-ханум и смеется:
— А ты уже горишь!
Ана-ханум приходит в ярость, хватает таз.
— Вот ошпарю вас обеих кипятком, тогда увидим, кто раньше сгорит!
Ругя и Баджи с визгом бросаются в стороны. Веселый день — четверг! В другие дни Шамси прикрикивает на жен, если они уж слишком расходятся; в другие дни соперница может улизнуть в свою комнату и уклониться от схватки. Но в четверг по дороге в баню и в самой бане — раздолье, в четверг, накануне помой пятницы, можно сцепиться с соперницей так, как она того заслуживает, и отвести душу!..
Обе жены от природы неглупы и в вечных ссорах, мелкой грызне изощряются до тонкостей.
Баджи внимательно слушает жен, старается запомнить брань, колкости, насмешки: ведь все это, помимо хитрости, — оружие в жизни женщины. Когда-нибудь придется самой Баджи стать женой и воевать с женой-соперницей, а может быть, и не с одной. Когда-нибудь? Разве не слышала она своими ушами обещание, данное дядей Юнусу, — выдать ее замуж через три зимы?
Мулла Абдул-Фатах
Вкусно кормит мужа старшая жена, но объелся он вкусной пищей, болеет животом.
Пять дней не ходит Шамси в магазин, лежит в большой комнате, ест клейкий разваренный рис, пьет крепкий чай. Не помогает. Худо ему. Надо позвать муллу Абдул-Фатаха — может быть, хаджи поможет ему доброй молитвой.
Шамси посылает Баджи за муллой.
— Эй ты, черногородская! — кричат мальчишки, едва Баджи выходит со двора.
«Откуда знают? — удивляется Баджи. — От Таги, что ли?»
В том, что она из Черного города, Баджи не видит ничего предосудительного. Но она понимает, что крепостные мальчишки хотят унизить ее и оскорбить, и принимает вызов — показывает им язык.
В ответ несутся свист, улюлюканье — совсем как в Черном городе! Мальчишки делают непристойные жесты. Что ж, она не останется перед ними в долгу! Баджи снова показывает язык. В ответ летят палки, камни. Теперь нужно пуститься наутек. Чадра развевается за спиной Баджи, как парус. Вихрем влетает Баджи во двор дома, где живет мулла хаджи Абдул-Фатах.
— Ты, кажется, родственница Шамси-ковроторговца? — спрашивает Абдул-Фатах, вглядываясь в раскрасневшееся лицо Баджи.
— Я его племянница, сирота, — говорит Баджи, едва переводя дух, но гордая тем, что мулла узнал ее.
Абдул-Фатах вспоминает Черный город, убогую комнату, где он отслужил краткую заупокойную по убитому сторожу, родственнику его друга Шамси.
— А брат твой где? — спрашивает Абдул-Фатах: он помнит также, что в русско-татарской школе учился у него сын покойного сторожа, высокий красивый юноша по имени Юнус.
— Деньги зарабатывает на промыслах, — отвечает Баджи. — Будет скоро богатым.
— Неплохо!
Они проходят мимо мечети.
Баджи задирает голову, скользит взглядом вверх по минарету, разглядывает балкон с барьером из каменных резных плит и ленту древнего куфического шрифта, опоясывающую минарет. Красив минарет, уходящий в голубое небо, быть может красивее, чем заводские трубы!
— Это мечеть Сынык-кала, — говорит Абдул-Фатах, следя за взглядом Баджи.
Мечеть Сынык-кала — древнейшая в Баку, ей около тысячи лет. Два века назад, во время осады города войсками Петра Первого, часть этой мечети была разрушена бомбами. Со временем мечеть отстроили, но название Сынык-кала, то есть разрушенная, сохранилось.
Помедлив подле мечети, Абдул-Фатах скорбно добавляет:
— Все мы сироты среди неверных, разрушителей наших мечетей. Только и норовят неверные обидеть мусульманина.
Зачем беседует мулла хаджи Абдул-Фатах с Баджи, с девчонкой? Он считает, что правильное слово, даже случайно запавшее в душу человека, дает добрый плод. Так мертвая с виду плодовая косточка, небрежно брошенная путником в придорожный песок, с годами становится пышным деревом, плодами и тенью которого наслаждается другой путник. От добра не может про-изойти зло, равно как от зла — добро. Мулла хаджи Абдул-Фатах хочет сеять добро и справедливость.
Разве вся его жизнь не доказательство тому?
Тридцать лет назад юноша Абдул-Фатах с успехом окончил в Баку медресе — духовное училище. Отец его, умный и состоятельный человек, видя, что сын преуспевает в науках, направил его в путешествие по Ближнему Востоку — пусть совершенствуется там в знании слова аллаха; закавказские муллы, считал отец, бедны знанием и благочестием; в мусульманских странах муллы, наверно, иные.
Молодой Абдул-Фатах пожил в Турции, побывал в Египте, в Персии, посетил дорогие для мусульман города Геджаса — священную Мекку, родину пророка, город, куда запрещено ступать христианам и иудеям, и Медину — место последнего упокоения пророка. Благочестивый молодой человек преклонил колена у могил, трогающих мусульманское сердце, у могилы праматери Евы, в Джедде, и у могилы Хадиджи, жены Магомета.
И так как он был не только магометанин, но и шиит, он посетил также и Кербалу, где был убит Али, зять Магомета, и Мешед, где находится могила убитого и выстроенная в его честь прекраснейшая мечеть. С той поры Абдул-Фатах получил право именовать себя не только «хаджи» — как посетивший Мекку, но также «кербалай» и «мешеди» — как посетивший Кербалу и Мешед.
Звания эти, правда, можно было получить, не только лично посетив священные места, но и пожертвовав известную сумму денег, как и поступали многие состоятельные люди, мирские дела которых не позволяли совершать длительные паломничества ради спасения души. Отец Абдул-Фатаха не пожалел бы для сына средств, но сын в ту пору мечтал заслужить все эти почетные звания не за деньги, а своим благочестием — личным посещением священных прославленных мест.
Путешествуя по святым местам Ближнего Востока, Абдул-Фатах видел не только слезы умиления, но и слезы бедности и унижения, бесправия, несправедливости. И так как сердце у него было от природы чувств тельное, он печалился и предавался горестным, но бес плодным размышлениям.
Однажды он примкнул к группе паломников мусульман и услышал от одного проповедника, что все беды мусульман происходят от иноверцев, главным образом от христиан. Спасение, возглавил тот в экстазе, в единении всех мусульман мира под знаменем ислама против иноверцев. Зеленое знамя развевалось над головой проповедника, и все паломники как один совершили намаз в знак единения. Слова проповедника словно открыли Абдул-Фатаху глаза. И молодой Абдул-Фатах с этого дня решил, что ислам — это не только вера в единого аллаха, исповедание и обрядность, но и сила, которую можно и должно направить против врагов.
Абдул-Фатах прожил на Ближнем Востоке несколько лет. Он окончил высшее духовное заведение в Константинополе, основательно изучил турецкий и персидский языки. Он заглядывал в книги не только духовного содержания — он охотно читал арабских историков, персидских поэтов, так мудро воспевших красоту жизни, и даже переводившиеся в последнее время на турецкий язык французские романы.
Когда Абдул-Фатах вернулся домой, отечественное духовенство показалось ему провинциальным и узким: косные муллы цеплялись за каждую букву ислама, упуская из виду то, в чем убедил Абдул-Фатаха проповедник с зеленым знаменем и что представлялось ему теперь живым духом ислама. Став приходским муллой, Абдул-Фатах ревностно принялся за проповедь, призывая свою паству к единению со всеми мусульманами мира, против иноверцев.
В бакинском губернском жандармском управлении были осведомлены о панисламистской проповеди муллы Абдул-Фатаха и занесли его в список неблагонадежных мулл. Обстоятельство это вскоре стало известно Абдул-Фатаху, и хотя оно не приносило ему никаких бед и даже неприятностей, оно, тем не менее, наполняло его внутренней гордостью, окружало в собственных глазах ореолом мученика за правое дело ислама.
Шамси при появлении своего друга, хотя и больной, встает и почтительно ждет, пока тот усядется на главном ковре.
Баджи остается за дверью и слушает. Подслушивание в доме Шамси — обычное явление: выходить женщине к гостям не полагается, а любопытство, как известно, не дремлет.
— Болею животом, — говорит Шамси после обмена приветствиями. — Очень вкусно кормит меня Ана-ханум, нет сил отказаться.
— Аллах поможет! — говорит в ответ Абдул-Фатах. — Добрые дела помогут.
Добрые дела? Так всегда принято утешать больных, и никакого особого значения Шамси не усматривает в словах своего друга.
— Что слышно в городе? — спрашивает больной. — Пять дней не вижу света божьего.
— Да вот все терзаем свое сердце насчет постройки мечети, — говорит Абдул-Фатах вздыхая.
— Какой мечети?
— Помнишь, лет семь назад задумали строить мечеть на углу Станиславской и Балаханской улиц, на месте старого мусульманского кладбища, недалеко от Рождественской церкви? Проект был утвержден давно. Я видел эту мечеть на бумаге — красивейшее здание, не хуже стамбульской Айя-Софии! Сердце мое радовалось. Но вот пришла тогда бумага от градоначальника о том, что запрещается собирать пожертвования на постройку этой мечети. Никак не могли мы понять, почему? Только недавно узнали, что все это дело рук священника, отца Александрийского: написал градоначальнику, что непристойно церкви иметь по соседству мечеть.
— Дал бы ему аллах мою болезнь живота на всю жизнь! — бормочет Шамси: присутствие муллы хаджи Абдул-Фатаха всегда настраивает его на праведный лад.
— Но вот теперь, — радостно говорит Абдул-Фатах, — мы дали кому следует подарок и вновь добились разрешения собирать пожертвования.
«Так вот куда гнет мулла, говоря о добрых делах и заведя весь разговор о постройке мечети!» — соображает Шамси. И, как всегда, когда речь заходит о пожертвованиях, Шамси становится медлителен и хмур. Он готов сообщить Абдул-Фатаху, что сегодня ему уже легче и что завтра с утра он будет в магазине.
— Добрые дела не только спасают от болезни, но и отдаляют от смерти.
Шамси понимает, что приперт к стене.
— Запиши за мной один рубль, — говорит он, вздыхая. Он уж не рад, что пригласил муллу: даже друг норовит вырвать у него деньги!
Выйдя на улицу, Абдул-Фатах чувствует, что кто-то трогает его за рукав абы.
— Вот тебе, хаджи, на постройку мечети, — говорит Баджи, суя ему в руку свой синий мешочек с копейками. — В память отца моего, Дадаша, и матери, Сары…
Лицо ее печально.
— Два ангела сидят на плечах человека и записывают его дела, — изрекает растроганный Абдул-Фатах. — Ангел на правом плече записывает добрые дела, на левом — дурные. — Мулла кладет руку на правое плечо Баджи. — Правый ангел да запишет тебе, дочка, твой добрый поступок!
Теперь Баджи сияет: правый ангел запишет ей добрый поступок. Может быть, она будет святой, как Укейма-хатун, дочь восьмого имама Ризы, к могиле которой она ходила с матерью, и когда она, Баджи, умрет, к ее могиле будут ходить за исцелением больные женщины. Баджи хочется догнать муллу хаджи Абдул-Фатаха, божественного человека, сказать ему спасибо, но тот уже далеко. В узких кривых переулочках Крепости прохожие уступают мулле дорогу, почтительно кланяются ему.
Придя к себе домой и сытно пообедав, Абдул-Фатах вспоминает, как много лет назад, в Тегеране, разговорился он однажды в чайной с одним дервишем и тот сказал: «Чтобы спасти муравья, попавшего в таз с водой, нужна не сила, а способ!»
Умно сказал дервиш! Разве не так же нужно действовать с сердцем мусульманина? Чтобы спасти его, нужна не сила — нужен лишь способ.
Способы эти мулла Абдул-Фатах умел находить и применял с немалым успехом. Но в этот день он превзошел себя: даже глупое сердце девчонки раскрылось от его слов! Да, мертвая с виду плодовая косточка, небрежно брошенная в песок, может стать пышным деревом…
Часто болеет Шамси животом и посылает Баджи за своим другом муллой хаджи Абдул-Фатахом. И всегда Баджи жадно ловит слова муллы, ибо тот умеет заставить слушать, и всегда мулла сетует на горькую судьбу мусульман, и всегда, но сто словам, во всем виноваты неверные, русские.
Иногда Баджи спускается в подвал. Там среди рухляди спрятан заветный подарок Саши. Украдкой прижимает Баджи книгу к груди. Давно лежит эта книга в подвале дома Шамси, в старой Крепости, и в голове Баджи живет воспоминание, как едет она, Баджи, на арбе, и как возле ворот утирает фартуком слезы тетя Мария, и как догоняет арбу Саша со свертком в руке. И не знает Баджи, верить ли ей словам Абдул-Фатаха о русских: стыдно ей дурно думать о том человеке, кого уважал и любил ее отец, как старшего друга; стыдно ей дурно думать о юноше, которого обнимал ее отец, как сына, с кем мирно играл ее брат, кто подарил ей книгу; стыдно ей дурно думать о той, что кормила ее и укрывала своим одеялом, как добрая мать.
«Пять хромых»
Ана-ханум в добром расположении духа.
— А ну, Баджи, повесели нас! — приказывает она.
Повеселить? На это Баджи всегда готова: веселя других, можно и самой повеселиться. Шамси нет дома. Ох, и рассмешит же она всех, угодит матери-госпоже!
Женщины садятся на ковер полукругом, требуют наперебой:
— Внутри ковра!
— Верблюда!
— Пять хромых!
Баджи устраивает низенькую ширму из старого «намазлыха» — молитвенного коврика, ложится на ширмой на спину и с помощью рук и колен, обмотанных разноцветными тряпками, разыгрывает забавные сцепки с четырьмя персонажами. Этой забаве, носящей на тайне «внутри ковра» — своего рода «петрушке», научила дочку Сара незадолго до своей болезни.
Женщины одобрительно кивают головой, восхищенно хлопают в ладоши…
Баджи уходит в соседнюю комнату, с лихорадочной поспешностью мастерит верблюжью голову из сковородки и привязанных к ней ложек. Затем она становится на четвереньки, прикрывается платком и образует нечто похожее по фигуре на верблюда. В таком виде Баджи вползает в комнату, где с нетерпением ждут ее женщины, и величественно выступает, подражая движениям верблюда. Пожалуйста, вот вам верблюд!
Восторг охватывает зрителей. Они кричат, визжат, смеются.
Однако самый любимый номер программы — «пять хромых». Баджи оставляет его напоследок.
Пять видов хромоты изображает Баджи. Смотрите, как переваливается с ноги на ногу малыш-толстяк, вроде шалуна Балы. Глядите, как волочит ногу разбитый параличом старик сосед. Обратите внимание, как ковыляет, стуча костылем, калека-нищий. Смотрите, смотрите, как, поджав подбитую лапу и визжа, подпрыгивая, бежит собака!
Зрители хохочут до слез. Чего только не придумает эта шайтан-девчонка!
— Ой, шут базарный! — хохочет Ана-ханум, следя, как трепыхают крылья, как судорожно дергаются лапки изображаемого Баджи подбитого воробья.
Лавры Баджи не дают покоя Фатьме. Она хочет, чтобы аплодировали и ей, она сама готова дать представление.
— Ты что, с ума сошла? — накидывается Ана-ханум на дочь. — Так только в деревне глупые мужики забавляются.
— А почему Баджи можно? — хнычет Фатьма.
— Она дочь сторожа — это все равно что мужичка, — разъясняет Ана-ханум. — А ты — дочь ковроторговца. Незачем тебе кривляться, как шут базарный. Вот куплю тебе серебряное кольцо и браслеты — ты скоро невеста, — забавляйся ими сколько хочешь.
«Вот ты, оказывается, какая! — размышляет Баджи. — Ну, ладно же!..»
Спустя несколько дней Ана-ханум снова в добром расположении духа.
— А ну, Баджи, повесели нас! — приказывает она.
Баджи делает вид, что у пес болит нога. Наколола, говорит она, во дворе. Не сможет она сегодня веселить, не сможет показать пять хромых.
— Куда же ты годишься? — говорит Ана-ханум разочарованно, но вслед за тем добавляет заискивающе: — Попробуй, Баджи, может быть сумеешь.
Баджи делает вид, что пробует. Нет, ничего у нее не получается.
— Никакого от тебя толку, даже повеселить не умеешь, — говорит Ана-ханум сердито. — Ты и в самом деле дура хромая!
Баджи пожимает плечами.
«Сами вы дураки хромые, да еще вдобавок слепые!» — мысленно говорит она в ответ.
Пленные турки
В начале 1916 года русская армия повела наступление на Эрзерум.
Высокогорная зима турецкой Армении была в том году особенно сурова. Морозы стояли в двадцать пять градусов, бушевали горные вьюги. Крутые скалы обледенели. Лошади падали, не в силах тащить орудия.
Казалось, сам аллах выступил на защиту турок. Но русские солдаты, пробив кирками ступени в отвесных, одетых в ледяную броню скалах, втащили орудия на неприступные кручи и начали штурм крепости. Пять дней длился штурм главных фортов — битва с упорным врагом и с природой. На шестой день Эрзерум пал.
Отвернулся, видно, аллах от своих сыновей.
Когда весть о взятии Эрзерума долетела до Баку, в соборной Джума-мечети губернский казий выразил свои верноподданнические чувства и произнес речь о том, что бакинские мусульмане восхищены доблестью его императорского высочества великого князя Николая Николаевича, командующего русской кавказской армией, сокрушившего твердыню Турции, ключ Анатолии — Эрзерум.
Люди понимали, что за этими словами восхищения кроется печаль. Но правоверные прощали ему невольную ложь и втихомолку сами сокрушенно вздыхали о падении Эрзерума…
Город был полон беженцев из районов военных действий. Они лежали на тротуарах с детьми, со скарбом. Азербайджанские благотворительные общества, сосредоточенные в одном из красивейших домов города, так называемом «Исмаилие», взывали к сердцам мусульман, предлагая воздерживаться от празднования новруза, а средства, расходуемые обычно на сладости и праздничную стрельбу, на все, что так красит новруз, жертвовать в пользу беженцев-мусульман. Филантропы из Исмаилие устраивали благотворительные вечера, балы. Меры эти давали не много — богатые люди неохотно раскрывают кошелек для бедняков.
Все в ту пору казалось безрадостным, даже приближающийся новруз, новый год, не предвещал веселья.
Ана-ханум, однако, не пожелала нарушить обычай. Известно: чем слаще новруз, тем слаще грядущий год. Посулив Шамси побаловать его на славу всевозможными яствами, она выпросила у него немало денег. Одну десятую, правда, она отдала в пользу беженцев: ничего не дать — неудобно перед соседями. Но чтобы избежать двойных расходов, сделала она это в четверг, в день, когда по закону нельзя отказывать в милостыне.
Три дня с утра до вечера Ана-ханум гоняла Баджи но лавкам. Продукты, которые Ана-ханум не находила достаточно хорошими, она швыряла Баджи в лицо, заставляла ее по нескольку раз менять их. Лавочники с проклятиями прогоняли назойливую девчонку. Баджи месила, раскатывала тесто, толкла в ступке пряности, взбивала белки, терла до белизны желтки, подбрасывала в печь дрова.
Когда наконец яства были готовы и красиво разложены на блюдах и на дощечках, Ана-ханум оглядела плоды своих трудов с чувством, с каким полководец оглядывает свои войска перед боем: разве не должны были все эти яства идти в бой, чтоб утвердить величие кулинарии и принести Ана-ханум славу?
Чего только не было здесь, на этих блюдах и дощечках!
Но особенно Ана-ханум порадовали сладкие пирожки. Они лежали по три в ряд, блестя своими румяными спинками, благоухая. Начинены они были оре-хами с медом, приправлены корицей и имбирем. Как ни старалась Ана-ханум уберечь свои изделия от Баджи, той удалось все же стянуть два пирожка. Аллах великий, что это были за пирожки! Они рассыпались, едва попадая в рот, нежили нёбо, и нужно было, желая продлить наслаждение, сдерживать себя, чтоб не проглотить их сразу.
Ана-ханум спешила похвастать ими перед мужем.
— Снеси в магазин, к дяде, — приказала она Баджи, наполнив пирожками большую миску. — Скажешь: да будет новый год так же сладок, как эти пирожки!
Спускаясь но крепостной лестнице, Баджи увидела проходящую мимо толпу. В середине толпы вооруженные солдаты сопровождали странного вида людей: оборванных, обросших, в каких-то странных шапках; таких людей Баджи видела впервые. Зеваки и уличные мальчишки следовали за цепью солдат.
— Пленные турки, — произнес кто-то за спиной Баджи.
Вдруг кто-то выбил миску из рук Баджи. Она обернулась — мальчишки! Видно, заметили, что в миске у нее пирожки, и решили сами полакомиться. Произведения кулинарного искусства Ана-ханум валялись в ныли мостовой, а мальчишки поспешно подбирали их, совали в рот, прятали в карманы.
Подняв миску, Баджи тоже бросилась подбирать пирожки. Увы! Почти все уже исчезли. Кое-как удалось собрать несколько смятых, вывалянных в пыли пирожков. Мальчишки были уже далеко. Они оборачивались, чтоб подразнить Баджи, показывали на свои рты и набитые карманы. Будет знать, черногородская, как показывать крепостным мальчикам язык.
У порога магазина сидит на «палане» — заплечной подушке — Таги. Давно не слышала Баджи его загадок и шуток — хотелось бы поговорить с ним, но Баджи сдерживает себя: она — племянница ковроторговца, а он амбал у этого ковроторговца. Баджи проходит мимо, едва удостаивая Таги кивком головы.
Входя в магазин, Баджи всегда испытываю нечто вроде блаженного трепета: как здесь много ковров, очень много, больше, чем в большой комнате для гостей! Шамси не видно, но Баджи знает: его можно найти там, в глуби тесного магазина, за большим ковром, свисающим с потолка.
Баджи отгибает край большого ковра. Так и есть: в душном закутке за низеньким столиком сидит Шамси. Против пего — незнакомый человек, лет тридцати, худой, щуплый, с закрученными вверх усиками. Баджи разглядывает незнакомца с интересом — как всегда, впрочем, когда перед нею новый человек. Особенно привлекают Баджи очки незнакомца, темные очки на длинном горбатом носу.
— Куда лезешь? — недовольно спрашивает Шамси, увидя Баджи.
Баджи проскальзывает за ковер.
— Ана-ханум сказала: да будет новый год так же сладок, как эти пирожки! — выпаливает она одним духом, ставя миску на стол.
Лицо Шамси преображается.
— Райской нищей кормит меня Ана-ханум! — говорит он восхищенно.
— Многие в этом году не празднуют новруза, жертвуют вместо этого в пользу беженцев, — говорит в ответ человек в черных очках.
Шамси хмурится: видно, все сговорились отравлять ему жизнь, то и дело твердя о пожертвованиях.
— Мусульмане привыкли в новруз веселиться, — говорит он, поглядывая на миску. — Еще в детстве, помню, я слышал от дедушки: новруз — самый светлый праздник после курбан-байрама. Зачем же, скажи, лишать себя радостей? Мало, что ли, нам, мусульманам, рамазана — целого месяца печали и плача? Или дня поминания гибели имама Хуссейна — поста и тяжких само-истязаний «шахсей-вахсей»? Ведь один только раз в году празднуем мы новый год.
Человек в очках усмехается.
— Если хочешь знать — новруз вовсе не новый год!
— То есть как так не новый год! — удивляется Шамси.
— Очень просто! Новруз — это праздник язычников-огнепоклонников в честь первого дня весны. А настоящий мусульманский новый год — это первое число месяца махаррам, именно, печальный день.
— Мы привыкли праздновать новый год весной — незачем нам менять обычай! — возражает Шамси. — Кроме того, как говорится, яйца уже разбиты — надо есть яичницу! — Шамси поднимает крышку миски. — Почему так мало? — спрашивает он подозрительно, оглядывая лежащие на дне пирожки. — Сама, что ли, слопала?
Баджи застигнута врасплох. О мальчишках она не решается даже упомянуть: сколько раз попадало ей от Шамси за то, что она с ними связывается.
Шамси испытующе смотрит на Баджи:
— Ну?!.
Надо как-нибудь выпутываться.
— Я видела на улице много турок… — начинает Баджи, стараясь отвлечь внимание Шамси от пирожков.
— Каких турок? Чего ты врешь? — обрывает ее Шамси.
В разговор вмешивается человек в темных очках:
— Может быть, она говорит про турецких пленных, которых сегодня вели по улицам? Много пленных — я сам видел. Оборванные, голодные.
Баджи утвердительно кивает головой.
Шамси тянется рукой к миске. Съев пирожок, он становится благодушней. На Баджи он больше не обращает внимания. Шайтан с ней, с этой девчонкой!
— Жаль их, этих пленных турок, — говорит Шамси. — Не правда ли, Хабибулла?
Тот, кого Шамси именует Хабибуллой, молчит.
— Разве ты не согласен со мной? — спрашивает Шамси.
Хабибулла поправляет очки.
— Умный и опытный человек ты, Шамси, — говорит он мягко. — Но многого не хочешь понять…
Шамси настораживается. Странный человек пот Хабибулла, всегда у него что-то свое на уме! Подумать только: новруз — не новый год мусульман! А теперь еще что-то надумал о турках.
— Тебя я, видно, тоже не понимаю! — говорит Шамси с досадой и упрямо повторяет: — Жаль их, этих пленных турок!
— Мы не должны выказывать эту жалость, даже если бы сердце наше разрывалось на части, возражает Хабибулла.
— Но разве коран не предписывает мусульманам милость к побежденным? — восклицает Шамси.
Хабибулла отмахивается — коран да коран! Шага не могут ступить без корана — как малые дети без няньки.
— Нашу жалость недруги используют нам же во вред, — говорит он. — Они пишут в газетах, что азербайджанцы сочувствуют турецким пленным. Сам понимаешь, это наше сочувствие в глазах русского царя и правительства одобрения не найдет. Я слышал, что все это может кончиться плохо для всех нас, особенно для торговцев: не станут верноподданные царя покупать товары у таких азербайджанцев.
Хабибулла знает, куда направить острие своей речи.
— Угощайся, — говорит в ответ Шамси, придвигая Хабибулле миску. Испытывая затруднения, он всегда переводит разговор на другую тему.
Они молча жуют. Баджи наблюдает за ними.
Шамси роется в миске, выбирая пирожки покрасивее, тщательно подбирая крошки. Хабибулла, напротив, рассеянно берет первый попавшийся под руку пирожок. Баджи видит, как один за другим пирожки исчезают. Ей досадно, что она сама не успела полакомиться.
Вдруг Баджи видит гримасу на лице Шамси, он брезгливо выплевывает разжеванный пирожок.
— Змея! — говорит он отплевываясь. — Самая лучшая жена все равно змея: в самые лучшие куски вливает она каплю яда. Нарочно подсыпала песок в пирожки, чтоб отравить праздник. И все из-за того, что я благоволю к младшей. — Он швыряет недоеденный пирожок обратно в миску.
Баджи знает, что Ана-ханум здесь ни при чем. Но она не хочет ничего объяснять. Не смеет она, во-первых, сама заговорить с дядей. Во-вторых, пусть лучше пострадает Ана-ханум, чем она, Баджи. Наконец, приятно послушать, когда бранят ни в чем не повинную Ана-ханум — разве ее, Баджи, мало бранили за проделки Фатьмы?
Мало-помалу Шамси успокаивается, друзья возвращаются к прерванной беседе. Баджи стоит в уголке, забытая ими, ожидая приказаний Шамси.
Многое после этой беседы предстает глазам Шамси в ином свете: горячая молитва губернского казия в соборной Джума-мечети — за победу над турками; поздравительная телеграмма, посланная знатными мусульманами наместнику Кавказа, великому князю Николаю Николаевичу; ответная телеграмма наместника, напечатанная на видном месте в бакинских газетах и распространяемая из уст в уста среди почтеннейших мусульман.
Хабибулла торжествующе смотрит на собеседника.
— Теперь, Шамси, ты понимаешь, что я вовсе не такой плохой мусульманин, хотя и советую сейчас не высказывать жалости к туркам. — Он придвигается к Шамси, и голос его становится глуше. — Я сам, Шамси, лелею мечту о том времени, когда мы, тюрки, вырвемся из русского плена, отделимся от России и создадим свое, тюркское государство. Турция будет нашим старшим братом. Это будет счастливый день! Мы прогоним тогда отсюда всех чужаков, не тюрков… Но сейчас, Шамси, не время об этом говорить, не время ссориться с русским царем и правительством, ибо Россия, видимо, одолевает Турцию. Ты сам слышал про Эрзерум; говорят, там взяли в плен восемьдесят тысяч турок.
Шамси не сразу решается ответить.
— Ученый ты человек, Хабибулла — много знаешь и понимаешь, о чем мы, торговые люди, даже не задумываемся, — смущенно произносит он наконец.
Да, много, казалось Шамси, знал и понимал Хабибулла. Знал, как жили люди в старину и какие были войны между народами. Знал, как живут люди в других странах теперь. Знал законы мусульманские и русские, умел хорошо писать прошения в городскую управу и суд.
Много, казалось Шамси, знал и понимал Хабибулла, не меньше, пожалуй, чем Абдул-Фатах, хотя совсем по-иному. Попробовал было раз Шамси щегольнуть перед Хабибуллой знаниями, почерпнутыми из древней книги, подаренной ему Абдул-Фатахом, но Хабибулла в ответ только усмехнулся: так думали сотни лет назад!
И Шамси готов был уважать Хабибуллу за знания и ум, если бы не потертый пиджак, засаленная шляпа, обтрепанный европейский воротничок. Именно они красноречиво свидетельствовали, что обладатель их, зная столь много, не знал самого главного — как добывать деньги, не знал того, в чем так силен был он, Шамси.
Шамси думал, что, обладай он знаниями и умом Хабибуллы, он устлал бы своими коврами весь мир и, конечно, не был бы тем, кем был в действительности Хабибулла — маклером на побегушках у богачей, мелким частным ходатаем, составителем бумаг, переводчиком, внештатным репортером одной из местных газет, сплетником-неудачником, знавшим многое про многих о городе, — человек с добрым десятком жалких и недоходных профессий и с пустотой в карманах.
Хабибулле льстят слова Шамси. Он находит нужным сказать в ответ что-нибудь приятное.
— Хороший ковер! — говорит он, проводя ладонью по шелковистому ворсу коврика, висящего на стене.
— Это редкий ковер! — отвечает Шамси. — Привез я его издалека, из Закаспия, из Ашхабадского уезда; говорили мне, там можно найти хороший товар. Немало поездил я по аулам, был в Эрри-кала, Ясман-салых, все искал ценные ковры, нашел наконец. Ты смотри, как он дивно играет! — Шамси восхищенно поглаживает ковер, точно это живое существо, расплывается в умильной улыбке. — Я готов продать его недорого — за две тысячи, деньги нужны.
— Две тысячи рублей? — горько усмехается Хабибулла. — У меня нет и двух тысяч копеек!
— Да я не тебе предлагаю! — грубо обрывает его Шамси, и выражения уважения, с каким он минуту назад смотрел на собеседника, нет и в помине. — Не тебе!.. Но ты можешь присмотреть покупателя — ведь ты трешься среди богатых людей, в конторах, в Исмаилие, в клубе. Я дам тебе один рубль со ста, как в прошлый раз, когда дал тебе заработать в один день девять рублей пятьдесят копеек. И ты перестанешь плакаться, что в кармане у тебя нет денег. Как раз две тысячи копеек у тебя и будут, если ты продашь ковер! Дело это легкое, надо только уметь хорошо говорить. Ну, а говорить-то хорошо ты умеешь! — не то одобрительно, не то насмешливо заключает Шамси.
Выражение лица Хабибуллы тоже меняется: из снисходительного, каким оно было во время беседы о турках, оно теперь становится покорным, подобострастным.
— Сделаю, Шамси, как ты приказываешь, — говорит Хабибулла,
— Ладно!..
Только сейчас замечает Шамси стоящую в уголке Баджи.
— А ты чего здесь торчишь? — спрашивает он строго.
— Ана-ханум велела, чтоб я забрала миску, — отвечает Баджи.
— Скажи, что я сам принесу! — говорит Шамси, и в словах его звучит угроза.
Два арбуза в одной руке
Шамси швыряет миску в Ана-ханум. Недоеденные пирожки разлетаются, шлепаются на пол.
— Змея! — кричит он. — Смотри, чем ты меня кормишь!
Ана-ханум ловит пирожок на лету, надкусывает, сосредоточенно жует. Что-то хрустит у нее на зубах. Сомнения нет — песок! Досада охватывает старшую жену: все труды пошли прахом.
Шамси испытующе смотрит на Ана-ханум. Та мужественно доедает пирожок.
— Тебе показалось, уважаемый, — говорит она с притворным удивлением. — Пирожки — хорошие. Но, может быть, дурной глаз, чтоб отравить тебе удовольствие, проник в пирожок.
— Змея ты! — не может успокоиться Шамси. — Из-за тебя болею. Вот прогоню тебя из дому — тогда узнаешь, как сыпать песок мужу в пищу…
«Дурной глаз, конечно, дурным глазом. — размышляет Ана-ханум. — Но кто все же подсыпал песок, кто? Друг песку не подсыплет, надо, значит, искать среди врагов. Это Ругя, конечно, Ругя!»
Но тут старшую жену охватывает сомнение: ведь пирожки ни на минуту не оставались без присмотра, и Ругя, по правде говоря, их даже не видала.
«Значит, Ругя, проведав о пирожках, подучила девчонку, а та и подсыпала, — с легкостью разрешает свои сомнения Ана-ханум. — Из одного гнезда птички — недаром полдня торчит бездельница-девчонка в комнате у этой Семьдесят два!»
Ана-ханум зовет Баджи,
— Вот тебе пирожок! — говорит она, награждая Баджи увесистой оплеухой.
Баджи еле удерживается на ногах.
«Ах ты, старая ведьма!..» — едва не вскрикивает Баджи, хватаясь за щеку.
— Вкусно? — злорадно опрашивает Ана-ханум, глядя, как Баджи потирает щеку.
На другое утро, едва Ругя переступает порог кухни, Ана-ханум кричит:
— Эй ты, Семьдесят два, не подходи к горшкам!
— Плюю я на твои горшки! — спокойно отвечает Ругя.
— Без горшков не проживешь, а без твоей чертовой мастерской до самой смерти прожить можно.
— То-то я вижу, что ты на старости лет засела за станок, — усмехается Ругя.
— Ну и ты без горшков не обходишься — подсыпаешь в чужие горшки песок.
— Чтоб глаза твои засыпало песком, клеветница! — не выдерживает Ругя.
— А ты вот посмей еще раз зайти в кухню — так я тебя!.. — визжит Ана-ханум, хватаясь за кухонный нож.
Младшая жена покидает кухню. Отношения между женами прерваны. Война объявлена.
Спустя несколько дней Баджи видит, как из комнаты Ругя, озираясь и пряча что-то за пазухой, выходит Фатьма.
— Ты зачем туда ходила? — спрашивает Баджи подозрительно: младшая жена ушла в лавку за шерстью, и Фатьме здесь делать нечего.
— Не суй свой нос куда не следует! — отвечает Фатьма дерзко.
— Твой-то, видно, длинней! — немедля парирует Баджи: она теперь за словом в карман не лезет — пример старших женщин заразителен.
Вернувшись домой и сев за станок, Ругя обнаруживает, что на готовой части ковра, где вытканы цветы и птицы, выпадают узелки. Неужели она задела их, когда обрезала ножницами концы узелков? Не может этого быть! Ругя внимательно осматривает ткань ковра, основу и вдруг издает вопль — оказывается, неведомая рука полоснула ножом по ткани.
Прибежавшая на этот вопль Баджи рассматривает испорченные узоры. Нет больше птиц и нет цветов. Как жаль Ругя!
— Это длинноносая сделала, — шепчет Баджи плачущей Ругя.
Та хватает деревянную колотушку, мчится на кухню.
— Ты чего воешь, как кошка в новруз? — встречает ее Ана-ханум с ядовитой ухмылкой. — Чего-нибудь весеннего захотелось?
Ругя молча кидается на Фатьму с колотушкой, но Ана-ханум преграждает ей путь, вцепляется в волосы. Завязывается драка.
Стоя в сторонке, Баджи с интересом наблюдает: а ну, кто кого?
Ругя оказывается сильней. Она явно одолевает своих противниц.
— Баджи! — кричит Ана-ханум, запыхавшись, — Бей ее, бей эту Семьдесят два! Приказываю тебе!
Баджи стоит, не зная, как быть: она не смеет ослушаться старшей жены, но и не смеет, не хочет поднять руку на младшую.
Сомнения ее разрешает Шамси, привлеченный на кухню шумом схватки.
— Чертовы бабы! Не дадут минуты покоя! — ворчит он. — А ну, Баджи, принеси ведро воды!
Шамси окатывает дерущихся холодной водой. Ругя ловко увертывается, а Ана-ханум становится мокрой с головы до ног. Баджи довольна.
Принеси еще! — командует Шамси, видя, что жены не унимаются.
Операция повторяется. Однако разнять женщин не удается.
— Принеси аршин! — приказывает Шамси.
«Что-то будет!» — весело смеется Баджи, со всех ног спеша за металлическим аршином, которым Шамси обычно меряет ковры.
Шамси бесстрастно бьет женщин по мягким местам. Когда крепкий удар достается Ана-ханум, Баджи едва сдерживает себя от восторга.
«Так ей и надо! Это аллах ей воздает за то, что дала мне плюху!»
Наконец Шамси удается разнять женщин.
«Шайтан их разберет, этих баб, кто из них прав! — размышляет он, попивая чай в своей комнате, в то время как жены, сняв мокрые платья, ворча, ощупывают избитые места. — Не мужское это дело — разбираться в их спорах!»
Война, однако, этой схваткой не заканчивается. Ни одна из сторон не признает себя побежденной. Тщательно подготавливаются новые каверзы. Время от времени вновь вспыхивают схватки.
— Эй ты, Черный город! — кричит Ана-ханум. Сбрось штаны твоей подружки, развесила их сушить у меня под самым окном.
— Ругя-ханум рассердится, если сниму, — осмеливается возразить Баджи.
— Делай что приказываю! Не то подбавлю тебе пирожков, каких надавала недавно, — помнишь?
Баджи снимает с веревки штаны Ругя. Аллах, что ей будет за это!..
— Баджи! — тут же слышит она голос Ругя.
«Ну вот, так и есть!» Баджи спешит в комнату младшей жены.
— Другая бы тебе за это дала, как ты того заслуживаешь, — говорит Ругя. — Но я прощаю тебя… Понизив голос, она добавляет: — Узнай только, когда ведьма будет топить печь.
Баджи бежит на кухню.
— Ана-ханум, когда будем топить печь? — спрашивает она невинным тоном.
— А тебе что? — настораживается Ана-ханум, но все же отвечает: — Завтра с утра.
Баджи уходит, крадучись пробирается в комнату младшей жены.
— Завтра с утра, — шепотом передает она Ругя.
— Баджи, друг! — говорит Ругя нежно. — Я сотку тебе хорошенькую сумку, будешь хранить в ней твои вещи… Только перед тем, как начнут топить, засунь в печь мокрые тряпки, поглубже…
Мысль Баджи усиленно работает… Хорошенькую сумку? Такую же, какую Ругя выткала для Шамси? Она, Баджи, положит в нее свою книгу, как школьница? Конечно, она засунет в печь что угодно!..
Баджи встает чуть свет, заталкивает глубоко в печь мокрые тряпки.
Кухня полна чада. Ана-ханум мечется по кухне, глаза у нее слезятся.
Наконец тряпки извлечены из печи. Как они попали туда? Ана-ханум производит следствие. Виновница обнаружена и несет наказание.
Спустя неделю Ругя торжественно вручает Баджи маленькую хорошенькую сумку. Баджи разглядывает ее: сумка эта, правда, не столь красива, как та, которую выткала Ругя для Шамси, но все же стоило пострадать и ради такой.
Как ни старается Баджи в войне между женами оставаться нейтральной, враждующие силы используют ее — девчонка-служанка может быть во многом полезной. Баджи не смеет ослушаться приказаний. Баджи страшится угроз, она податлива на вероломную ласку, ей трудно устоять против подкупа.
Не легче, впрочем, приходится ей и в дни перемирия. Ана-ханум требует от служанки безраздельного повиновения: на то она старшая жена, хозяйка дома. Ругя, в свою очередь, требует внимания: разве она не жена, хотя и младшая? Разве у нее нет брачного договора? И так мало радостей в жизни, как же не пользоваться услугами служанки?..
— Эй, Баджи! — кличет Ругя. — Сходи в лавку за желтой шерстью. Возьми с собой Балу, купи ему чего-нибудь сладенького, да смотри, сама не съешь!
Держа за руку упирающегося Балу, Баджи спускается по лестнице.
— Эй ты, Черный город! — кричит Ана-ханум, видя, что Баджи возится с Балой. — Брось этого осленка! Постирай лучше белье Фатьме да ковры выбей!
Ладно, ладно! Она сделает все, что требуется. Сходит в лавку за шерстью, возьмет с собой Балу, купит ему «чучхел» — колбаску из муки с виноградным соком и орехами — и при этом отломит себе только маленький кусочек. Она выстирает белье Фатьме, выбьет ковры.
Целый день носится Баджи по дому, по лавкам, выполняя поручения жен.
За каждой мелочью Ана-ханум посылает Баджи в лавку отдельно: еще потеряет девчонка деньги, а потом отчитывайся перед Шамси; не умрет девчонка, если сбегает лишний разок.
Целый день угождает Баджи женам.
Однажды на улице Баджи встречается с Таги.
— Куда так спешишь? — спрашивает он. — За счастьем гонишься?
— Иду в лавку, — отвечает Баджи. — Помогаю по хозяйству.
Таги смотрит на Баджи. Девчонка, видать, будет красива — как Сара. Хотя вряд ли: второй такой красавице не бывать.
— Кому же ты помогаешь? — спрашивает Таги.
— Помогаю Ана-ханум, помогаю Ругя.
— Обеим сразу?
— Обеим! — говорит Баджи с важностью и продолжает путь.
Таги смотрит ей вслед.
— Смотри, Баджи, — кричит он вдогонку: — одной рукой двух арбузов не удержишь!
Баджи-ханум
Близится новый праздник — «день, когда Магомет стал пророком».
Ана-ханум помнит неприятность с пирожками. На этот раз нужно быть осмотрительней. Во всей квартире идет генеральная уборка, чистка.
Окруженная ворохом посуды, с утра сидит Баджи на корточках в полутемном дворике, подле сточной ямы, чистит медные кастрюли песком. Ноги Баджи затекли. Руки почернели от песка.
Баджи вспоминает Черный город.
Отец. Мать. Юнус. Саша. Трубы, арба водовоза… Быть может, все это было во сне?
Баджи уже знает, что никогда не вернутся отец и мать оттуда, откуда никто не возвращается, — из рая: никто не хочет покинуть рай. Но брат, почему он не приходит к ней? Почему брат забыл сестру? Разве он не держал ее за руку, не говорил: «Не бойся, сестра, мы не расстанемся, я буду тебя защищать»?
Кастрюля выскальзывает из рук Баджи, с шумом падает на камни.
— Три, Черный город, пока морда не станет видна в кастрюле, как в зеркале! — кричит Ана-ханум с галереи. Не сдохнешь, если лишний часок посидишь над посудой.
Баджи снова принимается тереть, время от времени заглядывая в кастрюлю — когда же увидит она свое отражение? Посуда, однако, не хочет блестеть: тусклое олово — плохое зеркало.
Кто-то стучит дверным молотком.
— Кто там? — спрашивает Баджи.
— Это я, — отвечает голос за дверью, и Баджи чувствует мгновенную слабость в ногах. Юнус!.. Руки Баджи так сильно дрожат, что она долго не может справиться со щеколдой. Ана-ханум и Ругя с любопытством выглядывают с противоположных концов галереи.
— Здравствуй, сестра! — говорит Юнус, сгибаясь в низенькой двери.
— Здравствуй, здравствуй, здравствуй! — суетится Баджи подле брата, захлебываясь от радости.
Они стоят посреди дворика. Баджи растеряна, но все же быстро решает:
«Поведу брата в большую комнату для гостей, усажу на главный ковер. Брат — важный гость».
Они поднимаются по лестнице.
— Угости брата чаем! — шепчет с галереи Ругя, заглядываясь на красивое лицо юноши.
— Второй дармоед явился! — ворчит Ана-ханум, захлопывая окно.
Юнус не слышит ее слов, но успевает заметить, что хозяйка не из приветливых.
В ожидании, пока Баджи принесет чай, Юнус расхаживает но комнате, рассматривает зеркала, ковры гурий на потолке.
«Красиво, чисто живет», — думает Юнус с удовлетворением.
Сам он живет на промысле «Апшерон» не так красиво, вернее сказать — совсем некрасиво. Да и откуда ей взяться, этой красоте, в тесной, набитой людьми промысловой «казарме для бессемейных мусульман», где ему, Юнусу, за половину первой получки приказчик устроил местечко и койку у самого входа? Пол в казарме каменный; из трех окон одно забито досками, другое — жестянкой; из щелей в двери несет холодом, особенно когда задует северный ветер, норд.
Баджи приносит чай. Брат и сестра сидят на главном ковре, пытливо разглядывая друг друга.
Брату кажется, что сестра выросла, что на щеках у нее появился румянец, что ноги у нее не такие худые, как прежде.
— Хорошо тебе здесь? — спрашивает Юнус.
— Хорошо! — отвечает Баджи с важностью, пряча почерневшие от грязной посуды руки в складках платья. — У нас, смотри, какие ковры, зеркала, женщины на потолке. У нас восемь комнат! — Баджи включает в число комнат кухню, галерею и чулан.
Юнус отхлебывает чай.
Да, живется сестре, по-видимому, неплохо!
Баджи кажется, что брат похудел, вытянулся, стал похож на отца. Подобно отцу, он долго держит кусочек сахару в передних зубах — видать, не балуют его на промыслах сахаром! Одежда у брата засалена, как у мазутника, голова обрита, как у старика. Нет, брат теперь не такой красивый, как прежде!
Юнус читает ее мысли.
— В буровой тряхнуло меня желонкой два месяца пролежал больной, только на днях поднялся… говорит он, словно оправдываясь.
И Юнус рассказывает сестре, как пришел он впервые на промыслы, и как помог ему Газанфар устроиться на промысле под названием «Апшерон», и как стал он, Юнус, работать в буровой.
Что такое желонка? Это вроде высоченного ведра с клапаном в дне, как у рукомойника. Ее опускают на канате в скважину. Когда желонка с размаху ударится о нефть в пласте — клапан открывается и нефть наполняет желонку; а когда желонку начинают тащить вверх — нефть в желонке давит на клапан и держит его закрытым. Ну вот, так и добывают, или, как говорят на промыслах, «тартают», нефть.
Вот этой работой — спуском и подъемом желонки — занят он, Юнус, по специальности тарталыцик. Он сидит в особой тартальной будочке и следит за спуском и подъемом. Дело это не такое простое, как кажется на первый взгляд: недоглядишь при спуске — желонка застрянет в почве и будет немало хлопот, пока поднимешь; недоглядишь при подъеме — желонка перелетит через шкив, разобьет вышку в щепы и, чего доброго, изувечит самого тартальщика…. Он еще хорошо отделался в прошлый раз.
Долго рассказывает Юнус о работе на промыслах и о людях, с которыми сталкивается в работе, только умалчивает о том, где и как он живет: хвастать нечем! До болезни ему было стыдно прийти к сестре — он еще не заработал достаточно денег, чтоб увезти ее с собой. А когда он лежал разбитый, то жалел, что не приходил, да только уже не мог подняться… Но вот сейчас он все же решился и пришел… Что ж, он доволен — живется сестре, видно, в самом деле неплохо!
Подражая взрослым, Баджи спрашивает:
— Какие есть новости?
В глазах Юнуса мелькает огонек. Новостей теперь на промыслах хватает!
— У нас сейчас большущая забастовка! — отвечает Юнус.
— Забастовка? — переспрашивает Баджи, и Юнус видит, что она этого слова не понимает.
— Забастовка — это когда рабочие отказываются работать.
— Вроде праздника, что ли? — спрашивает Баджи.
Юнус улыбается:
— Как сказать!..
— Отлынивают, что ли, от работы? — допытывается Баджи, и в голосе ее слышатся сочувственные нотки.
— Не отлынивают, а… Как бы тебе объяснить?..
И Юнус пытается объяснить:
— На днях вот арестовали жандармы двадцать пять рабочих за то, что те обсуждали на собрании свое тяжелое положение. Не таков, однако, промысловый народ, чтоб его запугать, — в ответ на арест товарищей все остальные объявили забастовку — прекратили работу. К слову сказать, теперь что ни день, то тут, то там забастовка. Но в этот раз, говорят, бастуют тысяч семь!
— И ты тоже… бастуешь? — спрашивает Баджи, насторожившись: ведь брат уехал на промыслы, чтобы заработать деньги и взять ее затем к себе, в хороший дом, еще лучший, чем дом дяди Шамси.
— А что же, по-твоему, мне отставать от своих товарищей? — вспыхивает Юнус. — Так у нас, дорогая сестра, на промыслах не делается! А если кто и сделает — того назовут штрейкбрехером и выкатят, чего доброго, на тачке!
Баджи хмурится: далась брату эта забастовка. И слова еще какие придумывают: штрейкбрехер! Не выговорить.
Юнус видит нахмуренное лицо Баджи. Нет, ничего, ничего не понимает девчонка. Глупая еще! Незачем с ней зря толковать!.. Юнус ставит стакан вверх дном. Пора уходить!
В дверях он сталкивается с Шамси, вернувшимся из магазина. Дядя обнимает племянника. Вдыхая запах жареного, доносящийся из кухни, Шамси приглашает племянника пообедать.
— Только что ел, спасибо. Сестра угощала, — отвечает Юнус.
— Твоей сестре у меня хорошо! — говорит Шамси умиленно. — Аллах свидетель, я ни разу не бил ее. Пусть она сама скажет.
— Не бил, — подтверждает Баджи.
— Я ее люблю, как дочь. Она у меня белоручка, Баджи-ханум — барышня! — острит Шамси улыбаясь.
Баджи приятно, что Шамси назвал ее Баджи-ханум.
— За зло платят злом, а за добро — дважды добром, — говорит Юнус.
— Напрасно ты о зле упоминаешь, — мягко укоряет Шамси.
— В народе так говорят!.. — пожимает Юнус плечами, собираясь уходить.
— Может быть, все же пообедаешь? — спрашивает Шамси, принюхиваясь к возбуждающим запахам из кухни.
— Спасибо, дядя, не могу — спешу на работу.
— Похвальная вещь работа — не буду уговаривать тебя. Ну, будь здоров… Баджи, проводи брата.
Баджи провожает брата.
— Ты теперь белоручка, Баджи-ханум, барышня! — говорит Юнус, и Баджи не может понять, хвалит он ее или осуждает.
Проходя по галерее, Баджи показывает на свою подстилку:
— Здесь я сплю. Подстилка у меня мягкая… — Она кивает в сторону кухни: — А там мы с Ана-ханум готовим обед. Вкусные блюда!
Пересекая дворик, Баджи говорит:
— Смотря, сколько у нас посуды! И еще больше спрятано в сундуках!
Она в эту минуту и впрямь чувствует себя Баджи-ханум, барышней.
Баджи открывает дверь. Только теперь Юнус замечает, что руки у сестры почерневшие, заскорузлые, как у рабочего, как у него самого.
«Баджи-ханум!» — с горечью усмехается Юнус, рассматривая руки сестры. Он поднимает голову к окнам галереи, за которыми чудится ему сердитая хозяйка, и жалость к сестре охватывает его. Когда же возьмет он сестру с собой, когда же они будут жить вместе?
Юнус рад, что стоит спиной к свету и Баджи не видит его лица, пылающего от стыда.
Хабибулла
Отец Хабибуллы, Бахрам-бек, часто рассказывал сыну, что род их восходит к древнейшим властительным фамилиям Азербайджана.
Но в ту пору, когда Бахрам-бек с гордостью повествовал мальчику Хабибулле о величии предков, сам он был не более, чем «хурда-бек» — обедневший малоземельный помещик.
Одержимый манией величия, Бахрам-бек жестоко притеснял и обирал крестьян, находился с ними в непрестанной тяжбе из-за спорных участков, из-за права на воду, из-за всевозможных видов податей. Однажды в разгар полевых работ он закрыл принадлежащие ему оросительные каналы и дождался того, что крестьяне взбунтовались, захватили землю и, пригрозив убить, заставили его покинуть родные места. Угроза была серьезная — немало помещиков, обращавшихся с крестьянами подобно Бахрам-беку, были убиты. На чужбине Бахрам-бек заболел и умер.
Хабибулла в то время был воспитанником елисаветпольской гимназии. Опеку над несовершеннолетним взял на себя брат умершего. Он продолжал тяжбу с крестьянами, быстро высудил землю, прибрал к рукам наследство и столь же быстро проиграл его в карты, оставив опекаемого племянника без средств. Юноше едва удалось окончить гимназию.
Некоторое время Хабибулла скитался по родственникам и по соседям-помещикам, оказывавшим ему гостеприимство как сыну Бахрам-бека. Но вскоре Хабибулла понял, что, лишенный земли и денег, не имея возможности вести тот образ жизни, какой ведут состоятельные соседи, он невольно опускается до положения приживальщика. Кое-кто из родственников намекнул ему на это в весьма грубой форме.
Хабибулле было двадцать лет, он был горяч. Бекское высокомерие, воспитанное в нем отцом, заставило Хабибуллу тотчас ответить на оскорбление еще более резко и покинуть родные места. Одна, видно, судьба была у отца и сына!
Хабибулла решил ехать в Баку, где, рассказывали, люди за одну ночь становятся богачами, стоит лишь земле захотеть осчастливить человека, выбросив из своих недр нефтяной фонтан. Быть может, и ему посчастливится на этой новой земле? Уезжал Хабибулла со злым сердцем, затаив обиду на беков, которым не простил оскорблений, и ненависть к крестьянам, которых считал своими врагами.
Молодой человек, прибывший в Баку, был честолюбив. Он мечтал о деньгах и особенно о власти. Мечтал, вернувшись на родину, посмеяться над своими оскорбителями, отомстить убийцам отца, вырвать свое добро из рук разорителей и врагов. Он обладал некоторыми способностями, и они казались ему залогом осуществления его честолюбивых планов. Однако, как это часто бывает с честолюбцами, он был непрактичен. За десять с лишним лет, прожитых в Баку, он не только не разбогател, не приобрел власти, но даже не смог создать себе сколько-нибудь сносного существования и пребывал в постоянных поисках куска хлеба.
Труд он презирал и не был к нему приспособлен. Приходилось довольствоваться случайными заработками. Бойкое перо, которым он снискал себе известность еще в гимназии, он теперь время от времени использовал в местных газетах, выступая в качестве светского хроникера. Это давало ему возможность общаться с богачами, нередко с филантропами из Исмаилие, стремившимися огласить на страницах газет круглые суммы своих пожертвований, чтоб обеспечить себе уважение в глазах общества, кредит в деловом мире и славное место в саду аллаха. И так получилось, что если прежде судьба толкала Хабибуллу на путь приживальщика, то здесь, в Баку, она заставляла его прислуживать богачам-нефтепромышленникам, домовладельцам, судовладельцам, коммерсантам. С годами юношеская горячность Хабибуллы поостыла, бекское высокомерие было обито городскими богачами, он научился многое пропускать мимо ушей.
С виду Хабибулла стал смиренен, но всякий заглянувший к нему в душу, увидел бы, что честолюбие его не погасло. Часто Хабибулла с горечью думал, что будь Бахрам-бек жив и не случись этой беды с оросительными каналами, вся жизнь его пошла бы по иному руслу, спокойному и широкому.
По окончании гимназии он был бы послан отцом в Петербург или в Москву в университет. Так поступали обычно со своими сыновьями соседи-помещики, такие же, как Бахрам-бек. В университете он отдался бы наукам — приятно блистать в обществе знаниями. Он не такой чудак, как этот инженер Азизбеков из городской думы: с каким трудом удалось этому сыну каменщика поступить в Петербургский технологический институт, а он тотчас связался со студенческими революционными кружками, организовал демонстрацию из-за самоубийства какой-то студентки, заключенной в Петропавловскую крепость, и был дважды арестован… О нет, он, Хабибулла, не участвовал бы в беспорядках, не походил бы на тех азербайджанцев из бедных семей, к которым судьба в кои-то веки оказывалась милостива, открыв и для них двери высшего учебного заведения, и которые искушали судьбу, больше ссорясь с полицией, нежели занимаясь науками. Его, Хабибуллу, не арестовывали бы, не исключали, он бы с легкостью окончил университет.
Он стал бы юристом, судейским чиновником, может быть прокурором. Таков был путь тех, кого заботливые отцы отправляли в Петербург или в Москву учиться. Успех на новом пути пришел бы скоро — разве не отличался он еще в гимназии умением красиво и убедительно говорить? Какая карьера открылась бы перед ним! Кто знает, быть может, он стал бы депутатом Государственной думы от одной из восточных губерний Закавказского края. Разве он имел меньше данных, чем те, кто уверенно двигался по этим путям, шаг за шагом достигая цели? Разве он не был таким же беком, как и они?
Хабибулла считал, что он создан, чтоб управлять, повелевать своим народом, который, в представлении Хабибуллы, состоял из темной, невежественной массы — конечно, за исключением избранных, вроде него. Ведь он — бек. Само это слово означает у тюркских народов правитель, властитель. Именно беки, считал Хабибулла, созданы историей для того, чтобы управлять, повелевать. Его самолюбию льстило, когда к его имени прибавлялось это короткое «бек», подчеркивающее высокое происхождение обладателя имени. Его гордость бывала ущемлена, когда его именовали просто — Хабибулла. Хабибулла-бек! — это звучало совсем иначе, чем простонародное Хабибулла. Он, впрочем, надеялся на лучшие времена и порой, вдохновляясь своими сладостными мечтами, забывал, что он не только не властительный бек, но даже не хурда-бек, каким был его отец, а жалкий неудачник, снимающий в качестве квартиранта комнатку в семье мелкого русского чиновника.
Несколько лет назад к чиновнику этому явился Шамси с просьбой составить исковое заявление в суд. Хозяин оказался больным, и помочь просителю вы-звался квартирант. Шамси доверился Хабибулле — как-никак единоверец и спустя месяц получил по решению суда деньги, которые почти не рассчитывал получить. Вскоре в подобном же случае Шамси сам обратился к Хабибулле, и тот провел это новое дело столь же успешно. Шамси проникся к Хабибулле нежностью — он всегда проникался нежностью к людям, приносившим ему прибыль.
— Легкая у тебя рука! — сказал тогда Шамси одобрительно.
С этого дня он стал давать Хабибулле различные поручения.
Хабибулла подыскивал для Шамси выгодных покупателей, ездил на товарную станцию принимать и отправлять товары. Хабибулла писал для Шамси прошения и разные другие деловые письма: в городскую управу — о выдаче патента и предоставлении льгот; в военное ведомство — с предложением шерсти; в суд — с жалобой на должников-неплателыциков. Он выполнял попеременно роль маклера, приказчика, секретаря. Жалованья он не получал: Шамси предпочитал отделываться единовременными подачками — постоянные служащие, считал Шамси, обворовывают хозяев. Впрочем, Хабибулла выполнял все поручения под неусыпным контролем Шамси — у бедняка, считал Шамси, одно на уме: как бы обмануть богатого. Шамси был к Хабибулле несправедлив: в денежных расчетах тот не проявлял особой жадности и настойчивости, и Шамси не упускал случая пользоваться этим с выгодой для себя.
Мало-помалу Хабибулла завоевал доверие Шамси, стал ему необходим.
Кое-чего, правда, Хабибулла не умел делать, как ни старался Шамси обучить его: не умел заводить дружбу с овцеводами, не умел скупать шерсть на стойбищах и ковры в селениях у ковроделов, не умел торговаться с покупателями. Зато он нередко давал правильные общие указания насчет того, когда можно ждать повышения или падения цен, какой товар вдруг понадобится всем людям и, исчезнув с рынка, станет цениться на вес золота; какой, напротив, завалив рынок, станет дешевле ветра. Указания эти, если приложена была к ним торговая сметка, приносили в итоге немалую прибыль Шамси. И так повелось, что Шамси не принимал ни одного важного делового решения, не посоветовавшись предварительно с Хабибуллой.
Войдя в доверие к Шамси, Хабибулла стал давать советы не только деловые, но и в области семейной и личной жизни. Наряду с Абдул-Фатахом появился у Шамси второй друг.
Лишь им двоим — почтенному мулле хаджи Абдул-Фатаху и Хабибулле — доверял Шамси свои дела и мысли. Доверял, конечно, постольку, поскольку вообще разумно доверять людям, — недаром ведь говорится: если ты сам не сберег своей тайны, как же ты хочешь, чтобы ее сберег другой?
Вывеска
На третий год войны военное ведомство повысило спрос на грубую шерсть.
Шамси увеличил поставку. Он обладал выдержкой, необходимой при быстром росте цен. Стремясь избежать ответственности за нарушение кое-каких ограничительных мер, введенных правительством в борьбе со спекуляцией, он оставлял в магазине лишь малую часть товаров, припрятывая большую часть у себя дома, в подвале; так поступало большинство спекулянтов Крепости, считая, что полиция не посмеет нарушить неприкосновенность купеческих домов. Подвал Шамси был забит тюками шерсти.
Третий год войны был для Шамси годом значительного преуспевания, хотя Шамси старался скрыть это от окружающих, даже от домочадцев. Выдавая Ана-ханум деньги на хозяйство, он по-прежнему ворчал на плохие дела, на дороговизну, на мотовство и попрошайничество жен. Однако все в доме ощущали неосновательность этих сетований — Шамси ворчал скорей по привычке и уже не был столь непреклонен, как прежде, в спорах из-за каждой копейки. Ругя и Фатьме все чаще перепадали подарки — кусок материи на юбку, на кофточку, а маленькому Бале — игрушки и сладости.
Преуспевание Шамси сказалось и на Баджи. К обычной ее работе по хозяйству прибавились новые заботы — ежедневная уборка и проветривание подвала, расчесывание слежавшейся шерсти.
В сентябре происходит осенняя стрижка овец. Кочующие стада овцеводов начинают спускаться с нагорий на зимнее пастбище. Горячее это время для овцеводов! Шамси заблаговременно поехал в Нагорный Карабах и выше, в Курдистан, на стойбища, к местам стрижки. Нелегко городскому торговцу, ежедневно отмеряющему привычный путь от дома до магазина, взбираться по склонам гор навстречу спускающимся стадам, но Шамси пренебрег годами и тучностью ради того, чтобы из первых рук скупить только что снятую коричневую карабахскую шерсть. Быстро и прибыльно продав эту шерсть, Шамси поспешил к местам более поздней стрижки, закупил новую партию и столь же выгодно ее продал. Третью партию он закупил на зиму, в запас.
— Теперь нужно повесить над магазином большую вывеску, — сказал ему Хабибулла, когда суета со скупкой шерсти утихла.
— Деньги не нуждаются в колокольчиках, — сухо возразил Шамси, — они сами звенят!
Хабибулла, казалось, предвидел возражение.
— Нет, — сказал он вежливо, но настойчиво. — Иной раз нуждаются. Ты, Шамси, привык торговать по старинке, так теперь торговать нельзя.
— Попробуй сам, если ты лучше умеешь! — ответил Шамси насмешливо: тройная операция с осенней шерстью придала ему самоуверенности.
Хабибулла пропустил насмешку мимо ушей.
— Но ты бы мог заработать еще больше, а звон, о котором ты говоришь, никогда не бывает чересчур громким, — заметил Хабибулла. — Если бы все, в ком ты нуждаешься, знали тебя и доверяли тебе в кредит, тебе не пришлось бы гоняться за стадами с холма на холм, в пыли, подобно жалкому пастуху, а шерсть со многих нагорий, весенняя и осенняя, текла бы прямо к твоим ногам, быстро и обильно, как ручьи, когда снег тает в горах. С другой стороны, военное ведомство само обращалось бы к тебе, как к известному крупному поставщику. Ты бы легче оборачивал куплю-продажу, и звон стоял бы в твоем магазине такой, как в русской церкви в праздник. Но для всего этого нужно создать видную фирму — переехать в новое большое помещение, повесить над магазином красивую вывеску.
Заманчиво звучали слова Хабибуллы! Но все же они не вполне убедили Шамси.
Перейти в новое помещение? Расстаться с насиженным местом, где торговали еще его отец и дед? Да все его на смех поднимут; скажут: надумал, дурак, на старости лет искать новое место, забыл, что оно для него уже уготовано — там, на горе, средь могильных камней. Нет уж, аллах избави! «Камень тяжел на том месте, где он лежит», — в сотый раз повторял Шамси любимую пословицу.
Что же касается вывески, то Шамси готов был согласиться, что вреда она не принесет, хотя и придется на нее кое-что поистратить. Если ж аллах захочет, вывеска может принести даже пользу. Прошло, однако, несколько дней, прежде чем Шамси подал Хабибулле листок чистой бумаги и произнес со вздохом:
— Напиши, Хабибулла, слова вывески, ты знаешь, как написать…
Хабибулла написал русский текст. Шамси трижды заставил его переводить текст на родной язык, высказывал пожелания, вносил поправки. И хотя Шамси не умел читать по-русски, он долго теребил исписанную бумажку, разглядывал ее, как бы стараясь вникнуть в непонятные знаки, удостовериться, что в них не скрыта опасность, беда.
Хабибулла задумчиво перечитывал текст.
— Счастье тому, чье имя будет стоять на этой выноске рядом с твоим! — вырвалось вдруг у него.
Хотел ли он польстить ковроторговцу? Давал ли понять, что непрочь видеть рядом с именем Шамси свое собственное? И качестве кого — компаньона, зятя?
«А почему бы не зятя? — промелькнуло в голове Хабибуллы. — Фатьме тринадцатый год, через год-два невеста. Чем он не хорош для этой дуры? Выйди Фатьма за него замуж, старику волей-неволей пришлось бы раскошелиться: как-никак — единственная дочь».
Шамси уловил тайный смысл сказанного Хабибуллой и нахмурился — не такому человеку, как Хабибулла, быть мужем Фатьмы! Не потому, разумеется, что Фатьма достойна лучшего мужа все бабы, как ослицы, равно глупы и упрямы! — но потому, что он, ее отец, владелец коврового магазина и склада шерсти, достоин лучшего зятя. Хабибулла, правда, человек образованный и родовитый. Но многого ли это стоит, если Хабибулла, как базарный писец, составляет по заказу бумаги, а все богатство, скрывающееся за этими бумагами, даже сам бумажный листок, чернила и ручка принадлежат ему, Шамси, которого аллах не наделил образованием и родовитостью, но зато наделил тем, чем можно купить образованного и родовитого человека.
Эта мысль развеселила Шамси. Он коротко усмехнулся.
«Я припомню тебе эту усмешку!» — подумал Хабибулла, и желание отплатить за долгие унижения вспыхнуло в нем с неожиданной силой.
Однако вслух он учтиво произнес:
— Я отнесу бумагу к живописцу, закажу вывеску.
— Давай лучше завтра, — сказал Шамси, бережно спрятав бумажку в карман. — Завтра день, когда святой Али дарит свой драгоценный перстень бедняку, — счастливый день! Быть может, и к нам святой Али будет милостив.
Вечером, украдкой от Хабибуллы, Шамси показал бумагу русскому чиновнику, на квартире которого жил Хабибулла: подумать, что иной раз полезет в голову даже таким умным людям, как Шамси, вообразил, что Хабибулла без его ведома поместит на вывеске свое имя! Конечно, Шамси не высказал своих подозрений чиновнику, а только просил прочесть, что написано на бумаге. Чиновник прочел, объяснил, и Шамси успокоился.
— Теперь пора заказывать, — сказал он наутро, подавая Хабибулле измятую бумажку.
Это было в день, когда святой Али дарит свой драгоценный перстень бедняку, в счастливый день. Неужели святой Али будет менее милостив к Шамси?..
Вслед за тем наступил махаррам, месяц печали и плача, когда нельзя брить бороду и голову, ходить в баню и начинать дела. Разумеется, не следует в такие дни вешать над магазином новую вывеску.
Но после месяца скорби, когда Шамси очистился, Таги притащил на спине вывеску от живописца. Она была так велика, что Таги исчез под ней, и казалось, что она сама, громыхая, движется но мостовой. С левого края вывески был изображен полусвернутый в трубку узорный красный ковер, с правого — желтый, перетянутый веревкой тюк шерсти. До чего же была красива эта вывеска! Пожалуй, не менее красива, чем потолок в комнате для гостей. Шамси приказал всем домочадцам идти к магазину любоваться ею.
Женщины, вперив глаза в вывеску, ахают, цокают языком, изо всех сил стараясь угодить главе семьи. Впрочем, восторг Ана-ханум и Фатьмы искренен.
Хабибулла выглядывает из магазина с видом победителя: это он придумал такую вывеску! Хабибулла улыбается женам Шамси, переглядывается с Фатьмой — мысль о втором имени на вывеске не выходит у него из головы. «Ковровое дело Шамси Шамсиев и зять». Коротенькое словечко «зять», но означает многое, как слово «бек». Фатьме через мать уже известно о намеках Хабибуллы, и она, не смея заговорить с ним, неуклюже кокетничает, бросая томные взгляды в его сторону.
— Какая красота! Какие узоры! — восторгается Ана-ханум изображением ковра на вывеске. Пользуясь любым случаем, чтоб уколоть свою соперницу, она добавляет: — Даже наша искусница Ругя такого не выткет!
— Слепому день и ночь равны! — презрительно усмехается Ругя и отворачивается от вывески.
Баджи изучает жесткие линии, резкие краски, наведенные малярной кистью на жестяные листы вывески.
— Ковры Ругя лучше! — невольно вырывается у нее.
— Молчи, дура! — накидывается на нее Ана-ханум, угости тычком и бок. — Тебя не спрашивают. Расхваливай как тебе приказано, и все.
Баджи умолкает.
«Ковры Ругя лучше. Лучше!» — упрямо твердит она про себя, потирая бок.
То, что предсказывал Хабибулла, сбылось, — много новых людей привлекла в магазин вывеска, возросли у Шамси доходы. И хотя имя Хабибуллы не стояло на вывеске рядом с именем ковроторговца, она все же сильно сблизила их.
Хабибулла стал вхож не только в магазин, но и в дом Шамси.
Баджи уже знает его вкрадчивый стук, скрипучее «это я, Хабибулла». Он проходит мимо нее не здороваясь, идет наверх к Шамси. Он ступает бесшумно, стремясь поймать врасплох Ругя, полюбоваться ею; он ведет себя, правда, с большой осмотрительностью — жена хозяина! — да и Ругя его не слишком жалует. Но с Фатьмой у него установилась дружба. Фатьма, завидя Хабибуллу, не спешит спрятаться от него и уходит, лишь подчиняясь окрикам матери.
Иногда Хабибулла дожидается Шамси. Строго говоря, не полагается мужчине задерживаться в чужом доме в отсутствие хозяина, но Хабибуллу Шамси мысленно приравнивает к слуге, а слуге, разумеется, разрешено находиться в доме в любое время. В часы ожидания Хабибулла сидит на галерее и читает газету, время от времени бросая взоры на женскую половину дома. Хабибулла никогда не снимает очков, и Баджи ни разу не видела его глаз, но она чувствует, что из-за темных стекол он смотрит на нее тем же нехорошим взглядом, каким смотрели халвачи и Теймур.
Случается, Хабибулла передает через Баджи подарки для Фатьмы. Нелегко Баджи выпускать их из рук — так хочется примерить бусы, браслеты, так хочется отведать фиников, жареного миндаля. Но еще трудней утаить что-нибудь от Фатьмы та неизменно настороже. У Фатьмы уже накопился целый ворох мелких подарков от Хабибуллы. Она бродит по комнатам, нацепив бусы, браслеты, грызя жареный миндаль. Она никогда не дает Баджи примерить бусы, браслеты, никогда не угощает ее — этого еще не хватало! Сердце Баджи наполняется завистью, когда Хабибулла вытаскивает из кармана подарок для Фатьмы. Она с облегчением и радостью закрывает за ним дверь, когда он уходит, не оставив Фатьме подарка.
«Чашка чаю»
В один из зимних дней Хабибулла сказал Шамси:
— Мусульмане-благотворители устроили в Исмаилие постоянную «чашку чаю». Помещение должно быть нарядно убрано, иначе ни один богатый человек туда не пойдет — грязных чайных, скажет он, хватает у нас на базаре. Так вот, благотворители обращаются ко всем мусульманам с просьбой дать во временное пользование красивые вещи — вазы, картины, ковры. Ты сам знаешь, что это у нас издавна принято.
— Нет у меня лишних ковров, — буркнул Шамси, — я ведь торгую ими.
Фамилии тех, кто дает красивые вещи, говорят, будут помещены в газетах, — сказал Хабибулла как бы невзначай.
Шамси, недавно вкусивший сладость популярности, насторожился.
— Я бы дал, пожалуй, один из больших лезгинских гяба́, — сказал он вяло.
Хабибулла пренебрежительно усмехнулся.
— На такой ковер никто и не взглянет, будь он величиной хоть с целое поле. Хороши, скажут, ковры у Шамси Шамсиева! А еще славится как лучший ковроторговец!
— Если так, сказал Шамси, загоревшись, — я дам кубинский хали-баласи, маленький коврик, но такой, что от него люди глаз не оторвут!
— Вот это правильно! — воскликнул Хабибулла удовлетворенно. Я сейчас позову Таги, чтоб он снес его в Исмаилие.
— Незачем, — остановил его Шамси, — коврик легкий — донесет девчонка.
Кубинский хали-баласи — это, конечно, не тяжелый лезгинский гяба́, но для девочки в двенадцать лет и он не так уж легок, как это представляется Шамси. Низко согнувшись, семеня ногами по мостовой, глядя исподлобья, как амбал, тащит Баджи на спине сложенный вчетверо коврик. Ветер мешает идти. Баджи придерживает зубами чадру. Стараясь не потерять из виду Хабибуллу, шагающего по тротуару в нескольких шагах впереди, она почти бежит за ним.
Но вот наконец и Исмаилие.
Красный портал, огромные окна, длинный балкон с колоннами, надписи, резные украшения крыши. Досадно: ковер мешает Баджи закинуть голову и разглядеть все как следует. Наверное, во всем мире нет дома красивее Исмаилие!
Вслед за Хабибуллой Баджи поднялась по широкой лестнице в большую комнату, сбросила коврик на пол, огляделась. Что только не натаскали сюда, в эту комнату! Какой-то мужчина прикреплял к вещам ярлычки с фамилией владельца — вещи сданы во временное пользование, беда, если что-нибудь пропадет. Другой — в европейском костюме, с золотой цепочкой на животе, — засунув руки в карманы, с хозяйским видом отдавал распоряжения.
Коврик привлек его внимание.
— Хороший ковер! — сказал он, тронув ногой ворс.
— Добрый день, Муса! — поклонился в ответ Хабибулла. — Ты прав, это хороший ковер.
— Наверно, из карабахских?
— Совершенно верно, Муса, из кубинских, — учтиво поправил Хабибулла.
— Хотел бы я приобрести такой коврик, — сказал человек с золотой цепочкой.
— Тебе-то уж, во всяком случае, желания подчиняются! — угодливо улыбаясь, ответил Хабибулла. — Это коврик Шамсиева.
— «Ковровое дело Шамси Шамсиева»? — спросил человек, словно что-то припоминая.
— Он самый! — обрадованно ответил Хабибулла.
— Красиво Шамси поступает, что дает «чашке чаю» попользоваться таким ковром, — одобрительно сказал человек с золотой цепочкой. — А это кто? — спросил он, стараясь разглядеть лицо Баджи, полузакрытое чадрой.
— Это его бедная родственница, служанка, — ответил Хабибулла таким тоном, словно извинялся не то за Шамси, не то за самого себя.
Человек с золотой цепочкой перевел взгляд на ковер.
— Хотел бы я приобрести такой коврик, — повторил он и отошел.
Хабибулла смотрел ему вслед.
— Это Муса Нагиев! — благоговейно шепнул Хабибулла Баджи. — Ни у одного человека в городе нет столько домов и денег, сколько у него. И вот этот дом, в котором мы сейчас находимся, тоже его дом. Муса выстроил его в честь своего сына Исмаила — поэтому-то дом и называется Исмаилие.
Хабибулла говорил столь пространно, стараясь дать выход нахлынувшим на него чувствам: шутка сказать, с ним беседовал сам Муса Нагиев!
Баджи была удивлена: неужели есть такие богатые люди, которые могут построить такой большой дом? Откуда берут они столько денег? В сравнении с ними Шамси показался Баджи куда менее значительным, ореол его потускнел. Ей даже стало обидно за дядю.
На обратном пути, проходя мимо раскрытых дверей шла, Хабибулла жестом указал Баджи место подле двери.
— Постой здесь! — сказал он, а сам вошел в зал.
Большой зал был уставлен столиками, за которыми сидели богато одетые мужчины и женщины, ели и пили. В конце зала возвышалась эстрада, где показывали свое искусство певцы, музыканты, танцоры. Между столиками сновали девушки в белых передничках, разнося сладости, фрукты, цветы.
Веселый смех и шум ударяют в голову Хабибулле. Он юлит между столиками, угодливо изгибаясь, как служка в кебабной. Он принимает поручения от мужчин, спешит от одного столика к другому, отпускает по пути любезности дамам, особенно барышням. Он необычно оживлен, и даже темные очки не могут скрыть этого от окружающих.
«Вот где надо искать невесту!» — думает он восхищенно.
Баджи заглянула в дверь вслед Хабибулле.
Аллах праведный! Как они красиво одеты, эти женщины в зале, как сверкают их кольца и ожерелья!
И тут же Баджи охватило недоумение: в женщинах, сидящих за столиками, в прислуживающих барышнях, в распорядительницах-патронессах Баджи узнала азербайджанок, хотя лица их были открыты и сами они, не смущаясь, свободно разговаривали с мужчинами. Неужели это возможно?
Но вот на эстраду поднимается мужчина. Он строен, красив. У него высокий лоб, тонкое лицо. В руках у него нет ни тара, ни кеманчи, он не поет, не танцует. Он только говорит. О чем? Баджи нелегко понять. Но в голосе его Баджи слышит песню и музыку, в жестах улавливает что-то похожее на танец. Никогда не слышала Баджи, чтобы так красиво говорили.
Незаметно для себя Баджи переступила порог, пошла вдоль стены к эстраде, глядя в упор на декламирующего актера. И он, казалось, смотрел на нее. Она скользила легко и бесшумно, но ее необычный для этого зала наряд привлек внимание.
— Куда ты лезешь? — услышала она вдруг сердитый шепот. Это Хабибулла поспешил сюда с другого конца зала — он чувствовал себя ответственным за поведение Баджи.
Взор Баджи оставался прикованным к актеру.
— Уйди отсюда! — сказал Хабибулла громче, но Баджи не двигалась с места. — Уйди, говорю! — прикрикнул он.
Окружающие зашикали на Хабибуллу — он мешал слушать. Хабибулла замолчал.
— Браво, Гусейн, браво! — стали кричать в зале, когда актер умолк.
Хабибулла воспользовался шумом.
— Пошла домой! — набросился он на Баджи и рукой указал в сторону выхода, но актер, раскланивавшийся с публикой, уловил жест Хабибуллы и сам жестом остановил его: пусть девочка останется!
Хабибулла, виновато улыбнувшись, подчинился актеру — сейчас тот был властителем зала. Но когда актер покинул эстраду, Хабибулла сказал неумолимо:
— Пошла домой, сейчас же! — и стал толкать Баджи к выходу.
Баджи оборачивалась, искала актера глазами — ведь он разрешил ей остаться. Увы, эстрада была пуста! Баджи вышла из зала, нехотя поплелась домой.
Вслед за Баджи явился Хабибулла. Вид у него был самодовольный.
— Я и на этот раз оказался прав! — сказал он. — Ты не поверишь, Шамси, кто загляделся на твой ковер… — И так как лицо Шамси выразило любопытство, Хабибулла нарочно помедлил: — Никогда не поверишь…
— Кто же? — не выдержал Шамси.
— Муса, Муса Нагиев! — торжествующе ответил наконец Хабибулла. — Он похвалил твой ковер.
— Муса Нагиев! — воскликнул Шамси с несвойственным ему восторгом, и восторг этот был уместен, ибо Муса не просто богач, но царь богачей, всесильный человек. Равным ему, может быть даже выше него был в городе только один человек — богач хаджи Зейнал-Абдин Тагиев. Они оба — Муса и хаджи Зейнал-Абдин — царили в умах многих людей, и трудно было сказать, кто из них важней, подобно тому как трудно сказать, кто сильней — лев или тигр.
— Я, конечно, этим воспользовался и немедля предложил Мусе приобрести коврик, — солгал Хабибулла. — Муса, по-видимому, склонен это сделать… Боюсь только, что он потерял ключ от кассы, — добавил Хабибулла озабоченно, имея в виду крайнюю скупость богача, про которую в городе ходили целые легенды.
— Каждый тратит свои деньги как хочет, — ответил Шамси, пожав плечами, как бы оправдывая богача. — Надо, однако, умеючи подойти к Мусе, и я уверен, он хорошо заплатит. Впрочем, такому человеку, как Муса, я готов уступить сколько возможно… Что ж до тебя… — лицо Шамси приняло обычное торгашеское выражение, — то один рубль со ста, как всегда. Надеюсь, не откажешься?
— Я буду не я, если не продам Мусе коврика! — воскликнул Хабибулла воодушевляясь.
Долго еще беседовали друзья. Выла уже ночь, когда Баджи закрыла дверь за Хабибуллой.
Баджи не спалось. Все казалось ей, что стоит она в большом светлом зале, у стены, видит красивого мужчину с высоким лбом и сверкающими глазами и в голосе его слышит песню и музыку.
Почему звучал для нее этот голос в поздний час зимней ночи, когда все вокруг спало — дядя, жены его и вся старая Крепость? Почему?..
Русская книга
С каждым днем крепнет у Хабибуллы желание жениться: трудно такому человеку, как он, в его годы, жить без жены, хочется ласкать сына, продолжателя рода. Только на ком жениться? Неужели на этой невежественной дуре Фатьме? А кто, впрочем, лучше? За редким исключением, все они таковы, а исключения бывают именно в тех кругах, откуда нет у него надежды взять жену при его нищенском положении. Жениться на русской? Хороши, правда, розовые русские женщины, очень хороши! Но жениться на русской — значит погубить древний род. Мысли Хабибуллы возвращаются к Фатьме. У Фатьмы, конечно, есть одно важное преимущество: богатый отец. Но вот опять же — ее невежество! И вдруг Хабибуллу осеняет идея: а что, если посоветовать Шамси заняться образованием дочери? За два-три года она кое-чему подучится, а много ли, в конце концов, знаний нужно женщине-азербайджанке?
Хабибулла является к Шамси.
Столкнувшись во дворике с Фатьмой, он улыбается ей приветливей, чем обычно. Фатьма спешит похвастать этим перед Баджи.
— Нравлюсь я, видно, нашему Хабибулле! — шепчет она взволнованно. — Что ж, и он мне тоже нравится. Сразу видно, что не какой-нибудь простой человек, а бек.
— Какой он бек — у него одежда рваная! — смеется Баджи.
Фатьма вспыхивает:
— Сама ты рваная! Просто из зависти так говоришь!
— А ты погляди на его рукава!
— Незачем мне глядеть… — Слыша голоса, доносящиеся из комнаты для гостей, Фатьма меняет тон. — Давай вот лучше заглянем в оконце над дверью, послушаем, о чем они там говорят. Тащи сюда ящик — ну!
Обе становятся на ящик, смотрят в дверное оконце, подслушивают.
О чем, в самом деле, говорят Шамси и Хабибулла, сидя за чаем в комнате для гостей?
— Никакой беды не случится, если девушка год-два будет посещать школу, — говорит Хабибулла.
— Но разве коран не запрещает нам этого? — недоуменно возражает Шамси. — Ведь это только молодые модники отдают своих дочерей в русские школы!
— Ах, Шамси! — снисходительно улыбается в ответ Хабибулла. — Ты отстаешь от жизни. Это только невежественные муллы так учат темный парод. — Говоря так, Хабибулла намекает на Абдул-Фатаха. — А вот возьми, к примеру, закавказского муфтия, — ты, конечно, слышал об этом ученейшем мулле? Так вот обе его дочери окончили русский женский институт. Одна из них замужем за генералом для поручений при верховном главнокомандующем, другая — за командиром полка, георгиевским кавалером. Дочери муфтия — одни из самых образованных женщин среди мусульманок. А ведь муфтий — не молодой модник, как ты выражаешься, ему девяносто лет, он еще во время русско-турецкой войны был переводчиком при великом князе Михаиле Николаевиче.
Трудно спорить с Хабибуллой. Шамси, однако, пытается возражать:
— Приятно, конечно, иметь зятем генерала или полковника — если только, разумеется, они мусульмане, — но я все же опасаюсь, что, посещая русскую школу, наши дочери забудут святой шариат.
— Не забудут! — уверенно говорит Хабибулла. — Несколько лет назад в русском женском институте, в заведении святой Нины в Тифлисе, сам наместник царя на Кавказе граф Воронцов-Дашков на свои собственные средства устроил для девушек-мусульманок, воспитанниц института, маленькую мечеть и комнату для преподавания шариата. Бакинские знатные мусульманки послали им туда подарок — коран в богатом сафьяновом переплете. Если бы ты только видел, какие ковры пожертвовали в эту мечеть виднейшие мусульмане Кавказа, дочери которых учатся там! Уж ты-то смог бы по достоинству оценить эти ковры! А какие люди были там на торжественном открытии женской мечети! Сама графиня Воронцова-Дашкова, княгиня Чавчавадзе, барон Рауш фон Траубенберг — тифлисский губернатор…
Шамси ошеломлен.
— А ты как туда попал? — недоверчиво спрашивает он.
— Я был послан на торжество от редакции газеты, — отвечает Хабибулла, падая с высот волшебного мира в мир повседневный.
Хабибулла, по-видимому, говорит правду. Благоразумие, однако, не позволяет Шамси сразу согласиться с неожиданным предложением Хабибуллы.
А вместе с тем доводы Хабибуллы столь убедительны, картины светского общества столь заманчивы! Ковроторгонец уже видит свою дочь в обществе княгинь и графинь. Наконец, в школе будет маленькая мечеть, где мулла будет обучать девочек корану по книге в сафьяновом переплете.
— В такую школу я бы отдал Фатьму! — вырывается у Шамси.
Фатьма за дверью подталкивает Баджи в бок:
— Это они обо мне говорят, слышишь?
Обе напряженно вслушиваются в разговор.
— О нет! — доносится до них низкий голос Хабибуллы. — Я только для примера привел тебе эту школу — ведь туда принимают лишь дочерей знатных людей.
Баджи удовлетворена: так ей и надо, этой хвастунье!
Но вот снова слышится низкий голос:
— Для дочерей купцов есть в городе другая школа — туда ты и сможешь отдать Фатьму.
Теперь опять торжествует Фатьма.
— Отец отдаст меня в школу! — восклицает она. — Я буду настоящей барышней!
— Не отдаст! — возражает Баджи.
— Посмотрим, как ты завоешь, когда увидишь меня с книжкой в руках, а сама будешь вертеться с метелкой по комнатам или с корзинкой по базару!
Кровь ударяет Баджи в голову: Фатьма будет ходить с книжкой, будет школьницей, а она, Баджи…
— Пока тебе еще только купят книгу, а у меня она уже есть! — говорит Баджи задорно.
— Врешь! — отвечает Фатьма, пренебрежительно поджав губы.
— Пусть сдохну, если я вру! — восклицает Баджи.
— Тогда покажи, — предлагает Фатьма.
Что-то подсказывает Баджи: не надо, не надо показывать книгу! Но Фатьма смотрит на Баджи так презрительно, так вызывающе, что робкий голос благоразумия гаснет. Баджи соскакивает с ящика, убегает. Не успевает Фатьма оглянуться, Баджи уже стоит перед ней с книжкой в руках.
— А ну, раскрой! — говорит Фатьма удивленно.
Баджи раскрывает книжку.
— А ну, дай-ка мне! — Фатьма протягивает руку, все еще не веря своим глазам.
Что-то подсказывает Баджи: не надо, не надо давать Фатьме в руки книгу! Однако для того, чтобы насладиться победой, дать необходимо. Фатьма сует в раскрытую книгу свой длинный нос, разглядывает буквы. Фатьма неграмотная, но она все же отличает знакомые по вывескам четкие русские буквы от завитушек арабского шрифта, виденных в книге корана, в двух-трех других книгах, составляющих библиотеку Шамси.
— Русская книга! — взвизгивает вдруг Фатьма и бросает книжку на пол, точно ужаленная змеей.
Опомнившись, она снова хватает книжку: надо показать отцу, чтобы выяснил, откуда у этой черногородской такая книга — уж не стащила ли где-нибудь? Фатьма делает движение, чтоб спрятать книжку за пазуху.
Не тут-то было! Вмиг Баджи вырывает книжку из рук Фатьмы, выбегает из комнаты.
— Русская книга! — визжит Фатьма во весь голос. — Русская книга!
На шум появляется Шамси.
— Здесь, в этой комнате, русская книга, у Баджи! — задыхаясь от волнения, шипит Фатьма.
Шамси зовет Баджи.
— Где книга? — строго спрашивает он.
Изумление на лице Баджи служит ему ответом.
Шамси зовет Ана-ханум.
— Не видела ты здесь русской книги?
Теперь изумление появляется на лице Ана-ханум: откуда в их доме может быть русская книга? Хозяин, видно, с ума сошел на старости лет!
Шамси зовет младшую жену.
Оказывается, и младшая жена никакой русской книги не видела.
Шамси усмехается. Ясно: Фатьма не в своем уме, играет кровь — тринадцать лет девке.
— Сумасшедшая! — говорит он, вертя рукой у головы.
Взгляды Баджи и Ругя встречаются. Едва заметная улыбка мелькает на лице Баджи и вызывает ответную улыбку на круглом лице Ругя. Ана-ханум перехватывает их взгляды: здесь что-то нечисто! Фатьма заливается слезами — теперь уж, конечно, отец не отдаст ее в школу!
С этой минуты Фатьма становится врагом Баджи. Кажется, нет им места вдвоем в этом мире.
Ана-ханум, разумеется, на стороне дочки.
Путем тщательных расспросов она убеждается, что та действительно видела у Баджи русскую книгу. Но если так… Вряд ли упрямая девчонка выбросит эту книгу, и, значит, надо запастись терпением, незаметно следить и накрыть девчонку с поличным. Вот когда попляшет она у них, черногородская!..
Но Баджи осторожна. Она даже боится думать о книжке: вдруг догадаются, о чем она думает?
Однако и Ана-ханум не так проста — она решает усыпить бдительность Баджи. И все чаще перепадает Баджи на кухне сладкий кусочек, прекратились подзатыльники, почти нет ругани и проклятий. Ана-ханум то и дело расхваливает Баджи, называет «милочкой». Много мешков хитрости нужно женщине, чтобы добиться своего!
«Наверно, забыли», — решает в конце концов Баджи.
Проходит все же немало времени, прежде чем Баджи решается извлечь книжку из тайника.
Однажды, когда домочадцы погружены были в послеобеденный сон, Баджи достала книжку из сумки и, усевшись на свою подстилку, в сотый раз принялась рассматривать картинки. Вот солдата ведут в цепях. Вот солдат обнимает женщину. Вот солдат бросается в воду, а женщина, подняв руки, плачет на берегу…
— Наконец-то я тебя поймала! — слышит она вдруг торжествующий крик Фатьмы и едва успевает сунуть книжку в сумку, как Фатьма набрасывается на сумку и подминает под себя. — Мать! Отец! Скорее сюда! Опять у нее русская книга! — визжит Фатьма.
Послеобеденного покоя как не бывало. Со всех сторон спешат домочадцы к месту происшествия, на галерею, где Баджи и Фатьма, сцепившись, катаются по полу. Спешит, ковыляя, и Бала, едва поспевая за матерью.
— А ну, отдай книгу! — приказывает Шамси.
Баджи не выпускает сумку из рук.
— Нет у меня никакой книги! — отвечает она.
— Она у нее в сумке! — шипит Фатьма.
Голос Шамси звучит громче:
— Говорю тебе, отдай книгу!
— Нет у меня никакой книги! — упрямо твердит Баджи, задыхаясь.
Шамси ударяет ногой по сумке. Баджи в ответ лишь сильней прижимает ее к груди, стараясь одновременно высвободиться из цепких объятий Фатьмы.

Шамси ударяет вторично. Сильный удар приходится Баджи по руке. Баджи кажется, будто ей оторвали руку. Сумка падает, раскрывается, книжка вываливается на пол.
— Ну, что я говорила! — торжествующе восклицает Фатьма, продолжая, однако, цепко держать Баджи.
Шамси тяжело нагибается над книжкой.
— Не трогай! — яростно вскрикивает Баджи. Губы ее трясутся, глаза горят злобой. Шамси останавливается в нерешительности. Но он чувствует, что на него обращены взоры домочадцев, и поднимает книжку: авторитет главы семьи превыше всего.
В то же мгновенье Баджи вырывается из рук Фатьмы и кидается на Шамси. Ей не удается вырвать книжку, зажатую в сильной мужской руке. В ярости она кусает Шамси за палец. Шамси, взревев, роняет книжку и с размаху ударяет Баджи кулаком по лицу. Несмотря на боль, Баджи хватает книжку с пола и, увернувшись от Ана-ханум и Фатьмы, сбегает по лестнице во двор, в подвал, и запирается изнутри.
Все бегут во двор вслед за Баджи. Последним ковыляет Бала. Шамси, Ана-ханум, Фатьма колотят кулаками в дверь подвала, осыпают Баджи проклятиями, угрозами. Только Ругя уходит в свою комнату, неодобрительно покачивая головой.
Баджи стоит посреди темного подвала, набитого тюками шерсти, прижав измятую книжку к груди, и не отвечает; пусть кричат сколько угодно, пусть хоть лопнут от злости — она не ответит! Кровь течет у Баджи из разбитых губ. Сердце готово разорваться.
Шамси приносит с улицы камни, с силой швыряет их в дверь. Дверь содрогается, душная пыль окутывает Баджи, но она все так же молчит. Наконец Шамси приходит в себя: незачем зря ломать дверь — лучше взять девчонку измором; вылезет же когда-нибудь, проклятая, из своей норы!
— Ты нас не хочешь впускать, ну, и мы тебя не выпустим. Посмотрим, кто кого осилит! — говорит он, захлопывая наружный засов подвала. — Посидишь до утра — опомнишься!.. — Косо поглядывая на окно Ругя, он завершает: — Пусть посмеет кто-нибудь открыть!..
Долго сидит Баджи взаперти. Вдруг слабый стук в дверь. Баджи вздрагивает.
— Кто там?
Никто не отвечает. Через минуту стук повторяется. И так несколько раз. Баджи решается выглянуть в крошечное треугольное оконце, вырезанное вверху двери. Что за черт! Это Бала с палкой в руке кружит по дворику и, проходя мимо двери подвала, всякий раз ударяет в нее палкой: все сегодня стучали в эту дверь — чем он хуже других?
В этот вечер входную дверь запирает Фатьма — вместо Баджи. Подойдя к подвалу, она злорадно кричит в оконце:
— Читаешь русскую книгу?
Баджи упрямо молчит.
Большая луна всходит на небе. Баджи видит ее в треугольном оконце. Потом луна исчезает за облаками, в подвале становится совсем темно, скребутся мыши. Баджи страшно, она не может уснуть. В середине ночи дом снова наполняется шумом: это Ругя украдкой собралась снести Баджи поесть, но натолкнулась на Ана-ханум. Та будит Шамси. Ну, теперь младшей жене несдобровать!..
Измученная, разбитая, встречает Баджи восход солнца.
Дочери муфтия, богатые девушки, такие, как в Исмаилие, и, может быть, даже Фатьма имеют право читать книжки, хотя они мусульманки. Но она, Баджи, этим правом не обладает. Есть, видно, два закона для мусульманок: один для них, другой — для нее.
Впервые за дни своей жизни в этом доме Баджи поняла, что ей плохо, что она здесь чужая, окружена врагами, — и слезы, горькие, как ее жизнь, хлынули из глаз.
Баджи разглаживала ладонью листы книжки — измятые, мокрые от слез, запачканные кровью. В тусклом свете подвала вглядывалась она в знакомые картинки, в непонятные строки, пытаясь разгадать их смысл.
Что в них таилось? Какой неясной силой звали они к себе и что сулили?..
Ответа не было.
Но, видно, и впрямь жила в них какая-то странная сила, если в знак дружбы подарена была эта книжка при расставании; если, завидя ее, визжали враги, точно коснувшись змеи; если почтенный торговец схватился из-за нее с девчонкой; если сама Баджи, плененная этой неясной силой, пролила ради нее свои горькие слезы и кровь.
Часть третья Царя нет

Азербайджанцам теперь будет хорошо!
Однажды весной Шамси вернулся из магазина позже обычного. Молча поужинав, он объявил домочадцам:
— Русского царя больше нет!
Жены заохали, зацокали языком. Они не знали, к добру весть или к худу, не знали, как вести себя.
Баджи подумала: русского царя, за которого ее заставляли пить водку, из-за которого она получила пощечину, больше нет? И вдруг обрадовалась: так ему и надо!
Фатьме показалось, что отец недоволен, и в угоду ему она захныкала.
— Чего ты ревешь, дура? Азербайджанцам теперь будет хорошо! — сказал Шамси.
Слезы Фатьмы тотчас высохли.
— Азербайджанцам теперь будет хорошо! — разом затараторили женщины на всевозможные лады.
— И мне тоже, дядя? — осмелилась спросить Баджи. За два месяца, прошедшие после события с русской книгой, она обратилась к нему впервые.
Шамси вспомнил прокушенный палец… Неблагодарная! Злодейка!.. Но он в этот день был слишком взволнован, чтоб ответить Баджи так, как, по его мнению, следовало бы ей ответить.
— Тебе тоже, — буркнул он великодушно.
Баджи весело хлопнула в ладоши.
Пустые вы головы, бабы, ни в чем не разбираетесь, — сказал Шамси озабоченно: он уже был не рад, что так поспешно поделился новостью с женщинами — еще разнесут весть по свету, а потом окажется, что царь сидит на троне цел и невредим — неприятностей не оберешься; с другой стороны, если царь действительно свергнут — верно ли, что к лучшему свершившаяся перемена?..
В один из ближайших дней стало известно, что на собрании в Исмаилие губернский казий провозгласил, что новое правительство в Петрограде как нельзя лучше соответствует духу ислама. Шамси сначала было удивился: еще совсем недавно губернский казий возносил жаркие моления за долголетие и здравие царя. Однако особенно задумываться над этим вопросом Шамси не пришлось — факты сами за себя говорили: царя нет. Временное правительство существует, а живой пес, как известно, сильней дохлого льва. Да пошлет аллах долголетие и здравие уважаемому Временному правительству.
В ту же пору появились в городе воззвания, призывающие азербайджанцев признать и поддержать новое правительство, как наилучшее для них. Эти воззвания были подписаны богачами — хаджи Зейнал-Абдин Тагиевым, Муса Нагиевым и другими, имена которых Шамси произносил с благоговением; они были подписаны знатными и образованными людьми из ханов и беков — офицерами, докторами, юристами, инженерами; духовными пастырями — закавказским шейх-уль-исламом, отцом шиитов, и закавказским муфтием, отцом суннитов. Воззвания эти были подписаны людьми, с которыми Шамси хотя и не был лично знаком, но имена которых много говорили уму и сердцу праведного мусульманина, короче говоря — людьми, заслуживающими доверия. Оно подкреплялось и тем, что подписаны были воззвания не где-то там далеко, в Петрограде, неизвестными людьми, а здесь, людьми местными и богатыми, которых, по мнению Шамси, нельзя было подкупить, так как у них самих хватало денег, чтоб подкупить — если на то пошло — кого угодно.
«Да пошлет аллах долголетие уважаемому Временному правительству!» повторял Шамси на людях вслед за казием.
С глазу на глаз он все же спросил Абдул-Фатаха, что это такое — Временное правительство.
Абдул-Фатах откашлялся.
— Прежде, Шамси, ты знаешь, был русский царь. Он один правил страной. А теперь будут править вожди разных партий. Это и есть Временное правительство.
— Но зачем, объясни, прошу тебя, возносит наш казий моления за такое правительство? — спросил осторожно Шамси. — Разве коран одобряет такую власть, когда правят вожди партий, а не царь, поставленный над людьми самим богом?
— Вполне! — ответил Абдул-Фатах. — Тому даже есть доказательство. В давние времена в одну из войн мусульманам грозила опасность и пророк готов был заключить мир с врагом; посоветовавшись, однако, с вождями партий, он уступил их мнению — продолжать войну; война была продолжена, мусульмане одержали победу. Вот как уважал пророк вождей партий!
«Праведный, умный человек Абдул-Фатах, всегда умеет приложить коран к жизни!» — подумал Шамси восхищенно.
Он не знал, что тотчас после создания Временного правительства губернский казий издал для всех казиев и приходских мулл города и губернии предписание подробно знакомить в мечетях своих прихожан с политикой Временного правительства и провозглашать это правительство как единственно желанное для мусульман. Не знал он также и того, что Абдул-Фатах совместно с двумя другими муллами составил по поручению губернского казия новую молитву за Временное правительство.
После беседы с Абдул-Фатахом сомнения Шамси рассеялись. Он стал ревностным сторонником Временного правительства и в мечети столь же прилежно возносил аллаху новую молитву за новое правительство, как прежде за царя и царствующий дом.
Хабибулла укреплял Шамси в этих новых воззрениях.
Сам он целые дни проводил в Исмаилие. Жизнь здесь после свержения царя пошла по иному пути: дом кишел комитетами азербайджанских партий всех мастей и оттенков, лигами, организациями; мирный звон посуды и сладкие звуки ресторанных мелодий «чашки чаю» сменились теперь запальчивыми голосами спорщиков, одобрительными аплодисментами, а подчас и яростным, осуждающим свистом.
И в соответствии с тем, как изменилась жизнь Исмаилие, изменилась и роль, которую прежде играл в ней Хабибулла. Он уже не юлил среди уставленных яствами столиков «чашки чаю» в надежде подладиться к какому-нибудь богачу и скромным маклерством заработать десяток рублей. С красным бантом в петлице, с папкой в руках, деловито спешил он теперь из комнаты в комнату большого здания Исмаилие, организуя диспуты и митинги, раздавая брошюры; или сидел где-нибудь, притулившись в уголке, и строчил заметку для газеты. Дел у Хабибуллы вдруг оказалось по горло.
Охотней всего Хабибулла посещал комнату, которую облюбовали себе члены буржуазно-помещичьей партии «мусават».
Что привлекало его в этой комнате?
Здесь бывали не только тузы-нефтепромышленники, крупные домовладельцы, богачи-ювелиры, судовладельцы — люди, перед которыми Хабибулла хотя и пресмыкался, но которых в глубине души презирал как разжиревших выскочек и невежд. Здесь бывали и образованные люди — инженеры, врачи, адвокаты, — в большинстве своем выходцы из помещичьих, ханских и бекских семей, владевшие землями в восточных губерниях Закавказья, особенно в Елисаветпольской. Поместья не мешали инженерам занимать в Баку места технических руководителей в нефтепромышленных фирмах, а врачам и адвокатам — иметь весьма широкую практику. Короче говоря, здесь находились люди, которых Хабибулла считал солью своего народа.
Хабибулла не забывал про свой потертый пиджак, и псе же с людьми этими он чувствовал себя лучше, чем с богачами-тузами, купцами, торговцами, не говоря уж о людях из народа, о рабочих, с которыми ему, кстати сказать, почти никогда не приходилось общаться, или с крестьянами, которых по сей день ненавидел и боялся. Хабибулле казалось, что он хорошо понимает этих людей в европейских костюмах и шляпах, в крахмальных воротничках, бритых, — таких именно, каким он сам должен был бы стать, не произойди несчастья с Бахрам-беком. Он плоть от плоти, кровь от крови этих людей, несмотря на свой потертый пиджак.
Все эти люди ощутили в себе в ту весну большую силу: глупый царь, ограничивавший даже их, считавших себя цветом Закавказья, перестал существовать. Свержение царя совпало с праздником весны, новрузбайрамом, и они охотно сравнивали себя с ветвями промерзшего за зиму дерева, которому предстоит теперь расцвести. Весеннее солнце, считали они, светит для них.
Как же мог Хабибулла не тянуться к ним — он, слабая ветка, надломленная гибельным вихрем, но не оторвавшаяся от ствола?
— Азербайджанцам теперь будет хорошо! — неслось со всех сторон, и Баджи вслед за всеми повторяла про себя эти слова надежды.
Баджи легко верила вестникам счастья, добрым предзнаменованиям. Как часто и горько впоследствии, уже будучи взрослой, упрекала она себя за это…
Но теперь весеннее небо было безоблачно, дни становились теплей, чахлые деревца в городском саду расцветали. Ничто не предвещало бурь.
В гостях у брата
Надежды, казалось, готовы были осуществиться.
В один из мартовских дней нежданно явился в Крепость Юнус. Племянник и дядя поздравили друг друга со свержением царя, обнялись. При этом дядя брезгливо принюхивался к запаху нефти, исходившему от одежды племянника.
Юнус попросил Шамси отпустить Баджи в гости до вечера, и Шамси, пребывавший в последние дни в добром расположении духа и втайне благодарный племяннику за то, что тот не злоупотребляет его гостеприимством, не в силах был отказать. Пусть проведут вместе денек: как-никак — брат и сестра.
Баджи ликовала: на целый день уйдет она из дому, целый день проведет она с братом!
Когда промысловый поезд тронулся, Баджи испуганно схватилась за сиденье. Но тут же поняла, что ей не грозит опасность.
Баджи сидела рядом с братом, смотрела, как пробегают в окне последние городские дома, пригородные лачуги, столбы. Изредка Юнус перебрасывался словцом c ехавшими в поезде рабочими. Баджи вслушивалась, но не могла понять, о чем у них идет речь. Потом в окне появились нефтяные вышки. Аллах праведный! Сколько их было здесь, этих вышек, — больше, чем труб в Черном городе!
С вокзала брат и сестра зашли в мясную лавку.
— Будет ли мягкая? — озабоченно спросил Юнус, щупая баранину.
— Перина шахской жены! — ухмыльнулся мясник, искоса взглянув на Баджи, и отсек кусок.
Дом, в котором жил Юнус, Баджи не понравился — низкий, грязный, не лучше номеров в Черном городе. Особенно ей не понравилась внутренность казармы для одиноких рабочих — ни одного зеркала, ни одного коврика, закопченный потолок.
Во дворе Юнус долго возился подле жаровни, приготовляя шашлык.
Стоя в сторонке, Баджи наблюдала, как неумело насаживает он на вертел куски баранины. Редко, видно, захаживает брат в мясную лавку.
«Невкусно, — думала затем Баджи, с трудом разжевывая жилистое мясо. Плов ей тоже не понравился. — Мало жиру, — определила она про себя. — Не сравнишь с пловом, какой готовит Ана-ханум!»
Обед занял много времени. Едва успели выпить чаю, спустились сумерки. Послышался гудок.
— Надо спешить, — сказал Юнус.
Они пошли к вокзалу. Баджи нарочно медлила: у брата ей, правда, оставаться не хотелось — плохо он живет, — но еще больше не хотелось слушать окрики и понукания Ана-ханум.
Невдалеке от вокзала им встретился пожилой рабочий.
— Не спешите, — сказал тот, — поезд уже ушел.
— Есть еще один, — возразил Юнус. — Последний, ночной.
137
— Его отменили. Говорят, что незачем рабочему человеку по ночам ездить в город.
— А когда же ездить? Днем все работают.
— Кое-кто считает, что нашему брату вообще незачем ездить в город, — с недоброй усмешкой сказал рабочий, продолжая свой путь.
Потоптавшись с минуту на месте, браг и сестра вернулись на промысел. В казарме горел тусклый ночник. Многие уже спали. Юнус уложил Баджи на свою койку незаметно для окружающих и сел на пороге.
Небо был усеяно звездами. Юнус слушал, как дышит Баджи во сне, долго смотрел на звезды и наконец задремал. Вдруг он почувствовал толчок в плечо и открыв глаза, увидел стоящего перед ним промыслового приказчика.
— Ты что, правил не знаешь? — спросил приказчик кивнув в сторону спящей.
— Это моя сестра! — ответил Юнус.
— Все у вас сестры! — усмехнулся приказчик и пальцем указал на табличку, прибитую к стене
Юнус не повернул головы — он и без того знал правило, вывешенное у всех на виду: «Строго воспрещается родным и знакомым оставаться в казарме после 10 часов вечера. Администрация».
— Это моя сестра, сирота, — сказал Юнус, нахмурившись. Она опоздала на поезд, некуда ей идти
— Здесь не ночлежка, не караван-сарай! — сухо ответил приказчик. — Пусть уходит.
— Да не гони ты девчонку! — послышался голос из глубины казармы. В кои-то веки сестра приехала в гости к брату!
В казарме было полутемно, но приказчик по голосу узнал говорившего: опять шумит этот Рагим!
— Я не хозяин, — сказал приказчик, пожав плечами. — Только тебе же, Юнус, хуже будет: узнают — уволят за нарушение промысловых правил. С инженером Куллем ты, надеюсь, знаком?
Юнус молчал. Еще бы не знать промыслового инженера!..
Странно выглядел этот инженер Кулль в глазах рабочих. Все в нем было неопределенно: ни высокий, ни низкий, ни толстый, ни худой, ни добрый, ни злой. Ни рыба ни мясо! Какой он был национальности? Тоже неопределенной: не то из англичан, не то из немцев или из датчан. По-русски он говорил правильно, хотя с акцентом.
Определенным в инженере Кулле было одно: он был пьяница.
Шли среди рабочих разговоры, что в молодости он жил в Америке и работал на нефтепромыслах «Стандарт-ойл». Обладая знаниями, не лишенный способностей, он делал большую карьеру как инженер, но в пьяном виде допустил ряд крупных промахов, был уволен, скомпрометирован и уже не мог нигде устроиться на подходящее место.
Тогда Кулль уехал искать счастья в Россию, в Баку, и стал работать на нефтепромыслах фирмы «Братья Нобель». Русская водка пришлась ему по вкусу еще больше, чем виски, и его стали частенько находить в нефтяных лужах и канавах. Фирму «Братья Нобель» пришлось покинуть и искать местечка поскромней. Такое местечко нашлось на «Апшероне», где жалованье Кулль стал получать в три раза меньшее, чем прежде, но где нравы были не так строги, как среди чопорной немецко-шведской служилой знати фирмы «Братья Нобель».
Америка, «Стандарт-ойл» поступили с инженером Куллем сурово, сурово поступила с ним и фирма «Братья Нобель», но в глубине души Кулль не был на них в обиде. Да, ему не удалось добиться успеха, и это, разумеется, неприятно, думал Кулль, но ни Америка, ни «Стандарт-ойл», ни чопорные «Братья Нобель» не становятся от этого плохими. Ведь таков мировой закон: один преуспевает, другой терпит крах. Жизнь напоминает карточный стол. «Сегодня — ты, а завтра — я!» — как поется в одной красивой русской опере. Конечно, «Апшерон» — не «Братья Нобель», но ничего не поделаешь: работать в конце концов можно и здесь, а главное — пить сколько влезет!
Рабочие испытывали к инженеру Куллю двойственное чувство. С одной стороны, они не могли сказать о нем что-либо особенно дурное — он не позволял себе кричать на рабочих, ни, тем более, кого-нибудь ударить, как это до недавнего времени позволяли себе некоторые промысловые инженеры, он никогда не придирался понапрасну. Но, с другой стороны, рабочих злило, что инженер всегда поступал при этом «строго по закону» и согласно «Правилам», вывешенным в промысловой конторе на видном месте, а законы эти и правила неизменно направлены были против рабочих, в пользу владельца промысла. Перспектива потерять «Апшерон» и снова искать службу явно не улыбалась Куллю. Поэтому инженер Кулль никаких поблажек не давал.
Приказчик, следовательно, говорил с полным знанием дела.
— Худо нам здесь, в казарме для бессемейных: кто хочет — командует нами! — снова раздался голос Рагима.
— Скажи спасибо, что есть где переночевать, не то спал бы под небом или в какой-нибудь пещере, как спят у нас за Араксом! — возразил пожилой тарталыцик из Ардебиля, сосед Юнуса по койке. Он прибыл сюда на заработки из Южного Азербайджана и благодарил бога, что приказчик, за хорошее угощение разумеется, устроил его на жительство в казарму. Да, с приказчиком надо жить в ладу, время от времени приходится и поддакивать ему.
Ободренный поддержкой, приказчик сделал шаг по направлению к койке, на которой, свернувшись калачиком, спала Баджи, и крикнул:
— А ну, давай!
Юнус встал между приказчиком и койкой. Фигура его выражала решимость.
— Не связывайся ты с ним, Юнус, — его время еще не пришло! — послышался спокойный голос из глубины казармы. — Царя, правда, уже нет, но хозяева и их приказчики еще живы. Закон на их стороне.
Юнус внял совету.
— Хорошо, — сказал он, стиснув зубы. — Сейчас сестра уйдет.
Обернувшись к Баджи, он тронул ее за плечо.
— Кто это? — не разобрала Баджи спросонья и испуганно вскочила.
— Надо идти, — сказал Юнус тихо. — Администрация не разрешает ночевать.
— Кто? — не поняла Баджи.
— Администрация.
— Министрац?.. — Баджи увидела в дверях приказчика. — Армянин? — спросила она шепотом.
Юнус махнул рукой: вот глупая — при чем тут это?
Они вышли во двор, уселись на штабели труб. Нужно было запастись терпением — до утреннего поезда оставалось еще немало часов. От нечего делать Баджи принялась считать звезды. Она сосчитала до ста…
— Кормят тебя? — спросил вдруг Юнус.
— Кормят! — важно ответила Баджи, не отрывая глаз от звездного неба. — Много ем, вкусно!
— Спишь все там же, на галерее?
— У меня теперь еще лучшая подстилка. Как у самой Ана-ханум. Ругя мне дала.
— А не бьют тебя? — спросил Юнус, пытливо вглядываясь сквозь мрак в лицо сестры.
Баджи медлила ответом.
Не осмеливалась она, что ли, жаловаться на дядю? Или боялась посеять вражду между дядей и братом? Она помнила, как угрожающе сдвинулись брови Юнуса, как сжались губы, когда он сказал про дядю: «а если обидит…» Не решалась она огорчить брата? Или стыдилась признаться, что ее побили?
— Нет, — солгала она наконец, — не бьют.
Юнус ждал ответа с тревогой, и ответ, казалось, не должен был его огорчить, но сердце Юнуса вдруг наполнилось тоской. Второй год шел с той поры, как он дал клятву взять к себе сестру, а клятва все еще не выполнена. Даже на одну ночь не мог он дать приюта сестре, и вот она сидит на трубах, под открытым небом, и не спит.
— Подожди, сестра, придет скоро время, ты будешь жить со мной, — сказал он виновато.
Но теперь Баджи мало верила ему: только обещает, а сам живет не лучше мазутника.
Так сидели они, брат и сестра, во тьме южной весенней ночи, и дальние звезды светили им. Где-то поблизости мерно пыхтела кочегарка, изредка слышался лязг железа. Баджи поежилась. Дни на Апшероне в весеннюю пору обычно уже теплые, а ночи — особенно если повеет ветер с северо-востока — еще холодные.
— Пойдем, погреешься, — сказал Юнус, указав на кочегарку.
Они сели у открытых дверей, откуда шел теплый воздух. Хорошо бы теперь поспать! Глаза Баджи слипались. Она прислонилась к плечу Юнуса.
— Эй вы, кто там? — окликнул их человек из глубины кочегарки.
— Это я, — сказал Юнус тихо, стараясь не потревожить Баджи.
У входа показался приземистый человек лет пятидесяти с копной седых волос.
— Я не знал, что ты жених, — сказал он, увидев женскую фигуру рядом с Юнусом.
— Это, Арам, моя сестра — Басти Дадаш-кызы, — ответил Юнус, как будто настоящее имя сестры исключало всякие подозрения.
Он объяснил Араму, как сюда попала Баджи и почему они коротают ночь здесь, у дверей кочегарки.
Арам постоял в дверях, вытирая ладони паклей.
— Присмотри за котлами, я сейчас вернусь, — сказал он Юнусу и вышел из кочегарки.
— Армянин? — понизив голос, спросила Баджи, когда Арам скрылся.
Юнус быстро взглянул на нее: опять?
— Ты что, в Крепости этому научилась, у Шамси? — спросил он строго, и Баджи поняла, что чем-то не угодила брату.
Неужели тем, что спросила его, армянин ли кочегар? Впрочем, самое лучшее для девочки молчать. Сколько раз она убеждалась в этом, да проклятый язык всегда некстати вертится!
Они вошли в кочегарку. Огонь в топках метался, гудел. Баджи вспомнила Черный город — как лазил когда-то Юнус в котлы, как звонила она когда-то в пожарный колокол — и, улыбнувшись котлам, будто старым знакомым, шепнула:
— Кочегарка!..
Арам вскоре вернулся.
— Отведи сестру ко мне на квартиру, жена уложит ее, — сказал он Юнусу.
«Чужаки, — мелькнуло в уме Баджи. — Убьют еще…»
Но сказать об этом Юнусу не решалась.
Приход ночных гостей всполошил дом Арама. Заспанные дети глазели на нежданную гостью, кутающуюся в чадру. Особенно была взволнована Сато, старшая дочь, сверстница Баджи. Жена Арама, Розанна, шла Баджи кусок хлеба с сыром, уложила рядом с Сато. Вскоре вся семья и гостья погрузились в сон.
И только глава семьи продолжал бодрствовать в кочегарке, задумчиво глядя на огонь…
Вот таким же молодым парнем, как Юнус, если не моложе, лет тридцать назад пришел он сюда, на нефтепромыслы, из глухого армянского селения у подножья Алагеза.
Подбил его к тому какой-то человек, прибывший из Баку и рассказывавший, что там, вблизи большого города у моря, земля щедра и дарит людям драгоценную жидкость, нефть, и человеку можно там жить сытно и беззаботно. Арам не стал долго размышлять. Что терял он в родном селении? Жалкое, вросшее в камень жилище с холодной землей вместо пола, с дырой в потолке вместо трубы, со скотом под одной кровлей с людьми.
Изо дня в день, в лучах знойного солнца или сбиваемый с ног злым пыльным нордом, трудился Арам на нефтепромыслах Баку — в Балаханах, Сабунчах, Раманах, Сурахапах — и с каждым днем убеждался, что жизнь рабочего человека на этих промыслах немногим лучше, чем жизнь крестьянина в родном селении у подножья Алагеза. Солгал ему, значит, человек, приехавший из Баку и сказавший, что там можно жить сытно и беззаботно!
Вот и сейчас… Арам вспомнил о Юнусе и Баджи, об их мытарствах с ночлегом.
«Мог бы оставить девочку переночевать в казарме, дашнак проклятый!» — подумал он о приказчике.
И Арам вспомнил, как много лет назад появился этот человек на нефтепромыслах, назвал себя членом армянской партии «Дашнакцутюн» и сказал, что цель этой партии сделать армянский народ счастливым.
— Добрая цель! — горячо воскликнул в ответ Арам и спросил дашнакцакана: — Скажи, земляк, отчего так плохо живет наш славный армянский народ?
Дашнакцакан, злобно скривив губы, ответил:
— Оттого, что мучают его злодеи русские и азербайджанцы. Они наши враги, от них все беды!
С этого дня приглядывался Арам к русским и азербайджанцам, с которыми работал бок о бок на промыслах.
Так же, как он, таскали они балки и доски для буровых вышек, копошились по колено в грязи и в нефтяных лужах; так же, как он, враждовали с хозяевами; так же, как он, подчас делили друг с другом последний кусок хлеба… Хорошие, славные люди!
А тут еще подружился он с одним парнем-азербайджанцем из окрестного селения — Газанфаром, теперь его лучшим другом. Замечательный парень — добряк, умница и весельчак, душа-человек! Нет, неверно, что русские и азербайджанцы враги армянам, что от них все беды! Глупости говорил злобный дашнакцакан!
В дальнейшем Арам до конца раскусил дашнаков.
С виду они, казалось, боролись против царя и богатеев и время от времени напоминали о себе выстрелом из револьвера, направленным против какого-нибудь царского сатрапа, и чесали языки против власти имущих, но в решительных случаях всегда становились на сторону армян-нефтепромышленников — Манташевых, Лианозовых, Гукасовых, — на сторону своих хозяев. И сопоставляя то, что видел Арам собственными глазами, с тем, что слышал в рабочем кружке и от друга своего Газанфара, он ясно понял: дашнаки — враги рабочих.
Вот и сейчас этот приказчик-дашнак…
Арам вернулся домой под утро, когда все уже встали и сидели за чаем.
— Хочешь, я тебе расскажу про ткача? — предложила Сато гостье. — Это сказка такая…
Баджи уперлась ладонями в подбородок, вся обратилась в слух.
— Было то или не было… — начала Сато нараспев, как полагается у армян начинать сказку.
В некоем царстве, говорилось в той сказке, был царь, и однажды пришел к нему человек из дальней страны и, ничего не сказав, высыпал просо перед царем и его визирями. Ни царь, ни визири не поняли, что он хотел этим сказать. Тогда из толпы, окружавшей царя, вышел ткач с курицей в руках. Он спустил курицу на землю, и она склевала просо, и пришелец, увидев, что просо склевано, скрылся. Царь попросил ткача объяснить, что все это значит. И ткач объяснил: «Пришелец — наш враг; он сказал, что войску его нет числа, как просу, и нам нужно сдаваться; а я, пустив курицу к просу, ответил ему, что один наш воин уничтожит все вражье войско». Понравилось это царю и наградил он ткача за ум.
— С неба упали три яблока: одно тому, кто рассказал, другое тому, кто слушал, третье — всему белу свету! — закончила Сато, как заправская армянская сказочница.
Баджи замотала головой:
— Ты неверно рассказываешь — курицу спустил не ткач, а портной.
— Нет, ткач, — сказала Сато.
— Портной! — настаивала Баджи. И она повторила сказку почти дословно, только вместо ткача действовал в сказке портной.
— Все равно — ткач! — упрямилась Сато. — Мне так бабушка рассказывала.
— А мне мать говорила. Моя сказка правильнее!
Они едва не поссорились.
— Чего вы спорите? — вмешался Арам, отхлебывая чай. — Армяне рассказывают про ткача, а азербайджанцы — про портного. Каждый народ — по-своему. А вот самый-то смысл сказки обе вы позабыли рассказать!
— Позабыли? — вырвалось у Сато.
— Разумеется, позабыли! Умный ткач-отгадчик сказал царю в ответ на награду: «Знай, царь, что среди простых людей есть более умные люди, чем твои визири; уважай отныне ткачей, портных, сапожников!» Понятно? — и Арам рассмеялся: — Эх вы, сказочницы!..
Девочки смутились.
Одну и ту же сказку, оказывается, рассказывали они друг другу, дочери двух народов, и спорили между собой, чья сказка лучше.
Вскоре явился Юнус.
— Надо бы мне свести сестру к дяде Газанфару, не то он обидится, когда узнает, что сестра была на промыслах и его не навестила, — сказал Юнус. — Они ведь давнишние друзья.
Баджи закивала головой: именно так — давнишние друзья.
— Давай проводим нашу гостью к Газанфару, — предложил Арам Розанне. — Кстати, и мне нужно его повидать — выяснить один важный вопрос.
Когда речь заходила о Газанфаре, у Арама всегда находился в запасе такой важный вопрос.
— Что ж, дело гостей — прийти, а хозяев — хорошо их принять и проводить, — ответила Розанна но пословице и накинула на себя платок.
Газанфар жил в большой комнате, разделенной посредине дощатой некрашеной перегородкой. На одной половине стояла узкая железная кровать, покрытая грубым солдатским одеялом, на другой — большой стол, заваленный книгами и газетами, а в углу, на табуретке, — закопченный чайник и невымытая посуда. Одно из многих неуютных холостяцких жилищ!
Когда гости вошли, хозяин сидел за столом в облаках табачного дыма и что-то писал — готовился к выступлению на рабочем собрании.
Выступать на таких собраниях Газанфару теперь приходилось почти ежедневно. Время было горячее. В революционный Петроград вернулся из Туруханской ссылки Сталин, прибыл из эмиграции Ленин. С каждым днем все громче звучал призыв: «Вся власть Советам!» Долетел он и до Баку. В Бакинском комитете партии большевиков, во всех районных комитетах, во всех ячейках кипела работа — нужно было разъяснять рабочим большевистскую политику, разоблачать меньшевиков, эсеров, мусаватистов, дашнаков, нужно было завоевать массы, завоевать большинство в Советах.
Хватало работы Газанфару и его товарищам!
«Тоже небогато живет!» — подумала Баджи, едва переступив порог комнаты Газанфара, но увидя, как лицо хозяина расплылось в приветливую улыбку, сама приветливо заулыбалась и бросилась к нему навстречу.
— Бей! — как обычно, приветствовал ее Газанфар, подставляя свою большую руку.
Баджи, смеясь, ударила.
— Бей сильней: иначе — не чувствую!
Баджи ударила сильней.
— Еще сильней! — подзадоривал Газанфар.
Баджи ударила изо всех сил.
— Теперь, пожалуй, почувствовал! — удовлетворенно произнес Газанфар, потирая руку.
Баджи окинула присутствующих самодовольным взглядом: не всегда же ей быть такой слабенькой, как прежде, в детстве.
Розанна подошла к окну, по-хозяйски раскрыла его. Свежий весенний воздух ворвался в комнату.
— Видно, что некому за тобой присматривать, Газанфар! — промолвила она с укоризной. — Начадил так, что не продохнуть! Я вот моему Араму чадить в комнате не разрешаю — пожалуйста, на кухню или в коридор!
Газанфар взглянул на Арама в ожидании поддержки, но тот только беспомощно развел руками: разве с такой женщиной, как Розанна, сладишь?
— Когда же ты, Газанфар, женишься? — продолжала Розанна, сметая пыль с окна неизвестно откуда взявшейся тряпкой. — Четвертый десяток, благодарение богу, пошел мужчине, а он все сидит в бобылях!
— Когда свергнем Временное правительство, тогда я женюсь! — не то шутя, не то всерьез ответил Газанфар. Обещаю тебе при свидетелях, тетя Розанна!
Розанна неодобрительно покачала головой.
— Тебе, Газанфар, всё шуточки! Прежде ты отшучивался: «когда свергнем царя», а теперь, когда царя, благодарение богу, уже нет, придумал новое: «когда свергнем Временное правительство».
— Это потому, тетя Розанна, что разницы между ними особенной нет, между царем и Временным правительством! Не правда ли, Арам?
Арам в ответ понимающе улыбнулся — тут он готов решительно поддерживать своего друга. Но Розанна только недоумевающе пожала плечами: вообще при чем тут Временное правительство, когда речь идет о женитьбе?
— Жизнь в супружестве должна быть счастливой… — продолжал Газанфар. — Не так ли, тетя Розанна?
— Так… — с опаской согласилась Розанна, не понимая, куда Газанфар клонит.
— А ты скажи, тетя Розанна, может ли быть счастливым рабочий человек, если командовать им будет это самое Временное правительство — черт его побери! — в котором верховодят помещики и капиталисты и председателем которого является князь Львов?
Розанна невольно отмахивается. Князь Львов!.. Всегда этот Газанфар найдет повод, чтобы отговориться от женитьбы. Прежде, видите ли, ему мешал царь, а теперь — какой-то князь Львов!
— Ну и сиди в бобылях, как сидел до сих пор! — сердито говорит Розанна, с удвоенным усердием сметая пыль с заваленного книгами стола.
Арам рассказал Газанфару про мытарства Баджи с ночлегом.
— Этот министрац такой злой! — вставила Баджи, нахмурив тонкие брови.
Юнус улыбнулся и пояснил:
— Она хочет сказать: администрация.
Газанфар, не замечая улыбки Юнуса, сурово бросил:
— Министрац ваш еще ответит за свои дела — близок час! — Затем, повернувшись к Юнусу, с дружеской укоризной спросил: — А ты почему не догадался прийти с сестрой сюда, ко мне?
— Не хотелось тебя беспокоить, дядя Газанфар, дел у тебя хватает и без нас, — смущенно ответил Юнус.
— Невелико беспокойство! А место для вас обоих нашлось бы. Видишь, какой у меня дворец — о двух палатах! Нравится всем… Кроме тети Розанны, — добавил Газанфар, весело рассмеявшись.
В ответ Розанна горестно вздохнула:
— Плохо девушке без отца, без матери.
— Сестру может защищать брат, — сказал Арам уверенно.
Юнус опустил глаза.
— Плохо я ее защищаю… — хмуро вымолвил он. — Работает она с этих лет служанкой.
— Твоя сестра еще удачница, — возразил Арам. — Пройдешь, когда проводишь сестру, мимо табачной фабрики Мирзабекяна, загляни в окно, в коробочную мастерскую. Работают там за длинными столами девочки восьми-десяти лет, такие маленькие, что приходится нам работать, становясь на скамью коленками — сидя не достают они до стола.
— К чему же было свергать царя, если все для рабочих осталось по-прежнему? — сказала Розанна.
— Так, Розанна, долго не будет! — воскликнул Газанфар. — Придет еще другая, настоящая революция, рабочий люд возьмет власть в свои руки, станет хозяином жизни! Тому учит нас товарищ Ленин!
Он бережно сложил исписанные листки и стал с волнением рассказывать, какая будет жизнь, когда наступит она, вторая революция, и все слушали его, не перебивая, затаив дыхание.
— Много бы я дал, чтобы эта другая, настоящая революция пришла скорей! — сказал Юнус задумчиво, когда Газанфар окончил. — Полжизни! — добавил он вдруг со страстью.
Лицо Газанфара стало серьезным.
— Были такие люди, которые за счастье народа отдавали всю свою жизнь, гибли в тюрьмах, на каторге, от рук палачей, и отдали бы вторую, если б она у них была! — сказал он.
Упрек почудился Юнусу в этих словах, и он не знал, что ответить.
Выручил Арам.
Приходи сюда вечером, когда отвезешь сестру, Газанфар об этих людях расскажет! — сказал он.
У Газанфара долго не засиделись — работа не ждет.
Баджи не хотелось уходить. Неужели обратно, в Крепость? Эх, осталась бы она жить на промыслах — ночевала бы у тети Розанны, дружила бы с Сато, ходила бы в гости к дяде Газанфару. А затем, может быть, брат поселился бы в таком месте, откуда ее бы не выгоняли. Вот было бы хорошо!..
В поезде Юнус и Баджи ехали молча, погруженные в свои мысли.
В городе, на обратном пути, проходя мимо табачной фабрики, Юнус заглянул в подвальное решетчатое окно. Оттуда пахнуло запахом клея и табака. Девочки лет восьми-девяти, стоя на скамьях — вдоль длинных столов — на коленках, клеили папиросные коробки.
Юнуса поразила их изможденность и бледность. Впрочем, разве можно было выглядеть иначе в этом сыром и душном подвале? Несчастные дети! Сломать бы скорей эту решетку и выпустить их всех на волю, на солнце!.. Да, Арам прав — Баджи по сравнению с ними, пожалуй, удачница.
«Были такие люди, которые за счастье народа отдавали всю свою жизнь и отдали бы вторую, если б она у них была…» — вспомнил Юнус, и готовность следовать по их пути охватила его со страстной силой.
Одежда и обувь
Общественная деятельность, которой отдавал весь свой пыл Хабибулла, не помешала ему с выгодой продать кубинский коврик, приглянувшийся богачу.
Оставалось доставить товар на дом покупателю. Хабибулла и Баджи направились за ковриком в Исмаилие. Но проникнуть внутрь здания оказалось нелегко — его осаждала толпа.
«Праздник, наверно», — решила Баджи и удивилась, так как признаков приближения праздника, выражавшихся обыкновенно в хлопотливой и беспокойной деятельности Ана-ханум, она в последние дни не замечала.
Хабибулла энергично протискивался сквозь толпу, высоко подняв над головой какое-то удостоверение. Очутившись внутри здания, Хабибулла приказал Баджи подняться на третий этаж и ждать его у лестницы, а сам остался во втором этаже и проскользнул в большой актовый зал, где заседал сейчас так называемый «первый общекавказский съезд мусульман». Просторный зал этот был предоставлен только мужчинам — женщинам милостиво разрешалось тесниться на хорах в третьем этаже.
Прождав Хабибуллу около часа, Баджи от скуки стала прогуливаться по вестибюлю, заглянула на хоры, протиснулась к барьеру…
Аллах великий, сколько там, внизу, народу!.. Одни были в штатских костюмах, другие — в военном, третьи — в облачении мулл. Один из мулл — пожилой и важный, в богатой абе, в пышной зеленой чалме привлек внимание Баджи; она увидела его в тот момент, когда он, поднявшись на трибуну и молитвенно сложив руки на груди, оглядывал присутствующих.
— Мулла Мир Джафар-заде! Губернский казий! Отец мусульман! — благоговейно зашептали женщины на хорах.
Но вскоре благоговейным чувствам их пришел конец: угрюмым низким голосом губернский казий заявил, что появление мусульманки на съезде перед толпой мужчин противоречит корану и есть преступление, — казий имел в виду единственную мусульманку, дерзнувшую выступить на этом съезде с открытым лицом.
Зал раскололся на две половины: одни поддерживали казия, другие возмущенно кричали:
— Позор!
— Мракобесы!
— Долой!
Но ничто не могло сравниться с внезапным неистовством самих женщин, обрушивших на казия площадную брань, свист, улюлюканье, плевки. Казалось, с третьего этажа ринулась вниз лавина. Даже сторонники эмансипации с опаской поглядывали на хоры: шайтан их разберет, этих баб — еще взбунтуются и перебьют всех мужчин!
Губернский казий, однако, не выражал намерения покинуть трибуну. С упорством фанатика, с видом мученика за правое дело продолжал он твердить свое. Баджи видела, как он шевелил губами, тщетно стараясь перекричать противников.
Сторонники казия, особенно муллы, забеспокоились — как бы в пылу полемики не осквернили казия прикосновением. Как потревоженные гуси, разом снялись они со своих мест и, в широких абах, в громоздких чалмах, неуклюже устремились к трибуне. Они оцепили ее двойным кольцом, готовые защищать неприкосновенность и честь своего вожака.
С высоты хор Баджи различила возле трибуны и муллу Абдул-Фатаха. Он говорил о чем-то с Хабибуллой, яростно размахивая руками. Куда девались его обычное спокойствие, благопристойность?
Долго шел в зале спор, и, увлеченный спором, Хабибулла забыл забрать коврик.
К вечеру съезд вынес решение: ношение чадры для азербайджанки необязательно.
Этого было достаточно, чтобы вызвать волнение среди обывателей. Пущен был но городу слух, будто съезд намерен силой заставить всех азербайджанок сбросить чадру и коши́ — традиционные туфли-шлепанцы. Мракобесы решили опередить эмансипаторов — далеких, кстати сказать, от приписываемых им крайних намерений — и нанесли встречный удар: они стали преследовать азербайджанок, появлявшихся на улице без чадры и в обуви на каблуках.
На следующий день Хабибулла и Баджи снова пошли за ковриком. Пройти внутрь Исмаилие оказалось теперь еще трудней, чем вчера: большая толпа недовольных решением съезда осаждала здание.
Слышались крики:
— Долой новшества!
— Наши жены не продажные женщины, чтобы раскрываться перед любым мужчиной!
— Ботинки неверных поведут по дурной дороге!
— Коран простит, если прольется кровь изменников!
Кричали лавочники, торговцы, мелкие домохозяева, владельцы бань и кебабных, муллы, темные люди без определенных занятий, зачинщики уличных скандалов и драк.
Когда Баджи с ковриком на голове и Хабибулла спускались по лестнице к выходу, их нагнала миловидная девушка-азербайджанка в кокетливой шляпке, в изящном модном костюме, в лакированных туфельках на высоких каблуках; богатство и видное положение ее родных избавили ее от ношения чадры и коши.
Звали эту девушку Ляля-ханум. Год назад она окончила русскую гимназию и томительной праздности в ожидании замужества предпочла развлекательную филантропическую деятельность в «чашке чаю».
Теперь, после февральских дней, круг общественной деятельности Ляля-ханум расширился — свой досуг она отдавала недавно возникшей «Лиге равноправия женщин», нашедшей приют в одной из многих комнат Исмаилие.
Когда Ляля-ханум поровнялась с Хабибуллой, он почтительно с ней поздоровался и, резко отстранив Баджи рукой, предоставил дорогу Ляля-ханум. Та быстро сбежала по ступенькам лестницы, стуча каблучками своих туфель, и очутилась на улице раньше, чем Баджи и Хабибулла.
Толпа перед зданием, казалось, только ждала появления Ляля-ханум: азербайджанка с открытым лицом, в шляпе, в туфлях на каблуках — в такой день!.. Это представилось дерзким вызовом. Ляля-ханум тотчас окружили, принялись осыпать грубой бранью, грозить кулаками.
Особенно неистовствовал мужчина в серой папахе.
«Теймур!» — сразу узнала его Баджи, выйдя на улицу вслед за Ляля-ханум, и плотней прикрылась чадрой.
С месяц назад Теймур пронюхал, что рабочие собираются выкатить его с завода на тачке — числилось за ним немало грехов против жильцов первого коридора, против рабочих, и он решил подобру-поздорову покинуть завод и переехать на жительство в город. Здесь он обратился к известному в городе кочи Наджа́ф-Кули́ — в поисках покровительства и в надежде быть принятым в шайку. В свободное время Теймур непрочь был позабавиться.
Вот и сейчас он нашел себе развлечение: нагнувшись к ногам Ляля-ханум, он готов был сорвать с них неугодные толпе туфельки на каблуках.
Хабибулла быстро оценил положение. Он рванулся вперед и обратился к толпе:
— Граждане мусульмане! Злые люди не спят и сеют меж ту нами раздор! Они восстанавливают вас против комитета мусульманских общественных организаций, против решений первого общекавказского съезда мусульман. Они затевают глупый спор о том, разрешает ли шариат носить женщинам другую обувь, кроме коши. Неужели на такие пустяки обращена бессмертная мудрость шариата? И неужели нет у нас сейчас более важных вопросов, чем вопрос о женских туфлях?
Хабибуллу не прерывали.
— Разве кто-нибудь из вас хочет, чтоб оскорбляли его мать, жену, дочь, сестру? — продолжал он. — А вот здесь человек, называющий себя мусульманином, готов оскорбить племянницу виднейшего нашего деятеля, бесплатно работающего на благо мусульман. Если мы будем так вести себя, Временное правительство сочтет нас за недостойных людей и не даст никаких прав. Эту мусульманку, которую вы сейчас готовы были оскорбить, надо отпустить с миром! — патетически закончил Хабибулла.
Слова его нашли в толпе сочувствие. Один лишь Теймур насмешливо улыбался; он, Теймур, не умеет болтать так складно, как этот очкастый, но зато он умеет действовать. Растущая дружба с Наджаф-Кули окрыляла Теймура, но он видел, что преимущество сейчас на стороне Хабибуллы.
Почувствовав колебание Теймура, Хабибулла отважился на решительный шаг — он пробился к Ляля-ханум и, взяв ее за руку, вывел из толпы.
Теймур не стал противодействовать. Черт с ней, в конце концов, с этой барышней; быть может, она в самом деле племянница большого человека, не оберешься потом неприятностей. А с этим очкастым надо бы еще когда-нибудь встретиться!
Впоследствии Хабибулла удивлялся, как он решился выступить против разгоряченной толпы и вырвать Ляля-ханум из рук хулигана, но сейчас он был опьянен победой и восхищался собой: конечно, он создан, чтобы властвовать, повелевать.
— Я провожу вас, Ляля-ханум, не беспокойтесь! — галантно заявил Хабибулла, выбираясь вместе с Ляля-ханум из толпы, и кивком головы приказал Баджи следовать за ними.
Все трое двинулись к дому Ляля-ханум. Спасенная и ее спаситель неторопливо шествовали по тротуару, а Баджи с тяжелой ношей на голове шлепала за ними по мостовой, шаг за шагом удаляясь от места, куда надлежало снести коврик. Ляля-ханум, тронутая заступничеством и вниманием Хабибуллы, восторженно благодарила его, расточая ему похвалы.
— Невежественный народ! — сказал Хабибулла пренебрежительно. — Не могут понять, что дамы такие же люди, как мужчины. В культурных странах женщины давно эмансипированы.
— Мы, лигистки, это хорошо понимаем, но что поделаешь, если народ наш в самом деле так невежествен и трудно поддается прогрессу? — с грустной улыбкой заметила Ляля-ханум.
— Учить народ надо сурово, без всякой пощады, как я проучил этого негодяя! — торжественно промолвил Хабибулла. — Тогда получатся хорошие результаты.
— Быть может, вы правы… Подобного мнения придерживаются многие в нашей лиге, равно как и ее духовные друзья, в частности дядюшка мой Ага-бек… Я думаю, что наша лига должна поддерживать связь с такими людьми, как вы, Хабибулла-бек!
«Хабибулла-бек!..»
— Я готов все сделать ради вас, Ляля-ханум, и ради вашей лиги, и ради вашего почтенного дяди Ага-бека, которого я уважаю, как отца! — растроганно воскликнул Хабибулла, приложив правую руку к сердцу.
— Я расскажу о вашем мужественном поступке Ага-беку, — сказала Ляля-ханум и, попрощавшись с Хабибуллой, скрылась в парадной большого красивого дома.
Хабибулла проводил ее взглядом. Уже хлопнула наверху дверь квартиры, а он еще долго смотрел в пустую парадную, самодовольно покручивая усики.
Баджи наблюдала за ним.
«Здорово они спелись!» — усмехнулась она про себя. Ноша давила ей голову, ноги дрожали.
— Ты чего рот разинула, дура? — озлился вдруг Хабибулла поймав ее взгляд и выходя из задумчивости. — Пошли скорей назад, к Мусе!
О решении гнезда стало известно в доме Шамси.
— Глупости все это! — сказала Ана-ханум. — Порядочная мусульманка не станет ходить раскрытой, как лошадь. Нот разве что голь, амшара — та снимет чадру, ей все равно терять нечего!
— А почему, в таком случае, жены видных людей ходят в русской одежде и обуви? — задорно спросила Ругя. — Говорят, в Исмаилие жены и дочери видных людей сидят за одним столом с чужими мужчинами и свободно с ними беседуют.
Ана-ханум отплюнулась.
— Не знаю я, что в этом Исмаилие творится, а меня вот не заставят ходить без чадры, даже силой не сдернут! Как велось издавна, так и впредь будет. Я вот назло всем сошью себе новую чадру. Вот, смотрите!
Ана-ханум извлекла из сундука кусок фиолетового шелка. Богатой выделки ткань переливалась в лучах весеннего солнца разными оттенками, заманчиво шелестела, благоухала запахом розовых духов, которыми до приторности было надушено содержимое сундука. В другое время Ругя непременно позавидовала бы старшей жене, но сейчас она только пренебрежительно скривилась:
— Золотая клетка птицу не радует!
— Ну конечно, — обозлилась Ана-ханум, — тебе бы только вертеться раскрытой перед чужими мужчинами. Законный муж, видно, тебя не очень устраивает!
— Зато я его устраиваю больше, чем ты! — кольнула в ответ Ругя.
Завязалась обычная перебранка.
— Хватит вам спорить! — прикрикнул Шамси. — Пусть съезд решает что хочет — мои женщины будут ходить так, как велит святой коран, а не съезд. Не съезд, а коран наш закон. А в святой книге корана про женщин сказано ясно: «Пусть ниже опускают они на себя покрывала свои, да не будут они узнаваемы».
Жены умолкли: спорить с главой семьи, особенно если он ссылается на святую книгу корана, — великое преступление.
На этом спор об одежде и обуви был прекращен — во всяком случае, в присутствии Шамси — и не имел практических последствий.
Ана-ханум, впрочем, спор этот пришелся на руку: она вновь утвердила себя в глазах мужа блюстительницей доброй старины, а в бане старухи банщицы тешили ее тщеславие, восторженно ахая при виде ее новой шелковой фиолетовой чадры.
Голоса женщин
В начале мая пошли по городу разговоры о выборах в «гражданско-продовольственные комитеты». На стенах домов расклеены были кандидатские списки различных партий. Люди толпились возле этих списков, обсуждали их, спорили, за который из них голосовать.
Заговорили о выборах и в доме Шамси. Всех занимал вопрос: будут ли участвовать в выборах азербайджанки?
— Нужно, чтобы участвовали! — уверенно заявил Хабибулла.
— Ни в одной из ста четырнадцати глав святого корана об этом не сказано, — возразил Абдул-Фатах.
— А пойдут ли они, наши женщины, на эти выборы? — спросил Шамси, не зная, с кем согласиться.
— Что значит «не пойдут»? — воскликнул Хабибулла. — Нужно заставить их пойти!
— И об этом я не читал в святой книге корана, — снова возразил Абдул-Фатах; он всегда возражал Хабибулле.
Хабибулла вспыхнул.
— Газеты надо читать, а не только святую книгу! — раздраженно сказал он. — А вы, почтенные муллы, газету взять в руки боитесь, вот и сидите во тьме, как совы, хотя солнце в эти дни светит нам ярко. Знаете вы, о чем пишет центральное мусульманское бюро в Петрограде? — он вынул из кармана газету: — «Если мусульманка будет лишена участия в выборах, мусульмане России потеряют половину своих голосов во всех общественно-политических организациях и в учредительном собрании». Понятно?
Шамси пожал плечами.
— А на что мне оно, это учредительное собрание? — спросил он, с трудом выговаривая незнакомые слова. — Что, оно мне шерсть дешево продаст или у меня ковры, хорошо заплатив, купит?
— Неправильно ты говоришь, уважаемый, неправильно! — с жаром воскликнул Хабибулла. — Да ведь если в учредительном собрании в Петрограде мусульмане будут многочисленны и сильны, то и здесь, в Баку, нас никто не посмеет обидеть.
— Меня и так никто не смеет обидеть, — сказал Шамси с достоинством.
— Как сказать! Я вот слышал, что тем, кто не будет участвовать в выборах, не дадут хлебных карточек, и значит, в твоем доме четыре женщины могут быть лишены хлеба.
— За деньги всегда все достанем! — сказал Шамси уверенно.
— Это верно, — согласился Хабибулла. — Только зачем, уважаемый, зря переплачивать?
Довод был веский. Стоило подумать. Шамси вопросительно взглянул на Абдул-Фатаха. Но неожиданно тот поддержал Хабибуллу. Пряча взгляд, пастырь духовный медленно произнес:
— Пожалуй, стоит один раз поступиться буквой корана, разрешив нашим женщинам участвовать в выборах, ибо это будет содействовать укреплению самого дела корана. Процветанием же и торжеством святого духа ислама вполне искупится мимолетный грех наших женщин.
Шамси раскрыл рот от удивления: и это говорит мулла хаджи Абдул-Фатах, божественный человек?
Абдул-Фатах заметил смятение своего друга.
— Разумеется, далеко отпускать от себя наших жен и дочерей не следует, — сказал Абдул-Фатах успокаивающе. — Выборы, по-моему, должны производиться в мечетях, а наблюдение за правильным поведением женщин должны взять на себя мы, слуги аллаха.
Хабибулла возмутился.
— Комитет сам все решит о выборах!.. — сказал он резко: его раздражало, что муллы суются в общественно-политические дела. — В хадисах наших написано: «Жизнь народов доверена аллахом людям ученым», — добавил он, щегольнув знанием святых изречений, и, подчеркнув слово «ученым», одновременно давал понять, что муллы в число этих людей не входят.
Долго еще спорили Хабибулла и Абдул-Фатах, и многого в этом споре Шамси не понимал, но чувствовал, что спор идет теперь о чем-то несущественном и что в главном — в вопросе о том, должны ли азербайджанки участвовать в выборах, — расхождений у его друзей больше не существует.
Воззвание центрального мусульманского бюро в Петрограде, цитированное Хабибуллой, нашло отклик. Даже те, кто еще так недавно сомкнули свои ряды вокруг казия-мракобеса, готовые пролить за него свою кровь, даже они, с молчаливого одобрения своего вожака, повернули фронт и превратились в ревностных сторонников участия женщин в выборах.
— Не так уже страшно, в конце концов, если жены и дочери наши разок поиграют в эти чертовы выборы, удвоив этим число голосов детей ислама в важных общественных и государственных учреждениях, — словно подслушав беседу в доме Шамси, повторяли они вслед за Абдул-Фатахом.
В результате комитет мусульманских общественных организаций вынес решение о желательном участии азербайджанок в выборах, с одним, однако, условием: женщины избирают отдельно от мужчин и только в помещениях мечетей; при этом предполагалось, что руководить женскими выборами будут жены членов комитета и члены «Лиги равноправия женщин».
Нелегко было Шамси разобраться в этих предвыборных спорах, понять, на чьей стороне правда, но убеждало все же то обстоятельство, что ближайшие друзья и советники Шамси, комитет мусульманских общественных организаций, муллы и даже, по слухам, сам казий придерживались мнения, что женщины должны принять участие в выборах. Пришлось в конце концов и Шамси придерживаться того же взгляда. Самих женщин он, однако, не спешил оповещать об этом…
Наконец наступил день выборов. Шамси поднял своих домочадцев чуть свет.
— Одевайтесь скорей! — приказал он женщинами. — Пойдете в мечеть на выборы. Бросите в ящик конверты.
— Какие конверты? — затараторили женщины.
— Получите — узнаете! — важно оказал Шамси; он сам смутно представлял себе процесс выборов.
Женщины бросились одеваться. Интересная это, должна быть, штука — выборы, интереснее бани! Ана-ханум торопливо гладила свою фиолетовую чадру. Ругя усиленно сурьмила брови. Фатьма нацепила на себя подарки Хабибуллы. Все трое вертелись перед зеркалом, всем хотелось показать себя в лучшем виде.
Не успели женщины принарядиться, как во дворе появился Хабибулла. Вид у него был одновременно торжественный и деловой: в петлице — пышный красный бант, на рукаве — широкая зеленая повязка, под мышкой — новенький портфель. Портфель этот был туго набит запечатанными конвертами, в каждом из которых находился предусмотрительно вложенный номер «мусульманского национального списка»; эти конверты предназначены были для опускания в избирательные урны.
Хабибулла подал Шамси пачку конвертов не считая.
— Прикажи женщинам, чтоб бросали в ящик только эти конверты и построже напомни им о хлебных карточках! — коротко проинструктировал Хабибулла и поспешил в другие дома.
— Хватит вам, шайтановы дочери, перед зеркалом кривляться! — прикрикнул Шамси. — Вот не успеете бросить в ящик конверты и будете затем десять лет голодать!
Угроза подействовала. Вмиг женщины были готовы и по сигналу Шамси двинулись к мечети, где помещался ближайший избирательный пункт для женщин. Шли, как обычно, установленным строем: далеко впереди шествовал глава дома, за ним шла старшая жена, за ней, чуть поотстав, — младшая, затем — Фатьма и позади всех Баджи. Всегда, всегда была Баджи позади всех!
Несмотря на ранний час, улицы, ведущие к мечети, были запружены женщинами. Объяснялось это тем, что в то время как мужчинам для выборов предоставлен был ряд просторных помещений, вся многотысячная масса избирательниц-азербайджанок должна была собраться в пяти мечетях; причем помещения мечетей предполагалось открыть только с часу дня, а к трем часам уже прекратить впуск и приступить к голосованию. Невелики барыни! Только бы успели бросить конверты. Справедливо беспокоясь, что при таких условиях пробраться к избирательным урнам будет нелегко, женщины стали стекаться к мечетям с самого раннего утра. Таких предусмотрительных оказалось множество, и в результате домочадцы Шамси очутились в хвосте огромной толпы женщин.
Кого только не было здесь, в этой толпе!..
Были здесь молодые девушки и пожилые женщины, матери с малютками на руках и девчонки, сгорбленные полуслепые старухи, прожившие долгую жизнь, полную унижений и обид. Они явились сюда, исполненные неясных, но упрямых надежд на лучшее будущее. Быть может, и впрямь счастье не за горами? Нужно только — как приказано — бросить конверт в ящик.
Шамси не счел приличным углубляться в это женское царство и повернул назад.
— Смотрите не оплошайте! — крикнул он своим женщинам напоследок.
Пробраться к мечети было нелегко. С утра до полудня пришлось толкаться на улице.
— Пройдохи какие! С утра приперлись сюда! — ворчала Ана-ханум, сердито оглядывая толпу.
Только к полудню удалось всем четверым протиснуться во двор мечети. Тесный двор был набит женщинами, в воздухе стоял гул голосов. Солнце палило, дуновение ветра не проникало за высокую белую ограду.
Внезапно толпа заволновалась: распространился слух о том, что те, кто до полуденного намаза не опустит конвертов в ящик, навсегда лишаются хлебных карточек. Встревоженные женщины стали пробиваться к зданию мечети с удвоенной силой.
— Давайте и мы приналяжем! — скомандовала Ана-ханум и принялась локтями расчищать себе дорогу.
Чем ближе к стенам мечети, тем плотней и возбужденней становилась толпа.
— Эй ты, беднота голоштанная, пропусти! — покрикивала Ана-ханум.
В ответ неслось:
— А ты чего нос задираешь, барыня?
— Надела шелковую чадру и думаешь, что шахская жена?
— Сидела бы лучше на своих мешках с рисом, амбарная мышь!
А другие не жалели и тумака.
Когда Ана-ханум крепко доставалось, Баджи радовалась:
«Дай бог этой ведьме не бросить конверта! Хорошо бы ей поголодать!»
Сама же она судорожно сжимала в руке свой конверт — она еще в Черном городе знала, что такое голод.
Наконец после долгих усилий все четверо проникли в мечеть. Что здесь творилось! Стремясь приблизиться к избирательной урне, остервенелые женщины ругали друг друга, толкались, дрались. От духоты некоторые падали в изнеможении, а другие безжалостно их топтали, продолжая пробиваться к заветному ящику. Со всех сторон неслись проклятия по адресу распорядительниц — никто не знал, что и в остальных четырех мечетях творилось то же самое. Добравшись в конце концов до урны, ошалевшие избирательницы не желали слушать никаких разъяснений, торопясь опустить свой конверт в урну, сулящую хлеб и счастье.
— Нам отцы и мужья уже объяснили! — кричали они. — Велели нам бросить конверты в ящик! Не к чему зря болтать!
Старухи опускали конверты с возгласом «бисмилла!» — «во имя аллаха!» — точно совершали религиозное таинство.
И даже те немногие, кто непрочь был узнать, в чем действительно смысл и цель этих выборов, не могли толком понять комитетских дам и лиги сток: последние плохо владели родным языком — тем языком, на котором говорили, на котором ругали и проклинали их сейчас бушевавшие кругом женщины.
В давке Ана-ханум порвали чадру. Фатьме чуть не вывихнули руки. С насурьмленных бровей Ругя стекали темные струйки пота. Баджи отдавили ноги. В толкотне все четверо потеряли друг друга.
Очутившись подле урны, Баджи среди распорядительниц увидела Ляля-ханум; на рукаве у нее была зеленая повязка, такая же, как у Хабибуллы. Баджи обрадовалась: новая знакомая поможет ей бросить конверт в ящик, и с этой минуты хлеба у нее, у Баджи, будет вдосталь на всю жизнь!
Увы, Ляля-ханум не узнавала Баджи. Хуже того: она заподозрила, что под старой выцветшей чадренкой, накинутой на плечи Баджи, таится одна из тех женщин, которые готовы были голосовать за социалистический, а не за «мусульманский национальный список»; осуществлять такие намерения комитетские дамы и лигистки бесцеремонно мешали.
— Ты за какой список? — спросила Ляля-ханум.
Баджи не знала, что ответить.
— А ну, покажи! — приказала Ляля-ханум, пытаясь взять конверт из рук Баджи.
Баджи быстро убрала руку за спину. Жест этот укрепил подозрения Ляля-ханум.
— Твой конверт не годится, брось в ящик вот этот, — сказала Ляля-ханум, протягивая Баджи другой конверт, с таким же, впрочем, номером мусульманского национального списка, какой находился в конверте Баджи.
Но Баджи не приняла другого конверта, — кто знает, что ей подсовывают!
Ляля-ханум повела наступление с новой стороны:
— Ты еще девчонка, не имеешь права голосовать!
— Скажи ей, что ты замужем! — услышала Баджи позади себя шепот Ругя. Замужние, хотя и не достигшие совершеннолетия, обладали правом голоса.
— Я уже замужем, — соврала Баджи и для большей убедительности кивнула на какую-то женщин с младенцем на руках. — А вон моя свекровь с моим сынишкой!
Ляля-ханум заколебалась: не похоже что-то, хотя, впрочем… Но уловив в глазах Баджи лукавый огонек, поняла, что ее хотят провести.
— Хватит вам здесь болтать! Дайте и нам кинуть наши конверты! — неистовствовали между тем женщины, напирая на Ляля-ханум, на Баджи, на урну.
Тогда Ляля-ханум решилась.
— Уйди отсюда! — прикрикнула она на Баджи.
Баджи разъярилась: черт бы взял эту Ляля-ханум, не сидеть же из-за нее без хлеба!
Баджи попыталась опустить конверт в урну, но Ляля-ханум, оттолкнув Баджи, прикрыла рукой щель урны.
— Горит! — крикнула вдруг Баджи, указывая пальцем на стену за спиной Ляля-ханум.
Ляля-ханум резко обернулась. В ту же секунду Баджи ловко протиснула в урну свой конверт и нырнула в толпу.
Ляля-ханум поняла, что ее провели, и разозлилась: невозможно работать с этими невежественными бабами! Не будучи в силах наладить здесь порядок, Ляля-ханум махнула рукой на все.
Вернувшись домой, женщины принялись обсуждать необычный день.
— По мне — пусть бы их вовсе не было, этих чертовых выборов! — заявила Ана-ханум, старательно заштопывая порванную чадру. — Выдумки все это! Когда еще получим хлебные карточки, а чадру на этих выборах уже изорвали.
Фатьма, хныча, потирала ушибленную руку.
Все в один голос ругали организаторов выборов. Особенно доставалось комитетским дамам и лигисткам. Ругнула их разок и Баджи, хотя в глубине души была довольна итогом. Слава аллаху! Хлеба ей теперь хватит на всю жизнь! Правильно, видно, говорится, что женщине, не имеющей мешка золота, нужно иметь два мешка хитрости!
— Ловко ты ее провела, эту ворону у ящика! — восхищенно сказала Ругя.
— Молодец Баджи, — снисходительно процедила Ана-ханум.
И даже Фатьма вслед за матерью повторила:
— Молодец!
Обман всегда находил сочувствие на женской половине, если только не ущемлял интересы ее обитательниц.
Окрыленная всеобщим одобрением, Баджи хвастливо заявила:
— Я могу провести кого угодно!
— Ну, меня ты, положим, не проведешь, — заметила Ана-ханум.
— Нет, проведу! — сказала Баджи заносчиво.
— Ну-ну, не очень-то зазнавайся! — оборвала ее Ана-ханум. — Обманула одну дуру и думаешь, что хитрей всех. Не забывай, кто ты!
«Все равно я хитрей всех!» — твердила про себя Баджи.
Долго не ложились спать в этот вечер женщины. Долго не умолкали их голоса.
На даче
Днем некуда было деться от солнца, вечером — от духоты: раскаленный камень дышал накопленным за день солнечным жаром. Нелегко было и ночью. Лежа на плоских асфальтовых крышах, на балконах, а то и просто на тротуарах, люди томились от бессонницы.
Тяготы лета особенно ощущались в узеньких переулках, в карликовых дворах и домах Крепости. Всюду пыль, вонь от гниющих отбросов. Томительная пора!
Семья Шамси в эту пору спала на крыше. Каждый вечер Баджи перетаскивала туда коврики, подстилки, подушки.
— Вот уедем скоро на дачу, а ты, дура, останешься здесь! — дразнила ее Фатьма.
На дачу!
Зажиточные люди отправляют свои семьи на Кавказские группы или в Грузию, а кто побогаче, то и за границу. Некоторые, даже если аллах не обделил их достатком, не хотят далеко отпускать свои семьи. Разве дачи в селениях на северном берегу Апшерона хуже? Где еще найти такие виноградники, фруктовые сады, цветочники, огороды, цементированные бассейны? Дома обращены к улице безоконной стеной, владения окружены каменной оградой, и сюда не проникнут взгляды чужих мужчин, не оскорбят жен и дочерей; здесь, покинув свой городской дом, жены и дочери снова оказываются в добром замкнутом мусульманском мире. На эти пригородные дачи может съездить разок в неделю на фаэтоне и сам глава семьи, не нарушив при этом хода торговли, заплатив за дорогу лишь два рубля пятьдесят копеек с человека, и, приехав, привлечь к груди ту из жен, которая ему милей. Прекрасны эти дачи на северном берегу! Жить здесь постоянно и копаться в земле и траве, как батрак, — это, конечно, не дело, но отправить сюда семью на лето — что может быть разумней?..
— Вот и уехали барыни на дачу, а я, амбал, осталась здесь! — грустно бормочет Баджи, убирая комнаты, таская воду, стирая белье, волоча на крышу тяжелый ковер Шамси.
Баджи не умела стряпать так вкусно, как Ана-ханум — не научиться было этому в доме отца. А здесь, в доме дяди, Ана-ханум ревниво хранила тайны кулинарии, и теперь чревоугодливый Шамси нередко оставлял обед нетронутым.
— Собачья пища! — ворчал он, отталкивая тарелку. — Видно, у вас в Черном городе такое жрали. Еще заболею из-за тебя!
Но в кебабную он не ходил: незачем переплачивать кебабчи́, когда в доме живет здоровая девка-служанка, — вконец разленится, дармоедка!..
Раз в неделю, под праздник, закрыв магазин на три замка, Шамси уезжал к себе на дачу. Она находилась в том самом селении, откуда был родом Дадаш.
Приятно после недели одиночества снова оказаться в кругу семьи — полакомиться яствами, приготовленными старшей женой, погладить по голове сына, измерить веревочкой, на много ль он вырос, полюбоваться красотой младшей жены. Через день, со следами свежего загара на плотной шее, Шамси возвращался в город.
В середине августа, когда поспел виноград и второй инжир, Шамси стал привозить из дачного сада высокие камышовые корзины с виноградом, переложенным листьями, и большие, как жернова, решета с пухлым спелым инжиром. С легким сердцем баловал себя Шамси фруктами из своего сада: продавать на сторону ему, городскому торговцу, непристойно, а на семью хватит вдоволь!
Баджи наблюдала, как деловито, не торопясь ощипывал он виноградную гроздь и одну за другой отправлял виноградины в рот. Иногда он совал племяннице с десяток плодов инжира или кисть винограда. Баджи никогда не ела при Шамси — мало радости, когда тебе смотрят в рот! — и, получив что-нибудь из его рук, тотчас уносила в свой угол, чтобы насладиться наедине.
Захаживал иногда вечерком Хабибулла.
Деятельность в комитете с некоторых пор перестала его удовлетворять. Что, собственно, теперь представлял собой комитет? Сборище грызущихся между собою партий и групп. Выполнять мелкие поручения комитета, участвовать в этой грызне, бегать из комнаты в комнату, вверх и вниз по лестнице, с бумажками в руках, как мальчишка-рассыльный? Нет, это было Хабибулле не но душе, этим путем далеко не уйти! Нужно, конечно, примкнуть к какой-то одной партии, служить ей не за страх, а за совесть, стать этой партии необходимым, продвигаясь вверх и достигая власти. К какой именно партии? Об этом Хабибулле задумываться не приходилось: к самой сильной, конечно, из азербайджанских партий, к самой близкой по духу, конечно, — к партии «мусават».
Обстоятельства пришли Хабибулле на помощь: он ухитрился выпросить себе задание от весьма влиятельного в партии «мусават» дяди Ляли-ханум, и оно оказалось значительно важнее того, на какое мог рассчитывать любой другой новоявленный мусаватист.
В душные вечера Хабибулла и Шамси поздно засиживались за чаем во дворике или перед домом, в тупике.
Что влекло Хабибуллу к ковроторговцу? Одно ли только желание заработать? Одна ли только надежда получить Фатьму в жены и вместе с Балой-младшим стать наследником богатого старика? Одна ли только корысть? Едва ли. Было в Хабибулле какое-то тайное чувство, напоминающее сыновнее, которое он, одинокий, неудачливый человек, готов был обратить на всю семью ковроторговца и прежде всего — на главу семьи. Была у Хабибуллы и тщеславная потребность иметь в этом наивном человеке покладистого слушателя его разглагольствований.
Поразглагольствовать же Хабибулле в это лето было о чем: на промыслах и на заводах рабочие волновались, требуя заключения коллективного договора, по городу шли толки о возможных обысках среди зажиточного населения.
— Это все большевики орудуют, вместе с их главарем Шаумяном, — вещал Хабибулла.
Шамси при одном упоминании об обысках приходил в негодование: подумать только, голытьба ворвется в его дом, будет рыться в его добре, нахально смотреть на его женщин!
— Противодействовать всему этому может одна-единственная партия — «мусават», — поучал Хабибулла. — Только одна она стремится дать покой почтенным мусульманам.
— Так говорят про себя все наши партии, — скептически заметил как-то Шамси. — Не понять, какая из них врет.
— Я докажу тебе на примере, что «мусават» не врет, — ответил Хабибулла. — Помнишь, недавно амбалы со всего города притащились к городской управе с криками: «Нет сил таскать тяжести, нет возможности жить амбалу на паек в один фунт хлеба, который вы нам выдаете, дайте нам по два фунта, не то пойдем по всем лавкам, силой возьмем!» Среди этого сброда был, к слову сказать, и твой Таги, черт бы его взял! Собрали амбалы целый митинг, бушевали. Я выступил на митинге от партии «мусават», объяснил этим собачьим детям, что все люди равны, и, значит, все должны получать поровну — один фунт. Недаром, оказал я, наша партия называется «мусават» — равенство! Я уговорил их не скандалить на улице, пойти во двор мечети Таза-пир и там спокойненько выбрать комиссию для разрешения хлебного вопроса. И что же? По дороге половина разбрелась, остальные выбрали какую-то комиссию. Когда еще комиссия эта добьется чего-нибудь от думы! Пока же спокойствие восстановлено… Теперь ты, Шамси, убедился, что «мусават» стремится установить мир и покой? Что, ловко я этих дураков уговорил? — самодовольно заключил Хабибулла.
Он имел все основания быть довольным собой: голодную, легковерную, не искушенную в политике городскую бедноту ему действительно удавалось несколько раз обмануть так ловко, что комитет «мусавата» оценил его деятельность по достоинству.
Однажды Хабибулла принес в дом Шамси новость: «мусульманский национальный комитет» примиряет кровников. Шамси задумался. Он, правда, в свое время обезопасил себя от мести кровников, но времени с той поры прошло немало, а намять у тех, кто получает деньги за отказ от мести, как известно, короткая. Почему ж не заняться этим делом, особенно если представляется случай? Масло еще никогда не испортило плова. Кому охота погибнуть так нелепо, как погиб бедный Дадаш?
Хабибулла предложил Шамси свои услуги — он, Хабибулла, организует это примирение: «национальный комитет» поручает ему вести подобные дела.
— Конечно, придется дать пожертвование в пользу комитета, — предупредил Хабибулла своего друга.
В один из четвергов Шамси объявил Баджи:
— Запирай дом на все замки, поедешь со мной на дачу!
Он думал: «Не умрет девчонка, если поможет на даче женам — и так каждую пятницу сидит сложа руки. Да и опасно в такое время оставлять на нее дом: еще откроет двери любителям обысков. Замки защитят дом лучше, чем эта дура, — взламывать дверь вряд ли кто решится».
Баджи радостно заметалась по комнате. На дачу! Вот когда посмеется она над Фатьмой!
На фаэтоне отправились вчетвером — Шамси, Хабибулла, Абдул-Фатах и в ногах у них, скорчившись, Баджи. Степь между южным и северным берегом полуострова, которую фаэтон пересек за два часа, показалась Баджи необъятной.
— Вот и я не хуже тебя — на даче! — первое, что сказала Баджи Фатьме, выползая из фаэтона и растирая затекшие ноги.
— Тебя отец завтра отправит назад, а я останусь здесь до тех пор, пока есть инжир и виноград! — огрызнулась Фатьма.
Неизвестно, что будет завтра, но сегодня Баджи — на даче.
Пока гости смывали с себя дорожную пыль холодной колодезной водой, Баджи убежала в сад.
Солнце на северном берегу Апшерона палит не менее сильно, чем в городе, но зато как чист и свеж здесь воздух! Недаром среди пыли и копоти Черного города томился по этому берегу Дадаш.
Баджи носилась по саду и цветнику. Какие здесь удивительные цветы! Красивей, пожалуй, чем на коврах Ругя. Вечером, когда никто не увидит, она нарвет себе большой букет!
Радость Баджи была омрачена Ана-ханум:
— Эй, Баджи, пойди постирай белье на море — у нас без тебя вдоволь накопилось!
Баджи спустилась к морю, держа на голове деревянную плошку с ворохом белья.
Берег здесь был не такой, как в городе: вместо серой пыли — мягкий золотой песок. Как приятно утопали в нем ноги! И море здесь тоже было иное — светло-зеленое, прозрачное, без единого мазутного кружка. Как приятно после горячего прибрежного песка ощущать освежающую прохладу волн!
Не успела Баджи вернуться и снять с головы тяжелую плошку с выстиранным бельем, как Ана-ханум заставила ее помогать в стряпне; чтоб придать примирительным переговорам больший вес, Шамси позвал в гости аксакалов — старых и влиятельных людей селения, которых, разумеется, следует угощать на славу, не то, чего доброго, откажутся содействовать примирению.
Когда солнце стало клониться к закату, на дачу Шамси потянулись сельчане — аксакалы, представители обоих враждующих родов, и просто любители повеселиться и поесть, каких немало повсюду и без которых не обходится ни одно большое торжество. В саду был разостлан узкий длинный ковер, по обеим сторонам которого чинно расселись друг против друга представители враждующих родов. Неподалеку, возле дымных жаровен, женщины готовили угощение.
Начал торжество Хабибулла.
— Пора понять, что все азербайджанцы — братья! — возгласил он патетически. — Молодые и старые, ученые и простые, богатые и бедные, хозяева и рабочие, все — братья, если только они азербайджанцы! Не должно быть между ними никаких раздоров, не должно быть и кровной мести!
Разглагольствовал Хабибулла долго. После него выступил Абдул-Фатах.
— Мир да будет среди сынов ислама! — сказал он, подняв к небу глаза и руки. — Пришел тот долгожданный час, когда они становятся едины. И если даже такие благородные противники, как закавказский муфтий, отец суннитов, и закавказский шейх-уль-ислам, отец шиитов, недавно братски обняли друг друга, то разумно ли простым смертным сохранять свою мелкую вражду? Коран ведь вовсе не настаивает на мести — есть много способов, как искупить убийце свою вину.
Абдул-Фатах тоже говорил долго, потому что не подобает почтенному мулле говорить коротко — еще подумают люди, что нечего ему сказать.
После Абдул-Фатаха заговорили аксакалы — тоже против обычая мести. За ними выступили представители обоих родов, склонные к примирению, и, наконец, наиболее упорные ревнители кровной мести, уступившие общему миролюбивому настроению. Гости одобрительно покачивали головой: неровен час, на любого из них может обрушиться этот жестокий обычай.
В итоге Хабибулла составил договор, но которому кровная вражда между Шамси и враждебным ему родом прекращается навеки. Представители враждебного рода и Шамси подписались под договором. Хабибулла, в качестве уполномоченного от комитета, и Абдул-Фатах, как духовное лицо, скрепили документ своими подписями. На нужды комитета и мечети поступило по двести рублей от каждой из помирившихся сторон. По окончании церемонии бывшие кровники обнялись и облобызались.
На радостях Шамси свершил и жертвоприношение: своей рукой зарезал двух ягнят.
— Пусть лучше, прольется кровь ягнят, нежели наша! — воскликнул Шамси, обращаясь к недавним своим врагам и обтирая о траву окровавленный нож.
Баджи видела, как кровь хлынула из горла ягненка, заливая белоснежную шерсть. Охваченная жалостью, она закрыла лицо руками и убежала.
Вскоре пир пошел горой.
Ана-ханум, как всегда, оказалась на высоте: приготовленное ею нежное мясо ягнят таяло во рту. По ее приказанию Ругя, Фатьма и Баджи подносили гостям свежие фрукты из сада, рассыпчатые печенья, душистый чай. Они ставили полные яств подносы на край ковра и тотчас убегали, чтоб, упаси аллах, кто-нибудь не заметил и не осудил их. Три слепых и рябых музыканта — кеманча, тар и бубен — играли не переставая. Гости подпевали, прищелкивали в такт пальцами, а кто помоложе — пускался в пляс. Женщины, стоя на почтительном расстоянии, наблюдали из-за деревьев, как пируют мужчины.
«Хорошая это штука — национальный комитет! — мысленно восхищался Шамси, сидя у длинного узкого ковра, уставленного яствами, и благодушно потчевал гостей, не забывая при этом и себя. — Молодежь и стариков, шиитов и суннитов, богатых и бедных, хозяев и рабочих, мстителей и тех, кому они мстят, — комитет всех старается примирить, сеет согласие и дружбу! За двести рублей я буду жить спокойно до самой смерти. Ведь сам я никого пальцем не трону — пусть только меня не трогают. Бедный Дадаш! Жаль, что не дожил до этого времени!..»
Шамси прослезился.
— Баджи! — позвал он тихим голосом, смахивая слезу. — Ешь персики, абрикосы, сколько хочешь!
Баджи не хотелось есть — за день она успела вдоволь полакомиться на кухне и в саду, — но все же, выбрав три самых крупных персика, съела их: не часто угощал ее дядя так ласково, как в этот день; она готова была простить Шамси многое…
Ночью Баджи проснулась — в комнате было душно — и тихонько выскользнула в сад.
Гроздья винограда, омытые ночной росой, блестели в лунном свете. Баджи легла возле гибкой лозы, вдохнула ее свежесть. Слышен был мягкий шум моря. Звездное небо простиралось над спящей землей, и Баджи, глядя на звезды, как обычно, принялась их считать. Она насчитала сто, и двести, и еще много звезд — очень много! И удивилась: было время, когда она не могла сосчитать все окна в фирменном доме.
О, как далек был он сейчас, этот фирменный дом, как далеко было жилище ее детства!.. Грязные стены со следами насекомых, закопченный потолок, щелистый пол… Пуст угол отца — отец у ворот; пуст угол брата — брат в школе; в углу у окна — больная мать; в углу у двери — она сама… Каким убогим представлялось ей это жилище, когда она переехала в Крепость, в дом дяди, и каким близким, родным возникло оно в ее памяти сейчас!..
В субботу утром за Шамси и его друзьями приехал фаэтон. И снова сидела Баджи на фаэтоне, скорчившись в ногах Шамси, Абдул-Фатаха и Хабибуллы.
— Теперь ты нескоро приедешь сюда! — крикнула ей вдогонку Фатьма, показывая язык.
Все лето Баджи провела в городе.
Днем некуда было деться от солнца, вечером — от духоты. Всюду пыль, вонь от гниющих отбросов. Все лето Баджи убирала комнаты, таскала воду, стряпала, волочила на крышу тяжелый ковер Шамси.
Где-то на другом берегу цвели деревья, шумело чистое море и виноградники были покрыты свежей росой. Где-то на другом берегу Фатьма целый день гуляла в тенистом саду, объедалась персиками и виноградом.
«Азербайджанцам будет теперь хорошо… — вспомнила Баджи вздыхая. — Когда же и мне будет хорошо?..»
Вместе или врозь?
Осенью Юнус снова пришел в Крепость.
Шамси в этот раз не был столь покладист, как весной; долго пришлось его уламывать, прежде чем он позволил Баджи съездить на промыслы, в гости к брату.
— Не заночуй только, как в тот раз, а то домой не пущу! — буркнул он напоследок.
Когда Юнус и Баджи приехали на «Апшерон», там шел митинг.
Уже несколько месяцев волновал рабочих вопрос о присоединении промысловых районов к городу Баку. В присоединении этом рабочие и Бакинский комитет партии большевиков справедливо видели нечто большее, чем рядовое муниципальное мероприятие, — дело шло о вмешательстве промысловых рабочих и партии большевиков в городские дела, в тайное тайных буржуазного города.
«Мусават» и другие буржуазные партии, естественно, стояли против присоединения. Стремясь изолировать промысловые районы от города, они настаивали на создании земств, в которые вошли бы рабочие районы, и бросили на промыслы сотни своих агентов и агитаторов, рассчитывая найти поддержку среди азербайджанцев, особенно среди выходцев из окрестных селений.
Толпа рабочих, в большинстве азербайджанцев, обступила старую черную вышку, нижняя площадка которой служила сейчас своеобразной трибуной. Чуть выше и ниже, стоя и сидя на ступеньках лестницы, ведущей на вышку, расположились организаторы митинга и люди, собиравшиеся выступать.
Юнус и Баджи стали в задних рядах толпы. Баджи поднялась на цыпочки и с любопытством принялась наблюдать за людьми, облепившими вышку. Внезапно она схватила Юнуса за руку и, указав на площадку глазами, прошептала:
— Смотри, Юнус, смотри!
Юнус увидел Арама и Газанфара и понял: собираются выступать!..
Будучи членом районного комитета партии большевиков, Газанфар нередко посещал промыслы, чтобы сделать доклад, помочь разрешить тот или иной волнующий рабочих вопрос, подсказать на рабочем собрании правильную мысль, проверить работу ячейки, дать от имени комитета дальнейшие указания. Ни с одним из промыслов, однако, связь Газанфара не была столь тесной и дружественной, как с «Апшероном».
То ли это происходило потому, что Газанфар проработал на «Апшероне» четыре с лишним года в качестве помощника бурового мастера и был близок многим апшеронцам? То ли потому, что здесь работал его друг Арам, которого он частенько навещал, и невозможно было, просидев часок-другой за столом с Арамом и Розанной и выпив с полдюжины стаканов чаю, не коснуться дел ячейки «Апшерона», в которой Арам был не последний человек? То ли потому, что сам Газанфар жил поблизости и, часто встречаясь с рабочими-апшеронцами, любил перекинуться с ними словцом о жизни «Апшерона»?
Так или иначе, промысел этот для Газанфара был не только одним из многих в районе, которые Газанфару, работнику районного комитета, приходилось посещать, а, если можно так выразиться, «его», Газанфара, промыслом. И когда в комитете речь заходила об «Апшероне», мысли всех невольно обращались именно к Газанфару, а сам он, обычно такой покладистый и необидчивый, готовый выполнять любые поручения комитета, счел бы себя обойденным, если б делами, касающимися «Апшерона», поручили заняться кому-нибудь другому. Газанфар испытывал даже нечто вроде ревности, если отношения у кого-нибудь с «Апшероном» заходили, по его мнению, слишком далеко.
— Газанфар и Арам, надо думать, будут сейчас выступать, — объяснил Юнус сестре.
Но Баджи замотала головой:
— Нет!
Юнус не понял ее.
— Смотри на того, на другого, который сейчас говорит, — я его знаю! — пояснила Баджи.
Юнус устремил взгляд на выступающего. Незнакомый маленький человек в темных очках; коротенькие ручки болтаются, как у петрушки; подле него — два дюжих молодца с кинжалами у пояса.
«Странный человек!.. — усмехнулся про себя Юнус. — Откуда сестра его знает?»
— Это Хабибулла, он ходит к дяде! — продолжала Баджи. Она говорила взволнованным шепотом, точно поверяла Юнусу какую-то тайну.
— К дяде? — удивился Юнус. — Ты что-то путаешь!
Баджи ударила себя в грудь.
— Пусть я сдохну, если вру! Он для дяди ковры продает. Я сама ходила с ним, носила ковер Мусе Нагиеву. Это богач такой. Ни один человек в городе не имеет столько денег и домов, сколько имеет Муса. Муса с Хабибуллой за руку здоровался, хорошо заплатил ему за ковер.
Юнус понял, что Баджи не ошибается.
— Ладно… — протянул он в ответ.
Маленький человек в темных очках действительно был Хабибулла — с осени комитет «мусавата» стал поручать ему выступления на промыслах, на рабочих собраниях.
Посылая на промыслы своих агитаторов, комитет «мусавата» ставил перед ними задачу — завоевать симпатии и доверие рабочих-азербайджанцев. Сумели же найти дорогу к уму и сердцу рабочих большевики, — почему бы и им, мусаватистам, действуя тонко и хитро, в свою очередь, не добиться успехов?
Выступать здесь с мусаватских позиций Хабибулле было гораздо труднее, чем перед амбалами-одиночками, перед забитой городской беднотой. Среди рабочего люда Хабибулла ощущал неловкость, испытывал порой тайный страх, подобный тому, какой ощутил перед крестьянами после смерти отца. Он старался, однако, преодолеть малодушие, понимая, как важно для него завоевать популярность на рабочих собраниях и тем самым снискать одобрение верхов «мусавата».
— Пора, братья-азербайджанцы, подумать о наших сельчанах! — взывал теперь Хабибулла с площадки вышки. — Природа в этих краях бедная, плодородной земли мало. Сады и огороды орошаются только вручную из глубоких колодцев. В селениях нет ни дорог, ни почты, ни школ, ни больниц. Рабочих-неазербайджанцев судьба наших сельчан мало трогает, и они отказываются идти им на помощь. Это, впрочем, понятно: всякая нация заботится о себе. Но вот, оказывается, некоторые рабочие-азербайджанцы действуют заодно с этими чужаками. Братья-азербайджанцы, помните, наши сельчане протягивают к вам свои руки, моля вас не присоединяться к городу, не оставлять их на произвол судьбы!
Говорил Хабибулла, по обыкновению, долго.
Он не успел окончить, как его место занял Газанфар. Рядом с тщедушной фигуркой Хабибуллы его мужественная, высокая фигура казалась точно высеченной из камня. Газанфар оглядел знакомые лица, улыбнулся и начал:
— Есть у наших сельчан умная пословица: веревка хороша длинная, а речь — короткая! Плохо, видно, знаком с сельчанами господин мусаватист, выступавший только что перед нами и делавший вид, что заботится о сельчанах!..

По толпе прошел одобрительный шепот.
— Господин мусаватист, — продолжал Газанфар, — заботится не о сельчанах — до них и до их нужд ему нет дела! Заботится он о себе и о людях, которыми сюда послан. Не хотят господа мусаватисты и те, кто с ними заодно, чтобы мы, рабочие промыслов, вмешались в городские дела, опасаются, что не все у них там ладно на наш рабочий вкус. А мы, рабочие бакинских промыслов, думаем по-иному: мы думаем, что вмешаться в городские дела и многое там, в этих делах, перетрясти нам необходимо — пришла пора!
Шепот стал громче, с мест послышались возгласы.
— Что до крестьян, — продолжал Газанфар, — то мы, рабочие, их в обиду не дадим, как, впрочем, никогда не давали. Ну, посудите сами: кто вершит делами партии «мусават»? Наряду с нефтепромышленниками — беки и ханы, землевладельцы. У них есть причины враждовать с крестьянами — из-за земли. А кто такие люди нашей партии, партии большевиков? Такой же трудовой народ, как большинство крестьян! Многие из нас в прошлом — сами сельчане. Как же это возможно, чтоб беки и ханы заботились о своих врагах больше, чем мы, рабочие, большевики, о своих друзьях? Нет, мусаватисты только сладко говорят! А я от наших сельчан слышал: «Сколько ни повторяй «халва, халва» — сладко не будет!»
Его слова заглушил взрыв одобрительного смеха. Ну и Газанфар! Всегда бьет в самую точку!
Вслед за Газанфаром выступил Арам — тоже, разумеется, за присоединение. Время от времени из толпы вырывался возглас:
— Верно он говорит!
— Ай да старик — голова у него варит!
Хабибулла протиснулся к барьеру площадки:
— Может быть, выступавший гражданин армянин и не дурной человек, но он, как армянин, не может разобраться в наших азербайджанских нуждах… Подобно тому как мы, азербайджанцы, не можем понять нужды армян, — торопливо добавил он, заметив неодобрительные взгляды людей, окружавших вышку.
Неожиданно его поддержал голос неизвестно откуда вынырнувшего приказчика:
— Хотя я сам армянин, а гражданин, говоривший сейчас, — азербайджанец, я считаю, что он прав! Так считает и наша армянская партия «дашнакцутюн»! Каждая нация — за себя!
Юнус с места крикнул:
— Правильный человек, наш человек, разберется в нуждах другого человека, какой бы тот ни был нации!
Сколько раз Юнус убеждался в этом, дружа с Арамом и пререкаясь с Министрацем — так, с легкой руки Баджи, стали называть приказчика сначала в казарме для бессемейных, а затем и на всем промысле.
Хабибулла упрямо замахал ручкой:
— Нет, граждане, нет! Я утверждаю, что гражданину армянину, выступавшему здесь за присоединение промыслов к городу, интересы азербайджанцев-сельчан чужды!
— Много ближе, чем тебе! — снова крикнул Юнус.
Хабибуллу прорвало:
— Хватит нам слушать этих интернационалистов, которые во главе с армянином Шаумяном сеют рознь между мусульманами. Шаумян получает за это деньги от большевиков…
Юнус вспыхнул: как он смеет так говорить о Степане Георгиевиче, этот негодяй!
— Ты лучше скажи, сколько ты получаешь маклерских от Мусы Нагиева и от других богачей, которым прислуживаешь? — громко крикнул он.
Хабибулла опешил: кто-то здесь его хорошо знает. Откуда? Кто? Он вглядывался в лица окружавших его людей, пытаясь обнаружить, кто подал такую реплику.
— Ты что же не отвечаешь? — снова крикнул Юнус, и Хабибулла наконец его приметил.
«Так вот он, этот крикун!» — подумал Хабибулла, пристально всматриваясь в незнакомую высокую фигуру Юнуса.
«Чего они так сцепились?» — недоумевала Баджи.
Она старалась уловить смысл в словах спорщиков и поняла их по-своему: Хабибулла и Министрац хотят, чтобы рабочие не ездили в город, хотят навсегда разлучить ее с братом, а брат, Газанфар и Арам противодействуют этому. Баджи понимала, что заодно с братом много людей, и забытое чувство, что брат силен и бесстрашен, снова овладело ею.
Тщетно усердствовал Хабибулла — собрание вынесло решение о присоединении промыслового района к городу. Сопровождаемые насмешливыми, враждебными возгласами рабочих, Хабибулла и два его молчаливых спутника с кинжалами у пояса покинули промысел.
В ожидании поезда Хабибулла со своей свитой прогуливался по перрону. Он был зол — впервые постигла его такая полная неудача. Легко представить себе, как отнесутся в комитете к его провалу. Хабибулла перенесся мысленно в комитет… Сидят себе в мягких кожаных креслах и судачат… Попробовали бы сами поговорить с этим промысловым народом — иное бы запели!
Стремясь отвлечься от неприятных мыслей, Хабибулла блуждал взглядом по грязному полуосвещенному перрону, посматривал на немногочисленных, бедно одетых людей, сидящих на земле в ожидании поезда.
«Дурачье!» — проворчал он злобно.
Неизвестно, к кому относил он эту ругань — к людям, сидевшим на земле в ожидании поезда, к апшеронцам, вынесшим неугодное ему решение, или к комитету, направившему его на столь неверное дело. В тайниках души, однако, он с досадой и стыдом ощущал, что если уж говорить о дураках, то в дураках остался именно он сам.
Внезапно сердце Хабибуллы забилось: среди людей, ожидающих поезда, он увидел Юнуса.
«Кто этот юнец? — напряженно думал Хабибулла, прохаживаясь взад и вперед вдоль перрона. — Откуда он знает меня? И кто эта девчонка рядом с ним?» Что-то знакомое чудилось ему в стройной фигурке под чадрой.
Баджи не спускала глаз с Хабибуллы. Ее пугала назойливость, с какой он маячил перед ней и Юнусом из одного конца перрона в другой.
Подали поезд. Пассажиры на перроне встрепенулись, устремились к темным, грязным вагонам. Выждав, когда Юнус и Баджи вошли в вагон, Хабибулла последовал за ними и уселся напротив.
«Нарочно сел здесь хочет узнать, кто мы такие», и неясной тревоге решила Баджи.
Вошел кондуктор — усатый седой старичок с фонарем в руке.
— За кого детский? — спросил он, беря у Юнуса билеты.
Юнус кивнул на Баджи:
— За нее.
— А ну, покажись! — сказал кондуктор, направляя свет фонаря на Баджи, скрытую под чадрой.
— Куда ты лезешь? — вспыхнул Юнус. Сам он не придавал значения чадре, но знал, что такая бесцеремонность оскорбительна для женщины.
— А ты чего орешь? — спокойно сказал кондуктор — Прикидываются женщины-мусульманки девчатами, а мне потом отвечать перед обером.
Юнус оглядел кондуктора. Под седыми старческими усами играла добродушная улыбка.
— Открой лицо, — сказал Юнус сестре.
Баджи медлила: некуда было скрыться от темных очков Хабибуллы.
«До чего ж глупы девки — боятся себя показать», — подумал Хабибулла.
— Открой лицо, говорю тебе! — прикрикнул Юнус.
Сестра не смеет ослушаться брата, если даже он поведет ее на гибель. Ладно, она раскроется…
Свет фонаря скользнул по лицу Баджи лишь на одно мгновенье, но этого было достаточно, чтобы наполнить Хабибуллу радостью. Черт возьми, как это он сразу не догадался? Всего-навсего — девчонка Баджи! Так это, значит, она рассказала про ковер? У Хабибуллы отлегло от сердца: не так страшно! А юнец этот — ее брат, конечно. Хабибулла вспомнил, что Шамси как-то упоминал о племяннике, работающем на промыслах. Так вот каков он, этот племянничек!..
— Кто вас тут разберет? — виновато бормотал кондуктор, удаляясь. — Заховаются в свои шали, не разберешь, где бабка, где внучка!
Хабибулла поправил очки.
— Я не знал, что ты племянник Шамсиева, — обратился он к Юнусу.
Темные стекла очков скрывали его глаза.
— Зато я знаю, кто ты, — сухо сказал в ответ Юнус: он хорошо помнил выступление Хабибуллы.
«Нахальный малый», — подумал Хабибулла, но вслух любезно произнес:
— Хороший человек твой дядя!
— А чем он хороший? — спросил Юнус задорно. — Тем, что денег много имеет?
Хабибулла сокрушенно покачал головой.
— У нас, у мусульман, принято стариков-родственников уважать, — сказал он. — А ты, друг, поешь с чужого голоса — видно, наслушался болтовни наших врагов, которые натравливают сыновей на отцов, младших на старших, бедняков на богатых.
— А ты бы хотел, чтоб бедняки навек оставались бедняками, а богачи — богачами? — насмешливо спросил Юнус. — Так, что ли?
— Не мусульманские это слова! — воскликнул Хабибулла укоризненно. — Русские или армяне тебя таким словам научили!
— Хватит! — сказал Юнус строго.
Сидевший на соседней скамейке рабочий брезгливо заметил:
— Да это мусаватист, чего ты, парень, с ним толкуешь?
— А тебе что, мусаватисты не нравятся? — спросил, прищурившись, один из молодчиков Хабибуллы.
— Гнать вас надо отсюда в три шеи! — послышался голос за перегородкой.
— Попробуйте! — вызывающе гаркнул молодчик, и рядом с ним тотчас оказался второй. Оба взялись за рукоятки кинжалов.
Рабочие повскакали с мест, зашумели, столпились в отделении, где происходил спор. Баджи прижалась к Юнусу. Хабибулла сообразил, что, несмотря на кинжалы молодчиков, перевес не на его стороне, и понял, что дело может принять тяжелый оборот.
— Стыдитесь, друзья! — с притворным укором обратился он к своим спутникам. — Мы должны уважать чужое мнение. Я сам готов извиниться, если кого-нибудь оскорбил.
— Вот и извинись! — сказал Юнус.
Хабибулла оглядел окружающих его людей. Лица их были суровы, недружелюбны.
— Извините… — стиснув зубы, пробормотал он.
Баджи была в восторге: здорово брат поддел очкастою!..
В окне отмелькали огни города, пассажиры направились к выходу.
Хабибулла облегченно вздохнул: все окончилось благополучно! Но ему хотелось загладить дурное впечатление, которое он произвел на рабочих: с этими людьми ему придется еще не раз встречаться — ссориться с ними никак нельзя. И Хабибулла примирительным тоном обратился к Юнусу:
— А стоит ли тебе, мой друг, идти так поздно в город? Ты не успеешь попасть на обратный поезд — придется ждать до утра. Поезжай назад, я отведу девочку домой. Ведь нам с ней по пути!
Баджи снова прижалась к Юнусу: нет, нет — она не хочет идти с очкастым!
— Я сам отведу, — холодно ответил Юнус, — не беспокойся.
— Ну, как угодно…
Они молча шли до перекрестка, где расходились их пути.
— А все ж таки ты неправ! — упрямо промолвил Хабибулла напоследок: здесь, в центре города, он чувствовал себя уверенней.
— После драки палкой не машут! — ответил Юнус, взяв Баджи за руку и отходя от Хабибуллы.
— Драки-то ведь не было! — воскликнул Хабибулла вслед. — Был просто обмен мнений! Какая может быть драка между азербайджанцами?
Но Юнус уже не слышал его.
Великая весть
В один из октябрьских дней пришла в Баку из Петрограда великая весть.
Взволнованные, радостные люди высыпали на улицы. Заполыхали красные знамена. На каждом углу, на каждом промысле возникали митинги.
Со всех сторон неслось:
— Да здравствует революционный пролетариат и гарнизон Петрограда!
— Да здравствует новое революционное правительство! Да здравствует Ленин!
— Да здравствует власть Советов!
Не прошло недели, как Бакинский совет принял программу практического перехода власти в руки Советов.
«Пришла она, наконец, эта другая революция! — взволнованно думал Юнус. — Теперь все пойдет по-иному!»

Он верил, что люди станут жить теперь иначе и не будет больше нищеты, бесправия и унижений, которых вдоволь повидал он в Черном городе и здесь, на промыслах, на «Апшероне», в мрачной рабочей казарме «для бессемейных мусульман». Он верил, что люди скоро станут счастливыми. И сердце его сжималось от печали, когда он вспоминал, что мертвы отец и мать и четыре сестры и уже никогда не разделят того счастья, которого хватит теперь на всех хороших людей.
«Одна она у меня осталась из всех родных — Баджи! Как бы сделать ее счастливой?» — думал он, проникаясь к сестре нежностью, тревожась за ее судьбу.
Он еще больше сдружился с Арамом и Газанфаром, не пропускал ни одного рабочего собрания, слушал лекции, которые устраивал Бакинский комитет партии большевиков.
«Кто такой Ленин?»
«Кто такие большевики и чего они добиваются?»
«Удержат ли большевики государственную власть?»
Да, было на этих рабочих собраниях и лекциях что послушать, о чем поразмыслить, чему научиться!..
И все же… День шел за днем, подули холодные ветры с северо-востока, и каждый день приходили вести со всех концов России о том, что декреты новой, рабоче-крестьянской власти отдают земли и леса, заводы и шахты, железные дороги и пароходы в собственность народу, что заканчивается, по-видимому, война с Германией и Австрией, а здесь, в Баку, казалось, не видно было существенных перемен.
По-прежнему цепко держали хозяева в своих руках нефтепромыслы и заводы, пристани и пароходы, многоэтажные дома и богатые магазины. В Бакинском совете — хотя большевики получили большинство голосов и председателем его был Степан Шаумян — по-прежнему находились, наряду с большевиками, эсеры и меньшевики, и даже дашнаки и мусаватисты, проникшие в Совет с целью взорвать его изнутри. И, что всего удивительней, наряду с Советом продолжали существовать и такие оплоты богатеев, как старая городская дума и так называемые «национальные» советы, сеявшие между народами рознь. По-прежнему выходили буржуазные газеты «Каспий» и «Баку» и, несмотря на жестокую борьбу, которую вели с ними большевистские «Бакинский рабочий» и «Известия Бакинского Совета», продолжали клеветать на молодую советскую власть, на Ленина и Сталина, на видных бакинских большевиков.
Нет, нельзя сказать, что она уже окончательно восторжествовала здесь, эта другая революция, за которую боролись бакинские большевики во главе со Степаном Шаумяном и которую с такой надеждой ждал он сам, Юнус.
А что изменилось в его, Юнуса, жизни? По-прежнему проводит он целые дни в тесной тартальной будке, работая на владельца «Апшерона», по-прежнему живет в казарме для бессемейных, и койка его все так же стоит у двери, из которой несет холодным ветром и пылью. И по-прежнему он разлучен с сестрой.
Юнус загрустил: неужели большевики в чем-то просчитались?
— Без борьбы ничего к нам само в руки не пойдет! — сказал Газанфар Юнусу, выслушав его сомнения. — В Петрограде рабочие пролили свою кровь за власть народа и только после этого победили. Может быть, и нам здесь, в Баку, придется пролить свою кровь, прежде чем добиться решительной победы. Видно, дело к тому идет.
И, словно в ответ на эти слова, на промыслах, на заводах и в бакинском порту возникли новые отряды рабочей Красной гвардии. Мысль о создании этих отрядов принадлежала большевикам, а конкретное руководство их формированием взял на себя Военно-революционный комитет Кавказской армии.
Люди постарше вспоминали девятьсот пятый год и организацию рабочих боевых дружин. Славный это был год, кто помнит! И теперь с новой силой звучали слова, сказанные тогда Сталиным:
«Что нам нужно, чтобы действительно победить? Для этого нужны три вещи: первое — вооружение, второе — вооружение, третье — еще и еще раз вооружение…»
Бакинский комитет партии большевиков стал направлять в центральный штаб Красной гвардии своих испытанных людей, организаторов рабочих боевых дружин в девятьсот пятом году. Районные комитеты партии, в свою очередь, направляли представителей в районные штабы.
С утра до вечера, а то и далеко за полночь, работал теперь в районном штабе Красной гвардии Газанфар, формируя рабочие отряды. Немало времени уходило и на строевые занятия во дворе штаба. Нередко приходилось выезжать на тот или иной промысел — организовать митинг, провести запись в отряд. И все при этом у Газанфара спорилось. Кто, как не он, знал — кого, куда и кем назначить? Кто лучше него мог так повести дело, чтоб оружие и обмундирование попадало только в верные руки? Кто сумел бы, как он, обратить эти руки рабочего в руки бойца? Опыт с боевыми дружинами в девятьсот пятом году не пропал даром — Газанфар был снова в родной стихии.
Ежедневно приходил в районный штаб Юнус, задерживался во дворе, где происходили строевые занятия, и, с вожделением поглядывая на дверь, на которой большими буквами было написано мелом «Военно-интендантский отдел», спрашивал Газанфара:
— Когда же и я получу оружие?
— Еще молодой, успеешь! — охлаждал его пыл Газанфар.
Считал ли он действительно, что парень еще слишком молод, а он, Газанфар, по старому опыту, предпочитал давать оружие в руки людей испытанных и верных? Считал ли себя ответственным за судьбу одинокого парня и не спешил вести его в опасный бой? Или, может быть, говорил так только для виду, а на самом деле испытывал его?
Юнус хмурился: восемнадцать лет — молодой?
— А тебе, Газанфар, сколько было лет, когда ты взялся за оружие?
Газанфар уклонялся от ответа:
— Сколько было — столько уже не будет!
Но Юнус был настойчив:
— Нет, ты все же скажи!
— Не за горами и твое время, друг Юнус. Не торопись, — отвечал Газанфар, отечески похлопывая Юнуса по плечу, и снова принимался за работу…
«Не за горами?»
Оставалось думать, что так!
А пока с каждым днем все чаще можно было встретить на промыслах необычные фигуры: человек в пропитанной нефтью рабочей одежде, в картузе или папахе, но с ружьем за плечами, с матерчатым серым подсумком у пояса.
Взялся в эти дни за оружие и Арам.
В строй его, правда, не приняли — подвела седина! — но его назначили старшим по охране промысла: неровен час, враги могут сыграть недобрую шутку с огнем.
В промысловой охране Арам нашел дело и для Юнуса.
Винтовку Юнусу так и не выдали, но на время дежурства ему вручали старую берданку, и он прохаживался с ней подле ворот «Апшерона», подозрительно вглядываясь в каждое незнакомое лицо.
Организацией рабочих отрядов дело не ограничилось. Вскоре, в связи с декретом Советского правительства о создании Рабоче-Крестьянской Армии, стали в Баку формироваться и регулярные воинские части, В новую армию влились войска бакинского гарнизона и некоторые части старой армии, временно пребывавшие в Баку.
Зашагали по улицам обросшие бородой, в видавших виды шинелях, в стоптанных сапогах бывшие солдаты царской армии, присягнувшие советской власти и ныне ставшие под знамена Красной Армии.
Солдатушки,
Бравы ребятушки,
Где же ваши жены? —
затягивал одинокий высокий голос старую, овеянную пылью пройденных дорог русскую солдатскую песню.
Наши жены —
Ружья заряжены! —
подхватывал согласный мощный хор солдатских голосов, и песня завершалась дерзким посвистом.
Газанфар прислушивался. Хорошая песня!.. Бывало солдаты уже давно скрылись из виду, а песня все еще звучала в его ушах:
Солдатушки,
Бравы ребятушки,
Где же ваши жены?..
В один из этих дней, вырвавшись на часок из штаба, Газанфар забежал навестить Арама и Розанну.
За стаканом чаю поговорили о делах… С каждым днем прибывают силы Красной гвардии, с каждым днем растет мощь регулярных частей. Дела идут хорошо!.. Лицо Газанфара сияло радостью.
— Ну как, теперь пора найти себе жену? — спросила тетя Розанна и лукаво взглянула на Газанфара. — Ведь князю Львову твоему уже каюк!
— Жену?.. — переспросил Газанфар и весело пропел: — Наши жены — ружья заряжены!.. — И по-солдатски дерзко присвистнул, заставив Розанну прижать ладони к ушам и укоризненно покачать головой.
Песню эту, полюбившуюся ему, Газанфар теперь напевал частенько, ибо было в ее бодром напеве и дерзком посвисте что-то от духа смелого русского солдата, с которым шел теперь Газанфар плечом к плечу и с которым предстояло ему еще пройти длинный путь и свершить немалые дела.
Молитвы
Провокационные слухи носились по Крепости.
Одни говорили, что в Бакинском совете засели русские и армяне, готовящие декреты, направленные против азербайджанцев; другие — что азербайджанцы сами готовы выступить против Совета. Слухи эти распространялись мусаватистами: в любом случае они настраивали азербайджанцев против Бакинского совета.
Людей охватила тревога. На набережной, в богатых торговых рядах, на базарах стали закрывать магазины и лавки.
Шамси гнал от себя эти слухи — все равно не разобраться, кто прав! Со слухами же — Шамси это знал по горькому опыту — надо быть осторожным: он уже поплатился однажды, тринадцать лет назад, когда, поддавшись дьявольским слухам о том, что армяне хотят уничтожить азербайджанцев, был втянут в резню и потерял Балу-старшего. Ах, Бала!.. Сколько было б теперь мальчику? Пятнадцать лет и тринадцать — двадцать восемь лет. Умный был мальчик, с ранних лет понимал толк в коврах и в торговле, был бы теперь опорой отцу… Окровавленный труп Балы-старшего сохранился в памяти Шамси с такой болезненной яркостью, будто с той ужасной поры прошло не тринадцать лет, а всего лишь тринадцать дней. Ах, Бала, родной сын, первенец!.. Нет, нет, он, Шамси, больше не склонен ввязываться в кровавые истории. Ни в коем случае! Разве он солдат или кочи какой-нибудь, а не солидный торговец? Бог с ними с этим Бакинским советом, с армянами, с большевиками! Только б аллах оградил от невзгод его самого, и всю семью его, и прежде всего Балу-младшего — едва ли родится на старости лет еще третий сын.
Шамси гнал от себя тревожные слухи, но они, помимо его воли, назойливо, неумолимо вползали в уши, наполняли сердце тоской.
«Азербайджанцам будет теперь хорошо!» — вспоминал он с горечью и злился на себя за то, что без конца, как попугай, твердил эти слова надежды, меж тем как тучи, вместо того чтобы рассеяться, сгущались.
Он был поэтому очень обрадован, узнав, что новый губернский казий созывает во дворе большой Таза-пир-мечети собрание и, наряду с мусульманами, особо приглашает граждан немусульман, чтобы выяснить и мирным путем рассеять все общественные недоразумения. «Если таковые недоразумения вообще существуют», — предусмотрительно оговаривался казий в воззвании.
Шамси испытывал гордость: духовные пастыри мусульман пеклись не только о благе единоверцев, но и о благе всех остальных народов.
Надев праздничный костюм, Шамси отправился на собрание. Он пришел задолго до назначенного часа, но во дворе мечети уже толпился народ. Шамси встретил здесь немало знакомых купцов и лавочников — все они, как и он сам, встревожены были слухами. В ожидании начала собрания Шамси степенно прохаживался по двору.
Ах, мечеть Таза-пир!
По святости она, конечно, не могла идти в сравнение с древнейшей Сыпык-кала-мечетыо, матерью всех мечетей города, или с бескупольной древней Лезги-мечетью, или с Гилек-мечетью с двумя куполами. Но зато какой красоты была эта новая Таза-пир-мечеть, расположенная на чистом просторном дворе, окаймленном оградой! Все в ней казалось Шамси нарядным и гордым: двор, поднятый над грязной улицей, само здание, мощный купол над ним и два стройных минарета, уходящие в небесную голубизну для того, казалось, чтобы приблизить низкую бедную землю к чертогам аллаха.
Собрание открыл казий. Он призвал всех верующих в единого бога к мирному дружескому сожитию.
За ним в том же духе выступил чернобородый армянский священник в лиловой рясе, с золотым крестом на груди. Он говорил по-азербайджански, чтоб подчеркнуть свое расположение к азербайджанцам. Шамси, однако, попался на удочку — на миг глаза его увлажнились от умиления. Правда, он тотчас взял себя в руки, вспомнив про Балу-старшего.
Потом выступали русский протоиерей, еврейский казенный раввин, персидский консул, члены азербайджанского и армянского национальных комитетов и затесавшийся среди них представитель левых эсеров, речи которых, впрочем, Шамси никак не мог понять.
Выступил также Абдул-Фатах. И Шамси был горд, что его друг выступает на таком важном собрании.
Все сходились на одном: да будет мир в родном городе!
Мысль эта казалась Шамси мудрой, и очень было ему приятно, что обошлись на этот раз без тех ожесточенных споров и криков, какими в последнее время обычно сопровождались собрания и митинги.
Но особенно пленило Шамси решение устраивать подобные мирные смешанные встречи возможно чаще. Тут же были назначены два ближайших собрания: в воскресенье — в ограде армянского собора, а в следующую пятницу — снова во дворе Таза-пир. Шамси ушел домой успокоенный.
Он и в дальнейшем не раз посещал подобные собрания — они, казалось, отдаляли опасности, надвигавшиеся со всех сторон. Кто знает, быть может, в самом доле тучи развеются? Разве не говорят: если аллах захочет — родит и мужчина? Ходить за ограду армянского собора Шамси все же остерегался…
— В такое время всем людям надо молиться, — объявил Шамси домочадцам в один из этих дней. — Молитвы отвращают беды от мусульман.
Стремясь угодить мужу, Ана-ханум пять раз в день, наравне с муэдзином, созывала женскую половину на молитву. Ругя, по обыкновению, доставляла ей много хлопот — она не умела и не любила молиться.
— Далеко тебе, Семьдесят два, до муллы! — издевалась Ана-ханум.
— Муллой стать легко, человеком стать трудно! Так ведь говорится?
Всегда у Ругя находился меткий ответ!
— Безбожная гусеница! Вот подарит тебе аллах чесотку и вырвет при этом ногти, тогда послушаем, как ты запоешь все молитвы — не хуже муллы!
Баджи тоже не умела молиться. Боясь, однако, гнева Ана-ханум, она усердно клала поклоны. Это не мешало ей вслушиваться в пререкания жен и мысленно награждать крепким словцом старшую или, уткнувшись носом в молитвенный коврик, разглядывать его прихотливые узоры.
— Молись вслух, не то обманешь! — покрикивала Ана-ханум. — Громче молись, а то аллах не услышит тебя!
— Бильбили, вильвили, сильвили! — выпалила однажды Баджи. — Да уйдут беды от всех мусульман за высокие горы, под глубокие моря, под черную землю, в пещеры, в пропасти — силою молитвы ученейшей, мудрейшей, славнейшей Баджи, дочери Дадаша! — тараторила она.
Ана-ханум замерла.
— Красивая молитва! Ты откуда знаешь такую? — опросила она наконец.
— От казня! — гордо соврала Баджи.
— А ну, повтори-ка!
Баджи повторила несколько раз.
Вечером, когда Шамси зашел на женскую половину послушать, как молятся женщины, Ана-ханум решила похвастать:
— Бильбили, вильвили, сильвили!..
Шамси поморщился:
— Это не молитва, а заговор, — сказал он пренебрежительно. — Стыдно тревожить аллаха такими глупостями. Какая дура тебя этому научила?
Наутро, во время первой молитвы, едва Баджи уткнула нос в молитвенный коврик, Ана-ханум приказала:
— Молись вслух!
Баджи помнила, что Шамси остался не слишком доволен молитвой, и запнулась, но Ана-ханум прикрикнула:
— Молись, дура, вслух!
Баджи затараторила:
— Бильбили, вильвили, сильвили…
На нее посыпались оплеухи:
— Вот тебе бильбили! Вот тебе вильвили, сильвили! Получи по заслугам, ученейшая, мудрейшая, славнейшая Баджи, дочь Дадаша!
Странный товар
Не только в самом городе, но и по всему Азербайджану сплачивали бакинские большевики народ, поднимали его на борьбу.
В Елисаветпольском, Кубинском, Казахском, Шемаханском и других районах прошла волна мощных крестьянских восстаний. В одной только Елисаветпольской губернии разгромлены были имения беков Зюльгадаровых, Шамхорских, Султановых, Карабековых и многих других. Помещичьи усадьбы пылали, земля переходила к восставшим крестьянам.
Город был полон разговорами об этих событиях. Жадно прислушивался к ним Хабибулла.
С большинством разгромленных беков-елисаветпольцев Хабибулла уже давно не общался, но имена их были с детства знакомы его уху. Покойный Бахрам-бек — тот знал этих людей хорошо; снедаемый завистью, он только и делал, что подсчитывал земли соседей-помещиков. У Уцмиевых и Адигезаловых, помнил Хабибулла, было до двадцати тысяч десятин; у Зюльгадаровых — пятьдесят; у Шахмалиевых покойный Бахрам-бек насчитывал до ста тысяч десятин.
Мелькало в разговорах еще одно имя, запомнившееся Хабибулле с детства. Оно, правда, не принадлежало ни беку, ни хану. Имя это — Гаджи-Ахмед Гаджи-Гассан — носил знаменитый шамхорский крестьянин, который много лет назад, будучи еще совсем молодым, пешком прошел из Закавказья в Петербург, добрался до царя Александра II с челобитной на беков. Жалоба не имела особых последствий, но самый факт, что азербайджанский крестьянин добрался со своей жалобой до царя, был разителен и надолго запомнился не только в крестьянских лачугах, но и в богатых усадьбах и поместьях. Крестьяне прозвали своего защитника Беглярнан-вурушан, что значит — Борющийся с беками, а в богатых поместьях и усадьбах стали пугать этим прозвищем капризных барчат, подобно тому как именем грозного хана или бека пугали детей в крестьянских лачугах.
Много лет назад слышал Хабибулла это имя, и вот оно снова явилось на свет, чтоб пугать не только капризных барчат — теперь Беглярнан-вурушан казался гораздо страшней их отцам. Он не брел теперь, Беглярнан-вурушан, по проселочным пыльным дорогам через русскую землю, с кизиловой палкой в руке, с рваным хурджином на молодых сильных плечах. В косматой, пропитанной потом крестьянской папахе он не нес теперь челобитной к царю. Теперь, говорили, он был среди тех, кто созвал в январе шамхореких крестьян на тайный совет и убедил их поднять восстание против ханов и беков, против помещиков-землевладельцев.
И Хабибулла, слыша, как горько пришлось теперь всем тем, кто в свое время так бездушно обошелся с ним самим, сиротой, в первый миг ощутил злорадное чувство: так им всем и надо!.. Но вслед за тем он представил себе знакомые с детства усадьбы, ныне объятые пламенем, угоняемый скот, расхищаемое добро, и злобная радость его сменилась сомнением и страхом.
Было, правда, у Хабибуллы и чем утешить себя.
Рассказывали, что елисаветпольский «национальный комитет», руководимый беками, организует нападения на возвращающихся с турецкого фронта солдат русской армии, отнимает у них оружие, обращая его против восставших солдат, и одновременно старается натравить на солдат самих крестьян с целью отвлечь их от восстания.
«Умные, оказывается, люди мои земляки!» — размышлял Хабибулла.
Особенно восхищала Хабибуллу так называемая «дикая дивизия». Он с упоением переживал рассказ, как всадники «дикой дивизии» с оружием в руках защищали от восставших крестьян имение офицера. Но подлинным героем предстал в глазах Хабибуллы сам офицер: в ответ на предложение сдаться он застрелил нескольких крестьян и был убит. Человека этого Хабибулла знал с детства, тот был не последним в числе давних обидчиков Хабибуллы, но теперь, представляя себе, как дрался офицер против крестьян, Хабибулла готов был простить ему многое. Он понял, что в такой час нет места личным обидам, как бы горьки они ни были, что сам он душой и всем своим существом с теми, кто в глубине страны, из старых насиженных ханских и бекских гнезд, готовит поход на Баку, чтоб, свергнув Совет и порвав с беспокойной Россией, основать тюркское государство с ханами и беками во главе. Разве не были ханы и беки испокон веков властителями страны? Они должны быть и будут владыками и теперь. И тогда пробьет час торжества и для него, для Хабибуллы!
Пока же оставалось держать язык за зубами, шептаться с единомышленниками и действовать втайне, стараясь всеми силами приблизить этот час.
В один из таких дней Хабибулла явился к своему другу.
— Каждый день приносит нам злые новости, — хмуро сказал он.
— А что еще? — спросил Шамси настороженно. — Неужели молитвы наши не вознеслись на небеса?
— Вот прибыл сюда штаб мусульманской «дикой дивизии» во главе с генералом, а большевики арестовали штаб и самого генерала, будто шайку базарных воров.
Шамси сокрушенно вздохнул.
— Мало того, — продолжал Хабибулла неумолимо, — большевики переманивают многих мусульман на свою сторону. На текстильной фабрике хаджи Зейнал-Абдин Тагиева организовали они отряд Красной гвардии из рабочих-азербайджанцев. На днях несколько сот чумазых голодранцев-асфальтировщиков заявили, что примыкают к этой Красной гвардии. Служки из кебабных и чайных, чуречники — печные тараканы! — тоже к ним лезут!..
— Чтоб они все сгорели! — буркнул Шамси. — Не дают жить добрым мусульманам. Делают нашу жизнь горькой… — И, словно для того, чтобы умерить горечь, Шамси положил в рот кусочек сахару. — И кто их только создал, этих большевиков?
— Голь! — ответил Хабибулла с презрением. — Это она, голь, создала большевиков, чтоб истребить добрых мусульман, разграбить их богатства.
— Но неужели нет сил, чтобы дать большевикам отпор? Ты сам говорил, что в «дикой дивизии» начальниками являются сыновья почтеннейших мусульман, наследники добра своих отцов. Такой человек, как сын самого хаджи Зейнал-Абдин Тагиева, состоит в ней офицером. Неужели эти люди не смогут защитить нас, своих отцов и себя, наше и свое добро?
— Их слишком мало, — угрюмо сказал Хабибулла, опуская глаза.
— Так что же нам делать? — жалобно спросил Шамси.
Хабибулла помедлил, собираясь с мыслями, и начал с яростным воодушевлением:
— Представь себе, Шамси, бурное море, и корабль вдали от берега, и лодку, привязанную к кораблю канатом, и людей в этой лодке, везущих ящики с золотом. И вот на корабле вспыхнул пожар, и горящий корабль плывет без руля и ветрил. Как поступить людям в лодке? Скажи мне, мой друг!.. — Он пристально взглянул на Шамси и, так как тот не знал, что ответить, сам ответил со страстью: — Перерезать нужно канат, оторваться от корабля и, если в лодке есть весла, грести назад к берегу!.. Вот так же и с нами, Шамси! Прежде мы были вместе с Россией, но теперь там пожар и смятение, надо скорей перерезать канат, и если у нас будут весла, мы доберемся до берега, спасем наше золото. Нашими веслами, ты сам понимаешь, должны быть ружья, оружие. «Что нам делать?» — спрашивал ты. Вооружаться надо, Шамси, отвечаю тебе, вооружаться!
— Но ведь мы не кочи, не солдаты… — растерянно пробормотал Шамси.
— Тот, кто владеет золотом, должен сам уметь его защищать, — жестко сказал Хабибулла.
— Не дело купцов возиться с оружием, — упрямился Шамси.
— А разве базарный комитет, который избран торговцами и к которому ты относишься с доверием, не покупает ружей для караульщиков? — спросил Хабибулла,
— Это другое дело, — возразил Шамси. — Много ли нужно оружия караульщикам?
— Вот именно! — оживился Хабибулла. — Караульщики-то и не смогут защищать ваше добро. Они могут спугнуть бродягу, базарного вора, но, конечно, не боятся этих караульщиков те страшные люди, которые готовят поход на добро мусульман. Я имею в виду всю эту Красную гвардию, Красную Армию… Для того чтоб защищаться от этой беды, нужна большая сила… И она, признаюсь тебе, уже есть и растет с каждым днем, но нам нужно еще много людей, много оружия, — закончил Хабибулла таинственным шепотом, приведя Шамси в полное смятение.
Спустя несколько дней Хабибулла снова заговорил на эту тему.
— Хорошие мусульмане уже давно помогают нам вооружаться, помогают кто чем может — оружием, деньгами, обмундированием. Ты знаешь, конечно, шорное дело Габибова? Так вот, он пожертвовал для мусульманского конного полка двести стремян и металлических частей для седел. Командир дивизии объявил ему благодарность в газете.
Шамси нерешительно заметил:
— У Габибова — седла да стремена, а кому, скажи, нужны на войне мои ковры?
— И все же ты мог бы выполнить долг мусульманина и это не стоило бы тебе ни копейки!
— Каким это образом? — заинтересовался Шамси.
— А вот каким… — Хабибулла понизил голос и, озираясь, хотя в комнате никого, кроме них двоих, не было, промолвил: — Ты должен спрятать у себя в доме часть оружия.
Шамси отшатнулся и замахал руками:
— Аллах меня упаси!
— Да ведь не стрелять тебя просят, а только спрятать оружие, — вразумляюще шептал Хабибулла. — Пусть ружья мирно лежат у тебя в доме, а когда придет время, мы их возьмем у тебя, и они тебя же защитят от большевиков.
Шамси вспомнил о Бале-младшем и решительно произнес:
— Нет, нет, я на это ни за что не пойду!..
Каждый день приходил Хабибулла к своему другу.
Они все о чем-то шептались, спорили, запершись в комнате для гостей, и тотчас умолкали, едва Баджи с подносом в руках подходила к дверям. О чем шептались они, о чем спорили? В чем так усердно убеждал мусаватист ковроторговца? Какие заветные тайны так тщательно охраняли они от нее, простой девчонки, из милости взятой в дом?
Подыскивая, по заданию «мусавата», оружейные базы для готовящегося выступления, Хабибулла не случайно остановил свой выбор на доме Шамси. Дом этот находился в середине участка, где надлежало действовать Хабибулле во время выступления, а также невдалеке от Исмаилие, мусаватского центра, с которым необходимо было поддерживать связь. Вместе с тем дом этот принадлежал человеку, не занимавшемуся политикой, и это избавляло его сейчас от подозрений.
Изо дня в день убеждал Хабибулла своего друга спрятать оружие.
— Смотри, Шамси, как бы ты не раскаялся в своем упорстве, — сказал он однажды, теряя терпение. — Не понимаешь разве, что навлечешь гнев видных мусульман, если не пойдешь с ними в ногу?
Угроза прозвучала в этих словах.
«Пожалуй, и впрямь опасно идти против воли больших людей, — подумал Шамси встревоженно. — Еще объявят бойкот магазину и пустят меня по миру».
И под напором всех уговоров, угроз и растущих тревожных слухов Шамси решился: «Шайтан сними, с этими ружьями, — пусть спрячет их в моем подвале! А в драку все равно не полезу».
Как-то ночью Баджи разбудил стук дверной колотушки. Стук был негромкий, но Баджи, спавшая на галерее, услышала его. Она сбежала во двор, чтобы узнать, кто стучит, и к удивлению своему натолкнулась у двери на Шамси. Он был в теплом бешмете, в папахе — по-видимому, он еще не ложился спать.
— Я сам открою… — сказал Шамси сердито, возясь со щеколдой. Руки у него дрожали.
«Что это с ним?» — удивилась Баджи.
Шамси вышел в переулок и осмотрелся. Баджи выглянула за дверь. Ночь была темная, но Баджи различила невдалеке силуэт арбы и двух мужчин, волочащих к дому какой-то тюк.
«Наверно, товар привезли», — решила Баджи.
То, что товар привезли ночью, не вызывало у нее удивления: в последние месяцы, избегая голодных свидетелей, торговцы нередко перевозили товар по ночам. Но ей показалось странным, что такой небольшой мешок двое мужчин тащили с трудом.
Положив мешок за порог дома, они тотчас исчезли.
— Помоги мне! — приказал Шамси Баджи.
Баджи взялась за мешок. В нем что-то звякнуло. Стаскивая мешок в подвал, Баджи пыталась нащупать содержимое: что-то длинное и твердое.
«Ружья!» — мелькнуло в ее голове.
Так вот о чем все эти дни шептался Шамси со своим другом!
Баджи едва не разжала руки — стрельнет еще!
Мешок был снесен в подвал и помещен рядом с коврами и тюками шерсти, мешками риса и сахара, длинными ящиками персидских сушеных фруктов.
В последующие ночи арба приезжала не раз. Мешки и ящики стаскивали в подвал. В них были винтовки, отнятые беками-елисаветпольцами у солдат русской армии, возвращавшихся с турецкого фронта на родину, и тайно доставленные в Баку. В них были турецкие ружья с кинжальным штыком, скупленные в районах военных действий. Были в них и тяжелые устаревшие широкоствольные берданки и даже дробовики, с какими ходят на мелкую дичь. Любое оружие казалось годным, ничем не брезговали мусаватисты, готовясь сокрушить Совет.
К началу марта сам Шамси затруднился б ответить, чего в подвале больше: ковров, тюков с шерстью, мешков с рисом и сахаром, ящиков с сушеными фруктами или оружия, призванного это добро охранять.
— Зачем столько ружей, дядя? — спросила однажды Баджи.
— Где ты видела ружья? — насторожился Шамси.
— В подвале — в ящиках и в мешках.
— Там рис, сушеные фрукты… — с деланным равнодушием сказал Шамси, но взглянув на Баджи, понял, что ее не обмануть.
Будь они прокляты, эти мешки и ящики: узнает кто-нибудь — беды не избежать! Какого черта выбрал Хабибулла именно этот дом? Нечего сказать, удружил! И какого черта поддался он, Шамси, уговорам?
— Посмей только заикнуться, что ты видела здесь хотя бы одно ружье, — убью тебя этим самым ружьем! — меняя тон, сказал он угрожающе.
С виду в доме Шамси ничего не изменилось.
Все так же вкусно стряпала старшая жена, искусно ткала ковры младшая. Все так же грызлись между собой обе жены, бездельничала дочь Фатьма, резвился сын Бала. Все так же от зари до зари работала племянница Баджи.
И все так же по пятницам сам глава дома ходил во двор Таза-пир-мечети, а по воскресеньям — за ограду Александро-Невского собора.
Но теперь, внимая мирным призывам мулл, священников и раввинов или прислушиваясь к молитвам своих домочадцев, Шамси не терял из памяти ружей, спрятанных в его подвале: кто знает, быть может, надеяться на них верней?
Ключ от подвала
В марте прибыл в Баку на пароходе «Эвелина» отряд «дикой дивизии» из Ленкорани. Бакинский совет направил к пароходу отряд красногвардейцев с требованием разоружиться. В ответ с «Эвелины» открыли огонь, несколько красногвардейцев было убито и ранено. Бакинский совет потребовал немедленного подчинения, угрожая в противном случае уничтожить весь мусаватский отряд. На «Эвелине» испугались и сдали оружие, но одновременно штаб мусаватистов начал мобилизацию сил.
Всю ночь Хабибулла обходил по списку дома людей, которых «мусават» рассчитывал подбить на выступление, и распространял слухи, что Бакинский совет отнимает у азербайджанцев оружие, готовясь на них напасть.
Ночь прошла тревожно, в разных концах города раздавались одиночные выстрелы. Не терпелось, видно, мусаватистам начать схватку.
С утра на улицах и в мечетях возникли сборища, организованные мусаватистами. В речах выступавших уже не было слышно призывов клиру и дружбе. Кого только не ругали, кому только не угрожали озлобленные вчерашней неудачей мусаватисты! Все — провокационно уверяли они — объединились в Совете против азербайджанцев: русские, армяне, грузины, евреи. Мусаватские горланы требовали возвращения отнятого на «Эвелине» оружия, призывали к выступлению против Совета.
В этом злом хоре мусаватистов голос Хабибуллы не был тишайшим. Он звучал с утра не переставая. Хабибулла охрип, стараясь перекричать возбужденную толпу, и с удовлетворением сознавал, что ему удается разжечь и увлечь за собой базарных торговцев и лавочников, владельцев бань, кебабных и чайных, а также зависимых служилых людей, наивных ремесленников и даже кое-кого из темной, забитой городской бедноты, готовой от голода и отчаяния, в надежде на лучшую участь, броситься куда угодно.
О волнениях в городе стало известно на промыслах. Рабочая охрана тотчас была приведена в боевую готовность.
Всю ночь стоял Юнус на вахте у ворот «Апшерона», с винтовкой в руке, с красной повязкой на рукаве, и зорко вглядывался в каждого проходившего мимо ворот.
Утром его пришел сменить Арам.
— Поезжай, Юнус, за сестрой, — сказал Арам, беря из рук Юнуса винтовку и прикрепляя к своему рукаву повязку. — Мало ли что может случиться…
Юнус поехал.
В городе рыли окопы, заколачивали двери и окна магазинов. Всюду Юнус наталкивался на возбужденные группы людей, предводительствуемые мусаватистами. Рабочий вид Юнуса не внушал им доверия — мусаватские пикеты несколько раз останавливали его, спрашивали, куда он идет.
— К дяде в гости иду, Шамси Шамсиеву, ковроторговцу, — хмуро отвечал Юнус, проталкиваясь вперед.
«Ну и время нашел ходить в гости!.. Странный племянник у ковроторговца!..» — провожали его пикетчики подозрительным взглядом.
Угли в жаровне пылали ярко, в комнате для гостей было тепло, но хозяин сидел в застегнутом доверху зимнем бешмете.
— Заболел, что ли? — спросил Юнус, указывая на бешмет.
— Стар стал, не греет огонь… — ответил Шамси, вздохнув. — Спасибо, племянник, что пришел навестить дядю.
— Я пришел за сестрой, — сказал Юнус прямо, — пусть живет у меня.
Шамси насмешливо улыбнулся.
— Женщина живет у отца или у мужа, как полагается. Я же твоей сестре — отец.
— Баджи будет лучше у брата, — сказал Юнус.
Шамси повертел головой.
— Баджи! — позвал он. — Иди-ка сюда!
Идти Баджи было недалеко — она подслушивала за дверью.
Юнус взглянул на сестру. С осени она подросла, вытянулась, немного пополнела. Сквозь матовость щек пробивался легкий румянец.
— Видишь, как я ее холю? — спросил Шамси самодовольно. — Видишь, какая она сытая, толстая?
— И я буду холить, — сказал Юнус.
Шамси усмехнулся:
— Посмотри лучше на себя в зеркало!
Измятую шапку, худые щеки, рваный шарф вокруг шеи, ветхую куртку в нефтяных пятнах увидел Юнус, машинально взглянув в зеркало на стене.
— Каша доброго вкуснее баранины злого, — сказал он.
— Это кто же, по-твоему, злой? — спросил Шамси недоуменно. — Я, что ли?
— Пословица так говорит, — ответил Юнус сухо.
— Пословица! — буркнул Шамси. — Пословицы у тебя в голове, глупые мысли в такое время… А чем будешь кормить сестру — подумал? Хлеб стоит дорого. Жизнь на промыслах трудная, порядка там нет…
— Больше порядка, чем здесь!
— Видно, тебе тот порядок больше нравится, потому так и говоришь… Скажи лучше прямо… Может быть, и ты — Красная гвардия? Амшара! — Шамси пренебрежительно скривил рот.
— Не начинай, дядя… — сказал Юнус, стараясь сдержаться, но чувствуя, как в нем закипает гнев. — Добром прошу тебя, дядя, отдай сестру, не то…
Не так легко было отнять у Шамси даровую служанку.
— Не то?.. — переспросил он, прищурившись. — Попробуй, племянник, попробуй! — промолвил он вызывающе и двинулся на Юнуса.
— Не трогай брата! — закричала Баджи, становясь между Юнусом и Шамси. — У него в подвале есть много ружей, — шепнула она Юнусу.
Шамси опомнился.
— Замолчи!.. — сказал он строго и оттолкнул Баджи. — Неспокойное сейчас время, неспокойное… — продолжал он хмуро. — Даже дети не хотят подчиняться отцу. Мало ли что в такое время может случиться?
— Что же может случиться? — спросил Юнус, испытующе вглядываясь в Шамси, и вдруг понял: то серьезное, страшное, о котором тот говорит, не только может случиться, но неизбежно произойдет.
Шамси подошел к Юнусу вплотную.
— Ты сын моего брата, — сказал он, понизив голос, — и я прощаю тебе дерзость, с какой ты говоришь со мной, братом твоего отца, потому что я не хочу, чтоб пролилась твоя кровь.
— Не понимаю тебя…
— Ты не должен сейчас уходить из Крепости, — произнес Шамси таинственным шепотом, — потому что русские и армяне сегодня на нас нападут.
— Выдумки все это! — перебил Юнус. — Рабочие — русские они или армяне — нам друзья!
Шамси, казалось, не слышал его.
— Вы — мои дети, — продолжал он взволнованно, — и мой долг вас защищать, а ты приходишь ко мне, второму отцу, дерзишь и грозишься силой забрать от меня мою дочь, Баджи, туда, где властвуют иноверцы, где вас убьют, как глупых ягнят!
— Выдумки все это, мусаватские выдумки! — воскликнул Юнус гневно.
Он готов был взять Баджи за руку и увести с собой, но с улицы в эту минуту послышались выстрелы.
— Ты слышишь? — спросил Шамси испуганно.
Юнус взглянул на Баджи.
«Неровен час, убьет ее на улице шальная пуля», — подумал он.
— Ладно, — молвил он, стиснув зубы. — Пусть сестра пока остается здесь! Но помни, Шамси, ты отвечаешь мне за нее головой!
— Есть пределы терпению! — вспыхнул Шамси. — Уйди-ка отсюда подобру-поздорову!
Раздался ружейный залп.
«Промысла!» — пронзило Юнуса. Махнув рукой, он побежал к выходу.
— Не бойся, сестра! — крикнул он в дверях, на миг обернувшись. — Я вернусь!
Шамси остался стоять посреди комнаты. Лицо его было искажено злобой.
«Не простит, что сказала о ружьях», — поняла вдруг Баджи.
— Возьми меня с собой, брат! — закричала она громко и бросилась вслед за Юнусом.
Шамси кинулся ей наперерез. Она увернулась. Он кинулся снова, неуклюжий в своем толстом бешмете, запыхающийся, злой.
Наконец Баджи удалось выскользнуть. Во дворе и в переулке Юнуса уже не было…
Юнус бежал, путаясь в незнакомых крепостных улочках и тупиках, наталкиваясь на возбужденных людей, обвешанных оружием. Яростный мартовский норд сбивал людей с ног, пыль слепила глаза. В крепостных воротах Юнус столкнулся с Хабибуллой, спешившим в Крепость.
— Куда ты бежишь? — крикнул Хабибулла, загораживая дорогу. — Там уже нет прохода. Мусават начал бой на Шемахинке и на Татарской улице. Мы открыли огонь по Красной сотне, но батарее! С крыш наши стреляют по Красной гвардии! — Он захлебывался от восторга.
— Пропусти! — сказал Юнус холодно, отстраняя Хабибуллу. — Я спешу.
Хабибулла понял его.
— Интернационал? — спросил он с ядовитой усмешкой, доставая из-под левой полы наган, скрывать который теперь было незачем.
Он не умел владеть оружием и волновался. Юнус почувствовал это и в одно мгновение вырвал у него из рук револьвер. Хабибулла опешил.
— Теперь ты спеши за оружием! — в свою очередь усмехнулся Юнус, глядя на растерянного Хабибуллу, и, сунув револьвер в карман, прошел в ворота. Его так позабавило происшествие, что он громко расхохотался. Но Хабибулла, оказывается, был обвешан оружием.
«Убить его надо, одним будет меньше!» — думал он, не спуская глаз со спины Юнуса и вытаскивая из-под правой полы маузер.
Он прицелился в спину, но выстрелить не решился — как ни как племянник Шамси. Опустив маузер, он с ненавистью смотрел вслед Юнусу, пока тот не скрылся за углом здания.
На пути к дому Шамси Хабибуллу ждала новая встреча: Баджи не знала, к каким воротам побежал Юнус, и металась по переулкам.
— Ты брата не встретил? — запыхавшись, спросила она, завидя Хабибуллу.
«Сестра того, кто покинул нашу старую Крепость, кто идет против нас, кто вырвал у меня оружие…» — подумал Хабибулла и, охваченный жаждой мести, жестко ответил:
— Нет больше у тебя брата — он мертв!
Баджи стала как вкопанная.
«Мертв?!.»
Нет, брат не может быть мертв — он должен жить, чтобы вернуться, спасти ее от врагов и взять к себе.
— Ты врешь! — воскликнула Баджи, топнув ногой, и рванулась вперед.
«Заодно, видно, с братцем», — подумал Хабибулла.
— Назад! — приказал он.
Баджи пыталась обойти Хабибуллу и проскользнуть мимо — сколько раз ей удавалось спасаться так от уличных мальчишек! Но сейчас переулок был слишком узок — двое прохожих едва могли разойтись в нем — и Хабибулла схватил ее за руку.
— Назад! — кричал он, размахивая маузером. — Там убьют тебя русские и армяне. Они уже убили твоего брата!
— Ты врешь! Все врешь! — кричала Баджи исступленно, помня, что говорил Юнус дяде, и пытаясь вырваться из цепких рук Хабибуллы.
Она упиралась, отбивалась свободной рукой, царапалась, старалась укусить. Но Хабибулла все толкал ее вглубь старой Крепости. Она повалилась наземь. Ярость придала Хабибулле сил, он волочил Баджи до самого дома и втолкнул ее, вконец обессиленную, во двор.
— Началось, — сказал он Шамси торжественным тоном, не обращая больше внимания на Баджи. — То, чего ждали мы с нетерпением и надеждой, началось! Дай скорей ключ от подвала, сейчас наши люди явятся сюда за оружием. Мы отслужим сегодня большие поминки по нашим елисаветпольцам!
— Да будет воля аллаха! — ответил Шамси, подняв глаза к небу. Затем он пошарил дрожащей рукой в карманах бешмета и передал ключ от подвала Хабибулле.
Мятеж
Юнус спешил к вокзалу, а навстречу ему шли вооруженные красногвардейцы и отряды Красной Армии, двинувшиеся по приказу Комитета революционной обороны на подавление мятежа.
Юнуса охватило сомнение: неужели в такое время — когда рабочие люди идут в бой, чтоб отстоять советскую власть от мятежников-мусаватистов, — он должен возвращаться на промыслы? Стоять со старой берданкой у ворот «Апшерона» — этим делом может заниматься седой Арам.
Вдруг сердце Юнуса радостно забилось: во главе одного из красногвардейских отрядов он увидел знакомую высокую фигуру — Газанфар! Значит, и он не остался на промыслах! Юнус отчаянно замахал рукой, точно взывая о помощи. Газанфар увидел его и, сразу поняв, сделал в ответ знак: следуй за нами!
«Ну вот, пришло оно, значит, мое время!» — подумал Юнус в радостном волнении и, тотчас сойдя с тротуара на мостовую, бодро зашагал в ногу с отрядом.
Неизвестно откуда прошел по отряду слух, что мятежникам-мусаватистам удалось захватить большую часть города и что крупные силы врагов, стремясь овладеть военно-морским портом и стоящими на приколе кораблями, начали наступление на баилово-бибиэйбат ский рабочий район.
«Может быть, и здесь, в Баку, придется нам пролить свою кровь, прежде чем окончательно победить…» — вспомнил Юнус слова Газанфара и нащупал в кармане отнятый у Хабибуллы револьвер.
По мере того как отряд приближался к району, захваченному мятежниками, стрельба становилась слышней. Вскоре идти по мостовой стало небезопасно: время от времени с какой-нибудь крыши раздавался одиночный выстрел, выбивавший из строя красногвардейца. Приходилось прижиматься к стенам домов, перебегать от одних ворот к другим, отвечая на огонь огнем, и так неуклонно продвигаться вперед.
А продвигаться вперед с каждым шагом становилось труднее: путь преграждали нагроможденные поперек улиц завалы из ящиков, бочек, мешков, между которыми то тут, то там грозно выглядывали ружейные и пулеметные дула. Еще вчера все эти ящики, бочки, мешки покоились в мирной полутьме лавок, магазинов, подвалов — сегодня же, наполненные камнями и песком, они, как тупые холопы, грудью готовы были защищать своих хозяев.
На одном перекрестке отряд натолкнулся на решительное сопротивление, на другом — попал в засаду под сильный огонь. Не раз мусаватисты с дикими криками кидались в яростные атаки и наносили красногвардейцам чувствительные потери. Газанфар приказал беречь силы и прикрываться. Красногвардейцы принялись выкладывать бруствер из булыжника мостовой и рыть в земле глубокие окопы. Стало похоже на настоящую войну.
У одного из завалов внимание Юнуса привлек человек в странной военной форме, с револьвером в руке, дерзко выглянувший из-за мешка.
— Смотри, смотри!.. — прошептал Юнус стоявшему рядом с ним красногвардейцу, кивнув на вражеский завал.
— Да это же турок! — с уверенностью и вместе с тем удивленно воскликнул красногвардеец; он их немало перевидал, этих турок, под Карсом и под Эрзерумом, прежде чем вернулся с кавказского фронта домой.
Человек в странной форме был в самом деле турецкий офицер — из застрявших в Баку военнопленных. Теперь эти бывшие военнопленные действовали в рядах мятежников в качестве инструкторов, руководили сооружением окопов, укрепляли позиции, занятые мусаватистами, и даже вели мусаватские отряды в бой; кое-кого из офицеров, чином постарше, можно было встретить и в Исмаиле, где помещался штаб «дикой дивизии».
— Их еще здесь не хватало, этих чертовых турок! — пробормотал Юнус и, прицелившись, выстрелил.
Турок скрылся из виду и больше не показывался.
Всю ночь шла стрельба.
Женщины в доме Шамси укрылись в задней комнатке без окон. Громко стреляли в эту ночь — не сравнить с тем, как стреляют, по обычаю, встречая новый год.
Ана-ханум неистово клала поклоны и причитала:
— Ой, аллах! Спаси детей твоих! Ой, аллах!
Пламя лампы, стоявшей на полу, при каждом поклоне Ана-Ханум металось из стороны в сторону.
Фатьма, не переставая, хныкала и всякий раз, когда доносился залп, взвизгивала и прижимала ладони к ушам! Страшно!
А Ругя, свернувшись калачиком, спокойно посасывала конфетку — хуже плохого быть не может!
Баджи молча прислушивалась.
Где теперь брат? Почему он не взял ее с собой? Как случилось, что она не догнала его? Проклятый Хабибулла! Разбить бы ему черные стекла, выцарапать бы глаза! Вот только сил у нее не хватает, и некому ее защитить. Где теперь брат? Где Газанфар? Где теперь Саша, тетя Мария, Арам, Сато? Что они делают?..
— Молиться надо! — прервала Ана-ханум ее мысли.
— Не умею я.
— А бильбили, вильвили, сильвили — умеешь? Молись, говорю тебе, дура, как полагается!
— Как ни молюсь — не помогает.
— Ах, вот как! — Ана-ханум подскочила к Баджи, насильно пригнула ее голову к полу. — Ну!
— Не буду молиться! — упрямилась Баджи.
— Нет, будешь! — шипела Ана-ханум, тыча ее лицом в коврик.
— Не буду!.. Не буду!.. — извивалась Баджи. — Вот вернется брат, он со всеми вами разделается!
— Разбойник твой брат, грабитель!
— Не смей ругать брата, не то… — яростно закричала Баджи и, дотянувшись до лампы, готова была бросить ее в Ана-ханум.
Женщины завизжали.
— Чего ты пристала к ней, старая дура? Спалить нас всех хочешь? — закричала Ругя. — Что ж, по-твоему, девчонка молчать будет, когда ты честишь ее брата на чем свет стоит?
— Тебе-то, во всяком случае, нет дела до ее брата! — оборвала Ана-ханум. — Хотя, впрочем, видела я, как ты на него поглядываешь, когда он сюда приходит… Жаждущая собака смотрит в колодец!
— А голодная свинья тычет рыло во все ямы! — Ругя снова свернулась на ковре калачиком.
— Все вы из одной ямы — подружка твоя, и братец ее, и ты сама!
В эту ночь злее обычного грызлись женщины в доме Шамси, в задней комнатке без окон, освещенной тусклым светом керосиновой лампы, — словно еще больше озлобила их стрельба.
Не спалось и хозяину.
Бродил он всю ночь по дому — прислушивался к голосам женщин, наведывался к ним узнать, спокойно ли спит Бала, поглядывал из окон галереи во двор, где маячил с ружьем человек, поставленный охранять подвал: тревожно, когда чужой человек охраняет твой подвал! Прилег было усталый хозяин поспать часок, но не уснул — мысль о ружьях в подвале не давала ему покоя.
«Только б не впутаться самому…» — думал Шамси, вздыхая, ворочаясь с боку на бок, прислушиваясь к выстрелам.
На рассвете стрельба усилилась — бои развернулись по всему фронту.
Наконец натиск мятежников был отбит. Из баилово-бибиэйбатского района донеслась добрая весть: рабочие отряды отогнали мусаватистов и отстояли военно-морской порт.
С новой силой взялись за оружие ободренные этой вестью красногвардейцы и красноармейцы. С новой силой устремился вперед и отряд Газанфара, а вместе с ним и Юнус. Надо думать, что и здесь победа не за горами!
Нелегко продвигаться по узким улицам под градом пуль, несущихся с крыш, с балконов, из щелей деревянных ставен, из крохотных оконцев в толстых воротах — каждый квартал, каждый дом приходится брать с бою. Но Юнус, казалось, не замечал опасностей — он был охвачен одним стремлением: мятежников нужно разбить. Совет должен победить!..
А к дому Шамси, между тем, из ближних уличек и переулков спешили люди — им было уже известно, что в кривом переулке, в доме Шамси, ковроторговца, раздают оружие.
Шамси не мог оторвать глаз от своего друга Хабибуллы, на груди крест-на-крест — патронные ленты, справа у пояса — маузер, слева — взамен отнятого Юнусом — новый наган. Ни дать ни взять — герой!
Приходившие сюда люди слушались только Хабибуллу. Он встречал их коротким приветствием, снабжал оружием и направлял на фронт. Оружие, которым он был обвешан, придавало Хабибулле уверенность, голос его звучал властно.
И Шамси удивлялся: как случилось, что он, торговец, домовладелец, глава семьи, перестал быть хозяином в своем же доме и сам, как слуга, подчиняется жалкому маклеру Хабибулле? Это, впрочем, было не слишком страшно: Хабибулла как ни как был свой человек, и люди, являвшиеся в дом за оружием, тоже были знакомые люди. Гораздо было б страшнее, если б сюда ворвались те, о ком говорил Хабибулла, — голодные вооруженные рабочие с промыслов, называющие себя Красной гвардией, и новые солдаты, называющие себя Красной Армией. Они разрушили бы его дом, разграбили бы его добро, сорвали б чадру с его женщин — разве не такие картины изо дня в день рисовал перед ним Хабибулла?..
О том, что в кривом переулке раздают бесплатно оружие, узнал и Теймур. У него, правда, и своего хватало — уже с полгода, как он состоял в дружбе с Наджаф-Кули, но какой же уважающий себя человек откажется получить бесплатное оружие про запас?
Подойдя к дому Шамси, Теймур увидел Таги, — тот, как обычно, сидел на своем палане, прислонившись к стене, и наблюдал за необычным оживлением в переулке.
— Ты что ж не воюешь? — спросил Теймур проходя.
— Я — амбал, воевать не умею, — ответил Таги. — В политике не разбираюсь…
— А скандалить перед городской управой — это вы все умеете?
Со двора Шамси вышел старик в богатом бешмете, отороченном мехом, с берданкой в руке.
— Убивать их надо, таких людей! — буркнул он, уловив, о чем идет речь, и кивнув на Таги. — Мне семьдесят лет, а я вот готов защищать свои магазины. А эти амбалы, негодяи, отказываются нам помогать — забывают, что без магазинов наших сами подохнут с голоду!
— Вставай! — крикнул Теймур амбалу. — Все воюют теперь — воюй и ты!
— Не пойду! — ответил Таги.
Теймур пнул его ногой в живот. Таги скорчился.
— Ты, я вижу, неплохо воюешь… — прошептал он, едва переводя дыхание.
Давняя злоба к Таги вспыхнула вдруг в Теймуре.
— Сукин сын! — крикнул он и ударил Таги в лицо. Кровь потекла из разбитого носа. Таги застонал, закрыл голову руками, но с места не сдвинулся.
— Так ему и надо! — удовлетворенно молвил старик и погрозил Таги берданкой.
На шум вышел из дома Хабибулла.
— Мусульмане кровь проливают в святой борьбе с большевиками, а вы здесь кровяните друг другу морды, как пьяницы! — сказал он гневно.
«Так вот кто здесь главный», — понял Теймур, узнавая Хабибуллу и вспоминая, как сцепился с ним возле Исмаилие.
— Я и пришел сюда за оружием, чтобы пролить свою кровь в святой борьбе с большевиками, — проговорил Теймур. — Не в пример амшаре! — добавил он, кивнув на Таги.
«Кочи тоже о святой борьбе говорят! — усмехнулся про себя Хабибулла, в свою очередь узнавая Теймура, но поскольку тот, по-видимому, готов был драться на стороне мусаватистов, решил: — Черт с ним — пусть дерется кто хочет, лишь бы за нас, лишь бы победить!»
Вернувшись во двор, Хабибулла приказал выдать Теймуру пять винтовок и два ящика с патронами.
«Только и прыти хватает, чтоб раздавать оружие, а сам, верно, стрелять не умеет!» — пренебрежительно подумал Теймур, поглядывая на забавную фигурку Хабибуллы, обвешанную револьверами и патронными лентами.
«Помирились, видно», — подумала Баджи, наблюдая за ними из окна галереи.
Теймур вышел в переулок.
— Воевать ты, амбал, отказываешься — ну и черт с тобой! — сказал он, подойдя к Таги и вытащив револьвер. — А вот попробуй только отказаться таскать оружие — не порадуешься!
Согнувшись в три погибели, чувствуя за спиной дуло маузера, роняя себе под ноги капли крови, понес амбал Таги винтовки и ящики с патронами туда, куда велел Теймур. Часть оружия была по пути сброшена у какого-то другого кочи, тоже из шайки Наджаф-Кули, часть направлена мятежниками на передовую линию.
Наутро стрельба стала еще ожесточенней.
«Пришла пора показать себя, — решил Хабибулла, — чем я хуже других елисаветпольцев?»
— Я сам иду на фронт! — объявил он торжественно. — Шамси останется вместо меня распоряжаться оружием.
Хабибулла выбрал винтовку поновее, неловко пощелкал затвором и, выйдя из дому, решительно зашагал по переулку. Все, казалось ему, смотрят на него, как на героя.
По дороге Хабибулле встретился турецкий офицер с группой солдат.
«С ними мы не пропадем!» — радостно подумал Хабибулла и браво помахал офицеру рукой, но тот не ответил на приветствие.
Навстречу стали попадаться раненые. По мере того как Хабибулла приближался к месту боя, шаги его замедлялись.
Он хотел увидеть противника, но не решился подойти к завалу. Заметив, что в ближних дворах мятежники лезут на крыши, намереваясь нанести удар сверху, он тоже вошел в один из дворов и полез на крышу вслед за каким-то толстым молодчиком, тащившим на себе ручной пулемет.
Пригнувшись, перебегая от одной трубы к другой, Хабибулла следовал за молодчиком и добрался до карниза крыши. На миг он увидел длинную узкую улицу, стиснутую домами, и на расстоянии квартала от себя — изрытую мостовую и бруствер из земли и булыжников — советские окопы.
«Вот они где, дьяволы красные!» — злобно подумал Хабибулла и приложил дуло винтовки к карнизу.
Но в это мгновенье он увидел, как справа от него, раскинув руки и увлекая за собой пулемет, перевалился через карниз и шлепнулся оземь толстый молодчик.
«Заметили!» — пронеслось в голове у Хабибуллы. Он выпустил из рук винтовку и, прижимаясь животом к плоской крыше, поспешно пополз назад.
«Нет, нет, это не по мне, не для меня! — думал Хабибулла, шагая назад в кривой переулок. Он вдруг вспомнил, что читал где-то про маршала Тюрення, пугавшегося выстрелов, и утешил себя: — Я повелитель, стратег, но не солдат!»
— Наши бьют красных вовсю! — воскликнул он, вернувшись в дом Шамси. — Но нужно ударить но красным еще сильней, чтоб раз навсегда смести их с лица земли. Хозяева с Верхних базарных рядов все дерутся на фронте. Еще немного — и мы победим! — Он устремил взгляд на Шамси и властно сказал: — Пора и тебе взяться за оружие! — Сунув ему в руку старую берданку, он под-толкнул его к выходу и приказал: — Иди!
«Иди?»
Впервые говорил с ним Хабибулла таким тоном: теперь уже не только домом распоряжался его слуга, но и им самим, хозяином!
Но Шамси не нашел в себе сил перечить Хабибулле — тот верховодит теперь всем и всеми.
Неся берданку под мышкой, стволом назад, Шамси поплелся к передовой линии. По дороге он завернул в мечеть к Абдул-Фатаху. Там было много народу. Старики пились бритыми лбами об пол, устланный коврами, моля аллаха даровать победу добрым мусульманам, дерущимся против безбожников-большевиков, за старый закон.
Мулла Абдул-Фатах вселял в них веру в победу. Он до последнего дня был, правда, против вооруженных столкновений — каждая капля крови правоверных дорога. Разве не проповедовал он по пятницам во дворе большой Таза-пир-мечети о мире и дружбе среди людей? Где человек, который посмеет его обвинить в том, что он разжигал междоусобия? Таких людей не найдется. Но если уж так случилось, что разгорелась война, то — да свершится воля аллаха! — он, конечно, на стороне своих прихожан — почтенных людей, верующих мусульман.
— Благослови, отец! — обратился Шамси к Абдул-Фатаху.
— Тот, кто дал силу и славу оружию пророка, тот даст силу и славу твоему оружию, Шамси! — сказал Абдул-Фатах, протянув Шамси толстую старую книгу корана в потемневшем от времени кожаном переплете.
Шамси поцеловал книгу.
— Бисмилла! — благоговейно зашептали присутствующие. — Во имя аллаха!
Волнение сдавило грудь Шамси. У выхода он надел ботинки, оставленные им здесь, перед тем как войти в мечеть, и, тяжело ступая, побрел в сторону, откуда неслись выстрелы. Подойдя к завалу, он боязливо заглянул в проем между мешками.
«Все они — вроде племянничка моего», — подумал он, увидев на советской стороне молодого красногвардейца. Но вдруг что-то с силой толкнуло Шамси в плечо, и вслед за тем из рукава бешмета потекла тонкая струйка крови.
«Убили!» — подумал Шамси.
Он зарыдал, как ребенок, и, ринувшись прочь от завала, побежал не оглядываясь. Во имя аллаха, зачем надо было подчиняться Хабибулле?.. Он с трудом добежал до дома, без сознания свалился во дворе. Лицо его было бледно, бешмет — в крови.
Завидя Шамси, женщины всплеснули руками, заголосили.
— Чего вы орете? — прикрикнул на них Хабибулла. — Ничего с ним не будет. За углом доктор лечит раненых — позовите его!
Но женщины не хотели слушать Хабибуллу: это он, шайтан очкастый, все натворил.
— Не нужно доктора! — закричала Ана-ханум властно. — Я сама вылечу!
Тонким кухонным ножом она бередила рану в плече Шамси в поисках пули. Шамси стонал. Потом его уложили в комнате для гостей, на главном ковре, напоили маковым соком, и он успокоился.
Баджи видела бледное лицо Шамси, закрытые глаза, кровь на бешмете.
«Это за то, что хотел убить Юнуса!.. — подумала она и готова была радоваться, но вдруг вспомнила отца — каким тот лежал в мертвецкой, — и ей стало жаль Шамси. — Неужели и он умрет?»
— Ничего, дядя, ты скоро поправишься! — прошептала она ласково, тронув его за руку.
Шамси открыл глаза.
— Уйди вон… Собачья дочь… Это все мутит ваше отродье… — вымолвил он, едва шевеля губами, но Баджи поняла все.
«Он ненавидит меня и брата, он враг наш — пусть сдохнет скорей!» — подумала она, вспыхнув страстной ненавистью, и отошла от Шамси.
И вслед за тем резкий свист пронесся над домом Шамси, над кривым переулком, над старой Крепостью. Это с военных кораблей открыли огонь по мятежникам.
— Теперь всем нам смерть… — пробормотал Шамси и снова впал в забытье.
Женщины заголосили.
«Я не умру меня спасет брат, он сказал, что вернется», — думала Баджи, глядя на плачущих женщин, прислушиваясь к орудийным выстрелам…
Настал решительный час — советские части при поддержке огня с кораблей перешли в наступление по всему фронту.
Падали с крыш вооруженные с ног до головы мусаватисты, глухо шлепались о мостовую; прятались за трубами и выступами, отстреливаясь, сползали на задние дворы, уходили в тыл.
Вскоре советские части заняли ряд улиц, взяли с бою один из опорных пунктов врага — гостиницу «Метрополь», вышли к стенам старой Крепости и к прилегающему к этим стенам зданию Исмаилие, к штабу «дикой дивизии» — оплоту мусаватского мятежа.
Из узких бойниц старой крепостной стены, из окон и с крыши Исмаилие мусаватисты снова открыли огонь по наступающим. Красногвардейцы и дружинники-большевики открыли ответный огонь. Затрещали пулеметы, установленные смельчаками-гвардейцами на виду у врага, против Крепости и Исмаилие.

К крепостным стенам вышел и Газанфар со своим отрядом.
Оставив позади себя баррикаду, с возгласом: «За власть Советов!» — Газанфар ринулся вперед, к крепостным стенам. Его высокая фигура, казалось, привлекла внимание мятежников — они усилили огонь.
Стреляли винтовки, отнятые мусаватистами у солдат русской армии, возвращавшихся с турецкого фронта на родину, и тайно доставленные в Баку; стреляли турецкие ружья с кинжальным штыком, скупленные в районах военных действий; стреляли тяжелые устаревшие широкоствольные берданки и даже дробовики, с какими ходят на мелкую дичь. Все пустили враги в ход, но теперь уже ничто не могло остановить натиск советских частей.
И видя, как вслед за Газанфаром устремились красногвардейцы, красноармейцы и дружинники-коммунисты на штурм стен Крепости, старых, толстых стен, которые вросли в землю и преграждали сейчас путь к новой жизни, — устремился на штурм этих стен и Юнус…
Решительное наступление советских отрядов внесло трах и смятение в лагерь мятежников. Помощь из окрестных селений и из Дагестана, на которую рассчитывали мусаватисты, не приходила, сопротивление их слабело. К полудню они предложили советским частям начать мирные переговоры.
Абдул-Фатах в числе других мулл разъезжал с белым флагом на фаэтоне, уговаривал непримиримых прекратить стрельбу — каждая капля крови правоверных дорога. Разве он не был всегда против вооруженных столкновений? Разве не читал проповеди по пятницам во дворе большой Таза-пир-мечети о мире и дружбе среди людей?
Хабибулла внезапно куда-то исчез…
Комитет революционной обороны предъявил мятежникам ультиматум: безоговорочно признать власть Бакинского совета, сдать оружие, вывести из города «дикую дивизию», открыть железнодорожный путь в обе стороны от Баку. Разгромленные контрреволюционеры вынуждены были принять ультиматум, и вслед за тем военные действия в городе прекратились.
Юнус поспешил вглубь Крепости — сейчас он заберет сестру с собой.
Стремясь сократить дорогу, Юнус двинулся по одному из узеньких, стиснутых домами проходов, какими изобилует Крепость и где с трудом могут разойтись два пешехода.
Едва он дошел до середины улички, как вдруг что-то низверглось на него с крыши дома. Юнус рванулся в сторону, прикрыв голову руками. Большой кусок карниза свалился ему на ногу.
От боли Юнус скорчился, но все же успел бросить взгляд на крышу и в выемке карниза увидел над собой лицо бородатого мужчины в папахе. Этот мусаватист, несмотря на то, что военные действия прекратились, притаился в засаде и столкнул на Юнуса тяжелый кусок карниза; в узком, стиснутом домами проходе орудовать было нетрудно.
— Попробуй двинуться дальше — там тебе еще подбавят, большевик! — послышалось с крыши.
Юнус схватился за револьвер, но голова бородача скрылась.
Юнус готов был ринуться в погоню — мусаватист, надо думать, сполз во двор, — но раненая нога подкосилась. Юнус едва не упал. Нет, с такой ногой этого негодяя не поймать!
Преодолевая боль, держа револьвер наготове, Юнус заковылял к дому Шамси. Но боль становилась нестерпимой. Пришлось остановиться и присесть. Подумать только: пробыть под нулями и не получить ни единой царапины, а теперь, когда мятеж подавлен, — такой удар! Будь они прокляты, эти вероломные псы-мусаватисты!
Стиснув зубы от боли и досады, Юнус заковылял назад.
«Через день-два нога поправится — я снова приеду в город и заберу Баджи», — утешал он себя, удаляясь от стен Крепости в сторону вокзала.
— Азербайджанцам будет теперь хорошо! — слышалось вокруг, как год назад, весной.
Но, как и тогда, думы и чувства при этом были у многих людей разные: радость и уверенность царили на промыслах и на заводах и растерянность и жажда мести — среди разбитых, бегущих к Елисаветполю мятежников.
Часть четвертая Коммуна

Добыча нефти
Приветливо светит апрельское солнце на Апшероне, в Баку, но никогда еще не светило оно столь приветливо, как в этот апрель.
Так, во всяком случае, казалось рабочим на промыслах и на заводах, красноармейцам в казармах, морякам на пароходах и на военных кораблях. Так казалось Юнусу и Газанфару, Араму и Саше Филиппову и тете Марии.
Едва отгремели победные выстрелы мартовской схватки — развернулись новые события и дела. Комитет революционной обороны распустил ненавистную городскую думу, до последних дней во всем противодействовавшую Бакинскому совету. Нефтепромышленники, банки, торгово-промышленные общества были обложены налогом в пятьдесят миллионов рублей для нужд Красной Армии и в помощь бедноте, пострадавшей во время мартовских событий; получить эту сумму из цепких рук хозяев оказалось, правда, нелегко, но арест пяти представителей видных нефтепромышленных фирм возымел должное действие. Закрыты были антисоветские газеты, началась решительная борьба против всех, сеющих национальную рознь.
И рабочие, красноармейцы, моряки, все люди труда с радостью поняли: наконец Бакинский совет стал полновластным хозяином города.
Да, советская власть в Баку явно установилась, и создан был новый высший орган власти — Бакинский Совет Народных Комиссаров. В него вошли: Степан Шаумян — в качестве председателя и комиссара но внешним делам, Мешади Азизбеков — в качестве губернского комиссара, Джапаридзе, Фиолетов и другие испытанные большевики-бакинцы.
Апрель в этом году был действительно хорош, и тем досаднее было Юнусу, что больная нога приковала его к постели и позволяла видеть солнце только через запыленное окно: ушиб оказался серьезным, и врач настрого приказал лежать в постели.
Лежать?.. Попробуй-ка улежи спокойно в постели в такой апрель, когда тебе восемнадцать лет и когда такие дела творятся за окном! Особенно томительно это было днем, когда обитатели казармы находились на работе и приходилось коротать время в одиночестве. Впрочем, у многих и днем находилась свободная минута, чтоб навестить больного товарища.
Находился свободный часок и у Розанны и Сато, чтобы принести Юнусу обед. Не так уж он был вкусен, этот обед, — путь от хлебного Северного Кавказа, обычно снабжавшего Баку продуктами питания, был отрезан дагестанскими контрреволюционерами, и продовольственное положение города с каждым днем становилось трудней, но Юнусу этот обед казался праздничным: белая чистая скатерка, аккуратно нарезанный хлеб, умелые женские руки…
В один из апрельских вечеров в казарму для бессемейных пришел Арам.
Два дня назад Арама избрали в промыслово-заводский комитет «Апшерона» — подобные комитеты создавались теперь на всех предприятиях нефтяной промышленности для рабочего контроля над деятельностью промыслов и заводов, — и члены комитета обходили промысел, заглядывая во все уголки, присматриваясь к работе.
Вечер был теплый, ясный, обитатели казармы разошлись подышать свежим воздухом, и в помещении оставались, кроме Юнуса, только тарталыцик-ардебилец и Рагим, отдыхавшие на своих койках.
— Привет, товарищи! — поздоровался Арам, входя, и, задержавшись подле койки Юнуса, спросил его с дружеским участием: — Ну, герой, как твоя ножка?
Юнус смущенно отмахнулся: какой там герой — героями были другие! Посмотреть только, как вели себя Мамед Мамедъяров или Микоян, а Фиолетова не останавливало далее его слабое здоровье! Посмотреть, как дрался Газанфар, — особенно когда он выскочил из-за баррикады, закричал: «За власть Советов!» — и кинулся на штурм крепостных стен. Они вот в самом деле герои!.. А он, Юнус… Да если говорить начистоту, то он даже сплоховал: не хватило ума глядеть в оба, когда шел по уличкам Крепости, и заработал от мусаватиста карнизом по ноге. Герой!.. Быть может, Арам называет его так в насмешку, не без зависти, — ведь все-таки он, Юнус, побывал в самой гуще схватки? Нет! Надо думать, Арам просто дружески шутит.
— Из-за этой вот самой ножки я тебя еще не поздравил с избранием в комитет, — с досадой произнес Юнус, кивнув на свою забинтованную ногу. — Теперь — сердечно поздравляю!
— Спасибо, — ответил Арам, — спасибо!.. Только заслуга в этом не моя, а самих апшеронцев, что доверяют нам, большевикам, и выбирают во все комиссии и комитеты. — Арам присел на табуретку подле койки Юнуса и вытащил из кармана трубку и кисет.
Оглядев помещение казармы, освещенное тусклой лампочкой, он заметил:
— Неуютно вы здесь живете, друзья!
— А как здесь жить уютно? — спросил Юнус удивленно. — Пол — каменный, от форсунки — копоть, из разбитых окон — пыль.
Но Арам, покачивая головой, твердил:
— Неуютно, друзья, неуютно!
Юнусу стало обидно: немало труда отдавали он и его товарищи, чтобы привести помещение в порядок, а вот подите же — неуютно!
— Ну, и ты, Арам Христофорович, не в ханском дворце проживаешь! — сказал он усмехаясь.
— Все-таки…
— Когда буду иметь такую жену, как тетя Розанна, и такую дочку, как твоя Сато, — тоже буду жить уютней.
— Дай-то бог! А пока… — Арам снова оглядел помещение казармы и решительно завершил: — Пока все же надо заставить администрацию сделать ремонт — выбелить стены и потолок, покрасить рамы, вставить стекла, покрыть пол досками.
— Против этого ничего сказать нельзя! Нашим казарменным, несмотря на то, что они бессемейные и нехозяйственные, не сладко жить, как овцам в хлеву — они на администрацию поднажмут. А после того как сделают ремонт… — на лице у Юнуса появилась мечтательная улыбка. — Знаешь, Арам Христофорович, что я после этого сделаю?
— Нет, не знаю.
Послышался голос тартальщика-ардебильца:
— Да чего ж тут знать? Пригласит парень в гости свою сестру — он по ней дни и ночи тоскует, словно жених по невесте!
— Правильно, ардебилец! — воскликнул Юнус в ответ. — Приглашу, но только не в гости, а насовсем! Хватит ей работать служанкой у дядюшки — пусть поживет хозяйкой у брата. Вот, как только нога поправится, поеду за сестрой. Будет сестра жить здесь, рядом со мной, будем дышать одним воздухом, будем делить хлеб пополам… Долго ж мы были в разлуке! Может быть, правильно говорится, что брат в разлуке с сестрой — все равно что чужие.
Взгляд Юнуса упал на жестяную табличку, прибитую к стене: «Строго воспрещается родным и знакомым оставаться в казарме после 10 часов вечера. Администрация». Мечтательное выражение на лице исчезло.
— Помнишь? — спросил он, кивнув на табличку, и глаза его блеснули гневом.
Арам кивнул: еще бы не помнить! Кивнул и Рагим, все время молча прислушивавшийся к разговору. Поднявшись с койки, он подошел к табличке и, просунув под нее нож, оторвал от степы, согнул пополам и, крепко выругавшись, вышвырнул за дверь. На днях выкатили с «Апшерона» на тачке Министраца — туда же дорога и его чертовым законам!
«Зачем ты ломаешь?» — хотел остановить Рагима Арам, но вспомнив, как брат и сестра коротали холодную ночь на штабеле труб, промолчал: пусть казарменные отведут душу!
— Кто посмеет теперь запретить, чтоб сестра у меня жила? — спросил Юнус. — Как захочу, так и будет!
Арам раскурил трубку.
— А я так думаю, что кое-кто посмеет! — сказал он, выпустив дым.
— Кто же? — спросил Юнус с вызовом.
Арам помедлил и ответил:
— Хотя бы я!
— Ты? — воскликнул Юнус изумленно,
— Я, — невозмутимо подтвердил Арам.
— Ну, ты-то мне бы не запретил! — сказал Юнус со спокойной уверенностью. — Ты свой человек!
— Своих здесь немало. А как член промыслово-заводского комитета я обязан был бы так поступить.
Снова вмешался в разговор Рагим:
— Ты, Арам, еще без году неделя, как в комитете, а уже заносишься почище хозяина и Министраца… Член комитета! Да если бы ты или твой комитет по-смели бы так поступить с сестрой Юнуса, как поступил Министрам, то мы, казарменные, тебя и весь твой комитет… — Он не договорил и погрозил кулаком.
Арам в ответ едва не вспыхнул: дождался он со своими сединами, что свой же брат рабочий грозит ему кулаком! Этак, чего доброго, на промысле его скоро станут почитать за второго Министраца и в конце концов выкатят на тачке! Да, хлопот с этим промыслово-заводским комитетом, видать, не оберешься, да только теперь уж поздно отступать: сел, как говорится, на коня — надо ехать!
Он сдержал себя и ответил:
— Если на промыслах не будет порядка, мы не сможем добывать нефть!
Ардебилец махнул рукой:
— Нефть да нефть! Мне-то что с нее, с этой нефти? И так целый день торчишь в тартальной будке, не дождешься, пока придет сменный. Гоняешь желонку вверх и вниз, потому что надо есть и кормить семью свою в Ардебиле.
— Нет, ардебилец, нет! — возразил Арам. — Не знаешь ты разве, что, кроме Ардебиля, есть на свете такие города, как Петроград и Москва, и Иваново-Вознесенск, и другие? Но знаешь, что без нашего топлива, без нашего мазута, без наших смазочных масел нельзя пустить в ход петроградские, московские, иваново-вознесенские и другие фабрики и заводы России?
— Ну и пусть себе стоят!
— Если они будут стоять, нельзя будет снабдить людей одеждой, обувью. Без нашего топлива остановятся поезда и нельзя будет перебрасывать хлеб из урожайной местности в голодную, нельзя будет передвигать нашу революционную Красную Армию для защиты нашей республики. От бакинской нефти зависит участь Советской России, судьба рабочих, наша с вами судьба.
Ардебилец в ответ только пожал плечами.
— Мне-то что? — промолвил он равнодушно. — Я приехал сюда из-за Аракса на заработки. Семья у меня большая, восемь душ, все голодные. Заработаю — уеду назад за Араке, в родной Ардебиль, и поминай как звали!
Но Юнуса слова Арама задели за живое: впервые слышал он о нефти такие слова!
Да, он добывал нефть. По многу часов проводил в тесной тартальной будке, опуская в скважину и поднимая оттуда желонку. Участок, на котором он работал, был старый и отработанный, нефть залегала здесь в глубоких пластах, и нужно было немало времени, чтобы желонка, опустившись на сотни сажен и наполнившись нефтью, поднялась на поверхность. О чем только не передумает тарталыцик за это время, следя за дрожащим канатом, к которому прикреплена желонка? О хлебе насущном, о горькой доле своей, о семье, о лучших временах, которые — хочется верить — не за горами. И только меньше всего думает тарталыцик о самой нефти, хотя с каждым подъемом напоминает она ему о себе, обдавая внутренность буровой брызгами, словно грязными холодными плевками. Тартальщику — брызги, хозяину — нефть и денежки? Ну и пусть, в таком случае, о добыче нефти и размышляет сам хозяин!.. Но вот, оказывается, о добыче приходится задумываться и рабочему человеку: от нее, должно быть, в самом деле зависит судьба страны, судьба людей, его, Юнуса, судьба.
— Насчет нефти ты, может быть, и правильно говоришь, — признался Юнус. — Но скажи на милость, Арам Христофорович, чего это ты взъелся на мою сестру?
— Не взъелся я на нее, — ответил Арам примирительно. — Я только сказал, что, как член промысловозаводского комитета, я бы ей в казарме для бессемейных оставаться не разрешил. Ну, посуди сам: жить девушке в казарме для бессемейных мужчин — это непорядок!
— А где же ей жить? — спросил Юнус угрюмо.
— Жилищным вопросом сейчас занимается Бакинский совет. Уже есть постановление: реквизировать в центре города большие дома, в которых очень уж вольготно разместились бары, и заселить их людьми, не имеющими жилища. Да и здесь, на промыслах, этим вопросом занимается наш райсовет. А пока могла бы твоя сестра пожить в моей семье. Поверь, друг, ни я, ни Розанна, ни Сато твою сестру в обиду не дадим!
И было во взгляде Арама что-то столь доброе и родное, напомнившее Юнусу его отца, Дадаша, что сердце Юнуса дрогнуло. А ведь как не похож был приземистый Арам с его седой конной волос на высокого, худого, лысого Дадаша!
Был уже поздней вечер, когда Арам вышел из казармы. Большая круглая луна освещала черные силуэты вышек. В нескольких шагах от казармы Арам увидел на земле согнутую табличку. Он поднял ее, разогнул и по-хозяйски сунул в карман рваной куртки, сам еще не зная, для чего.
Много думал Юнус о своем разговоре с Арамом и пришел к выводу: Арам прав.
А тут как раз прибыла из России делегация Высшего Совета Народного Хозяйства — по вопросам нефти.
Делегаты посетили ряд промыслов, в том числе «Апшерон». В помещении конторы была организована встреча гостей с представителями администрации и с членами промыслово-заводского комитета. Из райкома партии был приглашен на встречу Газанфар. Что до владельцев промысла, то те от встречи благоразумно отказались: прошли времена, когда хозяевам можно было действовать в открытую, — для того теперь и оставили они на промыслах старую администрацию, чтобы стояла она на страже хозяйских интересов.
Прежде чем направиться в контору, Газанфар заглянул в казарму для бессемейных — проведать Юнуса; парень этого заслужил своим поведением во время подавления мятежа. Газанфар застал Юнуса ковыляющим по казарме — нога уже поправлялась. Что ж, тем лучше!
— Пойдем, Юнус, на встречу с питерцами! — предложил Газанфар. — Послушаем, что они нам расскажут, потолкуем о своих нуждах.
Упрашивать Юнуса не пришлось. Опираясь одной рукой на палку, другой — на крепкую руку Газанфара, он бодро заковылял к промысловой конторе.
Невеселые вести привезли в Баку делегаты из Совнархоза: к Донбассу подобрались немцы, Грозный отрезан от России северо-кавказской белогвардейщиной, в стране топливный кризис, каждая капля смазочного масла — на вес золота. Гости, однако, не склонны были унывать — они заявили, что рабочие Питера и Москвы смотрят на бакинцев с надеждой и призывают их дать побольше нефти России.
— Вон ее у вас сколько, этой нефти, — целые озера! — не то с восторгом, не то с укором воскликнул один из делегатов, кивнув на окно, за которым был виден наполненный до краев нефтяной амбар.
— Запасы у нас, в самом деле, не маленькие — миллионы и миллионы пудов, — как-то виновато заметил Арам. — Кстати, если говорить правду, добыча у нас с каждым днем все падает и падает…
— Напомню, что прежде она не падала, а росла! — вставил инженер Кулль с многозначительной улыбкой.
— А чем вы это объясняете? — спросил один из делегатов, обращаясь одновременно к Куллю и к Араму.
Ответил Арам:
— Прежде администрация стремилась добычу увеличить, а теперь только и делает, что всеми силами пытается ее сократить.
Кулль сощурился:
— А позвольте, Арам Христофорович, спросить вас, как члена промыслово-заводского комитета: для чего это администрации нужно?
— Очень просто! Хозяева саботируют производство, чтобы заставить нас, рабочих, признать их силу и порядки, а администрация смотрит хозяевам в рот, выполняя их волю. Только и всего.
Кулль иронически улыбнулся:
— Если это так, то что же спит ваш рабочий контроль? Ведь он, кажется, только для того и создан, чтобы вмешиваться в наши дела?
— Контроль наш не спит, и вам это, гражданин инженер, известно не хуже, чем нам, — ответил Арам. — Да только контроля этого теперь уже недостаточно! Помните, месяца два тому назад большевики говорили, что преодолеть саботаж нефтепромышленников можно только одним путем — национализировав нефтяную промышленность? Тогда, правда, осуществление этой национализации было признано несколько преждевременным. Теперь — дело иное! Пора нам взять пример с Питера и Москвы и с других городов России — делегаты нам хорошо рассказали, как там такие дела делаются. Пора нам взять все нефтяное хозяйство в свои руки! И, надо думать, не сегодня-завтра наш Совнарком издаст подходящий декрет!
Его слова вызвали одобрительные возгласы со стороны членов промыслово-заводского комитета. Незаметным кивком головы одобрил Арама и Газанфар. Едва не присоединил свой голос и Юнус — хорошо говорит его друг Арам! — но он сдержал себя: не за тем привел его сюда Газанфар, чтобы он вмешивался в такие серьезные разговоры.
И только представители администрации не склонны были соглашаться.
Их точку зрения опять выразил инженер Кулль.
— Нефтяной вопрос, господа, — сказал он, — не так прост, как это кажется на первый взгляд, особенно для тех, кто не имеет опыта управления нефтяным хозяйством. В Петрограде и в Москве национализация касалась заводов и фабрик, в которых все хозяйство находится в одном месте, уже давно сконцентрировано в одних руках, и там не составляет труда заменить одного хозяина другим, или, как теперь выражаются, национализировать. Совсем иначе обстоит дело здесь, на нефтепромыслах: нефтяное хозяйство Баку раскинулось на десятки верст, имеет сотни хозяев, разобщено…
Кулль готов был продолжать, но Газанфар его перебил:
— Неправильно вы говорите, инженер Кулль, совершенно неправильно! Товарищ Ленин еще полгода назад писал, что нефтяное дело уже обобществлено в огромных размерах предыдущим развитием капитализма. Учтите, в статье Ленина так и сказано: в огромных! Еще полгода назад товарищ Ленин подчеркивал, что несколько нефтяных королей ворочают сотнями миллионов и собирают сказочные прибыли с нефтяного дела и что само дело уже организовано фактически, технически, общественно в государственных масштабах, уже ведется это дело сотнями рабочих, служащих и инженеров. Вы, как инженер и администратор, должны это сами хорошо знать. А если не знаете — внимательно прочтите статью товарища Ленина «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» — она вышла отдельной брошюрой еще осенью прошлого года. Я могу дать вам ее прочесть — будет для вас небесполезно.
Газанфар воодушевился — сам он внимательно изучил эту статью, в которой Лениным был практически поставлен вопрос о национализации нефтяной промышленности, и указания Ленина теперь, в борьбе за национализацию, служили Газанфару, как и всем большевикам-бакинцам, путеводным маяком.
— Еще полгода назад, — продолжал Газанфар, — товарищ Ленин говорил, что национализация возможна сразу и обязательна для революционно-демократического государства, особенно когда оно переживает величайший кризис, когда надо во что бы то ни стало сберегать народный труд и увеличивать производство топлива. Товарищ Ленин предлагал объявить войну нефтяным королям, конфисковать их имущество, издав насчет этого декрет, и строго наказывать за противодействие и оттяжку национализации нефтяного дела… — Газанфар бросил взгляд в сторону, где сидели представители администрации. — Но если так обстояло дело еще прошлой осенью, когда живо было Временное правительство и верховодили министры-капиталисты, то сейчас, когда в Бакинском Совнаркоме наши товарищи — Степан Шаумян, и Мешади Азизбеков, и Фиолетов, — когда же, как не сейчас, осуществить мудрые и справедливые ленинские слова?
Снова раздался взрыв одобрительных возгласов со стороны членов промыслово-заводского комитета — еще более громкий, чем прежде. И теперь уже и Юнус не устоял перед тем, чтобы не присоединить к ним свой голос.
Но представителей администрации было не так легко убедить.
— Это политика! — сказал Кулль, покривившись, — А я — инженер и политикой заниматься не хочу!
— Политикой, инженер Кулль, занимаются теперь все — хотят они того или не хотят! — возразил Газанфар. — И вы, инженер Кулль, занимаетесь, хоть не желаете в этом признаться. Только нам бы хотелось, чтобы вы придерживались той политики, какой придерживаемся насчет национализации нефтяной промышленности мы, большевики, и работали бы по-нашему.
— Как умею, так и работаю! — буркнул Кулль.
Газанфар долго сдерживал раздражение против Кулля — он знал Кулля давно и давно недолюбливал его, но тут Газанфара прорвало:
— Надо работать не так, «как умеете», а так, как необходимо сейчас работать! Понятно, инженер Кулль?..
Долго длилась беседа апшеронцев с делегатами из Совнаркома, и много было разговоров и споров о добыче нефти и о национализации, и под конец члены промыслово-заводского комитета и представители администрации крепко сцепились между собой.
Не все в этих разговорах, спорах и ссорах понял Юнус, но одно стало для него после этой встречи ясным: не сплоховали его друзья и гости-питерцы в споре с администрацией — национализация, видать, в самом деле, не за горами!
В казарму Юнус возвращался, весело напевая. Нога, казалось, перестала болеть.
Крысы
А Шамси, напротив, ворчал:
— Жить стало невмоготу!
Возьмем, например, воду. Прежде бывало, если нехватка воды в городе, заплатишь лишний гривенник кому нужно, и нанесут тебе воды с целое море, хотя б для других не осталось ни капли. А нынче, если нехватка, — выдают воду по карточкам. Полведра на человека, а этого очень мало, особенно теперь, когда наступают теплые дни и почтенному человеку необходимо два-три раза в день освежаться. Что он, грязный амбал, что ли, чтоб довольствоваться половиной ведра?
И это потому, что всех людей большевики на один аршин меряют. Больше того: как воду получать — так всем поровну, а как колодцы и водопроводы чистить и чинить да денежки выкладывать — тогда раскошеливайся домовладелец! Но и этого, оказывается, им мало: не починишь — грозят упечь на полгода в тюрьму или оштрафовать. Подумать только!..
А тут еще пошли эти реквизиции. Никто прежде и слова такого не слыхал: ре-кви-зиция! А теперь в одной только таможне реквизировано семнадцать тысяч пудов чая. Сами большевики писали об этом в своей же газете. Еще писали они в газете, что чай после развески будет роздан поровну всему населению. До чего же дошли люди в бесстыдстве, если рассказывают о таких своих делах! Хорошо еще, что у состоятельных людей хватает ума сделать запасы и что он сам — не будь дурак — припас больше пуда чая!
Было чему удивляться последнее время, но больше всего удивляло Шамси, что прижимать стали не только таких, как он, или чуть побогаче, — сам всесильный хаджи Зейнал-Абдин Тагиев не в силах был противостоять большевикам: обязали его сдавать ежедневно по двадцать тысяч аршин марли с его фабрики, которую, к слову сказать, не сегодня-завтра и вовсе отнимут. Двадцать тысяч аршин! Сколько же нужно иметь человеку, чтоб каждый день столько бросать на ветер? Обязать хаджи Зейнал-Абдин Тагиева! Это звучало почти столь же нелепо, как обязать солнце или море. И все же это была правда.
— Жить стало невмоготу! — с каждым днем все угрюмей ворчал Шамси.
Часто вспоминал он слова Хабибуллы о лодке с золотом.
«Не сумели мы перерезать канат, вот и горим!», — думал он с горечью.
Рана в плече стала уже заживать, перестала болеть, и не было особой нужды носить руку на перевязи. Но Шамси не спешил расстаться с черной шелковой повязкой, поддерживающей руку: казалось ему, что многие смотрят на него понимающе и сочувственно, и это наполняло его скорбной! гордостью человека, пострадавшего за правое дело. И облик его, прежде выражавший самодовольство, теперь стал выражать праведную скорбь.
Магазина Шамси не открывал, и времени у него теперь было достаточно, чтоб, сидя с Абдул-Фатахом за чаем, предаваться горестным размышлениям о торжестве большевиков. После исчезновения Хабибуллы мулла стал для Шамси единственным человеком, с которым молено было поговорить но душам.
В один из этих дней Абдул-Фатах сказал:
— Прежде наши глаза наполнялись слезами при виде развалин мечети Сынык-кала, но этого нашим врагам показалось мало: они разрушают теперь еще и другие наши мечети.
Он говорил неправду, во время мартовской схватки лишь слегка пострадал от огня с кораблей один из минаретов Таза-пир-мечети, — но Шамси не стал перечить и вздохнул:
— Аллах покарает их!
В присутствии муллы он уповал на бога с гораздо большей верой, чем в одиночестве.
— Покарает! — уверенно подтвердил Абдул-Фатах и многозначительно добавил: — Война, мой друг, еще не окончена!
Упрек почудился Шамси в последних словах — мулла, казалось, предлагал не столько уповать на аллаха, сколько действовать самому. Но при мысли о новых столкновениях Шамси с прежней силой ощутил боль в плече.
— Я уже пролил свою кровь за правое дело… — » сказал он, и губы его обиженно задрожали.
Абдул-Фатах покачал головой.
— Не проливать свою кровь я тебя призываю, мой друг, а напротив — ее сберечь.
— Что ты хочешь сказать?
— Опасно сейчас оставаться в городе — надо уехать!
Шамси горестно усмехнулся. Уехать? Расстаться с насиженным местом, домом, магазином, коврами? Скитаться на старости лет с семьей, как курд-кочевник? Нет, это никак невозможно!
— А как только смутное время пройдет — вернешься, — добавил Абдул-Фатах, читая мысли друга.
Шамси воздел глаза к небу.
— Кто знает, сколько оно продлится?
— Я знаю, — сказал Абдул-Фатах уверенно. — Недолго! Аллах не допустит, чтоб порядок вещей, испокон веков им установленный, был бы нарушен, а закон, этот порядок освящающий, попран большевиками.
Слова муллы казались убедительными, ласкали слух, но, наученный горьким опытом покорного следования советам Хабибуллы, Шамси сейчас старался быть осмотрительным.
— Почему же аллах до сих пор допускает? — спросил он.
Абдул-Фатах пропустил вопрос мимо ушей — уж слишком часто приходится ему объяснять земные невзгоды ссылками на гнев неба — и, понизив голос, промолвил:
— На помощь нам придет Турция!
Турция? Шамси вспомнил жалкий вид турецких пленных. Немногим они помогли в суровые мартовские дни!
— Сами-то они нуждаются в помощи, эти несчастные! — сказал он, и трудно было понять, чего в его голосе больше — жалости или презрения.
— Они эту помощь имеют: за их спиной Германия, — возразил Абдул-Фатах.
— Германия? — воскликнул Шамси благоговейно. И, как всегда, когда речь шла о Германии, расчувствовался: немало ковров отправляли туда в свое время, немалую извлекали прибыль!.. Но вдруг Шамси помрачнел: — Германия-то ведь далеко…
— Зато рука ее близко! Знаешь, кто помог в Дагестане имаму Гоцинскому вырвать Петровск у большевиков? Ему помогли в этом немецкие офицеры, они командовали турецкими пленными под Петровском, а руководил всем делом один немецкий полковник.
— Говорят, большевики уже выбили имама из Петровски и он ушел в горы, — осторожно заметил Шамси.
— Немцы помогут ему снова! — с уверенностью возразил Абдул-Фатах. — Говорят, что в Тифлис скоро прибудет много немецких солдат и офицеров… И здесь может начаться такое, по сравнению с чем недавние бои покажутся нам детской дракой!
Шамси опять ощутил боль в плече.
— Как же быть? — спросил он растерянно.
— Уехать, говорю тебе, надо, пока не поздно, и переждать в безопасном месте, пока не выкурят отсюда большевиков.
— Выезд из города большевиками запрещен — еще поймают и упекут в тюрьму! — упорствовал Шамси: уж очень ему не хотелось покидать насиженное место.
— Значит, надо уехать так, чтоб не поймали! — сказал Абдул-Фатах. — А за то, что ты нарушишь приказ врагов наших, аллах тебя только вознаградит.
Шамси хотел снова возразить: аллах аллахом, а большевики все же могут поймать и не вознаградят, но мулла его опередил.
— Ты, видно, забыл Балу-старшего и не хочешь оградить от бед Балу-младшего, — сказал он сурово.
Он, отец, забыл Балу-старшего и не хочет оградить от бед Балу-младшего? Посмел бы кто-нибудь другой бросить ему такой упрек! Да разве есть у него в жизни кто-либо дороже сына?!.
Снова и снова приводил Шамси доводы против отъезда. Он говорил жалобно, почти просяще, словно во власти Абдул-Фатаха было насильно заставить его уехать, расстаться со всем, что ему, Шамси, дорого. Но друг его был неумолим, и Шамси в конце концов согласился.
Он уедет.
Только куда?
На дачу?.. Шамси с умилением вспоминал прошлое лето, праздник примирения кровников и речи друзей о том, что все мусульмане братья — ученые и простые, богатые и бедные, хозяева и рабочие. Как хорошо было на даче прошлым летом! Но в этом году, говорят, там все по-другому: на сходках сельчане кричат, что истинные друзья их — большевики, какой бы нации эти большевики ни были, а что враги сельчан — ханы и беки, пусть даже они и мусульмане.
Подумать, как все вокруг перевернулось! Взять, к примеру, селение Мардакяны — красивое, хорошее селение с садами и виноградниками. А вот, поди ж, собрались многие из сельчан на сход и заявили, что хотят только советскую власть, написали об этом бумагу и подписались. А самое главное — лучшие дачи теперь отнимают для больниц и для школ и для всяких других большевистских затей. Как будто и без того мало этих больниц и школ, болеть и учиться можно дома! Неровен час, отнимут дачу и останешься с семьей на прибрежном песке, как дохлая рыба. Нет, ехать сейчас на дачу все равно что из огня — в полымя!
В какое-нибудь другое селение поблизости? Не лучшие дела, однако, рассказывают, творятся в Фатьмаи́, в Геокмалы́, в Ко́би и в других ближних селениях.
Куда-нибудь подальше?.. Но, к ужасу своему, Шамси узнал, что то же самое происходит во всем Бакинском уезде, и не только в Бакинском, но и в соседних уездах — в Кубинском и Ленкоранском, в Сальянском и Шемахинском.
Быть может, еще дальше — в Нагорный Карабах?.. Шамси вспоминал свою последнюю поездку, когда он выгодно купил и затем выгодно продал шерсть. Нагорный Карабах! Воздух там свежий, природа богатая. Прекрасны нагорья Карабаха!.. Нет там пока и советской власти… Но там, говорят, сейчас столкновения между армянами и мусульманами.
Нет, не на дачу, и не в соседние селения, и не в соседние уезды, и не в Нагорный Карабах следует уезжать! Ехать нужно туда, куда уехали пострадавшие от большевиков, — в Елисаветполь. Там, как известно, сейчас большевиков нет. Поселиться можно будет не в самом Елисаветполе, а в каком-нибудь селении поблизости — не подходит семье ковроторговца проводить лето в душном городе.
А как быть с домом, магазином, коврами?
Дом, разумеется, с собой не возьмешь, но добра следует взять возможно больше. Магазин тоже, конечно, с собой не возьмешь. А ковры? Невозможно таскать с собой эти огромные гяба и хали. Оставить их в магазине? Но кто же не знает «Ковровое дело Шамси Шамсиев», и, конечно, если хозяин уедет, не преминут растащить его добро. Оставить ковры у родственников? Еще откажутся потом, скажут, что в глаза этих ковров никогда не видели. У друзей? Хабибулла куда-то исчез; Абдул-Фатах сам, видно, здесь не засидится. Лихое настало время: два друга есть у человека, и ни один из них не в силах помочь!
Был, впрочем, у Шамси третий друг, к которому он не раз обращался в трудные времена. Друг этот не имел ушей, чтобы слушать лишнее, глаз — чтобы завидовать, языка — чтобы болтать. Он, пожалуй, был даже надежней первых двух. Не этот ли третий друг скрыл от полиции и сохранил хозяину тюки шерсти? Не он ли хранил оружие втайне до той поры, когда пришла нужда стрелять?.. Подвал! Сводчатый крепкий подвал с толстыми стенами, с зеленой, обитой железом дверью! Правда, большевики — не чета полиции, и к тому же теперь любому мальчишке известно, что в подвалах люди могут хранить оружие и добро, и, значит, нет уверенности, что этот третий друг сохранит ковры в целости. Но, так или иначе, где тот четвертый друг, который сохранил бы их надежней?..
Вечером, в сумерках, женщины принялись перетаскивать ковры из магазина в подвал дома. Всю семью — даже старшую жену — поставил Шамси на эту работу, потому что одной Баджи, как ее ни понукай, всего не перетащить, и еще потому, что дело шло о спасении богатства, которого нельзя доверять посторонним людям. Иной ковер оказывался столь тяжелым, что его приходилось нести, свернутым в трубу, всем четверым сразу, как бревно. Женщины жались к стенам домов, стараясь пройти незамеченными. Шамси шел поодаль. Завидя патруль, он предупреждал женщин, и те тесней прижимались к стенам или, проскользнув во двор незнакомого дома, с бьющимся от страха сердцем пережидали, пока патруль пройдет. А сердце Шамси колотилось от возмущения: до чего довели почтенного человека — свое же добро перетаскиваешь тайком, как краденое!
К полуночи ковры были благополучно водворены в подвал. В магазине же, для отвода глаз, чтоб не стали искать товар на дому, Шамси оставил несколько дешевеньких паласов, живописно расстелив их по всему магазину. Много ли большевики понимают в коврах? Заберут этот хлам и успокоятся!..
А как быть с Баджи?
Сперва Шамси решил взять ее с собой — женам нужна прислуга. Но, поразмыслив, раздумал: прислугу можно найти где угодно, оставлять же дом без всякого присмотра — неразумно. Придет, допустим, кто-либо с дурным намерением, станет ломиться в дверь. Если Баджи будет дома — она поднимет крик, сбегутся соседи, отгонят темных людей. Ведь даже смерть, говорят, можно отогнать, если только умеючи кричать! Дом, пожалуй, следует запереть на замок, а Баджи оставить внутри дома — незачем девке зря шляться по городу, пусть стережет дом. Вода, хотя и мутноватая, имеется в дворовом колодце, а еды в доме хватит на пять лет, если, конечно, не обжираться.
Шамси поделился своим решением с женами.
— Правильно! — одобрила Ана-ханум. — От этой дуры все равно толку мало.
Но Ругя возмутилась:
— Ты что, с ума спятил? Мало ли что может случиться?
Шамси наморщил лоб:
— Что же может случиться?
— А вдруг — пожар?
Шамси представил себе свое жилище, объятое пламенем. Как это ему раньше не пришло в голову?
— Верно… — сказал он смущенно. — Не сумеют открыть двери, сгорит все хозяйство!
— Да я не о хозяйстве! — закричала Ругя гневно. — Живую девку запереть на замок? Да ты в самом деле с ума спятил, старый!
Таким тоном Ругя говорила с Шамси впервые. Побуждало ли ее к этому доброе чувство к Баджи? Или хотелось ей доказать Ана-ханум, что и младшая жена — не последний человек в доме? Или, быть может, и ее коснулось живое дыхание нового?
— Ах, вот ты о чем… — сообразил наконец Шамси.
Пожалуй, Ругя права: еще сгорит девка, придут наводить следствие, хлопот потом не оберешься.
— Ладно, пусть запирается изнутри, — промолвил он, махнув рукой.
— Баджи нужно взять с собой! — стала настаивать Ругя. — Разве ты не обещал заботиться о ней, как о своей дочери?
Шамси показалось, что посягают на его авторитет. Он обозлился. Что эти бабы, в самом деле, вздумали его учить?
— Сказал, что не возьму, — значит, так и будет! — заорал он, выпучив глаза и побагровев.
Ругя поняла, что спорить бесполезно. Хорошо еще, что удалось уговорить не запирать девчонку!..
Начались сборы в путь.
— Теперь ты за нами не увяжешься, не припрешься вслед, как приперлась на дачу прошлым летом! — сказала Фатьма злорадно.
— Мне и здесь без вас будет неплохо! — ответила Баджи с притворной веселой улыбкой, хотя при мысли остаться одной в пустом доме ее охватывал страх.
Наконец наступил день отъезда.
Так как выезд из города был временно запрещен и на вокзале не выдавали билетов, решили, выехав вечером на фаэтонах, добраться до одной из ближайших станций, а там сесть на поезд. С Абдул-Фатахом условились встретиться на окраине города.
Семья разместилась на двух фаэтонах. Держа в руках ключ от подвала, Шамси отдавал Баджи последние распоряжения:
— Пуще всего — береги добро! Никого, никого не впускай, даже родственников. Теперь каждый только и норовит, как бы чужое добро отнять, даже у своего же брата мусульманина. А впустишь — узнаю, и тебе не поздоровится! Не посмотрю, что ты дочь Дадаша… — В голосе Шамси прозвучала угроза. — Ешь, пей сколько влезет, хотя зря, конечно, не объедайся, не то будешь в старости болеть животом.
«А сам, небось, обжираешься, хоть и болеешь!» — усмехнулась про себя Баджи.
Пора было ехать. Но Шамси медлил: трудно было расстаться с ключом от подвала.
Расстаться же с ключом было необходимо: завелись в последнее время в подвале крысы — видно, почуяли рис и сахар, и нужно было поручить Баджи вылавливать их крысоловкой — еще сегодня утром попалась в нее большая старая крыса; вдобавок подвал надо проветривать, иначе заведется там сырость, заплесневеют ковры, сгниют продукты. Возни с подвалом — как с малым дитятей, нужен глаз и глаз.
И Шамси пересилил себя и отдал ключ Баджи. Точно часть жизни отдал он ей вместе с этим ключом!
— Прошу тебя, дочка милая, сохрани добро наше… — произнес он вдруг дрогнувшим голосом, и хотя было уже темно, Баджи заметила, как блеснули в его глазах слезы.
«Трудно ему расстаться со своим домом — старый он человек», — подумала Баджи. Она вспомнила, как не хотелось отцу расставаться со своей комнатой в Черном городе, а ведь тот бедный кров не сравнить было с этим домом! И жалость к Шамси готова была коснуться ее сердца.
Но Баджи уже знала, что жалеть его она не должна: разве она не пожалела его однажды, когда он лежал раненый, окровавленный, и что ж он сказал в ответ, как ее обозвал?
«Как дом твой охранять, я тебе — дочка милая, а так только и слышишь: собачья дочь!» — подумала Баджи и отвела взгляд.
Шамси ждал ответа. Вид у него был злой и страдальческий одновременно. Баджи упрямо молчала. Шамси подал знак, фаэтоны тронулись.
— Эх, вы, крысы!.. — пробормотала Баджи вслед фаэтону.
Пожалуй, было в ее словах смысла больше, чем она подозревала: лодка с золотом, о которой в свое время с такой страстью разглагольствовал Хабибулла, была объята пламенем, и люди в лодке, по бурному морю перевозившие золото, метались, как крысы, стремясь спасти если не золото, то хотя бы самих себя.
Стук в дверь
Хорошо живется Баджи!
Никто не бьет ее, не ругает, никто ее не понукает.
И все, что в доме, — к ее услугам. Правда, большую часть вещей сгрудил Шамси в задней комнатке без окон и повесил на дверь два огромных замка, но всего добра в одну комнатку не собрать: не пролез в узкую дверь громоздкий станок Ругя, осталось на кухне немало посуды, забыли в галерее на веревке выстиранное платье Фатьмы. Можно, значит, самой попробовать выткать коврик, можно заняться стряпней на кухне, можно нарядиться в платье Фатьмы.
Но самое главное: ключ от подвала — в ее руках. А в подвале — помимо ковров и тюков шерсти — мешки с рисом, с сахаром, ящики с инжиром, изюмом, финиками — все, что душе угодно! Эх, дядя Шамси, — отдал такой ключ! Теперь-то она всего отведает, поживет в свое удовольствие!..
Баджи поселяется в комнате для гостей.
Целый день нежится она на мягкой подстилке, рассматривает гурий на потолке. Красивые, толстые! Вокруг подстилки — банки, мешки, посуда: лень каждый раз ходить в подвал и на кухню. У изголовья — ящик с финиками, протянуть руку — финик во рту!
«Ешь, пей, сколько влезет, — вспоминает Баджи слова Шамси, набивая рог финиками, запивая их чаем. — Вкусная штука эти финики, особенно с крепким сладким чаем! А насчет того, что на старости лет у меня живот разболится, — ты за него не беспокойся, смотри лучше за своим!»
Хорошо живется Баджи, хорошо… Но когда она задумывается о брате, сердце ее сжимается. Странный у нее брат! Пришел, нашумел, едва не затеял драку с Шамси — и снова не взял ее к себе. Сколько пятниц прошло с тех пор, а его все нет. О, если бы он пришел! Как она встретила бы его, угостила бы на славу!
Так проходит два дня. На третий день утром раздается стук дверной колотушки.
Баджи настораживается… Кто это может быть? «Впустишь — узнаю, тебе не поздоровится!» Никого, пожалуй, не впустит она!
Стук усиливается…
Это Юнус, приехав за Баджи, стучится в дверь дома.
— Заперлись, трусы! — ворчит он. — Не хотят впускать.
— Ты чего дверь ломаешь, дурак? — обрушивается вдруг на Юнуса из окна соседнего дома худая рябая старуха, известная в переулке по прозвищу Дилявер-хала — Языкастая. Ее, подобно Баджи, оставили стеречь дом. Только и осталось старухе — наблюдать из окна за жизнью соседей, злословить и переругиваться.
— Дядю своего пришел повидать, — отвечает Юнус.
— Уехал твой дядя. Ночью уехал — как вор!
— А женщины?
— Женщин ты захотел, долговязый? — усмехается Дилявер-хала. — Женщин ты поищи в садике, у ограды!
— Как же уехали, когда на двери нет замков? — допытывается Юнус.
— От таких разбойников, как ты, никакие замки не помогут! Уехали, говорю, и все!
Юнус видит, что от старухи толку не добиться, и снова принимается стучать. Тщетно. Может быть, в самом деле все уехали?
— Ведьма злая! — бормочет он уходя.
Стук прекратился. Баджи вслушивается в тишину. Однако ее разбирает любопытство: кто мог так настойчиво стучать? А вдруг кто-нибудь из друзей? Она спускается но лестнице, проходит двор, осторожно выходит в переулок.
— Дилявер-хала! — зовет она. — Эй, Дилявер-хала!
Старуха появляется в окне и не верит своим глазам: Баджи? Вот это так! Проглядела она, оказывается, что девчонка осталась дома!
— А ты, мышь, на мешках сидишь? — восклицает Дилявер-хала.
Баджи пропускает ее слова мимо ушей.
— Дилявер-хала, милая, к нам кто-то стучался. Не заметила, кто? — спрашивает она.
— Глухой сто призывов муллы с минарета пропустит! — отвечает старуха.
На лице у Баджи заискивающая улыбка: надо узнать все же, кто стучал.
— Я тебе фиников принесу, мягких, как раз для твоих зубов, только скажи, миленькая!
— А ты принеси сначала, — говорит Дилявер-хала — всякий норовит обмануть старого человека.
Баджи приносит пригоршню фиников. Старуха медленно жует беззубым ртом. На морщинистом лице — блаженство. Баджи терпеливо ждет.
— Приходил какой-то молодой, долговязый, — снисходит наконец Дилявер-хала.
— Молодой? Долговязый? — переспрашивает Баджи. И вмиг срывается с места и исчезает за углом.
— Все нынче сошли с ума! — бормочет Дилявер-хала, глядя на раскрытую настежь дверь дома Шамси.
Стремглав несется Баджи по кривым переулкам Крепости, всхлипывая от досады:
— Брат, брат… Конечно!..
Баджи рассчитывает настичь Юнуса у ближних крепостных ворот. Или, может быть, он прошел через другие ворота? Баджи мечется по Крепости от одних ворот к другим. Зачем понаделано в Крепости столько ворот!..
Баджи бежит к вокзалу. Запыхавшись, носится она но перрону, заглядывая в вагоны. Увы, увы!.. Протяжный гудок паровоза — и поезд трогается. Будь что будет!.. Подхватив рукой свою длинную юбку, Баджи вскакивает на подножку вагона.
Вышки… Промыслы… Идя с вокзала, Баджи старается вспомнить дорогу. Мясная лавка, старая продырявленная вышка, большая лужа. Бесконечно длинные ограды, похожие одна на другую. А где же промысел, на котором работает Юнус? Нелегко найти его среди этого леса вышек!
Баджи останавливает прохожих… Нет, никто не знает ее брата, никто не знает, где работает его друг Арам… Южные сумерки быстро сгущаются, и все страшнее становится заговаривать с незнакомыми людьми. Баджи устала, ноги у нее подкашиваются… Нет, ей не найти брата среди этого скопища вышек, среди этих каменных и проволочных оград!
Измученная Баджи возвращается в город. Понурив голову плетется она домой. И вдруг вспоминает, что оставила дверь дома открытой. Страх охватывает ее: добро разграблено — Шамси ее убьет! Собрав последние силы, Баджи вбегает в дом. Слава аллаху, всё на месте! Всё — даже финики!
Солдат
Баджи бродит по городу в поисках брата
Завидя высокую худощавую фигуру, она настораживается: может быть, он? Она понимает, что найти его нелегко, но верит в удачу.
Как изменился город!
Многие магазины и лавки заколочены, исчезли красивые фаэтоны. Не видать богато одетых людей. Куда-то скрылись торговцы и лавочники, даже на базарах их теперь мало — видно, бегут по одной дорожке с Шамси!
Зато на улицах много рабочих с ружьями и солдат. Новые песни поют они — красивые песни! — и зовут этих людей тоже по-новому, сразу не выговорить: красногвардейцы, красноармейцы. Не понять, почему их так называют?
Вот идет один с ружьем и патронной лентой через плечо. Светлые волосы выбиваются из-под фуражки. Конечно, это не Юнус, по в коренастой фигуре красноармейца чудится Баджи что-то знакомое. Ускорив шаги, она искоса заглядывает ему в лицо.
— Саша! — вырывается у нее.
Да, это Саша. Уже два месяца, как он красноармеец.
Саша не видит лица Баджи, скрытого под чадрой.
— Ты меня знаешь? — спрашивает он удивленно.
— Хорошо знаю! — весело восклицает Баджи в ответ.
— Кто ж ты такая?
— Угадай!
Саша вглядывается в узкую прорезь чадры. Нет, он не может угадать!
Баджи смеется. Ну, так и быть! Она чуть-чуть, кокетливо приоткрывает чадру — этому она научилась у Ругя. Мелькают густые ресницы щеточками, брови, загибающиеся вверх у висков.
— Баджи! — восклицает Саша. — Вот это встреча! Что ты здесь делаешь?
Улыбка сбегает с лица Баджи:
— Ищу Юнуса…
— А Юнус говорил, что ты уехала с дядей!
— Нет…
И Баджи смущенно рассказывает, как она проглядела Юнуса.
— Вот оно что… — говорит Саша задумчиво и потом решительно заявляет: — Юнуса мы твоего найдем, не беспокойся!
Опять на лице Баджи веселая, радостная улыбка.
— Спасибо!
Саша забрасывает Баджи вопросами. Здорова ли? Как ей живется в доме дяди? Не обижают ее? Баджи едва успевает отвечать. Они приближаются к воротам Крепости.
Баджи замедляет шаг.
— Ты где-то здесь поблизости живешь? — спрашивает Саша.
— Близко! — отвечает Баджи и, не желая расставаться с Сашей, добавляет: — Хочешь, я тебе покажу наш дом?
— Хочу, — говорит Саша и вместе с Баджи подходит к воротам Крепости.
— Нет, нет!.. — неожиданно останавливает его Баджи.
Саша смотрит на нее с недоумением.
— Увидят, что я иду рядом с мужчиной, да еще с русским солдатом… Расскажут дяде…
О, как стыдно ей говорить такие слова Саше! Ведь он — друг ее брата. Он всегда был с нею добр и приветлив… И все же идти по Крепости рядом с русским солдатом неудобно.
— А ты закройся получше, — предлагает Саша.
— Все равно узнают, донесут!
— Когда еще твой дядя вернется!
Баджи упрямо мотает головой: нет, это невозможно! Впрочем, если ему хочется посмотреть, как она живет, пусть пойдет за ней следом, поодаль, и заметит, в какой дом она войдет. Она оставит дверь приоткрытой.
— Ладно!
Задача у Саши нелегкая: нужно не отстать от Баджи в узких кривых переулках и вместе с тем держаться поодаль.
Саша чувствует на себе взгляды прохожих: красноармеец — в Крепости? Или, может быть, люди понимают, что он идет за Баджи? Неприятно тайком пролезать в чужой дом, но, чего доброго, Баджи в самом деле попадет, если узнают, что к ней приходил мужчина, красноармеец?
Баджи входит в дом, оставляя дверь приоткрытой. Саша, как ни в чем не бывало, продолжает свой путь и, поровнявшись с дверью, готов в нее прошмыгнуть.
Не тут-то было!
— Эй, солдат! — останавливает его окрик Дилявер-хала. — Ты кого пришел убивать?
— Это кочи убивают, а мне нужен по делу один человек… — Саша называет первое пришедшее на ум имя: Сафтар.
— Какой такой Сафтар?
— Фруктовщик.
Дилявер-хала не так легко провести.
— Объелся твой Сафтар своими фруктами еще прошлой осенью и умер, чего и тебе желаю, солдат! — говорит она. — Уходи лучше отсюда, подобру-поздорову, пока тебе шею не накостыляли!
Вот старуха противная! Это о ней, верно, рассказывал ему Юнус.
А Баджи, стоя за дверью, думает:
«Я тебе, тетенька Дилявер, в другой раз, вместо фиников, дохлую крысу преподнесу!»
Саша делает вид, что уходит, но едва старуха скрывается в окне, быстро поворачивается и проскальзывает в дверь дома Шамси.
Осторожно, стараясь не производить шума, Баджи запирает дверь на щеколду. Сердце ее громко стучит: шутка сказать — впустить в дом русского солдата!
— Не заметила она? — спрашивает Баджи обеспокоенно.
— Как будто нет!
Баджи ведет Сашу наверх, в комнату для гостей. На главном ковре — ящики, банки, кульки.
— Садись, Саша, ешь! — предлагает Баджи с важностью: не часто доводится ей принимать таких гостей.
— Ты, я вижу, богато живешь, — говорит в ответ Саша. Помедлив, он добавляет: — А в городе насчет еды тяжело…
Баджи вспоминает голодных людей, лежащих с протянутыми руками на улицах вдоль стен домов.
— Это все дядино… — говорит она, смущенно разводя руками. — Строго-настрого приказал беречь… Пригрозил убить…
Баджи внимательно разглядывает Сашу. То он кажется ей мальчиком, каким она помнит его но Черному городу, то взрослым мужчиной, которого видит впервые. Неужели этот солдат тот самый Саша, который жил во втором коридоре, играл с ее братом? Баджи кажется, что волосы у Саши посветлели, глаза стали еще более голубыми. Какой он красивый!
Саша, в свою очередь, внимательно разглядывает Баджи.
Она слегка закрывается платком. Не потому, что смущена, — нет! — но потому, что порядок такой: закрываться, особенно если мужчина слишком внимательно разглядывает тебя.
Саша помнит худенькую оборванную девчонку, шнырявшую целыми днями но заводу и улицам Черного города. Да, она очень выросла, лицом стала похожа на Сару, какой та была до болезни. Такие же красивые глаза, ресницы, брови.
— Выросла ты, Баджи, и похорошела, — говорит Саша.
— Да! — охотно соглашается Баджи.
— Тебе сколько лет?
— Четырнадцатый.
Подумать, как быстро идет время, как изменилась девочка! Верно, и он за это время изменился?
— Как ты узнала меня в этой одежде? — спрашивает Саша.
— Я тебя в любой одежде узнаю! — отвечает Баджи с уверенностью. — Даже если бы ты… чадру надел! — добавляет она и разражается звонким смехом в восторге от собственного остроумия.
— Не забыла меня, значит?
На лицо Баджи набегает тень.
«Не забыла?..»
Баджи запускает руку под подстилку, вытаскивает оттуда маленький сверток, молча протягивает его Саше.
Саша развертывает его. Книжка?
— «Пушкин», «Кавказский пленник», — читает он на обложке.
Сверху четким детским почерком написано:
«Сия книга принадлежит ученику 3-го класса Бакинского Михайловского училища Александру Филиппову».
И чуть ниже:
«Баджи — на память».
Весенний день, люди у заводских ворот, Баджи на арбе, отъезжающей в город, — возникает в памяти Саши.
— Спасибо, Баджи, — говорит он растроганно, — вижу, что не забыла!
Взгляд Баджи скользит по выцветшим пятнышкам крови на рваной обложке… Если бы Саша знал, как она дралась за эту книжку, как укусила за палец Шамси, как сидела в темном подвале, взаперти, одна, с разбитым в кровь лицом, прижав книжку к груди!.. Нет, она не расскажет ему! Зачем?..
— А ну, почитай! — попросила Баджи, указывая на книжку.
— Ты не поймешь, Баджи.
— Все равно почитай, прошу!..
Саша не смог отказать.
Прими с улыбкою, мой друг,
Свободной музы приношенье… —
прочел он вслух первые строки.
Он чувствовал неловкость. Зачем читать эти стихи — здесь, в старой Крепости, девочке-азербайджанке, с трудом понимающей русскую книжную речь? Зачем читать эти любимые строки, заранее зная, что девочка не поймет?

Но вскоре стихи увлекли Сашу, он не заметил, как дочитал поэму.
— Ну что, поняла? — спросил он, закрыв книжку.
Баджи виновато улыбнулась:
— Нет…
Саше стало досадно, хотя иного ответа он и не ждал.
— Чего же ты слушала? — спросил он.
Щеки Баджи вспыхнули.
— Красиво… Как песня!..
— Ну, хорошо, — сказал Саша, — я объясню тебе…
Он стал рассказывать сюжет поэмы.
Баджи слушала, подперев ладонями горячие щеки, не сводя глаз с Саши.
Так вот почему солдат в цепях!.. Так вот кто она, эта женщина!.. И вот о чем, подняв руки, плачет она на высоком берегу!..
Когда Саша рассказывал, как черкешенка бросилась в реку, на глазах Баджи блеснули слезы.
— Что ты плачешь? — спросил Саша.
Баджи не в силах была объяснить.
Он пытался успокоить ее:
— Ведь это сказка!
Но Баджи покачала головой:
— Нет, нет, это правда!.. Я знаю!..
Слезы катились по ее щекам неудержимо.
Стало темнеть. Саша поднялся.
— Ну, Баджи, мне пора. До свидания!
Они спустились во двор.
— Саша, — сказала Баджи, тронув его за руку, — отведи меня к брату — я забыла дорогу. — На лице у нее просительная улыбка.
— Отведу, — ответил Саша. — В первый же свободный день непременно отведу. А пока сходи-ка ты к теге Марии на работу — дома ее теперь не застанешь! — Он старательно объяснил, где найти тетю Марию — она, оказывается, теперь работает в городе. И, внимательно вглядываясь в Баджи, спросил: — Поняла?
Баджи кивнула: не такая она глупая, чтоб не понять! Саша улыбнулся. Улыбнулась в ответ и Баджи… Ах, Саша! Какой он хороший, добрый! Все готова она сделать для него!..
Саша вышел из дома Шамси со всеми предосторожностями, но Дилявер-хала, сидя в засаде, все же заметила его.
Так вот, оказывается, какова девчонка: русских солдат к себе водит! Верно, и тот, долговязый, приходил сюда к ней на свиданье. Ну и племянницу привез Шамси из Черного города! Она, Дилявер-хала, порадует дядюшку, когда тот вернется. А она еще брала финики из лап этакой девки! Тьфу, гадость! Кто мог знать? В доме верного сына аллаха — русский солдат!
Детский сад
Они долго и горячо обнимают друг друга.
— Ну и выросла ты, Баджи! — говорит тетя Мария, отступая на шаг и оглядывая гостью с головы до ног.
Все об одном! А как же ей не расти? Ведь она живой человек!
Они стоят, окруженные малышами. Это сироты, оставшиеся беспризорными после мартовских событий. Здесь, в маленьком детском саду, в помещении какого-то бывшего магазина, работает теперь тетя Мария. Кем? Всем, кем угодно: воспитательницей, няней, поваром.
— Плохо у нас с едой, — жалуется тетя Мария, беря на руки одного из малышей. — Пока сама не схожу в продовольственную директорию, продуктов не добьешься. А сегодня еще, как на беду, заболела помощница — не на кого оставить детей… Слушай, Баджи! Не в службу, а в дружбу — присмотри за детьми, пока я сбегаю в проддиректорию. Сумеешь?
Баджи улыбается. Она ли не сумеет?!. А кто, как не она, две зимы провозился с Балой?
Время обеда давно прошло, а тетя Мария не возвращается. Проголодавшиеся дети начинают хныкать. Один из них, черноглазый кудрявый малыш, поднимает плач на всю комнату. Баджи старается утешить его. Но вслед за ним принимаются плакать и остальные. Баджи стоит, окруженная двумя десятками голодных плачущих детей.
— Тише! — приказывает Баджи. — Сейчас буду с вами играть. А того, кто будет плакать, забавлять не стану. — Она делает строгий вид.
Дети, всхлипывая, стихают.
Баджи показывает им свою программу: «внутри ковра», «верблюда» и другие номера.
Дети смотрят с интересом. Лишь изредка раздается приглушенное всхлипывание или вздох.
Самый веселый номер программы — «пять хромых» — Баджи, как обычно, оставляет напоследок.
Смотрите, как переваливается с ноги на ногу малыш-толстяк, вроде ее племянника Балы. Глядите, как волочит ногу разбитый параличом старик-сосед. Обратите внимание, как ковыляет, стуча костылем, калека-нищий. А вот как трепыхают крылышки подбитого воробья. Смотрите, смотрите, как, поджав лапу и визжа, подпрыгивая, бежит бедняжка-собака, в которую мальчишка запустил камнем!
Взгляды ребят прикованы к Баджи. Голод на время забыт.
Баджи, в свою очередь, довольна ими: есть здесь, кроме ребят-азербайджанцев, армяне, русские, а вот поди ж — все ее хорошо понимают: умные, хотя и малыши!
Наконец приходит тетя Мария. В руках у нее каравай хлеба. Малыши, забыв о Баджи, устремляются к тете Марии.
Баджи обижена: она для них так старалась!.. Но вот хлеб съеден, и Баджи вновь испытывает удовлетворение — дети только и делают, что подражают ей: вот один переваливается с ноги на ногу: вот другой волочит ногу; третий стучит палочкой-костылем; четвертый машет руками, изображая раненого воробья; вот пятый визжит, изображая собаку с подбитой лапой… До самого вечера, к недоумению и беспокойству тети Марии, весь детский сад ходит прихрамывая.
На следующий день тетя Мария возвращается из продовольственной директории еще позже. Во время ее отсутствия, стремясь занять детей, Баджи танцует, поет. Зрители снова в восторге. И снова голод на время забыт.
Однажды тетя Мария возвращается с заплаканными глазами — она не получила ни хлеба, ни крупы.
Дети хнычут, стучат по столу ложками, плачут. Баджи пытается их унять, пуская в ход всю свою изобретательность. Тщетно: дети видят, что тетя Мария пришла с пустыми руками.
— Что ж теперь делать? — говорит тетя Мария в отчаянии.
Лицо Баджи сосредоточенно.
— Я знаю! — отвечает она и спешит к выходу.
Тетя Мария смотрит ей вслед, покачивая головой.
Она знает? В городе — ни крупинки!..
Стоя в подвале перед большим мешком, Баджи пригоршнями набирает рис, наполняет им корзинку. Что скажет дядя Шамси? По головке за это, конечно, не погладит!
Баджи удается проскользнуть мимо Дилявер-халы, но на углу она встречает Таги.
— Дай подсоблю! — говорит он и, не дожидаясь ответа, берет корзинку из рук Баджи.
«Еще наябедничает дяде…» — думает Баджи, искоса поглядывая на Таги, но корзинки не отнимает — поздно!
Баджи и Таги приходят в детский сад.
— Вот кого я сто лет не видела! — радостно восклицает тетя Мария, протягивая Таги руку.
— Вещь, говорят, хороша новая, а друг — старый! — отвечает Таги, ставя корзинку на пол и обеими руками пожимая руку тете Марии.
Тетя Мария заглядывает в корзинку. Рис? И так много? Вот это замечательно!
Положив на ладонь щепотку риса и перебирая его пальцами другой руки, Баджи с видом знатока изрекает:
— Белый, крупный, продолговатый — высший сорт, ханский.
Она ждет похвалы. Разве она не заслужила? Но неожиданно лицо тети Марии становится строгим.
— Где ты взяла?
Баджи понимает смысл вопроса: не украла ли она этот рис? Она молчит.
— Наверно, у дяди взяла?
Снова молчание: думайте что хотите!
Думать, однако, тете Марии некогда: плач малышей переходит в рев, и она поспешно насыпает рис в кастрюлю.
Таги стоит подле тети Марии. Лицо у него худое, потемневшее от солнца, виднеющаяся из-под расстегнутой рубахи влажная от нота грудь — впала. Плохо, очень плохо стало с едой.
— Дай-ка, я тебе отсыплю немного, — говорит тетя Мария, берясь за корзинку.
— Оставь лучше сиротам, — отвечает Таги, отводя глаза от риса.
— Хватит всем. Ну?..
Таги снимает папаху. Белые крупные зерна риса сыплются в старую засаленную папаху, застревают во влажных складках.
— Дай бог здоровья тебе и твоему сыну Саше! — говорит Таги с чувством.
— Не меня благодари, а ее! — отвечает тетя Мария, кивая на Баджи.
— И ей и ее брату Юнусу дай бог здоровья!.. А над отцом и матерью их да будет вечный мир.
— Хорошие были люди, — говорит тетя Мария, вздыхая.
— Лучших людей я на своем веку не видел. — В глазах Таги глубокая печаль.
Баджи смотрит на Таги. Так вот, оказывается, каков он, этот амбал! А она думала, что он только и знает, что тяжести таскать да шуточки отпускать.
— Насыпьте ему, тетя, полней — я еще принесу, — тихо шепчет Баджи на ухо тете Марии, но Таги слышит ее.
— Дай бог тебе доброго мужа! — говорит он растроганно.
— Замужняя равно стонет, что и девица! — отвечает Баджи, как принято в таких случаях отвечать, сама, впрочем, не слишком вдумываясь в смысл этих слов.
Каша сварена — аппетитная, вкусная, но Баджи не удовлетворена.
— Из такого риса надо варить не кашу, а плов! — замечает она критически.
— А кишмиш и масло нам с неба, что ли, упадут? — спрашивает тетя Мария с усмешкой.
С неба? О нет — кишмиш и масло пока существуют и на земле!
Стоя в подвале перед ящиком, Баджи отламывает тяжелые слежавшиеся куски изюма, бросает их в корзинку. Затем она отливает из пузатой глиняной посудины топленое масло. Пусть сироты едят, пусть угощаются! Пусть знают, какая она ловкая! Баджи уже вкусила сладость успеха у малышей, и добрые чувства — искреннее желание накормить малышей, помочь тете Марии переплетаются у нее с тщеславием. Что скажет дядя Шамси! Ну его, дядю! Может быть, он и вовсе не вернется?..
В кухне детского сада Баджи стоит с засученными рукавами, с двумя полотенцами накрест через плечо — как настоящий повар и готовит плов. Она чувствует себя в роли Ана-ханум. Тетя Мария низведена сегодня на роль помощницы.
Жирный, рассыпчатый, сытный азербайджанский плов!
Баджи наблюдает за перемазавшимися, облизывающимися малышами. На этот раз она вполне удовлетворена.
Но вдруг у нее мелькает мысль: если б отец узнал, что она ворует, он бы ее убил!
Ворует?
Она знает, что воровать дурно. Но вот, стоит взглянуть на сытых, довольных детей, и оказывается, что это не так уж дурно.
А может быть, это вовсе не воровство?
Вывозят же теперь из магазинов богачей добро, чтоб раздать бедному люду, и многие не называют это воровством. Вот и тетя Мария говорила: одно дело — брать для себя, другое — для бедных голодных детей. Это другое теперь называется «реквизиция». И только богатые называют это по-прежнему воровством.
И еще тетя Мария говорила, что несправедливо, чтоб богатые имели все, а бедные — ничего, и что богатые стали богатыми нечестно; значит, отнимать у них богатство — справедливо. Какая, в самом деле, польза, если рис и кишмиш будут лежать в подвале, пока не сгниют или пока их не пожрут крысы? Вот она и произвела у дяди Шамси маленькую реквизицию. Эта мысль приводит Баджи в восторженное состояние. Пусть посмеет кто-либо сказать, что она ворует! Просто — маленькая реквизиция!
Каждый день с утра приходит Баджи помогать тете Марии, принося что-нибудь из продовольственных запасов Шамси.
Тетя Баджи пришла! — радостно кричат ребята, бросаясь к ней навстречу.
— Да отстаньте вы! — отмахивается от них Баджи. Но в глубине души она растрогана и польщена.
Странные дела творятся теперь с нею!
Прежде она возилась с одним Балой, и было это, признаться, трудновато. А теперь ей приходилось возиться с двадцатью крикунами, и они ей не в тягость. Прежде она мыла посуду на шестерых и проклинала тарелки и горшки. А теперь она моет посуду всего детского сада и не ропщет. Прежде она только и думала, как бы ей увильнуть от непосильной работы. А теперь она сама просит работы у тети Марии.
Почему так происходит? Наверное, потому, что работает она теперь по своей доброй воле и помогает той, кого любит, кого уважает, и потому, что нельзя не помочь этим сиротам-малышам…
Иногда тетя Мария заводит речь о Саше.
И тогда Баджи вся обращается в слух, хотя делает вид, что погружена в работу — тщательно вытирает посуду, внимательно перебирает крупу. Порой ей самой хочется заговорить о Саше, по она не решается. Боится она, что ли, тетю Марию? Но чего ей бояться, ведь та не станет ругать ее за это? Стыдится, может быть? Но чего ей стыдиться? Разве она целовалась с Сашей, как целуются другие девчонки с мальчишками? Аллах упаси! Почему ж, в таком случае, едва она хочет заговорить о Саше, язык у нее словно прилипает к нёбу?..
Однажды приходит в детский сад женщина с портфелем, осматривает ребят, заглядывает во все уголки. Она шепчется с тетей Марией, время от времени бросает взгляд на Баджи. Перед тем как уйти, она подходит к Баджи.
— Это ты так хорошо помогаешь товарищу Филипповой? — спрашивает она приветливо.
— Я помогаю, — отвечает Баджи.
— Мы уже о тебе слышали, — говорит женщина, ласково улыбаясь.
— Я стараюсь, — отвечает Баджи, смущенная похвалой. Она берется за щетку и принимается с рвением подметать пол.
Новый декрет
Зал был украшен алыми флагами.
Было жарко, душно, запах нефти исходил от одежды собравшихся.
Юнус сидел, стиснутый с двух сторон, — справа от него сидел Арам, слева — незнакомый старик азербайджанец Взгляд Юнуса был прикован к трибуне, на которой стоял мужчина с небольшой темной бородкой, красиво очерченными бровями, глубокими внимательными глазами.
— Мною получено письмо от товарища Сталина, — начал Шаумян спокойным, негромким голосом, но в напряженной тишине явственно слышно было каждое слово. — Все, что в этом письме сказано, одобрил товарищ Ленин. И все, о чем заявлено в этом письме, является официальным, исходящим от Совета Народных Комиссаров… Затем мной получены еще три телеграммы от товарища Сталина… Так вот, товарищи, — голос Шаумяна окреп, и лицо его озарилось, — нанесен сокрушительный удар капиталистическому господину бакинской буржуазии, свершилось то, что всегда являлось мечтою и лозунгом бакинских рабочих… — Шаумян сделал движение вперед и, подняв руки, высоким взволнованным голосом возгласил: — Волей его величества бакинского пролетариата огромные богатства, созданные народным трудом, отняты у паразитов и переданы трудовому народу в лице его Республики Советов! Товарищ Сталин нам сообщает, что национализация нефтяной промышленности утверждена!..
Он не успел договорить — зал ожил, радостные возгласы на разных языках слились в один торжествующий гул: то, о чем еще так недавно не смели думать люди забитые, робкие; то, что в суровых буднях иным казалось досужей мечтой, сказкой; то, за что долгие годы боролись, проливая свою кровь, большевики, — осуществилось!
Выждав, пока шум стих, Шаумян продолжал:
— Я счастлив, товарищи, поздравить вас с победой!.. С поддержкой рабочих и крестьян всего Закавказья, с поддержкой российского пролетариата Бакинская трудовая коммуна укрепится здесь, в Баку, и явится освободительницей всего трудового народа Закавказья!
Зал снова восторженно зашумел:
— Да здравствует Бакинская коммуна!..
Едва Шаумян умолк, все, с шумом отодвигая скамьи, устремились к трибуне. Каждому хотелось быть ближе к тому, кто принес сегодня радостную весть, посланную трудовому народу Баку Лениным и Сталиным. У каждого вдруг возникло множество вопросов.
Юнус не сводил глаз с Шаумяна. Да, та же бородка, те же красиво очерченные брови, те же глубокие внимательные глаза. Они запомнились Юнусу с той поры, когда ему доводилось видеть Шаумяна у машиниста Филиппова. И сейчас лицо Шаумяна казалось близким, родным. Юнус смотрел на него почти влюбленным взглядом: ведь это он, Степан Георгиевич, всю жизнь боролся за счастье народа, осуществляя и его, Юнуса, мечты. Юнус протиснулся вперед, вплотную к Шаумяну, и вдруг неожиданно для себя произнес:
— Привет вам, Степан Георгиевич, здравствуйте!.. — Он хотел добавить «дорогой», но постеснялся.
— Здравствуй! — ответил Шаумян, вглядываясь в Юнуса.
Юнус понял, что Шаумян его не узнает.
— Вы к нам в Черный город ходили, на завод, к машинисту Филиппову, — напомнил Юнус.
— Да, да, конечно…
Казалось, Шаумян начинает что-то припоминать.
— Я сын Дадаша, заводского сторожа. Помните? — старался помочь ему Юнус.
— Дадаша? — воскликнул Шаумян обрадованно. — Так бы ты и сказал! Конечно, помню! Высокий такой, худой… Неужели ты его сын? — спросил он, окинув Юнуса удивленным взглядом: Юнус был на полголовы выше его. Не узнать того щуплого мальчугана, которого не раз видел он подле Дадаша.
— Я самый, — застенчиво улыбнулся Юнус в ответ.
— Эк тебя… подняло! — сказал Шаумян с добродушной улыбкой. — А как отец поживает?
Юнус опустил глаза.
— Убили его из кровной мести. Ножом в спину… Скоро три года.
Лицо Шаумяна стало серьезным.
— Не дожил отец твой до нашего торжества… — произнес он печально и покачал головой. — Жаль… Хороший был человек… — Шаумян задумался на мгновенье и затем добавил прежним тоном: — Выходит, мы с тобой вроде как земляки — черногородские!
Все вокруг слышали эти слова. Юнус почувствовал гордость.
— Спасибо, Степан Георгиевич!.. — сказал он растроганно.
Шаумян протянул Юнусу руку.
Руки Юнуса были запачканы нефтью — он пришел сюда прямо из буровой. Поспешно отерев ладонь о паклю, по промысловой привычке зажатую в кулаке, он в ответ протянул свою руку и ощутил крепкое пожатие.
Юнус и Арам возвращались домой вместе.
Вдруг кто-то тронул Юнуса за рукав. Он обернулся и увидел старика азербайджанца, сидевшего в зале рядом с ним.
— Скажи, сынок, кто этот человек, который рассказывал нам о новом законе? — спросил старик.
Юнус оглядел старика с недоумением: что еще за чудак? Целый час слушал и не знает, кого!
— Это Степан Георгиевич Шаумян, председатель Бакинского Совнаркома, чрезвычайный комиссар по делам Кавказа! — ответил Юнус.
Старик, видимо, не понял.
— Ты, я видел, с ним разговаривал, — сказал он. — Хорошо его знаешь?
— Мы с ним как земляки — черногородские! — ответил Юнус гордо.
— Земляки?.. — переспросил старик почтительно.
Арам взял его под руку.
— А ты сам из каких краев, старик? — спросил он. — Что-то я тебя в наших местах не встречал.
— Из Кир-Маки я, — вздохнув, ответил старик, — из Кир-Маки… Пешком пришел сюда — узнать, правду ли говорят, что у старых хозяев скоро отнимут промысла… У нас в Кир-Маки хозяева тычут кулаками в лицо тем, кто это говорит.
— С этого дня этим хозяевам конец! — подтвердил Арам. — Слышал, что говорил Шаумян?
Старик кивнул.
— Хороший он, я думаю, человек.
— А ты все ли понял? — спросил Юнус.
— Нет, не все. Можно сказать, половину не понял. Я человек темный, имя свое едва подписать умею. Из Кир-Маки я, сынок, пойми.
Арам замедлил шаг… Нигде на Апшероне нужда и гнет не были столь велики и жестоки, как в Кир-Маки: нефть там добывалась вручную, ведрами; платой за труд были хлеб и вода; жили рабочие в дощатых, пронизываемых ветром конурах… Бедный, забитый народ! Не в пример балаханцам или сабунчинцам! И даже теперь смеют там хозяева размахивать кулаками!
Но вслух Арам сказал:
— Кирмакинцы ваши еще весной пришли в исполком, заявили, что считают хозяев и их прислужников мусаватистов своими заклятыми врагами и будут вести против них беспощадную борьбу. Какие ж они темные? Да и ты, старик, вовсе не темный, если двадцать верст пешком прошел от Кир-Маки ради того, чтобы услышать правду.
— Кому ж, как не темным, ходить за светом? Я ради правды прошел бы во сто раз больше! — с жаром воскликнул кирмакинец.
Лицо Арама стало сосредоточенным.
— А я так, старик, думаю, что если кто пошел за правдой — тот уж оставил темноту позади! — сказал Арам.
— Правильно! — горячо подхватил Юнус: он и сам был невеликий грамотеи, но темным себя считать не хотел.
— Далекий он, этот путь к правде, для таких, как я… — вздохнул кирмакинец.
Арам ответил:
— Это если идти в одиночестве — путь далек. А если со спутниками, с товарищами — то не так уж и далеко. Правда, спутников надо выбирать осмотрительно, не то сведут на бездорожье, вовек потом на хорошую дорогу не выберешься!
Они подошли к воротам «Апшерона».
Двое рабочих, взобравшись на лестницу, снимали с ворот вывеску, на которой под словом «Апшерон» вдвое крупнее была написана фамилия владельца промысла. Старая, заржавленная вывеска не поддавалась, и усилия стоявших на лестнице вызывали шутливые замечания со стороны собравшихся подле ворот рабочих.
— А где же найти таких хороших спутников? — спросил вдруг кирмакинец, погруженный в мысли о том, что слышал сейчас от Арама.
— Где найти?.. — переспросил Арам, но в эту минуту вывеска сорвалась и грузно шлепнулась оземь, обдав людей ржавой трухой и пылью.
Послышались возгласы одобрения.
— Приходи почаще к нам — здесь найдешь! — сказал Арам уверенно и, кивнув на вывеску, поверженную в пыль, добавил: — И друзьям своим кирмакинцам, пославшим тебя к нам за советом, расскажи, что ты видел здесь и что слышал.
— Расскажу! — взволнованно прошептал старик. — Расскажу!
Он попрощался с Арамом и Юнусом за руку, словно желая сказать, что нашел уже в них своих друзей, и решительно зашагал по дороге домой, в Кир-Маки.
Как и прежде, сидит Юнус в тесной тартальной будке, спускает желонку в глубину и ждет, пока, наполнившись нефтью, поднимается она на поверхность.
Но теперь мысли его заняты иным:
«От количества нефти, отправляемой из Баку, зависит участь Советской России… Рабочие Питера и Москвы смотрят на бакинцев с надеждой… От нашей нефти зависит судьба страны, судьба трудового народа, наша судьба…»
Но если так… Юнус пускает желонку быстрей… Быстрей, быстрей!.. Однажды он пустил ее с такой быстротой, что не успел опомниться, как она застряла в грунте. В другой раз, во время подъема, желонка перелетела через шкив и едва не разнесла старую вышку в щепы.
Юнуса вызвали в промыслово-заводский комитет.
— Мало тебе, что промысел разваливают прежние хозяева и их прислужники, — сам, видно, решил пойти по их дорожке? — строго встретил его Арам, даже не поздоровавшись.
Юнус нахмурился. Вот это Арам говорит совсем напрасно и несправедливо. Он, Юнус, хотел ускорить добычу. Чем он виноват, если эта проклятая желонка озорничает?
— С этими желонками… — начал было он оправдываться, но Арам прикрикнул:
— Нечего сваливать на желонки — не первый день тартаешь!.. Если еще раз допустишь подобное… — на лбу у Арама появляется грозная складка.
Не узнать добродушного Арама — совсем другой человек! Но Юнусу нравится эта строгость: Арам и впрямь действует по-хозяйски. А ведь сейчас именно так и следует действовать рабочему человеку на промыслах.
И Юнус покладисто отвечает:
— Постараюсь поосторожней!.ю
Смягчается и Арам:
— То-то же!.. — Покопавшись в бумагах, он с обычной приветливостью добавляет: — Приходи ко мне вечерком пить чай, а сейчас возьми-ка ты эту книжку.
И вот эта книга в руках Юнуса:
«Тартание нефти. Теория и практика».
На досуге Юнус не расстается с книгой, что-то придумывает, чертит, рассчитывает — пытается усовершенствовать, ускорить процесс тартания.
Не так это просто для парня в восемнадцать с половиной лет, едва овладевшего русской грамотой и не завершившего курс обучения в городском русско-татарском училище!
Юнус решил обратиться за помощью к инженеру Куллю. Кто, как не инженер, может помочь в таком деле? И хотя Кулль на встрече с делегатами из Совнархоза выступал против национализации, к нему, к Юнусу, он как будто всегда относился с симпатией и даже нередко расхваливал за сноровку в работе. Ко всему, с недавних пор Кулль сменил свою инженерскую фуражку с кокардой на серую кепку и теперь казался Юнусу более доступным, чем прежде.
Юнус пришел к Куллю в промысловую контору, в кабинет, молча подал листок бумаги, на котором изображена была схема ускорения процесса тартания, но Кулль, бросив косой взгляд на листок, только поморщился:
— Что это еще за чепуха?
— Я хотел увеличить добычу. — пробормотал Юнус смущенно и принялся объяснять свою схему.
— Этими делами на промысле занимаюсь я, инженер! — перебил Кулль. Он кивнул на тщательно вычерченные схемы и чертежи, висевшие на стенах. Как не похожи были они на замасленный грязный листок с каракулями, поданный Юнусом!
— Все же вы меня выслушайте… — снова начал Юнус, но Кулль опять его перебил:
— Я в твою тартальную будку не лезу, ну и ты, будь добр, в мои дела не суй нос!
Юнус не сдавался.
— От количества нефти, отправляемой из Баку, зависит участь Советской России, — начал он в третий раз и на этот раз высказал свои мысли до конца: должен же инженер Кулль понять, как важно сейчас ускорить процесс тартания.
Кулль смотрел на Юнуса с удивлением: мальчишка, а тоже — туда же!
— Опять политика… — сказал он, вздохнув. От него пахло водкой.
Юнус поморщился, но спокойно ответил:
— Представитель райкома товарищ Газанфар, помните, говорил, что теперь каждый занимается политикой.
Кулль вспомнил, как отчитал его Газанфар на встрече с делегатами, и вспыхнул:
— Ну и занимайся ею, если умеешь! А меня учить нечего, молод еще!..
Кулль снова взял в руки листок Юнуса и задержал на нем свой взгляд: мысль, которую хотел Юнус выразить в схеме, показалась Куллю интересной, хотя и наивной.
— Был бы ты по-настоящему грамотным — толк бы, может быть, из тебя вышел… А так — это все ни к чему!
Выходя из конторы, Юнус в сердцах хлопнул дверью и пробормотал:
— Ты вот больно грамотный, инженер Кулль!.. Только и знаешь, что нить водку, а толку от тебя рабочему человеку ни шиша!..
Дорога к брату
Идя с узелком в руке рядом с Сашей, Баджи старалась запомнить дорогу. Мясная лавка… Лужа… Проволочная ограда… И наконец — ворота.
Несколько дней назад она снова решила найти Юнуса, не дожидаясь, пока Саша поедет с ней на промыслы. Она добралась до промыслов и вот так же, как сейчас, шла с вокзала. Она долго блуждала в поисках «Апшерона», запомнившегося ей по большой ржавой вывеске над воротами. Тщетно: вывеску точно унесло ветром.
Теперь все стало ясным: Саша объяснил, что вывеска с недавних пор снята.
Подойдя к воротам, Баджи огляделась. Теперь она вовек не забудет дороги к брату!
При виде знакомой высокой фигуры, показавшейся невдалеке у вышки, Баджи ускорила шаг. Долговязый? Вот дура Языкастая! Не долговязый он, ее брат, а высокий и стройный, каким и должен быть настоящий мужчина!
Юнус, завидя гостей, бросился к ним навстречу.
— Баджи!.. — повторял он взволнованно, прижимая ее к груди. — Сестра!..
— Юнус… — шептала она в ответ с нежностью. — Брат!..
Когда волнение улеглось, Баджи кивнула на Сашу:
— Это он меня привел сюда, ему — спасибо!
— Сашка? — воскликнул Юнус удивленно. — Как ты нашел ее? А я-то ведь думал, что ее нет в городе, уехала с Шамси. А ну, рассказывай!..
Саша все рассказал.
В ответ Юнус обнял Сашу и сам стал рассказывать о том, как он мечтает жить вместе с сестрой, выполнить клятву, данную перед мертвым отцом. Одна она у него осталась из всей семьи — сестра!..
Баджи слушала молча. Никогда еще о ней так не говорили! Порой ей казалось, что речь идет не о ней, а о каком-то другом человеке — важном, значительном.
«Брат любит меня!» — ликовало в ее душе, и любовь брата, казалось ей, возвышает ее в глазах Саши.
— Надо вам теперь устроиться жить вместе, — сказал Саша, когда Юнус умолк.
— Надо! — ответил Юнус решительно. — Надо!.. Пора нам дышать одним воздухом, делить хлеб пополам. Хочется мне обучить сестру грамоте, вывести в люди.
Баджи уже верила, что так оно и будет, но все же с опаской осведомилась:
— А где тот дурной человек, который не позволил мне у тебя ночевать, помнишь?
— Приказчик, что ли? — спросил Юнус.
Баджи ответила:
— Министрац.
Юнус рассмеялся и пояснил Саше:
— Она хочет сказать: администрация! — Повернувшись к Баджи, он сказал: — Выкатили его на тачке!.. — и для большей наглядности провел рукой низко над землей и дерзко присвистнул: — Фю-ить!.. Только и делал этот дашнак, что сеял рознь между армянами и а азербайджанцами, — добавил он. — Жаль, что пришлось его снова принять на промысел — рабочие руки нужны. Только теперь твой Министрац никакой власти не имеет.
Баджи удовлетворенно кивнула: теперь уже никто не разлучит ее с братом!..
Юнус повел Баджи и Сашу к Араму — таким гостям не место в казарме для бессемейных! У Арама тоже не бог весть какие палаты, но все же — семейный дом. Кроме того, он, Юнус, так много рассказывал Араму о Саше — пора им наконец познакомиться.
В доме Арама гостей встретили радушно: Розанна, Сато и маленькая Кнарик расцеловались с Баджи, как с родной. Арам, на счастье, оказался дома. Он долго и крепко жал руку Саше — вот, оказывается, каков этот Саша, о котором прожужжал все уши Юнус! Тотчас был накрыт стол, появилось даже красное вино. Времена, правда, были трудные, но если уж угощать — так угощать, как велит добрый кавказский обычай: на славу!
Арам шепнул Сато, чтоб сбегала за Газанфаром, но не успела та выйти, как появился сам Газанфар.
— Вот это ты, друг, очень кстати! — обрадованно воскликнул Арам, идя навстречу гостю и обнимая его обеими руками.
Араму всегда казалось, что Газанфар приходит «очень кстати», и Газанфар не упускал случая, чтоб добродушно не пошутить в ответ:
— Это не я, мой друг, пришел очень кстати, а твоя Розанна очень кстати накрыла такой красивый стол как раз к моему приходу! — Он хотел любезно добавить: «Вот что значит иметь хорошую жену!» Но спохватившись, что слова эти могут навести Розанну на любимую тему об его женитьбе — в который-то раз! — благоразумно промолчал.
Все уселись за небольшим столом, тесно прижавшись друг к другу. Розанна разложила угощение по тарелкам, Сато ей помогала, Арам налил вино в стаканы.
— Можешь снять чадру, — шепнул Юнус, наклонившись к Баджи. — Здесь все свои люди, все равно что близкие родственники. Не стесняйся!
Чадра уже давно сползла с головы Баджи на плечи, но услышав слова Юнуса, она сбросила ее и с плеч старшин брат не станет учить сестру дурному! Вот ведь сидят без чадры Розанна и Сато — и ничего!
Впервые в жизни сидела Баджи за одним столом с мужчинами, не пряча лица, как равная с равными; впервые в жизни потчевали ее столь же заботливо и радушно, как остальных.
Арам поднял стакан:
— За дорогих гостей!
Гордость охватила Баджи: это не только Юнусу, Саше и Газанфару, но и ей, Баджи, оказывают такой почет!
Гости в ответ подняли стаканы за хозяев.
— Может быть, и ты, сестра, с нами выпьешь? — спросил Юнус, подмигнув. — Ты ведь у нас старая пьяница, помнишь у Теймура?
Баджи весело рассмеялась: помнит, конечно, но не такая она дура, чтоб снова заработать тумак!
— Я и без вина изображу вам пьяного не отличите от настоящего! — ответила она лукаво.
— А ну? — подзадорил ее Арам.
Баджи взглянула на брата: можно?
Юнус кивнул:
— Так и быть, показывай!
— Ну, в таком случае — смотрите!..
И это уже не Баджи, а какой-то веселый гуляка-пьяница берет стоящий перед ним стакан. На самом деле Баджи стакана не берет, а только убедительно это изображает. Гуляка-пьяница любовно нюхает вино и выпивает. Лицо его при этом выражает блаженство, ноги расползаются…
Все смеялись до слез. Кнарик чуть не упала со стула. Едва переводя дух, Газанфар произнес:
— Тебе, Баджи, только бы в театре выступать — актриса!.. А ну, бей по руке!
После того как выпили за хозяев, Газанфар предложил:
— Выпьем, друзья, и за нашу сестру, за нашу Баджи!
Баджи охватил восторг: за нее, за Баджи, поднимают стаканы! Не было в эту минуту для Баджи в мире человека добрее и лучше, чем Газанфар.
Юнус, в свою очередь, предложил:
— Хочу я также выпить за моего друга Сашу. Помнишь, Саша, отец мой наказывал: «Играй с Сашей, как с братом»?
— Помню, конечно… — ответил Саша и добавил: — Мой отец очень любил твоего, говорил, что Дадаш — честнейший человек.
Все смолкли.
— Умерли наши отцы, исчезли, словно и не было их никогда… — сказал наконец Юнус с горечью.
— Да… — вздохнул в ответ Саша.
Но Газанфар горячо возразил им:
— Неверно вы, друзья, говорите про ваших отцов, неверно! Отцы вам большое наследство оставили — славную память, завет братства!
— Другие на вашем месте давно бы побратались! — воскликнул Арам. — Не правда ли, Газанфар?
Газанфар кивнул:
— Хорошая мысль!
Юнус и Саша переглянулись. Побрататься? В самом деле — хорошая мысль!
— Я видел, как это делают, — сказал Саша. — Надо стать лицом на восток, обняться, дать друг другу обет вечного братства, обменяться крестами.
— А у кого креста нет? — спросил Юнус.
— Вот уж не знаю…
— А сам-то ты все еще носишь крест?
— Ношу.
— А говорил, что в бога не веруешь!
— Не верую, но крест ношу как память… — Повернувшись к Газанфару, Саша пояснил: — Когда я был маленьким, мой дед умер в ссылке, а крест завещал передать мне на память.
— За что деда сослали? — спросил Арам.
— За Обуховскую оборону.
— Такой крест носить не стыдно, — сказал Арам. — Только, друзья, дело не в кресте — разные народы по-разному братаются. У меня на родине, например, братались вином — обменивались стаканами.
Юнус и Саша переглянулись и, поняв друг друга, потянулись к стаканам. Вином так вином! Оба дали обет вечного братства, обменялись стаканами, выпили до дна, расцеловались.
— Теперь мы с тобой, Сашка, братья по гроб жизни! — воскликнул Юнус.
— Рано вам еще, ребята, толковать о гробах! — заметил Газанфар и крепко хлопнул юношей по плечам. — У вас вся жизнь впереди!
Арам нагнулся к уху Розанны:
— Откупорить бы надо еще одну бутылочку, жена!
Бутылочка в запасе у Розанны нашлась, ее раскупорили. Арам набил трубку табаком и готов был выйти в коридор покурить, но Розанна его великодушно удержала:
— Так и быть — кури уж здесь, ради дорогих гостей!
Баджи внимательно за всем наблюдала.
— Рада, наверно, что твой Юнус нашел себе брата? — шепнула ей Сато.
— Рада… Только боюсь, как бы он теперь не стал меньше любить меня, — шепнула ей в ответ Баджи.
Розанна услышала их разговор.
— Глупостей не болтайте! — сказала она строго. — Разве твои братья, Сато, мало тебя любили, хотя их было двое?
— А может быть, и тебе, Баджи, с Сашей побрататься? — с напускной серьезностью спросил Газанфар. — Парень он хоть куда!
Баджи прикрыла лицо руками. Поцеловаться с мужчиной? Да она убьет любого, кто к ней прикоснется! Но Баджи не хотелось обижать Сашу, и она неловко молчала, не зная, что ответить.
— Девушки не братаются, — ответила за нее Розанна. — Они сами собой становятся сестрами побратимов.
Баджи отняла руки от лица. Спасибо тете Розанне: выручила ее!
Газанфар встал:
— А теперь, товарищи, выпьем за нашу советскую власть, выпьем за нашу Бакинскую коммуну — пусть она всюду побеждает и торжествует!
Все встали вслед за Газанфаром:
— Ур-ра! Ур-ра!..
И Баджи вместе со всеми громко и весело закричала:
— Ур-ра!..
Осушили стаканы.
Юнус не привык к вину, но ему было стыдно отказываться: Сашу он укорял за крест, а сам не пьет, — подумают, что он соблюдает коран. Вино ударило в голову.
— Теперь уж никто не посмеет на нас напасть! — воскликнул он с жаром.
— Как знать! — спокойно возразил Газанфар.
— Почему же это «как знать»? Разве рабочие не разбили мусаватистов и всех других негодяев, кто был с ними? Разве красное знамя не вьется над Шемахой, Кубой, Сальянами, Ленкоранью, Джеватом — как я читал в газете? Разве теперь не Коммуна, не наша власть?
Газанфар помедлил.
— Есть у азербайджанцев поверье об одной породе змей, — сказал он. — Убьешь одну, а все остальные, пока не издохнут, будут мстить человеку, который ее убил. Вот в марте мы раздавили в Баку гнездо таких змей, и сразу же зашевелились их родичи и поползли на Баку. Имам Тоцинский со своей шайкой дополз из Дагестана до Хурдалан; помещик Зиатханов со своими головорезами — до Шемахи; князь Магалов с отрядом Закавказского сейма, с благословения грузинских меньшевиков и дашнаков, — до Аджикабула…
— А до Баку они все-таки не доползли! — вставил Юнус. — Советские отряды их раздавили!
— Раздавили, — признал Газанфар. — Но сейчас зашевелились большие опасные змеи, они уже сюда ползут…
— Кто ж эти змеи?
— Кто?.. — Лицо Газанфара помрачнело: — Все, кто хочет грабить нас, — Англия и Америка, Турция и Германия.
— Турция и Германия? — воскликнул Юнус удивленно. — Но ведь у нас с немцами мир, недавно подписали в Бресте?
— Мир, — ответил Газанфар, — мир… Но разве после подписания не заняли немцы половину Украины, Крым, не вышли на Дон? А теперь они подбираются и сюда, к нам, к нашей Коммуне, — уж очень немцам и туркам нравится запах нашей нефти. Помнишь, еще во время мартовского мятежа мусаватистам помогали военнопленные турецкие офицеры и солдаты? Так вот, послушай, что пишет наша газета.
Газанфар вытащил из кармана газету и прочел:
— «Партия «мусават» желала и желает отдать весь наш Кавказ на съедение Турции. Заговор «мусавата», вооруженный их набег — не просто авантюра и не случайная «ошибка». Это определенный курс и план, это — открытый наглый набег на революционную Россию, открытое выявление планов германо-турецкого штаба…» Понял?
— Выходит, что немцы и турки не только помогали мусаватистам, но вроде как бы подготовляли и направляли этот мятеж? — неуверенно спросил Юнус.
— Именно так! И сейчас турки движутся в нашу сторону по шоссе Караклис — Дилижан — Акстафа. Правда, пока они еще в Армении, но всякому ясно, что главная их цель — Баку. В Армении, говорят, дашнаки обязались предоставить в распоряжение турок железные дороги для переброски турецких войск в наши края.
— Прохвосты! — в сердцах воскликнул Арам.
— Что же до немцев, то несколько дней назад они высадили в Поти отряд в три тысячи человек; командует ими генерал фон Кресс, — добавил Саша. — Рассказывал один товарищ, грузин, что когда немцы вступили в Тифлис, на Головинском проспекте состоялся большой парад частей немецкой армии, его принимал посланник кайзера Вильгельма граф фон Шулленбург, а меньшевик Рамишвили приветствовал немцев и назвал их избавителями Грузии от внешних и от внутренних врагов.
— Такие же, видать, прохвосты эти меньшевики, как и дашнаки! — снова вставил Арам.
— Немцы хотят с помощью меньшевиков и прочих контрреволюционеров превратить Закавказье в свою колонию и посадить на «закавказский трон» сына кайзера Вильгельма принца Иоахима, — сказал Газанфар.
— Не надо нам ни кайзера, ни принца, ни дашнаков, ни мусаватистов, ни меньшевиков! — воскликнул Юнус. — Уничтожить нам надо всех этих змей!
— Правильно! — подхватил Саша. — Может статься, завтра-послезавтра нашу часть направят на это дело.
— Хорошее это дело! — вырвалось у Арама. — А мне здесь и в марте и после марта не довелось сцепиться с врагом — пришлось нести охрану на промыслах, следить за порядком.
— Скажи спасибо, что уследили! — сказал Газанфар. — Впрочем, наши ребята — молодцы: не поддались на провокации мусаватистов и дашнаков и были между собой дружны — все как один! — азербайджанцы, армяне, русские.
Слова Газанфара были справедливы, но Юнус, думая о своем, воскликнул:
— Счастливец ты, Сашка! Вот бы и мне с тобой на такое дело — в поход! Я бы там…
Он готов был продолжать, но Арам, спокойно попыхивая трубкой, возразил:
— На промыслах люди тоже нужны, сам знаешь! А у нас каждый рабочий готов сбежать в армию.
Арам, как член промыслово-заводского комитета, знал об этом достаточно хорошо.
— На промыслах пусть сидят старики, а нам, молодым, надо драться! — воскликнул Юнус и, вспомнив про револьвер Хабибуллы, в бездействии лежащий на дне сундучка, стукнул кулаком по столу так, что посуда задребезжала.
Все переглянулись.
— Много ты выпил, парень, — промолвила Розанна с мягкой укоризной.
— Молодым следует воевать! — воскликнул Юнус упрямо.
— Воевать… — повторила Розанна с грустью. — Мои двое молодых уже отвоевали… — Глаза ее увлажнились.
Газанфар откашлялся.
— Не можем мы, тетя Розанна, сидеть сложа руки, когда немцы и турки грозят уничтожить у нас советскую власть, пашу Бакинскую коммуну, отнять у нас свободу!
Он старался говорить возможно мягче — перед ним мать погибших сыновей, жена друга, — и все же в голосе его звучала непреклонность.
— У моих двух погибших немцам и туркам уже ничего не отнять… — возразила Розанна горестно и вдруг воскликнула со слезами: — Я войну ненавижу!
Все смолкли.
Сато вскочила со стула и, став за спиной матери, обняла ее за шею:
— Не надо плакать, мама… Не надо…
— Та война, Розанна, была другая, пойми… — начал Арам, но Розанна оборвала его:
— Для матерей нет хороших войн!
— Вот мы и хотим, Розанна, чтобы войн не было, — ответил Газанфар. — Хотим, чтоб наши враги нам войн не навязывали. Хотим, чтоб эта война была последняя.
— Последняя!.. — Розанна покачала головой. — Говорить красиво вы научились, а матери ваши в тоске по вас слепнут от слез!
— Обо мне некому плакать… — хмуро вставил Юнус.
Розанна бросила на него укоризненный взгляд.
— Некому?… — спросила она проникновенно. — А ей? — Она кивнула на Баджи. — Разве есть у твоей сестры кто-нибудь ближе тебя? Разве не выплачет сестра но тебе своих глаз, если с тобой случится беда? Некому!.. Не ты ли хныкал: «Плохо я ее защищаю»?.. Эх ты, брат!..
Хмель разом вылетел из головы Юнуса.
Только сейчас вспомнил он про Баджи, хотя она все время сидела рядом, не сводя с него глаз. Сестра! Впервые за годы разлуки есть у него возможность избавить сестру от труда служанки в доме недруга, зажить вместе с нею, осуществив давнюю свою мечту и выполнив клятву, данную перед мертвым отцом, и вот он сам готов эту возможность упустить.
— Но я скоро вернусь… — пробормотал он смущенно.
— Вернусь!.. — вздохнула Розанна. — Все вы так говорите… Рубен и Хачатур тоже так говорили.
— Баджи могла бы остаться у нас, — сказал Арам. — Ведь мы не чужие.
Баджи и Сато переглянулись.
«Не чужие…» — подумала Баджи, и мысль остаться жить в доме Арама представилась ей заманчивой. Не будет она больше, как пес, стеречь дом Шамси — отнесет ключи к его дальним родственникам; пусть поступают с ними как хотят! Она будет жить здесь, у дяди Арама, и помогать тете Розанне но хозяйству, а в свободное время она и Саго будут рассказывать друг другу сказки, учить друг друга песням и танцам.
— У тебя самого, Арам, четверо, хлеба едва хватает, — услышала она слова Юнуса.
Арам махнул рукой:
— Где едят четверо — пятому хватит!
— Я попрошу мать, — сказал Саша. — Она любит Баджи и примет ее к себе. Будут вместе жить и вместе работать в детском саду.
— Тетя Мария это сделает! — сказал Юнус убежденно. — Слушай, Баджи… — продолжал он мягко. — Я на короткое время уеду и скоро вернусь, и тогда уже непременно возьму тебя к себе, и мы заживем, сестра, на славу!.. А пока… придется тебе, сестра, повременить, пожить у тети Марии. У тети Марии тебе будет хорошо!
Он уговаривал Баджи, как ребенка, ласково и вместе с тем смущенно, точно был перед ней виноват.
Баджи размышляла. У тети Марии? Что ж, с тетей Марией она в последнее время очень сдружилась в детском саду. У тети Марии ей в самом деле будет хорошо! Не хуже, пожалуй, чем здесь, подле тети Розанны и Сато.
Но вдруг Баджи точно очнулась… Остаться жить здесь, у тети Розанны? Переехать к тете Марии? Но ведь Юнус обещал, что она больше не будет жить в чужих домах, а поселится вместе с ним, с братом… Немцы и турки? При чем тут они? Да Юнус просто не хочет, чтоб она у него жила! Хочет избавиться от нее, сплавить!
— Ни к кому я не пойду! — сказала Баджи. — Останусь в доме дяди.
— Как это не пойдешь? — спросил Юнус строго. — Я твой брат, прикажу тебе — и пойдешь!
Он еще приказывает!
— Какой ты мне брат? — сказала она, сдерживая слезы, — Не позаботишься о сестре. До сих пор угла своего не имеем. И я, как собака, сторожу чужой дом.
Все опешили. Юнус вскочил, опрокинул стул. Лицо его было бледно.
— Так вот ты какая… За брата меня не хочешь считать? — прошептал он, сжав зубы. Сейчас же уйди отсюда!.. Не то… — Он с трудом сдерживал себя.
Баджи отвернулась, стараясь скрыть слезы, молча вышла из-за стола, взялась за узелок, накинула на себя чадру.
Арам остановил ее.
— Почему ты не хочешь жить у нас? Разве мы тебя обидим?
Баджи молчала. Ей было стыдно: вот как она отвечает Араму на его доброту к Юнусу, к Саше, к ней!
— А у тети Марии разве тебе будет плохо? — спросил Саша.
Баджи хотелось броситься к Саше, ответить:
«Хорошо!.. Буду жить у тети Марии, буду ей дочерью, буду для нее все делать — помогать в детском саду, стирать, убирать, мыть посуду».
Но сердце ее было в тисках обиды.
— Ни к кому я не пойду, — упрямо повторила она.
Ее стали упрашивать Розанна и Сато.
— Ни к кому я не пойду! — со слезами в голосе твердила Баджи.
— Да чего вы с ней нянчитесь? — крикнул Юнус. — Пусть идет куда хочет! Научилась у дядюшки презирать нас! Такую сестру я знать не желаю!
Гнев пылал в глазах Юнуса, брови сдвинулись в одну темную полоску. Арам и Газанфар встретились взглядами и поняли друг друга. Да, сейчас разговаривать с Юнусом бесполезно!
Баджи направилась к двери.
— Надо ее проводить, — сказала Розанна.
— Сама дойдет — ничего с ней не случится! — буркнул Юнус.
На кого был он зол? На сестру, не хотевшую с ним разлучаться? На самого себя — за то, что отпустил сестру жить к чужим людям? На злую судьбу, не желавшую дать ему выполнить клятву?
В дверях Баджи обернулась.
— Прощайте… — тихо сказала она, стараясь не смотреть на Юнуса.
Все, кроме брата, ответили ей.
— Приезжай к нам, Баджи, хоть в гости, — сказал Арам вставая.
— Почаще приезжай! — тепло добавила Розанна.
А Сато закивала головой, словно хотела сказать: помни, Баджи, мы с тобой друзья!..
Когда дверь за Баджи затворилась, наступила долгая тишина — каждый был занят мыслями о происшедшем.
Неожиданно Газанфар спросил:
— А как у тебя, Юнус, с ногой?
Юнус небрежно ответил:
— Давным-давно все прошло!
Розанна усмехнулась:
— Как же это «давным-давно», если ты до сих пор ковыляешь? Да вот и сейчас — полюбуйтесь!.. — И она указала под стол: на полу валялся сапог Юнуса, снятый с больной ноги.
Юнус метнул на Розанну недовольный взгляд: любят женщины совать свой нос куда не следует!
Но Газанфар решительно заявил:
— С такой ногой идти в поход нельзя! Она у тебя разболится в тот же день, как тронетесь, и ты станешь только обузой для других. Найдется для тебя работа и на «Апшероне»!
Юнус пытался возражать. Тщетно! Разке такого человека, как Газанфар, переспоришь? Пришлось Юнусу покориться.
Газанфару стало жаль его.
— Читал я где-то… — начал он. — Жил один добрый народ, искусно строил красивые дома, дворцы, города. А соседний злой царь хотел эти дома, дворцы, города разрушить и сжечь дотла. Ну и пришлось народу доброму строить, держа в одной руке молоток, а в другой — меч.
— И народ тот добрый, надо думать, победил? — вставил Юнус.
— Разумеется, победил! Не может не победить народ, если в борьбе с врагом молот и меч будут у него действовать в согласии.
— Так ли тебя понимать, что один, вроде Саши, должны сейчас воевать, а другие, вроде меня, работать? — спросил Юнус.
— Именно так! Алеша Джапаридзе прямо говорит: бакинские рабочие должны одной рукой бороться со всеми контрреволюционерами и турецкими империалистами, а другой добывать необходимую для всей России нефть.
— Ну, если так… — Юнус повернулся к Саше. — Обещай мне, Сашка, что будешь воевать не только за себя, но и за меня!
— Обещаю! — серьезно ответил Саша.
— Тогда и я тебе обещаю работать не только за себя, но и за тебя! — завершил Юнус удовлетворенно.
Они ударили по рукам.
А Баджи между тем одиноко брела к вокзалу в досаде на себя и на весь мир.
В голове у нее роились мысли. Что это еще за немцы и турки? Из-за них, проклятых, она снова разлучена с братом. Турок она уже видела однажды — пленных. А немцы — что за люди?
Проходя мимо мясной лавки, Баджи увидела в дверях мясника и, вспомнив жилистую баранину, зло усмехнулась: «Перина шахской жены!..»
Вот обманщик проклятый — всучил падаль вместо баранины! И чего это люди так много лгут? Лгал Шамси, лгал Хабибулла, лгали Ана-ханум, Ругя, Фатьма. Лгала частенько и она сама… Неужели обманывает ее брат Юнус?
— Баджи! — услышала она вдруг позади себя голос
Сато.
Баджи ускорила шаг.
— Баджи!.. Остановись!.. — раздался вслед голос запыхавшейся Розанны.
Баджи стало стыдно. Она остановилась.
— Как все нехорошо получилось… промолвила Розанна, подходя. Она тяжело дышала. Лицо ее было расстроенно. — Ну, ничего. Она ободряюще похлопала Баджи но плечу. — Отойдет у тебя горячее сердце, успокоишься и поймешь, что зря злишься на брата. А это тебе на обратный проезд — денег-то ведь у тебя нет… — Сунув в руку Баджи деньги, завернутые в бумажку, Розанна пошла назад.
— Не забывай нас! — сказала Сато и пошла за Розанной, оборачиваясь и провожая Баджи взглядом.
Баджи продолжала путь.
Она развернула бумажку с деньгами. Денег было много, больше, чем стоил проездной билет. Спасибо тете Розанне!.. Но вдруг Баджи нахмурилась… А что, если это дал Юнус? Пожалел? Не надо ей жалости ни от кого! Она хотела швырнуть деньги в придорожную канаву.
Скорей уйти отсюда! Забыть эту мясную лавку, эту лужу, эти проволочные ограды, эти ворота — забыть дорогу к брату навсегда!
Логово змей
В один из майских дней через мутные воды Аракса переправился с персидского берега в Азербайджан командующий турецкой армией на Кавказе генерал-лейтенант ферик Нури-паша со своим штабом и охраной из конных аскеров.
Путь паши лежал через Нагорный Карабах. Извилистая дорога пролегала среди покрытых зеленью гор и цветущих долин. Овцеводы с месяц назад перегнали скот на предгорья, и живописные стада и кочевья поднимались теперь к сочным высокогорным пастбищам.
Дорога эта издревле славилась своей красотой, но паша не задерживался, чтоб ее созерцать, и чем ниже спускался он с зеленых нагорий в сухие низины, к серой пыльной степи, тем внимательней всматривался в блекнущие пейзажи и тем оживленней становилось его угрюмое лицо.
Быть может, наша был лишен чувства прекрасного? Аллах упаси! Просто мысли его были заняты иным — он спешил в Елисаветполь, облеченный ответственной миссией: повести на Баку «кавказскую мусульманскую армию» — объединенные силы германо-турецких, мусаватских и меньшевистских войск.
Кого только не было сейчас в Елисаветполе!
Были здесь беки-землевладельцы, в страхе перед крестьянами сбежавшиеся сюда со всех концов Азербайджана. Были здесь бакинцы-нефтепромышленники, крупные домовладельцы, судохозяева, купцы, главари и рядовые мусаватисты, воины «дикой дивизии» и просто банды кочи — обломки разгромленных в марте, но не уничтоженных антисоветских сил.
Где ж, как не здесь, было находиться Хабибулле?
Земляки-помещики встречали его с распростертыми объятиями:
— Хабибулла-бек? Сколько лет, сколько зим! Надолго в наши края?
— Полагаю, не засижусь! — отвечал Хабибулла с многозначительной улыбкой, давая понять, что в ближайшее время немцы и турки двинутся на Баку, прогонят большевиков и можно будет ему, Хабибулле, туда вернуться.
Гостеприимство предписывало елисаветпольцам уговаривать своего земляка остаться подольше в родных краях, но что-то большее, чем гостеприимство, заставляло их понимающе улыбаться в ответ и восклицать:
— Дай-то бог!
И со всеми земляками-помещиками, не исключая тех, с которыми он в свое время не ладил, теперь Хабибулла нашел общий язык: стоит ли придавать значение детским ссорам! Он даже пролил слезу у свежих могил земляков-помещиков, которые были убиты во время крестьянских восстаний в январские дни и поминки по которым не удалось ему справить в дни мартовского мятежа.
Прибыл сюда в конце концов и Шамси с семьей и Абдул-Фатахом и поселился в одном из окрестных селений.
Вначале, настроенный Абдул-Фатахом, он был доволен, что далеко позади остался Баку, которым теперь управляли большевики. Но вскоре Шамси стал тяготиться изгнанием. Томимый бессонницей, тяжело ворочался он на чужой постели, и тревожные мысли роились в его голове. Что с его домом? Что с коврами? Разграбили, наверное, его дом, растащили ковры! Девчонка, надо думать, тоже руку приложила — из одного гнезда с братцем! И теперь, может быть, продает его добро, топчутся в его доме чужие люди. Плохо жить на чужбине! Хорошо, что рядом мулла: в нем одном утешение — есть с кем поговорить и посоветоваться; ведь не с бабами же, в самом деле, рассуждать в такое трудное время!..
Был здесь и Теймур.
Вместе с кочи, вооруженными до зубов, целыми днями слонялся он по городу в ожидании похода на Баку.
Однажды Шамси и Теймур встретились. Шамси знал цену Теймуру — не слишком почтенный человек! — но здесь, вдали от родного города, Шамси готов был видеть друга в любом бакинце. Они разговорились.
Теймур вспомнил дом Шамси в Крепости, подвал, полный оружия и тюков шерсти.
— Наверное, много ковров оставил в Баку? — спросил он сочувственно.
— Какая в наше время цена коврам? — уклончиво ответил Шамси. — Быть бы живу!
— А семья твоя с тобой?
— Где дерево — там и ветви его!
«Вот бы попасть сейчас в его дом, пощупать добро!» — подумал Теймур.
— Говорят, Баку скоро будет наш, — сказал Теймур.
— Будет! — ответил Шамси и подкрепил свой ответ словами Абдул-Фатаха: — Аллах не допустит, чтоб порядок вещей, испокон веков им установленный, был бы нарушен, а закон, этот порядок освящающий, попран большевиками!
На том бакинцы расстались…
С прибытием Нури-паши в Елисаветполь стан контрреволюции заметно оживился.
Из уст в уста восторженно передавалось, что Нури-паша является братом знаменитого Энвер-паши, друга германского императора, племянником храброго Халил-паши, разбившего англичан в Кут-эль-Амаре, и что сам Нури-паша — великий полководец.
Ферик Нури-паша! Имя это приводило в радостный трепет всех в антисоветском стане: оно сулило возврат земель, нефтяных промыслов и заводов, домов и пароходов — собственникам, власть — мусаватистам, разгул и легкую наживу — «дикой дивизии» и кочи. Паша был встречен здесь как мусульманский герой. Это не мешало, впрочем, и кое-кому из богатых армян встретить его хлебом-солью.
Немало радости доставило мусаватистам открытие школы прапорщиков. Отцы с умилением поглядывали на своих сынков, одетых в форму, похожую на турецкую. Да и как было не умиляться? Сыны да продлят дела своих отцов!
Но особенное ликование охватило весь этот антисоветский стан, когда на улицах Елисаветполя появились германские офицеры и турецкие регулярные войска. Это были части пятой дивизии, которая считалась одной из лучших в турецкой армии; за оборону наиболее угрожаемых участков Дарданелл часть эта получила название Дарданелльской. Войска маршировали по улицам Елисаветполя гусиным немецким шагом. Как жалко выглядели по сравнению с ними мусаватские части!
Стоя в разных концах города, Хабибулла, Абдул-Фатах и Теймур смотрели на проходившие турецкие войска. И у каждого из них в уме было одно и то же:
«Скоро вернемся в Баку!»
А Шамси сидел дома пригорюнившись: опять война! Кто знает, как обернется она для него?
Сыновья Гулама
А в Баку тем временем, внимая зову партии большевиков и Бакинского Совнаркома, готовясь к отпору непрошеным гостям, рабочие брались за оружие.
На многих промыслах и заводах значительная часть рабочих добровольно ушла в Красную Армию. На некоторых предприятиях число ушедших в армию доходило до половины всего числа рабочих. На одном из промыслов под ружье стала целая смена, на другом — стал весь коллектив. Почти два десятка тысяч своих сынов дал в эти дни Баку в ряды Красной Армии. Формировались новые воинские части. Все ждали грядущих событий.
С волнением и нетерпением ждал их и Газанфар, — военный разгром мусаватистов в Баку, в Шемахе, в Кубе, в Ленкорани и в ряде других мест вселял в него уверенность и звал к новым боям. Но случилось иное — в один из этих дней его вызвал губернский комиссар Мешади Азизбеков и предложил направиться в районы для проведения мобилизации крестьянского населения в Красную Армию.
В первую минуту Газанфар смутился… Для проведения мобилизации? Да любой крестьянин его засмеет, сказав: «А ты, друг Газанфар, почему сам не воюешь? Из тебя был бы солдат лихой!» Нет, ездить по селениям, по деревням и набирать крестьян в солдаты — это дело не для него!.. И хотя не в духе Газанфара было отказываться от поручаемых ему дел, на этот раз, помимо его воли, с губ сорвалось:
— Хотелось бы, Мешади, направиться в места более… серьезные!
Он имел в виду «более опасные», и комиссар его понял.
— Несерьезных мест, Газанфар, у нас сейчас не существует, — сказал комиссар, сделав ударение на «несерьезных». — Вспомни хотя бы Орта-Салахлы… С виду — мирное селение, а вот… — он развел руками. — Сам знаешь, кулаки-негодяи убили там прекрасного большевика Амир-Аслана… В другом месте убили нашего друга Балу-Ами… К слову сказать, и меня во время поездок по районам не раз готовы были угробить контрреволюционеры. В апреле, в селении Халам-джа́ едва не отправили на тот свет. Спасибо местным крестьянам-беднякам — отстояли меня… Так что, как видишь, Газанфар, несерьезных мест у нас сейчас не существует! — Он снова сделал ударение на «несерьезных».
Слова Азизбекова звучали убедительно.
— Ну как, Газанфар, согласен? — спросил он, вглядываясь в Газанфара, хотя уже знал, что тот не будет отказываться.
Он не ошибся.
— Как ты скажешь, Мешади, так и будет! — решительно ответил Газанфар. — Куда пошлешь — поеду. Постараюсь сделать все возможно лучше!..
Во многих селениях и деревнях побывал Газанфар, проводя мобилизацию крестьян в Красную Армию.
Как раз в эту пору издан был Бакинским советом декрет о конфискации бекских и ханских земель, и крестьяне спешили произвести запашки, словно для того, чтоб трудом своим освятить право на эти земли, добытые огнем и кровью.
Газанфар замечал, что в умах крестьян происходят разительные перемены, и если прежде многие крестьяне своей забитостью и покорностью напоминали ему Дадаша, то теперь все чаще встречались на его пути люди, своей волей и стойкостью напоминавшие ему
Гулама, восставшего против сельского старшины. Некоторые удивляли его пониманием самой сути происходящих событий.
Один рассуждали так:
— Если уйдут русские — к нам придут турки, и тогда сила ханов и беков возрастет, отнята будет у нас наша земля, и снова не станет житья от ханов и беков. Значит, чтоб сохранить нашу землю, надо нам идти рука об руку с Советской Россией против Турции, против беков, ханов, мусаватистов!
Другие, в согласии с ними, добавляли:
— Надо также идти рука об руку с крестьянами армянскими и грузинскими — сила наша от этого только возрастет. Напрасно стараются мусаватисты, дашнаки и грузинские меньшевики нас перессорить — нам с армянскими и грузинскими крестьянами делить нечего, разве только что делить счастье, выпавшее сейчас на крестьянскую долю, земли же хватит теперь для всех!
Третьи решительно заявляли:
— Дайте только нам оружие и обучите, как с ним обращаться — не поздоровится тогда туркам и немцам и всем, кто с ними заодно! Не смотрите, что мы землеробы и что руки наши за всю нашу жизнь держали лопату да мотыгу; если нужно будет — сумеем держать в руках и ружьецо!
Золотые слова!
Газанфар готов был обнять и расцеловать каждого, кто говорил так…
Побывал Газанфар и в своем родном селении.
Он прибыл сюда поздно вечером, когда все уже спали, и рано поутру, открыв глаза, он с удивлением увидел перед собой трех сыновей Гулама, сидевших в углу комнаты и, очевидно, дожидавшихся, когда он проснется.
— Что, друзья скажете? — спросил Газанфар, вставая и натягивая сапоги.
— Пришли мы к тебе, Газанфар, вернуть наш должок, — ответил Кямиль, старший сын Гулама.
— Должок? — переспросил Газанфар в недоумении. — Не помню, чтоб кто-либо из вас брал у меня взаймы.
— Должок этот особого рода… Помнишь, как ты защищал отца нашего Гулама от старшины и от полицейских?
Газанфар улыбнулся:
— Это я хорошо помню — у меня до сих пор рубец на спине красуется. Только к чему ты об этом сейчас вспоминаешь?
— А вот к чему…
Кямиль взял Газанфара за руку и вывел за ворота.
Там, на узкой сельской улочке, вьющейся между оградами, сложенными из камней, сидели на корточках, прислонившись к ограде, десятка три молодых сельчан. Некоторые жевали хлеб с зеленым луком и сыром, другие покуривали, третьи вполголоса беседовали между собой. Завидя Газанфара, они почтительно поднялись с мест, оправили одежду, подтянулись. Многие из них были Газанфару хорошо знакомы, кое-кого из молодых он помнил еще детьми.

Газанфар бросил вопросительный взгляд на Кямиля.
— Привели мы к тебе, Газанфар, тридцать наших односельчан, а с нами считай тридцать три. Хотим служить в Красной Армии советской власти, — пояснил Кямиль.
Все сельчане разом заговорили, подтверждая его слова.
— Надеемся — не откажешься? — спросил средний сын, лукаво улыбаясь. Застенчиво улыбнулся и младший.
— О нет! — ответил Газанфар. — Лучшего подарка вы, друзья, и придумать бы не смогли, если б и захотели!.. — Он дружески обнял Кямиля, затем среднего и младшего и с чувством добавил: — Порадовался бы ваш отец на таких сыновей, если б остался он жив!..
Все утро приходили сельчане, просились в Красную Армию. Газанфар с каждым в отдельности беседовал, отвечал на вопросы, разъяснял положение. К вечеру отряд в сто с лишним человек был сформирован.
Кто-то спросил:
— А как мы, друзья, назовем наш отряд?
Один из бойцов предложил:
— Слыхал я, что отряды называют теперь именами хороших людей. Может быть, и нам назвать отряд именем какого-нибудь хорошего человека.
Мысль показалась правильной.
— Давайте назовем его именем Газанфара! — крикнул кто-то, и все одобрительно зашумели:
— Да, да, Газанфара!
— Мы его давно знаем!
— Он — наш земляк и хороший человек!
Газанфар решительным жестом остановил их.
— Нет, товарищи, нет!.. — сказал он. — Спасибо вам за честь и за доверие, но имя мое для вашего отряда не подходит, — еще ничего не сделал я для родного селения… Лучше и правильнее было б назвать отряд именем Гулама: Гулам первый из нашего селения поднял руку на врагов, бился со старшиной и с полицейскими и сослан был за это в Сибирь, где и погиб. А теперь его сыновья собрали отряд для новых боев с врагами. Гулам — вот имя, которое достойно отряда!
Все переглянулись, заговорили… Пожалуй, Газанфар прав… И только сыновья Гулама молчали: лестно, конечно, чтоб отряд был назван именем отца, но не им, сыновьям, высказывать свое мнение в таком вопросе — пусть решают другие.
И другие, коротко потолковав, решили:
— Назвать отряд именем Гулама!
— Что ж, — сказал Газанфар напоследок, обводя лица сельчан дружеским взглядом, — это, мне думается, очень хорошее название для отряда: то, что начал Гулам, но чего не смог довершить, сраженный врагами, довершат бойцы вашего отряда и сыновья покойного доблестного Гулама.
С мечом в руке
Отстоять советскую власть в Баку и распространить ее на весь Азербайджан можно было не иначе, как разгромив основные силы мусаватской контрреволюции и германо-турецких войск.
С этой целью в начале лета советские части выступили из Баку и решительно двинулись вдоль линий Закавказской железной дороги на запад, на Ганджу — так теперь стали называть город Елисаветполь.
С одной из воинских частей продвигался и Саша.
Не узнали бы его сейчас старые друзья, если бы повстречали! Новенькая необмятая гимнастерка топорщилась, широкие парусиновые обмотки упорно сползали на непомерно большие солдатские башмаки, фигура стала приземистой и неуклюжей. Впрочем, винтовка за плечами, патронные ленты на груди, подсумок и походная фляжка придавали Саше воинственный вид.
Мысленно Саша был еще в Баку — он вспоминал о матери, о том, как, расставаясь, обещал ей вернуться с победой… Мать осталась сейчас в городе одна… Правда, в детском саду она окружена своими любимцами-малышами, тосковать ей сейчас не приходится — слишком много у нее забот и хлопот!
Лето в том году было раннее, знойное. Яркое июньское солнце палило, слепило глаза, пыль вздымалась от солдатских ног, шагавших по дороге вдоль железнодорожного полотна, и забивала горло; красноармейцы часто прикладывались к фляжкам с водой; уже не раз присаживались отдохнуть на чахлую травку по обочинам дороги.
«Когда же мы схватимся?» — думал Саша, с тоской вглядываясь в степную серую даль.
Ждать пришлось недолго; уже на второй день похода советским авангардом занята была станция Сатиры, а на третий день после короткого боя с конницей врага — Кюрдамир, станция и село. В бою, правда, Саше участвовать не пришлось — часть его оставалась в резерве, но наблюдать бой ему все же довелось.
«Кто знает, когда и где придется пролить свою кровь и мне?» — думал он, с волнением и нетерпением следя за ходом боя.
Густое облако пыли, убегающее на запад, — вот все, что осталось от вражеского отряда, оборонявшего Кюрдамир. Не устояли они против красноармейцев, эти конники «дикой дивизии» с гордым князем Магаловым во главе, так лихо гарцевавшие недавно на парадах в своих добротных бешметах и дорогих папахах, с развевающимися концами башлыков, с шашками, украшенными серебром!
…Сводки с фронта взволнованно обсуждались людьми, оставшимися на «Апшероне». Рабочие собирались кучками, спорили, строили планы.
— Ты смотри, как наши идут! — с радостным возбуждением восклицал Юнус, следя по карте за продвижением советских войск на запад и обводя занятые советскими войсками пункты красным карандашом. Он досадовал, когда на маленькой карте не находил того или иного пункта: так хотелось обозначить его красным кружком!
— Молодцы! — разделял его восхищение Арам. — Нелегко проходить по этим местам — степь, безводье… Думаю все же, что наши не будут задерживаться в Кюрдамире… Интересно, как пойдут они дальше? — И Арам принимался высказывать соображения о ходе дальнейших военных действий: в нем просыпался старый солдат, участник сражения под Мукденом.
Отступая, мусаватисты угоняли крестьянский скот и заставляли крестьян уходить на запад, чтоб не дать им собрать хлеб для Баку. Поля уже колосились, и больно было проходившим красноармейцам смотреть на безлюдные, палимые солнцем нивы, осиротевшие, обреченные на гибель хлеба. Отступая, враг сжигал села, разрушал железнодорожные мосты, отравлял колодцы, но советские части упорно и неуклонно продвигались вперед, на запад, полные веры в победу.
И все же были в советских войсках люди, среди которых царил иной дух. Встречались они обычно в тех частях, куда проникало влияние меньшевиков и эсеров, особенно в батальонах, в которых командный состав насчитывал немало бывших офицеров царской армии, дашнаков.
Дисциплина здесь была низкая, воли к борьбе и к победе не ощущалось. Здесь то и дело возникали разговоры о том, как сильны немцы, турки и мусаватисты, как жестоко расправляются они с оказывающими сопротивление и как великодушны к сдающимся. Не прочь были эти люди и поживиться где и чем попало.
С такими настроениями Саше пришлось столкнуться уже в первые дни похода.
Случилось это на одной из железнодорожных станций, покинутых отступающими мусаватистами, где с целью споить и дезорганизовать советские войска мусаватисты оставили на перроне множество бочонков с разгромленного ими местного коньячного завода.
Нехитрый маневр врага был легко разгадан, и советское командование приказало начисто уничтожить бочонки с коньяком — во избежание соблазна. Хмуро и молчаливо принялись красноармейцы выбивать днища бочонков. Прозрачные струи коньяка устремлялись в грязную придорожную канаву, распространяя вокруг себя пьянящий аромат. Обидно, конечно, уничтожать такой коньяк, но что поделать, если он и впрямь вводит в соблазн усталого и испытавшего лишения солдата. Так в самом деле будет верней!
Вместе с другими прилежно орудовал Саша.
Неожиданно внимание его было привлечено тремя фигурами, возившимися неподалеку подле одного из бочонков — странным показалось, что трое здоровых мужчин никак не могут справиться с одним днищем. Саша стал наблюдать и заметил, что мало-помалу они откатывают бочонок в сторону, за станционный пакгауз. Последовав за ними, он увидел, что двое, склонившись над бочонком, стараются выбить втулку, а третий стоит на страже.
— Отойти от бочонка! — крикнул Саша.
Навстречу шагнул мужчина, стоявший на страже.
Сумерки не помешали Саше разглядеть его: на голове — лихо заломленная фуражка с помятым козырьком, из-под которого выбивался черный чуб; на груди — два ряда патронных лент; на одном боку — маузер, на другом — туго набитая сумка и офицерская шашка; вызывающий, наглый взгляд.
— Разве не знаете, что есть приказ уничтожать коньяк? — спросил Саша.
— Мы и собираемся его уничтожить! — ухмыльнулся чубатый и, кивнув своим дружкам, добавил: — Продолжайте!
Саша шагнул вперед.
— Хватит шутить! — сказал он строго. — Прочь от бочонка!
— Сам уйди прочь, молокосос!.. Пей, если хочешь, молоко, а нам не мешай! Вдоволь мы навоевались за Россию — теперь побалуем себя родным кавказским коньячком!
Саша понял, кто перед ним.
— В третий раз предлагаю отойти! — крикнул он и решительно двинулся к бочонку.
Но чубатый загородил ему дорогу и ткнул кулаком в грудь.
— Я тебя, большевика!..
Они сцепились. Противник был высок и дюж, но гнев и сознание долга придали Саше мужества. Двое других, орудовавших подле бочонка, поспешили на помощь чубатому. Саша яростно отбивался, но чувствовал, что не в силах устоять против троих. Неизвестно, каков был бы конец, если бы не приближавшийся красноармейский патруль. Завидев его, все трое пустились наутек и скрылись в темноте.
Саша провел рукой по разбитому лицу. Кровь… Не думал он, когда наблюдал бой под Кюрдамиром, что подле бочонка с коньяком от руки бандитов-пьяниц придется ему впервые пролить свою кровь!..
В другой раз дело приняло гораздо более серьезный оборот.
Одна из рот прикрывала фланг наступающего батальона, в котором находился Саша. В момент, когда батальон, ринувшись в решительное наступление, попал под перекрестный огонь, эта рота, вместо того чтобы двинуться на помощь, бежала, покинув свои позиции. В результате батальон принужден был отступить, оставив на ноле боя несколько десятков убитых красноармейцев.
После боя стихийно возник митинг. С походной повозки, обращенной в трибуну, бойцы и командиры гневно клеймили меньшевиков и эсеров, командовавших ротой и давших приказ отступить.
Еще недавно Саша думал: эти меньшевики и эсеры хотя и спорят с большевиками и во многом противодействуют им, но входя в Бакинский совет, они все же поддерживают его и — ни шатко ни валко — как-то отстаивают советскую власть. Однако поведение их на фронте заставило думать иначе.
Врагов по ту сторону фронта было много: мусаватисты, турки, немцы, грузинские меньшевики, контрреволюционные генералы и офицеры бывшей царской армии. Опасные, злые враги! И все же врагов этих можно было распознать с первого взгляда и действовать так, как надлежит действовать, когда перед тобой враг.
Сегодня, однако, удар был нанесен, в сущности, не ими, а людьми из второй роты седьмого батальона, людьми, одетыми в такую же форму, в какую одет он сам, людьми, в течение всех дней похода делившими с красноармейцами скудный паек и теплую мутную воду и спавшими рядом на голой земле. Сегодня удар был нанесен людьми, от которых удара он не ожидал.
Что причиной тому: трусость? Но то, что сегодня произошло, было чем-то более серьезным, чем просто трусость, особенно постыдная и непростительная в этих условиях. Как назвать то, что произошло? Предательством? По чьей вине лежат сейчас на поле боя шестьдесят мертвых товарищей-красноармейцев? По вине всех этих меньшевистских и эсеровских горланов из второй роты седьмого батальона. Предательство!.. Впервые в жизни сталкивался с ним Саша лицом к лицу, впервые в жизни видел его страшные результаты.
Он не мог молчать.
— Только и разница между тифлисскими меньшевиками и бакинскими, что тифлисские с немцами и турками якшаются, а бакинские делают вид, что с турками и немцами дерутся! — воскликнул он, взобравшись на окруженную красноармейцами повозку.
Раздались возгласы:
— Трусы!
— Изменники!
— Правильно Филиппов говорит!
— Я помню, — продолжал Саша, — как еще месяц назад Степан Георгиевич Шаумян говорил, что ни эти жалкие мусаватисты, ни эти турецкие бандиты нам не страшны, если только не будет у нас предательства, и что только предательство может нас погубить… Сегодня мы видели, как справедливы были его слова… Шестьдесят мертвых наших товарищей требуют, чтобы мы воздали предателям но заслугам!
Негодующие крики красноармейцев усилились:
— Разоружить их надо, этих трусов из второй роты, и передать суду ревтрибунала!
— Сослать их надо, этих негодяев, на остров Нарген, где сидели их дружки-турки, пусть подыхают там за то, что погубили наших товарищей!
— Нечего с ними возиться — предателей надо расстреливать на месте — и все!..
Митинг был недолгий — враг по ту сторону фронта давал о себе знать артиллерийской канонадой, словно старался заглушить эти гневные речи и выразить свое одобрение второй роте, оказавшей ему сегодня немалую услугу.
Вторую роту окружили и разоружили. Ее меньшевистских и эсеровских вожаков едва удалось спасти от расправы на месте, которую готовы были учинить возмущенные красноармейцы. Изменники были арестованы, направлены в Баку и преданы суду ревтрибунала…
В течение трех недель советские войска наступали, отбрасывая на запад интервентов и мусаватистов.
Но борьба с каждым днем становилась трудней — турки получали значительные подкрепления, соотношение сил менялось в их пользу. В кровопролитном и ожесточенном сражении под Геокчаем советские части понесли первое поражение, принуждены были перейти к обороне и вслед за тем отступить.
Трудно давались врагу победы! Нередко советские части переходили в контратаки и после ожесточенных штыковых боев снова отбрасывали врага. Красные батальоны словно соревновались в отваге с крестьянскими партизанскими отрядами, действовавшими бок о бок с советскими частями. Но силы борющихся сторон были неравны, и отступление советских войск на восток продолжалось.
Стояла нестерпимая жара, земля потрескалась, ручьи и речки высохли. Продовольствия не хватало — питаться приходилось одной солониной, от которой жажда еще больше усиливалась и заставляла красноармейцев жадно приникать к каждой лужице. Началась эпидемия. Многих мучила жестокая малярия. Лечебную помощь оказывать не успевали, и части, способные к боевым действиям, отягощены были множеством раненых и больных, которых немыслимо было оставить на растерзание мусаватистам и туркам. Измученные боями и длительными переходами, люди падали от усталости.
Большевики прилагали все усилия, чтобы удержать фронт и не допускать нового отхода советских войск. Микоян, Азизбеков, Джапаридзе, Мамедъяров и многие другие видные деятели Коммуны, находившиеся на фронте, воодушевляли бойцов, принимали все меры к доставке боеприпасов и продовольствия, организовывали оборону и нередко добивались закрепления частей на занятых позициях.
Но все эти героические усилия упирались в противодействие со стороны гнездившихся в армии контрреволюционных элементов. Теперь меньшевики, эсеры и дашнаки распоясались вовсю. Саша с гневом и ужасом убеждался, что они добиваются отхода советских частей преднамеренно. В Шемахе дашнаки обнаглели до того, что пытались арестовать Мешади Азизбекова и обстреляли дом, в котором он находился. Не брезгали они насилием и грабежами среди мирного населения. Красноармейцы, видя это, отказывались воевать совместно с отрядами, где хозяйничали дашнаки.
Сашу мучили мысли:
«Почему все-таки отступают советские войска?.. Ведь красноармейцы дерутся лучше турецких аскеров и этих бандитов мусаватистов! Неужели нельзя остановить отступление?»
И в памяти его возникли вехи похода… Кюрдамир, Мюсюоли, Геокчай, снова Кюрдамир, Мейсары… Да, конечно, турки превосходили красноармейцев числом, ими командовали опытные немецкие офицеры, у них было изобилие оружия и снарядов, в мусаватских частях действовали офицеры царской армии, русские белогвардейцы. Сейчас сила была на их стороне. И все же с какой верой в правоту своего дела, с какой самоотверженностью и боевым пылом дрались красноармейцы но сравнению с турецкими аскерами, воевавшими из-под палки, и по сравнению с трусливыми мусаватистами!
Правильно говорили большевики, что врага можно было бы не только остановить, но и разбить в пух и в прах, если б не цепь предательства и измены, дезертирства и мародерства, которой меньшевики, эсеры и дашнаки опутывали советские войска. Да, немало вреда принесли они советской армии, эти меньшевики, эсеры, дашнаки, находившиеся в ее рядах, равно как и те, кто находился по ту сторону фронта. Увы, в те дни Саша еще не знал, как глубоко уходят корни предательства и измены этих внутренних врагов!..
Часто думал Саша и о Баку.
Как посмотрит он в глаза матери, в глаза Юнусу? Он обещал матери, что вернется в Баку только с победой. Он обещал Юнусу, что будет драться за двоих — за себя и за него. Многое он наобещал друзьям и себе, и вот все идет не так, как он рассчитывал и мечтал…
Апшеронцы следили за фронтовой сводкой с тревогой и душевной болью.
— Ни за что наши не отступали бы, если б им пришлось драться только с мусаватистами!
— А драться-то нашим приходится против регулярных турецких войск и немецких офицеров.
— Да и в мусаватских отрядах, говорят, артиллеристы и пулеметчики — турки, а в командном составе тоже турки и белые офицеры.
Каждый старался найти объяснение неудачам советских войск.
— Придет время — и всех этих турок, немцев, белогвардейцев и мусаватистов и в помине не будет! — успокаивающе говорил Арам, но в глубине души он сам был в тревоге: когда же наконец отступление приостановится?
Теперь Юнусу приходилось обводить красные кружки на карте черным карандашом. И он испытывал нечто вроде облегчения, когда на маленькой ветхой карте не находил названия того или иного оставленного советскими войсками пункта.
С болью душевной и тревогой следили бакинские рабочие за отступлением советских войск, возлагая все свои надежды на большевиков, на мужество и самоотверженность красноармейцев, на помощь со стороны Советской России. Но численный перевес врага и изменники в командных рядах Красной Армии делали свое дело — советские войска вынуждены были отходить на восток. К концу июля положение на фронте стало угрожающим — интервенты и мусаватисты подошли к самому Баку.
Поверье о змеях, рассказанное Газанфаром, увы, сбывалось.
Еще один враг
Запах бакинской нефти манил не только немцев и турок, но и империалистов Антанты, и в стремлении овладеть этой нефтью они хотели опередить своих конкурентов.
Еще весной командующий английским экспедиционным корпусом в Северном Иране генерал Денстервиль установил связь с бакинскими меньшевиками, эсерами и дашнаками, рассчитывая занять Баку при их содействии.
Меньшевики, эсеры и дашнаки, со своей стороны, понимали, что появление сил Антанты в Баку поведет к падению ненавистной им советской власти, власти большевиков. И теперь, используя неудачи на фронте и тяжелое продовольственное положение в тылу, они развернули агитацию за «приглашение на помощь» англичан. Агитация эта представляла тем большую опасность, что предатели проводили ее под видом борьбы против германо-турок.
Нашлось в эти дни о чем поразглагольствовать и Министрацу.
— У немцев и турок есть много аэропланов, газы… — завел он разговор среди рабочих.
Но Арам, краешком уха уловив эти слова и поняв, куда Министрац клонит, резко его оборвал:
— А ты их видел, что ли?
— Приезжал с фронта земляк, рассказывал.
— Не из второй ли роты седьмого батальона он, твой земляк? — прищурившись, спросил Арам, и все вокруг насмешливо заулыбались: рота эта, судимая ревтрибуналом за дезертирство и предательство, снискала печальную славу не только на фронте, но и в тылу.
— Из какой роты — не знаю, а что бегут все с фронта — этого уж не скрыть!
— Не бегут, а отступают с боем! — хмуро поправил Юнус: он только что внимательно прочел сводку.
— Тебе, парень, об этом, видно, известно лучше, поскольку ты торчишь в тылу! — язвительно ответил Министрац. — Впрочем, какая разница: бегут или отступают с боем?
Краска бросилась в лицо Юнусу: дождался, что даже Министрац попрекает его за то, что он остался на промысле!
На помощь Юнусу пришел Арам.
— Разница есть и даже очень большая! — сказал он. — Бегут предатели и трусы дашнаки, твои «земляки», а из-за них приходится отступать честным и храбрым нашим красноармейцам.
Министрац криво усмехнулся:
— Попробуй не отступать, когда перед тобой немцы и турки! Куда красноармейцам против них!.. Надо нам звать на помощь англичан — они вот против турок и немцев устоят!
— А ты подумал о том, что будет с советской властью, если сюда придут англичане?
Министрац равнодушно пожал плечами:
— Чему быть, того не миновать!
Вот он, оказывается, куда гнет, дашнак подлый!
— Хватит тебе мутить народ! — крикнул Арам, вспылив. — Уйди лучше отсюда подобру-поздорову, пока рабочие не намяли тебе бока!
Он и сам был непрочь намять дашнаку бока, но положение члена промыслово-заводского комитета сдерживало: такие человечки, как Министрац, только и ждут, чтоб в промыслово-заводском комитете кто-нибудь оплошал, а грязи, чтоб пачкать комитет, у них всегда найдется!
Арама поддержали:
— Заткнись, дашнак, или мы тебя в самом деле…
— Хлопочет, видно, чтобы его снова выкатили вон!
— Мы это можем сделать быстро — пусть только скажет еще одно словцо! — раздался голос из задних рядов, и к Министрацу стала протискиваться коренастая фигура Рагима.
Провожаемый свистом и громким смехом, Министрац поспешно ретировался.
— Слушай, Арам Христофорович, — сказал Юнус, когда все разошлись, — я что-то не разберусь… Дашнаки, по всему видать, за англичан, а в Армении они, я читал, помогают туркам перевозить войска на Баку. За кого же они, в конце концов? Не пойму я кое-чего и насчет меньшевиков: в Тифлисе они за немцев и турок, а здесь — за англичан. Как же теперь все это понять?
Арам презрительно усмехнулся:
— Очень просто! Где кто силен — тому эти людишки служат и прислуживают. Им все равно кому — только бы против советской власти, против Коммуны. За то им хорошо платят, предателям.
— Давить таких гадов! — завершил Юнус, сжимая кулаки. — Давить!..
А предатели между тем ходили по заводам и промыслам, проникали на пароходы и на военные корабли, выступали в казармах и на городских площадях, ратуя за «приглашение на помощь» англичан.
Они появились и на «Апшероне»: студент-эсер в сдвинутой на самый затылок фуражке, длинноволосый меньшевик и офицер-дашнак шныряли по промыслу, сговаривались с кем-то из администрации, перешептывались между собой.
Апшеронцы косо поглядывали на непрошеных гостей. Юнус и Рагим зашли в промыслово-заводский комитет узнать, кто эти люди и что они делают на «Апшероне». Тесное помещение комитета оказалось набитым рабочими, явившимися сюда с гем же вопросом. То и дело входили люди, то и дело слышалось:
— На кой черт они сюда приперлись, эти господа?
— Расхаживают по промыслу с хозяйским видом, о чем-то шушукаются!
— Уж не задумали ли чего подлого?
Дежурный член комитета с недоброй усмешкой отвечал:
— Собираются — черт их возьми! — организовать у нас митинг, агитировать за «приглашение англичан».
Юнус задумался: за последнее время промысловая ячейка сильно поредела — многие ушли на фронт, в ячейке остались несколько пожилых рабочих да кое-кто из молодых, подобно Юнусу, застрявших по болезни, — кто же даст на митинге отпор непрошеным гостям? Этак, возможно, предателям нетрудно будет добиться своего!
— Надо бы таких гостей гнать с промысла взашей! — сказал он решительно.
— Следовало бы! — охотно согласился член комитета. — Да только, к сожалению, не дано нам такое право: они — члены партий, которые имеют своих представителей в Бакинском совете. Предъявили свои документы.
В помещение комитета зашел Арам. Лицо его было озабоченно: видно, и он был весьма встревожен приходом непрошеных гостей.
— А что, Арам Христофорович, если нашим апшеронцам на митинг вовсе не ходить? — воскликнул Юнус, завидя Арама. — Объявим гостям бойкот — и все!
— Правильно! — поддержал его Рагим. — Полают они на ветер и уйдут!
Раздались одобрительные возгласы.
Казалось, выход найден. Но Арам в ответ отрицательно покачал головой:
— Нет, друзья! В такое время не заставить людей сидеть дома — тем более наших апшеронцев! К тому же, не пристало нам, большевикам, уклоняться от схватки с врагом. Товарищи Ленин и Сталин требуют от нас сейчас решительной борьбы с агентами иноземного капитала. Дерутся наши товарищи на фронте — будем и мы драться в тылу как сумеем!
Он бодро тряхнул седой головой.
Народу на митинге собралось много.
Явились рабочие-апшеронцы, явились представители администрации и промыслово-заводского комитета, пришли жены рабочих, некоторые с детьми у подола и на руках. Пришли Розанна и Сато. Явился инженер Кулль. Не видно было только Министраца — перетрухнул!
Первым выступил офицер-дашнак.
Речь его была несложна: он, видите ли, не оратор, но сегодня он случайно прибыл сюда с фронта и, как человек военный, специалист, знает то, что многим здесь, на промыслах, еще не совсем ясно: советские части, увы, больше не в силах держать фронт.
— Держали бы, если б бугаи, вроде тебя, дрались на фронте или как следует работали бы в тылу, а не оказывались «случайно» здесь на промыслах! — крикнул кто-то из толпы.
— Это, наверно, и есть тот земляк, который приехал проведать нашего Министраца! — насмешливо подхватил другой голос.
— Из второй роты седьмого батальона, что ли? — язвительно добавил третий.
Дашнаку не дали договорить.
Вслед за ним выступил длинноволосым меньшевик. Речь его была хитрее, чем речь дашнака.
— Не будем спорить, кто виноват в неудачах на фронте, и если даже положение не столь серьезное, как здесь об этом докладывал наш товарищ дашнак-пакан, военный специалист, то все равно всем ясно, что помощь со стороны англичан в такую минуту для Баку не может быть лишней!
И меньшевик принялся расписывать, какими большими силами располагают в Северном Иране англичане и как эти силы будут сейчас полезны здесь, в Баку, для разгрома германо-турок.
— Вот генерал Денстервиль пишет…
Арам не выдержал:
— Вы почитали бы лучше, господин меньшевик, что пишет об этой помощи наш народный комиссар товарищ Сталин! — крикнул он с места. — Товарищ Сталин пишет, что если вспомнить, какая была оказана англичанами «помощь» на Мурмане и на Дальнем Востоке, то можно сказать твердо, что они стремятся сюда для того, чтобы захватить наш город. Товарищи Ленин и Свердлов с товарищем Сталиным согласны! — Арам обвел взглядом собравшихся. — Кому же мы, друзья, будем верить: товарищам Ленину, Сталину и Свердлову или генералу Денет…ре?.. — он запнулся. — Как его там? Не выговорить!
Арам готов был продолжать, но студент-эсер, воспользовавшись заминкой, крикнул:
— Одно дело Мурман и Дальний Восток и другое дело — Баку! Напрасно вы ополчаетесь против англичан. Генерал Денстервиль заявляет, что никаких иных целей, как только выполнить свой долг по отношению к братьям-союзникам в войне с Германией и Турцией, он не имеет и что англичане не намерены вмешиваться в наши внутренние дела!
Арам не остался в долгу:
— И об этом невмешательстве нам, бакинцам, уже кое-что известно! Помните, об этом с месяц назад докладывал товарищ Шаумян в Бакинском совете? Был здесь такой консул английский — Мак-Донел, что ли, — так вот он вместе с персидским консулом организовал заговор с помощью бакинских кадетов и — не обижайтесь за правду, господин студент! — с помощью ваших эсеров, чтобы арестовать наших видных товарищей-большевиков, свергнуть в Баку советскую власть и открыть сюда путь англичанам. Тогда это дело у них не вышло, и консул покатил за море в Казвин, к вашему Денстервилю. Теперь, видать, англичане снова принялись за дело, рассчитывая на помощь своих друзей — эсеров, меньшевиков и дашнаков… Ясно, товарищи, как англичане не вмешиваются в наши внутренние дела?
Арам не стал дожидаться ответа — чего яснее? — и продолжал:
— Нет, друзья, нет! Помогают и будут нам помогать не Англия и генерал Ден…стер… — он опять запнулся. — Черт бы побрал его, этого генерала, с его фамилией!.. Помогают и будут нам помогать Советская Россия, товарищи Ленин и Сталин! Они руководят всей нашей борьбой! Они посылают нам отряды бойцов, оружие! Вспомните Четвертый московский летучий отряд, вспомните отряд броневиков, который мы проводили на фронт, вспомните отряд Петрова, снятый товарищем Сталиным с украинского фронта и присланный сюда, к нам! Дерутся и будут драться с нами бок о бок русские люди, а не англичане! И сколько их уже полегло, наших русских друзей, за Баку, за Бакинскую коммуну!
Студент-эсер его перебил:
— Англичане помогут лучше: они богаче!
— Недалеко мы уйдем, если будем ждать помощи от богачей! — крикнул в ответ Арам.
Удары, которые он наносил своим противникам, были вески и ощутительны, но студент-эсер, ловко жонглируя словами, ухитрялся вывертываться, и порой ему удавалось даже создать видимость своей правоты. С волнением и напряжением следили собравшиеся за этим спором.
Взволнован был и Юнус… Только б Арам не оплошал, не дал бы запутать себя этим крючкотворам, не сбился бы! Он, Юнус, сам охотно помог бы Араму, да только, увы, не по плечу ему еще такая задача. Вот кого здесь не хватает — Газанфара, тот быстро разделал бы этих болтунов!.. Газанфар… Скоро два месяца, как о нем никаких вестей. Пронесся, правда, слух, что Газанфар ушел в тыл турецких войск на опаснейшее дело, но кто знает — верно ли? Разговорами и слухами теперь земля полнится… Уж не случилось ли с Газанфаром чего дурного?
Студент-эсер не унимался:
— От голодной России нам ничего не получить, а англичане помогут нам хлебом и продовольствием! — Он громко выкрикнул: — Поймите же вы наконец: хлебом!
В ответ раздался возглас:
— Хлебом?
Арам узнал голос тартальщика-ардебильца и обернулся. Вот он, этот ардебилец… Его тощая фигура за последние недели вконец отощала, лицо выражало озабоченность и тоску — там, за Араксом, голодает семья, здесь, вдали от родного дома, голодает он сам.
Вслед за ардебильцем зашептались женщины в задних рядах:
— Хлебом… Хлебом!..
Шепот становился громче, перешел в глухой ропот:
— Хлеба нет уже несколько недель!
— Нет даже хорошей воды для питья!
— Дети наши болеют, немало уже поумирало!
Арам вслушивался.
Многих из этих женщин, там, в задних рядах, он хорошо знал: почти все они — жены апшеронцев; одни — со своими мужьями хаживали к нему в дом по праздничным дням или по воскресеньям отведать пирожков с крошеной бараниной и чесноком, выпить стаканчик красного вина; другие — захаживали за помощью или за советом; третьи — почти каждый день забегали к Розанне по всяческим женским хозяйским делам. В свою очередь, он сам и Розанна бывали у них и всегда видели со стороны этих женщин радушие и отзывчивость. Добрые жены, верные матери, хорошие друзья… И вот эти люди поддаются на удочку студента-эсера!
— Хлеб мы получали и будем получать тоже не от англичан! — крикнул Арам. — Вспомните, кто прислал нам хлеб из Царицына! Товарищ Сталин! Вспомните, кто прислал нам хлеб с Северного Кавказа, из Ставропольской губернии, из Терской области — несколько маршрутных поездов! Товарищ Орджоникидзе! Советская Россия и большевики — вот кто помогает нам хлебом! А ведь в самой России сейчас тяжело: фронты со всех сторон, белогвардейцы, иноземные враги, голод; рабочие Питера и Москвы получают по восьмушке хлеба на два дня! И все же делятся с нами. Прочтите в газете, что пишет нам товарищ Сталин: «Хлеб пошлем во что бы то ни стало!» А чем помогли нам этот англичанин Денстервиль и англичане, кроме того, что прислали нам своих агентов, которые мутят и обманывают наш народ?
Арам видел, что многие слушают его с горячим сочувствием, среди них Юнус, Рагим и много других славных ребят из казармы для бессемейных.
Но вместе с тем он видел и другое: там, в задних рядах, глухой ропот и беспокойное движение не прекращались. Казалось, там не хотят его слушать. Порой Арам наталкивался на холодный, а то и просто враждебный взгляд. Мелькнуло насмешливое и, как всегда, пьяное лицо инженера Кулля… Радуется! Что ж, это понятно… Но что творится сегодня с некоторыми из рабочих, с женщинами? Неужели с ними заодно и Розанна?
Арам нашел Розанну взглядом. Вот она, среди женщин в задних рядах, рядом с нею Сато. Лицо Розанны — как, впрочем, и все другие лица — осунулось. Ей сейчас тоже, конечно, не сладко: надо думать, как накормить Сато и Кнарик. Но неужели она заодно с теми, кто ждет помощи от англичан? Быть не может!.. Арам всмотрелся в Розанну. Глаза их встретились, и она сочувственно кивнула ему. Арам почувствовал прилив бодрости. Замечательная она женщина, его Розанна, настоящий друг!
Ропот в задних рядах между тем становился громче, волнение усиливалось. Вдруг резкий женский голос прорезал воздух:
— Мужчины только и знают, что политику да войну, а о том, чтоб кормить своих голодных детей и жен — не позаботятся!
Раздался другой голос:
— Может быть, англичане нам в самом деле помогут? Они, говорят, народ культурный — не чета туркам, и нас не обидят.
Кто-то громко выкрикнул:
— Надо нам звать на помощь англичан!..
Юнус стоял, стиснув зубы: он чувствовал, что еще мгновенье — и волна этих настроений увлечет за собой немалую долю собравшихся здесь людей.
Он не выдержал и сам крикнул с места:
— Долой агитацию, которая вносит рознь в нашу братскую семью и ослабляет фронт!
Его поддержали со всех сторон:
— Долой предателей, которые хотят отдать Баку англичанам!
— Да здравствует РСФСР!
— Наш город — только для Советской республики и больше ни для кого!
Один за другим выступали члены ячейки и промыслово-заводского комитета против «приглашения англичан», но в задних рядах все не унимались.
— Хлеба! — упрямо роптали там. — Хлеба!.. Англичане дадут нам его сколько угодно!
Арам, подняв руку, пытался восстановить тишину — тщетно. Пытался перекричать — тоже тщетно. Страсти разгорелись. Казалось, еще немного — и в ход пойдут кулаки. Стало ясно, что в этих условиях продолжать спор невозможно.
Арам оглядел собравшихся испытующим взглядом, словно хотел убедиться, что апшеронцы не подведут, и решился на острый ход:
— Хватит нам, товарищи, спорить! Давайте голосовать!
Студент-эсер принял вызов:
— Кто за то, чтоб пригласить англичан на помощь, получить от них вдоволь хлеба, — прошу поднять руки!
Поднялось немало рук, главным образом женских.
— А кто за то, чтобы в наш советский Баку империалистов-англичан не допускать? — крикнул Арам, едва закончился подсчет голосов. — Хлебом поможет нам Россия!
Снова поднялись руки. Арам нахмурился: на первый взгляд почти столько же рук, сколько было при вопросе студента-эсера. Но голоса подсчитали, и складки на лбу Арама разошлись: большинство!
Меньшевик, студент-эсер и офицер-дашнак сползли с трибуны, уныло побрели к выходу. Вслед им неслись насмешливые возгласы и свист.
Не в первый раз покидали подобные гости эту старую вышку-трибуну, уйдя ни с чем: так было ранней весной, незадолго до мятежа, когда мусаватисты хотели переманить на свою сторону рабочих-азербайджанцев; так было год назад во время споров с мусаватистами о присоединении промыслового района к городу; так бывало не раз и в более давние времена; так случилось оно и сейчас… Казалось, можно было торжествовать победу, но лицо Арама снова стало озабоченным и хмурым: да, здесь, на «Апшероне», предатели получили отпор, большевики победили, но все же митинг показал, что агитация предателей пустила корни. Кто знает, как пройдут митинги на других промыслах?..
Опасения Арама были справедливы.
Голод гулял по рабочим кварталам. Людей мучила жажда, возникали эпидемии — город был отрезан от источников доброкачественной воды. Гул артиллерийского огня доносился с фронта, заглушая и без того редкие теперь заводские гудки. С каждым днем все плотнее сжимали город кольцом германо-турки и банды мусаватистов. Страх возможного поражения подтачивал силы рабочих.
И вот, если послушать меньшевиков, эсеров, дашнаков, из-за моря готовы прибыть на помощь английские войска и пароходы, груженные хлебом и продовольствием, и город будет спасен от всяческих бед. Нелегко было измученным людям устоять против этих провокационных посулов, и часть рабочих поддалась обывательским настроениям, дала себя запутать, обмануть и увлечь контрреволюционерам: на митингах стали голосовать за предательские предложения о «приглашении на помощь» англичан.
Развернулась жесточайшая борьба по вопросу об этом «приглашении» и внутри Бакинского совета.
Две недели шла эта борьба, пока наконец контрреволюционному блоку не удалось получить большинство и протащить в Совете резолюцию «за приглашение».
Жалкое это было большинство — всего двадцать три предательских голоса! — но они решили дело: оставшись в меньшинстве, бакинские большевики в Совнаркоме сложили с себя полномочия. Власть захватил антисоветский блок меньшевиков, эсеров и дашнаков. Их вожаки, совместно с представителями изменившего советской власти командного состава Каспийской флотилии, организовали «правительство», высокопарно названное ими «Диктатура Центрокаспия». Едва придя к власти, они немедленно обратились за «помощью» к англичанам.
Долго в эту ночь не ложились спать апшеронцы.
Ночь была душная, людей тянуло на воздух, рабочие собирались подле жилищ, курили, спорили, не могли наговориться.
Много было недоумений и сомнений. Как могло так случиться, что советской власти больше нет? Не поспешил ли Совнарком уйти от власти? Может быть, следовало еще бороться? И все, как один, чувствовали, что стряслась беда.
Юнус бродил по промыслу мрачный.
— Другие дали себя уговорить врагам, а я, дурак, дал себя уговорить своим же друзьям и нянчился с этими желонками, в то время как каждый честный молодой рабочий дрался на фронте! — сказал он с досадой Араму.
Арам принял упрек на свой счет: ведь и он тоже настаивал, чтобы парень остался на «Апшероне».
— А про ногу свою больную ты, наверно, уже забыл? — спросил он.
Юнус махнул рукой.
— Пусть бы я ее совсем потерял — жила бы только наша советская власть, наша Коммуна!
Коммуна!
С какой болью отзывалось теперь это слово в сердце Юнуса! А ведь еще недавно, за столом у Арама, провозглашали он и его друзья здравицу за Коммуну — чтоб всюду она побеждала и торжествовала. И что же стало с их страстной мечтой? Сколько лишений было перенесено рабочими людьми, сколько рабочей крови пролито было во время подавления мусаватского мятежа, сколько людей погибло под Кюрдамиром, Геокчаем, Шемахой, сколько погибло людей, оказавшихся в турецком тылу, — среди них, возможно, и такой замечательный человек, как Газанфар! Сколько гибнет сейчас здесь, под стенами Баку, и всё, видать, напрасно!
Но трубка Арама спокойно попыхивала в темноте.
— Нет, — возражал он Юнусу, — не напрасно!.. Коммуна наша продержалась четыре месяца, окруженная столькими врагами! Люди наши показали, что могут крепко бороться за советскую власть: на фронте они внесли свою долю в борьбу Советской России с интервентами — отвлекли на себя известную часть немцев и турок; а с тыла дали России почти сто миллионов пудов нефти — это кое-что да значит!.. Неужели все это не стоит наших лишений, нашей крови? Стоит, Юнус, стоит!.. И я уверен, что придет время и трудовой народ высоко оценит эти лишения, эту кровь!..
Долго в ту ночь говорили Арам и Юнус, и когда рассеялся мрак и раннее солнце коснулось черных вышек «Апшерона», все предстало перед Юнусом в ином свете: нет, еще не все погибло — нужно продолжать борьбу!
Петровская площадь
Сюда, на эту приморскую пыльную площадь, обычно заставленную высокими штабелями досок, заполненную лотками с арбузами, дынями, свежей рыбой, привезенной с моря на парусниках, стали стягиваться отступающие советские вооруженные силы — красноармейцы, боевые дружины большевиков, отряды вооруженных рабочих, а вместе с ними актив бакинской большевистской организации и ее руководители — Шаумян, Азизбеков, Джапаридзе, Фиолетов. Кто знает, быть может, придется эвакуироваться морем в Астрахань, с тем чтоб, укрепив там свои силы, вновь вернуться сюда и вырвать Баку из рук продавшейся Антанте «Диктатуры»? Петровская площадь и прилегающие к ней кварталы стали маленькой большевистской республикой среди царства торжествующей контрреволюции. Напасть на такую республику и разгромить ее у «Диктатуры» не хватало сил.
Сюда, к этой приморской пыльной площади, ходит Баджи: детский сад, где прежде можно было коротать время с тетей Марией и малышами, закрылся, сидеть дома одной, когда в городе на каждом шагу столько интересного, невозможно; а здесь, на площади, если быть настойчивой, можно повидать Сашу.
Пробраться на площадь нелегко: в лагере — строжайшая охрана. Согласно приказу Мешади Азизбекова сюда никого чужих не пропускают во избежание провокации со стороны «Диктатуры Центрокаспия». Но маленькая фигура в чадре, маячащая у лагеря и столь необычная здесь, вскоре становится знакомой многим, и стоит Баджи показаться на глаза часовому, как раздается возглас:
— Эй, Филиппов! Саша!.. К тебе пришли!
Клич несется по всей площади, доносится до Саши.
Однажды часовой крикнул:
— Филиппов! Невеста пришла!
— Не невеста она, а сестра моего товарища, мы вместе росли в Черном городе на одном заводе, — спешит заверить всех Саша. — Она еще девочка, ей всего… тринадцать лет, — неожиданно для самого себя хитрит Саша, уменьшив возраст Баджи на год.
— А не семнадцать? — лукаво спрашивает один красноармеец. — Под чадрой-то ведь не разобрать!
Саше подобные шутки не по вкусу, но Баджи разражается веселым смехом: она — невеста Саши!
— Ты чего это? — недоумевает Саша.
Баджи спохватывается: не показалось бы Саше, что она смеется над ним. И она отвечает, как отвечали обычно на женской половине в доме Шамси, когда хотели скрыть причину смеха:
— А чего мне плакать? Меня никто не побил!..
Сюда, к этой приморской пыльной площади, все чаще ходит Баджи, чтоб повидаться с Сашей, и теперь часовые называют ее не иначе, как невестой.
Как-то раз, едва красноармеец, стоящий на карауле, успел крикнуть Саше, что пришла его невеста, Баджи увидела Сашу и рядом с ним — незнакомого мужчину лет сорока, в шинели, с винтовкой в руке.
— Я не знал, Филиппов, что у тебя невеста! — сказал человек в шинели, услышав возглас часового.
— Не невеста она, а сестра моего товарища, мы вместе росли в Черном городе, на одном заводе, — по обыкновению заторопился Саша. — Она еще девочка, ей всего… — и на этот раз сказал точно: — четырнадцать лет.
Баджи невольно кивнула головой.
— И теперь живете все вместе? — спросил незнакомец.
Баджи насупилась:
— Нет!
— А где он теперь, твой брат? Кто такой?
Много хорошего могла бы сестра рассказать о своем брате, но обида на брата еще жила в ее сердце. Баджи молчала.
— Ты что же не отвечаешь? — удивился незнакомец.
— Она с братом своим немного не в ладах, — ответил за нее Саша.
— Не в ладах? — переспросил человек в шинели и вдруг неожиданно строго добавил: — Это ты, Филиппов, во всем виноват!
— Я? — вырвалось у Саши.
— А кто же иной? Ты с ними вместе рос, дружишь и сейчас — как же ты допускаешь, что брат с сестрой не в ладах?
— Это верно, конечно, — пробормотал Саша смущенно; он бы давно помирил их, да только вот печальные события помешали — не до того!
Незнакомец уловил внимательный взгляд Баджи.
— Помиритесь — все будет хорошо! — промолвил он и потрепал Баджи по плечу. Затем, обернувшись к караульному красноармейцу, добавил: — Можете эту девушку пропускать в лагерь!..
Мужчина в шинели был уже далеко, а Баджи все смотрела ему вслед и улыбалась.
— Кто это? — прошептала она, когда незнакомец скрылся из виду.
— Это Мешади Азизбеков, губернский комиссар и заместитель комиссара внутренних дел! — ответил Саша почтительным шепотом.
Ни одного из этих слов, кроме имени, Баджи не поняла, но тем не менее с уверенностью произнесла:
— Хороший, добрый человек!..
Красный флаг еще развевался над Петровской площадью, а предатели-меньшевики, эсеры и дашнаки готовились к встрече своих долгожданных гостей — англичан.
Наконец в один из августовских дней прибыл из Северного Ирана в бакинский порт пароход с необычными пассажирами. Бакинцы высыпали на набережную.
Вот они, оказывается, какие, эти англичане, о которых последние дни столько разговоров в городе! На голове пробковые шлемы с повязанной вокруг тульи кисеей; трусики цвета хаки — вместо брюк; короткоствольные толстые ружья — вместо привычных глазу русских винтовок.
Люди, одетые побогаче, восторженно заявляли:
— Это только передовой отряд полковника Нокса. Скоро сюда прибудут большие силы с месопотамского фронта — около трехсот тысяч человек.
Еще с месяц назад такая осведомленность казалась бы подозрительной, но теперь, когда англичане, ступая по шатким сходням, высаживались на берег, уже незачем было ее скрывать.
Были среди этой группы людей и такие, которые держали язык за зубами, и только про себя с удовлетворением размышляли:
«Большевики, правда, еще в городе, на Петровской площади, но здесь, на Приморском бульваре, благодарение богу, уже находятся англичане. Англичане! Недавно казалось, что в город войдут немцы и турки, а вот вошли англичане. Что ж, беды в этом никакой нет: какая, в сущности, разница — немцы и турки или англичане? Кто угодно, только бы не большевики!..»
Но большинство горожан, пришедших на Приморский бульвар поглядеть на англичан, скептически улыбались: едва ли эта горстка короткоштанников отстоит город от германо-турок; вряд ли будут англичане драться и умирать за Баку, как дрались и умирали на фронте красноармейцы — под Геокчаем, Кюрдамиром, Шемахой; им бы в этих коротких штанах скорей гоняться за футбольным мячом, нежели воевать! А в ответ на то, что англичане союзники и друзья бакинцев и их не оставят, многозначительно и иронически соглашались:
— То-то же, что не оставят!..
В свободные часы на Петровской площади устраиваются коротенькие лекции, доклады, занятия по общеобразовательным предметам. Саша занят обучением группы неграмотных товарищей красноармейцев.
В эти часы Баджи не отходит от Саши ни на шаг, внимательно присматривается, прислушивается… Научись она грамоте, она могла бы сама читать про черкешенку и про многое, о чем пишут в книгах. Конечно, Шамси и Абдул-Фатах сказали бы, что обучаться русской грамоте, да еще среди солдат, девушке-азербайджанке незачем и непристойно. Ну и что же? Она от этого, как говорится, не похудела бы!
Буквы и чтение по складам Баджи усваивает с легкостью. Прочесть слово одним духом, как читает Саша, этого она еще не умеет, но похоже, что скоро научится. Теперь ее волнует новое — научиться писать: в умении писать Баджи видит вершину наук.
Среди домашнего хлама Баджи находит старую счетную книгу Шамси и берется за карандаш. Склонив голову набок и шевеля высунутым языком — как ни странно, это помогает! — Баджи старательно списывает, вернее срисовывает, слова и целые фразы из «Кавказского пленника». Она напряжена, на лбу у нее капли пота. Нелегкое занятие — писать! Баджи воображает себя ученой женщиной. Ана-ханум, Ругя, Фатьма в ее глазах — темные невежды. До поздней ночи корпит Баджи над старой счетной книгой Шамси. Рядом с колонкой цифр выстраиваются слова пушкинской поэмы. Баджи любуется своими каракулями. Саша ее похвалит!..
А немцы, турки и мусаватисты между тем обстреливают город.
Идя по улице, Баджи жмется к стенам домов — так теперь поступают пешеходы. Впрочем, это не всегда предохраняет: вот снаряд разбил стену, вот упал человек, обливаясь кровью. Страшно! Ноги Баджи подкашиваются, тошнота подступает к горлу.
В один из августовских дней германо-турки прорвались к окраине города. Вожаки «Диктатуры» растерялись, ее войска стали в панике отступать. Положение было критическим. Большевики с Петровской площади решили взять на себя защиту города. Ожила надежда: отстояв город от германо-турок и мусаватистов, вырвать власть из рук «Диктатуры» и вновь поднять знамя Коммуны. Шаумян предложил большевистским частям открыть огонь по наступающему врагу.
Прячась в воротах дома против площади, Баджи наблюдала, как выкатывали с пароходов на площадь уже погруженные орудия, как тащили красноармейцы снарядные ящики, как заряжали пушки. Дважды мелькнула фигура Саши.
Гремели орудия, это было страшно — еще страшнее, чем свист турецких снарядов, и все же Баджи понимала, что снаряды с площади, несущиеся над городом, грозят не ей, а тем, кто сжал город в кольцо и лишил его хлеба и воды, кто стрелял по городу, кто разлучил ее с братом. И чувство мстительной радости охватывало ее при каждом залпе. Так им и надо, этим немцам, туркам, мусаватистам! Пусть теперь земля дрожит и под ними! Пусть, обливаясь кровью, падают они замертво!
И как в дни марта — словно в ответ ее желаниям — огонь большевистских орудий нанес врагам удар, заставил их откатиться от города.
Весть об удаче дошла до каждого красноармейца. На площади запели «Интернационал». И так громко и радостно звучал он сейчас, что Баджи, сама того не замечая, стала вторить песне..
Затем Баджи пробралась на площадь. Здесь уже царило веселье. Заиграла гармонь. Тут же, среди не остывших еще орудий, красноармейцы стали петь песни и танцевать: «Русская»… «Полька»… «Яблочко»…
— Хорошо! — шепнула Баджи Саше.
Он вспомнил, что когда-то в Черном городе Баджи забавляла соседей танцами.
— Сама, что ли, хочешь потанцевать? — спросил он.
Баджи засмеялась. Он, видно, шутит над ней! Танцевать на площади перед солдатами? Да на это только последняя девка способна! Еще увидит какой-нибудь бездельник из Крепости, разнесет о ней слух по всем переулкам и тупикам. «Эй ты, шут солдатский! Солдатская!» — станут кричать ей вслед мальчишки, станут кидать в нее камни. Нет уж, спасибо!
Но в глубине души Баджи так и подмывало пуститься в пляс.
Один из красноармейцев коснулся ее руки: давай-ка, девушка, потанцуем!
— Уйди! — сердито оттолкнула его Баджи: солдаты, видно, в самом деле принимают ее за дурную девушку.
— Да не бойся ты!.. — дружелюбно произнес красноармеец, пытаясь сунуть ей в руку кусок хлеба.
Баджи снисходительно улыбнулась: она сыта, сама может угостить!
Другой красноармеец хотел ей подарить дешевенькое колечко. Взгляд Баджи загорелся. Красивое! Правда, брать подарки от незнакомого мужчины, да еще от солдата к тому же… Баджи вопросительно взглянула на Сашу. Тот кивком головы дал понять: можно!
Но Баджи не взяла. Что она, нищенка-побирушка или цыганка-гадалка, чтоб бродить по площади и принимать подачки? Она на площади не ради этого, а потому, что сегодня здесь большой, радостный праздник!..
Вечереет.
Августовские дни, пожалуй, самые знойные, душные из всех дней бакинского лета. Но здесь, у моря, вдали от раскалившихся за день каменных зданий, к вечеру становится прохладней.
Баджи и Саша сидят на дальнем краю пристани, свесив ноги над водой. Волны плещутся вокруг свай, шевелят деревянную пристань, вызывая у Баджи легкое головокружение. Море и небо сливаются вдали в гаснущем дне.
— Что там, за морем? — спрашивает Баджи, задумчиво устремляя взгляд на горизонт. Много красивых сказок о заморских странах слыхала она от матери и от Ругя. Правда ли то, о чем они рассказывали?
— Там Астрахань, Советская Россия… — отвечает Саша.
Баджи силится представить себе незнакомый город Астрахань и дальний край, название которому Советская Россия. Все чаще произносят эти слова здесь, на площади, и Баджи понимает, что с ними связаны отъезд и разлука.
— Ты тоже уедешь? — спрашивает она, заглядывая Саше в глаза.
Саша чувствует, что правда огорчит ее: увы, уехать, видимо, придется, дела на фронте снова ухудшились.
— Здесь останется Юнус, — говорит он, избегая прямого ответа.
Лицо Баджи становится печальным.
— Он не любит меня… Я ему не нужна.
— Брат — и не любит?
— Кто любит — тот не разлучается! — говорит Баджи и сама удивляется: откуда взялись у нее такие правильные слова?
Саше кажется, что она говорит не только о Юнусе.
— Ах, Баджи… — говорит он, вздыхая. — Многого ты еще не понимаешь!
— Я все понимаю!.. — обрывает его Баджи и упрямо сжимает губы.
Они долго молчат — никто не хочет заговорить первым.
— Почему вы так много воюете? — спрашивает наконец Баджи, поглядывая в сторону площади.
— За правду надо воевать всю жизнь!
— За правду?.. — переспрашивает Баджи. — Это, чтобы не было богатых, которые обижают бедных?
— Правильно!.. И еще — чтоб все наши люди были сыты и одеты, чтоб все трудились, были равны, и дружны между собой, и счастливы.
На лице Баджи появляется мечтательная улыбка.
— Хорошо — если бы так!
Улыбается в ответ и Саша:
— Ты, я вижу, Баджи, — большевичка!
Но тут Баджи отмахивается обеими руками: чего-чего, а таких слов она от Саши не заслужила!
— Дядя Шамси говорил, что большевики — дурные люди, грабители!
— Грабители? — смеется Саша. — Да разве Юнус, или Газанфар, или Арам, или я похожи на грабителей?
— А разве вы — большевики?
— Конечно!.. Чтоб все люди трудились, были сыты и одеты, чтоб они были равны и дружны между собой, нужно отнять богатства у богачей и отдать народу.
Баджи вспоминает рис, масло и сладкий кишмиш из подвала Шамси, розданные голодным малышам.
— Маленькая реквизиция!.. — говорит она понимающе.
Становится темно. Баджи и Саша покидают пристань, пересекают лагерь. Красноармейцы укладываются на ночлег.
— А эти солдаты — тоже большевики? — шепотом спрашивает Баджи.
— Не все, — отвечает Саша. — Но все идут с нами по одному пути…
Много грехов совершила Баджи с тех нор, как стала ходить на площадь: показывалась там с открытым лицом, разговаривала и смеялась с чужими мужчинами, солдатами. Много, много грехов!
Почему же не чувствует она себя грешницей? Почему не страшат ее гнев аллаха и жестокие муки ада? Почему не испытывает она раскаяния? Может быть, потому, что и ей по одному пути с ее новыми друзьями?
Пароходы уходят
«Нужно до отъезда поговорить с Юнусом насчет Баджи», — решил Саша, вспоминая свой разговор с Азизбековым.
Нелегко было в эти дни людям с Петровской площади пробраться на промыслы — патрули «Диктатуры» рыскали по дорогам и делали все, чтоб прервать связь между площадью и рабочими районами, задерживали и обыскивали всех подозреваемых в сочувствии к советской власти, и тем более тех, в ком угадывали большевика.
Саша все же пробрался.
— Мы, наверно, скоро эвакуируемся… — начал он, коротко поздоровавшись с Юнусом, но тот, не дав ему договорить, воскликнул с грустной усмешкой:
— Я думал, ты город обороняешь, а ты, оказывается, путешествовать собрался!
Саша едва не вспыхнул: еще свежи были в памяти суровые дни похода на Ганджу — безводье, недоедание, болезни, тяжелые бои. Но он тотчас овладел собой: надо все объяснить Юнусу, и он поймет.
Юнус внимательно за ним наблюдал. Выгоревшая гимнастерка, стоптанные солдатские сапоги, болезненная желтизна лица и бескровные губы подтверждали, что Саша прошел трудный путь. Полуденное августовское солнце жгло, в воздухе — ни дуновения ветерка, но Саша поеживался точно от озноба.
«Малярия!..» — понял Юнус и, вспомнив Сару, какой та была во время болезни, промолвил участливо и виновато:
— Я не знал, что ты болен… Что ж, если так…
— Малярия меня отсюда не выгнала бы! — ответил Саша со спокойной уверенностью. — Дело в ином… Обороняли мы город до последней минуты, но… — Он вынул из кармана листовку и подал Юнусу. — Прочти!
— «Пролетарская социалистическая оборона Баку превратилась в войну двух империалистических коалиций… Революционного фронта уже нет, а есть фронт империалистический…» — прочел вслух Юнус.
Это было воззвание Бакинского комитета партии большевиков. Оно выражало отношение партии к происходящим событиям, объясняло причину подготовлявшейся эвакуации.
— Партийная конференция определила, что если мы будем сражаться против турок и немцев плечом к плечу с англичанами и с Центрокаспием, то, значит, вступим в сделку с английскими оккупантами, поможем им удержать Баку в руках Англии, — вставил Саша, не дожидаясь, пока Юнус прочтет всю листовку.
— А я слышал, что были предложения оставаться в Баку, дожидаться подкреплений из Астрахани, — заметил Юнус.
— Кое-кто высказывался и так. Но для того, чтобы одновременно бороться против немцев, и турок, и англичан, у нас здесь сейчас недостаточно сил, и мы только зря погубим наших людей. Нашим частям надо эвакуироваться в Астрахань, организоваться там в большую силу, вернуться сюда и восстановить советскую власть. На конференции двадцать два человека были за такую временную эвакуацию, восемь — против. Среди двадцати двух — Шаумян, Джапаридзе, Азизбеков…
— А выпустят ли вас отсюда эта «Диктатура» и англичане? — спросил Юнус.
— Обещают выпустить. Зачем мы им здесь нужны? Впрочем, обещать эти людишки умеют. Степан Георгиевич опасается, что вряд ли они отпустят нас с миром — слишком сильно они нас ненавидят. От них можно всего ожидать. Но другого выхода нет — надо идти на риск!
Они помолчали: слишком горько было говорить об отъезде.
— Как тетя Мария? — спросил Юнус.
Саша пожал плечами.
— Детский сад закрылся… Наверно, тоже временно эвакуируется с советскими частями…
По лицу Юнуса прошла тень: сегодня, видно, не избежать разговоров об отъезде.
Они снова помолчали.
— А что слышно о Баджи? — спросил как бы мимоходом Саша.
— Не видел ее с той поры, как прогнал отсюда… Такую сестру я знать не желаю!
— За то, что сестра хочет жить вместе с тобой?
— Нет! За то, что не хочет брата своего понимать! И наконец… Прошу тебя, Сашка, не лезь в мои дела с Баджи!.. Она — моя сестра, а не твоя!
— Твоя, — спокойно ответил Саша, — я ее у тебя не отнимаю… Но ведь ты сам назвал меня братом — как же ты хочешь, чтобы твою сестру я не считал также и своей?
Юнус смутился: мало того, что он, родной брат, не заботится о сестре, он еще недоволен, если о ней заботится побратим.
— Я не хотел тебя обидеть… — сказал он тихо. — Прости… Но пойми, Саша, что я на нее в большой обиде…
— Не до обид нам в такое время! Нужно быть дружными, как никогда! Неужели не понимаешь?
— Это, конечно, верно…
— Ну, вот… Саша положил руку Юнусу на плечо. — Дай мне слово, что повидаешься с Баджи и отнесешься к ней как брат… — Он пристально взглянул в глаза Юнусу. — Ну!..
Юнус отвел взгляд.
— «Какой ты мне брат?.. До сих пор угла своего не имеем…» Помнишь? — спросил он, и по губам его пробежала горестная усмешка.
— Она еще девчонка и неразумна… Мы, ее братья, должны ей помочь. А что мы, но совести говоря, для нее сделали? Да ровным счетом ничего!..
Юнус почувствовал себя виноватым.
— Пожалуй, в самом деле не следовало ее отпускать…
— Это поправимо!.. Ну, дай же мне слово!
Юнус колебался: трудно было ему преодолеть обиду. Но он представил себе, что снова увидит Баджи и объяснит ей многое, чего она до сих нор не понимает, и они поймут друг друга.
— Ладно! — воскликнул он наконец. — Даю, Сашка, слово!
— Ну вот, так бы и сразу! — облегченно воскликнул в ответ Саша.
Перед тем как уйти с «Апшерона», Саша сказал:
— Хотелось бы мне попрощаться с Арамом Христофоровичем и с тетей Розанной. Славные они люди, особенно старик!
— Какой он старик? — обиделся за своего друга Юнус. — Это волосы у него рано поседели, после того как убили на войне двух его сыновей…
У Арама пробыли недолго — не та пора, чтоб засиживаться в гостях.
— Хорошо бы и вам, Арам Христофорович, на время отсюда уехать — вас здесь все знают… — заметил Саша.
Он имел в виду опасность, грозящую Араму в случае, если в город ворвутся немцы и турки, но Арам, казалось, не хотел его понимать.
— Ну и хорошо, что все знают! — воскликнул он с шутливой важностью. — Я, худо-бедно, прожил здесь не день и не два!
— Неровен час…
— Никуда я, дорогой Саша, не уеду, не уговаривай! — прервал Арам, и в голосе его теперь не было и следа шутки. — Должен же кто-нибудь из наших людей остаться здесь… — Стремясь найти поддержку у домочадцев, он кивнул на Розанну и дочерей и добавил: — Наконец, не оставлять же мне их одних!
Розанна промолвила:
— О нас ты, Арам, сейчас не беспокойся, а поступай по совести, как всегда поступал.
Арам взглянул на Сато. Ему показалось, что она одобряет слова Розанны. Он перевел свой взгляд на Кнарик. А та, словно в ответ, только тесней прижалась к сестре.
— Вот я и думаю — по совести — никуда не уезжать! — решительно произнес Арам.
— Может быть, вам, Арам Христофорович, следует хотя бы уйти с квартиры? — осторожно заметил Саша.
Юнус поддержал:
— В самом деле, Арам, может быть, где-нибудь поселишься в другом месте? Тебе любой рабочий охотно предоставит кров!
— И с квартиры я никуда не уйду! — буркнул Арам.
Стало ясно, что его не переубедить.
— Ну что ж, Арам Христофорович, в таком случае… — сказал Саша и протянул ему руку. — Счастливо вам всем оставаться!.. До скорого, надеюсь, свидания!
Арам привлек Сашу к себе и крепко обнял.
— Счастливого возвращения с Красной Армией! — воскликнул он бодро. — И — скорого! Мы будем ждать!.. И сами, конечно, не будем сидеть без дела!
По-матерински обняла Сашу и Розанна. Потом смущенно подала ему руку Сато, и вслед за ней заторопилась протянуть свою ручку Кнарик, опасаясь, как бы с ней не забыли попрощаться…
Пришла пора проститься Саше и Юнусу.
У ворот они долго держали друг друга за руки, не в силах расстаться. И гут оба вспомнили, что они уже расставались однажды у ворот в Черном городе, а жизнь снова и еще крепче их соединила и дала обменяться вином братства. Неужели стали они братьями лишь для того, чтобы теперь разлучиться навек?..
На другой день пароходы с советскими войсками и активом бакинской большевистской организации отчалили от пристаней, взяли курс на север.
На север, в Астрахань, в Советскую Россию!.. Получить там подкрепление людьми и вооружением и скорей вернуться в Баку для борьбы и победы!..
Но то, чего опасались Шаумян и его друзья, случилось: вдогонку советским пароходам «Диктатура» выслала свои военные корабли с требованием вернуться в Баку. Как вскоре выяснилось, обещание беспрепятственно пропустить большевиков в Астрахань вожаки «Диктатуры» дали с провокационной целью: им казалось, что расправиться с советским лагерем будет гораздо легче в море.
Вероломное требование «Диктатуры» было с возмущением отвергнуто большевиками. Тогда военные корабли «Диктатуры» открыли огонь по пассажирским пароходам и нефтеналивным судам, на которых разместились советские войска и актив большевиков-бакинцев. Не имея возможности принять бой с военными кораблями, караван советских судов оказался в тягчайшем положении — число жертв с каждой минутой росло, всему каравану грозила гибель. В этих условиях пришлось выполнить требование «Диктатуры» — вернуться в Баку…
Сходящие с советских судов отряды тотчас разоружались контрреволюционными силами «Диктатуры». Десятки советских руководящих работников были арестованы на пристани и уведены в тюрьму; среди них — Шаумян, Азизбеков, Джапаридзе, Фиолетов.
А вслед за тем началась высылка советских частей в Астрахань, но уже разоруженных, лишенных своих руководителей. Снова высыпали бакинцы на набережную, пробирались на пристани, откуда отходили пароходы с высылаемыми. Многие стремились передать на дорогу узелок с едой, многим хотелось обнять своих друзей и пожелать скорейшего возвращения с победой.
Меньшевики, эсеры, дашнаки, контрреволюционные вожаки из военного флота злорадствовали:
— Вы, смутьяны, хотели в Астрахань, в Советскую Россию? Что ж, теперь — без оружия и без ваших вождей — можете туда беспрепятственно следовать. Счастливого пути!..
Баджи металась по пристани: надо думать, что и Саша где-нибудь здесь.
Она не могла понять: почему отняли у этих людей оружие? Почему многих из них, как говорили, увели в тюрьму? Что они — воры или грабители, какие-нибудь дурные люди? Баджи вспоминала все, что видела на площади, и сама себе отвечала: нет, нет, это — хорошие люди! Они воевали и собирались еще много воевать за правду!
— Са-ша!.. — время от времени взывала она в пространство, сложив руки рупором. — Са-ша!..
Никто теперь не шутил с ней, не называл ее невестой.
— Какого еще тебе Сашу? — участливо спрашивали ее некоторые. — Саш на свете много!
— Филиппова! — восклицала она в ответ. — Красноармейца! Неужели не знаете?
Неожиданно Баджи натолкнулась на знакомого красноармейца, который хотел подарить ей колечко.
— Саша? Где Саша?.. — закричала она, схватив его за руку.
Красноармеец повел ее к одному из пароходов, готовых к отплытию.
— Должен быть здесь — ищи!..
Баджи металась по пристани вдоль борта парохода взад и вперед, стараясь найти среди пассажиров Сашу. Наконец она увидела его и тетю Марию. Они стояли на палубе, стиснутые со всех сторон.
— Тетя Мария!.. Саша!.. — закричала Баджи, и они увидели ее.
Расталкивая людей, запрудивших пристань, Баджи пробивалась к сходням. Еще мгновенье, и она будет подле тети Марии, подле Саши!.. Увы, сходни уже убраны!
— Возьмите меня с собой!.. — в тоске закричала Баджи, протягивая руки к тете Марии, к Саше, к людям на пароходе, словно готовая ухватиться за борт, но пароход со свистом выбросил пар и плавно отделился от пристани…
— Жди Юнуса, Баджи… Он придет к тебе… — донесся в ответ голос Саши. — А мы — вернемся!
Пространство между пристанью и пароходом все увеличивалось, и Баджи вдруг показалось, будто ее с неодолимой силой относит назад.
«Вернемся?..»
«Все вы так говорите, но многие из вас не возвращаются. — пришли на память слова Розанны, горькие и безнадежные.
Отплывающие запели «Интернационал».
Удивительными и дорогими казались Баджи сейчас его звуки! Каждый день пели его люди на площади, встав поутру и отходя ко сну. Пели русские, азербайджанцы, армяне — сообща, как не поют ни одну песню. Пели в радости и в печали. Вот поют и сейчас.
Все меньше становился отплывающий пароход, и все слабели и наконец замерли звуки «Интернационала», и скрылись пароходы, оставив позади себя светлые дымки, потом рассеялись и они, а Баджи все стояла на пристани и с тоской глядела на горизонт…
В сентябре турки перешли в решительное наступление. Войска «Диктатуры» и англичане, не выдержав натиска, обратились в бегство.
«Турки снова на окраине города!» — эта весть молниеносно разнеслась во все концы, достигла «Апшерона».
Долго боролся Арам против того, чтоб покинуть свой дом, но покинуть все же пришлось — состоялось решение ячейки: всем уходить в подполье.
Решение ячейки… Как печально звучали теперь эти слова! Ячейки, собственно, уже не существовало: к списку ушедших в Красную Армию, к списку погибших на фронтах прибавился новый список тех, кого беспощадно арестовывала «Диктатура» и в число которых каждую минуту мог попасть и Арам.
Решение ячейки… Ему, конечно, следовало подчиниться, но Арам хотя и ушел из дому, все же остался на «Апшероне», поселившись в заброшенной каморке в глубине казармы для бессемейных. Это новое жилище Арама представляло собой нечто вроде чулана — без окон, с низенькой дверью, скрытой от посторонних взоров ветхим паласом и койкой, которую всякий раз приходилось отодвигать, прежде чем открыть дверь.
Покидая своих домашних, Арам предупредил:
— Придется вам, родные, некоторое время со мной не встречаться… — И, разведя руками, добавил: — Конспирация!
Лицо Розанны потемнело: не впервые слышала она это слово, но теперь почувствовала особенную тревогу: седой, совсем седой ее Арам — нелегко ему будет без ее заботливой руки.
Арам понял Розанну.
— Иначе, жена, никак! — сказал он убежденно, словно забыв все то, что говорил недавно, не желая покидать дом.
Розанна не сразу нашлась, что ответить.
— Ну, раз «иначе — никак» — значит, до скорого свиданья, бессемейный! — ответила она наконец с грустной улыбкой.
Ей хотелось поцеловать Арама на прощанье — кто знает, как сложится жизнь дальше? Но она постеснялась: не жених и невеста, чтоб целоваться на людях, и только крепко пожала ему руку…
«Турки опять на окраине города!..»
Эта весть проникла и в дом Шамси.
Страшно было Баджи выходить в такое время из дому, но усидеть одной в четырех стенах невозможно. Баджи выглянула в переулок и шаг за шагом отдалилась от дома.
Город окутывала зловещая темнота. В один сплошной гул сливались грохот орудий, треск пулеметов, ружейная стрельба, вопли женщин, плач перепуганных детей. Группами и в одиночку, таща на себе жалкий скарб, люди бежали к пристаням, спеша попасть на отходящие пароходы.
Баджи хотелось плакать… Жить у тети Розанны и Арама она, глупая, сама отказалась. Тетя Мария и Саша, наверно, уже далеко за морем, там, в городе Астрахани. И вот она, Баджи, осталась одна, некуда ей идти. Когда еще придет за нею Юнус?.. Баджи устало побрела назад, заперла двери на все засовы, улеглась на подстилку.
Снова была Баджи в тесном доме старой Крепости, всеми, казалось, покинутая и одинокая, но мир, в котором она жила в последние месяцы, не уходил из ее памяти… Черкешенка… Детский сад… Площадь… И так необычна и хороша была эта жизнь по сравнению с той, какой Баджи жила прежде, что заставила сейчас усомниться: да было ли все это подлинно?.. Все исчезло, как сон, как ветром гонимые облака.
Часть пятая Лодка с золотом
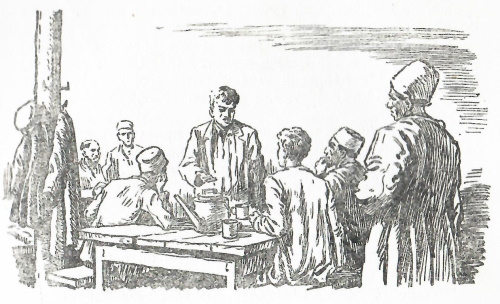
Три дня
Длинный путь прошло турецкое войско — Грузию, Армению, Азербайджан.
В пути мучили зной и жажда, голод и болезни. Офицеры жестоко карали за малейший проступок, полковые муллы грозили лишением райских блаженств за каждый вздох, ибо рай уготован только для тех, кто безропотно отдает свою жизнь во славу аллаха и султана. Много турецкой крови пролито было под Геокчаем, под Кюрдамиром, под Шемахой. Много аскеров полегло у стен Баку под огнем большевистских орудий с Петровской площади в тот памятный жаркий день, когда город, казалось, вот-вот будет взят турками. И только после того, как «Диктатура» выслала в Астрахань советские части, судьба Баку была решена.
Долог и тяжек был путь германо-турок! Но вот наконец город взят — можно вознаградить и потешить себя вволю!
Три дня с разрешения и негласного одобрения командующего «кавказской мусульманской армией» генерал-лейтенанта ферик Нури-паши вознаграждали и тешили себя победители — грабили, убивали, насиловали. Рядом с турецкими регулярными частями, вдохновленные их примером, орудовали мусаватские банды…
Баджи слышит, как, громыхая, въезжает в переулок арба. Кто-то стучится в дверь.
Страшно открывать дверь в такое время: еще нападут, ограбят и убьют. Но Баджи помнит слова Саши: «Жди Юнуса, Баджи! Он придет к тебе. А мы — вернемся!» А вдруг это стучит Юнус? Неужели она во второй раз проглядит брата?
Баджи спускается во двор, долго прислушивается. Кто-то за дверью нетерпеливо переступает с ноги на ногу.
— Кто там? — тихо спрашивает наконец Баджи.
— Открой! — отвечает хриплый голос за дверью.
Голос кажется Баджи знакомым.
— А кто это? — допытывается она.
— Я, Теймур! Имею поручение от Шамси.
Мало приятный гость! Однако если он с поручением от Шамси, надо его впустить.
— Дядя твой велел передать, что скоро вернется, приказал все чисто прибрать к его приезду, — импровизирует Теймур, входя. Он с хозяйским видом прохаживается по дому, разглядывает вещи, трогает их. Баджи неотступно следует за ним, не спуская с него глаз: знает она, что это за птица!
Бот Теймур берется за никелевый самовар.
— Не тронь! — говорит Баджи, вырывая самовар и ставя его на место. Платок сползает у нее с головы, открывая лицо.
Густые ресницы щеточками… Матовые щеки снежным пушком… Белые ровные зубы… Взгляд Теймура скользит по стройной фигурке Баджи… Так вот какова она, эта девчонка, — в его вкусе! Как это он прежде ее не замечал? Или, может быть, она расцвела так в последнее время? Подумать только — плешивого Дадаша дочка!..
Теймур пытается обнять Баджи. Она испуганно отстраняется. Теймур действует настойчивей. Она ловко выскальзывает из его рук. Но Теймур не унимается.
— Я буду кричать! — говорит Баджи решительно.
Кричать? Еще в самом деле, глупая, поднимет крик, сбегутся люди. Теймур решает действовать иначе.
— Я тебе хороший подарок привез, — шепчет он ласково.
— Не самовар ли? — усмехается Баджи, поправляя платок.
— Не веришь? Взгляни за ворота!
Что ж, это можно; за воротами — ближе к людям!
Баджи видит арбу, нагруженную коврами, посудой, одеждой.
«Откуда у него? Награбил, что ли, дьявол?» — соображает она.
— Не могу я принимать подарки без разрешения дяди, я ведь не какая-нибудь!.. — говорит она уклончиво.
«Цену себе набивает! — решает Теймур. — Твое счастье, дура, что ты племянница Шамси, не то разговор был бы иной, и без подарков! Ладно, зайду еще в другой раз, сейчас каждая минута дорога».
Уходя Теймур покровительственно заявляет:
— Если тебя захотят обидеть, скажешь, что будут иметь дело с Теймуром, другом Наджаф-Кули!
Оставшись одна, Баджи грустно усмехается: вот, оказывается, кто ее защитник!..
Три дня бушевали аскеры Нури-паши и мусаватские банды. На четвертый Нури отдал приказ прекратить грабежи и убийства: германская ставка, через начальника германской делегации на Кавказе фон Кресса, торопила с доставкой бакинской нефти — пора было навести в городе порядок.
Убрали трупы, валявшиеся по городу, засыпали песком кровь. На улицах стали появляться прохожие, робко озирающиеся по сторонам.
Баджи решилась выйти из дому.
На одном из перекрестков внимание ее привлекла толпа. Перед турецким патрулем стояли нарядная, в европейской одежде женщина и босой старик в лохмотьях, с золотым браслетом в руке. Женщина пыталась втолковать патрульному, что старик украл у нее этот браслет. Старик, в свою очередь, пытался объяснить, что он нашел браслет на улице, — очевидно, кто-то обронил его. Старик волновался; казалось, он говорил правду. Аскер медлил, не зная, как поступить.
Неожиданно из-за угла показался серый военный автомобиль с флажком.
— Нури-паша! Нури-паша!.. — зашумели в толпе.
Подняв руку, женщина бросилась к автомобилю. Машина резко остановилась. В автомобиле действительно был Нури-паша с одним из немецких офицеров, прикомандированных к его штабу.
Женщина на хорошем немецком языке обратилась с жалобой на патрульного аскера, не желавшего ее защитить… Господин генерал и господин офицер не должны думать, что она простая женщина. Она в свое время путешествовала по Германии и по Ближнему Востоку. Она, как и все благородные люди, счастлива видеть в Баку германские и турецкие войска. Но неужели и теперь, когда большевиков уже не существует, закон и справедливость не будут торжествовать?
Нури и офицер переглянулись.
— Осмелюсь напомнить о просьбе генерала фон Кресса восстановить порядок, — промолвил офицер.
Нури понял его.
— Вы правы, мадам, — сказал он любезно, козыряя женщине. — Срок солдатского отдыха уже истек, и теперь наши славные аскеры должны являть пример строжайшей дисциплины… Сюда!.. — приказал он патрульному.
Аскер подошел, встал навытяжку. Нури высунулся из автомобиля и с силой хлестнул аскера стеком но лицу. Багровая полоса прорезала щеку аскера. В толпе ахнули. Не издав ни звука, аскер продолжал стоять навытяжку, держа дрожащие пальцы у козырька измятого парусинового шлема.
— Браслет вернуть! — приказал Нури.
Аскер вырвал браслет из рук босого старика и подал женщине.
— А теперь… — Нури кивнул на фонарный столб и резко вздернул руку.
Откуда-то вдруг появилась веревка. Аскер поволок старика к фонарю.
«Неужели повесят?» — в ужасе подумала Баджи и, не помня себя, кинулась к автомобилю. Ей хотелось крикнуть, чтоб старика не вешали — он не виноват! — но очутившись подле автомобиля, она точно онемела и только вонзила в Нури взгляд, полный страха и ненависти.
Нури прищурился. Это что за девчонка?
— Выполнить приказ! — сказал он жестко.
Через минуту старик висел на фонаре.
Обернувшись к женщине, растерянно державшей в руках свой браслет, Нури, улыбаясь, произнес:
— Вы правы, мадам: закон и справедливость в конце концов должны торжествовать!
Затем он снова козырнул. Автомобиль рванулся и исчез за углом.
Баджи стояла оцепенев.
Так вот какие они, эти немцы и турки! Грабят, вешают беззащитных, заступаются за богатых. Недаром, значит, ругали их Газанфар и Арам, Юнус и Саша и называли змеями. А Шамси еще жалел пленных турок!
Турки на «Апшероне»
Не прошло недели, как мусаватское правительство объявило бакинскую нефтяную промышленность возвращенной собственникам.
Владелец промысла «Апшерон» приказал рабочим водрузить вывеску на прежнее место — над воротами. Рабочие отказались: их дело — добывать нефть, а с вывеской пускай повозятся слуги хозяина, их у него немало; рабочим же такая вывеска ни к чему!
Тогда хозяин обратился за помощью к туркам: кто, как не они, могут защитить его от бунтовщиков?
— Если через пять минут вывески не будет над воротами, повешу там, где ей надлежит висеть, пять рабочих! — объявил турецкий офицер, явившийся на промысел с отрядом аскеров и в сопровождении переводчика-мусаватиста. — Обещаю вам это я, Вали-бей, офицер оттоманской полиции!
И вынул из кармана часы.
Вешать турки умели — в этом бакинцы уже убедились. Не оставалось ничего иного, как выполнить приказ.
«Теперь все пойдет как в прежние времена…» — сокрушенно думал Юнус, стоя подле ворот среди других рабочих и угрюмо поглядывая на старую ржавую вывеску, вновь водруженную над воротами промысла.
И верно: отменен был восьмичасовой рабочий день, уничтожены коллективные договоры с хозяевами, добытые бакинцами-нефтяниками долголетней упорной борьбой; разогнаны были не только революционные рабочие организации, но даже культурно-просветительные учреждения; рабочая печать запрещена; аннулированы не только постановления советской власти, но даже Временного правительства. На промыслах были восстановлены порядки царского самодержавия.
Вскоре турецкое командование издало приказ по войскам, в котором предлагало принять меры, чтобы предупредить возможное восстание бакинских рабочих. На промыслах и на заводах начались массовые обыски и аресты. С особой яростью преследовали турки и прислуживавшие им мусаватисты большевиков-азербайджанцев, объявляя их врагами и изменниками «священного дела объединения мусульман в лоне Оттоманской империи с халифом султаном Магометом VI во главе».
И все же в один из этих дней, идя на работу, апшеронцы увидели, что вывеска снова сорвана и брошена в придорожную канаву.
К полудню явился на «Апшерон» Вали-бей с отрядом аскеров вдвое большим, чем в первый раз. Вали-бей созвал к воротам рабочих-апшеронцев и потребовал, чтобы они выдали большевиков.
Апшеронцы ответили угрюмым молчанием.
— У них тут орудует один старый большевик-армянин, — шепнул Вали-бею переводчик-мусаватист. — Это он всегда здесь мутит народ… Такой невысокий, седой.
— Где он, этот ваш седой? — спросил Вали-бей рабочих.
Ответа не последовало.
— Где он, я спрашиваю? — повысил голос Вали-бей.
— Уехал вместе с другими в Астрахань, — промолвил пожилой рабочий, стоявший вблизи Вали-бея.
— Я вам покажу, как скрывать врагов оттоманской армии, негодяи! — заорал турок и ударом кулака сбил на землю рабочего.
Избив еще нескольких рабочих, упорно твердивших, что Арам уехал в Астрахань, Вали-бей стал расспрашивать людей из промысловой администрации. Но и от них он ничего не услышал: многие действительно не знали о местопребывании Арама, другие хотя и догадывались, где он, и рады были бы выдать его туркам, но опасаясь гнева рабочих, благоразумно молчали.
— Найти во что бы то ни стало! — приказал Вали-бей аскерам.
Аскеры с винтовками в руках разбрелись по промыслу.
«Неужели пойдут и в нашу казарму?» — с тревогой думал Юнус, видя, как турки рыщут по промыслу, заглядывают в буровые, в подсобные мастерские, в жилые помещения, разбросанные на территории промысла.
Мысль Юнуса лихорадочно работала: как предотвратить беду?
Он незаметно отошел от ворот, направился к казарме — надо во что бы то ни стало спасти Арама!
Неожиданно взгляд Юнуса упал на прикрепленную к столбу дощечку с надписью «За куренье — расчет!» и с изображением страшного черепа и костей крест-накрест — обычного на нефтепромыслах предостережения: огонь здесь грозит смертью. Быстрая мысль мелькнула в голове Юнуса. Он огляделся — поблизости никого — и побежал к казарме. Прикрепив дощечку к входной двери, он стал на пороге в позе охранника.

Вскоре группа аскеров приблизилась к двери казармы. Юнус замахал руками и истошным голосом закричал:
— Стой!
Аскеры замедлили шаг, взяли ружья наизготовку. Юнус рукой указал на табличку и сделал предостерегающий жест. Опасливо поглядывая на изображение черепа и костей, на непонятную надпись, турки потоптались перед дверью казармы и, переглянувшись, пошли назад.
Вечером в казарме для бессемейных только и было, что разговоров о турках.
— Ну и разбойники же! — возмущались обитатели казармы.
— Особенно этот Вали-бей, послал бы ему бог чесотку и при этом лишил бы ногтей!
— Видать, недаром наши русские ребята прозвали его: «Вали, бей»! — горько заметил один из рабочих, потирая свои избитые бока.
Немало говорилось и о чудесном спасении Арама, но сам Арам неожиданно заявил:
— А я, друзья, в своем спасении никакого чуда не вижу. Просто: наши люди умней и смелей турок! Смелей и находчивей аскеров окапался и наш Юнус. Парень — молодец!
Послышались остроты и насмешки по адресу врагов. Впрочем, любое слово, направленное против турок, находило здесь сейчас живой отклик. Все принялись хвалить Юнуса. И только ардебилец скептически заметил:
— Сегодня умней оказался Юнус, а завтра его могут перехитрить Вали-бей и турки. Теперь их царство!..
— Царство перепелки, как говорится, до уборки проса, — возразил Арам. — И рабочим людям надо крепче против этого царства бороться — не то склюют турецкие перепелки наш последний хлеб!
— Бороться… — вздохнул кто-то и смолк.
Все его поняли: где теперь те испытанные товарищи, которые могли бы повести рабочих на борьбу? Где Степан Георгиевич? Где инженер Мешади Азизбеков? Где Алеша Джапаридзе? Где Ваня Фиолетов? Ходят слухи, что попали они в руки англичан. Что с ними? Живы ли они?.. Бороться!.. Райкома партии нет, ячейки распались. Куда ни глянь — всюду Вали-бей и его аскеры. Не очень-то при таких условиях поборешься!..
— Бороться теперь, конечно, нелегко… — признал Арам, словно следя за мыслями обитателей казармы. — Я, товарищи, не первый год в партии, а, признаться, такого разгрома не помню даже в столыпинские времена… Был такой лиходей, царский министр Столыпин, — пояснил он, встретив недоуменный взгляд ардебильца. — И все же, друзья, нужно бороться! Нужно — если б даже на промысле остался один большевик!
— Нужно! — горячо подхватил Юнус. — Нужно!.. Но только скажи, Арам Христофорович, не ты ли частенько говорил, что, борясь в одиночку, не победить?
— Не так, друзья мои, нужно понимать слова «в одиночку». Пока на промысле есть хоть один большевик — он не одинок: с ним — рабочие!
Власть хозяев
Однажды вновь появился на «Апшероне» старик кирмакинец. Он прошел в казарму для бессемейных к Юнусу, спросил Арама.
— Выслали его в Астрахань, — ответил Юнус кирмакинцу. — Когда вернется — никто не знает, думаю только, что нескоро.
Гость уныло покачал головой — зря он прошел столько верст, зря бил ноги.
Палас на стене между тем неожиданно зашевелился, отогнулся, и оттуда выглянула седая голова. Глаза кирмакинца удивленно раскрылись: такое бывает только в сказках!
— Вот я уже вернулся из Астрахани! — улыбаясь и выходя из убежища, сказал Арам и в ответ на молчаливо осуждающие и беспокойные взгляды товарищей шепнул: — Не тревожьтесь, друзья, старик не выдаст… — Затем он подошел к кирмакинцу и, приветливо поздоровавшись, спросил: — Чем, старик, порадуешь?
— Готов бы отдать тебе все свои радости, если б они у меня были, а есть только беды! — ответил кирмакинец.
— А что случилось?
— Затаил хозяин против меня злобу за то, что я ходил к вам учиться уму-разуму — летом, помнишь, товарищи меня послали? И дождался он своего часу — прогнал меня сейчас с промысла. А когда я сказал, что при Коммуне жить лучше, чем при турках и мусаватистах, дал мне еще вдобавок по шее. Сорок лет проработал я в тех краях, а теперь вот остался без работы. Жить негде, есть нечего… Может быть, найдется у вас здесь для меня работа? Ты ведь здесь, я помню, был летом большой человек, промыслово-заводский комитет…
Арам вздохнул:
— То-то, старик, что летом… А теперь у нас — осень! Понимаешь?
— Понимать-то я понимаю, да, может быть, все же работенка, какая ни на есть, найдется? Руки у меня, не смотри, что я старый, еще крепкие. Гляди!..
Он протянул вперед заскорузлые, лоснящиеся от нефти руки.
Обитатели казармы переглянулись — надо бы помочь старику кирмакинцу. Но как?
Арам понял их.
— Насчет работы, старик, скажу тебе прямо: не рассчитывай. Не то теперь время, чтоб найти на промысле работу даже и с сильными руками. Сам видишь, какая теперь работа!.. Но хлеб наш, какой он ни есть скудный, и кров, какой он ни есть убогий, мы с тобой разделим по-братски, — ответил Арам кирмакинцу за всех обитателей казармы и по лицам их понял, что слова его пришлись им по душе.
Не успел старик кирмакинец обжиться в казарме, как однажды на рассвете весь промысел был разбужен сильным гулом. Сотрясалась земля. Ветхое здание казармы, казалось, вот-вот развалится на куски.
Все выскочили наружу.
Гигантский темный фонтан нефти, с гулом вырываясь из вышки, устремлялся к небу, на мгновение замирал в вышине, словно обессилев, и с шумом низвергался на землю, образуя вокруг буро-зеленое маслянистое озеро нефти.
Громко звонил пожарный колокол у промысловой конторы, сзывая апшеронцев на аврал: нужно сберечь хозяину добро. Вскоре все рабочие, по колено в нефти, с лопатами и кирками в руках, уже рыли канавы и стоки, сгоняя нефть в наспех сооруженные земляные амбары.
— Посылает аллах нашему хозяину счастье! — услышал Юнус позади себя голос и, обернувшись, увидел тартальщика-ардебильца, прилежно орудовавшего лопатой. — Ты только смотри! — кивнул ардебилец в сторону бушующего фонтана.
Юнус нехотя взглянул на темные, клокочущие на фоне голубого неба клубы нефти и газа.
Была в них сила и красота стихии, которой склонен любоваться человек, но, как лесной пожар или река, покинувшая свои берега, несли они сейчас беду и горе.
— Шайтан его побери, этот фонтан! — сказал Юнус угрюмо. — Кому он теперь нужен? Нам здесь, в Баку, нефти и так хватает по горло, а в Советскую Россию, где в ней нуждаются, вывоза нет. Хозяевам, немцам и туркам нефть, конечно, нужна, и они, насколько сил хватает, вывозят ее в Турцию и Германию…
Ардебилец взглянул на Юнуса с недоумением.
— Мне-то что… — промолвил он, равнодушно пожимая плечами. — Я приехал сюда с родной стороны на заработки, семья у меня большая, восемь душ, все голодные; заработаю — уеду в родной Ардебиль… Хозяин мне уже немало должен, но я свои деньжонки брать не тороплюсь, чтобы не соблазниться и зря их не растратить.
К полудню прибыли из города на богатых фаэтонах какие-то важные мусаватисты и охрана из конных аскеров. Прошел слух, что взглянуть на новый фонтан явится сам Нури-паша.
Среди приехавших был и Хабибулла.
Сойдя с фаэтона, он не стал терять времени и принялся совместно с другими прибывшими и с администрацией «Апшерона» украшать ворота и вывеску гирляндами цветов, привезенных из города в честь ожидаемого знатного гостя.
Вид у Хабибуллы был сосредоточенно деловой, но увидя неподалеку в нефтяной луже Юнуса с лопатой, Хабибулла отошел от ворот и с радостной улыбкой на лице, как если б он встретил лучшего друга, осторожно ступая с камня на камень по мокрой земле, направился к Юнусу.
— Ну, кто же был прав тогда, у крепостных ворот, помнишь? — спросил он, остановившись перед Юнусом, заложив руки в карманы и притворно улыбаясь.
«Незачем мне с ним говорить», — решил Юнус, отворачиваясь и продолжая сгонять нефть в канаву.
— А ты все не верил, что мы победим! — продолжал Хабибулла с притворно мягкой укоризной, точно огорченный былыми заблуждениями Юнуса, но вместе с тем уверенный, что теперь, разумеется, Юнус эти заблуждения преодолел.
«Царство перепелки — до уборки проса», — готов был ответить Юнус словами Арама, но сдержался: он чувствовал, что Хабибулла стремится втянуть его в разговор, затеять спор, может быть — ссору.
— Видишь, даже земля за нас! — не умолкал Хабибулла и протянул свою короткую руку по направлению к фонтану.
Юнус не отвечал.
Улыбка сошла с лица Хабибуллы.
— Молчишь? — спросил он злобно. — Раньше, я помню, ты был разговорчивей. Язык, что ли, у тебя присох к нёбу, большевик?
В ответ Юнус только сильнее сжал лопату и стиснул зубы.
Хабибулла решил истолковать это молчание в свою пользу.
— Хорошо еще, что молчишь: видно, сознаешь свою неправоту, — сказал он снисходительно. — Благодари бога, что ты племянник моего друга, не то я разделался бы с тобой так, как ты того заслуживаешь, изменник!.. Кстати, пора вернуть револьвер, который ты у меня украл!
«Украл?»
Еще мгновенье, и Юнус ответил бы Хабибулле лопатой. Но вдруг послышались возгласы мусаватистов: «Нури-паша!» — и Хабибулла, шлепая по лужам, поспешно засеменил к воротам…
Владелец «Апшерона», держа на вытянутых руках большое серебряное блюдо с пышными гроздьями лучшего белого винограда, низко кланяясь, подошел к серому автомобилю, где сидел Нури. Чуть поотстав от своего хозяина, шагал Кулль. На голове у Кулля, вместо кепки, которой он в свое время заменил инженерскую фуражку с кокардой, теперь красовалась папаха, похожая на те, какие носили турецкие офицеры.
— Всем своим счастьем, — начал владелец промысла, кивнув на неугомонный фонтан и украшенные цветами ворота и вывеску, — я обязан Турции и ее лучшему сыну — великому полководцу Нури-паше, прибывшему сюда, чтобы спасти своих братьев-мусульман от большевиков! В честь великого гостя я жертвую в пользу семей турецких офицеров, павших в этой войне, двадцать пять тысяч рублей!
Он коверкал родной азербайджанский язык на турецкий лад. Рабочие переглядывались, не скрывая насмешливых улыбок.
— И столько же обязуются дать мои рабочие! — добавил он неожиданно, обводя недобрым торжествующим взглядом людей, стоявших по колено в нефти с лопатами в руках. Теперь он был на своем «Апшероне» полновластным хозяином; аскеры и полицейские были его опорой.
— Мы оценим ваш труд и помощь! — поощрительно ответил Нури владельцу «Апшерона», выплевывая виноградную кожуру.
Нури пробыл на промысле недолго.
Владелец «Апшерона» прокричал вслед отъезжавшему серому автомобилю:
— Да здравствует Нури-паша!.. Ур-ра!
Кое-кто из администрации и несколько рабочих под сверлящими взглядами офицеров и полицейских нестройно и вяло подхватили этот крик.
Вслед за пашой устремились и фаэтоны с мусаватистами. В фаэтон Хабибуллы полетел ком нефтяной грязи. Хабибулла высунулся было, но увидя гневные лица рабочих, вновь торопливо спрятался в фаэтон и поднял воротник.
К Юнусу подошел тарталыцик-ардебилец.
— Неужели хозяин отдаст туркам деньги и из тех денег, что я оставил ему на сохранение? — пробормотал он растерянно.
Не хотелось Юнусу огорчать ардебильца утвердительным ответом, но не было нужды скрывать правду.
Всю неделю ардебилец ходил мрачный: не очень-то будешь веселым, если твои денежки, добытые в ноту, ни за что ни про что уплыли в турецкие карманы!
— Пропади они пропадом, этот Нури-паша, и эти турки, и наш хозяин с ними заодно! — ворчал он со злобой и отчаянием, не в силах расстаться со своими мыслями: там, за мутным Араксом, ждала его жена, старуха мать и шестеро детей.
Мы, бессемейные
Осенней ночью раздался стук в дверь казармы для бессемейных.
Проснувшиеся обитатели казармы насторожились: от ночных гостей ждать добра не приходится.
Стук повторился — упорный, настойчивый, но вместе с тем тихий и осторожный. Обитатели казармы переглянулись: нет, так враги не стучат!
Юнус направился к двери.
— Кто там?
Глухой голос за дверью ответил:
— Впустите, друзья, не бойтесь!..
Голос показался Юнусу знакомым. Будь что будет! Юнус раскрыл дверь.
В полутьме на пороге стоял высокий человек в изодранной крестьянской одежде, почти в лохмотьях. Щеки его обросли темной бородой, на лбу и у глаз — большие кровоподтеки.
— Не узнаешь? — спросил пришелец и улыбнулся.
И в ужасе, смешанном с радостью, Юнус воскликнул:
— Газанфар!..
Все поднялись с коек — сна как не бывало! Кто же из апшеронцев не знал Газанфара и где только с ним не встречался — на работе, на собраниях, в районном комитете партии, в районном штабе Красной гвардии!
Услышав голос Газанфара, выскочил из своего убежища и Арам. Друзья обнялись, расцеловались, долго не могли выпустить друг друга из объятий. Арам был счастлив: вот он, Газанфар, а ведь кое-кто уже считал его погибшим. Вот он, друг Газанфар! Надо думать, сейчас дела в районе пойдут по-иному!
Казарма ожила.
Каждый спешил выразить гостю свои чувства: один — товарищеским рукопожатием, другой — крепким объятием, третий — дружеским поцелуем. Кто-то наполнил рукомойник свежей водой и совал в руки Газанфара мыло; кто-то держал перед ним наготове чистое полотенце; кто-то копался в своем сундучке в поисках смены белья. Старик кирмакинец соболезнующе покачивал головой, глядя на обнаженного по пояс Газанфара, отощавшего, со следами ударов на спине.
Тартальщик-ардебилец принялся точить на ремне бритву.
— Это мне сейчас ни к чему! — с улыбкой остановил его Газанфар. — Борода моя, надо думать, мне еще пригодится… Пригодится мне еще, может быть, и мой парадный костюм — не выбрасывайте! — добавил он, кивнув на сваленные в угол лохмотья, в которых он явился в казарму.
Вскоре вскипел чайник, и Газанфар, наслаждаясь душистым крепким чаем, принялся рассказывать, какой ему пришлось пройти путь и что испытать, прежде чем добраться до Баку, до «Апшерона», до казармы и сесть среди друзей за этот стол.
Месяца полтора назад, объезжая селения и формируя отряды Красной Армии, Газанфар оказался отрезанным от Баку наступающими турецкими частями. Пробиться сквозь эти части ему не удалось, и он застрял в одном селении. Здесь вместе с другими большевиками он попал в засаду, устроенную местными кулаками, и был выдан туркам.
Всех арестованных связали одной веревкой и погнали на ближайшую станцию, где находилось командование турецкой дивизии. Избитые, с непокрытой головой, босые, брели арестованные под палящим августовским солнцем, подвергаясь издевательствам конвоировавших их турок. Арестованных били прикладами, двоих человек убили, трое погибли в пути.
Я имел счастье предстать пред светлые очи самого Мурсель-паши, командующего пятой дивизией, и убедиться, какие милые господа эти турецкие паши! — со злой иронией рассказывал Газанфар. — При допросе я лежал связанный на земле, а Мурсель-паша угощал меня по лицу каблуками сапог… Его подарки я сохранил на память по сей день — вот видите?
Но это, оказывается, было не все. Арестованных отправили в ганджинскую тюрьму, где их ждали новые мучения. Заключенных поили тухлой водой, избивали палками, впрягали по десять-пятнадцать человек в большие арбы и, подгоняя длинным бичом, как буйволов, заставляли перевозить тяжести. От пыток люди умирали в мучениях. Через несколько дней из десяти человек, прибывших вместе с Газанфаром в ганджинскую тюрьму, в живых остались только двое, один из них — Газанфар.
В ганджинской тюрьме Газанфар неоднократно заступался за арестованных товарищей, вступал в пререкания с тюремщиками-турками и вызвал особую ненависть к себе со стороны турок. Участь его была предрешена. Газанфар понял это и, собрав вокруг себя группу верных людей, решился бежать. Кое-кто из ганджинцев, уже успевших понять, что сулят стране оккупанты-турки, помог Газанфару осуществить план побега и добраться до Баку.
Стиснув зубы и сжав кулаки, слушали обитатели казармы рассказ Газанфара. Нашлось, в свою очередь, и у них, о чем порассказать Газанфару — какие события произошли в Баку, как ведут себя турки на промысле, какие дела творятся на «Апшероне». Немало проклятий пришлось на долю турок в казарме для бессемейных в эту темную осеннюю ночь! Особенно волновался тарталыцик-ардебилец — он все еще не мог забыть про свои деньги, уплывшие в турецкие карманы. Несдобровать было бы обитателям казармы, если бы Вали-бей подслушал их беседу! Несдобровать было бы, впрочем, и самому Вали-бею, окажись он в эту ночь в казарме для бессемейных!..
Уже светало, когда Арам спохватился: надо дать гостю отдохнуть, надо самим обитателям казармы поспать хоть часок — впереди десять часов работы. Газанфара устроили в комнатке, где скрывался Арам, — там безопасней.
— Да у тебя здесь настоящие хоромы! — промолвил Газанфар, вытягиваясь во весь рост на чистой, любовно приготовленной постели, и тотчас заснул богатырским сном.
С приходом Газанфара жизнь на «Апшероне» оживилась.
Каждый вечер перед сном собирались апшеронцы в казарме, чтобы послушать новости, которые неизвестно как раздобывал Газанфар в течение дня.
Случалось, новости были добрые: то на одном, тона другом промысле верные смелые люди принимались за восстановление ячеек; некоторые ячейки, невзирая на мусаватских ищеек, стали систематически работать и даже выпустили листовку, призывавшую нефтяников к борьбе против интервентов и мусаватистов. Несколько таких листовок на серой оберточной бумаге раздобыл Газанфар и роздал обитателям казармы, с тем чтобы они, в свою очередь, разнесли их по буровым.
Случалось, новости были невеселые: подавлена железнодорожная стачка, организованная большевиками; обнаружены прокламации и нелегальная литература, арестовано несколько рабочих; наемными убийцами из-за угла убит славный товарищ-большевик. Все тревожнее становились слухи о Шаумяне и его друзьях… Много было печальных новостей в эту тяжелую пору, но даже они в передаче Газанфара не вселяли уныния: разве сами эти печальные новости не свидетельствовали о том, что идет упорная борьба, что рабочий люд не сломлен, что жива вера в победу!..
Однажды Газанфар стал рассказывать о Южном Азербайджане.
— Там турки тоже распоясались вовсю: реквизируют у народа хлеб, а взамен дают свои обесцененные бумажки, люди отказываются принимать их.
— Несчастные мои земляки! — воскликнул ардебилец с горестью. — Будь я по ту сторону Аракса, я бы этим проклятым туркам поддал жару!
— Поддать жару можешь и на этом берегу! — подхватил Газанфар, как всегда подхватывал он каждое слово протеста и гнева, направленное против интервентов и мусаватистов. — Слушай нас, друг ардебилец, и иди с нами рука об руку — будет тебе и нам вместе хорошо! Не смотри, что нас разделяет река Аракс: мы — братья!..
В один из вечеров Газанфар принес в казарму книжку стихов азербайджанского поэта Алекпера Сабира. Он вслух прочел рабочим стихи, и слово поэта дошло до каждого сердца. Все стали просить Газанфара рассказать что-нибудь о самом Сабире.
Оказалось, что Газанфар знавал поэта лично, познакомившись с ним лет десять назад, когда тот работал в Балаханах учителем. Пребывание Сабира в Балаханах было недолгим — поэт вскоре умер, — но оставило глубокие следы: здесь поэт написал свои замечательные стихи, в которых выразил любовь к рабочим и ненависть к эксплуататорам.
— Хотел бы я прочитать эту книгу, — промолвил Юнус взволнованно, когда Газанфар окончил.
Газанфар увидел волнение в его глазах и протянул в ответ книгу:
— Возьми ее от меня в подарок!
Юнус бережно взял книгу. Не прошло недели, как он знал стихи Сабира наизусть.
Внимательно прислушивались обитатели казармы к словам Газанфара, но внимание их возрастало во сто крат, когда речь заходила о Советской России, о Ленине и о Сталине.
Советская Россия!
С какой надеждой устремлялись взоры рабочих бакинцев на север!.. Вот уже много недель, как отрезан Баку от России и истекает кровью под. гнетом турок и мусаватистов. И много врагов стало стеной между Баку и Россией: банды имама Гоцинского в Дагестане, контрреволюционные генералы Деникин, Алексеев, Корнилов — на Северном Кавказе; Краснов и Мамонтов — на Дону. И все же правда из Советской России сюда долетала — через земли, захваченные этими генералами, через синие воды Каспия, через снежные выси кавказских гор. Правде крылья не обломать!..
И всегда — говорил ли Газанфар о Советской России, о Ленине и о Сталине, о Шаумяне и Азизбекове, о Фиолетове и Джапаридзе и о многих других славных бакинцах-большевиках; рассказывал ли о бесчинствах немецких и турецких оккупантов и их прислужниках мусаватистах; мечтал ли вместе с другими о светлых завтрашних днях или беседовал о повседневных нуждах — неизменно будил Газанфар в апшеронцах волю к борьбе, вселял веру в победу правого дела людей труда.
Находил Газанфар время и для того, чтоб развлечь рабочих, повеселить, поднять у них дух.
Стоило в дальнем углу казармы зазвучать тару или кеманче, и Газанфар уже затягивал песню:
Делибаши мои, на коней, на коней!
Сбросим с трона тирана ну-ка!
Сосчитаем казну, все добро заберем,
Дом на голову хана — ну-ка!
Закричу — и воинственный враг задрожит.
Закричу — и воинственный враг побежит!
Уничтожим пашей, не забудем обид,
В ад отправим султана — ну-ка!..
Пел Газанфар высоким сильным голосом. И словно раздвигались серые тесные стены казармы. Слова старой песни, петой ашугом века назад, трогали сердца с новой силой.
Случалось, звучала в стенах казармы песня и про любовь. Голос Газанфара становился задушевным. Взоры слушателей затуманивались. Кто может остаться холодным к песням, в которых поется про свободу пли про любовь?..
Нередко завязывалась в казарме игра в нарды — «на выкидку».
Обитатели казармы обступали нардовую доску, на которой разыгрывалось сражение. Стук шашек, возгласы восхищения и разочарования оглашали в эти минуты казарму. Особенно жестокая борьба разгоралась между Юнусом и Газанфаром, часто выходившим в финал.
Кое-кто непрочь был играть на деньги, но Газанфар всегда против этого восставал.
— Не дело нам, товарищи, друг друга обыгрывать, — убеждал он. — Нас и без того объегоривают хозяева!
Кто-то съязвил:
— Может быть, прикажешь играть на щелчки, как играют мальчишки?
— И щелчков нам в жизни хватает от других, незачем нам щелкать друг друга! — спокойно возразил Газанфар. — Впрочем, если кто особенно настаивает, я непрочь, — добавил он и выразительно засучил рукав.
Охотников не нашлось…
В развлечениях казармы неизменно принимал участие и Арам — седины не были для него помехой.
— Тебя, Арам, теперь не отличишь от нас, казарменных! — одобрительно заметил как-то Юнус. — Ни дать ни взять — такой же бессемейный, как и мы!
Арам взглянул на Юнуса, окинул взором окружающих его людей. За последнее время он особенно с ними сдружился. Умные, славные люди, таким можно довериться, среди них в самом деле чувствуешь себя как дома.
— Бессемейный, ты говоришь?.. — переспросил Арам задумчиво и в ответ своим мыслям произнес: — А я так, товарищи, думаю, что с тех пор, как я здесь, среди вас, семья у меня, напротив, словно разрослась!
На плечо ему легла рука Газанфара.
— Правильно и умно ты говоришь про семью, Арам! Сколько ни старались наши враги разъединить нас — семейных от бессемейных, городских от сельчан, азербайджанцев от русских, армян от азербайджанцев, — ничего у них не получилось! Напрасно бились! И оказалось, что мы сейчас сплотились здесь в одну семью, готовую к борьбе!
«Доброе старое время»
Еще недавно казалось Шамси, что не вернется оно никогда, доброе старое время, но вот не прошло и месяца, как он снова в родном городе, и порядок вещей, и опокой веков установленный аллахом и нарушенный большевиками, явно восстанавливался, все возвращалось на свое, аллахом предназначенное место.
Доброе старое время!
Национализированные промыслы и заводы, дома и пароходы возвращаются прежним владельцам. Богатых людей теперь не только не обижают, но одаряют вниманием и почтением, как в доброе старое время, что, впрочем, вполне естественно и справедливо: ведь те, кого аллах наделяет богатством, конечно, аллахом любимы, и как же простым смертным не почитать избранников, которых по милости своей отметил любовью сам всевышний? Нравилось Шамси и то, что полицмейстер издал приказ, в котором предписывал величать высших должностных лиц «превосходительствами» или «высокопревосходительствами», в соответствии с занимаемым постом.
«Совсем как в царское время!» — восхищался Шамси.
Но больше всего, разумеется, его радовало, что магазин «Ковровое дело Шамси Шамсиев» был вновь открыт и что торговля возобновилась.
Восстановился также порядок в доме: почтенный хозяин не скитался на старости лет, как жалкий курд-кочевник, и спал в своей постели; вкусно стряпала старшая жена; искусно ткала ковры младшая; била баклуши в мечтах о женихе дочь, вернулся к привычным забавам сын.
А Баджи?
В первые дни после приезда Шамси избегал ее: стыдно было ему за свою слабость, когда он унизился перед девчонкой, прося ее охранять его дом.
Он обнаружил нехватку риса, масла, сушеных фруктов, но убедившись, что ковры и остальное добро в доме цело, не стал укорять Баджи. Аллах с ними, с этим рисом, с фруктами! Длилось бы вечно доброе старое время, а рис и фрукты всегда можно будет купить.
Дилявер-хала стала было чесать язык насчет русских солдат, которых Баджи пускала в его дом, но Шамси не поверил: врет, языкастая ведьма, иначе давно бы был дом его пуст; что ж до того, что девчонка шлялась по городу, то чего же еще можно ждать от черногородской? Шайтан с ней! Она, в конце концов, не его дочка, а только родственница-служанка.
В первые дни Шамси был склонен к великодушию. Но вскоре он дал почувствовать племяннице свою прежнюю власть…
Однажды Шамси послал Баджи с поручением в верхнюю часть города.
В одной из улиц, в тупике, Баджи увидела группу людей, стоявших перед низким полураскрытым окном и что-то внимательно слушавших.
Дул ветер, поднимая пыль, кричали мальчишки, скрипела проезжающая арба, но люди перед окном, казалось, всего этого не замечали.
Баджи протиснулась к окну. Ветер шевельнул светлую занавеску, и Баджи увидела комнату, посреди которой стоял мужчина… Он был строен, красив. У него было тонкое лицо, высокий лоб, темные вьющиеся волосы. В руках у мужчины не было ни тара, ни кеманчи, он не пел, не танцевал — он только говорил, но в голосе его, казалось, звучала песнь и музыка, в жестах улавливалось что-то похожее на танец.
Да, это был он — артист Гусейн!
Баджи слушала, забыв про дом в Крепости, и про Шамси, и про то, куда была послана с поручением. Ах, если б она умела говорить так, как говорит этот Гусейн!..
Артист окончил репетировать, люди, стоявшие под окном, разошлись. Но Баджи не уходила, — наверно, Гусейн скоро выйдет. Ей казалось, что прохожие смотрят на нее с презрением и укоризной — поджидать мужчину на улице! Но она решила — будь что будет! дождаться.
Ей повезло: артист вскоре вышел из дома. На нем были красивый костюм и шляпа; высокий крахмальный воротничок и манжеты сверкали белизной. Артист поровнялся с Баджи. Она отскочила, ахнув. Он заметил ее смущение и улыбнулся. Баджи хотелось заговорить с ним, но она но решалась и лишь не спускала с него восхищенного взгляда. Артист помедлил мгновенье и двинулся к центру города. Баджи пошла за ним следом.
Старики на каменных завалинках у ворот, завидя артиста, угрюмо отворачивались: не подобает так одеваться приличному мусульманину. Артист! Баджи слышала, как они перешептывались: «шут!», «бесстыдник!», «рыжий!»… Бели б знали они, как ненавидела их в эту минуту девочка под чадрой, идущая следом за артистом!
Баджи негодовала: будь она на месте Гусейна, она бы заткнула им рты! Но артист Гусейн, к ее удивлению, казалось, их не замечал и продолжал шагать с высоко поднятой головой.
Вот артист Гусейн и Баджи подошли к театру. Артист неожиданно обернулся, взглянул на Баджи. Он словно хотел ей что-то сказать, в чем-то ее предостеречь. В чем? Что нельзя женщине идти туда, куда идет мужчина, в театр? Чтобы она не шла за ним дальше?.. Артист исчез в дверях театра, оставив Баджи одну. И вдруг Баджи вспомнила о поручении, которое ей дал Шамси, и стремглав помчалась назад, в верхнюю часть города.
С этого дня, всякий раз, когда Шамси посылал Баджи в город с поручением, сворачивала она к дому, где жил артист Гусейн, и всякий раз, забыв про Крепость, и про Шамси, и про то, куда была она послана с поручением, подолгу простаивала перед низким окном со светлой занавеской, не замечая шума улицы, внимая голосу, в котором звучала песнь и музыка…
По прежнему громыхает посудой Ана-ханум.
Но теперь ей этого мало — хочется быть настоящей барыней. II в голову ей приходит мысль украсить свою комнату новым, каким-нибудь особенно красивым ковром, «по особому заказу». Жаль, что она не в ладах с Ругя — вот кто смог бы выткать такой коврик!
— Красивые мужчины — эти немецкие и турецкие офицеры, бросаем Анн ханум как бы невзначай, но с тайным намерением подладиться к Ругя.
Но та, к ее удивлению, отвечает:
— Разбойники они и воры!
Поносить немцев и турок в настоящее время опасно и уж, во всяком случае, неприлично. Следовало бы за такие слова пробрать эту Семьдесят два! Однако Ана-ханум понимает, что этим она восстановит против себя Ругя, и возражает возможно мягче:
— Ругя, милая, так это ж они армян грабят!
— А азербайджанцев будто они не грабят! Не видела ты, что ли, под Ганджой? Да если б они не грабили и не издевались, их бы наши крестьяне не убивали!
В голосе Ругя — гнев.
Ана-ханум уже не рада, что затеяла этот разговор об офицерах. Шайтан ее знает, эту Семьдесят два, как ей угодить! Не нравятся ей, видите ли, немцы и турки! Что до нее, до Ана-ханум, то ей турки и немцы нравятся — как и всем почтенным людям. А не нравятся они только тем, у кого за душой ни гроша!
Нравились они и Теймуру.
Он переехал в новую квартиру из двух комнат и галереи, натаскал туда ковры, одежду, наполнил коробку из-под ботинок золотыми часами, цепочками, браслетами, кольцами. Тутовой водки было сколько душе угодно, и женщин доступных было тоже вдоволь, и было с кем поволновать свою кровь игрой в карты и в азартнейшие «три альчика». Сущий рай!
Одно, впрочем, несколько смущало Теймура, и стыдно было ему в том признаться даже самому себе. Не раз ловил он себя на том, что при виде накрашенных женских щек и подведенных глаз вспоминает он другие щеки, с нежным пушком, как у персика, и другие ресницы, щеточками, не ведавшие сурьмы… Вот бы ему такую красотку, как Баджи!.. Что за дьявол! Неужели он в самом деле влюбился в дочку плешивого Дадаша?..
Доволен был возвращением доброго старого времени и мулла хаджи Абдул-Фатах.
Шел месяц махаррам — месяц печали и плача, но Абдул-Фатах, обращаясь с проповедью к прихожанам и предвкушая щедрые дары, которыми люди побогаче баловали теперь служителей неба в знак счастливого избавления от большевиков, с трудом находил в своем сердце слова печали и скорби, какие надлежит мулле произносить в этот месяц.
Незадолго до приближения дня шахсей-вахсей Абдул-Фатах напомнил Шамси:
— Пришла пора замаливать свои грехи!
Шамси не любил сурового махаррама, поста и крови, которую проливают правоверные шииты, истязая себя в день шахсей-вахсей; он предпочитал веселый новруз или курбан-байрам. Но закон есть закон, и надо его исполнять.
И Шамси обратился к Таги со следующими словами;
— Стар я, Таги, к тому же не подобает мне по моему положению истязать свои старые плечи, участвуя в шествии в память имама Хуссейна. Не согласишься ли ты, как это дозволено святым кораном, пойти вместо меня? Дела твои, вижу, не слишком хороши, а если б ты меня заменил, ты смог бы заработать несколько рублей, участвуя в добром, аллаху угодном деле. Труд этот, ты сам знаешь, не слишком велик: нет нужды истязать себя до полусмерти, как святые мученики, — ведь мы люди обыкновенные, да и не так уж много у меня грехов.
Таги мысленно соглашался. Дела его действительно не слишком хороши, а труд, по правде говоря, не слишком велик. Куда трудней таскать тяжести, получая за это копейки… Но Таги вдруг представил себе, как он будет ходить в пыли, терзая свои худые лопатки «занджиром» тяжелой связкой цепей, а тучный Шамси будет сидеть на ковре, предвкушая блаженство рая, и замотал головой:
— Не пойду за другого, своих грехов хватает!
Шамси удивился.
— Я ведь тебе же хотел удружить, дав заработать, а бедняков, которые согласятся, есть тысячи, — сказал он кротко, потому что не полагается спорить в месяц махаррам, когда все правоверные должны быть объединены в своей скорби.
— Придет время, таких бедняков вовсе не будет! — буркнул Таги.
— Ты, я вижу, наслушался безбожников и болтунов в ту смутную пору, — ответил Шамси, теряя кротость. — Добром не кончишь!..
Как это велось издавна, с наступлением последних дней месяца махаррам стали ходить по улицам многолюдные процессии в честь и память имама Хуссейна, павшего за веру с семьюдесятью своими приверженцами. Участники шествия были в длинных черных рубахах с овальными вырезами на лопатках, на которые падали мерные удары занджира, превращая лопатки в кровоточащие раны.
— Шах-сей!.. Вах-сей!.. — восклицали они.
Шамси шагал по тротуару, не сводя глаз с хромого фонарщика, которого он нанял вместо Таги и который ковылял сейчас вместе с процессией. Вяло, казалось Шамси, бил себя фонарщик занджиром, и Шамси готов был предаться горестным размышлениям о падении благочестия среди мусульман, как вдруг отряд турецкой военной полиции во главе с офицером преградил процессии путь и прервал мысли Шамси.
— Я такой же истинный правоверный, как вы! — обратился офицер к участникам шествия. — Мы, турецкие мусульмане, уже шестьсот лет проливаем свою кровь, борясь с врагами ислама. Но чем сейчас проявляете свою любовь к исламу вы? Тем, что ходите по улицам, истязая себя? Этого недостаточно! Если вы хотите пролить кровь за святое дело, вразумляйте всех, называющих себя правоверными, что сегодняшний день требует бесстрашной и неустанной священной войны с нашим врагом — с безбожниками-большевиками! Если хотите пролить кровь за святой ислам, идите на его врагов, идите все на север, на Петровск, откуда до сих пор не могут выгнать дагестанцы-мусульмане проклятых большевиков!
Шамси был смущен: много грехов осталось у него незамоленными, а вот турецкий офицер расстроил шествие.
Впрочем, Шамси был склонен оправдать турка: ведь они, как известно, сунниты, и сама их вера предписывает им бороться против шиитского шахсей-вахсей. Что ж до грехов, то их, в конце концов, можно будет замолить другими способами, да еще сэкономить сейчас — ведь не платить же фонарщику за сто легких ударов столько, сколько уговорено было платить за весь шахсей-вахсей.
Гораздо больше смутило Шамси иное — упоминание о Дагестане, о Петровске и о большевиках. Идти на Петровен против большевиков? Значит, существуют еще где-то поблизости эти большевики, и война с ними, значит, еще не окончена, и, значит, доброму старому времени снова грозит беда. Это наполняло сердце Шамси гораздо большим волнением и беспокойством, чем прерванная процессия, нерадивость хромого фонарщика и некоторые незамоленные грехи.
Вывески перекрашиваются
Хабибулла был влюблен в Нури-пашу.
С утра торчал он на улице против дома, где жил паша, в ожидании, когда тот выйдет и сядет в свой автомобиль.
Стоило серому автомобилю с флажком отъехать, как вслед за ним с криками «яшасын!» — «да здравствует!» — устремлялись на автомобилях и на фаэтонах члены мусаватского правительства, вожаки партии «мусават» и просто поклонники паши.
Положение журналиста давало Хабибулле возможность находиться среди этих людей. Аскеры, охранявшие священную особу паши, успели привыкнуть к его добровольной свите и не слишком усердно разгоняли ее. Лицо маленького человечка в темных очках примелькалось им еще в Гяндже, и Хабибулла почти беспрепятственно следовал за пашой, жадно ловя каждое его слово, с умилением, на тысячи ладов, передававшееся из уст в уста приверженцами и поклонниками паши. На следующий день в газете появлялась восторженная статейка Хабибуллы, воспевающая доблести Нури-паши и «кавказской мусульманской армии» и подписанная: Хабибулла-бек Гянджинский…
Работа в газете привела в эти дни Хабибуллу на прием к главе германской делегации в Азербайджане полковнику фон дер Гольцу.
— Установление отношений между германским имперским правительством и правительством Азербайджана уже достигнуто, — заявил фон дер Гольц, затягиваясь сигаретой, — и наше пребывание здесь является лучшим доказательством того глубокого дружественного интереса, который имперское правительство и фельдмаршал Людендорф проявляют к Кавказу.
— Наша газета подчеркивает этот дружественный интерес, — решился заметить Хабибулла.
— Это похвально, — поощрительно сказал фон дер Гольц.
— Наша газета также публикует результаты этого интереса, — добавил Хабибулла. — Мы отметили, например, что за вчерашний день в Германию экспортировано тридцать две цистерны с нефтью и сорок вагонов лучшей пшеницы.
— Потребности Германии значительно превосходят эти цифры! — улыбнулся фон дер Гольц, придвигая к Хабибулле ящик с сигарами.
Хабибулла понял, куда тот клонит.
— Мы не преминем осветить на страницах нашей газеты также и это обстоятельство, — отвечал Хабибулла — Наша газета будет способствовать тому, чтобы общественное мнение Азербайджана поняло и поддерживало интересы Германии. Уверен, что наше государство оправдает ожидания его величества императора Вильгельма и дружественной нам Германской империи.
Он говорил тоном вершителя судеб страны. Разве не беки созданы историей для того, чтоб управлять, повелевать? Разве род его не восходит к древнейшим властительным фамилиям Азербайджана? Будь Бахрам-бек жив, он бы порадовался за своего сына!
— Германская делегация не останется у вас в долгу, господин редактор, — завершил фон дер Гольц многозначительно.
«Господин редактор»?..
Голова у Хабибуллы приятно кружилась — вероятно, от крепкой сигары… Чем черт не шутит! Быть может, с помощью немцев он в самом деле не сегодня-завтра станет редактором? С немцами надо вести дружбу. И какой приятный человек этот барон!
В дальнейшем Хабибулла не раз посещал фон дер Гольца, получал от него поручения для газет и доставлял всевозможные сведения, которыми тот интересовался. И всякий раз фон дер Гольц придвигал к Хабибулле ящик с толстыми крепкими немецкими сигарами, от которых приятно кружилась у Хабибуллы голова, и казалось, что еще день-два, и мягкое редакторское кресло к его услугам…
Однажды, когда Нури-паша осматривал древний дворец ширван-шахов, Хабибулле удалось примкнуть к свите, сопровождавшей пашу. Возле больших, украшенных резьбой ворот в южной стене, окружающей дворец, наша остановился, пытаясь разобрать полустертую надпись.
— Если ваше высокопревосходительство разрешит, я прочту — я знаю этот текст! — неожиданно для самого себя произнес Хабибулла, выступив из дальних рядов и очутившись перед пашой. Ему казалось, что он летит в пропасть.
Нури оглядел тщедушную, угодливо склонившуюся фигуру Хабибуллы.
— Прочтите, — сказал он небрежно.
— Поведено строить это здание в 994 году со дня переселения пророка из Мекки в Медину, — не переводя духу, отчеканил Хабибулла. — Как раз тогда, милостью аллаха, доблестные оттоманские турки, во главе с храбрым Лала-Мустафа-пашой, приходили сюда в гости к нам, азербайджанским туркам! — осклабясь, добавил он.
Нури пропустил комплимент мимо ушей: в пору, о которой шла речь, туркам действительно удалось проникнуть в Азербайджан, но встречены они были народом враждебно и продержались в стране недолго…
Вечером, когда Хабибулла лежал на диване и переживал событие, происшедшее с ним у южных ворот дворца ширван-шахов, неожиданно явился Шамси. Хабибулла встретил его холодно.
— Говорят, что вывески теперь должны быть написаны по-турецки. Верно ли это? — спросил Шамси безразличным тоном, хотя вопрос этот был целью его прихода.
— Верно, — сказал Хабибулла.
— Неужели придется менять вывеску, которую ты когда-то так хорошо написал?
— Придется, — жестко ответил Хабибулла. — Все вывески магазинов, лавок, контор теперь должны быть написаны на турецком языке. Теперь все будет на турецком языке! Из Стамбула нашим правительством уже приглашены турецкие учителя для гимназии и выписаны турецкие учебники. Законы, наука, культура тоже будут турецкие! Таков приказ главного штаба «кавказской мусульманской армии» и самого Нури-паши… Сегодня я, кстати сказать, беседовал с ним — приятнейший человек!..
И Хабибулла рассказал Шамси о встрече с Нури-пашой у больших ворот дворца ширван-шахов, сильно приукрашая свою роль и любезность паши в этой встрече.
Шамси внимательно слушал его.
— А помнишь, Хабибулла, ты когда-то спорил со мной, говоря, что турки — наши враги?
Хабибулла нахмурился.
— Не вспоминай, Шамси, о том разговоре, — сказал он, понизив голос. — Тогда, увы, так приходилось говорить, потому что сильны были русские. Но теперь, ты сам видишь, победили турки, и, значит, турки — наши друзья. Наконец, разве об этом не заявил сам султан на приеме нашей мусаватской делегации в Стамбуле?.. Прошу тебя, Шамси, забудь о том разговоре! Ради нашей дружбы — забудь!.. А я бесплатно напишу тебе слова новой вывески, и не на нашем наречии, а на чистом стамбульском языке. И ты еще раз убедишься, что рука у меня легкая. Турецкая вывеска, поверь, принесет тебе новые деньги!
И Хабибулла взял листок бумаги и написал на турецком языке текст новой вывески.
Затаив дыхание следил Шамси за рукой Хабибуллы. Какой ученый человек! Какие знакомства теперь завел — с самим Нури-пашой!.. И тут Шамси вспомнил, как два года назад Хабибулла, написав русскую вывеску, намекнул, что неплохо было бы стать зятем Шамси Шамсиева, и как он, Шамси, лишь усмехнулся в ответ. Недальновиден, оказывается, был он тогда с этой усмешкой…
— Ты мой лучший друг! — сказал Шамси, глядя на листок с турецким текстом. — Счастлив был бы отец, видя на вывеске рядом со своим именем имя такого сына, как ты! — добавил он, намекая теперь, в свою очередь, что непрочь был бы иметь Хабибуллу своим зятем.
Но друг его был в этот день слишком горд, чтобы удостоить его ответом, — он только криво улыбнулся. Видно, друзья поменялись ролями.
Шамси протянул руку за листком, но Хабибулла неожиданно перевернул листок и решительно набросал на обороте:
«Сведущими лицами составляются здесь деловые бумаги на турецком языке».
Он повесит табличку с такой надписью на двери своей парадной. Прежде он умело составлял деловые бумаги на русском языке — теперь он будет составлять их на турецком. Занятие это не помешает его карьере. Напротив: оно даст ему хорошие деньги — турецкий язык будет теперь всюду необходим, а богатство, как он убеждался в последнее время, — родной брат карьеры и славы. Помимо того, выступая в качестве ходатая, он заведет много полезных знакомств. Наконец, он усовершенствует свои познания в турецком языке, которые, но правде говоря, далеко не столь серьезны, как это представляется невежественному Шамси.
— Когда будешь заказывать маляру турецкую вывеску, закажи заодно и для меня небольшую табличку, — сказал он, подавая Шамси листок.
«Опять расходы!..» — с тоской подумал Шамси, но приложив руку к груди, произнес:
— Для тебя, мой друг, нет у меня отказа!..
Маляр закрасил русский текст вывески и написал турецкий. С левого края остался полусвернутый в трубку узорный красный ковер, с правого — желтый, туго перетянутый веревкой тюк шерсти.
Стоя перед магазином и глядя на перекрашенную вывеску, Хабибулла философствовал.
— Все в жизни меняется, — говорил он, — поэтому и вывеска прежде была на русском языке, а теперь ей надлежит быть на турецком. — Этим он как бы хотел побудить Шамси примириться с необходимостью подобных расходов.
Сетовать Шамси, впрочем, особой нужды не было: торговля в магазине шла бойко, а вывеска, хотя и на турецком языке, по-прежнему указывала всем прохожим, что он, Шамси Шамсиев, владелец магазина, и привлекала покупателей.
Хабибулле послышалось, что сидевший у порога магазина Таги отпустил замечание по поводу вывески.
— Ты что говоришь? — спросил он, не расслышав слов, но почуяв в тоне Таги насмешку.
— Ничего, — ответил Таги.
— Как это «ничего», когда я сам слышал?
— Вам только послышалось, Хабибулла-бек.
— Нет, не послышалось! — вмешался Шамси. — Я тоже слышал, как ты что-то про змею лопотал.
— Про змею? — спросил Хабибулла настороженно.
— Ничего я не говорил! — воскликнул Таги. — Сижу себе тихо и размышляю.
Хабибулла снова почувствовал насмешку.
— Не о том, амбал, ты размышляешь, о чем тебе размышлять полагается! — произнес он с угрозой.
Друзья сердито оглядели Таги и вошли в магазин.
Таги остался у порога… Вывеска! Дважды он приносил ее сюда на своей спине. Сначала надпись была на русском языке, теперь — на турецком.
— Змеи кожу меняют, а все равно змеями остаются! — пробормотал Таги упрямо, глядя вслед Шамси и Хабибулле.
Кофе по-турецки
В гости к Нури-паше приехал из Турции его отец, Ахмед-паша.
Почтить гостя явился-фон дер Гольц. Возглавляя германскую делегацию в Азербайджане, он одновременно являлся представителем германского командования при «кавказской мусульманской армии».
— Приветствую счастливого отца двух великих генералов нашего времени! — напыщенно воскликнул фон дер Гольц, имея в виду и брата Нури, Энвер-пашу.
Глаза Ахмед-паши полузакрылись, словно от умиления.
— Я, со своей стороны, приветствую сына фельдмаршала фон дер Гольц-паши! — с внешней учтивостью ответил старый паша, подчеркивая этим, однако, что хотя полковник и является сыном известного преобразователя турецкой армии германского фельдмаршала фон дер Гольца, прозванного на турецкий лад фон дер Гольц-пашой, сам полковник — не слишком значительная персона. Год назад Ахмед-паша не позволил бы себе этой вольности, но теперь, в октябре 1918 года, когда на Западном фронте германские войска терпели жестокие поражения и чувствовалось начало полного разгрома, теперь можно было позволить себе уколоть этого напыщенного немца. — Я помню, — добавил Ахмед-паша, продолжая приветливо улыбаться, — как в свое время меня поразили исключительные дарования вашего отца: в первый же год прибытия в Стамбул он так хорошо усвоил турецкий язык, что уже на следующий год свободно читал по-турецки в высшем военном училище лекции о современной стратегии.
Фон дер Гольц принял комплимент паши как должное и самонадеянно улыбнулся.
— Военный талант — удел славной семьи фон дер Гольц! — вставил Нури. — Он всюду сверкает, этот талант, — в Стамбуле, здесь, на Севере!.. — Говоря о Севере, Нури имел в виду третьего отпрыска этой прусской юнкерской семьи, генерала фон дер Гольца, стоявшего во главе немецких войск, оккупировавших Финляндию, и потопившего там в крови революционное движение; несколько позднее этот фон дер Гольц командовал армией на советско-германской границе и вел тайные переговоры с белогвардейцами, готовя удар на советский Петроград.
Слуга внес кофе, приготовленный по-турецки.
— И рейнвейн! — приказал Нури. В присутствии немцев сыновья Ахмед-паши предпочитали немецкое.
Заговорили о значении Баку.
— Баку ждет судьба второго Стамбула, — заметил старый паша.
Нури было лестно слышать — разве не он, вторгшись в Баку, определил его судьбу.
— Особенно приятно, что она предопределена в согласии с интересами нашей великой союзницы, — сказал он фон дер Гольцу с любезной улыбкой, скрывавшей обиду: кому, как не Нури, было известно, что захват Баку и всего Азербайджана, хотя бы и турецкими руками, издавна являлся одним из важнейших звеньев в цепи намеченных Германией завоеваний? Город Баку немцы рассматривали не только как гигантский нефтяной резервуар, но и как ключ ко всему Востоку. Столь желанный для германских завоевателей «путь на Восток» пролегал именно через Азербайджан.
Немец отнесся к речам Нури и Ахмед-паши благосклонно.
— Германское командование всегда одобрительно относилось к турецким начинаниям, поскольку они отвечали интересам обоих государств, — ответил он и, считая, что обмен любезностями окончен, добавил деловым тоном: — Фельдмаршал Людендорф вместе с тем полагает, что эти начинания не должны отвлекать Турцию от ее прямых военных задач. К сожалению, некоторые узко национальные задачи Турции…
— Не забудьте, барон, что нас вдохновляет священный долг по отношению к русским мусульманам, — вставил Ахмед-паша.
— С этим священным долгом связываются вполне реальные цели, — возразил фон дер Гольц. Он имел в виду использование Турцией закавказского сырья и выражал при этом опасения Людендорфа, что германское военное хозяйство окажется обделенным.
— Не нам судить, если священному долгу сопутствуют реальные цели! — сказал старый паша, поднимая к небу глаза. — Турция, увы, слишком часто несла свою миссию бескорыстно, ради других государств. Нам представляется справедливым положение, при котором права Оттоманской империи на русский Восток были бы столь же неоспоримы, как права Германской империи на русские прибалтийские провинции.
Нури видел, что разговор коснулся щекотливой темы.
— Пусть вопросами высокой политики занимаются в Берлине фельдмаршал Людендорф и брат Энвер! — сказал он примирительно, поднимая бокал. — Мы с вами, барон, солдаты. Наше дело — воевать!
Разговор зашел о положении на Западном фронте.
Невеселые вести привез старый паша. Он прибыл в Баку немногим позже фон дер Гольца, но теперь, когда война на Западном фронте приближалась к развязке, каждый день приносил существенные изменения.
— На центральном участке атака врагов становится все ожесточенней, — сказал Ахмед-паша, отпивая глоток кофе. — На боевом поле Камбре — Сен-Кантен германские части отошли на тыловые позиции, оставив Камбре.
— Германские армии могут с успехом закрепиться на западном склоне Фрескуа ле Гран, — продолжал фон дер Гольц, заглядывая в карманный атлас.
— В Шампани французы и американцы предприняли новые атаки с большими силами и, судя по захваченным приказам, пытались прорвать германский фронт, — добавил паша.
— Но не прорвали, — заметил фон дер Гольц.
— Армия принца Рупрехта к западу от Дуэ отошла на новые позиции, — неумолимо продолжал Ахмед-паша. — Французские войска первой армии преследовали германские арьергарды между Сомой и Уазой. Во Фландрии неприятель возобновил атаки на широком фронте… — Казалось, он готов продолжать подобные сообщения бесконечно.
— Германские армии еще сверкнут как молнии! — с истинно тевтонской самонадеянностью воскликнул фон дер Гольц.
Он начинал раздражать Ахмед-пашу.
— Для нас молнии, к сожалению, уже отсверкали… печально сказал он, намекая на те турецкие армии, в которых командование и штаб состояли из германских офицеров и которые получили в Турции условное название «ильдырым» — молния; с месяц назад англичане, разбив турок в Палестине, покончили с этими армиями.
Разговор грозил принять опасную остроту. Нури взглянул на отца с укоризной: фон дер Гольц, правда, только сын фельдмаршала, но сейчас он представляет здесь интересы германского командования. Неужели старик не понимает, что его сыновья принуждены идти с немцами до конца и что, позволяя себе подобные остроты, он выступает против своих же сыновей? Наконец сейчас он, Нури, сам победитель, и незачем омрачать его торжество этими печальными сообщениями о поражении на западе.
— Дорога утомила отца, поэтому он так мрачно смотрит на наше будущее, — сказал Нури, словно извиняясь за стариковскую бесцеремонность Ахмед-паши. — Были люди, которые не менее мрачно смотрели на наш поход в Баку, однако вы, отец, и барон, и я — здесь!
Фон дер Гольц понял Нури.
— Мне известно, — сказал он, — что мусульманское население в восторге от оттоманских войск.
— Это верно… — сказал Нури и вдруг вспомнил девушку-азербайджанку, бросившую на него взгляд, полный страха и ненависти, когда он приказал повесить старика, укравшего у женщины браслет. Он вспомнил также лежавшую у него на столе в кабинете докладную записку начальника военной полиции, сообщавшую, что в городе распространились слухи о предстоящем уходе из Азербайджана турецких войск.
Фон дер Гольц и Нури обменялись еще рядом любезных фраз и дружески распрощались.
Провожая гостя через приемную, Нури увидел сидящего в дальнем углу мужчину. Завидя Нури и фон дер Гольца, мужчина поспешно встал, и Нури узнал в нем председателя совета министров Азербайджана Хан-Хойского. Только сейчас Нури вспомнил, что тот дожидается его уже около часа.
— Сейчас я приму вас, — сказал он и, проводив фот дер Гольца до самого выхода, вернулся к себе в кабинет. — Пусть войдет! — сказал он адъютанту, кивнув в сторону приемной.
После долгих приветствий и выражения верноподданнических чувств Хан-Хойский приступил к изложению цели своего прихода.
— Ваше высокопревосходительство… — робко начал он. — Я, как и все политические и общественные мусульманские деятели Азербайджана, стою на той точке зрения, что жизнь нашего молодого государства должна идти в полном согласии с политическими тенденциями Оттоманской империи. Для всех нас это непреложная истина… Но за последнее время, — продолжал он, стараясь говорить возможно мягче, — учащаются случаи вмешательства воинских чинов оттоманской армии в дела сугубо внутреннего управления Азербайджана, игнорируются азербайджанские власти… — И председатель совета министров перечислил ряд фактов. — Это создает нежелательное впечатление у населения, — закончил он.
— Что же вы предлагаете? — спросил Нури, пристальна глядя в глаза Хан-Хойскому.
Председатель совета министров наконец решился:
— Ваше высокопревосходительство! Мы полагаем, что государственное управление только тогда может рассчитывать на авторитет и послужить во благо государства, когда оно основано на принципе единовластия…
— Я не совсем понимаю вас, — прервал его Нури с усмешкой. — Кто же, по-вашему, должен стать единовластным: вы или мы?
— Ваше высокопревосходительство! Речь идет скорей о внешних формах суверенитета, без которых нам трудно рассчитывать на поддержку со стороны населения. Нам бы хотелось удостоиться чести, чтоб оттоманское правительство направило к нам в Азербайджан своего дипломатического представителя, подобно тому как это имеет место в Грузии и в Армении. Неужели мусульманский, братский Азербайджан менее достоин того, чем Армения, искони враждебная Оттоманской империи?
— Когда оттоманское правительство найдет нужным, оно направит своего дипломатического представителя и сюда, — сухо сказал Нури. — Меня, я вижу, вам недостаточно! — добавил он резко.
Хан-Хойский понял, что зашел далеко.
— Ваше высокопревосходительство! — поспешил он. — Вы знаете, как наша нация вам благодарна, и пока существует Азербайджан, ваше имя будет в сердцах и на устах его сынов…
«Нация? усмехнулся про себя Нури. — Одно из наших тюркских племен, не имеющих и тени права на самостоятельность!» — Он вспомнил забавного человечка в темных очках и угодливость, с какой тот говорил о захвате своей страны турками.
— И конечно же, — продолжал председатель совета министров, я и все правительство Азербайджана готовы выполнять любые ваши приказы и пожелания…
«Двуличный пес!» — подумал Нури: кое-кто из мусаватистов, стремясь выслужиться, успел донести ему, что Хан-Хойский отправил шифрованную телеграмму в Стамбул своему дипломатическому представителю с просьбой поднять перед турецким правительством вопрос о единовластии в Азербайджане; копия этой телеграммы лежала в ящике стола Нури.
— Изложите все эти мысли в письменной форме, — сказал Нури, вставая. — На досуге я разберу… А пока не буду вас больше задерживать.
Почтительно кланяясь и долго не смея повернуться к Нури спиной, председатель совета министров вышел из кабинета.
Нури остался один.
Было поздно. Но спать ему не хотелось. Он был раздражен беседой с Хан-Хойским. Неужели этот, с позволения сказать, председатель совета министров, этот назойливый, бестактный, двуличный кляузник не понимает, что если он, ферик Нури-паша, находится здесь с войсками, то не для того, чтоб подчиняться этому жалкому, им же самим рекомендованному и сформированному правительству?
Особенно Нури был взволнован вестями, привезенными отцом.
Конечно, Нури знал, что еще месяц назад прорван был турецко-болгарский фронт в Македонии, что англичане разбили турок в Палестине, но все еще жива была вера в помощь со стороны Германии. А вот сегодня отец сообщил столь печальные вести и о Западном фронте.
Грозные тучи нависли над Турцией, и это, конечно, тревожило Нури, но, точно по злой иронии судьбы, его собственные дела здесь, в Закавказье, шли великолепно. Именно месяц назад, когда случились эти несчастья в Македонии и в Палестине, он занял Баку. А сейчас, когда уже взят Дербент и турецкие войска движутся вдоль берега моря на север, чтоб в ближайшие дни вырвать у большевиков Петровск, приходит весть о жестоких поражениях Германии на Западном фронте. За каждым глотком славы, сладкой и возбуждающей, поднималась со дна темная горькая гуща.
«Кофе по-турецки!» — усмехнулся Нури про себя.
Он вспомнил своего брата Энвера.
Брат его был удачник, ему всегда везло. Правда, брату сейчас тоже несладко, но ведь добрые десять лет он купался в славе и почестях. Брат был всегда полон дерзких, рискованных планов, мечтал о завладении всем Кавказом и Закавказьем, Крымом и Туркестаном. Пантуранское государство с Турцией во главе! Казалось, союз с Германией мог тому способствовать. А как ценили брата в Германии! Разве не видел он, Нури, собственными глазами таблички с надписью «Энверланд» на поездах, шедших из Берлина в Стамбул? Это означало многое, очень многое, — по крайней мере, в свое время.
Нури снова выпил вина.
Брат был известным человеком… А кем до сих пор был он, Нури? Он был только братом Энвер-паши — так, во всяком случае, отвечали, когда спрашивали: «какой Нури?» — и в тайниках души мечтал, чтоб об Энвере говорили, как о брате Нури-паши. Мечтать об этом сейчас есть достаточные основания: уже в его, Нури, руках Азербайджан и юг Дагестана, скоро будут весь Кавказ и все Закавказье, Крым и Туркестан! Кто знает, может быть, не на долю Энвера, а на его, Нури, долю выпадет честь и слава создать это пантуранское государство? И вот в такую минуту, когда так близка цель…
Взгляд Нури упал на докладную записку начальника военной полиции. Нури резко встал и хлопнул в ладоши. Вошел адъютант.
— Пишите! — сказал Нури и стал диктовать приказ: — «По дошедшим до меня сведениям, злые языки распространяют среди населения слухи о предстоящем отозвании из Азербайджана оттоманских войск. Сим объявляю, что Оттоманской империи нет нужды отзывать ту горсть аскеров, которая ныне пребывает здесь. У империи достаточно боевых сил, чтобы… — Нури помедлил и губы его сжались, как у Энвера в минуты гнева, — …чтобы размозжить голову каждому, кто вздумает покушаться на наш мусульманский Азербайджан, и таковыми силами с помощью всевышнего мы всегда будем располагать!..» Приказ исполнять неукоснительно! Идите!..
Адъютант вышел. Выпив еще бокал, Нури подошел к окну. Возбуждение его усиливалось.
И вдруг ему вспомнилась картинка, которую много лет назад он видел на страницах книги о Наполеоне. Император стоял у окна, скрестив руки и глядя на купола церквей Москвы. Эту картину показал ему тогда Энвер, увлекавшийся Наполеоном. Наполеон! Он был кумиром сыновей Ахмед-паши. Бюст императора всегда стоял на столе Энвера, и вслед за братом поставил такой же бюст на свой стол Нури.
Наполеон!.. Когда-то император со своей армией дошел с берегов Сены до Москвы, проделав тысячи верст… Но разве турецкие войска под его, Нури, командованием не проделали сейчас поход, достойный удивления — от моря до моря, через горы и степи, — и не движутся на север, в Россию? Быть может, через месяц-два немцы и турки, соединившись на русских полях, тоже пойдут на Москву? Разве Сулейман Великолепный не доходил в свое время до Вены?..
Так мечтал Нури, опьяненный рейнвейном.
Что знал он о чуждом ему свободном русском народе, о полководцах великой страны, о бескрайных степях, дремучих лесах, снегах России? Что знал о судьбе вражеских полчищ, шедших туда с огнем и мечом и бесславно истлевших на русской земле?..
Нури стало жарко. Он распахнул окно. Резкий северный ветер ворвался в комнату, сметая со стола бумаги.
Снова англичане
В один из осенних вечеров в казарму для бессемейных вбежал запыхавшись тарталыцик-ардебилец с газетой в руке.
— Что дадите, друзья, за добрую весть? — воскликнул он, потрясая свежей газетой.
— Уж не ты ли ее в газете вычитал? — спросил Рагим с добродушной усмешкой, намекая на то, что ардебилец неграмотен.
— Я еще слепой, это верно, — ответил ардебилец, не обидевшись, — но только есть у меня поводыри хорошие… Да поглядите вы, друзья, сами!..
Юнус заглянул в газету и вслух прочел:
— «Новые переброски сил, произведенные турками и немцами на фронтах, не могли изменить создавшейся обстановки… Турция окончательно разбита и капитулировала… Турки заключили перемирие с Антантой в Мудросе… Капитуляция обязывает Турцию вывести свои войска из Закавказья, из Азербайджана…»
Он не успел дочитать — его прервали радостные крики:
— Долой турецких пашей!..
— И их прислужников мусаватистов!..
— Нури-пашу и Сидхи-бея — долой!..
А ардебилец, потрясая кулаком, сурово добавил:
— И хозяев, грабящих народ!
В казарму вошел Газанфар — он в этот день отсутствовал с раннего утра. Бросив взгляд на газету, Газанфар сразу понял, о чем здесь идет речь, но лицо его, к общему удивлению, не выразило той радости, которую можно было, казалось, в такие минуты ожидать.
— Ты что же, Газанфар, не радуешься добрым вестям? — удивленно спросил Арам, кивнув на газету, и одним духом повторил то, что только что прочел в газете Юнус.
— Вести, разумеется, неплохие — мне они уже известны… — спокойно ответил Газанфар. — Но кое-что очень важное вы, товарищи, видно, на радостях проглядели…
Все снова потянулись к газете.
— Не дочитали, видно, вы следующих слов: «…и предусматривает оккупацию страны войсками Антанты».
Наступила тишина.
Старик кирмакинец спросил:
— Войсками Антанты?.. Англичанами, что ли?
Газанфар кивнул:
— Вот именно. А это значит, что вместо одних наших врагов, германо-турок, явятся к нам не меньшие наши враги — англичане, и этого, друзья, никак не нужно забывать! Разве не англичане способствовали падению нашей Коммуны и тем самым, по сути дела, ввергли город во власть германо-турок? Разве не они уже однажды, с помощью вероломства и гнусного обмана, вползли в город? Разве не они виновники исчезновения, а может быть, и гибели наших товарищей Шаумяна, Азизбекова, Джапаридзе, Фиолетова и других, отправленных за море на пароходе «Туркмен»? Мы должны помнить об этом постоянно!
Рабочие переглянулись.
О да! О врагах-англичанах на промыслах и на заводах не забывали, они оставили но себе черную память, их нельзя было забыть!..
И все же сердца бакинцев наполнялись радостью при вести, что ненавистные турецкие войска уходят. Много, слишком много крови пролили они, слишком много бед натворили все эти паши, беи, эфенди и аскеры!..
Вскоре начался поспешный уход турецких войск.
Потянулись из города эшелоны с нефтью, керосином, нефтепродуктами, хлебом, оружием, мебелью, мануфактурой — все, что только могли, увозили с собой турки. Даже соль, припасенную на рыбных промыслах для засола рыбы, увезли с собой обанкротившиеся турецкие вояки!
Презрением и ненавистью провожали их рабочие люди, люди труда. Что оставили здесь эти турки после двухмесячного хозяйничанья? Разрушенные дома, следы пожарищ, выбитые окна, нечистоты. Пусть убираются поскорее откуда пришли!..
Не успели уйти последние турецкие эшелоны по железной дороге, как с моря, на пароходах, стали прибывать из Северного Ирана англичане.
Снова застучали по бакинским мостовым подкованные железом английские башмаки. И на этот раз они стучали уверенней и громче, чем два месяца назад.
— Настойчивые они, наши гости! — с недоброй усмешкой говорит Юнус. — Ушли не солоно хлебавши в сентябре, приперлись снова в ноябре.
— Распоряжаются эти наглецы в чужом доме, как хозяева, — замечает Рагим. — Заняли, говорят, женскую Мариинскую гимназию, пятое начальное и много других училищ, выбрасывают школьное оборудование во двор. Шатаются по улицам пьяные, орут, ругаются, задевают женщин — за людей нас не считают!
— Зато на обещания они не скупятся! — добавляет Газанфар, уткнувшись в газету, где напечатано обращение британского командования к населению. — Чего только они нам не обещают, эти короткоштанники!.. «Все, чем бедна сейчас Россия и город Баку…» — язвительно цитирует он слова главы британского командования в Азербайджане генерала Томсона. — Они обещают нам английскую мануфактуру, итальянские ботинки, голландское какао, аргентинское мясо, модные французские шляпы!..
— Тоже своего рода интернационал! — усмехается Арам.
Не остается безразличным к генеральским посулам и Юнус.
— Модной французской шляпы мне как раз-то и не хватает! — с подчеркнутой серьезностью говорит он, указывая на свой запыленный, весь в нефтяных пятнах картуз.
— Тебе такая шляпа была бы к лицу! — в тон Юнусу подхватывает Газанфар. — И ты ее, согласно обращению генерала Томсона, смог бы легко получить… При некоторых, конечно, условиях…
— А именно?
— Если не будешь участвовать в сборищах, не будешь устраивать собраний, не будешь участвовать в стачках, не будешь хранить оружия…
Газанфар готов продолжать перечень запрещений, изложенных в обращении, но Юнусу и этого достаточно:
— Как-нибудь обойдусь и без модной французской шляпы! — говорит он, комично вздыхая. — Я ведь не инженер Кулль, чтоб с каждым новым ветром менять шапку!
Арам одобрительно кивает головой:
— Недаром, видно, говорится: недостаточно надеть папаху, надо еще при этом быть мужественным!
— Да, — охотно соглашается Газанфар, — мужественным быть всегда необходимо, и особенно это необходимо в такое время, как сейчас… — Газанфар снова берется за газету: — «…Те войска, которые находятся в данный момент под моим командованием в городе Баку, являются лишь передовой частью союзной армии, которая в скором времени займет Кавказ… Англичане и их союзники — враги большевиков. Я призываю вас бороться против большевизма во всех его видах…»
— Насчет этого генерал здесь сочувствия не найдет! — восклицает Юнус.
— А все-таки пытается! — возражает Газанфар. — Рассчитывает прежде всего на эсеров и меньшевиков, ну и вообще на изменников и предателей всех сортов.
— Я бы их всех… — Юнус сдерживает крепкое словцо.
— Наступит и для них роковой час! — сурово заключает Арам.
С появлением англичан подобные беседы возникали повсюду — на промыслах, на заводах, на пароходах, в порту.
Когда последние турецкие части отправились на вокзал, Шамси не на шутку встревожился: не прошло двух месяцев, как старый добрый порядок восстановился, и вот — опять перемены! Что сулят они, эти перемены?
Он поделился своими тревогами с Хабибуллой. Но тот, к удивлению Шамси, был не слишком обеспокоен.
— Зря не тревожь сердце! — ответил он. — Охранять наш покой будут теперь наши друзья англичане!
— Наши друзья англичане? — изумленно и в еще большей тревоге воскликнул Шамси, вспоминая все нелестное, что еще так недавно приписывал англичанам Хабибулла.
— Сам Хан-Хойский сказал, что англичане не причинят нам никакого вреда и будут защищать нас от большевиков, — поспешил добавить Хабибулла, чтобы придать вес своим словам.
Но Шамси в ответ только покачивал головой… Трудно понять Хабибуллу, трудно понять всех этих важных людей, стоящих сейчас у власти!.. Поразмыслив, однако, Шамси понял, в чем суть столь разительной перемены в симпатиях Хабибуллы. Два с лишним года назад, когда он, Шамси, вымолвил слово жалости о пленных турках, Хабибулла обрушился на него со словами: «Не время теперь ссориться с русским царем, ибо он, видимо, одолевает Турцию!», а впоследствии, когда немцы и турки заняли Баку, Хабибулла просительно сказал: «Не вспоминай, Шамси, о том разговоре, тогда, увы, так приходилось говорить, потому что сильней был русский царь; но теперь, ты сам видишь, победил султан, и, значит, турки — наши друзья». Месяц с небольшим прошел с той поры, не успели уйти из города турки, а Хабибулла уже заявляет, что друзья мусульман — англичане. Дружить, по мнению Хабибуллы и всех этих людей, вроде Хан-Хойского, означало, по-видимому, ладить с теми, кто в данное время сильнее. Никак не иначе!..
Поведение Хабибуллы окончательно в этом убеждало.
С первых же дней высадки в Баку английских войск Хабибулла стал настойчиво искать связей с сынами Альбиона.
У него появились новые знакомые — английские офицеры. Он, казалось, забыл своих недавних друзей — немцев и турок, полковника барона фон дер Гольца и даже самого Нури-пашу. Забросив учебник турецкого языка, Хабибулла засел за самоучитель английского, жестоко укоряя себя за то, что в свое время пренебрегал этим языком.
Он познакомился с английским военным корреспондентом Лидделем, получавшим из министерства иностранных дел Азербайджана солидные суммы за печатание на страницах «Таймса» благоприятных для мусаватского правительства корреспонденций, и добился того, что Лиддель пригласил его к себе. Гость и хозяин беседовали о положении дел в Азербайджане; причем хозяин больше расспрашивал, а гость с готовностью отвечал. Они много курили, и изящные ароматные сигареты «Голд флэйк» из виргинского табака — в пачках по десять штук или в жестяных круглых коробках по пятьдесят — кружили Хабибулле голову не менее приятно, чем толстые и дымные сигары барона фон дер Гольца…
Вскоре, впрочем, появились у Хабибуллы еще новые друзья и вместе с ними — новые заботы.
В январе прибыла в Баку американская миссия, руководимая полковником Гаскелем, а следом за ней — миссия во главе с полковником Хиллом.
Ни тот, ни другой полковник Хабибуллу к себе не допустил, но ему удалось завязать знакомство кое с кем из второстепенных работников миссий.
Все они утверждали, что задача американских миссий в Баку — обследование Азербайджана в политическом и экономическом отношениях, и охотно вели с Хабибуллой беседы на эти темы. Что ж, Хабибулла старался быть полезным собеседником — он уже приобрел в подобных делах известный опыт, общаясь с полковником фон дер Гольцем и журналистом Лидделем.
Раскрыв однажды американскую газету, в которую был завернут шоколад, полученный в подарок от новых друзей из миссии, Хабибулла задержал взгляд на статье, привлекшей его внимание неоднократным упоминанием слова «Кавказ». Вооружившись словарем, Хабибулла принялся прилежно переводить текст.
«Необходимо подготовить крупные силы для использования их в Северной Персии и на Кавказе. Возможно, что это направление — важнейшее для союзников. Первоочередная задача союзников — занятие важнейших нефтяных районов Кавказа…» — прочел Хабибулла.
Он пришел в доброе расположение духа: черт возьми! — он почти свободно переводит текст американской газеты. Что же до самого текста — то и здесь не было никаких оснований для огорчений; какая, в сущности, разница, кто будет владеть бакинской нефтью — немцы, англичане, американцы? Только бы не большевики!..
По городу расклеены были приказы британского командования.
Они грозили населению штрафами, тюрьмой, телесными наказаниями, публичной смертной казнью. Люди толпились у стен, читали приказы, перешептывались.
Однажды Баджи увидела, как в центре города, в сквере, какие-то люди возводили земляной вал. Тут же стояло несколько английских офицеров. На них были короткие пальто с кожаными пуговицами; брюки навыпуск были тщательно отутюжены, коричневые ботинки до блеска начищены; кокарды на кепи, буквы и звезды на погонах сверкали. Все в этих англичанах дышало надменностью и самодовольством.
Баджи стояла поодаль, среди других, и наблюдала, как растет посреди сквера земляной вал, и не могла понять: для чего он? Но когда вал вырос в человеческий рост и на столбе подле него наклеен был приказ, кто-то в толпе шепотом произнес:
— Здесь будут расстреливать…
Вал был воздвигнут. Баджи вспомнила турецкие виселицы. Англичане прошли мимо Баджи размеренным шагом, о чем-то спокойно беседуя. Один из них указал на Баджи пальцем, и все громко рассмеялись.
— Такие же, видно, разбойники, как турки! — всердцах пробормотала Баджи.
Две смерти
Возле дома, где жил артист Гусейн, толпились люди. В этот день их было больше, чем обычно.
«Наверно, что-то интересное говорит — еще интереснее, чем в прошлый раз!» — обрадовалась Баджи и ускорила шаг.
Но окно, откуда обычно слышался вдохновенный голос, было в этот раз завешено черной материей, а люди, обычно внимавшие голосу артиста молча и благоговейно, сейчас были возбуждены и о чем-то взволнованно переговаривались.
Оказывается, артиста Гусейна убили!
Баджи вслушивалась в разговоры. Убили!.. Для того, чтоб ограбить? Нет, артист был беден. Говорили, что дядя Гусейна, богатый торговец, хотел заставить племянника работать у него приказчиком. А Гусейн хотел остаться артистом. Племянник и дядя часто ссорились. Говорили, что особенно враждовал Гусейн с сыном дяди Абдулхалыком, — тот якобы хотел отнять у Гусейна жену. И вот дядя с сыном убили Гусейна.
Высокий человек, с виду похожий на рабочего и чем-то напоминавший Баджи Газанфара, громко говорил:
— Еще совсем недавно я видел Гусейна в балаханском драматическом кружке. И вот — убили нашего Гусейна!.. Убили проклятые мусаватисты за то, что он стоял за народ, за то, что ездил в советскую Астрахань!
Баджи вспомнила осенний день, пароходы, уходящие в море, красноармейцев, тетю Марию, Сашу. Астрахань? Видно, все хорошие люди стремятся туда, и за это преследуют их люди дурные. Кто знает, быть может, тетя Мария и Саша встречались там, в Астрахани, с артистом Гусейном…
Вернувшись домой и войдя в комнату для гостей, чтобы сообщить Шамси о выполненном поручении, Баджи услышала слова Абдул-Фатаха:
— Тело вынесут утром из мечети Хаджи Имам Али.
«И здесь уже знают!» — подумала Баджи.
— Непонятная это штука — смерть… — промолвил Шамси задумчиво.
Абдул-Фатах отхлебнул глоток чаю.
— Все в этом мире смертно — так установлено самим аллахом, — ответил он, разводя руками.
— Это, конечно, верно, — согласился Шамси. — И если уж умереть, то я бы сам хотел умереть так, как умер он — да благословит аллах его намять! — на своей постели, окруженный любящими родственниками, в богатстве, в почете… Жаль только, что он долго болел и мучился.
Баджи насторожилась.
Окруженный любящими родственниками? Уж не торговец ли со своим сынком, убившим Гусейна, — эти любящие родственники? В богатстве? Но ведь там, у окна, говорили, что Гусейн был беден? Долго болел и мучился? Она видела его здоровым всего два-три дня назад!
— Неправда все это! — вырвалось у Баджи.
Шамси бросил на нее удивленный взгляд:
— А ты почем знаешь?
— Не от болезни он умер, его убил сын его дяди, Абдулхалык, мусаватист! — с гневом воскликнула Баджи.
— Что ты болтаешь, дура? — сказал Шамси сердито. — Да руки отсохли бы у того, кто поднял бы оружие против такого достойнейшего человека, как Муса!
— Какой Муса?.. — в свою очередь удивилась Баджи.
— Муса Нагиев, дура!
Муса Нагиев? Тот, кого она видела в Исмаилие? С руками, важно заложенными в карманы, с золотой цепочкой на животе? Так вот, оказывается, о ком шла тут речь?
— Я думала, вы говорите об артисте… — пробормотала Баджи смущенно.
— О каком таком артисте? — буркнул Шамси.
— Артисте Гусейне… Его убили…
— Мало, что ли, каждый день убивают бродяг и шутов! Невелика птица!
Баджи закрыла уши руками, как закрывала, когда ругали при ней брата, и выбежала из комнаты.
Шамси не мог успокоиться:
— Ну и девчонка: слышать скорбную весть о смерти достойнейшего Мусы и допустить, что речь идет о смерти какого-то шута базарного!.. — Взгляд его упал на принесенную Абдул-Фатахом газету с траурными извещениями о смерти богача. — Ты смотри, хаджи, сколько их, смотри!.. — И Шамси стал подсчитывать объявления, окаймленные широкой траурной рамкой, любуясь ими и умиляясь. Вдруг он увидел в самом низу газетной полосы небольшой черный прямоугольник, помещенный отдельно: неужели такой маленький — о Мусе? Шамси вгляделся. — Девчонка вроде права, — пробормотал он, прочтя извещение. — Здесь написано о смерти артиста Гусейна. Посчастливилось этому шуту умереть в один день с Мусой!.. Знаешь, хаджи, у меня на душе как-то хорошо, что я в свое время уступил Мусе замечательный коврик, кубинский халибаласи, не торгуясь.
— Смерть его — горе для всех добрых мусульман! — завершил беседу Абдул-Фатах, перевернув стакан вверх дном.
Говорили о смерти и на женской половине.
— Мусу, конечно, аллах возьмет в рай, — сказала Ана-ханум убежденно.
Фатьма поддакнула:
— Таким людям только и быть в раю!
Но Ругя возразила:
— А что он такого хорошего сделал, чтоб его взяли в рай?
— А кто в городе дома понастроил на каждой улице? — вызывающе спросила Ана-ханум.
— Дома строят каменщики и плотники!.. — Задумавшись, Ругя добавила: — Кто знает, может быть, рая вовсе и нет?..
Ана-ханум вскипела:
— Скажи еще, что и бога нет!
— Я его не видела, — ответила Ругя, пожав плечами.
О боге, о рае, о смерти долго шли разговоры и споры на женской половине.
Глядя, как движется по улице похоронная процессия за гробом Гусейна, Баджи удивлялась множеству людей. Это были тысячи рабочих, прибывших из нефтяных районов, чтобы проводить своего любимого артиста в последний путь. По дороге на кладбище люди собирались группами, произносили взволнованные, полные скорби и гнева речи.
Баджи вспоминала разговоры на женской половине.
«Бог?..» — размышляла она, вперив взор в небо. Сколько раз она молилась ему как умела, и всякий раз безответно. Где же он, этот бог? Где же он, его рай?
«Смерть?..» Мертвы отец и мать, мертвы четыре сестры, мертвы те, кого убили турецкие снаряды. И вот теперь мертв артист Гусейн, убит мусаватистами. Да, смерть существует.
Почему же не верилось Баджи, что затих навеки голос артиста Гусейна, ушел бесследно и безвозвратно?
Канун новруза
Все в этом мире смертно — так установлено самим аллахом, но живым надлежит жить и славить аллаха и пользоваться благами быстротекущей жизни.
Как велит добрый старый обычай, еще за месяц до праздника, каждый вторник по вечерам, взбирался Шамси на плоскую крышу своего дома и разводил там маленький костер. Он окидывал взором старую Крепость и, видя множество таких же костров на крышах соседних и дальних домов и очертания минаретов в трепетном свете огней, радовался: он живет в мусульманском мире, в своем собственном доме, он хозяин в семье и в магазине.
Печально, конечно, что вдоль стен домов сидят нищие и протягивают к прохожим свои тощие руки. Но разве не подает он милостыню по четвергам, как это велит святой закон? А тем, кому вынужден отказать — нельзя же облагодетельствовать всех, — разве не отвечает он учтиво и сочувственно, как полагается: «аллах подаст»? Да, наконец, если подумать, то оказанием помощи нищим должны заниматься не такие люди, как он, а эти самые благотворительные общества, которых в последнее время развелось великое множество.
Шамси вспоминал прошлогодний новруз, принесший богатым и видным мусульманам столько печали и горя. Неужели и этот новруз, который встречают теперь при добром старом порядке, не принесет счастья? Быть не может! Но если так, почему не отпраздновать светлый праздник новруз с блеском, весельем и шумом, как того достойны многострадальные мусульмане?
Думать так у Шамси в эту пору были и другие, не менее веские, основания.
Как раз несколько дней назад привел к нему Хабибулла одного своего нового знакомого — англичанина, полковника.
— Хотя я маклерским делом больше не занимаюсь — дела у меня теперь поважней! — но оказать услугу друзьям я всегда готов, — заявил Хабибулла.
Шамси выложил перед англичанином свой лучший товар и заломил цену. Англичанин купил у Шамси два текинских и три ганджинских ковра среднего размера, карабахский ковровый комплект, два молитвенных коврика и сто шкурок каракуля. И Шамси хорошо заработал. Впрочем, он понимал, что и клиент не остался в накладе: хитрый народ англичане! — стоило англичанину купить два ковра и один из них отправить в родные края и там продать — второй оказывался приобретенным на дармовщину. Надо думать, что так поступал и этот полковник, побывавший не только у Шамси, но и у других ковроторговцев. Пошлина? Да кто же не знает, что при погрузке на пароходы служащие таможни не допускаются к проверке английских грузов! Кто же не знает, что все отправляемые из Баку английские грузы доставляются на пристань под конвоем английских солдат и грузятся на пароходы под наблюдением английских офицеров? Контроль над вывозом по железной дороге? Поди проконтролируй этих англичан, когда дорога в их руках! Мусаватские железнодорожные патрули? Шамси пренебрежительно махал рукой — куда им!..
Да, много, много ковров и шкурок каракуля скупали теперь по всему Азербайджану англичане — офицеры и штатские. И немалые прибыли записывали в свои счетные книги ковроторговцы…
Кого намеревался Шамси пригласить на светлый праздник новруз?
Прежде всего, конечно, родственников, ибо, что ни говори, а родная кровь все же ближе чужой. Затем кое-кого из соседей, потому что если не жить в ладу с соседями, быстро сживут тебя со свету. Конечно, муллу Абдул-Фатаха, потому что он друг и потому что ни один хороший новруз не обходится без муллы. И конечно же и непременно — Хабибуллу, потому что желание иметь Хабибуллу зятем не покидает его, Шамси, с того дня, когда он приходил к Хабибулле просить перевести слова вывески на турецкий язык.
Все охотно приняли приглашение Шамси. Только Хабибулла отказался.
— С тех пор как я тебя знаю, не было ни одного новруза, который ты бы провел не у меня, — сказал Шамси, и обида прозвучала в его голосе.
— Так было, — согласился Хабибулла. — Но теперь я не волен собой распоряжаться — я всю свою жизнь отдаю нации… Как раз на тот день и на тот час, когда ты созываешь гостей, в общественном собрании назначена новогодняя встреча виднейших людей, и я на эту встречу уже приглашен. Там будут министры и сам председатель совета министров, там будут азербайджанский муфтий и шейх-уль-ислам, и члены парламента, и представители иностранных держав. Там, наконец, будет Ляля-ханум, племянница Ага-бека, с которой, как ты знаешь, мы большие друзья. Могу ли я, сам посуди, отказаться?
Шамси поник головой.
— Да, мне с такими людьми не тягаться…
Хабибулла в самом деле имел приглашение на новогодний банкет в общественном собрании: он получил его ценой услуг, оказанных дяде Ляля-ханум, Ага-беку, в одном щекотливом деле. Теперь ему часто давали подобные поручения.
Что ждет его у Шамси? Стол, конечно, будет прекрасный — старшая жена постарается! — но в остальном — ничего интересного: те же унылые родственники хозяина, те же невежественные лавочники, тот же непременный мулла Абдул-Фатах, разыгрывающий из себя мудреца. Не такого общества достоин человек, вращающийся среди членов правительства и вождей «мусавата», и даже среди англичан!
— Быть может, все же сумеешь прийти попозже? — спросил Шамси с надеждой в голосе.
— Я постараюсь, — снизошел Хабибулла.
За две недели до праздника Шамси приказал домочадцам подготовить дом к приему гостей.
Стали белить потолки и стены, выметать сор из каждого уголка, мыть и чистить ковры. Позвали лудильщика, и он, целый день дымя во дворе костром и громыхая, вылудил всю медную посуду. Засеяли в глиняных и фарфоровых плошках различные семена, всходящие в короткий срок в теплом комнатном воздухе, — пол и подоконники будут украшены к празднику свежей нежной зеленью.
Только и слышалось:
— Баджи, беги за мелом!
— Баджи, вымети из-под лестницы!
— Вымой коврик, Баджи!
Немало было хлопот и с шитьем новых платьев и с обувью. Женщины завистливо следили одна за другой. Ана-ханум тревожилась: с этой Ругя, увы, ничего не поделаешь — хотя и младшая, а все же жена; но служанку-родственницу зря баловать незачем, хватит с нее, если попользуется обносками!
Шамси в этом году расщедрился и выдал Ана-ханум немало денег, чтобы она приготовила угощение на славу жирней и слаще, чем в любой прошлый новруз. И особенно наказал он ей готовить старинные вкусные кушанья, как это, собственно, и полагается на новруз.
В канун праздника Ана-ханум велела Баджи начистит!.. до блеска большое медное блюдо, разложила на нем всевозможные сладости, печенье и фрукты и прикрепила на краях блюда цветные свечи, которые предстояло зажечь с приходом гостей. А посредине блюда Ана-ханум положила огромную голову рыбы, сазана, — их привозят для праздничной трапезы рыбаки с низовьев Куры.
Голова рыбы на одном блюде со сладостями, печеньем и фруктами? Неужели не нашлось в хозяйстве Ана-ханум отдельного блюда? Нелепо так думать! Просто Ана-ханум знала, что так делали в новруз женщины в доме ее отца и деда и что ей надлежит следовать обычаю. Для чего она здесь, рыбья голова, на таком блюде? Об этом Ана-ханум не задумывалась — незачем утруждать мозги излишними размышлениями!
В канун новруза все женщины тщательно вымылись в бане — отмылись от скверны минувшего года, умастили себя розовым маслом, надушились, принарядились. Яркий цвет новых платьев радует глаз, шелест шелка ласкает слух, сладкий запах розового масла щекочет ноздри.
Все смотрятся в зеркало.
— Одеты мы с тобой, Фатьма, как шахские жены! — говорит Ана-ханум с довольным видом.
— Ходить бы так круглый год! — поддакивает матери Фатьма.
Даже Баджи в конце концов удалось принарядиться: Ругя подарила ей одно из своих платьев; Ана-ханум, расщедрившись, дала на время платок; Фатьма плеснула остатками духов из флакона. Платье Ругя, правда, для Баджи слишком широко, и платок, по правде говоря, далеко не нов, но Баджи не может оторваться от зеркала: пожалуй, она не хуже Ругя и уж во всяком случае лучше Фатьмы!
— Идут они мне, такие наряды? — нерешительно спрашивает Баджи младшую жену.
— Было б нам только перед кем покрасоваться! — отвечает та с задорной улыбкой.
О предстоящем новрузе идут разговоры и на промыслах.
— Говорят, в городе в этом году будет богатый праздник, — замечает Юнус, откусывая от луковицы и заедая ее хлебом.
— На нашей шкуре празднуют! — отвечает Арам.
— Что-то моя сестра сейчас поделывает?.. — говорит Юнус, вздыхая. — Давно, давно я не видел ее, надо съездить к ней… Напрасно я тебя слушался, остерегаясь бывать в городе… Ах, Арам, до чего ж я теперь жалею, что прогнал ее тогда от себя! Нечего было считаться со словами этой глупой девчонки!
— Не глупая она — она тебя любит, да только выразить как следует не умеет. Да и откуда ей уметь? Живет у лавочника в служанках, неграмотна, с людьми хорошими не встречается. А девочка она, я приглядывался, славная, шустрая.
Юнус опускает голову:
— Я знаю, что виноват…
— Не ты виноват, а твой характер, горячность.
— Горячность!.. — восклицает Юнус с досадой. — Но почему мне отказано в счастье быть вместе с сестрой? Почему я три года с ней в разлуке? Почему до сих пор не могу выполнить клятву, которую дал перед мертвым отцом?
Арам находит один ответ:
— Забрать ее надо, твою сестру, от лавочника — не то исковеркают девочку!
— Я сам об этом мечтаю… Как-нибудь нашел бы ей здесь кров и прокормил бы… Да только не отпустит Шамси добром даровую служанку, а закон сейчас на его стороне — он ведь считается вроде как бы отцом… Эх, Арам! Убил бы я этого жадного лавочника, вырвал бы сестру силой!
— И сила сейчас на их стороне… Нет, Юнус, надо действовать по-другому… Вот что я бы тебе посоветовал, Юнус: сходи-ка ты на новруз в Крепость, поздравь дядю с праздником, пожелай ему долгих лет и здоровья…
— Ты, видно, спутал меня с Хабибуллой!
— Выслушай сначала, а после будешь возражать… Дядюшка твой, наверно, с прошлой весны успел поостыть. Ты придешь в праздник новруз, когда в доме у дяди будут гости. Попроси при гостях, чтоб он отпустил Баджи, скажи, что аллах за этот добрый поступок его вознаградит. Не принято в светлый праздник новруз отказывать в просьбе гостю, да к тому же близкому родственнику. Думаю, что Шамси постесняется гостей и не откажет.
— И хитрости не по мне!
— Иная хитрость полезна, если цель у хитрости добрая.
Долго Арам убеждал Юнуса, пока наконец тот согласился.
— Помни, — поучал Арам напоследок, — действуй спокойно и осмотрительно, не горячись…
— Да ладно, знаю!.. — буркнул Юнус.
Ковер
Все было готово к приему гостей.
Шамси оглядел празднично прибранную комнату — чистые, без единой пылинки ковры, белоснежную скатерть, расстеленную посреди комнаты на главном ковре, красивую фарфоровую посуду, долго стоявшую без употребления, плошки с нежной свежей зеленью на подоконниках и на полу, — вдохнул волнующий аромат, доносившийся из кухни, и решил, что новруз в этом году удастся отпраздновать хорошо — так, как праздновался он всегда, не считая прошедший смутный год.
Было еще рано для прихода гостей, и, услышав внизу стук в дверь, Шамси удивился.
«Кто?» — подумал он с любопытством: первый гость, как известно, определяет праздник, подобно тому как первый покупатель — торговлю.
Шамси спустился во двор, сам отворил дверь — к этому обязывало праздничное гостеприимство — и увидел человека в богатом коричневом костюме, с толстой золотой цепочкой, протянутой через лиловый бархатный жилет, в каракулевой папахе, в лакированных ботинках с белой замшей.
— Не узнаешь? — спросил пришедший, раздвигая улыбкой свои тонкие губы, и Шамси, вглядевшись, узнал Теймура.
«Хорош первый гость!» — подумал Шамси. Он и имени этого человека не помнил. Что с того, что однажды он видел его, когда тот приходил сюда за оружием, и что в Гандже, на чужбине, обменялся с ним, как с земляком, несколькими словами?
— Здравствуй, здравствуй! — произнес Шамси, однако, приветливо, ибо подобные гости очень самолюбивы и не следует их зря раздражать. — Я тебя не сразу узнал, — добавил он оправдываясь, — видеть тебя мне довелось в другой одежде.
— Другие времена — другие одежды! — сказал Теймур. — Сейчас вот у нас новруз, и я пришел поздравить тебя с наступающим новым годом.
«Придется его впустить, — с досадой подумал Шамси. — Но что ему нужно в моем честном доме, этому кочи?»
— Милости прошу! — промолвил он при этом, приложив ладони к груди, полузакрыв глаза и учтиво кланяясь, и отстранился, чтобы дать дорогу гостю.
Но гость движением руки остановил его.
— В честь праздника прошу тебя принять от меня небольшой подарок, — сказал он почтительно. И так как взгляд Шамси вопросительно скользнул к рукам Теймура, тот добавил: — Выйдем со мной!
«Что еще у него на уме?» — подумал Шамси, не двигаясь с места.
— Выйдем со мной! — повторил Теймур с прежней почтительностью, но настойчивей, и Шамси пришлось подчиниться, потому что кочи не любят, когда им перечат.
На углу Шамси увидел фаэтон с поднятым верхом.
«Еще завезут куда-нибудь и потребуют выкупа», — подумал он в тревоге: такие дела случались теперь нередко.
На облучке щегольского фаэтона, запряженного парой белых коней, сидел фаэтонщик. На нем был добротный черный армяк, каракулевая папаха — такая же, как у Теймура; щеки его были гладко выбриты и отливали синевой, черные как смоль усы были закручены кверху.
«Рамазан!» — узнал Шамси и еще больше встревожился.
Рамазан был королем фаэтонщиков. Мелкой стремительной иноходью, с цоканьем, высекая искры из мостовой, презирая зазевавшихся пешеходов, пролетали его кони но узким улицам. Фаэтонщики, по неписаному закону, уступали ему дорогу, амбалы, сидящие по обочинам мостовой, шарахались в стороны, остерегаясь его длинного жгучего кнута. Любой щеголь считал для себя честью прокатиться на белых горячих конях Рамазана, но чести этой удостоивался не всякий: за облучком короля неизменно висела табличка «занят» — она ограждала от случайных и нежелательных седоков. Чаще всего седоками Рамазана были кочи. О нем шла дурная слава. Все знали, что он имеет деньги и что нажиты они нечистым путем, а сам он хвастливо и многозначительно подчеркивал, что выезжает на своем фаэтоне не ради грошей, какие может заработать фаэтонщик своим трудом.
Шамси понял, что если Рамазан возит Теймура, значит дела последнего хороши.
— Добрый день, Рамазан! — поздоровался Шамси и приветливо улыбнулся, ибо хотя он, Шамси, был почтенный человек, а Рамазан всего лишь фаэтонщик, приятель кочи, — с такими людьми надо вести себя благоразумно.
— Добрый день! — небрежно бросил в ответ Рамазан и отвернулся.
Шамси увидел в глубине фаэтона тюк. Теймур огляделся и, заметив неподалеку Таги, подозвал его — Таги представлялся ему слишком ничтожным человеком, чтобы из-за прошлых столкновений избегать его услуг. Дело амбала — таскать тяжести. Пусть только попробует отказаться!
Таги взялся за тюк… Нелегко взвалить на себя этакую ношу, если с утра съел лишь четверть фунта хлеба, смешанного с соломой… Таги тужился, ворочая тюк. Теймур равнодушно за ним наблюдал — амбал должен делать свое дело. Рамазан сидел на облучке не оборачиваясь: он не аробщик, чтоб помогать таскалям, — он подвез тюк только из уважения к Теймуру… Наконец Таги удалось взвалить тюк к себе на палан. Ноги у него дрожали и подкашивались. Мелким неверным шагом засеменил он к дому Шамси.
Вот тюк внесен в комнату для гостей.
— Ступай! — сказал Шамси, едва Таги опустил ношу на пол, и подал ему кусок белого чурека.
Запах праздничных яств разносился по дому. Проходя мимо кухни, Таги задержался и заглянул в дверь. Ну и наготовили же богатеи в этом году!
Баджи увидела в дверях его худое потное лицо. Улучив минуту, когда Ана-ханум отвернулась, она быстрым движением вытащила из котла большой кусок жирной баранины и, проходя мимо Таги, незаметно сунула мясо в отверстие палана. Растроганный Таги принялся было благодарить, но Баджи, опасаясь Ана-ханум, обрушилась на него с притворным криком:
— Не суй нос куда не следует! Иди-ка отсюда вон!
Она так искусно изобразила негодование, что Таги, удивленный, отошел от двери. Сумасбродная девчонка!
— Иди, иди отсюда, амбал! — заворчала и Ана-ханум.
Таги вышел. Усевшись на тротуаре, он принялся за баранину. Жирная, мягкая! И хлеб такой белый, пушистый! Вот, оказывается, и у него, у амбала, хороший новруз, и хороший будет, значит, грядущий год! Почему, однако, девчонка так обрушилась на него?.. И вдруг Таги понял… Дай бог ей счастья!
В тюке, привезенном Теймуром, оказался ковер.
Теймур развернул его и расстелил на полу неподалеку от скатерти.
«Шушинский хали!» — тотчас признал Шамси. Он обежал привычным взглядом края ковра и сразу определил: два ханских аршина на пять, три русских аршина на семь с половиной.
Шамси видел, что ковер лежит, не образуя складок, что края его ровные, не съеживаются и не топорщатся. Слегка проведя рукой по ковру, он оценил его тонкую крепкую ткань, короткий ворс и ровную стрижку. Прекрасный ковер! Напрасно некоторые считают, что тушинский хали уступает персидскому и текинскому!
Теймур вынул из кармана большой, туго накрахмаленный платок и, смочив его край слюной, стал с силой тереть о ковер.
— Так, кажется, ковроторговцы определяют качество красок? — спросил он, протягивая Шамси платок: даже легкого следа краски не оказалось на белом полотне.
— Так, — сказал Шамси тоном, каким говорят с ребенком, и снисходительно улыбнулся.
«Ну, что скажешь, Шамси, про ковер?» — прочел он во взгляде Теймура.
«Стоит не меньше восьмисот рублей золотом!» — с восторгом отметил Шамси про себя.
— Ковер неплохой… — произнес он, однако, сдержанно, стараясь скрыть от Теймура свой восторг.
Впуская Теймура в дом, Шамси не намеревался приглашать его на торжество и полагал отделаться от непрошеного посетителя, наскоро угостив, но подарок был слишком ценным и обязывал к полному и настоящему гостеприимству.
— Прошу тебя, раздели со мной и с моими родственниками и друзьями наш светлый праздник новруз! — сказал Шамси Теймуру и с почти искренним радушием усадил его у края скатерти, расстеленной на главном ковре.
Сквозь замочную скважину женщины ухитряются разглядеть новый ковер.
— Это будет свадебный подарок для моей Фатьмы! — заявляет Ана-ханум.
Ругя не жадна. К тому же, Бала еще слишком мал, чтобы ей заботиться о его свадебных подарках. Но младшую жену злит бесцеремонность старшей, и она возражает:
— Лучшее в доме, как известно, переходит к сыну — на этом ковре будет сидеть со своей молодой женой мой Бала.
— У Ругя на уме — одно: мужчина и женщина сидят на ковре, — усмехается Фатьма; она считает себя достаточно взрослой, чтоб отпускать подобные замечания.
— Твоя мамаша сама непрочь посидеть на ковре с мужчиной, да охотников нет! — отвечает ядовито Ругя.
Во тьме грядущего скрыто, где Бала будет сидеть со своей женой, но сейчас ему явно хочется поиграть на новом красивом ковре.
— Пусть только твой выродок ступит ногой на ковер, я его кипятком ошпарю! — злобно шипит Ана-ханум и, услышав шаги Шамси, отбегает от двери.
Пускается наутек и Фатьма.
— Ослепнете, прежде чем это случится! — кричит Ругя им вслед и сама отбегает в другую сторону.
Возясь на кухне возле плиты, Баджи слышит, как ссорятся жены.
«Зачем Теймур принес сюда этот ковер? — размышляет она. — Зачем он здесь? Ради чего?..»
Неясная тревога закрадывается в ее сердце.
Светлый праздник новруз
Много раз в этот день спускался Шамси во двор, отворял дверь и кланялся гостю, приложив руки к груди и полузакрыв глаза, точно преисполненный радости и умиления.
При этом он не забывал бросить взгляд на руки гостя в надежде на подарки, которые принято делать в светлый праздник новруз и счет которым так неожиданно и щедро открыл Теймур.
Все приглашенные были в сборе — разумно являться в гости во-время, пока лучшие места за праздничной скатертью не заняты и лучшие куски не съедены, — и только Хабибулла отсутствовал. Шамси уже начинал терять надежду увидеть своего друга, когда внизу раздался стук дверного молотка.
«Наконец-то!» — подумал Шамси с облегчением и поспешил во двор.
Он открыл дверь, и лицо его готово было расплыться в приветливую улыбку, предназначенную его другу, как вдруг, вместо Хабибуллы, он увидел в дверях Юнуса.
«Везет мне в этот новруз на нежданных гостей!» — с досадой подумал Шамси.
Но вслух он произнес:
— Здравствуй, здравствуй, племянник! Спасибо, что не забыл в светлый праздник новруз поздравить дядю! Заходи, гостем будешь!
И улыбка, хотя и не столь приветливая, какая предназначалась Хабибулле, появилась на его лице.
Следовало Юнусу почтительно ответить на приветствие, поздравить дядю с праздником, пожелать ему долгих лет и здоровья, и уже затем, при гостях, улучив минуту, обратиться к нему с просьбой отпустить Баджи — ведь именно так договорился он с Арамом. Но увидя Шамси, Юнус, вместо слов учтивости и миролюбия, неожиданно произнес:
— После того, что между нами произошло, я не могу войти в твой дом… Но я помню, что однажды ты назвал меня сыном. И вот сейчас назвал племянником… Ты считаешь себя добрым мусульманином — неужели в такой день, как сегодня, если я обращусь к тебе с просьбой, ты мне откажешь?
«Вот тебе новогодний подарок!» — с тоской подумал Шамси и, догадываясь, о чем Юнус намеревается просить, жалобно пробормотал:
— Ты все о том же!..
— Если не хочешь отпустить ее даром — отпусти за услуги, за мой труд, я тебе отработаю, починю в твоем доме все, что требуется, и буду впредь починять. Именем моего отца и твоего брата, покойного Дадаша, прошу. Отдай мне мою сестру, прошу тебя, дядя Шамси, отдай! Мы брат и сестра и не должны жить в разлуке!
Юнус говорил горячо. Казалось, еще миг — и Шамси согласится.
— Гости ждут меня, племянник! — сказал, однако, Шамси нетерпеливо. — Поднимемся наверх, отведаем вкусных блюд, на душе станет легче — потолкуем. Недаром говорят: сперва еда, потом беседа. Дела сразу не делаются!
Поднимаясь по лестнице, Юнус услышал доносившийся из кухни голос Баджи. Сердце его забилось сильней.
— Хотелось бы мне повидать сестру, — сказал он Шамси.
«Назойливый малый!» — подумал Шамси и сухо ответил:
— Занята сейчас твоя сестра по хозяйству — у нас, ты сам видишь, праздник, гости. Успеешь еще наговориться — от женщин, как известно, много ума не наберешься!
Юнус вошел вслед за Шамси в комнату для гостей. Вокруг скатерти, уставленной изделиями Ана-ханум, сидело десятка полтора людей. Шамси усадил Юнуса и представил присутствующим:
— Это сын покойного родственника…
Он говорил таким тоном, точно извинялся за промысловый и далеко не праздничный вид Юнуса. Хорошо было бы посадить этого малого куда-нибудь в сторонку, да неудобно: что ни говори, а ведь он — сын двоюродного брата.
Трапеза еще не начиналась, и в ожидании, когда мулла прочтет застольную молитву, после которой можно приступить к еде, гости сидели чинно и сдержанно, вполголоса беседовали. Большинство из них были родственники Шамси, Ана-ханум и соседи-торговцы. Почти всех их Юнус видел впервые, ни с кем из них никогда не сталкивался и, однако, испытывал к ним какое-то чувство недоверия и неприязни.
Наконец мулла Абдул-Фатах прочел молитву, и гости с шумом принялись за еду. Чего только не наготовила Ана-ханум!.. Щедро угощал Шамси своих дорогих гостей в этот новруз!
Когда все слегка насытились, Абдул-Фатах скользнул взглядом по блюду, на котором лежала рыбья голова, огладил свою бороду и начал:
— В святых книгах сказано: за то, что злой Шумр убил святого имама Хуссейна, витязь Мухтар убил злого Шумра, и отсек ему голову, и положил ее на блюдо, и принес ее погруженному в горе сыну убитого имама Хуссейна, имаму Зейнал-Абдину, говоря: «Утешься, имам Зейнал-Абдин, враг получил заслуженное возмездие!» И имам Зейнал-Абдин, увидя на блюде голову убийцы своего отца, приказал снять глубокий траур, который люди носили по убитому, святому мученику имаму Хуссейну… Рыбья голова, которую вы видите перед собой на блюде, напоминает нам, что наши враги-иноверцы теперь получили заслуженное возмездие и что мы можем снять траур по тем, кто погиб в суровые дни весной прошлого года, и вкушать сладости, печения и плоды, разложенные вокруг мертвой головы и освещаемые веселыми огнями свечей.
Слушавшие одобрительно кивали. Абдул-Фатах видел сочувственные взгляды и понимал, что слова его пришлись присутствующим по душе. Поэтому он был несказанно удивлен, когда молодой парень, его бывший ученик, воскликнул:
— Иноверцы здесь ни при чем!
Юнус не собирался произносить этих слов, но они, помимо его воли, сорвались с губ.
Все повернулись к Юнусу. Шамси метнул на него возмущенный взгляд: перебить почтенного муллу хаджи Абдул-Фатаха — вот наглый малый! Абдул-Фатах уловил этот взгляд и легким движением руки успокоил Шамси.
— Кто же, по-твоему, если не иноверцы дрались против достойных мусульман? — мягко спросил он Юнуса.
— Это была война бедных против богатых, рабочих и крестьян против промышленников и беков! — ответил Юнус.
«Что он, на митинге, что ли? — негодовал Шамси. — Пусть болтает сколько угодно у себя на промысле или на площади, а не в моем доме!»
— Он весь новруз нам испортит! — жалобно шепнул Шамси соседу.
Юнус услышал.
Ты богачам веселый зов, новруз!
Ты закадычный друг купцов, новруз!
О, праздник нации моей, зачем
Ты стал страданьем бедняков, новруз! —
прочел он со страстью.
Все зашептались: этот наглец в самом деле хочет испортить торжество, превратив его в митинг! Один лишь Абдул-Фатах оставался с виду спокойным.
— Это что еще за изречения? — насмешливо спросил он Юнуса. — Когда ты был моим учеником, я тебя этому не обучал.
— И очень напрасно! — ответил Юнус. — Это стихи Алекпера Сабира!
— Сабира? — переспросил Абдул-Фатах таким тоном, словно услышал это имя впервые, хотя знал самого поэта и его стихи.
Он познакомился с Сабиром много лет назад, в пору своих странствований по Ближнему Востоку. Насмешливый, острый ум поэта пленил молодого Абдул-Фатаха, но сами мысли поэта были столь необычны для среды, в которой вращался Абдул-Фатах, столь чужды идеям, какие усвоил молодой пилигрим под зеленым знаменем панисламизма, что приводили его в ужас.
Позднее Абдул-Фатах имел возможность встречаться с Сабиром и в Баку. Но Сабир в те дни призывал трудовой народ объединиться независимо от веры и национальности, звал на бон против богачей и угнетателей. Одна только мысль, что мусульманин может пойти рядом с иноверцем против своего же мусульманина, казалась тогда Абдул-Фатаху чудовищной и настораживала против поэта. Ко всему, поэт тогда сотрудничал в революционно-демократическом журнале «Мулла Насреддин», высмеивающем реакционное духовенство, и поддерживать знакомство с людьми из такого журнала мулла хаджи Абдул-Фатах счел неудобным и опасным.
«Ты стал страданьем бедняков, новруз!..»
Абдул-Фатах знал эти стихи давно. Они оскверняли то, что должно было быть священным и дорогим для каждого мусульманина — светлый праздник новруз. Мулла верил, что стихи Сабира не примет ни одно мусульманское сердце. Как он ошибся! Прошло десять лет со дня смерти Сабира, а рабочий парень, на память, со страстью и убежденностью читает его стихи!
И Абдул-Фатах сказал:
— Я помню тебя еще мальчиком, когда твой отец, бедный человек, привел тебя в училище. Твой отец, помнишь, сказал мне, согласно обычаю: «Возьми себе, мулла, его мясо, а мне возврати кожу да кости». Но я ответил отцу, что дети — это деревья нашего сада и что нет нужды подпирать палкой неискривленные. Я верил, ты будешь стройной пальмой…
— Ты поспешил, мулла! — вставил Юнус с усмешкой. — Не пальмой вырос я в твоих глазах, а кривой верблюжьей колючкой!
— И я делал добро твоему отцу, и учил тебя, как родного сына, и ни разу тебя не ударил… — продолжал Абдул-Фатах, но Юнус его прервал:
— Уж лучше б ты бил меня, да только б учил чему следует, а не молитвам и намазам!
Гости зашумели, заволновались. Некоторые встали.
— Безбожник!
— Большевик проклятый!
— Зачем он пришел сюда?
— Выгнать его нужно отсюда!
И опять один лишь Абдул-Фатах оставался с виду спокоен, и только лицо его выражало огорчение и обиду. Движением руки он восстановил тишину.
— Меня, старика, ты можешь оскорблять, сколько позволит тебе твоя совесть, — сказал он с подчеркнутой кротостью, но когда речь идет о религии…
Юнус встал.
Тебе религия нужна, чтоб грабить связанный народ!
Как блеск бандитского ножа, она страшна, святой отец!
И если б денег никогда ты за молитвы не взимал,
Ты б плюнул на свои труды, на все сполна, святой отец! —
снова прочел он строки Сабира.
Это было слишком!

Абдул-Фатах закрыл лицо руками. Все повскакали с мест, готовые броситься на Юнуса, избить его, растоптать. Гости вопрошающе поглядывали на хозяина — за ним было слово.
Шамси был в смятении… Так испортить светлый праздник новруз, на который истрачено столько денег, возложено столько надежд! Опозорить на всю Крепость! Откуда взялись у простака Дадаша такие подлые дети?.. Шамси подошел к Юнусу.
— Ты знаешь наш старый обычай гостеприимства… — начал он хмуро, сдерживая гнев. — И хотя ты уже не раз оскорблял меня, я пригласил тебя сегодня разделить с нами трапезу. Ты ел мой хлеб и вот в благодарность стал оскорблять моих родственников и гостей, и моего лучшего друга, достойного муллу хаджи Абдул-Фатаха. Но тебе и этого показалось мало, ты стал поносить нашу святую веру… — Шамси вдруг вспомнил об истраченных деньгах и, дав волю гневу, затопал ногами и закричал: — Уйди отсюда, говорю я тебе, и никогда больше в моем доме не появляйся! Тебя здесь никто не ждет!
— Нет, ждут! — сказал Юнус с силой. — Моя сестра!
Шамси нанес решительный удар:
— После того, что ты сейчас натворил, забудь о твоей сестре навсегда!
Мысли закружились в голове Юнуса. Что он наделал? Неужели он потерял Баджи? Мелькнуло: может быть, пойти на попятный, даже просить прощения?.. Ради сестры брат готов был сейчас на многое. Но видя ярость Шамси, слыша злобный шепот гостей, Юнус понял, что сейчас уже ничто не поможет. Он повернулся и, не прощаясь, вышел.
Шамси пошел вслед за ним: мало ли что может натворить этот разбойник!
Спускаясь по лестнице, Юнус увидел Баджи в окне галереи. Прильнув лицом к стеклу, она торопливо говорила что-то. Юнус остановился в нерешительности. А что, если все же забрать отсюда Баджи силой? Он повернулся, быстро взбежал наверх.
— Люди добрые! — завопил Шамси. — Грабят!
Гости поспешили на помощь. Они заполнили узенькую лестницу и галерею, преграждая Юнусу путь, готовые защищать своего друга.
Юнус понял, что ему их не одолеть.
— Ни одна свеча до утра не горит! — воскликнул он, снова спускаясь по лестнице. — Придет и для нас светлый праздник! — крикнул он снизу и погрозил хозяину и гостям кулаком.
Вывоз нефти
Поток бакинской нефти, ранее устремлявшийся на север, в Россию, с приходом к власти мусаватистов и особенно с появлением англичан насильственно повернут был на запад и на юг.
Зацокали нефть и керосин в трубах, тянущихся через все Закавказье к Черному морю, один за другим поползли туда грузные составы поездов с цистернами, наполненными нефтью и нефтепродуктами; одно за другим отплывали из Бакинской бухты в Персию нефтеналивные суда.
Па промыслах и на заводах вопрос о вывозе нефти вызвал оживленные разговоры.
— Дали мы обещание делегатам-питерцам из Совнархоза вывозить нефть в Советскую Россию, а завладели нефтью английские капиталисты, враги России, — говорили рабочие.
— А много ль эти шайтаны английские вывозят? — спросил однажды старик кирмакинец.
— Много, старик, много… — вздохнув, ответил Арам. — Есть слух, что в ближайшие дни выйдет распоряжение о вывозе полумиллиона пудов.
— Полумиллиона?.. Это сколько же будет?
— Пятьсот тысяч.
— Пятьсот тысяч! — ахнул старик.
— Да… Разгулялись аппетиты гостей.
— Пятьсот тысяч!.. — не мог успокоиться старик. — Да зачем им столько?
— Снабжают свой флот в Средиземном море, — есть такое море, захваченное ими в свои руки.
— Своей нефти у этих англичан нет, что ли?
— Есть, и немало! Да только глаза у них зарятся на чужое. Взяли они всю нашу нефть под свой контроль, организовали здесь «Британскую нефтяную администрацию»… — Арам помедлил и с волнением произнес: — Вспомните, товарищи, прошлое лето, когда у нас был свой Совет Народного Хозяйства во главе с Иваном Тимофеевичем…
Тень легла на лица присутствующих: еще в начале года стало известно о кровавой злодейской расправе, учиненной англичанами в закаспийских песках над двадцатью шестью бакинскими комиссарами. Невозможно было поверить, что Ивана Тимофеевича — Вани, Ванечки Фиолетова, как его все попросту звали на промыслах, уже нет в живых… Нет в живых и Степана Шаумяна, Алеши Джапаридзе, Мешади Азизбекова…
Со всех сторон послышалось:
— Будь они прокляты, эти английские убийцы!
— Уже второй раз на нашу беду приходят они в Баку!
— Они, говорят, даже нефтепромышленников не слишком жалуют — обложили вывоз такой большой пошлиной, что разлюбезные наши хозяева от непривычки раскошеливаться застонали во всю ширь глоток!
— Мне такое пение по душе, — вставил кирмакинец.
— Я сам ничего против него не имею, — заметил Арам, — да только дело в том, что отзывается это пение в конце концов на рабочей шкуре!..
Разговорами дело не ограничилось.
Зная, какую острую нужду испытывает Красная Армия в горючем, бакинские большевики развернули борьбу за снабжение Советской республики нефтью. Стремясь избавиться от нефтяной блокады, организованной интервентами, бакинцы-рабочие потребовали вывоза нефти в Астрахань. Англичане и мусаватисты, разумеется, отказались. В ответ Рабочая конференция объявила всеобщую стачку.
Остановились в буровых тартальные барабаны, перестала цокать нефть в трубах, погас огонь в топках нефтеперегонных заводов, утих стук в подсобных механических мастерских. В порту опустели пароходные трюмы, кочегарки, машинные отделения. В доках клепальщики отбросили в сторону клепки и молотки, подъемные краны замерли, вытянув шеи. На пристанях грузчики скинули с плеч мешки, тюки, ящики. На станции, у задымленных окон депо, паровозы выпустили пар и остановились как вкопанные. Была прекращена подача света в город. Телефонная трубка стала глухонемой…
Стачка!
Это была не первая стачка, в которой участвовали апшеронцы, — третья после прихода англичан.
Первая вспыхнула вскоре после их появления — в связи с массовыми арестами среди рабочих. Тогда, несмотря на объявленное англичанами военное положение, рабочие потребовали освобождения арестованных, свободы слова, собраний, неприкосновенности личности. К бастующим присоединились матросы торгового флота. Английское командование вынуждено было пойти на уступки — требования рабочих были удовлетворены.
Вторая стачка произошла спустя три месяца после первой, в день полугодовщины со дня злодейского убийства англичанами двадцати шести бакинских комиссаров. Стачка выразила единодушный и гневный протест против совершенного интервентами злодеяния, сорвала с палачей маску. Недешево обошлась она, эта стачка, британским оккупантам: она подорвала их престиж не только в Азербайджане, но и во всем мире, перед лицом всего передового человечества. Недаром еще за два дня до траурного шествия стачечников и демонстрантов британский штаб поместил в газетах сообщение, «опровергающее» участие капитана Тиг-Джонса в расстреле бакинских комиссаров.
«Вы производите необоснованные и ложные нападки на английских офицеров…» — беспомощно лепетал в этом «опровержении» британский штаб.
И вот теперь, через два месяца, началась третья стачка бакинцев, вдохновляемая тревогой за судьбы Советской России.
Эта третья, майская стачка превосходила своим размахом первую и вторую. Участвовать в таком мощном движении апшеронцам еще никогда не доводилось, и, ощущая его размах и силу, все испытывали подъем, всем хотелось верить, что стачка завершится победой рабочих.
С первого дня стачки Газанфар стал членом районного стачечного комитета. Усилившаяся опасность ареста заставила его покинуть «Апшерон» и казарму для бессемейных и каждую ночь предусмотрительно менять место ночлега. Людей, готовых предоставить ему кров, было в промысловом районе много — рабочие считали для себя честью оказать гостеприимство и помочь товарищу из стачечного комитета, особенно такому человеку, как Газанфар. Целые дни проводил теперь Газанфар в районном стачечном комитете и ночевал где придется и все же находил время, чтоб поделиться последними новостями со своими друзьями-апшеронцами, вселить в них бодрость.
Был день, который хорошо запомнился апшеронцам.
Газанфар пришел в казарму поздно вечером, но никто еще не спал — не было нужды укладываться, по обыкновению, на отдых после трудового дня, не нужно было вставать спозаранок на работу. Газанфара, как всегда, окружили плотным кольцом, только возбуждены были люди в этот вечер сильнее, чем обычно.
Газанфар горячо призывал товарищей к упорству и солидарности в стачке, еще и еще раз подчеркивал, какое значение имеет бакинская нефть для Советской России, для революции.
— Мы должны добиться своего! — говорил Газанфар. — Вспомним все, что делала и делает для нас Советская Россия! Сколько раз обращалось российское Советское правительство к английскому командованию, требовало освобождения наших товарищей в обмен на пленных англичан, но английское командование всякий раз отмалчивалось. Пусть же эта наша третья стачка вдохновится ненавистью к английским оккупантам и их меньшевистским и эсеровским прислужникам-рабам!.. Вот дослушайте, что пишет о них наш товарищ Сталин!
Газанфар вытащил из внутреннего кармана куртки экземпляр газеты, в которой была напечатана статья товарища Сталина «К расстрелу 26 бакинских товарищей агентами английского империализма», и прочел эту статью, пронизанную гневом и скорбью.
— Таковы они, эти людоеды «цивилизованной» и «гуманной» Англии! И вот против них-то направлена наша стачка! — закончил Газанфар, сложив газету и потрясая ею в воздухе.
Апшеронцы были глубоко взволнованы.
— Скажи в стачечном комитете, что мы будем бороться до тех пор, пока бакинская нефть не повернет русло и не потечет на север, к нашим русским братьям! — дружно заверяли они Газанфара и крепко жали ему руку.
Однажды вечером Хабибулла зашел в казарму для бессемейных. Так как работа на промысле замерла из-за стачки, большинство обитателей казармы оказалось дома. Одни беседовали, другие, лежа на койках, отдыхали, третьи чинили свою одежду, обувь, кое-кто читал. Юнус с ардебильцем играли в шашки.
Хабибулла оглядел невзрачное помещение казармы и громко поздоровался. Ему ответили вяло: слишком памятно было его пребывание среди прихвостней Нури-паши. Хабибулла, тем не менее, бесцеремонно сел на табуретку и начал:
— Хочется мне, уважаемые, побеседовать с вами насчет стачки, хочется поделиться кое-какими мыслями!
На этот раз ответа вовсе не последовало. Что хорошего можно услышать из уст этого прожженного мусаватиста? Каждый продолжал заниматься своим делом.
Хабибулла подавил досаду и продолжал:
— Я много размышлял насчет требований стачечного комитета и скажу, уважаемые, прямо: пришел к выводу, что они неразумны и несправедливы!
В казарме насторожились. Рука Юнуса, занесшая шашку, чтоб со стуком, как принято, опустить ее в одно из гнезд доски, повисла в воздухе… Неразумны и несправедливы? Что за чушь болтает этот наемный агитатор!
— Подумайте сами, — сказал Хабибулла, — англичане воюют с Советской Россией…
Юнус прервал его:
— А значит, и с нами!.. Мы помним, что гибель двадцати шести наших товарищей — дело кровавых английских рук.
— Это еще не доказано, — бросил Хабибулла мимоходом и продолжал: — И вот наши рабочие требуют, чтоб англичане выдали Советской России такой ценный продукт питания военной мощи, как нефть, то есть, по сути дела, требуют, чтоб англичане помогли своему врагу оправиться и окрепнуть.
Сам того не сознавая, он каждым сказанным словом восстанавливал против себя обитателей казармы. Да, именно нефть необходима была сейчас Красной Армии для того, чтоб дать ей возможность быстрее перебрасывать войска, сражающиеся против английских ставленников — Деникина и Колчака. Да, именно нефть необходима была сейчас Советской России для того, чтоб ожили фабрики и заводы, железные дороги и водные пути, чтоб ожило все, что только способно усилить и укрепить большевистский фронт.
Довольный своей аргументацией, Хабибулла завершил:
— Пропусти англичане нефть в Москву и в Петроград — они выковали бы меч, который поднимется против них же! Выгодно ли это англичанам? Выгодно ли это нашему правительству? Конечно, нет! Кто враг самому себе?
— Ну и мы себе не враги! — воскликнул Юнус. — Вывозить нефть надо не за границу, а только в Россию! И мы добьемся этого!
— Можно, конечно, вывозить и в Россию… — неожиданно согласился Хабибулла, но тут же осторожно добавил: — Скажем, на юг России.
Он сказал это не случайно, а руководствуясь приказом штаба британских войск, предписывавшим мусаватскому правительству не только не предпринимать враждебных действий против деникинской армии, но и снабжать ее нефтью; невыполнение этого приказа угрожало мусаватскому правительству лишением поддержки со стороны англичан.
Юнус понял его:
— Ты хочешь сказать — к Деникину?
А старик кирмакинец, сделав наивное лицо, переспросил:
— Это к белому генералу, что ли, Деникину?
Все переглянулись, заулыбались: ай да старик! А еще любит поныть да поплакать: «Я человек темный».
Рагим крикнул из глубины комнаты:
— Что ж, попробуйте, если сумеете!..
Хабибулла начинал терять терпение.
— Да неужели вы не понимаете, что требование стачечного комитета — пощечина нашим друзьям и защитникам, англичанам? — патетически воскликнул он. — Да и не только англичанам, но и американцам!.. — добавил он многозначительно.
Он имел основание так говорить: как раз в эти дни стало известно, что в Париже на мирной конференции президент Соединенных Штатов Америки Вильсон милостиво согласился, чтоб делегация мусаватского правительства была допущена в Париж, а это давало повод думать, что не только Англия, но и Соединенные Штаты заинтересованы в поддержке мусаватского Азербайджана против Советской России.
— Это твои друзья и защитники, — ответил Юнус. — И повторяем: вывозить нефть надо только в Советскую Россию, в Астрахань!
Хабибулла вспомнил приказ британского штаба, по которому все суда, обнаруженные в море на линии Петровска и севернее, считаются враждебными и задерживаются.
— На требования, которые выставляет забастовочный комитет, наши друзья-англичане никогда не пойдут! — произнес он холодно, и взгляд его стал жестким.
— В таком случае рабочие будут продолжать бастовать! — воскликнул Юнус, стукнув шашкой о доску с такой силой, что все остальные шашки, подпрыгнув, сдвинулись с мест.
«Этак ты до многого достучишься!» — в бешенстве подумал Хабибулла, досадуя, что оставил полицейских за воротами: будь они здесь, можно было б сразу забрать мальчишку и упечь куда следует, чтоб неповадно было ему разговаривать в таком тоне!
— Да поймите вы, что англичане — наши лучшие друзья!.. попытался продолжать разговор Хабибулла, но тарталыцик-ардебилец, все время молча прислушивавшийся к спору, насмешливо его прервал:
— Такие же, видно, друзья, как ты — нам. Вспомни, как ты вертелся хвостом за Нури-пашой, за турками!
— А сейчас лакей лижет пятки новым хозяевам, — буркнул кто-то.
— Недолог век и этих хозяев. Куда они дальше-то сунутся, лакеи? — поддержал другой.
Люди говорили, дополняя друг друга, согласно подхватывали острое словечко.
Хабибулла осмотрелся: никто не оставался на койках, никто не чинил одежду, никто не читал и не играл в шашки — все стояли против него плотной стеной. Все как один! Ему стало не по себе: неровен час, вместо комка грязи, какой полетел в него подле нефтяного фонтана, сейчас может полететь что-нибудь потяжелее. И Хабибулла, снова пожалев о том, что оставил полицейских за воротами, повернулся и выскользнул из казармы.
Пакет из Астрахани
На шестой день стачки появился на «Апшероне» отряд английских солдат под командой офицера, на погонах которого сверкали две металлические буквы: RE — «королевские инженеры».
Отряд привели с целью заменить бастующих рабочих. Впрочем, этот ход носил скорее характер демонстративный: пусть не зазнаются бунтовщики-стачечники, — англичане, если понадобится, обойдутся и без них, своими силами.
Специалистов-нефтяников в английских частях не нашлось, и командование решило восполнить пробел, направив на промысел солдат из бывших горняков: предполагалось, что углекопы из Уэллса или рудокопы из Корнуэлла справятся с работой на нефтепромыслах, во всяком случае, лучше, чем фермеры или лондонские лавочники и клерки.
— Беги, сообщи Газанфару! — шепнул Арам Юнусу, едва англичане появились на промысле.
Юнус разыскал Газанфара в малоприметном домишке на задворках одного из дальних промыслов. Газанфар был в комнате не один — рядом с ним сидел на табурете какой-то незнакомый пожилой человек в пенсне, Юнус бросил на незнакомца настороженный взгляд, но Газанфар успокоил его:
— Можешь говорить свободно!
Юнус стал рассказывать об англичанах, появившихся на «Апшероне», но тут же понял, что Газанфар был уже в курсе дела. Удивительный человек этот Газанфар: всегда, обо всем, и неизвестно откуда, знает раньше всех!
Юнус умолк. Газанфар и незнакомец обменялись понимающими взглядами. Затем незнакомец вышел в соседнюю комнату и тотчас вернулся оттуда с пакетом, который передал Газанфару. Тот, в свою очередь, протянул пакет Юнусу.
— Оружие, что ли? — спросил Юнус, понизив голос.
Газанфар снова переглянулся с незнакомцем и, улыбнувшись, произнес:
— Пожалуй…
Юнус взял пакет в руки. Нет, для оружия пакет был слишком легок.
— Это оружие особого рода… — добавил Газанфар, прочтя в глазах Юнуса недоумение. — Подарок англичанам!
— Подарок… англичанам? — с еще большим недоумением переспросил Юнус.
Лицо Газанфара оставалось спокойным.
— Это книжки, — сказал он. — Надо их подарить англичанам.
— Подарить англичанам?.. Книжки?.. — Юнус отказывался понимать. — Что же это за книжки?
— Вот товарищ тебе объяснит, — ответил Газанфар и жестом указал на незнакомца.
— Вы хотите знать названия? — любезно спросил Юнуса незнакомец. Не дожидаясь ответа, он взял у него из рук пакет и извлек оттуда несколько тоненьких брошюрок.
Незнакомец прочел ряд названий на английском языке и пояснил:
— По-русски эти названия означают: «Советское государство и мы», «Русские рабочие и английские оккупационные войска», «Преступление союзников против Советской России», «Письмо группы английских коммунистов к английским и американским солдатам». И другие — в таком же духе.
— Может быть, вы что-нибудь оттуда прочтете? — попросил Юнус: названия брошюр его заинтересовали.
Незнакомец раскрыл наугад верхнюю книжку и стал свободно переводить:
— «Мировая война уже окончилась, но английское правительство не распускает своих солдат по домам и заставляет вас воевать против революционных рабочих и крестьян России…» — Он раскрыл другую брошюру: — «Английские солдаты! Отказывайтесь стрелять в своих же товарищей — российских рабочих! Требуйте от вашего правительства и офицеров возвращения домой!..» — Затем он положил брошюру обратно в пакет, аккуратно завернул его и, приветливо взглянув на Юнуса, спросил: — Вам ясно?
Лицо Юнуса расплылось в улыбке. Ясно, конечно! Ну что ж, такие книжки раздать английским солдатам совсем неплохо!..
Газанфар проводил Юнуса в переднюю.
— Будь осторожен! — промолвил он на прощанье.
Юнус засунул пакет поглубже за пазуху и шепотом спросил:
— А кто этот человек, который переводил?
— Это товарищ из Астрахани, от Сергея Мироновича Кирова, — ответил Газанфар. — Привез нам революционную литературу на английском языке… Он жил несколько лет в Англии, политический эмигрант.
У Юнуса мелькнула мысль:
— Может быть, попросить его к нам на «Апшерон» — потолковал бы с англичанами?..
Газанфар покачал головой:
— За ним сейчас следят… Придется вам справляться своими силами. Иди!..
«Сергей Миронович Киров!» — повторял про себя Юнус незнакомое имя и, придерживая за пазухой пакет, тщательно обходя людные места, спешил к промыслу «Апшерон».
А на «Апшероне» между тем в ожидании указаний своего офицера, беседующего с Куллем, англичане-солдаты бродили от одной буровой к другой, с интересом рассматривали желонки, тартальные барабаны, буровой инструмент — штанги, трубы, гигантские долота… Кто знает, быть может, они вспоминали копи Уэллса, рудники Корнуэлла и даже завидовали бакинцам, хотя и бастующим сейчас, но все же не оторванным от своего дела, как оторваны они, английские горняки в солдатской одежде?
Был погожий майский день. Хотя работа не производилась, апшеронцы высыпали на территорию промысла и с недружелюбным любопытством разглядывали пришедших на их рабочие места чужих людей. Странный говор, непонятная речь, непривычные глазу смешные короткие штаны… И все же было в этих людях что-то такое, что сближало их с апшеронцами и возбуждало даже нечто вроде сочувствия и симпатии: они, эти рабочие люди в хаки, приведены сюда помимо их воли и вряд ли до конца понимают ту роль, которую хотят заставить их здесь сыграть; они, эти люди в хаки, еще в цепях старого мира, между тем как апшеронцы вкусили уже радость свободы в дни Коммуны, незабываемой ни на миг и сейчас… Некоторые из апшеронцев, жестикулируя и пересмеиваясь, завязывали с англичанами односложные беседы. Никто не верил, что солдаты смогут заменить нефтяников.
Не верили в это и офицер и инженер Кулль, хотя последний старательно вычерчивал на листке, вырванном из записной книжки, схему желоночной эксплуатации — для офицера. Кулль находился среди двух огней; с одной стороны, необходимо было предстать перед владельцем «Апшерона» верным служакой, стремящимся наладить работу; с другой стороны, необходимо было дать понять рабочим, что он, инженер Кулль, поступает так не по своей доброй воле, а под давлением владельца промысла, по приказу мусаватского правительства и англичан. Нелегкая это была задача даже для такого опытного человека, как Кулль! Одно служило ему утешением — английский язык: приятно было поболтать с офицером и вспомнить дни в далеком штате Уайоминг.
Кулль повел офицера и группу солдат в одну из буровых, стал объяснять, как тартают.
Юнус вспомнил: вот так же, три с лишним года назад, когда он впервые пришел на «Апшерон», объясняли это и ему.

Кулль сам полез в тартальную будку. Пустая желонка плавно скользнула в скважину и спустя некоторое время, наполнившись нефтью, так же плавно выскользнула на свет. Клапан желонки коснулся заслонки, и густая буро-зеленая нефть, смешанная с грязью, тяжело потекла по стоку в тартальный чан.
Вслед за Куллем решительно, но неуклюже полез в тартальную будку и офицер — подать солдатам пример. У офицера желонка резко рванулась и устремилась вглубь скважины. Канат судорожно дрожал, и казалось, вот-вот оборвется. Но случилось иное — канат вдруг неожиданно остановился. Так и есть; желонка застряла в почве!
При подъеме желонки офицера снова постигла неудача: он проглядел момент, когда желонка вынырнула из скважины и, с силой рванувшись вверх, едва не перелетела через шкив, обдав всех тяжелыми брызгами нефти и грязи. Англичане зачертыхались: ну и работу дало им командование! Апшеронцы, напротив, удовлетворенно посмеивались: так вам и надо, англичанам, чтоб не совали свой нос куда не следует!..
Тщетно пытались непрошеные гости наладить работу и в других буровых.
Солдатам не удавалось приспособиться к работе: регулировать спуск и подъем желонки оказалось не так просто, как это представлялось с первого взгляда, — требовался навык. Многие и сами не слишком стремились освоить работу. Так или иначе, дело не клеилось, и до конца дня большинство буровых оставалось в бездействии. Впрочем, даже и там, где с грехом пополам удавалось наладить спуск и подъем желонки, поднятая на поверхность нефть нередко расплескивалась, и в результате дно отстоечных чанов едва покрылось тонким слоем нефти и нефтяной грязи. Усталые, недовольные, измазанные топтались солдаты подле буровых, тщетно пытаясь очистить свою одежду и обувь.
Арам решил, что наступило время действовать.
— Раздай-ка по десяточку брошюрок и листовок нашим людям, а они пусть раздадут солдатам! — сказал он тоном, каким командир отдает приказание открыть огонь.
Арам оживился. Лицо его помолодело. Трубка задорно попыхивала в углу рта. Казалось, вернулись славные дни Коммуны, когда он хозяйничал в промыслово-заводском комитете.
Юнус роздал брошюры и листовки тем, кого Арам называл «нашими людьми», не обошел при этом и ардебильца и кирмакинца. Себе же для раздачи оставил десятка два — справится! Спустя час в руке или в кармане каждого солдата оказались брошюры и листовки.
Солдаты читали их почти без оглядки на офицера — не те времена! Впрочем, и сам офицер делал вид, что ничего не замечает: правда, он заодно с командованием, против большевистской агитации, но еще с первого мая, когда подобные листовки стали проникать в казармы, ему стало ясно, что с этим бороться не так просто не арестовать же всех английских солдат, которые находятся сейчас в Баку! И, наконец, он не MP, не военная полиция, чтоб заниматься подобными делами, а RE — «королевские инженеры».
Солдаты топтались на месте, переговаривались вполголоса, хмурились. Замещать бастующих нефтяников? Они не штрейкбрехеры, а честные английские горняки! Если рабочий люд Баку бастует, значит есть у него на это серьезные причины: зря рабочий человек работу не бросает. Что же до них самих, до англичан, то в самом деле справедливо говорится в этих брошюрах и листовках: хватит с них четырех лет войны, незачем им враждовать с такими же рабочими, как они сами! Пора, пора в Англию, домой!..
Нашелся солдат, немного говоривший по-русски, и завязалась между англичанами-горняками и апшеронцами-нефтяниками беседа. Дошло до того, что англичане стали предлагать апшеронцам на память подарки: один вытащил из кармана старинную английскую монету, другой отклеил от конверта несколько английских почтовых марок, третий расстался со своим самодельным браслетом. Не остались в долгу и апшеронцы — тартальщик-ардебилец, уж на что дела были плохи, не поскупился подарить англичанам две иранские монеты; кирмакинец, расщедрившись, подарил цветные шерстяные носки; Арам и сержант-рудокоп обменялись трубками.
Всем стало ясно, что попытка заменить апшеронцев солдатами провалилась. Стало это ясно и офицеру и инженеру Куллю. Потолковав напоследок с Куллем о пагубном падении дисциплины, офицер отдал приказ покинуть промысел. Усталые, измазанные, но вместе с тем веселые, солдаты покинули «Апшерон», с тем чтобы больше сюда не возвращаться.
Так же обстояло дело с заменой рабочих солдатами-горняками и на других нефтепромыслах.
Тогда английское командование совместно с мусаватским правительством стало подавлять стачку силой.
Закрыли печатный орган стачечного комитета, и листовки комитета на стенах домов и на заборах заклеили объявлениями командующего английскими войсками в Закавказье.
В них говорилось:
«Всякое лицо, которое совершит или попытается совершить действие, враждебное английским или союзным силам или какому-нибудь представителю этих сил, будет предано военному суду и покарано смертной казнью».
И вслед за тем начались массовые обыски и аресты среди рабочих. В один из майских дней арестовано было сорок три видных бакинских большевика, в том числе и руководители стачечного комитета. Всеобщая майская стачка бакинских рабочих продержалась недолго — через неделю она была подавлена…
— Ну, вот и конец нашей борьбе… — с грустью произнес наутро после подавления стачки ардебилец, собираясь выходить на работу.
Арам, услышав эти слова, ответил не сразу. Он старательно раскурил трубку и, когда пламя охватило весь тугой комок табака, с уверенностью сказал:
— Нет, ардебилец! Я думаю, что это только начало!
И верно: английское командование и мусаватисты готовы были уже торжествовать победу, но вместо этого им пришлось под давлением масс освободить многих арестованных большевиков. Предвестием новой бури прозвучали слова Рабочей конференции:
«Считая минувшую забастовку не концом, а началом борьбы — первым боем ее, где бакинский пролетариат получил боевое крещение, и сознавая, что причины забастовки не устранены, а еще более обострены, бакинские рабочие не слагают оружия, не отказываются от борьбы, а успешно готовятся к новому бою — организовывают и сплачивают свои ряды».
Согласие девушки
Как раз в эту пору Теймур снова явился к Шамси.
«Что ему от меня нужно?» — никак не мог понять хозяин.
Но гость в этот раз не замедлил с объяснением. Понизив голос, он произнес:
— Я буду, Шамси, говорить с тобой прямо, как с отцом: хочу я взять в жены твою племянницу; лучшего мужа, чем я, она, сирота, не найдет.
«Так вот зачем ходит ко мне этот кочи!» — понял наконец Шамси, и в первый миг растерялся, как всегда терялся перед неожиданностями, но быстро взял себя в руки. И так как он знал, что Баджи хороша и что охотников на нее найдется немало, то первой мыслью его было — отказать. Однако он остерегся обидеть кочи и начал издалека:
— В первый раз я тебя видел, когда ты проливал свою кровь за мусульман; во второй раз — в изгнании, в Гандже; в третий раз я видел тебя в светлый праздник новруз. Скажу тебе, Теймур… — Только сейчас Шамси вспомнил имя гостя. — Мне приятно, что ты обращаешься ко мне прямо, как к отцу… Был у меня сын Бала — пожалуй, был бы теперь твоего возраста, если б не убили его… Так вот, я тоже буду с тобой говорить прямо, как с сыном, и ты поймешь меня… Старшая моя жена немолода, я не могу заставлять ее работать, как простую служанку. Младшая — нехозяйственна, хотя ковры ткать она мастерица. Единственная моя дочь Фатьма — белоручка, к тому же я вскорости выдам ее замуж. Одна только Баджи ведает в доме хозяйством — на все руки девчонка! С кем же останусь я, старик, если отпущу от себя единственную работницу? Каких денег будет мне стоить наемная служанка! Да и трудно мне расставаться с племянницей — я ее люблю, как дочь.
— Дочь ты не потеряешь, а во мне обретешь сына, — ответил Теймур с важностью. — Что же касается денег, я за этим не постою: их у меня хватит, чтоб добыть то, что мне любо! — добавил он, и глаза его заблестели.
«Не ожидал я иметь такого сынка!» — подумал Шамси.
И так как он был торговец, то знал, что подобный блеск в глазах человека означает решимость купить полюбившееся, чего бы это ни стоило; он знал, что человек с таким блеском в глазах может уйти из магазина, не сойдясь в цене, но непременно вернется и станет снова торговаться и в конце концов заплатит столько, сколько запросил торговец. И Шамси стал прикидывать на маленьких костяных счетах, во что обойдутся ему уход Баджи и содержание новой наемной служанки, и сумма оказалась так велика, что он сам удивился — уж не ошибся ли он?
Теймур нахмурился: старик, видно, с ума сошел! Но представив себе густые ресницы Баджи, нежные щеки, белые ровные зубы и стройную фигурку, он решительно произнес:
— Хорошо, я возмещу тебе убытки!
Наутро Теймур принес деньги. И Шамси, видя, как легко они ему дались, почувствовал, что продешевил. Он усадил Теймура против себя на главном ковре и стал усердно потчевать его.
— Я готов дать отцовское разрешение и благословение, — сказал он торжественно. — Но вот Баджи, как верная дочь, не хочет покидать отца и отчий дом. А ты сам знаешь, что по святому закону нужно иметь для брака согласие девушки.
Шамси хитрил: шариат, закон писаный, действительно не разрешает брака без согласия девушки, зато адат, закон устный, запрещает противиться воле отца и, следовательно, необходимое по шариату согласие девушки всегда обеспечено.
Теймур отмахнулся:
— Мало ли что говорит святой закон! Кто с ним считается?
— Добрые мусульмане считаются, — с достоинством ответил Шамси и поднял глаза к потолку, где неизменно нежились гурии. — В дурном доме, у дурных женщин согласия не спрашивают, но ведь ты хочешь взять в жены мою племянницу.
И Шамси стал расхваливать Баджи, как расхваливал он обычно в своем магазине ковры — за их нежные краски, мягкость и шелковистость. И Теймур снова представил себе внешность Баджи.
— Как же добиться ее согласия? — спросил он.
— Уговорить ее надо.
— Уговори, отец, и я по гроб жизни буду тебе опорой!
Шамси усмехнулся.
— Ты, видно, не знаешь женщин: они упрямы, как ослицы. Уломать их можно только подарками… Дай на подарки для Баджи столько же, сколько ты дал сейчас, и я возьмусь ее уговорить.
Теймур понял, что Шамси отбросил стыд и вымогает у него деньги. Он вспыхнул и сказал угрожающе:
— Ты мог бы обрести во мне сына… Но смотри, Шамси, как бы ты не лишился и дочери — найдутся люди, которые помогут мне осуществить мое желание и без таких больших затрат!
Шамси увидел, что зашел далеко: в самом деле, еще украдут девчонку!
— Принеси сколько сам найдешь нужным, — молвил он примирительно. — Я постараюсь ее уговорить. Может быть, согласится.
Но тут уже забеспокоился Теймур: а вдруг Шамси не проявит должной настойчивости? И он произнес со страстью:
— Я принесу денег столько же, сколько принес сегодня — только уговори!..
Вечером Шамси позвал к себе Баджи.
— Три зимы прошли… — начал он мягко. — Пришло время сдержать слово, данное мной у гроба моего брата и твоего отца — да пребудет он вечно в раю! Хочу я выдать тебя замуж за богатого человека.
«Замуж?..»
Сердце Баджи тревожно забилось.
— Я еще мала, — ответила она, опуская глаза, — рано мне выходить замуж.
— Рано? — ухмыльнулся Шамси. — В прежнее время тебя бы старой девой считали: пятнадцать лет! Недаром ведь говорится, что девушка в пятнадцать лет должна быть или замужем, или в гробу! Святой коран разрешает выходить замуж с девяти лет.
— Не хочу я покидать твой дом, отец, — мне у тебя хорошо, — изворачивалась Баджи.
— Похвальны эти слова! — воскликнул Шамси, искренне умиленный: племянница не баловала дядю почтительностью, лишь сейчас впервые назвала его отцом. — Похвальны!.. — повторил он. — Но у мужа тебе будет еще лучше: он человек богатый, сильный, красивый.
— А как зовут его? — спросила Баджи настороженно, смутно догадываясь, о ком идет речь.
— Он старый знакомый твоего отца. Ты его помнишь, наверно, из Черного города…
«Так и есть!»
Баджи вспыхнула:
— Не пойду я замуж за Теймура!
«Как это но пойдешь?..» — готов был вспыхнуть и Шамси, но сдержался: ведь он, как велит святой закон, испрашивал согласия девушки.
Шамси стал терпеливо уговаривать Баджи. Пусть не думает, что Теймур таков, каким она знала его прежде, это он дурил по молодости; теперь же он богатый и солидный человек.
— Не пойду! — твердила Баджи упрямо.
Шамси пытался ее припугнуть.
— Убегу к брату! — решительно сказала она.
Шамси встревожился: дорого ему обойдется такой побег — новых денег, разумеется, с Теймура не получить, а полученные придется вернуть, да еще навлечешь на себя гнев кочи.
— Неволить тебя не стану, — завершил Шамси миролюбиво. — Я ведь только испрашиваю твоего согласия, как это предписывает нам святой закон…
Шамси поведал о своих затруднениях Абдул-Фатаху, упомянул, что Баджи грозит убежать к Юнусу.
Абдул-Фатах насупился… «Тебе религия нужна, чтоб грабить связанный народ…» Вновь ожила обида.
— Не тянулась бы птица в лес, если бы леса не было, — сказал он, и в тоне его послышался упрек
Шамси развел руками:
— Не в моей власти этот лес вырубить.
— Слишком мягки мы с врагами нашими, — возразил Абдул-Фатах сурово. — А пророк нам завещал огонь и меч…
Шамси обратился за советом к Хабибулле.
— Не можешь ли ты мне помочь в знак нашей старой дружбы? — жалобно закончил он свой рассказ.
Хабибулла вспомнил промысел «Апшерон», и казарму для бессемейных рабочих, и унижения, которые он там претерпел, и массовые аресты среди забастовщиков.
— Я теперь могу сделать многое! — ответил он важно и многозначительно.
Что-то недоброе почудилось Шамси в словах Хабибуллы, но он заглушил в себе это чувство: если он не будет тверд, то может лишиться немалых денег и даровой служанки, а взамен приобрести лишь ненависть кочи. Сын брата, племянник?.. Но этот мальчишка большевик уже не раз портил ему кровь. Неужели и и этот раз будет он стоять на пути?.. Шамси вспомнил злосчастный последний новруз и вдруг проникся к Юнусу такой злобой, какой еще никогда к нему не испытывал. Убили бы этого безбожника во время столкновения прошлой весной — невелика потеря! — он, Шамси, не пролил бы и слезинки.
— Тогда помоги мне, мой друг! — решительно сказал он Хабибулле. — Я в долгу не останусь!..
И Хабибулла внял просьбе своего друга, указав кому следует на Юнуса, как на активного участника майской стачки. Нашлись люди, которые подтвердили, что Юнус раздавал английским горнякам брошюры. И Юнуса арестовали.
В первую минуту Шамси был ошеломлен: он не думал, что дело примет такой оборот — в его семье никогда никого не арестовывали. Вот позор на его голову! Но вскоре Шамси успокоился; вряд ли узнают об этом в городе. А вслед за тем он даже обрадовался: лес вырублен — некуда тянуться птице.
С новой силой стал Шамси настаивать, чтобы Баджи дала согласие выйти за Теймура.
— Никогда! — твердила Баджи.
Он погрозил ей кулаком.
— Убегу к брату! — сказала она в ответ: слова эти уже подействовали однажды — Шамси на время оставил Баджи в покое.
Но сейчас Шамси, казалось, только и ждал такого ответа.
— К брату? — переспросил он ядовито. — А где ты найдешь его, твоего брата? Брат твой сидит в тюрьме с ворами и разбойниками!
Баджи закрыла уши руками.
— Неправда! — воскликнула она. — Не может мой брат сидеть в тюрьме с ворами и разбойниками!
— Съезди на промысел, порасспроси, если не веришь, — спокойно предложил Шамси.
Он и в самом деле разрешил ей съездить на промысел: пусть убедится, дура, что брат в тюрьме, и перестанет артачиться.
Розанна встретила Баджи со слезами:
— Третьего дня забрали твоего брата… А Арама и Газанфара арестовали еще недели две назад.
— За что же? — вскрикнула Баджи.
Розанна с горечью усмехнулась:
— Молода ты еще, дочка, многого не понимаешь… Забрали их за стачку против англичан. Говорят, в полиции наших сильно били.
Баджи пришла в ярость: мало, видно, этим злодеям-англичанам, что убили такого хорошего человека, как Мешади Азизбеков, и его товарищей; хотят теперь замучить ее брата, и Арама, и Газанфара.
— Я бы этим англичанам руки и ноги переломала, горло бы перегрызла! — воскликнула Баджи.
— Следовало бы!.. — Стремясь утешить Баджи, Розанна добавила: — Кое-кого уже удалось вырвать из тюрьмы. Надо думать, что за таких людей, как наши, тоже найдется кому повоевать.
— Кому же? — неуверенно спросила Баджи.
— Их товарищам, большевикам!
Большевикам?.. Баджи вспомнила площадь, Сашу, дальний край пристани, уходящие пароходы и вздохнула:
— Хорошо, если бы так!..
Успокоившись, Баджи рассказала Розанне, как неволит ее Шамси идти за Теймура.
— Оставайся, Баджи, жить с нами! — предложила Розанна. — В беде людям лучше объединиться.
Два дня прожила Баджи в семье Арама. Розанна и Сато относились к ней ласково и любовно. И Баджи в смятении думала: напрасно она в свое время отказывалась жить в семье Арама — никто не заставлял бы ее сейчас идти к Теймуру.
А Шамси, два дня прождав Баджи и видя, что она не возвращается, решил сам съездить за нею на промыслы. Не подобает, конечно, почтенному человеку гоняться за своенравной девчонкой, но как поступить иначе, если поведение ее грозит ему столькими неприятностями?
— Вы что ж, армяне, отнимаете у отца дочь? — обратился он к Розанне грозно.
— Она сестра нашего друга, гостит у нас, — торопливо ответила за Розанну Сато, обнимая Баджи.
— Друг ваш сидит в тюрьме с ворами и разбойниками, где и вам место за то, что у честных мусульман дочерей воруете! — сказал Шамси грубо. — Вот заявлю кому следует, и всех вас тоже пересажают!
— Стыдно тебе так говорить!.. Старый ты человек… — сказала Розанна.
Кнарик заплакала. Шамси искоса взглянул на нее. Она чем-то напоминала ему Фатьму, когда та была ребенком.
— Не реви!.. — оборвал Шамси девочку. — Это я только к слову сказал, — добавил он, смягчившись: Баджи уже была в его руках. — Ну, пойдем! — приказал он Баджи.
Баджи бросила взгляд на Розанну и на Сато. Те стояли растерянные. Баджи поняла, что они не в силах ей помочь.
— Спасибо вам за добро! — сказала она, поклонившись, и вышла вслед за Шамси…
Когда Теймур пришел за ответом, Шамси развел руками:
— Чего только не предлагал ей — не дает согласия! Не хочет и слышать, чтоб идти за тебя! Сначала грозилась убежать к брату, а сейчас, хотя рата ее арестовали, все равно стоит на своем… — добавил он с неподдельной печалью. Но вдруг в голове у пего промелькнула хитрая мысль: — Послушай, Теймур, братец ее арестован. У тебя, верно, есть связи в полиции… Пообещай Баджи, что освободишь брата, — может быть, это поможет.
— Умно ты говоришь, отец! — оживился Теймур. — На этом мы сможем сыграть!
Шамси тотчас пошел на женскую половину.
— Теймур обещает освободить Юнуса из тюрьмы, если дашь согласие, — сказал он Баджи.
Баджи встрепенулась. Освободить Юнуса? Ее охватило волнение. Брат будет свободен! Он больше не будет в тюрьме с ворами и разбойниками. Его больше не будут бить. Она, сестра, может спасти брата. Но…
— Решай скорей! — торопил Шамси. — И знай: если откажешь, Теймур больше не будет унижаться перед тобой, и брат твой сгниет в тюрьме.
Баджи вздрогнула. Нет, нет, она этого не допустит!
— А Теймур не обманет? — спросила она.
— Я скажу ему, чтоб поклялся святым кораном.
— Он не верит в коран!
— А ты почему знаешь?
— Он пьет водку, ест свинину — я сама видела.
Терпение Шамси казалось неистощимым. Он вышел к Теймуру для переговоров и вскоре вернулся.
— Обещает поклясться своей жизнью! — доложил он торжественно.
— А может быть, ты только так нарочно говоришь? — спросила Баджи, испытующе глядя в глаза Шамси.
«Надаю ей сейчас по щекам — научится, как вести себя с благодетелем-дядей!» — вспыхнул Шамси. Но он сдержал себя — уж очень он не любил возвращать го, что однажды попало к нему в карман, и снова вышел к Теймуру.
— Слушай, ты!.. — позвал он Баджи из комнаты для гостей.
Баджи подошла к двери.
— Клянусь моей жизнью: если Баджи, дочь Дадаша, даст согласие стать моей женой я, Теймур, сын Ашрафа, освобожу из тюрьмы ее брата! — напыщенно возгласил Теймур за дверью.
«Брат будет свободен!»
— Шайтан с ним, с твоим Теймуром, — даю согласие! — махнув рукой, сказала Баджи, едва показался в дверях вопрошающий лик Шамси.
Шамси с облегчением вздохнул и проникся к Баджи нежностью — как всегда, когда получал от человека прибыль. Теперь все в порядке: согласие уже есть, а идти на попятный девушка не имеет права — закон на стороне отца и жениха.
На всякий случай Шамси предупредил Теймура:
— Пока не заберешь к себе Баджи, не слишком спеши освобождать ее братца — мало ли что еще взбредет в голову девчонке?
Теймур бросил на него понимающий взгляд:
— У меня теперь и без того много дел: ведь я жених!
Зеркало
Фатьма на год старше Баджи, к тому же она дочь торговца. Баджи — сирота, бедная родственница, взятая в дом из милости. А вот, поди ж, Баджи — невеста, а Фатьма сидит в старых девках — шестнадцатый год! Это вселяет в невесту, несмотря на смятение в ее душе, чувство превосходства, а Фатьму наполняет завистью. Поводов для столкновений хоть отбавляй!
Теймур, что ни день, посылает невесте подарки. Они много богаче тех, какие время от времени дарит Фатьме Хабибулла. Но Фатьма, разглядывая подарки Теймура, пренебрежительно кривится:
— Хлам какой-то! У старьевщика за гроши можно купить покрасивее. Видно, что дарит их не бек.
— Очкастая мышь твой бек! — огрызается Баджи.
Впрочем, пусть Фатьма болтает что хочет: мечтает выйти замуж!
— Все ученые люди ходят в очках, — не унимается Фатьма.
— А почему же Абдул-Фатах без очков?
— Вот дура! Зачем ему очки, если он и так хорошо видит? Вдобавок, Хабибулла-бек ученей Абдул-Фатаха.
Баджи усмехается.
— Видно, так сильно занят наукой, что совсем редко стал приходить сюда! — не без яда замечает она.
— Все равно его не сравнить с Теймуром!
— Правильно: твой Хабибулла еще хуже!
— А вы, черногородские, один другого стоите!
Глаза Баджи вспыхивают недобрым огоньком. Посмей еще раз сказать!..
Фатьма знает, что предвещает этот огонек, и ускользает из комнаты.
В памяти Баджи возникает фирменный дом в Черном городе, комната Теймура, околоточный, цари на олеографии, водка… А вот Теймур в толпе у Исмаилие — стоит, согнувшись подле Ляля-ханум, готовый сорвать с нее туфли… А вот он здесь, в переулке, бьет несчастного амбала Таги ногой в живот… «Дурил по молодости»?.. Но, может быть, он теперь в самом деле изменился? Может быть, он не такой уж плохой — ведь он поклялся освободить Юнуса?..
И наступил день, когда мулла хаджи Абдул-Фатах, как надлежит мулле, написал «кебин», брачный договор, о том, что Теймур, сын Ашрафа, и Баджи, дочь Дадаша, вступают в брак и что святой коран этот брак освящает, и что отныне они муж и жена.
Он сказал новобрачным напутственное слово:
— Мужья, по шариату, выше жен, ибо так определил сам аллах. Жена должна жить в доме мужа, допускать его к своему ложу, соблюдать верность, не встречаться с мужчинами, не показываться без нужды на людях, подчиняться мужу, быть покорной, быть бережливой…
«Многое, оказывается, должна жена!» — нахмурилась Баджи.
Абдул-Фатах встретился с ней взглядом.
«Такая же, наверно, безбожница, как ее братец…» — подумал он, и голос его зазвучал суровей:
— С теми женами, что живут по закону, не будьте несправедливы, но непокорных лишайте ласки и свободы. Тех же, кто опасны в упрямстве своем, — бейте!
«Левый ангел да запишет тебе за такие слова!» — подумала Баджи всердцах.
Наступила пора переходить Баджи в дом мужа.
Согласно обычаю, мальчик-родственник повязывает поясницу новобрачной шелковым платком и при этом произносит: «Дай бог тебе стать матерью семи сыновей!»
Вот Баджи стоит посреди комнаты, а Бала прилежно репетирует свою роль, неловко вертясь вокруг Баджи и бормоча себе под нос фразу, которую ему надлежит в ближайшие минуты произнести.
— Не забудьте также зеркало! — напоминает Ана-ханум. — Когда новобрачную ведут в дом мужа, перед ней полагается нести зеркало.
— А зачем оно? — спрашивает Баджи.
— Затем, чтоб помнила: только зеркало всегда говорит правду, а жене без того, чтоб но соврать, не обойтись! — отвечает Ана-ханум с усмешкой.
— А я слышала по-другому, — возражает Ругя. — У нас говорилось: люби того, кто, как зеркало, в лицо говорит правду, а не того, кто за глаза расчесывает тебя по волоскам, как гребень с сотней язычков!
Так вот, оказывается, зачем новобрачной нужно зеркало…
Фаэтон Рамазана стоял наготове.
Ана-ханум подтолкнула зазевавшегося Балу. Тот встрепенулся и стал повязывать поясницу Баджи платком.
— Дай бог тебе стать матерью семи сыновей! — пропищат он что было мочи: он считал себя главным участником события.
Шамси сиял от умиления: ну и умница у него сын! Шамси вообще в этот день был прекрасно настроен: слово, данное у гроба Дадаша, он сдержал и при этом неплохо заработал. Теперь, если даже освободят племянничка, беды большой не случится: пусть бежит девчонка куда хочет — ему-то что? — на то у девчонки есть муж, чтобы ее стеречь!
— Прощай! — добродушно сказал он Баджи и сунул ей в руку золотой — один из многих, что получил от Теймура.
— Спасибо, дядя, — молвила Баджи, опуская глаза, и завязала монету в уголок шелкового платка.
Наступило молчание.
— Дай я тебя на прощанье обниму… — сказала Ругя, вздохнув.
— Спасибо…
Ана-ханум не выдержала.
— Дай уж и я тебя обниму, — проворчала она. — Ведь матери у тебя нет…
Фатьма тоже ткнулась в плечо Баджи своим длинным носом.
— Ты чего сырость разводишь? — накинулась вдруг Ана-ханум на Ругя, заметив у той слезы в глазах.
Но Ругя тоже увидела слезы в глазах Ана-ханум и ничего не ответила. Эх, женская доля!..
Теймур направился к фаэтону.
«Жена должна подчиняться мужу!..» — Опустив голову, Баджи поспешила вслед за Теймуром.
— А зеркало? Зеркало-то позабыли! — засуетилась вдруг Ана-ханум.
— У Рамазана есть зеркало за облучком, — буркнул Теймур не оборачиваясь.
Рамазан поднял вожжи. Кони дрогнули и понеслись. Сердце Баджи тревожно сжалось.
Три года назад привез ее сюда Таги на арбе. Три года прожила она в Крепости, в доме дяди. И вот Теймур, ее муж, увозит ее в лакированном фаэтоне, с гранеными фонарями, сверкающими на солнце, с зеркальцем за облучком… Скоро ль увидит она Юнуса на свободе? Что скажет он, узнав, кто ее муж? Что ждет ее впереди?..
— Ты теперь моя, красавица! — шептал Теймур, наклоняясь к Баджи, дыша ей в лицо вином.
Фаэтон подкатил к дому Теймура. Перед тем как сойти, Баджи приоткрыла чадру и заглянула в зеркальце за облучком, лицо ее было бледно, ресницы дрожали.
Часть шестая Перед рассветом

Первые дни
Теймур еще спит — он вчера много выпил, но Баджи, по привычке, проснулась рано.
Вставать ей, впрочем, незачем — далек дом дяди с его домочадцами, которым нужно было прислуживать с самого раннего утра. Теперь она сама хозяйка! В доме у нее есть спальня, комната для гостей, стеклянная галерея. Теперь она может понежиться на широкой перине сколько захочет, помечтать.
И все же…
Баджи рассматривает Теймура. Его смуглое лицо слегка опухло, волосы всклокочены. Женщины как будто находят его красивым. Нет! Не о таком муже она мечтала! Но он, по воле злой судьбы, ее муж, и теперь она обязана его любить.
Что такое любовь?
Баджи вспоминает разговоры на женской половине. Ана-ханум, например, утверждала, что любит Шамси, и в знак любви ублажала его вкусными блюдами. Ругя под словом любовь понимала нечто совсем иное: виделся ей в ее мечтах батырь вроде Кер-оглы — смелый, красивый, с доброй душой. Фатьма, однажды разоткровенничавшись, призналась, что, вероятно, любит Хабибуллу, потому что смущается и краснеет, едва завидит его. Что же такое любить? Готовить мужу вкусные блюда? Быть верной спутницей жизни такого батыря, как Кер-оглы? Или смущаться, краснеть при виде мужчины? Или, может быть, любить — это так, как любила черкешенка?
Что же, в конце концов, значит любовь?..
— Мало ты меня любишь, — жалуется Теймур.
— Буду тебя любить, если выполнишь обещание и спасешь брата! — отвечает Баджи.
Теймур хмурится: дался ей этот брат!
Но Баджи настойчива. Теймур уже успел в этом убедиться. Он смотрит на ее красивое лицо, стройный стан. Взгляд его затуманивается… Он, пожалуй, в самом деле любит эту девчонку и готов выполнять ее прихоти. Черт с ним, в конце концов, с ее братом, придется его освободить!.. Теймуру это, впрочем, не представляется сложным: тюрьмы, особенно после майской стачки, переполнены, и арестованных рабочих охотно отпускают «на поруки» всяким темным людям, предоставляя им право самим творить суд и расправу.
— Пусть я умру, если не освобожу! — восклицает Теймур, обнимая Баджи.
Часто к Теймуру приходят друзья. Один из них — обросший, черный — Кара, другой — рыжий — армянин Калантар. Папахи у обоих обычно надвинуты на самый лоб, из-под пиджака выглядывает кинжал или револьвер. Эти люди ходят тяжелой, переваливающейся походкой, долженствующей свидетельствовать об их силе, у обоих низкие, хриплые голоса.
Особенно близок Теймур с Рамазаном — тот для него не только фаэтонщик, но участник некоторых негласных дел и собутыльник. Друзья часто играют в карты, в шашки, в «три альчика».
— Какой ты везучий, Теймур! — не то с досадой, не то с восхищением говорит Рамазан, проигрывая. — Тебе в игре везет и… в другом! — Он кивает на дверь, ведущую в комнату Баджи.
Слова Рамазана льстят Теймуру, и он самодовольно улыбается: да, он умеет жить! Теймуру хочется похвастать своей юной, красивой женой. В нем борются тщеславие и ревность, и тщеславие в конце концов побеждает.
— Эй, Баджи! — громко зовет Теймур.
Накинув чадру, Баджи входит в комнату для гостей. Рамазан стремится поймать ее взгляд. В прошлом фаэтонщик был красив, и хотя ему сейчас за пятьдесят, оп до сих пор считает себя сердцеедом. Он фабрит свои седеющие усы — потому-то они у него такие черные и блестящие.
— Бери! — говорит Теймур жене, кивая на кучку выигранных денег.
«Как много!..»
Баджи неуверенно берет с края стола две монеты.
— Бери сколько хочешь! — восклицает Теймур.
«Ну что ж…»
Баджи подставляет к столу край чадры и аккуратно сгребает все деньги. Теймур в восторге: вот какая у него жена! Да, он умеет жить!
Баджи поспешно уносит подарок в спальню, прячет глубоко под перину, в один из тайников. Пригодятся! От природы Баджи щедра, ей ничего не стоит отдать последний грош, но все вокруг неизменно твердят, что деньги нужно прятать и копить. Что ж, так поступала она в Черном городе с первых лет своей жизни, когда отец дважды в год — в новруз и на курбан-байрам — дарил ей по копейке. В доме Шамси привычка укоренилась: там каждый прятал и копил свое добро, — если и не заберут, то уж во всяком случае завистники перещупают, пересчитают и сглазят.
И добра у Баджи становится все больше: платья, кофточки, юбки, платки… Вот Теймур подарил ей синий шелк на чадру и алые туфельки с позолотой, браслет и кольцо. Баджи задумчиво перебирает подарки: впервые в жизни на ней не обноски, впервые в жизни украшена ее рука красивым серебряным браслетом, на пальце — кольцо с бирюзой… Однако подарки не радуют Баджи: откуда все это? Баджи боится ответить на этот вопрос, ибо ответить — значит признать, что добыто оно не честным трудом…
Теймура соседи боятся, а Баджи, его жену, избегают.
Кое с кем из соседей Баджи все же сблизилась. Это пожилая бездетная пара, Ага-Шериф и Зийнет-ханум.
До революции Ага-Шериф в течение многих лет был преподавателем истории в гимназии. Историю родины он излагал не по программе царского министерства народного образования с ее оскорбительным делением народов России на «коренное население» и «инородцев», попал в список неблагонадежных и был уволен.
Мусаватисты с приходом к власти, нуждаясь в опытных педагогах-азербайджанцах, привлекли Ага-Шерифа к работе, но и с ними он не нашел общего языка. На одном из учительских собраний, в ответ на призыв мусаватистов порвать с русской культурой и приобщиться к османо-турецкой, Ага-Шериф напомнил, что лучшие люди Азербайджана всегда являлись друзьями России — писатель-философ Мирза-Фатали Ахундов, историк Кудси Бакиханов, государственный деятель Фатали-хан Кубинский… Ага-Шериф готов был умножить список, но мусаватисты стали с озлоблением кричать: «Руссификатор! Изменник!» — и не дали ему договорить. Ага-Шериф едва избежал тюрьмы, но работу в гимназии пришлось оставить и заняться частными уроками.
Ага-Шериф и Зийнет-ханум живут в двух комнатах.
В одной из них Ага-Шериф занимается с учениками. Сюда Баджи не решается войти и только, стоя за дверью, прислушивается к голосам.
Ага-Шериф рассказывает о том, как воевали когда-то азербайджанцы с персами и турками, как храбро дрались с врагами родины в неравной борьбе, как пришла на помощь Азербайджану Россия.
Рассказы Ага-Шерифа трогают сердце Баджи. Вот, оказывается, каковы деды ее дедов — сильные, смелые люди! А кто были те, которые явились к ним на помощь? Русские люди. Баджи вспоминает машиниста Филиппова, тетю Марию, Сашу…
А в другой комнате хозяйничает славная Зийнет-ханум, и, войдя туда, Баджи чувствует себя совсем непринужденно. Зийнет-ханум советуется с Баджи по кулинарным вопросам — как ни старалась Ана-ханум сохранить свои кухонные тайны, Баджи все же многому научилась. Зийнет-ханум угощает свою гостью сладостями, учит ее вязать и шить и ласкает своей маленькой нежной рукой, чем-то напоминая мать.
Иногда Баджи рассказывает новым друзьям о себе — о том, как ей жилось когда-то у отца, затем у дяди и как живется теперь у мужа. Рассказывает она и о Юнусе и о том, как вынуждена была выйти за Теймура. Взгляды Ага-Шерифа и Зийнет-ханум становятся печальны и выражают жалость. Баджи стыдно за эту горькую правду, и свою жизнь с Теймуром она старается приукрасить. Разве она не хозяйка в своем доме? Разве не ест досыта? Разве не наполняется ее сундучок нарядами? Пусть не печалятся за нее ее друзья, пусть не жалеют!
Яркие камушки
Четвертый месяц сидел Юнус в тюрьме на Шемахинке.
Случилось, что дело Юнуса вел тот самый следователь, который в свое время производил следствие об убийстве Дадаша. Надежды на карьеру, не осуществившиеся на царской службе, вновь ожили в нем с приходом к власти мусаватистов, к которым он и пошел на службу.
Вначале, наряду с обвинением в участии в майской стачке, Юнусу было предъявлено обвинение в «подрыве религиозного духа прихожан Лезги-мечети путем большевистской пропаганды» — именно так истолковал и определил Хабибулла в своем доносе роль Юнуса в доме Шамси на новогоднем торжестве.
Но вскоре это определение вины Юнуса показалось сложным и неточным, и на серой папке появилась более короткая надпись: «Дело о подрыве Лезги-мечети», словно речь шла о каком-то террористическом акте, быть может об «адской машине», заложенной под древние своды Лезги-мечети, чтоб оглушительным взрывом прервать ее благоговейно-сонную тишину и погубить сотни богомольных прихожан.
Как раз в этом направлении и повел дело следователь. Конечно, он был достаточно опытен, чтоб не понимать нелепости состряпанного им обвинения, но соблазн создать громкое дело о взрыве в мечети, подготовляемом большевиками, был велик: такое дело могло найти поддержку у мусаватистов и способствовать наконец осуществлению его заветных желаний, его карьере…
Каких только людей не повидал Юнус в тесных, грязных, мрачных камерах тюрьмы на Шемахинке!
Были здесь, за решеткой, темные люди, среди которых процветали поножовщина и воровство, пьянство и азартные игры на последний кусок хлеба.
Но много было здесь и хороших людей, поддерживавших друг друга в беде. Это большей частью были рабочие и служащие, обвинявшиеся в действиях, направленных против мусаватского правительства и англичан, а также крестьяне, попавшие сюда за участие в восстаниях, с особенной силой развернувшихся летом того года по всему Азербайджану. Некоторые попали в тюрьму за сочувствие большевикам.
В тюрьме на Шемахинке Юнус подружился с одним арестованным моряком и впервые услышал от него о так называемом «особом морском экспедиционном отряде».
Узнал Юнус, что на утлых рыбачьих лодках, ускользая от английской и белогвардейской сторожевой охраны, от агентов и отрядов мусаватской контрразведки, совершают моряки рейсы из Баку в Астрахань, доставляют туда, в осажденный белогвардейцами город, нефтепродукты для Красной Армии, а на обратном пути переправляют в Баку партийных работников, оружие. Каждый такой морской рейс полон смертельных опасностей: белая флотилия, мусаватская контрразведка, английские сторожевые суда, штормы…
Юнус с волнением слушал моряка: борьба, которую вели бакинские нефтяники и которая привела Юнуса сюда, в эту тесную, грязную, мрачную камеру, ведется тысячами верных людей на суше, на море! Окруженный серыми тюремными стенами, как хотел бы быть он сейчас там, на бурном, полном опасностей и превратностей, но вольном море!..
В тюрьме на Шемахинке снова услышал Юнус имя Кирова. Это он, Киров, связывал советскую Астрахань с большевистским подпольем Баку. Моряк рассказывал, что дважды видел Кирова, который встречал в Астрахани лодки с бензином и смазочными маслами, прибывшие из Баку. Киров подбадривал моряков, по долгу беседовал с ними.
— «На вас, бакинцы, одна надежда!» — передавал моряк слова Кирова. — «Если вы нам дадите пятьдесят тысяч пудов бензина и смазочных масел, то наши бронеавтомобили и авиация, которые бездействуют под Царицыном и Астраханью, оживут, и царицынский белый фронт будет разбит. Потерять же Астрахань нам никак нельзя, иначе деникинцы и колчаковцы соединятся и окончательно отрежут Советскую Россию от Баку. Астрахань — это ворота в Баку, в Закавказье…» Если бы ты знал, как Сергей Миронович сюда к нам рвется!.. Только его не отпускают сейчас — он там необходим, в Реввоенсовете XI армии.
— Что ж, пусть в таком случае приходит к нам вместе со всей XI армией! — воскликнул Юнус.
— Места у нас в Баку для Красной Армии хватит! — вставил кто-то.
— А если не хватит — придется кое-кому потесниться! — многозначительно добавил третий.
— Так, надо думать, в конце концов и будет! — охотно согласился моряк.
«Вот бы и мне увидеть Кирова!» — думал Юнус, жадно вслушиваясь в восторженные рассказы моряка. Как хотелось в эти минуты сломать решетки, разрушить стены и протянуть руку товарищам — тем, кто в Астрахани, в Советской России, готовит помощь бакинцам!..
Однажды следователь снова вызвал Юнуса.
«Опять начнет об этом дурацком взрыве!» — подумал Юнус с досадой.
И он был поражен, услышав:
— За тебя ходатайствовали родственники. Ты свободен. Просили, чтобы отсюда ты пошел прямо к ним.
«Родственники?.. Неужели Шамси?» — недоумевал Юнус, шагая по направлению к Крепости, глубоко вдыхая свежий воздух и щурясь от яркого солнца.
Увидя худую фигуру Юнуса, его щеки, обросшие бородой, лохмотья, Шамси, казалось, забыл свой недавний гнев. Он с искренним сочувствием разглядывал племянника: аллах великий, до чего довели человека! Парень хоть и никудышный, но все же родственник.
— Слава аллаху, что освободился! — воскликнул он, воздевая руки к небу.
— Где Баджи? — спросил Юнус, оглядываясь по сторонам, прислушиваясь к голосам на женской половине.
Лицо Шамси расплылось в широкую улыбку.
— Баджи теперь хорошо!
— Где ж она, говори скорей!
— Баджи в своем доме, с законным мужем! — все с той же улыбкой ответил Шамси.
Юнус не верил своим ушам. С законным мужем?! Да что же это такое? Многое, видно, за это время переменилось. Выдали замуж девчонку, даже не посоветовавшись с ее братом. Наверно, Шамси отпустил даровую служанку, польстившись на какие-нибудь барыши.
— А кто ее муж? — спросил Юнус.
Твой старый сосед по Черному городу…
— Кто же, кто?
— Помнишь, служил у вас на заводе старший охранник?.. — ответил Шамси, отводя взгляд.
Кровь отлила от сердца Юнуса.
— Теймур? — воскликнул он, и брови его угрожающе слились в одну полоску. — Бандит Теймур?
— Он не бандит, он теперь богатый и почтенный человек… — начал было Шамси, но Юнус гневно его оборвал:
— Мою сестру — за кочи? Ты продал Баджи, мешок ненасытный!
Сжав кулаки, он двинулся к Шамси.
— Потише, племянник, — промолвил Шамси, отступая. — Пойми, что по закону я — отец Баджи, и что закон говорит: «Дочь — моя; хочу — с хлебом съем, хочу — с водой выпью», и что закон теперь на моей стороне.
— Старый и злой закон! — воскликнул Юнус. — И ты ответишь мне за сестру! — Бледный, худой, истощенный, он еле держался на ногах. Голос его дрожал и срывался.
— Потише, племянник, — повторил Шамси строже. — Теперь не Коммуна! Стоит мне сказать одно слово… Ты только что вышел из тюрьмы, а уже, видно, спешишь обратно… — Он чувствовал, как оживает в нем прежняя злоба и вместе с ней уверенность в себе. Выпятив грудь, он стал наступать на Юнуса
Юнус понял: да, сила сейчас на стороне Шамси.
— Будь ты проклят, мешок ненасытный! — пробор мотал он, выходя, и хлопнул дверью.
Юнус разыскал дом Теймура.
— Эй, жена! — громко позвал Теймур, впуская Юнуса. — Смотри, кто к нам в гости пришел!
Баджи выбежала за дверь… Юнус!.. Как он бледен и худ, как оброс, как оборван и грязен… Она кинулась к брату, прижалась к его груди и зарыдала.
Увидя Баджи, Юнус почувствовал облегчение. Она жива, здорова, хорошо одета и, видимо, сыта. Казалось, он мог радоваться. Но сознание, что она замужем за человеком, погубившим их отца, отравляло радость встречи.
Теймур наблюдал за ними с самодовольным видом.
— Освобождение брата надо отпраздновать! — сказал он, ставя на стол графин и рюмки. — Много пришлось мне потрудиться, но… — Он хотел продолжать, но встретив странный, настороженный взгляд Баджи, осекся.
— Я водки не пью, — сказал Юнус.
— Давно ли ты стал праведным мусульманином? — усмехнулся Теймур. — Уж не проповедь ли муллы хаджи Абдул-Фатаха так подействовала на тебя? Хочешь, видно, из тюрьмы прямо в рай? Неужели не выпьешь рюмку за счастье сестры?
Юнус взял рюмку.
— А это тебе, жена, — сказал Теймур, наливая Баджи. — Выпей и ты за возвращение брата!
Баджи бросила взгляд на Юнуса: муж приказывал ей пить, а брат, она знала, не похвалит ее за это.
Юнус понял ее и сказал:
— Ну что ж, сестра, выпьем с тобой за то, чтоб ты была счастлива!
— Будь и ты счастлив, брат!.. — Баджи улыбнулась сквозь слезы, осторожно пригубила рюмку.
Теймур налил по второй.
— Теперь давай выпьем и мы с тобой, по-родственному, обратился он к Юнусу. Забудем старые споры — ведь теперь мы с тобой вроде как братья!
Нелегко было слушать такие слова от врага — хотелось в ответ плеснуть водкой в лицо, — но враг этот был сейчас мужем сестры и ее властелином и мог свой гнев обратить против нее.
— Если ты так считаешь, — сказал Юнус, сдерживаясь, — прошу тебя лишь об одном: не обижай Баджи!
— Не обижать? — воскликнул Теймур с искренним удивлением. — Да разве я ругаю ее или бью, морю голодом или заставляю много работать — хотя я ее муж и властен так поступать? У меня она как в раю! Сама себе хозяйка, ест сколько влезет, одета как барыня. Скажи сама, жена!
— Мой муж не обижает меня… — ответила Баджи, избегая взгляда Юнуса.
Послышался стук. Теймур вышел открыть дверь.
— Зачем ты пошла за него? — спросил Юнус тихо, глядя в глаза Баджи.
Она потупилась.
— Неужели тебя так неволили, что ты не могла устоять? Неужели ты не могла дождаться, пока меня выпустят из тюрьмы и я тебе помогу?
Баджи молчала… Пока его выпустят? Если б она могла ему рассказать, как все произошло!.. Но Баджи знала, что брат горд, и не смела сказать, что ради его спасения дала согласие на этот брак.
«Изверилась она во мне!» — подумал Юнус. Впрочем, как могло быть иначе? Он только обещал, болтал, шумел, скандалил, но, в сущности, никогда не умел ей помочь.
— Что ж ты молчишь? — спросил он, досадуя не то на Баджи, не то на себя.
— Мой муж в самом деле не обижает меня, — сказала Баджи уклончиво.
— Твой муж!.. — усмехнулся Юнус с горечью.
— Смотри, какие он мне делает подарки! — воскликнула Баджи, с показной беспечностью протягивая Юнусу обе руки.
Широкие серебряные браслеты обхватывали тонкие запястья, кольца с цветными камнями блестели на пальцах.
Ее слова и жест покоробили Юнуса.
— Тебя, глупую, можно купить за яркий камушек! — молвил Юнус, и трудно было понять, чего в этих словах больше — жалости или осуждения.
«За яркий камушек? Он ошибается! О, если б только он знал правду!..»
Вернулся Теймур вместе с Карой и Калантаром.
— Это мои друзья, — представил он их Юнусу, — а с этого дня и твои!
Одного взгляда было достаточно, чтоб попять, кто эти люди.
Гости сели за стол, выпили, но разговор не клеился. Юнусу было не по себе. Посидев для приличия с полчаса, он распрощался и ушел.
Юнус уже завернул за угол, как вдруг почувствовал, что кто-то тронул его за плечо.
— Баджи? — удивился он.
— Возьми, брат! — шепнула Баджи, стараясь сунуть ему в карман синий мешочек.
— Нет, — ответил он сухо, отстраняя ее руку. — Мне деньги Теймура не нужны!
Юнус пошел бульваром.
Сентябрьский вечер был душен, но от моря и деревьев бульвара веяло прохладой. Юнус присел на скамейку неподалеку от кафе. Оно было ярко освещено, из раскрытых окон и дверей доносились звуки музыки; люди, сидящие за столиками и прогуливающиеся в аллеях, оживленно разговаривали и смеялись. Хотелось, ни о чем не думая, слушать музыку, вдыхать свежий запах моря.
Но мысли Юнуса настойчиво возвращались к Баджи… Зачем она вышла замуж за этого негодяя? Неужели в самом деле из-за этих розовых и голубых камушков, из-за шелкового платка? Нет, его сестра не такова! Может быть, она полюбила Теймура? Нет, этого быть не может никогда! Но почему же в таком случае? Почему?.. Юнус перебирал в памяти каждое слово, каждый жест Баджи и Теймура, стремясь найти ответ.
«Много пришлось мне потрудиться…» — вспомнил он слова Теймура, вспомнил и странный настороженный взгляд Баджи, едва эти слова были произнесены. Что имел в виду Теймур, говоря так, и почему так странно взглянула на него Баджи?.. «Много пришлось мне потрудиться…» И вдруг догадка осенила Юнуса: Теймур освободил его, и ради этого вышла Баджи замуж за Теймура!
Юнус закрыл лицо руками… Четыре года прошло с той поры, как он дал перед мертвым отцом клятву, и до сих пор не смог ни в чем еще помочь сестре, не смог ее защитить от обид и унижений, вырвать ее из неволи, и вот она замужем за его врагом и врагом их отца.
Почему так случилось? Разве он не боролся за счастье сестры? Боролся как мог. И что же? Торговец Шамси, кочи Теймур, мулла хаджи Абдул-Фатах, мусаватист Хабибулла всегда выступали против него в этой борьбе. И только ль они? Ведь всякий раз, когда удача, казалось, была близка, на помощь врагам словно являлась какая-то тайная злая сила, и об нее, как о скалу, разбивались все его старания.
Нет, не только торговец Шамси, не только кочи Теймур, не только мулла хаджи Абдул-Фатах и мусаватист Хабибулла, но весь тот мир, который их породил, в котором они жили преуспевая, — весь этот старый мир стоял против него в борьбе за счастье сестры… И вдруг Юнус с особенной ясностью понял, что только идя плечом к плечу с теми, кто несет этому старому миру смерть, можно сломить своих врагов, вырвать из их цепких рук не только свою сестру, но много сотен и тысяч таких же, как она.
Снова среди друзей
Невеселые мысли одолевали Юнуса в вагоне поезда.
С «Апшерона», его, наверно, давно уволили — с такими, как он, теперь хозяева не церемонятся. Где найти новую работу? Как себя прокормить? И где жить? Прощай, казарма для бессемейных, три с лишним года служившая кровом, семьей, школой!
Юнус сидел хмурый. Но вот в окне вагона показались одиночные вышки, образовавшие вскоре сплошной темный лес, черная, пропитанная нефтью, изрезанная трубами земля, приземистые серые строения — жилища рабочих, — и сердце Юнуса забилось веселей. Знакомые, родные места!
Ну и встречу устроили Юнусу апшеронцы, едва он вошел в ворота промысла! Позавидовал бы такой встрече сам Нури-паша! Даже инженер Кулль и Министрац бросили ему несколько приветственных слов. Что же до товарищей по казарме, то от их мощных дружеских хлопков едва не распухло плечо.
— А где Газанфар?.. Арам? — спросил Юнус, не видя своих друзей среди обступивших его обитателей казармы.
— Все еще в тюрьме… — сокрушенно ответил ардебилец и опустил голову.
Юнус вздохнул.
— А семья Арама как живет? — спросил он.
— Плохо, конечно, ветвям без ствола, — сказал ардебилец и, вспомнив, как всегда, свою семью там, за мутным широким Араксом, тоже вздохнул.
— Розанна все же не отчаивается, — сказал кто-то. — Берет на дом стирать белье. А старшая дочка Сато — та поступила куда-то работать поломойкой.
— Да и райком им помогает, — заметил другой.
— Ну и мы сами жену Арама и его дочек в обиду не даем — чем можем стараемся помочь, — добавил третий.
— Молодцы! — воскликнул Юнус, растроганный и охваченный благодарностью, как если б помощь была оказана ему самому.
Юнус застал Розанну подле лохани с бельем. Всплеснув мыльными руками, Розанна горячо обняла Юнуса, и он в ответ поцеловал ее в плечо. Славная она, тетя Розанна, добрая, хотя и любит поворчать и поспорить с Арамом и его друзьями!
— Слава богу, что вернулся… — промолвила Розанна. — А вот…
Две слезы выкатились у нее из глаз, и нетрудно было понять, по ком эти слезы.
— Не расстраивайся, тетя Розанна. Придет день — Арам и Газанфар будут снова среди нас. Даю слово! — Юнус говорил убежденно, ему самому верилось, что так будет.
Вскоре вернулась с работы Сато. Завидя Юнуса, она радостно взвизгнула и кинулась к нему на шею.
Юнус на мгновенье смутился — при тете Розанне! — но Сато не дала ему времени размышлять. Пришлось Юнусу раскрыть объятия и крепко-крепко прижать ее к себе.
Как она выросла за это время, похорошела! Пожалуй, стала такая же красивая, как Баджи. Интересно, сколько ей лет? Она, кажется, ровесница Баджи, значит — ей лет пятнадцать.
В беседе быстро прошел час, другой. Стало смеркаться.
— Оставайся у нас! — предложила Розанна. — Хотя ты и длинный, места тебе на кушетке хватит!
Юнус встретился взглядом с Сато.
«Оставайся, конечно!» — говорил ее взгляд.
Юнус вспомнил тюремные стены, грязь, насекомых. Каким чистым, красивым, уютным казалось ему сейчас жилище Арама! Как хотелось продолжать беседу с Розанной и Сато! Какой отдых сулила мягкая кушетка! Но то ли застенчивость, то ли боязнь быть лишним не позволили ему согласиться. И, приложив обе руки к груди, как принято, когда благодарят от чистого сердца, он ответил:
— Спасибо, тетя Розанна… Большое спасибо… Но я не хочу вас стеснять, я найду, где жить и чем прокормиться.
Юнус прошел к буровой, в которой работал до ареста. Какова она сейчас, его буровая? Такая же грязная, пропитанная нефтью, покрытая пылью, с зияющими дырами в стенках! Юнус заглянул в тартальную будку. Там сидел незнакомый тартальщик. Юнус окинул его ревнивым взглядом и сухо поздоровался, но тут же опомнился — тартальщик ведь ни в чем не виноват — и обменялся с ним несколькими дружелюбными словами.
Сумерки между тем сгустились. Пора было подумать о крове. Юнус зашел в казарму проститься с товарищами.
— Никуда мы тебя отсюда не отпустим! — послышались голоса, едва он заговорил об уходе.
— А про это вы позабыли? — спросил Юнус, кивнув на табличку, вновь прибитую к стене. — Я ведь теперь на «Апшероне» вроде как бы посторонний. Не было бы у вас из-за меня неприятностей.
— Для кого посторонний, а для нас свой! — воскликнул старик кирмакинец.
— Бывали у нас времена потруднее, и то для друзей всегда находилось местечко, — добавил ардебилец.
— Пусть только попробует придраться Министрац — я ему голову отвинчу! — воскликнул Рагим и сделал со ответственное движение рукой.
Юнус улыбнулся:
— Ну что ж, если так…
Никогда не казалась Юнусу жесткая казарменная койка столь мягким и удобным ложем, как в эту ночь! Да, что ни говори, а «Апшерон» все же его родной дом!..
Наутро в казарму явился Министрац.
«Пришел гнать меня отсюда!» — угрюмо подумал Юнус.
Но Министрац, к удивлению Юнуса, поздоровался с ним за руку и стал расспрашивать о его здоровье, о здоровье сестры и о том, как ей живется.
Юнус отвечал нехотя.
— А когда на работу выйдешь? — спросил Министрац.
— Когда найду работу, тогда и выйду! — ответил Юнус холодно.
Министрац улыбнулся:
— Чего тебе искать, если она у тебя есть? Пожалуйста, становись в свою четырнадцатую буровую!
— А того, кто там сейчас работает, по шеям?
— Зачем же по шеям? И для него у нас работа найдется!
Министрац прочел в глазах Юнуса удивление и покровительственно добавил:
— Я всегда готов сделать тебе добро!
Юнус покривился:
— Милостей твоих мне не надо!
— Дело твое… — Министрац пожал плечами. — Только я тебе добра желаю. Смотри, потом пожалеешь, если сейчас не согласишься — работу теперь найти нелегко!
Когда Министрац вышел, ардебилец заметил:
— Это не ты, Юнус, у него милости просишь, а он у тебя: хочет с тебя первое жалованье содрать за устройство на работу, как содрал с того, который сейчас вместо тебя в четырнадцатой.
— Денег он у меня не получит! — решительно ответил Юнус.
В разговор вмешался старик кирмакинец:
— А я, друзья, так слышал, будто инженер Кулль приказал восстанавливать на работе всех, кто был раньше арестован и уволен.
— Вот это, надо думать, верней! — воскликнул Рагим. — Теперь, когда англичане убрались восвояси, хозяева стараются избегать ссор с нашим братом, подлаживаются к нам, боятся.
Зашла речь об англичанах-оккупантах. Их уже не было в Баку. Получив отпор со стороны советского народа, Красной Армии, империалисты Англии, Соединенных Штатов, Франции вынуждены были отозвать свои войска из Советской России. В связи с общим провалом вооруженной интервенции бесславно покинули английские войска и территорию Азербайджана, Баку.
Юнус вспомнил бурные майские дни, брошюры и листовки в пакете из Астрахани — и почувствовал гордость: как-никак и его, пусть малая, доля есть в этой борьбе с интервентами.
Немало было разговоров и об американцах.
Оказывается, что еще летом представитель американского нефтяного треста «Стандарт-Ойл» вел с мусаватским правительством переговоры о закупке в Баку ста тысяч пудов керосину. Сделка эта, правда, не состоялась — расстроил ее конкурирующий со «Стандарт-Ойлом» английский нефтяной трест «Шелл».
Эта неудача не остановила американцев. Выражая настроения американских капиталистов, делегация Соединенных Штатов на Парижской конференции любезно заявила мусаватским представителям, что Азербайджан — богатая страна и что в Штатах найдутся капиталы для разработки ее природных богатств.
И вот теперь американцы уже дотянулись до самого Баку. В эти дни прибыл сюда «верховный комиссар» американского правительства генерал Харборд в сопровождении многочисленной свиты. Его встретили на вокзале мусаватские министры и весь генералитет. В городе по приказу мусаватского правительства были вывешены наспех изготовленные флаги Соединенных Штатов. Искушенные в низкопоклонстве мусаватисты на этот раз превзошли самих себя.
Как и все другие американские миссии, посещавшие Азербайджан, так и эта миссия, с видом, преисполненным достоинства, возвестила, что она прибыла в Баку с целью ознакомления с состоянием промышленности, торговли, финансов страны, с целью изучения природных богатств края. Но народ уже понимал, что американцы просто-напросто стараются взять Баку под свой контроль, отторгнуть Азербайджан от Советской России.
И верно: прошло немного дней, и в городе стало известно, что Антанта уже не довольствуется установлением в Нахичевани американского генерал-губернаторства и полномочия «верховного комиссара» Антанты в Армении распространяет также на Грузию, на весь Азербайджан…
Да, многое изменилось за те месяцы, что Юнус сидел в тюрьме!..
Все советовали Юнусу восстановиться на работе, и он в ответ произнес:
— Придется мне, видно, снова вертеть тартальный барабан!
Он сказал это, словно подчиняясь необходимости — какая же, в самом деле, радость опять работать на хозяина? Но, к удивлению своему, ощутил удовлетворение и прилив сил: четыре месяца руки его бездельничали, и вот он снова будет работать в четырнадцатой буровой — той самой, которую сердце его не позволяло ему считать чужой!
«Лейли и Меджнун»
— Если будешь хорошей женой, возьму тебя с собой в театр!
Как решился Теймур вымолвить эти слова? Ведь он знал, что азербайджанке нет доступа не только на сцену, но даже в зрительный зал, и что в театре бывают только немногие богатые и знатные азербайджанки, да и то в особых ложах, задрапированных прозрачной тканью, сквозь которую можно видеть сцену, самой оставаясь невидимой. Знал, наконец, Теймур и то, что любая чадра и драпировка плохо спасают от мужских взглядов женщину, перешагнувшую порог театра, и опасался, что взгляды мужчин коснутся Баджи, но вместе с тем хотел, чтоб видели, какая у него красавица жена, и чтоб завидовали ему.
«Если будешь хорошей женой, возьму тебя с собой в театр!» — долго звучит в ушах Баджи.
В театр?
В большой красивый дом, куда она однажды проводила артиста Гусейна и куда так мечтала попасть? В дом, где, как она слышала от Зийнет-ханум, поют, танцуют, что-то изображают? Неужели Теймур в самом деле возьмет ее с собой в театр?..
С утра до вечера мечтает Баджи об этом заветном дне. Идя на базар, она делает крюк, чтобы взглянуть на здание театра. Она пытается представить себе, что ее там ожидает. Наверно, что-нибудь еще более интересное, чем «шебих» — представления из жизни имама Хуссейна и его семидесяти приверженцев, какие показывают во дворах мечетей в десятый день месяца махаррам и какие ей довелось видеть однажды, заглянув через ограду мечети. Каждый день подходит Баджи к зданию театра, словно для того, чтобы удостовериться, что оно стоит на месте цело и невредимо.
Наконец долгожданный день наступает.
С утра Баджи не отходит от зеркала. Она примеряет все свои наряды и останавливается на яркой шелковой кофте, сборчатой юбке и алых туфельках с позолотой. Браслеты звенят на запястьях, все кольца нанизаны на пальцы.
Оглядывая себя в зеркале, Баджи остается довольна собой. Вот бы увидели ее Ана-ханум и Фатьма, пожалуй, не сразу узнали бы, а если б узнали — сошли бы с ума от зависти! Баджи берется за утюг, чтобы прогладить чадру. Вот жаль только, что вся красота будет упрятана под этой чадрой.
К дому Теймура подкатывает Рамазан.
На улице еще светло, но электрические фонарики на фаэтоне зажжены — для шика. Кони нетерпеливо бьют копытами. Восторг наполняет сердце Баджи: она поедет в театр на фаэтоне, как настоящая барыня! Баджи хочется шалить, дурачиться. Заметив, что Рамазан лихо крутит ус и не сводит с нее глаз, она слегка приоткрывает чадру и бросает ему в ответ лукавую улыбку.
Рамазан берется за вожжи, и кони вмиг доставляют супругов в театр.
Теймур ведет Баджи в задрапированную ложу Баджи садится в кресло и, прильнув к занавеске, рассматривает зрительным нал. Какое огромное помещение, больше мечети!
Занавес еще не поднят, но зал уже полон — в этот вечер идет излюбленная зрителями опера Узеира Гаджибекова «Лейли и Меджнун».
В театре жарко, душно, но особенно жарко и душно под чадрой в тесной ложе, задрапированной тюлем. Есть ли в зале женщины? Ни одной. Во всяком случае, в партере их не видно. И задрапированных лож очень мало. Это наполняет Баджи чувством собственного достоинства и гордостью.
— Видишь? — спрашивает Теймур, указывая на два незанятых кресла в первом ряду партера. На одном из кресел лежит папаха. — Это папаха Наджафа-Кули! — поясняет он благоговейным шепотом.
— А где же он сам? — спрашивает Баджи.
— Сегодня его в театре не будет, но горе тому, кто сядет на его место или хотя бы тронет папаху!
К удивлению Баджи, на другом конце первого ряда она видит подобную же картину: два незанятых кресла, на одном из них лежит папаха.
— А это чья, тоже Наджафа-Кули? — спрашивает Баджи.
Лицо Теймура выражает пренебрежение.
— Нет, это папаха Ашурбека.
Ашурбек — тоже кочи, соперник и лютый враг Наджафа-Кули. Оба они ревностные посетители театра. Их, правда, привлекает сюда не столько искусство, сколько возможность развлечься в зрительном зале.
Не успевает Баджи отвести взгляд от этих кресел, как в первых рядах партера поднимается возня — кто-то из шайки Ашурбека осмелился тронуть папаху Наджафа-Кули.
— Жди меня! — приказывает жене Теймур и, заперев ложу снаружи, спешит вниз, где уже столпились и ощерились друг против друга люди из шаек Наджафа-Кули и Ашурбека.
Начинается перебранка, она переходит в драку и поножовщину. Зрители в панике устремляются к выходу. Проклятые кочи! Не дадут спокойно посидеть в театре — подобные скандалы повторяются изо дня в день! Баджи в ужасе следит за происходящим: еще, чего доброго, начнется стрельба!
Но вот скандал прекратился. Теймур возвращается в ложу. Лицо его сияет удальством: люди из шайки Наджафа-Кули не только отстояли «честь папахи» своего вожака, но сбросили с кресла и затоптали дорогую папаху его соперника и врага.
Наконец, с опозданием на час, занавес поднимается. Взгляд Баджи прикован к сцене. Все в мире забыто.
Там, на сцене, прекрасная Лейли и юный Гейс, влюбленные друг в друга… Но почему так тревожно звучит музыка, почему так печальны песни, которые они поют? Родители Лейли сватают дочь за другого… Гейс потрясен, его объявляют безумным — Меджнуном — и он уходит в пустыню… Как весело все поют, танцуют и шутят на свадьбе Лейли, и только сама невеста невесела: ей слышится голос Меджнуна, упрекающего ее в измене… Проходят годы, судьба вновь сталкивает влюбленных, но безумный Меджнун уже не узнает своей любимой. Не вынеся страданий, Лейли падает замертво… Вот ее могила и надгробный камень. Сюда приходит Меджнун и печально поет о своей неугасимой любви.
Широко раскрытыми глазами, с замирающим сердцем следит Баджи за каждым движением на сцене. Как нежны и прекрасны песни Лейли!.. Роль Лейли исполняет мужчина. Он поет хорошо. Баджи в восторге. И все же… Разве может мужчина петь так, как поет о любви женщина?.. Баджи пылает гневом к родителям Лейли и Гейса, разлучившим два любящих сердца. Безумный блуждающий взгляд Меджнуна приводит Баджи в содрогание. Нет сил сдержать слезы, когда Меджнун поет на могиле Лейли…
Спектакль окончен. Супруги возвращаются домой пешком.
— Ну, как понравилось в театре? — спрашивает Теймур.
Взволнованная спектаклем, Баджи отвечает не сразу.
— Наверно, ничего не поняла! — бросает Теймур.
Баджи с трудом возвращается к действительности. О нет, она все хорошо поняла!
— А я думаю, что у тебя в голове было другое… продолжает Теймур многозначительно.
— Другое? Что же еще? — недоуменно спрашивает Баджи.
— Рамазан, фаэтонщик! Видел я, как вы переглядывались на улице!.. Точно Лейли и Меджнун! — Голос Теймура звучит злой издевкой.
Баджи вспоминает Рамазана на облучке, его нафабренные, лихо закрученные усы, наглый взгляд… Рамазан — Меджнун?.. Баджи разражается звонким смехом.
— Ты еще смеешься? — вспыхивает Теймур. — Не видать тебе больше театра. Никогда!
«Баджи пришла!»
Бале нет еще семи лет, но он чувствует себя настоящим мужчиной.
Отворив входную дверь, он складывает ладони рупором и кричит наверх:
— Эй, женщины!
Ана-ханум, Фатьма и Ругя высовываются из окон галереи.
— Баджи? Баджи!
— Баджи пришла!
Сунув в рот Бале конфету, Баджи входит во двор. Все как прежде: сточная яма, мусорный ящик у входа, зеленая низкая дверь подвала с треугольным оконцем.
Все рады гостье. Скука, что ли, одолела всех без Баджи? Или просто опротивело целый день грызться между собой и хочется повидать свежего человека? Девчонка, что ни говори, умела потешить и развеселить. В сущности, не так уж плоха была она — среди бедных родственников бывают хуже.
Гостью забрасывают вопросами. Она отвечает степенно, неторопливо, как и надлежит отвечать настоящей гостье, а не бедной родственнице-служанке.
Что она ест? Как готовит? О, ест она вкусно, готовит хорошо — плов, нити, долма, пирожки…
— Этому ты у меня научилась! — самодовольно отмечает Ана-ханум.
Баджи снисходительно кивает: возможно!
Сколько денег дает ей муж на базар! Щедро дает, даже не считает!
— Конечно, деньги у него легкие, — замечает Ана-ханум со вздохом и мысленно добавляет: «Не то, что Шамси».
Баджи пропускает замечание мимо ушей: не стоит на эту тему говорить.
Бьет ли ее муж? Нет, не бьет.
— А подарки дарит? — любопытствует Фатьма.
— Разумеется, дарит… Вот!.. — Баджи протягивает руки с браслетами и кольцами: пусть позавидуют мамаша и дочка!
— А любит он тебя? — испытующе спрашивает Ругя.
Ана-ханум бросает на Ругя гневный взгляд: одно у нее в голове, у этой гусеницы, — любовь!
Баджи смущается:
— Говорит, что любит!.. Вот на днях взял он меня с собой в театр…
— В театр? — в один голос восклицают женщины. Уж не ослышались ли они? Не путает ли девчонка? Или, быть может, просто завралась?
— В театр, конечно! — подтверждает Баджи таким тоном, точно речь идет о чем-то привычном, повседневном.
— Неужели была там, где опера? — спрашивает Ругя, желая щегольнуть необычным словцом. Об опере Ругя слышала от одной русской соседки. Хорошо бы туда попасть! Впрочем, Ругя понимает, что об этом нелепо даже мечтать.
Баджи с достоинством подтверждает:
— В опере!
— Театр — это дом, где продажные бабы поют песни и пляшут перед мужчинами, — изрекает Ана-ханум.
— Ты ошибаешься, Ана-ханум, — возражает Баджи с видом превосходства: после посещения «Лейли и Меджнун» она считает себя знатоком театра.
— Какая же порядочная мусульманка станет танцевать перед чужими мужчинами? — настаивает Ана-ханум. — Вот несколько лет назад приезжала сюда из Тифлиса некая Шевкет и стала петь перед мужчинами в театре — будь он проклят! Ну, конечно, добрые мусульмане заставили закрыть такой театр, чтобы наши дочери от этой женщины не взяли дурного примера. Ее счастье, что уехала вовремя, — собирались закидать ее камнями.
— Танцуют-то в театре вовсе не мусульманки, а русские и армянки, — поправляет Баджи; это сообщил ей Теймур, когда на сцену вышли танцовщицы.
— Порядочные русские женщины или армянки тоже не станут кривляться перед чужими мужчинами, как базарные плясуны, — с уверенностью заявляет Ана-ханум. — А те, которых ты видела, так они за свое пение и пляски получают плату, и, значит, они и есть продажные.
Баджи вспоминает Петровскую площадь, колечко, которое хотел подарить ей за танцы красноармеец.
— А разве порядочным женщинам иной раз за пение или за танцы не дарят деньги или подарки — на свадьбах, скажем, или на праздниках? — говорит она.
— Это совсем другое дело!
— Какая разница?
Ана-ханум пытается объяснить.
— Да бросьте вы этот глупый спор! — прерывает ее Ругя. — Ты, Баджи, лучше расскажи, как там все происходит.
— Да, да, расскажи! — подхватывает Фатьма.
Ана-ханум сама падка до зрелищ. Шайтан с ними. В конце концов, продажные или порядочные эти танцовщицы, пусть в самом деле девчонка расскажет, как там все происходило.
— И правда, Баджи, повесели нас! — восклицает она.
«Повеселить?»
Баджи самой хочется поделиться впечатлениями от театра, похвастать перед женщинами, но она помнит, что дала себе слово не выполнять подобных требований Ана-ханум. Правда, Ана-ханум сейчас не приказывает ей, а только просит, а по своей воле почему бы ей, Баджи, не повеселить их? И Баджи интригующим тоном спрашивает:
— Хотите знать, что я видела в театре?
— Хотим, Баджи, золотце, миленькая, расскажи! — наперебой восклицают женщины.
— Ну, ладно, так и быть! — снисходит Баджи, польщенная упрашиваниями. — Садитесь сюда! — приказывает она.
Женщины усаживаются полукругом на указанное место. Баджи устраивает в углу комнаты нечто вроде сцены, используя в качестве занавеса свою чадру.
«Па какие глупости новую чадру портит!» — возмущается Ана-ханум, но высказаться вслух не решается: чего доброго, обидится девчонка и ничего не покажет.
— Слушайте! — торжественно объявляет Баджи из-за занавеса. — Смотрите!
Занавес отдергивается, и перед зрителями предстает Лейли.
Слух у Баджи отличный, она легко воспроизводит мелодию, слышанную в театре. А голос? Актер в театре пел громче, искусней, но разве может мужчина петь так, как поет о любви женщина? Разве может он играть влюбленную девушку? Баджи воображает, что она Лейли и любит Меджнуна, что она разлучена с любимым. Высоким нежным голосом поет Баджи печальную песню Лейли.
В глазах женщин — слезы. Даже Бала о чем-то загрустил.
Ах, Баджи, Баджи! До чего хорошо поет! Ай, шайтан ловкий, до чего хорошо играет!.. Все искренне хвалят Баджи, наперебой угощают ее вкусными вещами.
Окрыленная успехом, Баджи предлагает:
— Хотите, я вам расскажу одну интересную историю?
Разумеется, все хотят.
Жестикулируя, блестя глазами, повышая и понижая голос, Баджи рассказывает сюжет «Кавказского пленника». Все настолько увлечены, что появление Шамси не прерывает рассказа. Окончив, Баджи опускает глаза и ждет суждения слушателей. Женщины вопросительно поглядывают на Шамси и, в свою очередь, ждут, пока выскажется глава семьи.
Шамси собирается с мыслями.
— Откуда ты это знаешь? — спрашивает он наконец.
— Сама придумала! — отвечает Баджи, не моргнув глазом.
Все удивленно ахают: сама?!.
— Интересная история! — говорит Шамси снисходительно. — Но лучше бы не про русского офицера рассказывать, а про турецкого или персидского: неприлично как-то получается — черкешенка, мусульманка, и любит русского… А в остальном — хорошо! Молодец, Баджи! Не ожидал я от тебя…
Баджи сдерживает улыбку.
«Вот дурак старый! А сам же ругал и бил меня за эту книгу!»
Женщины с неподдельным восторгом поддакивают главе семьи:
— Молодец, Баджи! Ох, молодец!..
«И вы тоже дуры! — усмехается Баджи. — Из-за этой самой книги лаяли на меня как собаки!..»
Не слишком ли сурова Баджи к своим слушателям? Не слишком ли вскружил ей голову успех? Ведь рассказ-то им всем, что ни говори, поправился!
Каждую пятницу приходит Баджи в дом Шамси в гости к женщинам, и каждый раз ее просят, чтоб она спела им печальную песню Лейли — о любви и разлуке, и Баджи не заставляет упрашивать себя и каждый раз, пропев песню, видит на глазах у женщин слезы.
Жена да покорится мужу!
В одну из пятниц Баджи вернулась домой позже обычного.
— Ты где пропадаешь? — хмуро спрашивает Теймур, хотя знает, что она была в доме Шамси.
Баджи не удостаивает ответом: ему не понять! Сегодня ее долго не отпускали — без конца заставляли петь и играть, расхваливали и угощали. Как могла она уйти? Баджи, кроме того, избегает хоть чем-нибудь напомнить Теймуру о театре.
— Наверно, с фаэтонщиком перемигивалась? — бросает Теймур с кривой усмешкой.
Самолюбие не позволяет Теймуру просить фаэтонщика прекратить заигрывания с Баджи, и гнев его обращается на нее. Теймур изощряется в остротах насчет крашеных усов Рамазана и всех атрибутов извозного промысла, упреки и брань не сходят с его языка…
Иногда на квартире Теймура собираются его друзья и собутыльники. При этом обычно возникают споры, ссоры, мужчины нередко хватаются за ножи. Баджи в таких случаях убегает к Ага-Шерифу и Зийнет-ханум: не женское это дело — вмешиваться в ссоры мужчин!
Стоят теплые дни, двери и окна всюду раскрыты настежь. Шум и крики спорящих, готовых затеять драку людей разносятся по всему двору, врываются в тихую квартиру Ага-Шерифа. Баджи охвачена стыдом и досадой: уже не скрыть, что Теймур, ее муж — дурной человек.
Не скрыть… А вместе с тем — странно! — Ага-Шериф по-прежнему позволяет ей слушать, как он занимается с учениками, а Зийнет-ханум ласкова с ней, как всегда. Может быть, старики ни о чем не догадываются? Иначе разве стали бы такие хорошие люди дружить с нею? Но если так, то почему же взгляды ее друзей сейчас еще печальней и жалостливей? Эти добрые умные люди, конечно, все понимают и только не хотят ее унижать!..
Однажды, после удачного дельца, Теймур протянул Баджи красивый шелковый платок. Баджи оттолкнула Теймура: не нужен ей его подарок!
— Ты что это? — недоумевает Теймур, вертя в руках платок.
Баджи не отвечает.
— Ты что же, от мужа подарки не хочешь принимать?
Баджи молчит: неужели он сам не понимает, что такие подарки стыдно принимать? О, как прав был Юнус, когда отказался от ее синего мешочка!
Глаза Теймура суживаются:
— Смотри, Баджи, если будешь валять дурака…
Баджи вызывающе вскидывается:
— Ну?..
Теймур чувствует, что Баджи ею не боится, и злобно договаривает:
— Обратно упеку брата в тюрьму!
Баджи в досаде стискивает зубы: да, он это может сделать. Она вырывает платок из рук Теймура:
— Ладно!..
Теймур запретил Баджи выходить на улицу: надо приструнить разбаловавшуюся жену. Немалую роль при этом играло и то, что на каждом углу мерещился Теймуру поджидающий Баджи лакированный фаэтон. В последнее время Теймур дошел до того, что запретил Баджи ходить даже к соседям.
Это вовсе не значит, что в отсутствие мужа Баджи покорно сидит дома, в четырех стенах. Отнюдь нет! Стоит Теймуру уйти, как Баджи, наскоро выполнив домашние дела, спешит к Ага-Шерифу и Зийнет-ханум. Конечно, она принимает меры, чтоб не попасться: во дворе немало босоногих ребят, готовых за кусочек халвы часок-другой поторчать на ближайшем перекрестке и, завидя возвращающегося Теймура, предупредить Баджи. Теймура эти ребята не любят, а услужить Баджи всегда готовы.
Однажды, стоя в дверях комнаты Ага-Шерифа, Баджи видит, что ученик затрудняется ответить на вопрос, заданный преподавателем. Баджи помнит, как хорошо ответил на подобный вопрос другой ученик, и с ее губ невольно срывается правильный ответ.

Ага-Шериф подзывает Баджи и ласково произносит:
— Я тебе уже не раз говорил: незачем тебе стоять в дверях — можешь сесть рядом с учениками и заниматься!
Баджи медлит… Нет, это, пожалуй, слишком! Впрочем, если Ага-Шериф приглашает…
Внезапно дверь распахивается, и на пороге появляется Теймур. Баджи — жертва предательства: ее босоногий дозорный не только покинул пост на перекрестке, но и указал Теймуру, что она у Ага-Шерифа.
Теймур бесцеремонно входит в комнату. Он, по обыкновению, пьян.
— Ты чего жену с мужем разлучаешь? — набрасывается он на Ага-Шерифа.
— Напрасно ты так говоришь, Теймур, — отвечает Ага-Шериф спокойно, — просто я хочу обучить твою жену грамоте.
— Грамоте обучают мужчин, а не баб! — обрывает его Теймур. — А с мальчишками, с которыми ты возишься, пусть любезничает твоя старуха!
— Напрасно, напрасно ты так говоришь… — отвечает Ага-Шериф, вскипая гневом, но внешне сдержанно: сам он не трус и мог бы ответить Теймуру так, как тот заслуживает, но он боится повредить Баджи — закон-то ведь на стороне мужа.
Щеки Баджи пылают от стыда: так оскорбить этих хороших людей! Провалиться бы ей сквозь землю!
Но Теймур не унимается.
— Русификатор!.. — орет он во весь голос, сам, впрочем, толком не понимая значения этого слова. Он слышал, что так называл Ага-Шерифа кто-то из мусаватистов, и однажды видел это слово, написанное углем на дверях квартиры Ага-Шерифа.
Баджи тоже не понимает, что значит «русификатор», но по тому, с какой злобой и презрением произносит Теймур это слово, она принимает его за величайшее оскорбление.
— Хватит! — внезапно обрывает она Теймура с такой яростью, что тот на мгновение умолкает.
Но сообразив, он приходит в бешенство: женщина, жена — осмеливается на него кричать? Он замахивается на Баджи кулаком.
— А ну, попробуй… — злобно шепчет Баджи, и в глазах ее вспыхивает ненависть.
Теймур понимает: она готова на все. Он поворачивается к Ага-Шерифу и угрожающе заявляет:
— Если еще раз увижу, что ты или твоя старуха портите мою жену — пеняйте на себя: заявлю куда следует, что ты чужих жен, добрых мусульманок, с законными мужьями разлучаешь и с мальчишками сводишь, тогда посмотрим, как поможет тебе твоя чертова наука!.. А ты, — он снова поворачивается к Баджи, — пошла домой!
Баджи не трогается с места.
— Ну, кому говорю!
Баджи готова затеять спор, драку, но уловив растерянный, испуганный взгляд Зийнет-ханум, приходит в себя. Она, Баджи, молодая и сильная и в обиду себя не даст. В крайнем случае пустит в ход зубы и ногти — обидчику несдобровать! А вот как постоят за себя эти тихие, старые люди, если она навлечет на них гнев Теймура?
Потупив взгляд, Баджи покидает дом своих друзей.
Жена да покорится мужу!
Теймур забивает раму окна, выходящего из спальни на галерею, и, уходя из дому, запирает Баджи на ключ; так верней!
Неужели кончилось учение Баджи у Ага-Шерифа? Неужели кончилась ее дружба с Зийнет-ханум? Как бы не так! Баджи незаметно, но терпеливо расшатывает раму, выдергивает гвозди. И вот окно снова открыто! К приходу Теймура Баджи приводит окно в прежний вид, и Теймур остается в уверенности, что рама забита. Что касается входной двери, то ко всякому замку можно подобрать ключ, если только прилежно искать! И опять, покончив с домашними делами, Баджи спешит к своим друзьям. Правда, вероломство мальчишки-дозорного заставляет ее быть более осторожной: теперь на страже стоят верные пареньки — нередко из учеников Ага-Шерифа.
«Шамси Шамсиев и зять»
Однажды Фатьма разревелась: Баджи на год моложе ее и даже не родная племянница отца, а он уже выдал ее замуж, муж забрасывает ее подарками и водит в театр; а она, Фатьма, на год старше Баджи и у отца родная, единственная дочь, а он и не думает выдавать ее замуж. Что ж, она хуже Баджи, чтоб сидеть в старых девках?
Фатьма была несправедлива к отцу: он не только думал о ее замужестве, но успел утвердиться в мысли, что выдать ее следует не за кого другого, как за Хабибуллу. Он руководствовался при этом, правда, не тем, что Фатьма, завидя Хабибуллу, смущается и краснеет и, видимо, влюблена — умный отец не может считаться с подобными пустяками, — а тем, что брак ее с Хабибуллой сулил многое самому отцу: тот, кого Шамси в мечтах своих видел зятем, неуклонно шел в гору и мог служить в будущем опорой.
Шамси помнил оскорбительную усмешку, с какой его друг встретил намек на брак с Фатьмой, и понимал, что брак этот не так легко осуществить. Впрочем, рассуждал он, что в этом мире дается легко? Даже самый красивый и ценный ковер не продашь без уговоров, не говоря уж о том, сколько усилий приложишь, прежде чем продашь ковер обыкновенный. А сейчас — Шамси не переоценивал достоинств дочери — сейчас нужно было всучить товар некрасивый, непривлекательный, не радующий глаз.
И, размышляя так, Шамси представлял себе длинный нос и толстые губы Фатьмы, столь схожие с носом и губами старшей жены и столь не похожие на задорный носик и нежные губы младшей, и сокрушенно покачивал головой: младшая жена — дочь бедняка-землероба, а Фатьма — дочь городского купца, а вот поди ж!..
И так как Шамси знал, что его дочь нехороша собой, и нельзя сказать, чтоб особенно умна или хозяйственна, то он решил привлечь Хабибуллу солидным приданым, деньгами, которых, он знал, у Хабибуллы мало, хотя тот и шел в гору. При этом Шамси рассчитывал, что убедит зятя вложить это приданое в прибыльное «Ковровое дело Шамси Шамсиев и зять» и, таким образом, снова станет хозяином своих денег.
Расчет Шамси оказался правильным.
Далеко позади осталось то время, когда Хабибулла мечтал иметь тестем богатого лавочника. Теперь он не прежний Хабибулла. Он член районного комитета партии «мусават», его ценят в верхах. Сейчас по заданию высших органов «мусавата» он участвует в сложной работе по созданию «мусульманских рабочих союзов», ставящих целью отрыв рабочих-азербайджанцев от остальной рабочей массы и превращение их в послушное орудие «мусавата». Его рассматривают как немалую культурную силу и подчас прочат будущность дипломата.
Конечно, он не прежний Хабибулла! Но денег, денег-то у него, что ни говори, нет!.. Фатьма, конечно, нехороша собой, невежественна, неотесанна и никак не напоминает тех женщин, какими он в тайных мечтах окружает себя, но что же, в конце концов, как не деньги, поможет ему в действительности окружить себя такими женщинами?.. «Ковровое дело Шамси Шамсиев и зять»… Магазином будет управлять его толстый тесть; он, Хабибулла-бек, сын Бахрам-бека — политический деятель, а не лавочник, чтоб стоять за прилавком, торгуясь и бранясь с покупателями за каждый грош! Для него, чьи деды были беками и повелителями, найдутся при деньгах и славе другие, более достойные дела!
И Хабибулла, немного поломавшись для приличия, ответил Шамси, что готов признать в нем тестя и отца.
Шамси облобызал Хабибуллу и прослезился: знатный и образованный зять — это ли не радость для любящего и заботливого отца? Чего только нельзя достичь, имея ум и деньги! Скоро он будет качать на коленях внука, которого в честь Балы-старшего назовет Балой самым маленьким, а Бала-младший станет дядей. Последнее очень позабавило Шамси: Бала-младший — дядя!..
И наступил день, когда мулла хаджи Абдул-Фатах, как надлежит мулле, написал брачный договор о том, что Хабибулла-бек Гянджинский, сын Бахрам бека — да пребудет тот вечно в раю! — род которого восходит к древнейшим властительным фамилиям Азербайджана, с одной стороны, и девица Фатьма, дочь Шамси Шамсиева, с другой стороны, вступают в брак, и что святой коран этот брак освящает, и что отныне они, Хабибулла и Фатьма, муж и жена.
Из-за длинного перечня предметов и обязательств, составлявших приданое, брачный договор этот оказался длинней того, который написан был Абдул-Фатахом для Баджи; это, впрочем, естественно, если невеста богата и не похожа на тех, все приданое которых — бедность, политая слезами. И Фатьма была довольна: длинный перечень этот, входящий в договор, утверждал ее неоспоримое превосходство над Баджи.
Мулла хаджи Абдул-Фатах, как надлежит мулле, сказал новобрачным напутственное слово, определив по шариату права мужа и обязанности жены, но голос его при этом не звучал так сурово, как тогда, когда произносил он напутствие Баджи.
И святые слова шариата о том, чтоб непокорных жен лишать ласки и свободы, а опасных в упрямстве своем — бить, мулла хаджи Абдул-Фатах прочел невнятным беглым речитативом, ибо напутствие это он обращал сейчас не к сестре своего оскорбителя, а к дочери друга, и еще потому, что плату за составление брачного договора получают обычно в соответствии с приданым.
И свадьба Фатьмы была несравненно более пышной, чем свадьба Баджи, и все были довольны и веселы.
Пожалуй, только жених испытывал сомнение… Ах, этот длинный нос! Он, казалось, только для того и существовал, чтоб давать о себе знать каждую минуту…
Хабибулла едва не впал в отчаяние и лишь наутро, просматривая перечень вещей, приложенный к брачному договору, несколько успокоился. В перечень этот, к слову сказать, вошли и деньги, полученные. Шамси от Теймура, за исключением одного золотого, который Шамси отдал в подарок Баджи в день, когда ее увел с собой муж.
Свадебные деньги
На другой день после свадьбы Хабибуллы в казарму для бессемейных явился Министрац. Он извлек из кармана длинный листок бумаги и молча сунул его Юнусу.
«Свадебные деньги Хабибулле-беку от сотрудников «Апшерона», — прочел Юнус.
Ниже шел список фамилий, против каждой из них — сумма и подпись.
— Свадебные деньги? — воскликнул Юнус недоумевая. — Здесь, на промысле? Да ведь такие деньги только в прежние времена, как подать, вносили бекам подвластные крестьяне!
— Говорят, старый добрый обычай можно равно соблюдать и сейчас, — ответил Министрац, пожав плечами.
Юнус усмехнулся:
— Старый добрый обычай!.. У Хабибуллы-бека это, видно, в крови: отец его, я слышал, тоже любил взимать подати и, кажется, плохо кончил…
— Свадебные деньги не подать, а подарок, — возразил Министрац.
«Подарок?»
Юнус пробежал взглядом список. Почти все фамилии были ему знакомы. Первой стояла фамилия владельца промысла — очевидно, тот считал нужным поощрить ретивого мусаватиста, стоящего на страже хозяйских интересов. Ниже шли фамилии людей из администрации, следующих примеру хозяина, и среди них Кулль. Затем фамилии мелких служащих и мастеров, угодливым подношением стремившихся снискать расположение мусаватиста, казавшегося им влиятельным. Немало фамилий в этом длинном списке принадлежало рабочим, и стоило сопоставить жертвуемые суммы с голодной, нищенской жизнью самих рабочих, чтоб без труда понять, что список этот — результат бесстыдного вымогательства со стороны Хабибуллы.
— Твой Хабибулла-бек, видно, воображает, что властвует в своих родных краях, — сказал Юнус. — Впрочем, сейчас он и там вряд ли многим бы поживился… Скажем, среди крестьян селения Геран-бой Ахмедлы.
Рискованно было произносить такие слова перед прислужником Хабибуллы — крестьяне селения Геран-бой Ахмедлы, во главе с Катыр Мамедом, организовав партизанские отряды, успешно вели борьбу против помещиков-мусаватистов. Но уж слишком разозлила Юнуса наглость Хабибуллы.
Злая усмешка скользнула по лицу Министраца.
— От крестьян Геран-бой Ахмедлы, ты говоришь? — переспросил он. — Немногого ж они теперь стоят: их вожак Катыр Мамед мертв.
— Не может быть! — вырвалось у Юнуса. Он еще не знал, что после долгой борьбы с мусаватскими войсками, посланными на усмирение восставших, Катыр Мамед, выслеженный ганджинскими кулаками, был пойман и убит.
— А как же иначе поступать с бунтовщиками? — спросил Министрац, пристально глядя в глаза Юнусу.
Угроза послышалась Юнусу в этих словах.
— Дашнаки, я вижу, ноют одну песню с мусаватистами! — сказал он в ответ.
Министрац сделал нетерпеливый жест.
— Ну, так как — окажешь уважение Хабибулле-беку? — спросил он.
Юнус решил быть стойким.
— Не буду я платить податей Хабибулле-беку! — ответил он, возвращая список.
— Свадебные деньги не подать, а подарок, — повторил Министрац заученные слова.
— И подарки я не вижу оснований делать Хабибулле!
— Странно: ведь ты, кажется, родственник его жены, его свояк?
— Нет! — отрезал Юнус. — Не родственник и не свояк!
Министрац кивнул на уголок газеты, выглядывавший из-под подушки на койке Юнуса. Это был номер полулегальной молодежной большевистской газеты на азербайджанском языке, начавшей выходить с осени того года.
— Не здесь ли ты вычитал то, о чем говоришь? — усмехнулся Министрац.
— Тебя не касается! А денег, повторяю, для Хабибуллы-бека не дам!
Министрац не стал настаивать.
— Как знаешь, — сказал он, пожав плечами, и, аккуратно сложив список, сунул его в карман.
Он действовал при этом согласно указанию Хабибуллы: не слишком напирать на отказывающихся, не озлоблять рабочих.
Выйдя из казармы и завернув за угол, Министрац вынул из кармана другой список и, приложив его к стене, нацарапал имя и фамилию Юнуса. Он и сейчас действовал согласно указанию Хабибуллы: заносить в особый список всех, отказывающихся платить, — разумно иной раз пренебречь грошами, зато узнать, кто твой друг и кто враг…
После ухода Министраца Юнус снова взялся за газету.
Он пробежал несколько строк. Насилия… Поборы… Несправедливость… Что только не творилось в царстве ненавистного «мусавата»! О многом можно было прочесть на страницах «Молодого рабочего».
Внезапно Юнуса осенило: что, если написать в газету об этих свадебных деньгах, о поборах мусаватских вожаков на промыслах, и выставить таких людей, как Хабибулла, в истинном свете? Юнус весело усмехнулся: Министрац, сам того не подозревая, подал ему недурную мысль!
Всю ночь просидел Юнус над листком бумаги — хотелось написать стихами, красиво, как Сабир. Перо не слушалось его мыслей, но правда вывела его в конце концов на верный путь — к утру лежали на столе два десятка стихов-частушек, написанных на всем знакомый мотив. Немало было в этих стихах фактов из жизни Хабибуллы, и об его делах немало было насмешливых, гневных, обличительных слов. Пусть рабочие получше узнают одного из тех, кто распинается перед ними в своей любви и дружбе и кто на самом деле их исконный враг!.»
Юнус относ стихи в редакцию.
Он был удивлен, увидя за одним из столов табельщика Кафара с соседнего промысла. Это был молодой человек лет двадцати пяти, с всклокоченными волосами и приятной, добродушной улыбкой. Юнус давно чувствовал к Кафару симпатию и, стремясь сдружиться с ним, несколько раз заходил к нему после работы на квартиру, но не заставал дома. Вот, оказывается, где проводит свои досуги Кафар — занимается, видно, теми же делами, что и он, Юнус!
— Пойдет завтра же! — сказал Кафар, внимательно прочтя стихи, и, зачеркнув подпись Юнуса, подписал вместо нее: «Рабочий».
— Я не боюсь — пусть знают, кто писал! — возразил Юнус.
— Никто из нас не боится, но мусаватистов особенно злит и тревожит, когда автор без имени: ведь за такой подписью может скрываться десяток и сотня имен, — ответил Кафар. — Пусть наш уважаемый Хабибулла-бек немного поломает голову над тем, кто этот «Рабочий»!
— По мне, пусть он ее хоть совсем сломает! — заметил Юнус.
— Скоро, наверно, так оно и будет… — многозначительно добавил Кафар.
Юнус понял его: Кафар намекал на массовое вооруженное восстание — с недавнего времени об этом стали поговаривать на промыслах почти открыто. И, поглядев на свой листок, исписанный стихами, Юнус почувствовал неловкость: люди с оружием в руках готовятся к схватке с мусаватистами, а он занимается писанием стишков.
— Может быть, нет смысла заниматься сейчас этими пустяками? — пробормотал он смущенно.
— В борьбе против разбойников-мусаватистов пустяков нет! Мусаватистов надо бить всюду, всегда и чем попало!
— Разве что так. — Помолчав, Юнус добавил: — Хорошо бы в таком случае продернуть в газете и их прислужника-дашнака Министраца.
Кафар задумался, затем хитро улыбнулся:
— Пока подождем. Министрац твой никуда от нас не убежит. — Встретив вопросительный взгляд Юнуса, он пояснил: — Иначе они сразу раскусят, что это твоих рук дело!
Юнус кивнул в ответ: пожалуй, Кафар прав. Неглупый, оказывается, он парень, этот тихий табельщик Кафар!..
Появление стихов в «Молодом рабочем» сразу сказалось на ходе сборов свадебных денег. Как ни старался Министрац, как ни распространялся он о добродетелях Хабибуллы и о необходимости жить с таким человеком в ладу и в дружбе, рабочие угрюмо переступали с ноги на ногу, что-то бормотали себе под нос, но денег не вносили. Сбор сошел на нет.
В глазах апшеронцев Хабибулла читал недружелюбие и насмешку. «Рабочий»… Кто знает, быть может обладатели именно этих глаз настрочили те злые стишки к газете и сейчас еще посмеиваются над ним? Выжечь следовало бы такие глаза каленым железом!
Впрочем, главная беда заключалась не в этом и даже не в том, что собранных по списку денег оказалось гораздо меньше, чем рассчитывал Хабибулла. Злополучные стихи появились как раз тогда, когда Хабибулла проводил работу по созданию «мусульманских рабочих союзов» и делал это, как ему казалось, небезуспешно. Правда, не раз приходилось ему покидать рабочие собрания под свист и улюлюканье, но случалось, он добивался известного успеха, который умел раздувать в мусаватских кругах, создавая себе репутацию ценнейшею агитатора-мусаватиста. А теперь вот появились ни стихи, и может пострадать с таким трудом добытый им политический авторитет.
Кто автор стихов? Кто скрывается за подписью «Рабочий», так много и вместе с тем ничего не говорящей? Разумеется, не кто иной, как только рабочий мог написать такие стихи. Но кто, кто именно?.. «Рабочий».. Эта подпись вызывала в Хабибулле страх. Необходимо было ее раскрыть, ибо нераскрытая она казалась еще страшней, словно за ней таилось все чуждое и ненавистное Хабибулле.
Хабибулла вызвал Министраца, и вдвоем они стали просматривать список тех, кто отказывался вносить свадебные деньги: несомненно, опасный стихотворец где-то здесь! Хабибулла и Министрац подолгу задерживались на каждой фамилии, Хабибулла заставлял Министраца припоминать, что и как говорил каждый из отказавшихся платить, и оба наконец пришли к выводу, что автор стихов этот дерзкий парень из казармы бессемейных, тарталыцик Юнус.
— Он уже не впервые бунтует! — сказал Министрац и припомнил все свои столкновения с Юнусом.
Было что припомнить и Хабибулле.
Все стало ясным: Юнус, мальчишка-большевик, его новый свояк — вот кто, оказывается, автор этих зловредных стишков!
«Жаль, что не убил его тогда, у крепостных ворот!» — подумал Хабибулла, в досаде и злобе сжимая кулачки.
Игра
Дни и ночи проводит теперь Рамазан в гостях у Теймура. В спальню доносятся шелест карт, стук шашек, «альчиков», возгласы и споры.
Теймур играет азартно и помногу проигрывает. Удача, видимо, покинула его совсем. Случается, он проигрывает сумму большую, чем есть в доме наличными, и в счет погашения идут ценности, мебель, одежда. Рамазан не протестует.
— Эй, Баджи! — зовет Теймур. — Дай-ка сюда твой браслет!
Баджи молча достает из синего мешочка браслет и подаст Теймуру через полуоткрытую дверь. Теймур вырывает браслет у нее из рук.
Вскоре слышится снова:
— Эй, Баджи, дай-ка сюда твое кольцо с бирюзой!
Баджи отдает кольцо.
В четвертый раз за сегодняшний вечер вызывает ее Теймур с подобными требованиями. Ценности одна за другой уходят в руки Рамазана. Впрочем, Баджи не слишком огорчается: неправдой нажитое, говорят, к добру не приводит. Вдобавок ей сейчас не до браслетов и колец: на сердце у нее тревога и тоска.
Теймур протягивает руку за картой и, кивая на кучку денег и ценностей, выигранных Рамазаном, говорит:
— На все!
Рамазан прикрывает колоду ладонью.
— А чем ты ответишь, если проиграешь опять? — спрашивает он.
— Ты что же, мне не доверяешь?
— Дружба дружбой, а игра любит наличные деньги или вещи, — отвечает Рамазан. — Банк, ты сам видишь, собрался большой. Не могу я дать тебе карту, пока не увижу ставки обеспечения.
— Обеспечения?.. — вспыхивает Теймур. В памяти его мелькают деньги и ценности, которые он за последнее время проиграл Рамазану. Почти весь дом! — Может быть, тебе еще мою жену дать в обеспечение? — спрашивает он, злобно прищуриваясь и наконец давая понять Рамазану, что следовало бы тому поменьше расточать любезностей жене друга и проявлять больше уступчивости, играя с другом в карты.
Но Рамазан, к удивлению Теймура, отвечает:
— Что ж, я непрочь!
И непонятно, шутит он или говорит всерьез.
В первый миг Теймур готов схватить Рамазана за горло: совсем обнаглел фаэтонщик! Но тут же он соображает, что возникла возможность вернуть свой проигрыш без особого риска: едва ли фаэтонщик осмелится требовать у него жену, если даже выиграет. Наконец, в крайнем случае, не так уж обидно и распроститься со вздорной девчонкой, с которой целыми днями без толку воюешь. Ну ее!..
Деньги и ценности, лежащие на столе перед Рамазаном, приковывают взгляд Теймура. Не может быть, чтоб ему и в этот раз не повезло!
— Ну что ж, я тоже непрочь! — говорит Теймур вызывающе.
Однако Рамазан колеблется:
— Смотри, Теймур, не будешь ли ты раскаиваться?
Теймур опрокидывает в себя стакан водки.
— Я не мальчик! — восклицает он. — Играть так играть!.. Во что же ты оценишь Баджи, фаэтонщик?
— Товар оценивают глазами, — говорит Рамазан.
— Ты и так на нее глаза пялишь, как Меджнун! Может быть, еще скажешь — руками?
— Нет, этого я не говорю.
— То-то же!.. Эй, Баджи! — зовет Теймур. — Иди-ка сюда!
Накинув чадру, Баджи неохотно входит в комнату.
— Сними чадру! — приказывает Теймур.
Баджи медлит: это еще для чего?
— Сними, говорю тебе! — кричит Теймур.
Что он, напился, пьяница этакий, или с ума сошел?
— Ну!..
Баджи сбрасывает чадру. Ее глаза с дерзким вызовом смотрят на Теймура, на Рамазана: что еще затеяли эти дружки?
— Ну как, стоит она твоего банка? — спрашивает Теймур с кривой усмешкой.
Рамазан восхищенно покачивает головой: ничего не скажешь — красавица!
Красавицей кажется сейчас Баджи и Теймуру. Нет, еще рано ему расставаться с ней, пусть поживет у него — может быть, исправится.
— Я передумал… — говорит он сухо. — Давай-ка лучше играть на деньги!
— На деньги? — жестко переспрашивает Рамазан. — Я что-то их не вижу!
— Отдам, говорю тебе!.. — злится Теймур и протягивает руку. — Ну, дай же, дай же мне карту — на все!
Но Рамазан и сейчас не торопится.
— Поклянись жизнью Наджафа-Кули, что если я выиграю — уплатишь, — ставит он условие. Подобная клятва в известном кругу имеет вес: горе тому, кто, поклявшись именем Наджафа-Кули, нарушит ее.
— Клянусь жизнью Наджафа-Кули, что уплачу! — в азарте выпаливает Теймур.
— Ну, если так… — снисходит наконец Рамазан и сдает карты.
Баджи понимает, что едва не сделалась ставкой в этой игре. Гнев охватывает ее: что она — браслет, или кольцо, или орех, чтоб на нее играть? Резко повернувшись, Баджи делает шаг к двери.
— Останься! — орет Теймур: ему кажется, что присутствие Баджи принесет ему удачу.
— Нет! — отрезает Баджи.
Теймур весь во власти азарта, ему некогда размышлять.
— Если принесешь мне удачу — отпущу тебя на целый день к брату! — восклицает он.
К брату! Волнение охватывает Баджи.
— А ты не обманешь? — недоверчиво спрашивает она.
— Не обманул же, когда обещал выпустить его из тюрьмы! — отвечает Теймур.
Действительно, не обманул. Может быть, Теймур в самом деле выиграет и отпустит ее на целый день к брату? Что ж, ради этого она готова простоять за спиной Теймура сколько угодно, пока не свалится от усталости!
— Ладно, — отвечает Баджи. — Постою!
Баджи наблюдает, как с хрустом ложатся на стол карты. Карты! Много странного говорят о них люди. Вот десять черных значков в виде трилистника, вот семь значков в виде алого сердца, вот черная женщина под вуалью, не предвещающая добра.
Теймур доволен: он набрал двадцать очков.
— Бери-ка себе! — говорит он самонадеянно.
Рамазан открывает свою карту: туз! С досады Теймур ударяет кулаком но столу: туз, считает он, сулит противнику удачу. Рамазан прикупает карту: шестерка… Брать еще или остановиться? Теймур наслаждается сомнениями Рамазана. Тот, наконец, решается и открывает карту.
— Король! — восклицает Рамазан. — Двадцать одно! Я выиграл!
Теймур, склонившись над картами, проверяет: туз, шестерка, король — двадцать одно; обратно — король, шестерка, туз — тоже двадцать одно. Выходит, что фаэтонщик выиграл. Как же теперь быть?
— Странное у тебя везение… — говорит Теймур с наигранным недоумением, покачивая головой.
Рамазан поднимается с места:
— Ты хочешь сказать, что я передергиваю?
— А хотя бы и так!
— Смотри, Теймур! — говорит в ответ Рамазан угрожающе. — Ты клялся жизнью Наджафа-Кули, подумай, как он поступит с тобой, если пойду к нему и скажу, что ты бросаешься его именем, как собачьей кличкой!
Этот довод действует. Теймур сразу обмякает.
— Слушан, Теймур, — говорит Рамазан, смягчив тон, — если б я выиграл у любого другого человека, я бы сразу взял его за горло. Но ты — мой друг, и я даю тебе отсрочку до завтра!
Фаэтонщик говорит с видом, преисполненным благородства, но в действительности опасаясь нажить в своем друге врага, если потребует немедленной уплаты.
Теймур устало машет рукой: проигрыш весьма велик, и вряд ли удастся раздобыть деньги и завтра. С другой стороны, угрозы фаэтонщика реальны, и нужно использовать малейший шанс, чтоб выпутаться из беды.
— Ты говоришь, что даешь мне отсрочку до полуночи завтрашнего дня? — обнадеженно переспрашивает он.
— Да. А не уплатишь — пеняй на себя…
Теймур ударяет ладонью по столу:
— Ладно! Деньги я завтра непременно раздобуду!
Рамазан, бросив искоса взгляд на Баджи — неплоха девчонка! — уходит.
— Хорошо же ты помогла мне тем, что торчала у меня за спиной! — говорит Теймур со злобой, наливая себе стакан водки. — Наверно, желала удачи своему Меджнуну! Проклятая девка! Чертов глаз! Выгнать надо такую жену из дома!
— Плакать не буду, — спокойно отвечает Баджи.
Свояки
Приток свадебных денег прекратился. В газете появились еще две заметки, направленные против Хабибуллы и подписанные, как и первая, — «Рабочий». Апшеронцы поглядывали на Хабибуллу еще насмешливей и враждебней.
Теперь и мусаватские вожаки не одаряли его прежней приветливостью. Всем своим видом они, казалось, говорили: «Не умеете вы, Хабибулла-бек, делать дела шито-крыто и только компрометируете нас и нашу партию…»
«Жаль, что не убил его тогда у крепостных ворот! — неотступно вертелось в голове Хабибуллы. — И уж, во всяком случае, напрасно выпустили его из тюрьмы на поруки. От таких парней бед не оберешься».
Он обратился к полицмейстеру с жалобой, что его, члена партии «мусават», травят рабочие, и, указав на Юнуса, просил арестовать его как зачинщика травли.
Несколько месяцев назад просьба была бы с легкостью удовлетворена, но теперь, с усилением революционного движения, подобных жалоб и просьб со стороны мусаватистов, орудовавших на промыслах, у полицмейстера было множество, и он ответил Хабибулле с едва сдерживаемым раздражением:
— Не могу же я арестовать всех рабочих, поймите! И без того все враждебные нам газеты вопят о белом терроре, а союзные нам английские войска, на которые мы могли бы опереться, сами знаете, нас покинули, к сожалению.
— Эгоисты! — с досадой вставил Хабибулла.
— Как сказать… Англичанам самим сейчас, знаете, не сладко, — возразил полицмейстер. — Английские солдаты, охранявшие нас, поддавались, к сожалению, большевистской агитации: рабочие их протестуют против помощи, которую правительство Англии нам любезно оказывает; в Индии, в Египте, в Ирландии беспорядки… Это не значит, конечно, что Англия покинет нас перед лицом большевистской опасности, — поспешил он добавить. — Ну и мы сами тоже делаем все, что возможно… Недавно, как вы, наверно, знаете, мы утвердили административные меры против большевистской агитации…
— Эти меры мало к чему приводят! — уныло заметил Хабибулла.
— Есть у нас и другие меры… Члены партии «мусават» сами должны проявлять инициативу, привлекая зачинщиков на нашу сторону. Не забывайте, что в министерстве внутренних дел всегда найдутся средства, чтобы сломить этих коммунистических упрямцев. Пусть только наши люди, ведущие работу на промыслах, возьмут на себя эту деликатную миссию… Что же касается меня, то я, как полицмейстер, имею предписание арестовывать только особо важных, опасных преступников.
— Но ведь он и есть особо важный, опасный преступник! — воскликнул Хабибулла, готовый перечислит, и приумножить все злодеяния Юнуса.
Полицмейстер порылся в папке, вынул оттуда длинный список фамилий.
— Нет у меня такого, — сказал он, просмотрев список.
— Очень жаль… — сказал Хабибулла, обиженно надувшись. — Где же, как не у вас, должен был бы найти защиту старый и верный член партии «мусават»?
Полицмейстер смягчился:
— Согласитесь, Хабибулла-бек, что в такое время, когда большевики на всех углах кричат: «Да здравствует Советский Азербайджан!», когда — и это уже не секрет! — они готовят против нас чуть ли не вооруженное восстание, а Красная Армия, идя им на помощь, готова вторгнуться в пределы Кавказа, — в такое тревожное для нас время погружаться в столь сугубо личные дела, как сбор свадебных денег, не вполне уместно. Вы сами видите, что подобные вещи наши враги истолковывают как поборы и ставят это нам в вину.
— В той же газетке упоминается и об одном вашем приставе, который понуждал покупать пригласительные билеты на свою свадьбу, объявляя, что будет считать недругом всякого, кто не купит билета. А женится этот пристав, как сообщает газета, в пятый раз, — возразил Хабибулла.
— Я знаю об этом, — небрежно сказал полицмейстер. — Пристав есть пристав. Но ведь вы, Хабибулла-бек…
— Что до меня, — прервал Хабибулла, — то я никому не угрожал и женюсь-то всего в первый раз. Впрочем, дело не столько в деньгах, которых я лишился, но просто обидно, как эти нигилисты-большевики могут опошлить старый добрый азербайджанский обычай… — Голос его дрогнул, взгляд выразил глубокую печаль.
Но полицмейстер не склонен был поддерживать сетования Хабибуллы о падении нравов.
— Не будем спорить, Хабибулла-бек! — сказал он миролюбиво. — Мой долг — разъяснить вам положение дел, а вы поймите, что я хочу добра вам же. Для кого, если не для таких людей, как вы, ведется вся моя многотрудная и ответственная деятельность? И, самое главное, поймите: министерство внутренних дел не пожалеет сумм для деликатных миссий, о которых я вам говорил. Искать выхода из ваших затруднений надо именно в этом направлении! — подчеркнул он многозначительно и встал, давая понять, что разговор окончен.
Хабибулла вышел.
«Черта с два мальчишку привлечешь деньгами! — с досадой думал он, возвращаясь домой. — Мальчишка разыгрывает из себя святого — видимо, метит в вожаки, на место того седого армянина…»
Людей, правда, можно привлечь на свою сторону не только деньгами, но также потворствуя их слабостям и страстям к вину, к картам, к женщинам… Хабибулла пренебрежительно усмехнулся: не вязались все эти страсти с обликом его врага. Но все-таки должны же быть у человека слабости, воздействуя на которые можно его сломить!..
Весь вечер просидел Хабибулла у себя в комнате, курил одну папиросу за другой и размышлял, как бы привлечь Юнуса на свою сторону или хотя бы обуздать его, и злился на себя и на весь мир, что не может найти такого способа.
Под руку ему попал лежащий на столе номер «Таймса» — один из тех номеров, которые время от времени присылал ему Лиддель, прося взамен прислать те или иные сведения о жизни в Азербайджане. Одна из статеек самого Лидделя была отчеркнута синим карандашом.
«В Баку такой порядок и спокойствие, какого не было уже несколько лет, — прочел Хабибулла. — Гавань полна судов. Нефтяные промыслы дают все возрастающее количество нефти. Забастовки становятся редким явлением. Жители, будь то азербайджанцы, армяне или русские, сохраняют спокойствие и живут мирно. Тифлисско-Бакинская железнодорожная линия вполне безопасна, точно путь из Итона в Бирмингам…»
Хабибулла в ярости отшвырнул газету — будь он проклят, этот брехун! — и лег на диван.
Было уже поздно, когда Фатьма приоткрыла дверь и заглянула в комнату. Хабибулла увидел ее. Опять этот нос!
— Чего тебе? — раздраженно крикнул Хабибулла. — Разве не знаешь, что никто не смеет ко мне входить, когда я думаю!
— К тебе пришел Теймур, — пробормотала Фатьма виновато.
— Никого не принимать!
— Говорит, по важному делу.
Хабибулла гнушался Теймура, но судьба, как нарочно, уже не впервые сталкивала его с ним. А после того как оба они породнились с Шамси, встречи в доме тестя стали неизбежны. Хабибулла, правда, никогда не удостаивал Теймура разговором, а Теймур, по молчаливому соглашению, никогда не являлся в дом к Хабибулле. Надо думать, что если Теймур решился прийти, то уж действительно по важному делу.
— Ладно, впусти его, — буркнул Хабибулла.
Теймур, войдя, почтительно поздоровался с Хабибуллой и долго переминался с ноги на ногу, пока, наконец, не рассказал начистоту о своих затруднениях.
— Очень нуждаюсь в тебе, Хабибулла-бек, помоги — больше мне не к кому обратиться, всюду я уже должен. Ко всему, мы теперь с тобой свояки и обязаны друг другу помогать, — жалобно закончил он свой рассказ.
Хабибулла поморщился: нечего сказать, приятный свояк для человека, род которого восходит к древнейшим властительным фамилиям Азербайджана!
— А много ль тебе нужно? — спросил он.
Теймур назвал сумму.
— Да ты в своем уме ли? — отмахнулся Хабибулла. — Откуда мне столько взять?
— Ты теперь большой человек, стоишь на горе, тебе виднее, где взять… — ответил Теймур подобострастной многозначительно. — Знай, что я в долгу у тебя не останусь, пригожусь…
— Пригодишься?
И тут Хабибуллу осенило: Теймуру нужны деньги; ему, Хабибулле, нужно заткнуть горло Юнусу; Юнусу нужна его сестра Баджи — она-то и есть его слабость! Чего же проще? Он, Хабибулла, достанет в министерстве деньги и даст их Теймуру с тем, чтобы тот расплатился с фаэтонщиком, а за это отпустил бы девчонку к ее братцу — благо сам Теймур говорит, что она ему надоела. В свою очередь, нужно поставить перед Юнусом условие: вернув к себе сестру, пусть прекратит травлю против него, Хабибуллы. Вот ключ к решению!
Хабибулла изложил свой план Теймуру.
Теймур поразмыслил, и план пришелся ему по вкусу: он получит деньги, расплатится с Рамазаном. То, что Баджи перейдет жить к брату, для него, Теймура, беды не составит — с каждым днем все хуже становится девчонка; на крайний случай, если захочется взять ее назад, можно сделать это без особых хлопот — закон на стороне мужа.
Па том Хабибулла и Теймур и порешили.
— Приятно иметь умного свояка! — восхищенно сказал Теймур на прощание. — Очень приятно!
Хабибулла в ответ самодовольно осклабился.
Волки
Теймур направил посыльного за Юнусом.
— Приезжай нынче вечером — есть важное дело насчет сестры, — передал посыльный, но на расспросы Юнуса не стал отвечать.
Юнус работал в вечернюю смену. Не хотелось ему обращаться к Министрацу с просьбой освободить его на вечер, но тревога за Баджи заставила преодолеть неохоту.
И он был удивлен, когда Министрац, вместо того чтобы отказать, как обычно отказывал рабочим в их просьбах, или потребовать за услугу деньги, как нередко требовал, или хотя бы напомнить, что рабочие в свое время выкатили его на тачке, а он, несмотря на это, делает им добро, с понимающим видом дружелюбно заулыбался и тотчас же дал освобождение на целые сутки.
Юнус удивился бы еще больше, если б узнал, что способствовал этому не кто иной, как Хабибулла, ходатайствовавший за него перед администрацией промысла от имени районного комитета партии «мусават». К содействию комитета Хабибулла прибегнул не столько для большей убедительности своей просьбы, сколько с тайной мыслью скомпрометировать Юнуса: пусть дойдет до рабочих, что их прославленный стихоплет за их же спиной ведет дела с мусаватистами, — доверия к парню в глазах рабочих это не прибавит!..
В городе, по дороге с вокзала к дому Теймура, Юнус встретил Таги. Они обнялись, расцеловались: сколько лет, сколько зим!..
— Как твоя жизнь? — спросил Юнус.
— Старая баня — старый таз! — горько усмехнулся Таги, указывая на свой палан за плечами, добавил: — Вот моя жизнь!
Они пошли рядом, обмениваясь торопливыми и беспорядочными вопросами, как это обычно бывает при встрече давно не видавшихся друзей. Но постепенно беседа их вошла в определенное русло.
— Скоро у рабочих и крестьян будет иная жизнь, — сказал Юнус.
— У рабочих и крестьян… — повторил Таги задумчиво. — А что будет с нами, с амбалами?
Юнус улыбнулся.
— Было время, ты шутил, называя себя нефтепромышленником, а теперь, сменив ведро на палан, видно, стал считать себя беком?
Таги рассмеялся, а лицо Юнуса вдруг стало серьезным.
— Слушай, Таги, что я тебе расскажу… — проговорил Юнус, понизив голос.
И Юнус рассказал амбалу Таги, другу покойного Дадаша, о том, что недавно съехались в Баку большевики со всех концов Азербайджана — из Ганджи и Шамхора, из Кубы и Кедабека, из Шемахи и Карабаха; что состоялся в подполье первый съезд коммунистической партии Азербайджана и что съезд призвал всех рабочих и крестьян Азербайджана свергнуть ненавистную власть нефтепромышленников и беков, власть мусаватистов.
— Мы, амбалы, ничего об этом не знаем, — развел руками Таги. — Таскаем с утра до ночи тяжести на своей спине, как ослы. — Внезапно он оживился: — Я бы к такому делу, чтоб свергнуть власть нефтепромышленников и беков, власть мусаватистов, сам приложил руку!.. — Но тут же он снова сник: — А хватит ли у рабочих и крестьян сил для этого?
И тогда Юнус рассказал амбалу Таги о том, что на помощь рабочим и крестьянам Азербайджана идет Красная Армия со Сталиным во главе; что она уже освободила Ростов и Царицын и движется дальше на юг, на Кавказ; что есть такой большевик, Сергей Миронович Киров, который посылает в Баку оружие и людей и дает указания, как действовать; что скоро вновь будет свободен Азербайджан, и жизнь иная наступит для всех людей труда, для всех, кто беден и обездолен.
Таги слушал не прерывая и, когда Юнус кончил, сказал:
— Наверно, ты, Юнус, прав: тебе на промысле виднее, чем мне, амбалу, у порога чужой лавки!
— Ну и пора оставить этот порог и идти к нам!
Неподалеку от дома Теймура Юнус остановился и стал прощаться с Таги, но почувствовав, что Таги не хочет с ним расставаться, добавил:
— Надо думать, мы еще встретимся — на промыслах…
Перед домом Теймура стоял фаэтон: это Рамазан поджидал уплаты выигрыша.
Хозяин встретил Юнуса любезно, с заискивающей улыбкой — осуществление задуманного Хабибуллой плана зависело, в конечном счете, от согласия Юнуса.
— Как сестра? — спросил Юнус с тревогой в голосе и различил в темном углу галереи Кару и Калантара.
— Эй, Баджи! — позвал в ответ Теймур таким тоном, который должен был рассеять тревоги и сомнения Юнуса.
Баджи показалась Юнусу в этот раз бледной, осунувшейся, но видя, что она здорова и невредима, он облегченно вздохнул. Он хотел остаться с Баджи наедине, расспросить о ее жизни, и Баджи, в свою очередь, готова была поведать ему все, что накопилось у нее на душе, но присутствие Теймура сковывало их.
Они постояли недолго у двери, обменявшись несколькими незначительными словами, и вслед за тем, оставив Баджи в спальне, Теймур ввел Юнуса в комнату для гостей. Здесь Юнус, к своему удивлению, увидел сидящих за столом Шамси, Абдул-Фатаха и Хабибуллу. Он сухо поздоровался, и все сдержанно, но достаточно учтиво ответили ему.
Поданы были чай и угощение. Теймур изображал из себя радушного хозяина и развлекал гостей, но Юнус сразу почувствовал, что у присутствующих есть что-то на уме и что собрались все сюда не просто в гости и не ради чая и угощения.
Часы приближались к десяти.
«Привлекать зачинщиков на нашу сторону..» — повторял про себя Хабибулла совет полицмейстера, но чувствуя настороженность Юнуса, не знал, с чего начать. Легко было полицмейстеру, сидя у себя в кабинете, давать советы, гораздо труднее осуществлять их, столкнувшись лицом к лицу с этими самыми зачинщиками. Так, или иначе, Хабибулла понимал, что настала пора действовать.
— Завтра состоится большой туранский вечер, — промолвил он, не обращаясь ни к кому в отдельности. — Будут исполнены песни и танцы тюркских племен — анатолийских турок, арнаутов, азербайджанцев, бухарцев, туркмен, башкир, киргизов и многих других. Будет представлен весь наш великий Туран… — Хабибулла порылся в портфеле, где рядом с деньгами, полученными утром от полицмейстера, лежали пригласительные билеты на вечер, и положил по билету перед Шамси, Абдул-Фатахом и Теймуром. — Побывать там было бы особенно интересно тебе, молодому человеку, — добавил он вкрадчиво, кладя билет и перед Юнусом.
Оскаленная волчья морда глядела на Юнуса с обложки билета.
— Что это значит? — спросил Юнус, указывая на волчью голову.
Хабибулла оживился:
— О волке у нас, тюрков, есть прекраснейшее предание! — сказал он. — Хотите, расскажу?
Все, кроме Юнуса, выразили желание слушать.
— Так вот… — начал Хабибулла, подражая манере рассказчика-профессионала, — заблудилось некогда тюркское племя в глубоком тесном овраге и прожило там сотни лет. Люди и стада множились, и не стало места для жилья и пастбищ, истощилась земля, иссякла вода. Наступил голод, мор. Старейшины тщетно ломали головы, как спасти племя. Однажды пастух, пасший стадо, увидел, как волк схватил барана. Презрев опасность, с палкой в руке пастух погнался за волком, но волк вдруг исчез в узкой, едва заметной щели в скале. Пастух прильнул глазами к щели и, изумленный, увидел перед собой неведомый луг, покрытый сочной травой. Он стал сзывать людей, и вскоре все племя огласило воздух криками радости. Но вслед за тем людям стало ясно, что сквозь узкую, едва заметную щель человеку никак не пробраться и что, видимо, волк был волшебный. Тогда выступил кузнец и большим молотом ударил по скале, и раздался протяжный звон; люди поняли, что скала из металла, и впали в уныние. Но кузнец предложил собрать возле скалы все, что может гореть, и вскоре громадное пламя растопило металл и открыло путь к широкому миру. Так, после долгих веков заключения в тесном глубоком овраге, который едва не стал кладбищем, тюркское племя спаслось, и причиной тому был волшебный волк-спаситель, указавший тюркам путь к жизни… Вот почему мы, тюрки, считаем волка нашим покровителем, вот почему изображена голова волка на пригласительном билете на туранский вечер…
Хабибулла оглядел присутствующих и остановил свой взгляд на Юнусе:
— Ну, как тебе нравится это предание?
— Мне оно но душе, — ответил Юнус. — Но кажется, ты неверно его толкуешь…
— Неверно? — удивился Хабибулла. — Почему?
— Волк в нем, по-моему, играет последнюю роль.
— Не согласен с тобой! Разве не волк, убегая, привел пастуха к скале? Разве не он причина спасения племени?
— С таким же успехом можно считать непогоду причиной создания кровли, а воров и разбойников — причиной постройки высокого забора. Но нужно ли из-за этого славословить непогоду, воров и разбойников, как это делаешь ты, восхищаясь волком? Можно с не меньшим успехом считать причиной спасения племени и молот, определивший, что скала из металла, или пламя, растопившее этот металл. Однако подлинные освободители племени, думается мне, не волк, и не молот, и даже не пламя…
— А кто же, по-твоему? — спросил Хабибулла, насторожившись.
— Кузнец и пастух, конечно!
Хабибулла понял смысл сказанного.
— Слишком ты строгий критик, Юнус. Все тебе, у нас не нравится! Но я все же советую тебе прийти завтра на вечер, повеселиться.
— Завтра вечером я работаю.
— Насчет работы не беспокойся — я устрою, чтоб тебя освободили.
— И одежды у меня нет подходящей.
— Одежду я тебе раздобуду.
«Вот пристал, проклятый!.. В чем тут дело?..» — недоумевал Юнус.
— Да стоит ли обо мне так беспокоиться? — сказал он, присматриваясь к присутствующим и теряясь в догадках. — На таком вечере будет народ богатый и важный, а я — простой рабочий.
— Для нас, устроителей вечера, мусаватистов, — все азербайджанцы равны! Недаром наша партия называется «мусават» — равенство.
«Равенство!..» Он, Юнус, уже почувствовал это «равенство» на своей шкуре.
— Нет, не пойду я! — сказал Юнус твердо.
Теймур беспокойно поглядывал на часы. К чему это Хабибулла так обхаживает мальчишку, будто какого-то важного человека? Этак, чего доброго, не успеть до полуночи получить от Хабибуллы деньги и передать их фаэтонщику, будь он проклят! А не успеешь — фаэтонщик доложит Наджафу-Кули, и тогда несдобровать… Теймур решил перейти прямо к делу.
— Твоя сестра, Юнус, хорошая была девушка, поэтому я и взял ее в жены, — начал он. — Но сейчас она испортилась и не слушает меня, своего мужа… Так вот, но закону я могу отпустить Баджи на все четыре стороны, сказав только одно слово: развод!.. Верно я говорю, хаджи? — обратился он к Абдул-Фатаху.
— Муж может разойтись с женой по своему желанию и усмотрению, без объяснения причин, — монотонным речитативом ответил мулла Абдул-Фатах.
— Но я твою сестру уважаю, — продолжал Теймур, — и тебя я тоже уважаю, так как мы — бывшие соседи, а сейчас к тому же и свояки, и я не хочу выгонять Баджи на улицу. Не возьмешь ли ее к себе ты, ее брат? Ведь ты, я знаю, давно хочешь, чтобы сестра жила у тебя… И наш отец, Шамси, тоже не против этого. Верно я говорю, отец?
— Верно! — ответил Шамси с важностью. — Хотя Юнус и Баджи меня всегда оскорбляли, я зла не помню и люблю их, как родных детей. Пусть живут вместе, если хотят, ничего в этом дурного нет.
Шамси теперь было безразлично, где и как будет жить Баджи; вдобавок он знал, что теперь уж не он, а муж является ее господином, и что испрашивают его, Шамси, согласия лишь из приличия.
— Ну как, возьмешь ты к себе свою сестру? — переспросил Теймур Юнуса.
Юнус не верил своим ушам. Возьмет ли он к себе свою сестру? Не верилось, что после столь долгой и тщетной борьбы удача шла к нему в руки сама.
— Я не против… — сказал он, трепеща от ликования, но внешне сдержанно: удача была для него залетной птицей, и он, как птицу, боялся ее спугнуть.
«Сейчас или никогда», — решил Хабибулла и вслед за Теймуром заявил напрямик:
— Ты получишь, Юнус, свою сестру, однако лишь при условии, если перестанешь натравливать против меня рабочих, — сказал он, нагло глядя в глаза Юнусу.
«Так вот оно что!..» — понял Юнус и от неожиданности не сразу нашелся, что ответить.
— Неужели родная сестра тебе менее дорога, чем эта писанина в вашей газетке? — продолжал Хабибулла, ободренный молчанием Юнуса. — Неужели я предлагаю тебе что-то невыгодное или дурное? Ты получишь сестру только за то, что перестанешь против меня выступать! Наконец, разве свет клином сошелся на мне? Мало, что ли, есть других мусаватистов, которыми ваши рабочие недовольны? Про них и пиши!.. Подумай, Юнус, хорошенько!
Юнус вспомнил бледное, осунувшееся лицо Баджи, ее взгляд, лишенный обычной живости, ее горькую и унизительную жизнь с Теймуром, и цена эта в первый миг не показалась ему дорогой… Прекратить выступать против Хабибуллы? Так ли уж это много? Такая ли уж важная персона этот Хабибулла? Иное дело, если б от него, от Юнуса, потребовали, чтобы он вообще не участвовал в борьбе против мусаватистов — он бы такого обещания, разумеется, ни за что не дал! Но сейчас речь идет о том, чтоб не выступать против Хабибуллы, не больше. Он, Юнус, возместит это маленькое отступление — в самом деле, мало, что ли, есть других негодяев мусаватистов, против которых он будет бороться вдвое злее? Рабочее дело от этого, в сущности, не пострадает. Наконец, недалек тот день, когда и вовсе придется сменить перо на револьвер, лежащий под половицей. Тут-то можно будет себя проявить во всю силу! А пока… Черт с ним, в конце концов, с этим Хабибуллой!
Все ждали ответа.
— Еще сегодня ты успел бы последним поездом уехать вместе с сестрой на промыслы, — промолвил Хабибулла вкрадчиво, кивнув на часы: они показывали одиннадцать.
Все ждали ответа, ждала его с замиранием сердца и Баджи, сидя в спальне и прислушиваясь к голосам, долетавшим из комнаты для гостей. Неужели и сейчас не увезет ее брат к себе?..
Все ждали ответа, но ответом было только мерное тиканье часов. Какой-то внутренний голос мешал Юнусу согласиться, несмотря на все, казалось, убедительные доводы. И вдруг Юнус вспомнил слова Кафара:
«В борьбе против этих разбойников-мусаватистов пустяков нет! Мусаватистов надо бить всюду, и всегда, и чем попало!..» Как посмотрит он, Юнус, после такой сделки в глаза Кафару? Что скажет, придя в редакцию газеты? И как посмотрят на него Арам и Газанфар, когда вырвутся из тюрьмы?
— Ты, видно, хочешь, чтобы я взял от тебя взятку, подобно тому, как ты сам берешь от рабочих? — нахмурившись, произнес наконец Юнус.
— На ваш большевистский взгляд, я беру взятки, а на наш мусаватский я получаю пешкеш, подарки, — ответил Хабибулла. — Пешкеш — знак уважения со стороны рабочих ко мне лично и к партии «мусават», к которой я имею честь принадлежать! — добавил он высокопарно.
— Это тебя-то лично и партию «мусават» уважают рабочие? — усмехнувшись, переспросил Юнус. — Уж не тогда ли было тебе выказано уважение, когда ты едва унес ноги во время споров о присоединении промыслов к городу? Помнишь? Или тогда, когда рабочие едва не сбросили тебя с поезда? Или, может быть, ты почувствовал их уважение, когда бил фонтан, и ты, как хвост, вертелся позади Нури, и в твой фаэтон влепили ком грязи? Или, может быть, в нашей казарме, когда ты хотел сорвать стачку? Или, может быть, уважение слышится тебе в песенке, которую рабочие распевают на твой счет?
Отбивая такт пальцами по столу, Юнус спел частушку о свадебных деньгах Хабибуллы.
Хабибулла уловил на лицах присутствующих плохо сдерживаемые улыбки. Слезы досады сдавили ему горло.
— Таких соловьев надо держать в клетке! — сказал он жестко.
— Всех не пересажаешь! — ответил Юнус, тряхнув головой.
Хабибулла насупился: то же самое, увы, говорил полицмейстер.
Близилась полночь, но ничто не свидетельствовало о том, что план, придуманный Хабибуллой, осуществляется. Напротив, все говорило о том, что план этот проваливается.
Хабибулла озлился.
— Не обязательно всех сажать… — начал он и не договорил.
— Мальчик, видно, забыл, что отрубленная голова молчит! — подсказал Теймур, договаривая то, о чем не решился вслух сказать Хабибулла.
— О нет, об этом мы, рабочие, не забываем! — ответил Юнус презрительно.
— Кому не нравится у нас, пусть катится в свою Советскую Россию, а здесь — мусаватский Азербайджан! — вспыхнул Xабибулла.
— Может быть, и здесь скоро будет советская власть. Советский Азербайджан! — в свою очередь вспыхнул Юнус.
Хабибулла злобно сжал зубы.
— Я предлагал тебе мир… — процедил он. — А ты…
— Не может быть мира между мной и тобой! — прервал Юнус. — Не может быть мира между рабочим народом и вами! Неужели ты сам этого не понимаешь?
И Хабибулле стало ясно, что план, так ловко, казалось, придуманный им, окончательно провалился, и злоба против Юнуса вспыхнула в нем с новой силой.
— Ну что ж… — сказал он, и маска миролюбия, доселе скрывавшая его подлинные чувства, слетела с его лица. Рот оскалился, глаза злобно заблестели, и он вдруг показался Юнусу похожим на волка с обложки пригласительного билета. — Не хочешь мира — будем длить вражду!
Дверь на галерею была приоткрыта, и Юнус заметил, что Кара и Калантар, сидевшие прежде в темном углу, приблизились к самой двери.
Хабибулла мельком, но выразительно взглянул на Теймура. Тот понял его.
— Кара! Калантар!.. — позвал Теймур.
Молодчики вошли в комнату. Теймур подал знак, и они двинулись на Юнуса. Юнус приготовился, сжал кулаки — он не намерен был сдаваться.
Шамси и Абдул-Фатах тотчас встали из-за стола и вышли на галерею: непристойно почтенному торговцу и уважаемому мулле быть замешанными в темное дело, в драку. Они пришли сюда по приглашению Теймура, чтобы помочь решить какие-то семейные дела. Стоя за дверью, Баджи слышала все происходящее в комнате для гостей. Сердце ее сильно билось — там, за дверью, решалась сейчас ее судьба. Что ей предстоит? Остаться с ненавистным мужем? Уйти жить к брату? А может быть, если брат не сумеет взять ее к себе, убежать куда глаза глядят?
Из комнаты для гостей послышались звуки тяжелых ударов, возня, стук падающих стульев. Баджи вскрикнула, рванула дверь. Тщетно! Теймур успел ее запереть. Баджи принялась стучать в дверь руками, ногами. Никто не обращал на нее внимания.
Кара и Калантар были опытны в драках, но Юнус не уступал им в силе и ловкости. Сначала Хабибулла и Теймур ждали исхода, молча стоя в стороне. Но видя, что Каре и Калантару не удается справиться с Юнусом, Теймур незаметно подставил ему ногу. Юнус споткнулся, упал. Кочи мгновенно навалились на него, скрутили ему руки за спиной.
Шум схватки стих. В спальню доносилось теперь только тяжелое, прерывистое дыхание. Баджи в ужасе поняла, что Юнуса сбили с ног и связали.
«Они убьют его!» — мелькнуло у нее в голове.
Баджи огляделась, схватила попавшийся ей на глаза столовый нож и через окно вылезла на галерею. Там, в темном углу, где недавно сидели Кара и Калантар, теперь, в ожидании развязки, притаились Шамси и Абдул. Фатах.
— Кочи!.. — крикнула им Баджи, подбегая.
Мулла счел ниже своего достоинства отвечать. Но Шамси, решив, что в полутьме Баджи приняла его и Абдул-Фатаха за Кару и Калантара, угрюмо буркнул:
— Не дури — здесь я и хаджи Абдул-Фатах!
— Это ты во всем виноват! — крикнула Баджи в самое лицо Шамси. — Ты!
Шамси замахнулся на нее — к шайтану это Дадашево отродье! — он, Шамси, сегодня совсем ни при чем, но увидев в руке Баджи нож, отпрянул.
Баджи рванула дверь в комнату для гостей. Увы, дверь из галереи тоже была заперта. Баджи прислушалась. Тяжелое, прерывистое дыхание не прекращалось.
«Они убьют его!»
Сунув нож за пояс, Баджи выбежала во двор. Ага-Шерифа и Зийнет-ханум в этот вечер, как назло, не было дома. Баджи стала барабанить в двери соседей, но все, наученные горьким опытом вмешательства в дела Теймура, боялись отозваться.
Баджи выбежала на улицу. Ночь была темная, во тьме лишь мерцали два огонька на фаэтоне Рамазана, терпеливо дожидавшегося полуночи. Нет, от этого фаэтонщика помощи не получишь! Баджи побежала на угол к полицейскому.
— Они убьют его! — кричала она исступленно, таща полицейского за рукав.
Тот нехотя повиновался.
— Здесь! — крикнула Баджи, подходя к дому. — Здесь, у Теймура!
Полицейский остановился и повернул назад: незачем совать нос в дела такого человека, как Теймур!
Баджи металась по улице, стучалась в окна и двери домов, моля о помощи, но напуганные обыватели не откликались: опасно отворять двери в глухую ночь — спокойней зарыться с головой под одеяло.
Юнус лежал на полу связанный, губы его были разбиты, распухшее лицо залито кровью.
— Мы с тебя, с поэта большевистского, сдерем шкуру, как пять веков назад содрали с поэта Насими за вольнодумство! — злобно острил Хабибулла.
Осыпая Юнуса бранью и насмешками, он время от времени наклонялся над ним и спрашивал:
— Ну как, поэт, бросишь писать?
Юнус сплевывал кровь, наполнявшую рот, и, преодолевая боль, отвечал:
— Не брошу… Не перестану бороться против таких, как ты…
Тогда Хабибулла ударял его в лицо наотмашь и затем носовым платком вытирал кровь с руки. И боль от ударов этой слабой руки казалась Юнусу нестерпимей, чем боль от кулаков Кары и Калантара.
— Веки вышли на большую дорогу плечом к плечу с кочи… — прохрипел Юнус.
— Ты нас не рассоришь, как ссоришь друг с другом всех мусульман, интриган большевистский! — крикнул Хабибулла исступленно. — Вейте его, друзья!
Стрелка часов приближалась к двенадцати.
— Соглашайся немедля, не то найдем для тебя местечко надежней того, где ты уже однажды сидел!
Собрав последние силы, Юнус чуть слышно, но внятно проговорил:
— Не брошу… Не брошу бороться против таких, как вы… Скоро придет вам конец!..
Часы пробили полночь. Хабибулла и Теймур переглянулись: не оставалось сомнений, что оба они просчитались. Ладно! Не поздоровится от этого и Юнусу!..
Баджи металась по улице в поисках помощи, а Юнуса между тем, связанного по рукам и ногам, выволокли из дома и втиснули в фаэтон. Кара взобрался на облучок рядом с Рамазаном, Теймур, Хабибулла и Калантар, держа Юнуса, уселись на сидении. Рамазан поднял вожжи, фаэтон тронулся.
Баджи увидела их, успела вскочить на подножку.
— Остановитесь!.. — кричала она, хватаясь за Рамазана, за Теймура, за Хабибуллу. — Что вы делаете с моим братом?.. Отпустите его, негодяи!..
Фаэтон, накренившись, несся сквозь темную ночь. Ни возница, ни седоки не отвечали.
Задыхаясь от ненависти, Баджи вспомнила про нож, второпях сунутый ею за пояс, выхватила его, ударила им Теймура. Удар пришелся по руке, почти не причинив вреда, но Теймур рассвирепел и, пнув ногой Баджи, сбросил ее с фаэтона.
— Юнус! — кричала Баджи, силясь подняться, захлебываясь слезами. — Брат!
— Тебя спасут наши… — донесся до нее голос Юнуса, и фаэтон скрылся в ночной тьме.
Баджи поплелась домой.
Вдруг что-то блеснуло у нее под ногами. Нож!.. Она горько усмехнулась: с таким ножом многого не добьешься! Она отшвырнула его от себя, и он со звоном ударился о камень мостовой.
Не доходя до дому, Баджи столкнулась с Шамси и Абдул-Фатахом; испуганные и растерянные, спешили они восвояси. Баджи отвернулась: пропади они пропадом, эти подлые люди, трусы, враги ее брата!
Двери дома были раскрыты настежь. Баджи прошла в комнату для гостей… Опрокинутые стулья, осколки разбитой посуды, на ковре — кровь, кровь брата… И вдруг Баджи поняла: она не должна, не может оставаться здесь ни за что, ни минуты!.. Поспешно схватив свой синий мешочек, она выбежала на улицу.
Куда ей идти?
Назад, в душный дом в кривом переулке старой Крепости, в услужение к Шамси, к Ана-ханум? Нет, к ним она не пойдет! В Черный город? Но тетя Мария с Сашей в Астрахани, в Советской России. На промыслы, к Розанне и Сато? Теймур сразу же кинется туда. К кому-нибудь из соседей? Но кто же осмелится ее приютить, зная нрав Теймура?
Куда же, куда ей идти?
Стоя так возле дома, в раздумье, Баджи вдруг увидела свет в окнах Ага-Шерифа — видно, хозяева только что вернулись домой. Как хорошо было б жить ей у этих добрых людей хотя бы в служанках! Но Баджи помнила угрозу Теймура расправиться с ними, если она только перешагнет их порог. Она постучала в окошко и отбежала в тень: увидеть этих хороших людей, быть может, в последний раз! В освещенном окне показался Ага-Шериф и рядом с ним Зийнет-ханум. Они долго всматривались в темноту, о чем-то говоря между собой, но не увидя никого, отошли от окна.
Баджи встрепенулась — надо было спешить: кони у Рамазана быстрые, в любую минуту мог вернуться Теймур.
Та песня не умерла!
Баджи была одна.
Целыми днями бродила она, бездомная, по улицам и по базарам в поисках крова, стараясь держаться подальше от тех мест, где могли ее встретить Теймур или кто-либо из семьи Шамси.
Она прижимала к груди свой заветный мешочек, но денег в нем уже не было. Не было в мешочке и браслетов, и бус, и колечек, продав которые можно было б купить хлеб.
Пришлось продать синюю шелковую чадру и алые туфельки с позолотой и заменить их серой грязной ветошью и стоптанными коши. Баджи сама того не заметила, как стала походить на нищенку.
Деньги от продажи чадры и туфелек быстро ушли, голод мучил Баджи, но ей было стыдно протягивать руку перед лавочниками и торговцами — такими, как Шамси; и еще — она знала, что в ответ на мольбу услышит бездушное «аллах подаст!», а аллах за ее грехи, надо думать, над ней не сжалится.
Впрочем, наталкивалась она и на добрых людей: какой-нибудь сердобольный ремесленник — сапожник, жестянщик, шапочник, — ютящийся в тесной нише дома, сам отламывал ей от своего куска хлеба, и голод Баджи тогда оказывался сильнее стыда.
Крова у Баджи не было, и она ночевала на верхних площадках лестниц богатых домов — там безопаснее и спокойнее, чем в любом другом месте.
Устав за день скитаний, она забывалась тяжелым сном и просыпалась лишь от пинка или брани, которыми награждал ее запоздалый, обычно подвыпивший жилец дома. Сила и право были сейчас не на ее стороне, но иногда в ответ на пинок или брань Баджи набрасывалась на обидчика так исступленно, «то тот, махнув рукой, спешил отойти. Случалось, ее прогоняли, и она в полусне, среди ночи, брела искать другое пристанище.
Трудной жизнью жила Баджи в эти дни, но больше всего ее мучила мысль о брате. Где он сейчас? Что с ним? Сколько раз она бывала к нему несправедлива. Чего бы только она не сделала сейчас, чтоб быть рядом с ним!..
«Тебя спасут наши…» — твердила Баджи про себя слова Юнуса, как заклинание, словно для того, чтоб слова эти осуществились.
Кто эти «наши»? Где они? За какими горами? За каким морем? Баджи не знала. Откуда ей было знать, что на промыслах и на заводах, на судах и в дальних горных селениях люди готовятся к штурму ненавистного царства «мусавата», что в эти дни бакинские большевики пишут Кирову: «Час победы, несмотря на сегодняшнее наше тягостное положение, близок!» Откуда ей было знать, что Красная Армия, добивая остатки деникинских банд, неуклонно движется на юг, на помощь рабочим и крестьянам Азербайджана, на помощь ей самой?..
Баджи старалась увидеть свет в окружавшей ее ночи, но ночь для нее еще была темна. Порой Баджи охватывал ужас: что, если брата нет в живых?.. И отвечала себе: она тоже не будет жить — обольет себя керосином и подожжет!
Она обольет себя керосином и подожжет… Но думая так в одно апрельское утро, Баджи вдруг заметила, что город необычно преображен. Было еще очень рано, но люди, оживленные и взволнованные, высыпали на улицу; с балконов, как в праздники, свешивались ковры, дома украсились алыми флагами, каких не видно было вот уже две зимы.
А вдоль мостовой бесконечной вереницей тянулись запыленные войска. Странная была у солдат форма — такой Баджи еще никогда не видела, и офицеры были не похожи на тех, каких Баджи встречала в последнее время. И тем не менее все они были ей чем-то знакомы, кого-то напоминали.
Кого?
И вдруг Баджи вспомнила тех, кто был на приморской Петровской площади — красноармейцев, Сашу! Баджи ахнула, задрожала: неужели они вернулись?
Медные трубы оркестра сверкнули на солнце, и когда оркестр поровнялся с Баджи, грянула музыка и зазвучала песня, которую Баджи не слышала с той поры, как ушли пароходы, увозя людей с площади — Сашу, тетю Марию, Мешади Азизбекова, красноармейцев.
Та песня не умерла!
Она всколыхнула в Баджи воспоминания; и все хорошее, доброе, что некогда видела. Баджи от этих люден и о чем как будто стала уже забывать среди людей иных, внезапно вспыхнуло в ее сознании. И Баджи ужаснулась своему желанию умереть — столь чуждым и странным оно показалось ей в это апрельское ясное утро под голубым родным небом и ярким солнцем, при звуках песни, которая живет.
Слезы счастья залили грязное, похудевшее лицо Баджи, но она не замечала их, все стояла и смотрела на людей, стройными колоннами шагавших по мостовой. Они вернулись!
(Конец первой книги о жизни Баджи)
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ