Часть 1. ДЕЛА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ
История под пятой бюрократии
Забытая слава Отечества
Закон «О днях воинской славы и памятных датах России» был создан из благих намерений — зафиксировать наиболее существенные события отечественной истории, дабы местные власти не изобретали нечто от себя, а руководствовались утвержденным парламентом списком. Но парламент, составленный из невежд, мог разве что пересказать школьный учебник советского периода. В Думе не оказалось даже элементарной сообразительности, чтобы обратиться к историкам и взвесить их аргументы.
Когда мы — депутат с помощниками-соратниками — обнаружили, что закон состоит сплошь из нелепиц, то попытались создать концептуальный документ, разослав письма в научные учреждения. Переписка была достаточно длительной. Большую помощь в подготовке законопроекта нам оказал кандидат исторических наук, сотрудник Института российской истории РАН Е.В. Пчёлов. Полностью равнодушным к проекту осталось Министерство обороны в лице тогдашнего министра С.Б.Иванова.
Научная истина заметно отличалась от обывательских суждений, перенесенных депутатами-единоросами из своих голов в законы. Идеологическими догмами прежних и нынешних лет слава нашего Отечества была не раз осквернена. Мы поставили себе задачу создать достойную концепцию русской истории, выраженной в самом кратком поминальном списке.
Конечно же, нас волновали не просто памятные даты, которые могли устанавливаться конъюнктурно. Нас интересовали именно дни воинской славы. Слава Отечества — вот что было предметом нашего труда над законопроектом. В течение нескольких месяцев мы создали такой документ, не упустив ничего, не добавив ничего лишнего и тщательно продумав терминологию.
В проекте закона мы исключили из дней воинской славы события 23 февраля 1918 года, 7 ноября 1941 года и 4 ноября, перенеся их в раздел «памятные даты» России. В эти дни в нашей истории не случилось никакой воинской славы. Но образовалась традиция что-то праздновать.
Военные события, происходившие 23 февраля 1918 года в районе Пскова, не завершились, согласно данным исторической науки, поражением или разгромом войск противника. Напротив, 24 февраля 1918 года германские части прорвались к железнодорожной станции города и 28 февраля захватили Псков. Тем не менее, праздник 23 февраля стал традицией, Днем защитника Отечества. Поскольку он не отмечен никакой воинской славой, ему надлежало быть в другом разделе закона.
То же касалось и дня 4 ноября, который в действующей редакции закона вообще не был отмечен указанием на конкретное событие. Таковых событий, в общем-то, и не было. Дата праздника была введена лишь для того, чтобы снять из перечня первоочередных праздничных дат 7 ноября. День большевистского переворота стал обычным праздником, а на православный праздник Казанской Иконы Божьей Матери назначили праздник с выходным днем, связав его с избавлением Москвы от польских оккупантов в 1613 году. В действительности, никаких существенных событий в этот день в русской истории не было. Но как некая памятная дата он мог быть оставлен — условная дата освобождения, восстановления суверенитета. Народу нравятся выходные дни, а депутаты ведь радеют за народ! Самые рьяные из них готовы сделать семь дней в неделю выходными и сопроводить их поводами для всероссийской пьянки (с чего, собственно, усилиями «Единой России» теперь начинается каждый новый год). Мы не рискнули предлагать единороссам убрать лишний выходной.
Днем 7 ноября в списке воинской славы был обозначен парад на Красной площади в Москве в 1941 году. Парад был в честь годовщины Октябрьской революции 1917 года. Поэтому либерал-бюрократия пошла на уловку: кто-то будет отмечать годовщину парада, кто-то — годовщину революции. На самом деле эта дата делила народ на тех, кто видел начало всей нашей истории в 1917, и тех, кто с этой датой связывал величайшую трагедию России. Как день памяти ее можно было бы оставить. Мы оставили.
Законопроектом предусматривалось дополнить перечень дней воинской славы России 18 событиями, которые ознаменованы победами русского оружия, отмечены героизмом, стойкостью, храбростью и мужеством русских воинов, высокой боевой выучкой войск, мастерством, талантливостью и искусством полководцев.
Много это или мало — 31 день воинской славы? Для истории России, насыщенной вооруженным противостоянием врагам Отечества, это не так уж много. И это лучше, чем отмечать бессодержательные «дни» — пограничника, десантника, артиллерии, авиации, РВСН и др. Это глупое изобретение советского периода выродилось, превратившись в вереницу пьяных оргий и пустопорожнего пафоса. Вот это все стоило бы отменить.
Действующий закон опустил целые эпохи. Целая мировая война пропала: не было у нас, оказывается, никаких побед в Первую мировую войну! Впервые в истории фронт пролёг от моря до моря, а побед не было! Но даже школьник, напрягшись, мог вспомнить хотя бы Брусиловский прорыв. История русского флота — блестящая история! В действующем законе с ошибками были указаны три даты, одна малосущественная. Малосущественную мы предложили убрать, а дополнить закон известными датами славных морских операций — штурм с моря крепости Корфу и Чесменская битва.
Мы дополнили закон 3 сентября как «день победы над Японией», которым в 1945 году завершилась Вторая мировая война. В ходе войны с Японией, продолжавшейся с 9 августа по 2 сентября 1945 года, войска Красной Армии разгромили и принудили капитулировать самую сильную группировку японских войск — Квантунскую. Освободив при этом Маньчжурию, Северо-Восточный Китай, северную часть Кореи, южную часть Сахалина и Курильские острова. Что лишило Японию реальных сил и возможностей продолжать войну. Тогда же Президиум Верховного Совета СССР установил 3 сентября Днем победы над Японией. И это было выдающееся событие военной истории.
В датах воинской славы по действующему закону оказывается, что против немецко-фашистских войск у нас действовала Советская Армия. Это неправда, действовала Красная Армия. Переименование произошло только в 1946 году. Надо было исправлять нелепицу. В действующих датах местами указывались фамилии полководцев, которые обеспечили русские триумфы, а в других не указывались. Почему-то забвению подлежали полководцы Великой Отечественной войны. Надо было исправлять это безобразие.
Противник, которому были нанесены поражения, в действующем законе местами указывался, местами — нет. Из закона неясно, кто осаждал Ленинград. Если мы указываем, что немецкие войска были под Сталинградом, то почему не указать, что были румынские, венгерские, итальянские войска? Мы уточняли государственную принадлежность, название армий и войск противника, одновременно устраняя терминологию, наличие которой объясняется идеологическими факторами. Описание исторических событий мы считали необходимым изложить в единообразных грамматических конструкциях. Везде, где речь идет о днях воинской славы, указывали имя командующего или командующих войсками. При этом в событиях Первой мировой войны и Великой Отечественной войны указывали имена командующих фронтами и флотами, которые принимали участие в соответствующих операциях, битвах и сражениях.
Новой памятной датой (памятной, но не славной в военном отношении) мы предложили установить 20 ноября как дня суверенитета (самодержавия) России. Эта дата связана с событиями, известными в русской истории как «стояние на реке Угре», в результате которых русские войска, руководимые Великим князем Иваном III, стойко и упорно противостояли натиску татаро-монгольских войск (крупных сражений в этот период не происходило), что обеспечило политическую независимость Русского государства после 240-летнего вассального подчинения Золотой орде.
Работая над законом, мы обнаружили грубейшие ошибки в установлении дат воинской славы. Это связано с изменением летоисчисления при переходе от прежнего Юлианского на ныне применяемый Григорианский календарь. Есть соответствующие методические указания для осуществления пересчёта. Действующий закон демонстрировал крайнее пренебрежение к этому обстоятельству: семь дат в действующем законе не соответствовало исторической правде — на день, на два, на три дня. Добропорядочные историки при пересчете дат пользовались общей методикой, но при разработке исходного законопроекта историческому знанию не удалось проникнуть в стены парламента. Впрочем, как и на этот раз.
Вот какой перечень дат у нас получился.
Перечень дней воинской славы России

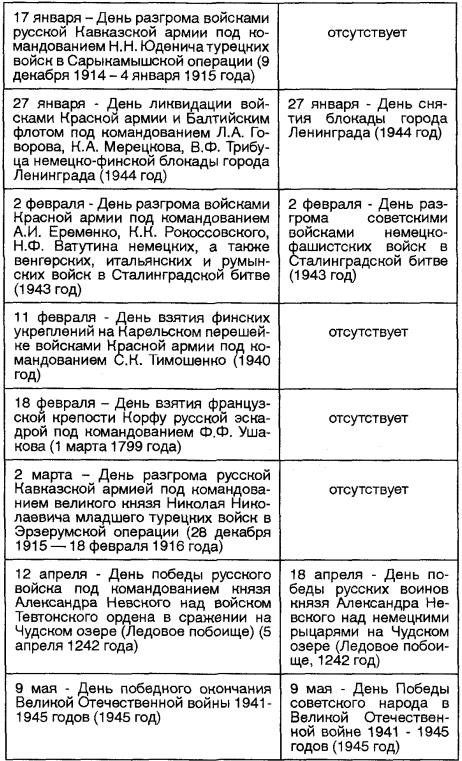




Перечень памятных дат России

Сравним охват русской истории в действующем законе и нашем законопроекте:

Три века парламентская бюрократия просто пропустила!
При правильном подходе к делу мы рассчитывали вовсе не на беспрерывные фейерверки. Памятные даты — не выходные и не повод, чтобы пить во славу русского оружия. Повод совершенно другой. Повод был в формировании здравой государственной политики. После этого законопроекта должны были бы последовать другие, связанные с формированием политики в области культуры, образования, финансирования исторической науки, монументальной пропаганды и т. д. Ничего из этого не вышло…
Наш законопроект, выверенный до последней запятой, был направлен на рассмотрение в Совет Думы, как того требовал думский Регламент. Но из Совета он попал на рассмотрение в Комитет по обороне. При чем тут оборона? Может быть, там собрались выдающиеся историки? Нет, просто в думской канцелярии наш проект проходил «по военному ведомству». А там истории не читали. Зачем либеральным генералам история? Эти генералы не имеют по службе ни одной победы. Им не тревожить начальства было важнее, чем отстаивать научную истину и защищать от забвения славу Отечества.
Комитет по обороне безумно долго держал проект у себя. И вернул мне его без рассмотрения. Потому что «отсутствует заключение правительства». При этом решение, вынесенное Советом Думы по представлению Комитета (Совет, ничего не изучая, лишь согласился с «мнением Комитета»), мне было сообщено не сразу, а спустя три недели. Как автор законопроекта и в соответствии со статусом депутата я должен был быть приглашен на рассмотрение законопроекта и в Комитет, и в Совет. Но меня не приглашали.
Я обнаружил в таком подходе к законопроекту грубое нарушение статуса депутата и Регламента Думы, который предусматривал перечень материалов, обязательных для представления законодательной инициативы, и не требовал ничего сверх части 3 статьи 104 Конституции РФ, где указано заключения Правительства РФ лишь при внесении законопроектов, в которых содержится «введение или отмена налогов, освобождение от их уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых обязательств государства, предусматривающих расходы, покрываемые за счёт федерального бюджета». В нашем законопроекте ничего подобного не было, и лишь содержалось отсылочное положение, что «финансовое обеспечение проведения дней воинской славы России и мероприятий, посвящённых памятным датам России, осуществляется за счёт средств федерального бюджета». Кроме того, действующий закон никогда не рассматривался правительством как затратный для бюджета, и при его принятии не предполагалось никаких финансово-экономических обоснований. Почему же изменения могли требовать чего-то подобного? Только потому, что я имел дело с дураками и жуликами.
Никакого отзыва правительства не требовалось! Но подлая думская бюрократия целенаправленно срывала рассмотрение всех неугодных ей законопроектов. Данный законопроект был неугоден тем, что восстанавливал связь современности с русской историей. Именно русской. Потому что никакой другой истории у России не было. Я направил письмо председателю Думы Б.Грызлову и председателю Комитета по обороне В.Заварзину с требованием устранить нарушение Конституции и отменить принятые решения Комитета и Совета по поводу моего законопроекта.
Это был март 2006 года. Ситуация в Думе четвертого созыва окончательно протухла. По этой причине я получил от генерала Заварзина фантастический по идиотизму ответ. (И это было уже конец мая). Генерал заверил меня, что повторное принятие моего проекта к рассмотрению не предусмотрено Регламентом и прецедентов подобной процедуры не было. Тем самым утверждалось, что нарушение Конституции, чтобы быть исправленным, требует прецедентов! Ни одного аргумента в обоснование своей позиции либерал-генерал не приводил. Зато объявил, что требование статьи 104 Конституции в части обязательности представления Правительства «должно быть безусловно выполнено». Почему? Вот аргумент, который позволяет говорить о фантастическом идиотизме:
Сообщаю также, что полученный Вами ответ Минфина России об отсутствии методики расчета потребности финансирования расходов на исполнение Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» не отменяет требования части третьей статьи 104 Конституции России о необходимости получения заключения Правительства Российской Федерации на законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых обязательств государства, другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета. Он свидетельствует о необходимости совершенствования бюджетного процесса и повышения требований к представляемым Правительством Российской Федерации материалам по проектам федеральных законов о федеральных бюджетах на очередной финансовый год, обосновывающим предлагаемое распределение расходов по направлениям и объемам финансирования.
В Думе мне стало очень отчетливо понятно, почему российская армия рассыпается, а у генералов такие довольные рожи.
Нам все-таки удалось дожать думскую бюрократию. Сколько на это потребовалось? Год! Что из этого вышло? Пакость. Вконец разложившаяся Дума и правительство изменников устроили законопроекту обструкцию.
Как сработала бюрократическая машина? Всей нашей работе было противопоставлено некое «мнение»: в правительстве есть мнение из трёх коротеньких абзацев — заключение правительства. Потом это «мнение» перекочёвывает в Комитет — в комитете есть «мнение» ещё из нескольких абзацев. Никаких аргументов против законопроекта не высказывается, но «мнение» перекочёвывает во фракцию большинства, и эта фракция решает не тревожить себя, не просыпаться. Раз правительство «против», то не важно, почему. И обсуждать с этой дремлющей подлостью было, собственно, нечего. Разве что, выйти на трибуну и исполнить свой долг: сказать негодяям и изменникам все, что думаешь о них. Конечно, в рамках «парламентской этики». Ведь даже если с трибуны сказать: «вы тут все — сволочи», ничего не изменится. Разве что слова лишат. Героизма в хамстве нет.
Мнение правительства за подписью вице-премьера А.Жукова можно считать явкой с повинной. В правительственном заключении говорилось, что законопроект «может вызвать неоднозначные оценки со стороны государств, находившихся в конфликтных отношениях с Россией на различных исторических этапах». И кому тогда служит наше правительство? Выходит, что другим странам, которые на каких-то исторических этапах имели с нами конфликтные отношения. Измена, и тут измена! Об этом я прямо и сказал с думской трибуны. Но чинушам чем ни плесни в глаза — все Божья роса.
Мнение комитета состояло в том, что я пытаюсь превратить законопроект в справочник: мол, слишком много у нас, оказывается, памятных дат, связанных с военными событиями. Но ведь у нас история большая — около семисот сражений!. А здесь всего три десятка — самая что ни на есть квинтэссенция! Плевать они хотели на русскую историю…
Мне в вину было поставлено, что я не понял сути действующего закона, который, якобы представляет собой историко-просветительский проект и предназначен для военно-патриотической работы! Только дубинноголовый генерал мог выдумать такую формулировку. Вдоль единственной извилины в его мозгу могла двигаться только «параграфом предусмотренная мысль».
От имени Комитета единоросс В.Овсянников, кривляясь и ерничая, сказал с думской трибуны:
Предлагаемый депутатом Савельевым подход приведёт к девальвации в общественном сознании значимости уже установленных в настоящее время дней воинской славы и памятных дат России, а следовательно, и самого закона в целом, а также и понимания очерёдности следующих одно за другим событий, то есть мы общество запутаем и, в общем-то, мало кто будет помнить и знать, какая же следующая, очередная дата воинской славы нас ожидает по календарю. Сходные последствия известны нам из области финансов: чем больше дензнаков, тем ниже их покупательная способность. Развивая предложения депутата Савельева до логического конца, нам следовало бы, наверное, просто придать статус федерального закона учебнику истории Российской Федерации и России в целом и более не утруждать себя вопросами установления дней воинской славы и памятных дат России. Что касается вопросов изменения датировки дней воинской славы России и предложения о внесении различного рода уточнений в редакцию наименования ряда дней воинской славы России, Комитет по обороне полагает, что эти вопросы носят не правовой, а в значительной мере узкопрофессиональный характер. Эти вопросы должны решаться специалистами в области истории и иных областей знаний. То есть не всё может быть так, как написано в истории, поэтому не раз и не два мы перечитывали историю обратно, сверху вниз, и сбоку, так сказать, и снизу.
В обсуждении выступил депутат Воронин — штатный единороссовский абсурд-ман. Он вообще не помнил, о чем ему только что сообщили с трибуны. И предложил сначала создать учебник для детей, а потом уж заниматься законопроектом. Пусть, мол, дети изучают историю! А потом, когда детям все станет ясно, историю начнут изучать «единороссы». Также депутат откровенно высказался по поводу конъюнктурное™ любых оценок истории.
К единороссовской обструкции прибавилась и коммунистическая. Депутат В.Тюлькин от имени фракции КПРФ объявил, что его коллеги не будут участвовать в голосовании, потому что считают, что все даты в законе в целом есть «переписывание истории», а 7 ноября и 23 февраля в его речи были представлены как нечто священное. Военный парад он назвал «продуманной и взвешенной, и с расчётом на произведённый эффект и идеологическое давление» операцией. А 23 февраля отметил замечательным воззванием Совета народных комиссаров, после которого начались массовые митинги и запись в красное ополчение. Вероятно, для коммунистов именно это и есть «воинская слава» — парад и организация записи в ополчение.
Я предлагал избавить закон от абсурда, выйти из абсурдного отношения к родной истории как к грязной тряпке, предназначенной, чтобы подтирать за политиками. Но думское большинство было глухо. Оно пребывало в летаргическом «путинском консенсусе». Законопроект был провален. За него проголосовало 27 человек.
Слава Богу, военные триумфы устанавливаются точно и не имеют никакого отношения к политической конъюнктуре, к тому, кто у власти находится — коммунисты или антикоммунисты. Эти даты установлены историками. И когда мы избавимся от либерал-бюрократов и коммуно-бюрократов в системе власти, то достоверно определенные даты не надо будет пересматривать.
Память, перемешанная с дерьмом
Человек с собакой может проявлять черты психоза, если заподозрит, что к его питомцу кто-то относится с недостаточным почтением. При этом агрессивный пес всегда «не кусается», а потому может ходить без намордника и поводка. Все московские парки заполнены свободно гуляющими псами под охраной своих хозяев.
Столичные жители загадили город собачьими экскрементами, запугали своими четвероногими друзьями малолетних детей и даже взрослых. Все это полбеды. Когда собак выводят на русские могилы — вот подлость!
Летом 2004 года московские власти выделили средства для приведения в порядок парка вокруг кинотеатра «Ленинград» (ул. Новопесчаная) и превращения его в мемориальный парк памяти русских солдат, погибших и умерших от ран в Первую мировую войну (в свое время парк был разбит на территории кладбища, где имелись соответствующие захоронения). К сожалению, жители окрестных домов не восприняли изменение статуса парка и продолжали выгуливать собак, несмотря на размещенные при входах в парк запретительные знаки. Попытка убрать собак из Мемориального парка вылилась в длинное дело с достаточно скромным результатом. Собственно, главный результат — свидетельство о моральном облике власти.
Поначалу дело казалось мне пустяковым. Действительно, указание на факт осквернения Мемориального комплекса собачьими экскрементами, должно было подвигнуть местную администрацию к немедленному действию, а милицию — к обеспечению порядка. Не тут-то было!
Я обратился к главе управы района «Сокол» Ф.М.Измайлову. Написал о том, что парк используется проживающими в близлежащих домах гражданами не по назначению: несмотря на запретительные объявления, каждое утро и каждый вечер местные жители выгуливают в парке своих собак, а устные замечания скорее вызывают склоки, чем призывают владельцев собак к порядку. Я предложил запланировать совместные с милицией акции с наложением на осквернителей соответствующих штрафов, а также временно сократить количество входов на территорию парка, чтобы не превращать его в проходной двор. А также проинформировать жителей близлежащих домом местными средствами информации о том, на каких правовых основаниях осуществляется запрет выгула собак в парке, и каковы меры ответственности за нарушение этого запрета.
Ответа я ждал долго. Через два месяца я повторил свой запрос и потребовал объяснить, почему в районе «Сокол» нарушается законодательство о сроках направления ответов? И это обращение осталось без ответа. Меж тем осквернение Мемориала продолжалось. Настало время обращаться в прокуратуру Москвы.
Еще до ответа из прокуратуры до меня добралось письмо с пометкой «повторно». Это была уловка. В Думе, как показывает практика, письма не теряли. К почте претензий не было ни разу. Мне сообщалось, что у всех входов в данный парк установлены специальные предупреждающие таблички: «Выгул собак запрещен». Это была ложь. Также говорилось, что дано поручение сотрудникам ОВД «Сокол» и частному охранному предприятию «Защита» о проведении регулярного патрулирования, в целях недопущения актов вандализма и иных нарушений общественного порядка. Это также была ложь. Ответ не содержал реакции на мои предложения или безбожно их перевирал. Об этом я поторопился известить городскую прокуратуру, чтобы она не ограничилась санкциями за нарушения правил работы с депутатскими письмами, а обратилась к сути дела. Тем более, что весь парк был по-прежнему «исписан» собачьими отметинами, что особенно хорошо видно в зимнее время. Я попросил принять меры против осквернителей и Управы, которая своим бездействием способствует правонарушениям со стороны владельцев собак, навещающих парк с неблаговидными целями.
И что я получил от прокурора Москвы А.И.Зуева, который проинформировал меня о результатах «проверки»? Опять ложь: «Установлено, что в целях предотвращения осквернения парка у входов установлены специальные запрещающие выгул собак знаки. Сотрудники ОВД района Сокол и ЧОП «Защита» регулярно патрулируют территорию парка. Заявлений от граждан по фактам нарушения общественного порядка на указанной территории с 01.01.2004 в ОВД не поступало».
Моего обращения, оказывается, недостаточно, чтобы провести проверку состояния дел! Между тем, в зимний период такая проверка могла быть проведена в любой момент — загаженность парка собаками (причем вовсе не бездомными!) очевидна. Их «деятельность» на снегу отчетливо видна. Их владельцы находятся в парке всегда, а в утренний и вечерний период — в массовом количестве.
Прокурор просто переписал поступившую ему бюрократическую отписку. Никакой проверки он не проводил и соответствующих распоряжений не давал. Что касается сроков ответа, то прокурор предпочел поверить фальсификаторам документов, а не депутату. Мол, мне уже даны разъяснения самой Управой. Управу лишь пожурили за несоблюдение сроков ответов и предложили ей провести мероприятия по отлову безнадзорных животных в парке.
Поскольку положение в парке не изменилось, а меня пытались обмануть, я обратился в вышестоящую инстанцию — к Генеральному прокурору В.В. Устинову. Я обрисовал ситуацию и сообщил, что никакого патрулирования в парке не ведется. По крайней мере, оно столь редко в сравнении с появлением в парке собак, что патруль обнаружить не удается никогда, а собаки в любой момент оказываются перед глазами. Нельзя пройти парк и не увидеть в нем хотя бы одного собаковода со своим другом (практически всегда без поводка и без намордника). Также я прокомментировал довод Московской прокуратуры на мое предложение закрыть часть входов в парк — для лучшего контроля его территории. На это прокурор города мне возражал, что, мол, это «приведет к ограничению прав граждан на свободное посещение парка как места общего пользования». Как известно «местами общего пользования» на канцелярском языке называют отхожие места. Выходит, что владельцы собак должны быть свободны в том, чтобы превращать парк именно в отхожее место.
Надежд на рассмотрение вопроса по существу у меня почти не было. В расчете на здоровую реакцию добропорядочных граждан, я описал ситуацию с Парком в передаче православной радиостанции «Радонеж». Никакой реакции на эту передачу не было. Разумеется, ведь ее слушают люди приличные. И их очень мало. А неприличные смотрят всякую похабщину на государственном ТВ. И таких — подавляющее большинство.
Пришедший от городского прокурора ответ снова был совершенно бесстыдным — в нем снова заявлялись разного рода темы, которых я не поднимал. Сообщалось, что Управой принимаются дополнительные меры «по информированию жителей о недопустимости выгула собак с использованием средств массовой информации, разъяснительных бесед, установки информационных табличек. Кроме того, производится отлов безнадзорных животных». Это была ложь. Опять ложь.
Я отреагировал с нескрываемым ехидством.
.. из Вашего ответа не ясно, в чем же состояла проверка. В связи с этим прошу представить мне материалы проверки. В частности, сведения об упомянутых Вами 1) информировании населения через средства массовой информации,
2) разъяснительных беседах, 3) установке информационных табличек, 4) отлове безнадзорных животных. Прошу сообщить, место, время, содержание публикаций в СМИ, посвященных данной теме, с кем, когда и о чем проводились разъяснительные беседы? Где после моего обращения установлены дополнительные информационные таблички? Сколько и когда отловлено безнадзорных животных на территории парка?
Дополнительно прошу сообщить о работе собственно правоохранительных органов, на которые Вы ссылались в Вашем предшествующем ответе. Сколько, когда и в отношении каких лиц составлены протоколы о правонарушениях — выгуле собак на территории историко-культурного памятника? Какими силами осуществляется патрулирование парка, какова периодичность патрулирования, время и маршрут патрулирования? Каковы результаты патрулирования? Кто лично ответственен за поддержание порядка на территории парка?
В своем ответе Вы сообщаете о финансировании работ по эксплуатации парка, хотя я такой информации и не запрашивал. Поскольку Вы располагаете соответствующими данными, прошу уточнить размеры финансирования с указанием статей расходов.
Не сомневаюсь, что подготовка запрашиваемой в данном обращении информации позволит Вам убедиться, что защита парка от осквернения находится в неудовлетворительном состоянии. Со своей стороны я могу убеждаться в этом почти ежедневно, о чем и сообщал Вам в предыдущих своих посланиях.
На это обращение ответа так и не поступило. Не мог сказать прокурор Зуев ни слова по существу вопроса. Он мог только подмахивать переписанные бюрократические враки. Зато пришло письмо из Генеральной прокуратуры. В нем сообщалось, что согласно постановлению правительства Москвы от 26.11.02 № 962-ПП «О Московском городском братском кладбище героев Первой мировой войны — памятнике истории и культуры (Новопесчаная улица, вл. 12)» мемориальный парк площадью 11 га, расположенный по указанному адресу, относится к памятникам истории и культуры регионального значения. Тем же документом охрана общественного порядка на территории мемориального парка возложена на ГУВД. За эту информацию можно было бы сказать «спасибо», но она сопровождалась очередной порцией лжи: запретительные таблички висят, граждане проинформированы о запрете, патрулирование ведется некоей «добровольной народной дружиной» САО. Опять вранье. Ни табличек, ни дружин не было.
Определенный результат мои обращения все-таки дали. Единственная проверка органами ОВД дала возбуждение трех административных дел в связи с п. 2 ст. 1 Закона города Москвы от 24.04.96 № 12 «О штрафных санкциях за нарушения законодательства Российской Федерации в области охраны животных и Временных правил содержания собак и кошек в городе Москве». Главе управы района «Сокол» Савеловским межрайонным прокурором внесено представление об устранении нарушений закона в связи с бездействием по проведению проверок и возбуждению административных производств за нарушения требований по содержанию домашних животных, предложено обратиться в Архитектурно-планировочное управление САО г. Москвы для решения вопроса об организации дополнительных собачьих площадок, а также объявлено предостережение о недопустимости нарушения сроков, установленных для ответов на депутатские обращения.
По этой информации хотелось бы считать дело успешно завершенным. Но личное наблюдение за обстановкой в парке убеждало: чиновники не обращали внимания на осквернения парка. Прокурор Москвы продолжал беспардонно врать. Теперь его ответ на мое обращение, якобы, затерялся. И мне «повторно» сообщалось о результатах «проверки». За проверку выдано «предоставление материалов» «органами исполнительной власти, предприятиями, организациями и органами внутренних дел». То есть, чиновникам прокуроры всегда верят на слово, а депутатам — нет. Поэтому никакой работы прокуратуры мне увидеть так и не удалось. Прокурор Зуев прямо указал, что он не является «держателем указанных информационных ресурсов» и предложил мне самолично запросить их в перечисленных организациях. То есть, ложь была совершенно открытой: не было никакой проверки!
Я обратился также в Мосзеленхоз, на балансе которого, как мне было сказано, теперь находится парк. Оттуда откровенно ответили, что отвечают только за состояние газона, а мемориальное значение парка — якобы, не их забота. Иными словами, газон от собачьего дерьма они освободить готовы, а свои головы приводить в порядок — нет. И вот что важно: «На наш баланс приняты деревья, кустарники, газоны, дорожно-тропиночная сеть, МАФ (садовые диваны, скамейки, детские площадки), за которыми осуществляется уход в течение года. При передаче объекта на данной территории не были установлены таблички, запрещающие выгул собак. Перед проведением торжественных мероприятий посвященных 91 годовщине начала 1 — ой Мировой войны в Мемориальном парке нашим структурным подразделением были установлены 30.07.05 г. пять табличек, запрещающих выгул собак на озелененной территории, но 1 августа т.г. табличек уже не было», «…установка и снятие табличек о запрещении выгула собак не входит в обязанности ГУП «Мосзеленхоз»».
Понятно, что некая организованная группа начала борьбу с запрещающими табличками. Но ни Мосзеленхоз, ни милиция палец о палец не ударили, чтобы воспрепятствовать преступлению. А это уже точно было преступление.
Поскольку прочие средства были исчерпаны, я написал письмо Лужкову, упирая на пренебрежение бюджетными расходами, которые были затрачены на мемориал, не обеспеченный защитой от осквернителей. Но Лужков был точно таким же саботажником, как и мелкая чиновничья челядь. За подписью первого заместителя мэра, и.о. руководителя Комплекса городского хозяйства Москвы В.И. Ресина мне рассказали про посторонние предметы: про отлов собак, устройство собачьих площадок, новостные сообщения жителям в трансляциях районной телестудии (ее никто сроду в районе не видел). А еще о развешанных тут и там запретительных табличках (их тоже не было). После получения этого письма раненько утром я прошел через парк. Встретил с десяток собаководов с крупными породами без поводков и без намордников. Ни одной таблички о запрете выгула собак. То есть, первый зам мэра — тоже лжец. Оттого что тунеядец, который руководит также тунеядцами. Им ведь не досуг было самим проверять, как дело обстоит на самом деле.
Я еще раз попытался привлечь внимание Лужкова к загаживанию нашей истории и наших парков. Поводом послужило письмо московской избирательницы, чьи дети вынуждены обходить газоны парков стороной — там раздолье для гадящих собак. На этот раз мене сообщили, что «мер административного или иного воздействия за выгул собак в рекреационных зонах не предусмотрено», поскольку действующее «Временные правила содержания собак и кошек в городе Москве» от 08.02.1994 года № 101 запрещает гадить только в подъездах, на лестничных клетках, в лифтах, а также на детских площадках и дорожных тротуарах. Во всех остальных местах гадить позволялось. Одновременно мне сообщалось невероятное: на входах во всех парках Москвы вывешены таблички «Выгул собак запрещен», а парки патрулируются сотрудниками ОВД и экологической милицией. Что проку от этого, если «рычагов воздействия на владельцев собак нет, меры к ним не применяются». Честно сообщил об этом и.о. руководителя Комплекса городского хозяйства Л.М. Липсиц. И было это уже летом 2006 года.
Врать мне продолжали уже без малого два года. Минул месяц, потом еще один. Никаких табличек в парке так и не появилось. Чинуши были заняты другими делами. Еще раз написал Лужкову о том, что таблички не появились. А также попросил убрать из парка позорный забор, за которым уж много лет не велось никакого строительства, а окончание работ давным-давно просрочено. На этот раз ответил еще один «первый зам» Лужкова П.Н. Аксенов. Он сообщил, что Мосзеленхозу и ОВД в очередной раз поручено исполнять свои обязанности. А что касается забора, то вся документация в порядке и проводится ее утверждение в Москомархи-тектуре. То есть, к моменту подписания письма это утверждение занимало 5 лет.
Уже на излете своих депутатских полномочий я сообщил Аксенову, что его распоряжения целиком и полностью не выполнены и просил принять меры. Еще один «первый заместитель» Лужкова П.П. Бирюков объяснил мне, что в парке регулярно устанавливаются таблички «выгул собак запрещен». Однако из-за отсутствия надлежащей охраны территории, таблички находятся в парке не более недели. И обещал, что очередная партия табличек будет установлена, а ОВД будет патрулировать парк. Забор же будет стоять на своем месте потому, что собственник не может приступить к выполнению работ в связи с отсутствием согласования с Комитетом по культурному наследию города Москвы. Это была новая версия для оправдания уродливого забора.
Табличек так и не появилось. Раз я увидел человека, который прикидывал, как приладить табличку «Выгул собак воспрещен». Порадовался: скоро они будут везде. И напрасно. Сдается мне, что тут какой-то важный дядя для своей собаки устроил большую площадку посреди мемориала. И никто в мэрии ему не указ. Оттуда говорят: повесить таблички. Он: снять таблички. И так годами. Кто после этого будет утверждать, что Лужков управлял Москвой? Да он даже собачьим дерьмом не управлял!
Перед завершением депутатских полномочий я еще успел выступить с интервью в местной газете «Сокол» по поводу безобразий в парке. Но местные власти к этой публикации отнеслись с полным равнодушием. Через несколько лет (положение в парке так и не изменилось) я по хозяйственной надобности обратился в управу «Сокол». В конце концов, измотанный враньем и бестолковостью чиновников, я сказал сгоряча, что в следующий раз обращусь в управу, когда вместе с гражданами надо будет спалить ее.
В Писании сказано «и лицо поколения будет собачьим». Лицо нынешнего поколения чиновников, действительно, подчас трудно ассоциировать с чем-то еще, кроме собачьей морды.
Имена на обелиске, которого нет
В 2009 году кремляне создали специальную комиссию по борьбе с фальсификациями истории. Это был ответ не беспрерывные попытки западных политиков уравнять сталинизм и гитлеризм, а под этим предлогом пересмотреть статус России как правопреемницы СССР в статусе победителя во Второй мировой войне.
Внешне разумная миссия теряет привлекательность при соотнесении с фактами фальсификации, исходящими от самих же кремлян. А также с фактами глумления над историей. Кремляне полностью приняли «религию Катыни», и в сентябре 2009 года премьер Путин даже ездил в Польшу, чтобы там подтвердить целиком и полностью геббельсов-скую трактовку «Катынского дела», в 2010 соответствующее заявление приняла Дума. Чем сталинизм и гитлеризм были отождествлены уже от имени России.
В течение многих лет Российский Императорский Дом добивался реабилитации Николая I! и его семьи. Сомнительная затея в отношении к царственным мученикам. Потому что нет смысла реабилитировать жертвы, если преступниками-изуверами были лица, исполнявшие поручения преступной власти. Данная реабилитация, в конце концов, состоялась. Почему же Кремль изменил свою позицию? Лишь по одной причине: в недрах кремлевских полит-технологических кругов решили вновь разыграть «монархическую карту», пристегнуть к своим «проектам» РИД, в подходящий момент скандализировать ситуацию, отвлекая людей от прочих претензий к власти. Вместо провалившегося либерализма планировалось предложить подделку под монархию.
Глумление над историей более всего отражено в символике памятников и названий, испещривших карты русских городов. Власть упорно отказывалась даже от самых насущных изменений. В начале 90-х в Москве множество названий улиц было сменено, а ряд идеологических памятников устранено с центральных площадей, но работа не была доведена до конца. Московским властям показалось слишком затратным, прежде всего, переименовывать станции метро. Многократно общественность требовала сменить название метро «Войковская», но мэр Лужков стоял насмерть: мол, условия для переименования не созрели. Депутаты кучно подписывались под обращениями об устранении с карты метрополитена имени изувера, причастного к расстрелу Царской семьи. Лужков был непреклонен. Но зато без труда переименовал станцию «Измайловская» на «Партизанская». Имя убийцы осталось нетронутым.
Кремлевские махинаторы оскверняли историческую память в своих подлых целях. Так произошло летом 2007 года, когда кремлянам понадобилось дискредитировать партию «Великая Россия», идущую на регистрацию, а потом на выборы, где ей сулили блестящую победу, перекрывающую успех «Родины» в 2003. С участием привластных «аналитиков» была разработана провокация и развернута пропагандистская кампания, в которой «Великая Россия» должна была быть представлена буквально как фашистская партия. Объектом провокации была избрана мирно стоявшая за церковной оградой Всахсвятского храма на Соколе памятная плита в честь казачьих генералов, выступавших
против большевиков после гражданской войны. Многие из них позднее оказались в рядах гитлеровского вермахта. Но до того — верой и правдой служили Отечеству, большинство — участники Первой мировой войны, показавшие выдающиеся образцы мужества и героизма. Те из них, кто был выдан англичанами Сталину, в тайных процессах были признаны военными преступниками и повешены. Прах покойных был ритуально развеян. Данное деяние было само по себе преступным, поскольку казнены по сфабрикованным делам (до сих пор засекреченным) военнопленные, никогда не приносившие присяги Советам и не совершавшие военных преступлений.
Для провокации была использована группа экзальтированных молодых людей, именовавшая себя «Красный блицкриг». По наущению спецслужб, группа совершила акт вандализма — разрушила памятную плиту молотками. О страхе перед наказанием говорили маски, напяленные на манер бандитов-грабителей, и обрез ружья, который от страха же был брошен вблизи места преступления. Для придания значимости событию, фотографии разрушенного памятника были размещены в сети на ресурсе «Живой Журнал», где началось бурное обсуждение.
Немалую роль в провокации сыграла некая Матильда (интернет-кличка), побывавшая в различных молодежных группировках и очень воодушевленная тем, что в данном случае ей поручили «настоящее дело». Кто поручил? У меня нет сомнений, что во время одного из задержаний (совершенно незаконных), милую девушку если и не завербовали, то основательно мотивировали на «борьбу с фашизмом». В силу своей наивности, она не учла странных особенностей глобальной сети, в которых авторство сделанных фотографий можно установить, сличая невидимые простакам кодировки. Матильда была изобличена как соучастница преступления. Но избежала внимания милиции. По одной простой причине. Если уж агентура «засветилась», то ее можно было сдавать напрямую. Матильду изящно использовали в информационной кампании. Для этого была создана явно эпатажная передача «С.С.С.Р.» (слухи, скандалы, события, расследования). В одной из первых передач этого недолго жившего детища кремлян Матильда оказалась главной героиней: инженю в спектакле «красных дьяволях», сцена в косметическом салоне. Наивная барышня торжествовала: ее миссия оказалась успешной, волна возмущения «общественности» против защитников пресловутой памятной плиты ударила по «Великой России». Кремлевские полит-технологи обеспечили массовые тиражи публикаций и обличений. В дискуссию включились самозваные «мстители», проповедующие любовь к Сталину и ненависть к «предателям».
Для продолжения провокации кремляне подослали ко мне корреспондентов передачи «С.С.С.Р», которые сообщили, что хотят полностью и объективно оценить ситуацию и предоставить мне возможность объяснить свою позицию. Мне задавались вопросы самого разного свойства. Сорок минут я терпеливо отвечал на них. Но на выходе в материале осталась лишь одна ничего не значащая фраза, а вся передача была забита кокетничающей Матильдой.
Провокаторы наперебой и произвольно усекая цитировали мою фразу из одной частной дискуссии в ЖЖ: «Я против гитлерофилов, но за германофилов (особенно тех, кто любит немецкую философию). Я против власовцев, но Я считаю Краснова и Шкуро достойнейшими русскими офицерами, а разрушение памятника — запредельной мерзостью…». Общественное мнение, конечно, раскачать не удалось. Уж слишком грязными были методы. Но удалось убедить кремлевское начальство, что «Великую Россию» допускать до выборов нельзя. Принятые на содержание Кремля технологи, как оказалось, могут неплохо манипулировать своими хозяевами. Хвост махал собакой, и собака была этим вполне довольна.
Меня беспокоит продолжение гражданской войны, в которой взгляд на русскую историю диктуется ненавистью русских людей друг к другу. В 2009 году эта ненависть вновь обострилась в связи с заявлением Синода Русской Православной Церкви за рубежом в защиту генерала Власова и его соратников, миссия которых была оценена как благородная борьба с большевиками. Это была ошибка, которая, увы, свойственна и многим «ультрапатриотическим» молодежным группам. А врагов обнаруживает в столь же экспрессивных «ультралевых» молодежных группах, которых играть «в войнушку», не интересуясь исторической правдой.
Нет, я не считаю Власова героем. Я считаю его предателем. И даже типичным порождением «советского патриотизма» — столь же нестойкого, как и вся сталинская армия, ставшая грудой трупов и искореженного металла в первые месяцы войны с Германией. Мало кто понимает, что гибель целых поколений молодых людей во время войны — это плата за большевизм и сталинизм. Победу обеспечили люди средних возрастов — те, кто был воспитан в русской традиции, под образами православных святых. Русской трагедией, итогом гражданской войны, необходимо считать тот факт, что патриоты России оказались вне ее границ и с началом войны Германии против СССР все еще считали, что это продолжение гражданской. В действительности, они воевали уже не против большевиков, а против родной страны. Пусть и захваченной чуждым режимом.
Генералы Краснов и Шкуро — трагические фигуры русской истории, а вовсе не предатели. Они не присягали большевикам, они с ними только сражались. В отличие от Власова, который большевикам присягал и был типичным «красным генералом». Его «антибольшевизм» был принужденным, обусловленным пленением, которое, в свою очередь, последовало в связи со страхом смерти в бою. Различные ухищрения Власова, который хотел быть привлекательным для русских людей, создавали лишь оправдательные мотивы поведения его самого и рекрутируемых им предателей. Эти предатели — целая армия предателей — русские и нерусские люди, с которых легко слетел советский патриотизм. Часть из них избавлялась одновременно и от показной любви к своей стране, часть — мучительно отыскивая для себя объяснения случившемуся: сочетания ненависти к режиму и войны против собственного народа, этим режимом взнузданного.
Для казачьих генералов, казаков, ушедших в эмиграцию вместе с «белыми», подобные муки были неведомы. Они были врагами большевиков, и никакой привязанности к режиму не имели. То же касалось и затаившихся врагов большевизма, которые Советы никогда не признавали и тут же стали на сторону его врагов, как только представилась возможность. Предатели ли они? Ответ на этот вопрос приводит к необходимости ответить: были ли предателями те, кто проиграл в гражданской войне? С моей точки зрения, нет. По обе стороны сражались русские люди. Одни — за иллюзию «светлого будущего», другие — за Отечество, каким они его знали и любили. Кто был в гражданской войне предателем? Большевики. Но и «белые» не были безгрешны. Их лидеры были изменниками — февралистами, поддержавшими переворот, позволившими арестовать Царя и смутить народ либеральными бреднями партийных провокаторов, засевших в Думе.
Во всей этой истории меня занимает не хитросплетение мыслей провокаторов, а историческая память. Конечно, это провокаторы учитывали: и мои многолетние усилия в защиту Мемориального парка, который разбит близ Всехсвятского храма, и тот факт, что мимо этого храма я проходил почти каждый день.
Ненависть к предателям — дело естественное. На этом и спекулируют извратители истории. Особенно те, что хотел бы, чтобы наша история начиналась то ли с 1917, то ли 1991 года. И тем, и другим русская истории, трагедия гибели Российской Империи — только повод для злословия. Поэтому к предателю генералу Власову с его РОА пытаются привязать вообще всех русских, включая тех, кто никогда не был на стороне советских коммунистов. Помимо РОА, состоявшей преимущественно из советских военнопленных, была старая русская военная эмиграция, которая формировала русские части, не входившие в РОА. Бывшие царские генералы и офицеры предпочитали не служить вместе с советскими предателями. Некоторые исследователи считают, что в вермахте прошло службу 2 миллиона русских. Цифра сомнительная, но о сотнях тысяч можно говорить уверенно. Нужно ли было всех их расстрелять после войны? До этого не додумался даже Сталин. А сегодняшние «борцы за патриотизм», прикормленные Кремлем, считают, что именно так и надо было сделать.
Краснов, Шкуро и другие казачьи генералы были выданы Сталину вопреки Ялтинскому договору, согласно которому выдаче подлежали лишь советские граждане, воевавшие на стороне немцев. Сталин по сфабрикованному и засекреченному делу повесил их в 1947 году. Это была месть за страх поражения в гражданской войне, а не акт правосудия.
Я специально изучил биографии на обелиске. Некоторые из указанных там лиц вообще не служили в вермахте, а были убиты сталинской разведкой. Некоторые стали немецкими офицерами еще до прихода Гитлера к власти. Почти все были героями Первой мировой войны и проливали кровь за Россию. Плита с их именами появилась у Всехс-вятского храма не случайно. Рядом были братские могилы солдат и офицеров Первой мировой, умерших от ран. Здесь, по непроверенным данным, были и могилы юнкеров, расстрелянных после захвата Кремля большевиками. Здесь наследники большевиков устроили парк, который потом превратился в собачью площадку. К 90-летию начала 1-й мировой собачья площадка была окультурена — возведены монументы, восстановлены газоны, проложены дорожки, парк обнесен оградой. Но собаки по-прежнему ходят по русским костям, «подписывая» их по воле своих отупевших от «демократии» хозяев. Это свидетельство глубокого морального разложения.
По депутатскому запросу из Генеральной прокуратуры мне было сообщено следующее:
16 января 1947 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР за конкретные совершённые преступления вместе с вышеуказанными лицами, к высшей мере наказания — расстрелу, осуждён Краснов С.Н.
По приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР от 26–30 августа 1946 г. за совершение контрреволюционных преступлений к смертной казни через повешение, с конфискацией имущества, осужден и бывший Главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской Восточной окраины генерал-лейтенант Белой армии Семёнов Г.М.
В соответствии с заключениями Главной военной прокуратуры об отказе в их реабилитации определениями Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации Краснов П.Н., Краснов С.Н., Шкуро А.Г., Доманов Т.Н., Султан Гирей Клыч и Семёнов Г.М. признаны не подлежащими реабилитации.
В отношении фон Панвица Г. 22 апреля 1996 г. Главной военной прокуратурой принято решение о признании его обоснованно осужденным и отсутствии оснований для принесения протеста на отмену или изменение приговора.
Уголовные дела в отношении всех перечисленных лиц находятся на хранении в Центральном архиве ФСБ России.
Сведений об осуждении Кутепова А.П., Миллера Е.К., Туркула А.В., Михайлова Т.В., Зборовского В.Э., Кононова И.Н.,Хольмстон-Смысловского Б.А., Скородумова М.Ф. и Штейфона Б.А., а также уголовных дел и материалов в отношении указанных лиц в Главной военной прокуратуре не имеется.
Прокуроры умолчали, что и по делу генерала Власова, и по делу генерала Краснова приговорам Военной коллегии предшествовало постановление Политбюро ЦК ВКП(б). Политическое решение диктовало результат судебных рассмотрений в Военной коллегии Верховного суда. В1992 году Конституционный суд при разбирательстве «дела КПСС» принял постановление об отмене всех репрессивных приговоров, которые были вынесены партийными органами. Но поименной реабилитации это решение не вызвало.
Выяснилось, что есть некий ведомственный параграф (Положение о порядке доступа к материалам, хранящимся в государственных архивах и архивах государственных органов РФ, прекращенных уголовных и административных дел в отношении лиц, подвергшихся политическим репрессиям, а также фильтрационно-проверочных дел, утвержденное Министерством культуры и массовых коммуникаций РФ, МВД Ф и ФСБ РФ), принятый совсем недавно — 25 июля 2006 года — и гласящий (п. 5 Раздела 1): на обращение граждан по доступу к материалам уголовных дел с отрицательными заключениями о реабилитации проходящих по ним лиц, архивами выдаются только справки о результатах пересмотра указанных дел.
По другому моему запросу наследники всесильного КГБ скромно сообщили, что дела на указанных лиц хранятся в архиве ФСБ — всего на 7 лиц, из которых 5 имен были на уничтоженном обелиске. Все они уже в наши времена «признаны осужденными обоснованно и реабилитации не подлежат». Краснов П.Н., Краснов С.Н., Шкуро А.Г., Султан-Гирей, Доманов Т.И. - по определению Военной коллегии Верховного суда РФ от 25 декабря 1997, Панвиц Г.В. - по заключению Главной военной прокуратуры от 28 июня 2001, Семенов Г.М. - по постановлению ВС РФ от 27 февраля 2003 г. Казненный вместе с русскими казачьими генералами немецкий казачий генерал Паннвиц (который предпочел остаться с подчиненными ему казаками, и этот поступок чести стоил ему жизни) был в 1996 реабилитирован, но в 2001 реабилитация отменена.
Тех, кто не попал в застенки Сталина (либо умер или был убит еще до войны, либо успел бежать подальше куда-нибудь в Аргентину) уголовные дела вообще не коснулись, их даже Сталин не определил в преступники. Это половина имен на мемориальной плите, которую уничтожили «красные дьяволята», посчитавшие, что именно они являются судьями этих людей. Вероятно, в порядке реанимации «революционной законности», согласно которой физическому уничтожению и посмертному проклятью принадлежат все, кто боролся с большевиками.
В начале 2008 года попытку реабилитации генерала Краснова предпринял депутат Госдумы от партии «Единая Россия» атаман Всевеликого войска Донского Виктор Водолацкий. Но кремляне быстро поставили его на место, организовали возмущение среди самих казаков. Решение о поддержке этой инициативы было отменено. Замечательно, что при Володацком каким-то образом оказалась все та же Матильда. Роль провокатора ей явно была по душе.
Для плененных солдат противника всегда предусмотрено уважение, и на то есть международные конвенции. Многочисленные голоса в поддержку разрушения памятной плиты требовали, чтобы никакого уважения не было. Они хоть сейчас убили бы русских генералов только за то, что они русские. Пленных немцев оставили бы в покое. Подобной ненависти почти никогда не встречается у ветеранов войны. Кто воевал по-настоящему, знает, что такое честь солдата, к какой бы армии он ни принадлежал. Ненависть войны остается на войне. А кто ее приносит в мирную жизнь, становится опасен для окружающих. Ветераны в большинстве своем ненависть к врагу оставили в прошлом. Мы же, кто на ней не был, прав на ненависть не имеем. Даже если наши предки на этой войне полегли. Они нам ненависти не завещали. Они нам завещали память.
На войне противник всегда проливает кровь наших сограждан. А мы — его кровь. Это преступлением не считается. В условиях войны расстрел паникера — обычное дело. Но в условиях мира подобное действие — преступление. Есть военные преступления — то есть, нарушение традиций войны. Например, казни мирного населения. За это закон может полагать бессрочную ответственность и смертную казнь. Но тогда нужно доказывать совершение подобного преступления. Записные патриоты, лишившиеся моральных ориентиров, решили, что вправе воевать языками, оправдывая казни по сфабрикованным делам. Казни русских зато, что Они русские. Казни офицеров за то, что они воевали против большевиков. Кто мысленно вешает и расстреливает, убоится ли роли палача в настоящем?
«Белые» считали, что большевики хуже немцев. С немцами о чем-то еще можно договариваться, а с большевиками — нет. У немцев есть закон, у большевиков — только петля и револьвер. Не дай Бог нам все это перенести, и не дай Бог никому настолько померкнуть умом, чтобы судить направо и налево о правоте и неправоте. Мы должны быть милостивы хотя бы к собственной истории и русским людям.
«Религия Катыни» и зараза русофобии
17 сентября 1939 советские войска вошли на территорию Польши, когда под ударами вермахта польское государство фактически перестало существовать. От гитлеровской оккупации были спасены жители Западной Украины и Западной Белоруссии — около 12 млн человек. При этом в советский плен попало около 250 тысяч польских солдат и офицеров. Подавляющее большинство было отправлено по домам, 40 тыс. уроженцев центральных областей Польши также смогли вернуться на родину — под контроль германских оккупационных властей. «Верхушку» польской армии разместили в лагерях для военнопленных — в Козельске, Старобельске и Осташкове.
Считается, что весной 1940 года в местечке Катынь под Смоленском были расстреляны свыше 4 тыс. польских офицеров из Козельского лагеря. Захоронения, действительно были найдены. Кем? Гитлеровцами, в 1943 году. Именно гитлеровцы объявили, что это расстрелянные польские офицеры. Утку тут же подхватило польское правительство в изгнании. В условиях войны с Гитлером оно включилось в планы пропагандистской кампании фашистов. И СССР разорвал с этим правительством отношения.
Главе польского правительства Сикорскому, принявшему игру Геббельса, никто не верил. Даже Муссолини. Не говоря уже о союзниках СССР. Поэтому гитлеровцы организовали в Катыни международную комиссию с участием судмедэкспертов и криминалистов. Провокация была хорошо спланирована. В могилах нашлись обрывки польских газет, польские пуговицы, детали амуниции и даже дневниковые записи. Провокаторы не учли одного: немцы не знали реалий советской жизни. Не могли в советских условиях уложить десять тысяч трупов ровненькими рядами в новеньких сапогах и неношеных шинелях. Скудность жизни советских людей требовала шинельки и сапоги снять. И уж точно никто не складывал бы трупы с немецкой педантичностью. Никто не дал бы приготовленным к расстрелу иметь при себе личные вещи и дневники. Все было бы изъято. Тем более, если предполагать особую секретность ликвидации, которой пытаются объяснить отсутствие свидетелей расстрелов (показания имеющихся свидетелей более чем сомнительны).
В наши дни польские «ресследователи» указали на другие захоронения, где, якобы, были захоронены остальные польские офицеры — на спецкладбище в Медном под Тверью (все 6311 польских полицейских, из Осташковского лагеря). Однако есть свидетельства, что польские полицейские в 1941 году работали на Беломорско-Балтийском канале, а в начале войны польские офицеры содержались в лагерях, которые советским командованием были просто брошены при отступлении.
В 1940 году НКВД, безусловно, проводило расстрелы. И поляков, и других — всех, кого считали врагами Советской власти. Среди польских офицеров таковых было достаточно, и об этом доносила внедренная в круги военнопленных агентура. Но ставить расстрелы на поток никто не собирался, а в начале войны польские граждане были амнистированы, выпущены из лагерей и возвращены из спецпоселений. Началось формирование польской армии.
После освобождение Смоленска была создана комиссия под председательством академика Николая Бурденко, главного хирурга Красной Армии и президента Академии медицинских наук, которая провела свое исследование и установила, что расстреляли поляков сами немцы. Что касается документов пленных поляков, включая и тех, кто был расстрелян по приговорам «особых совещаний», то дела были уничтожены. Оставшиеся документы поступили в «особую папку», которая по цепочке преемственности попала сначала к Горбачеву, потом в Ельцину. В 1991 году, когда в КГБ царила измена, было изготовлено множество фальшивых документов. Один из них оказался в «особой папке». Ельцин и «демократы» вынули давно забытое дело и отдали его в руки русофобам. Фактически именно Ельцин и его окружение были создателями «религии Катыни».
На фальсификацию указывает анализ документов «закрытого пакета № 1», который неожиданно обнаружился у Горбачева. Записка Берии о расстреле поляков была зарегистрирована в феврале 1940, а сама записка датирована мартом. Причем без указания даты. Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года оформлен с нарушениями: сохранились только незаверенные копии. В «записке Шелепина» Хрущеву, в которой говорится о расстреле 21857 польских граждан весной 1940 года, содержится явная ложь: якобы, мировое общественное мнение согласно с выводами комиссии Н.Бурденко. Трудно представить полную неосведомленность председателя КГБ или готовность принять очевидную ложь со стороны Первого секретаря ЦК КПСС. Л гать им было не привыкать. Но то в публичных делах. Множество передержек в документах, ставших известными в наши дни, наталкивает на мысль, что следы фальсификации были оставлены намерено и в большом количестве. Они бросаются в глаза. Но только не тем, кому поручено было проводить расследование.
Уже в 1990 году повсеместно считалось, что польских офицеров расстреляли органы НКВД. С сентября 1990 года началось официальное расследование Главной военной прокуратуры. Как я убедился, на самом деле никакого расследования не было. Была фабрикация доказательств вины нашей страны. Она растянулась на многие годы. Только в 2004 году расследование было объявлено завершенным. Якобы, был подтвержден факт вынесения НКВД смертных приговоров 14 542 полякам-военнопленным, достоверно установлена смерть 1803 человек и определены личности 22 расстрелянных.
Бывший тогда главным военным прокурором РФ Александр Савенков определил катынские события как «общеуголовные преступления, связанные с отдачей незаконных приказов, а также превышением должностных полномочий лицами высокого ранга». Позднее, когда мне довелось по другому поводу беседовать с А.Н.Савенковым, перешедшим в Министерство юстиции вслед за своим патроном — В.В.Устиновым, я понял, почему расследования не было, а итоговые документы дела не выдерживают никакой критики. Подобные люди своеобразно понимают принцип законности. Для них законность — это распоряжение начальства и собственное мнение. Они не интересуются истиной, а ложь для них — вполне допустима и является привычным инструментарием в работе.
Дело засекретили и закрыли. Ведь виновные в расстреле (ровным счетом пять человек, принявших решение) давно умерли. В Кремле считали, что тем самым вопрос снят. Это было не только преступление против собственной страны (фальсификация исторической ответственности), но и ошибка. «Мировое сообщество» не собиралось что-то там «прощать» России. Напротив, позднее были придуманы новые легенды, направленные против нашей страны. Вроде «религии Голодомора» на Украине.
В «Катынском деле» отметилось множество русофобов. Но наивреднейшей была миссия СМИ, разыгрывавших «исторические детективы». Многосерийная подделка под историческую правду — бесконечная «мыльницы» лживых фильмов Леонида Млечина в передаче «Особая папка». 19 апреля 2004 года вышел отдельный фильм о «Катынском деле». Разговор в фильме начинается именно с детектива — с загадочной гибели главы польского правительства Владислава Сикорского в 1943 году… Что может быть загадочного в условиях войны? Погибали и от шальной пули, и просто оттого, что на войне смерть не выбирает свои жертвы по какому-то особому сценарию. Сценарии придумывает писатели. Или драматурги закулисной политики. Млечин исполнял чье-то задание. Трудно представить себе, что так просто по многим каналам СМИ шли передачи все об одном и с одной и той же версией: НКВД расстреляло столько-то тысяч (цифры разнятся) пленных польских офицеров. В переводе на обыденный язьж (а именно на это и расчет) это означало: русские расстреляли столько-то тысяч польских офицеров.
В фильме Млечина все указывало на заданность. Покров тайны должен был интриговать зрители: какой ужас еще там скрывается? Если скрывается — значит, ужас. Если ужас — значит, правда. Нынешние игры в прятки по поводу Катыни скрывают вовсе не ту правду, о которой многие думают. Они скрывают полную несостоятельность тех, кто многие годы посвятил «расследованию». На поверку вышел «пшик».
Одним из доказательств того, что расстрелы проводились немцами, было установление факта убийства людей из немецкого оружия. На это русофобы придумали сказочку о том, что специально для уничтожения людей НКВД приобрело партию немецких пистолетов. Вот как об этом повествует Млечин:
«Во внутренней тюрьме областного управления одну из камер обивали кошмой, чтобы не было слышно, пленных по одному заводили в камеру, надевали наручники и стреляли в голову. Пользовались закупленными в Германии пистолетами марки “Вальтер” — их доставляли из Москвы чемоданами. После каждого расстрела в Москву, заместителю наркома Меркулову шла короткая шифротелеграмма такого содержания: «исполнено 292». Это означало, что за ночь расстреляли 292 человека. К концу мая расстреляли 21 тысячу пленных поляков.
Трупы на грузовиках вывозили за город и закапывали в районе дач областного НКВД — сюда чужие люди не зайдут. Трупы укладывали как сардины в банке: голова к ногам — ноги к голове. Когда операция закончилась, братскую могилу засыпали землёй и сажали ёлочки. Но часть пленных из козельского лагеря расстреляли прямо в катынском лесу. Эти могилы и обнаружили потом немцы, заняв Смоленск».
На самом деле простой следственный эксперимент показывал, что в ночь в смоленском областном управлении НКВД расстрелять почти три сотни человек было просто невозможно. Как и вывезти трупы, чтобы не образовать целой колонных грузовиков. Разумеется, «голова к голове» могли укладывать разве что педантичные немцы. И сажать елочки — тоже.
Млечин играет деталями, перевирая действительность. «Условия содержания были ужасными». Это о лагерях для военнопленных. На самом деле, лагерь сам по себе — тяжкое испытание. Но для поляков были устроены очень даже сносные условия. Старались соблюсти конвенции о правах военнопленных. Офицеры не работали и сохраняли свою форму. Другая ложь: «В Нюрнберге, где после войны судили главных нацистских преступников, по требованию советской делегации эта тема не возникала». Как раз наоборот. Тема была поднята советской делегацией, но не попала в итоговые документы, поскольку русофобский миф уже породил сомнения, а СССР не мог похвастаться гуманизмом: поляков все же расстреливали, хотя не в том количестве. Никакого тотального уничтожения польских офицеров не было. Известно, что бывший прокурор Верховного суда Польши полковник Любодзецкий и комендант подпольного террористического «Союза вооруженной борьбы» на Западной Украине полковник Окулицкий, не были расстреляны, а получили лагерные сроки и амнистированы в августе 1941 года.
Массовая аудитория дезинформировалась — где грубо и нагло, где тонко и незаметно. Поскольку для разоблачения дезинформации мне нужна была документальная база, в мае 2004 я направил президенту ОАО «ТВ Центр» О.М. Попцову вполне нейтральный запрос с просьбой предоставить мне копию видеозаписи и стенограмму. Ответа от Попцова не последовало. Вместо него мне пришла бумажка за подписью начальника управления делопроизводства. К ней было приложено любезное письмо Млечина, содержащее некоторые данные о двух книгах, касающихся «Катынского дела», относительно которых я ничего не просил мне разъяснять, поскольку был достаточно осведомлен о предмете. Впрочем, было интересно освежить в памяти некоторые детали. Стенограммы не было. Я вынужден был повторить запрос и напомнить Попцову нормы закона. В ответ мне пришел отказ, мотивированный тем, что моя просьба, якобы, не соответствует предмету депутатской деятельности. На самом деле статус депутата позволяет ему самостоятельно определять сферу своей деятельности, которая может быть ограничена только законом, и уж никак не мнением телевизионного начальника. Пришлось склонять ТВЦ к исполнению правовых норм через прокуратуру, подчеркивая, что в данном случае имеется прямое противодействие депутатской деятельности.
В августе 2004 года в адрес президента ОАО «ТВ Центр» прокуратурой было внесено представление. Тем не менее, Попцов вовсе не сразу его исполнил. Мне понадобилось еще раз обращаться в прокуратуру, указывая, что теперь Попцов пренебрегает уже статусом прокурорского предписания. В конце концов, я получил искомую стенограмму. Но тем временем озадачило меня уже совсем иное — затруднение в реализации статуса депутата уже в самой ГВП, где я надеялся ознакомиться с массивом документов «Катынского дела».
Другой фальсификатор истории и русофоб Николай Сванидзе, вероятно, поставил себе задачу изолгать все исторические сюжеты, существенные для современности. По теме «Катыни» он выпустил фильм на телеканале «Россия». Но меня заинтересовал другой случай выхода Сванидзе в эфир с этой темой. 4 ноября 2005 года цепные псы власти ждали появления активистов «Родины» на Русском марше, где уже была заготовлена провокация с демонстрацией фашистских жестов и символики. Гряземеты были развернуты, но, как оказалось, тщательно организованный повод не состоялся. «Родина» проводила свою акцию в другом месте. Мне же, как на грех, довелось дать обещание выступить на митинге у польского посольства, где активисты движения «Правда о Катыни» говорили о необходимости открытого судебного разбирательства дела и обсуждения найденных доказательств о его фальсификации в период «поздней перестройки» и «раннего ельцинизма».
Заряженный гряземет должен был выстрелить на «Эхо Москвы». Именно поэтому в передачу русофоба Матвея Ганапольского был приглашен русофоб Николай Сванидзе. От ведущего он получил замечательный посыл в связи с митингом у польского посольства: «Если я не ошибаюсь, рого-зинский. Где Рогозин сотоварищи (если я ошибся, господин Рогозин, извините, но, по-моему, его ребята, я в новостях слышал) собрались и требовали пересмотра решений по Катыни, когда были расстреляны… сколько польских офицеров?»
Сванидзе бодро ответил: «Несколько сот тысяч». Это сказал человек, представленный в эфире как историк. И Ганапольский бодренько его поддержал.
Ганапольский: «Несколько сот тысяч, как бы доказано. Говорю «доказано» для господина Рогозина, потому что он же не верит, что это сделали нквд-шники. Вы же, по-моему, по этому поводу фильм делали».
Сванидзе: «Да, совершенно верно».
Понятно, какого качества делал фильм Сванидзе. Ну и понятно, какой «журналист» Ганапольский. Он что-то слышал, да ничего не понял. Не было у польского посольства Рогозина, а из «его сотоварищей» был я один. Большая ложь Сванидзе и маленькая ложь Ганапольского. Соединяясь вместе, они дают актуальную клевету.
Сванидзе: «Так, Матвей, и снова я вам говорю, а те же рогозинцы, если им давать такую возможность, объединившись с нацистами (а в рогозинской, кстати, фракции в ГД есть нацисты прямые, я это говорю совершенно откровенно, я могу их по фамилиям назвать), так вот, эти ребята могут и 9 мая выходить к немецкому посольству и требовать, скажем, восстановления Берлинской стены».
Подобные фантазии, конечно, происходят от невежества и подлости. Выпустив свой русофобский фильм, Сванидзе хотел закрепить за собой право на истину. Поэтому все другие точки зрения вызывали у него раздражение. И надо же ему было тут же попасться на лжи! Сванидзе был позорно схвачен за руку как неловкий карманник.
Слушатель Алексей: Во всей польской армии не было нескольких сот тысяч офицеров, я так думаю, это первое.
Сванидзе (сразу как-то ослабнув слухом): Что-что, я не расслышал?
Слушатель Алексей: Во всей польской армии, наверное, не было нескольких сот тысяч офицеров, как вы сказали про Катынь.
Сванидзе (переходя на другую тему): Там были не только офицеры, кстати.
Слушатель Алексей: Неважно. Несколько сот тысяч не могло, там (не) больше 20 тыс. всего было.
Сванидзе (обрывая разговор и играя в оскорбленные чувства): Вы считаете, что это нормально уже? Мы не будем сейчас с вами спорить по цифрам.
Еще в 2004 году в статусе депутата Госдумы я поставил себе целью использовать этот статус, чтобы ознакомиться с засекреченным «Катынским делом». К такому решению меня подтолкнули подробные беседы с Сергеем Стрыги-ным — одним из активных энтузиастов-исследователей, искавшим правду о Катыни и раскопавшим множество свидетельств, опровергающих официальную версию. По его просьбе я направил более сотни запросов во все инстанции, по крупицам собирая информацию, которую тщательно вычищали полтора десятка лет.
Добиться ознакомления с документами оказалось не так просто. Прикрываясь «тайной следствия», прокуроры блокировали ознакомление с материалами. Будто бы чтение дела могло нанести расследованию какой-то вред. Главный военный прокурор А.Н. Савенков на мой запрос ответил лишь, что «срок следствия по уголовному делу № 159 продлён в установленном законом порядке до 22 сентября 2004 года». Но уже 21 сентября ГВП прекратила расследование. Это еще не означало, что мне предоставят документы. А события продолжали развиваться, угрожая национальным интересам России.
28-29 сентября 2004 г. в Москву приехал президента Польши А.Квасьневский. В ходе его визита было объявлено о скорой передаче польской стороне в дополнение к ранее переданным 96 томам с материалами данного расследования остальных 73 томов. В связи с этим 19 ноября 2004 г. мною в Главную военную прокуратуру было направлено письмо с запросом информации по «Катынскому делу» и просьбой ознакомиться с материалами проведенного расследования. В частности, — с текстом постановления о прекращении данного уголовного расследования. Если полякам можно, то почему русскому депутату нельзя?
20 декабря 2004 г. из Главной военной прокуратуры за подписью заместителя Главного военного прокурора генерала-лейтенанта юстиции А.И. Арутюняна был получен ответ с отказом в предоставлении запрашиваемых документов или информации об их содержании, из которого следует, что депутаты Государственной Думы, по мнению Главной военной прокуратуры, не имеют права ознакомления с переданными в архив материалами законченного производством уголовного дела. Я вынужден был снова писать
Генеральному Прокурору, мотивируя свой интерес тем, что результаты расследования будут иметь серьезные политические и экономические последствия для Российской Федерации. Неизбежно предъявление Республикой Польшей требований о выплате денежных компенсаций родственникам погибших из бюджета Российской Федерации. Принятие федеральных законов по вопросам формирования бюджета РФ, согласно Конституции, является обязанностью Государственной Думы, из чего следует, что ознакомление с результатами расследования напрямую связано с деятельностью Госдумы и её депутатов, а не является сомнительной своекорыстной инициативой частного лица или предметом пустопорожнего любопытства пресыщенного жизнью, праздного и скучающего законодателя.
9 марта 2005 года на пленарном заседании Госдумы я задал вопрос Генеральному прокурору В.В.Устинову по поводу возможности ознакомления с результатами проведенного расследования по «Катынскому делу». В ответе, отраженном в стенограмме, Устинов разъяснил, что открытые выводы расследования опубликованы и являются общедоступными, а с прочими результатами расследования, в которых есть признаки государственной тайны, могут знакомиться лица, имеющие соответствующий допуск. Депутаты Государственной Думы имеют доступ к государственной тайне.
Так я оказался в здании ГВП, где несколько часов читал постановление о прекращении дела и пролистывал отдельные тома. Читать само дело — полторы сотни томов, было невозможно. Потому что это был хаос. Разобраться в нем стоило бы нескольких месяцев труда. Я такую роскошь позволить себе не мог. Мое внимание сосредоточилось на итоговом документе. И он поразил меня своей нелогичностью, низким уровнем культуры. Такое впечатление, что эти шесть десятков страниц просто списали по фрагментам из разных частей дела и скрепили выводами, которые из этих фрагментов никак не следовали. Это была халтура. Все «расследование» свелось к тому, чтобы не допустить к делу никого. Ничего «секретного» или «сов. секретного» в материалах и заключительном постановлении на было и в помине. Секретность покрывала тайну: отсутствие факта расследования и постыдность итога. Такой итог стыдно было публиковать.
Меня поразил легкомысленный ответ кураторов «Катынского дела» в ГВП на мой вопрос: «Изучались ли материалы комиссии Бурденко? Есть ли основания считать их недостоверными?». Оказалось, что не изучались, потому что «и так ясно, что это фальшивка». Это подвигло меня к продолжению работы по «Катынскому делу».
Особенно важным в этом деле было изобличение государственной измены там, где ее присутствие было очевидно в 1991 году. На глазах руководства КГБ был разрушен Советский Союз, государственная безопасность подверглась убийственной атаке, но всесильная спецслужба и пальцем не повела. Не по тем ли причинам, что было фальсифицировано «Катынское дело»? На фальсификацию указывал факт, открытый в июне 2004 года. В архивах нашлись документы о трех лагерях особого назначения близ Смоленска (Вяземлаг), где до 1941 года содержались бывшие польские военнослужащие и государственные чиновники, вывезенные в апреле-мае 1940 г из трех спецлагерей НКВД. Всего здесь содержалось около 8 тыс. поляков, еще какое-то количество — на отдельных лесозаготовительных пунктах. Это была своеобразная трудовая армия, разбежавшаяся с приближением наступающих немцев или захваченная ими. Данный факт не нашел отражения в расследовании ГВП. Власть полностью устранилась от необходимости защиты национальных интересов. Историческая правда интересовала только общественных активистов.
В ноябре 2005 году противники исторической лжи вышли на митинг к польскому посольству — об этом митинге развязно говорили в эфире «Эхо Москвы» Ганапольский со Сванидзе. Выступления были посвящены фальсификации дела и требованиям расследовать его в полной мере и вынести решение в судебном порядке. На эту инициативу отреагировало общество «Мемориал». Но «Мемориалу» нужна была не правда, а только поводы, чтобы унижать Россию и говорить гадости в адрес патриотического движения. На этот раз «мемориальцы» выступили с письмом в адрес польского посла, переполненным ложью, фантастическими измышлениями и клеветой. Митинг у стен польского посольства они назвали «омерзительной акцией», а ее лозунги — «манифестацией ненависти», попыткой оправдать преступления Сталина и Берии и даже оправдание нацистской агрессии 1939 года. Их интерпретация митинга у польского посольства показала, что эти люди не способны сказать ни слова правды. Любому очевидцу или участнику митинга было ясно, что «мемориальное» описание бесстыдно перевирает все, что происходило в действительности и извращает высказанные ораторами позиции.
Зная о моей активности, «мемориальнцы» уделили внимание и моей персоне. Они понимали, что у меня с ними не может быть никаких точек соприкосновения. Они мне отвратительны как враги моего народа и грязные лгуны. Поэтому «мемориальская» шушера писала польскому послу донос: «Вполне закономерно и участие в позорном спектакле 4 ноября депутата Государственной Думы РФ от партии «Родина» Андрея Савельева. Этот парламентарий уже давно зарекомендовал себя как сторонник националистических, шовинистических и антисемитских взглядов. Его активность на пикете всего лишь расставляет точки над «і»: она демонстрирует истинную политическую ориентацию организаторов акции, проясняет идеологические предпочтения «Родины» и еще раз подтверждает, что появление свастики в символике пикета — не случайность».
Какая еще свастика? Дело в том, что на митинге в качестве наглядно агитации присутствовал макет памятника польским офицерам, возведенный в Нью-Йорке. Он отличался от трагичной фигуры, созданной американскими печальниками о судье Польши, только тем, что штык винтовки пронзал фигуру не в спину, а чуть ниже. Чтобы не повторять фальшь американцев, на прикладе винтовки была изображена свастика. В соответствии с исторической правдой: немцы во главе с Гитлером добили бегущую польскую армию. Переносить на родную почву двусмысленность, которая всегда трактуется против России и русских, никто не хотел. Ведь винтовка вполне могла считаться советской, а удар штыком в спину — будто бы, предательством по отношении к полякам. Мы-то знали, что ничего подобного не было. Напротив, наши солдаты спасли от немедленной смерти множество поляков — и военных, и гражданских. Подлость «Мемориала» в том, что его текст не поясняет что это за «символика пикета». Как будто участники митинга пришли с плакатами, на которых была свастика! Этого не было.
«Правозащитники» взяли за правило науськивать власти на патриотическую оппозицию, запугивая Кремль реакцией мирового сообщества. Их все меньше слушают, поскольку до мирового сообщества этим жалким группкам «мемориальцев» не докричаться. Во власти их слышат только считанные отморозки с таким же повреждением морали и психического здоровья. Именно поэтому «Мемориал» в равной мере ненавидит Россию, российскую власть и русских патриотов. Называя участников митинга «кучкой политических хулиганов», «мемориальцы» разоблачают себя как политическая шпана. Встав на защиту фальсификаторов «Катынского дела» эта группировка заявила свою цель: возбуждение розни между Россией и Польшей. Толкуя о несуществующих преступлениях, «Мемориал» в лице своих писарей, штампующих пасквили, сам совершил преступление. Обвиняя других в сталинизме, они сами суть рабы сталинизма, ибо без мифов о сталинизме жить не в состоянии. Этим некрофилам выжить среди нормальных людей позволяет только ненависть, обвинения других в преступных деяниях и тотальная ложь.
Я еще надеялся, что есть разумные доводы, которые могут подвигнуть режим Путина к тому, чтобы защищать интересы страны. Написал в Администрацию Президента Игорю Сечину, который заведовал доступом к президентскому архиву. Там можно было найти косвенные данные об истинной судьбе польских офицеров. Мы знали, где искать. Но запросы остались без ответов. Мне сообщили, что о допуске к архивам даже для депутата Госдумы не может быть и речи.
Потом я написал письмо Президенту РФ. Обосновал — особую опасность для страны претензий Польши, которые международный суд мог признать состоятельными. Требовалась энергичная работа, чтобы на Катынский миф ответить правдой о Катыни. Были подробно изложены обстоятельства, указывающие на фальсификацию дела. Предложено сформировать непубличную исследовательскую группу, которая в течение полугода подготовит материал для публикации и стратегию противодействия польским претензиям. Возникал бы повод возобновить расследование, создать убедительные следственные материалы, сделать их публичными, разоблачить заговор фальсификаторов.
Президентская «вертикаль» осталась глухой к моим предложениям. Только в зале заседаний Думы в перерыве ко мне подошел один из сотрудников Администрации и вполголоса, чтобы никто не слышал, похвалил мою записку, направленную секретной почтой. Никаких последствий эта похвала не имела. Нет, власть не собиралась заниматься проблемами страны. У нее были свои собственные проблемы. А общественную активность приказано было подавлять.
В марте 2006 года группа граждан намеревалась провести митинг у здания ГВП с целью публично заявить требования о гласном, объективном и всестороннем рассмотрении в суде материалов расследования уголовного «Катынского дела». Московские власти сделали все, чтобы сорвать митинг. Инициаторов вызывали для «профилактических бесед». Раз за разом отвергались одна заявка за другой. В беседах участвовал глава следственно бригады по «Катынскому делу» и сотрудники Правительства Москвы — генералы, полковники, генерал-полковники. В ходе бесед было сообщено, что причина для запрета митинга будет непременно найдена.
Еще раз тема Катыни коснулась меня лично в поганень-кой брошюрке, где русофобы собрали несколько публикаций ученых, которые соблазнились гонорарами за публикацию оскорблений и клеветы в адрес нескольких книжных публикаций, касающихся проблем русской нации. Почти все авторы оказались из русофобского гнезда — Института этнологии и антропологии во главе с Валерием Тишковым, который в России с начала 90-х годов курирует межнациональные отношения, а теперь занимается еще и проблемами толерантности в Общественной палате. В указанном заведении есть некий отдел народов Кавказа. В отделе заведующий — С.Арутюнов. Ему было дано задание в три странички оценить мою книгу «Время русской нации». Конечно, не читая ее, а лишь скользнув взглядом по любезно предоставленным «правозащитниками» цитатам. Среди всех прочих цитат оказалась буквально единственная фраза о «Катынском деле».
Не будучи в курсе «Катынского дела», которым я занимался несколько лет как депутат Госдумы, Арутюнов обвинил меня в клевете на власть, которой я предъявил претензии за поддержку гббельсовского мифа о расстреле 25 тыс. польских офицеров. Для ученого, не видевшего в глаза никаких документов, весьма смело делать выводы о том, что «вина НКВД в катынских расстрелах на сегодня доказана уже неопровержимо». Особенно поражает гражданский пафос вставшего против «популистской клеветы на власть» гордого защитника правды. Ученым можешь ты не быть, а быть доносчиком — обязан. Таково, как я понимаю, кредо русофоба, внедренного в ученую среду.
Помимо проблемы исторической правды, есть еще и проблема российско-польских отношений, омраченных «религией Катыни», ставшей основой польского политического самосознания. В Польше отрицание убийств польских офицеров сотрудниками НКВД приравнено к уголовным преступлениям. Тем самым, смыкаются «религия Катыни», «религия Холокоста» и русофобия, стремящаяся доказать, что между фашистами и русскими нет никакого различия. Русские, не желавшие брать на себя фальсифицированное «Катынское дело», — настоящие современные неофашисты! Собственно, такая характеристика давалась всем русским, кто не соглашался с позицией властей, а также прокрем-левскими СМИ. Не зная ничего по поводу «катынского дела», они были уверены, что «русские фашисты» не могли не расстрелять несчастных польских офицеров — настоящих борцов с фашизмом.
Груз «Катынского дела» может немалым весом лечь на плечи русского народа, как лежит «Холокост» на плечах немцев, расплачивающихся не одно поколение вовсе не за нацизм, а за миф о еврейских страданиях, которые признаны почему-то самыми ужасными. Другим народам подобная мифология не свойственна, они на своих жертвах и своем горе не делают грязный бизнес. Русские полякам не предъявляли счет за десятки тысяч уморенных голодом и болезнями пленных красноармейцев, которых в 1920 году держали в чистом поле за колючей проволокой, пока большая часть из них не отдала Богу душу. А вот поляки потребовали от России «компенсации» за геббельсовский миф о польских офицерах. Сначала в 2005 году польский сейм принял резолюцию с требованием к России признать геноцидом расстрел пленных польских офицеров. В 2007 году в Польше к власти пришли отпетые русофобы братья Качиньские. «Катынская религия» стала их главным аргументом на выборах. В центре Варшавы они провели фотовыставку «Katyn», предваряя ее плакатом, где зверомордые русские с окровавленными руками расстреливали польского офицера. Специально к выборам был создан фильм А.Вайды «Катынь». Хотя режиссер попытался превратить его в мелодраму, всепольский показ (а потом и всемирный) и множество публикаций, посвященных премьере, вызвали всплеск яростной русофобии. После победы на выборах Лех Качиньский провел демонстративную акцию: повысил в званиях всех поляков, которые считаются погибшими в Катыни.
Попытки поляков говорить о том, что их интересует только моральный ущерб, опровергаются тем, что уже в 1989 году сейм Польши предлагал СССР в порядке компенсации списать задолженность Советскому Союза в размере 5,3 млрд инвалютных рублей. В 2008 году разговоры шли не о покаянных заявлениях, а о компенсациях родственникам погибших. Отказ московского суда рассматривать требования о реабилитации расстрелянных польских офицеров дал инициаторам соответствующего иска основание обратиться в Страсбургский суд по правам человека. Решение этого суда предопределено предшествующей историей и политической конъюнктурой. В 2010 году рассмотрение дел о «компенсации» (пока что моральной) было принято к рассмотрению. Так русофобия Кремля оборачивается моральными и материальными потерями для России.
«Катынское дело» не оставляло меня и после завершения работы в Думе. Сергей Стрыгин познакомил меня с криминалистической экспертизой «записки Берия», в которой было достоверно установлено, что она напечатана на двух разных машинках. Последние листы явно являются подменой.
Через несколько месяцев разразилась трагедия под Смоленском — «Катынь-2». Польские летчики угробили все руководство страны вместе с Лехом Качиньским, попытавшись посадить самолет в плотном тумане и вопреки настоятельным рекомендациям диспетчеров аэропорта. Русофобы очень хотели найти в катастрофе «руку Москвы». Но не получилось. Скорее тут стоит говорить о Божьей Воле. Ведь поляки торопились на масштабное мероприятие к «годовщине расстрела», закрепляя фальсификацию истории государственным ритуалом. И российское руководство готово было им в этом содействовать.
Наконец, в мае 2010 разорвалась информационная бомба — депутат ГД Виктор Илюхин обнародовал свои контакты с человеком, который сообщил о порядке и методах фальсификации «Катынского дела» и других подобных «дел», которые были организованы в начале 90-х и продолжались много лет. Виктор Иванович позвонил мне и предложил принять участие в подготовке материала, суммирующего разоблачение фальсификации. Мне была прислана записка «комиссии экспертов» под руководством директора Института государства и права Российской академии наук академика Б.Н.Топорнина, составленная в 1993 году. Это был новый для меня документ, и я с особой тщательностью проследил все хитросплетения мысли придворных фальсификаторов истории. Свой разбор этой записки я отправил в Думу, и она была использована для подготовки итоговой коллективной публикации.
Борьба за историческую правду продолжается.
Кремль капитулирует перед Японией
Накануне празднования 60-летия Победы в Великой Отечественной войне мы с соратниками решили внести на рассмотрение Думы законопроект «Об установлении даты прекращения состояния войны между Советским Союзом и Японией». У непросвященного наблюдателя такой законопроект мог вызвать недоумение. В самом деле, война кончилась 60 лет назад, а мы тут занимаемся каким-то странным правотворчеством. В действительности правовой пробел, связанный с отсутствием правомочно принятого акта о дате окончания войны с Японией, оказывал серьезное влияние на российско-японские отношения, омрачая их постоянным возвращением к вопросу о «северных территориях». Пробел был очевиден в связи с тем, что подобные обстоятельства были урегулированы в отношении Германии. Причем совсем не в мае 1945 года, как многие думают. Тогда был решен вопрос о капитуляции германских войск, а срок окончания войны (определявший многие правовые вопросы) был обозначен десятилетием позднее — Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25.01.1955, утвержденным Верховным Советом СССР 9.02.1955 г.
Правовой пробел породил ряд ошибочных шагов со стороны советского государственного и партийного руководства, в частности — включение в известную совместную Декларацию от 19.10.1956 г. фраз о «прекращении состояния войны между СССР и Японией», о «восстановлении дипломатических и консульских отношений между СССР и Японией» и некоторых других, которые были, тем не менее, ничтожными в юридическом отношении с момента подписания. Ошибочной следует признать также ссылку на эту Декларацию, не ратифицированную в надлежащем порядке, предусмотренном Конституцией СССР, в некоторых дипломатических актах органов исполнительной власти РФ, которые могли быть неправильно поняты руководством современной Японии, неверно трактовались руководством РФ. Произвольные трактовки Декларации давали врагам России широкое поприще для псевдоправовых претензий в адрес нашей страны. Многими при этом наша страна выставляется как агрессор. На самом деле действия советского руководства были обусловлены договоренностями, достигнутыми на Потсдамской конференции великих держав.
Дело в том, что при заключении упомянутой совместной советско-японской Декларации со стороны руководства СССР было допущено существенное правовое нарушение, выразившееся в том, что она рассматривалась как обычный двусторонний международно-правовой акт, ратификация которого, согласно Конституции СССР, относилась к ведению Президиума Верховного Совета СССР. В действительности, содержащиеся в этой Декларации положения регулировали вопросы войны и мира, в частности вопрос прекращения состояния войны между СССР и Японией, в связи с чем такого рода вопрос мог быть решен лишь высшим государственным органом СССР — Верховным Советом СССР. Но так как Верховный Совет СССР не рассматривал данного вопроса и не принимал по нему решения, то указанная Декларация в той её части, которая относится к исключительному ведению Верховного Совета СССР, является ничтожной в юридическом отношении с момента её подписания, как и факт её ратификации со стороны Президиума Верховного Совета СССР, не имевшего таких полномочий в отношении данного вопроса.
Надлежащий законодательный акт в отношении состояния войны между СССР и японским государством издан не был. Но это не может служить основанием для того, чтобы считать непрекращеннным состояние войны между СССР и японским государством. Проблема заключается лишь в определении законодательством СССР или его государства-продолжателя, каковым является Российская Федерация, даты ее юридического прекращения. Состояние войны между государствами прекратил акт о безоговорочной капитуляции одной из сторон. Проблема в том, что до Второй мировой войны не было ни общепризнанного правового решения, ни прецедента. Поэтому вопрос был решен великими державами-победительницами в результате победоносного завершения войны в отношении Германии и Японии. Оба эти государства и их государственные институты были упразднены победившими державами, подвергнуты оккупации их вооруженными силами с установлен оккупационный режим. В дальнейшем на территории бывшей Германии державы-победительницы санкционировали создание двух немецких государства (ГДР и ФРГ), а также особого политического образования в виде Западного Берлина, а на территории бывшей Японии — японского государства. В отношении других государств, участвовавших во Второй мировой войне на стороне Германии и Японии (Италия, Болгария, Венгрия, Финляндия и т. д.), заключались не акты о безоговорочной капитуляции, а перемирие, не упразднявшее их в качестве субъектов международного права.
Акт о безоговорочной капитуляции воюющего государства, что имело место со стороны надлежащих властей Германии и Японии, прекратил практическое и юридическое существование этих государств. Поэтому прекращение состояния войны с такими государствами является прерогативой законодательства державы-победительницы, принимающей решение в одностороннем порядке. Современная японская государственность не является ни продолжателем, ни правопреемником того японского государства, в отношении которого Союзные государства вели войну (Китай с 1937, США и Британия с 1942 г.) и против которого СССР объявил войну с 9 августа 1945 г. Таково мнение многих отечественных правоведов и специалистов по международным отношениям.
Принятие предложенного нами закона призвано было навсегда снять с повестки российско-японских отношений какие-либо территориальные вопросы, обусловленные результатами Второй мировой войны. Учитывая международную и внутриполитическую важность такого акта, я решил предложить председателю Госдумы Б.Грызлову стать инициатором его принятия и направил ему личное послание не этот счет. При этом можно было бы избежать фракционной ревности и сделать серьезный политический шаг, укрепляющий правовые основы российской государственности накануне праздника Победы.
Конечно, я знал о трусости и, мягко говоря, неумности Грызлова, но надеялся, что в нем есть хотя бы зародыш честолюбия. Мой расчет оказался неверным. Грызлов не только не рассмотрел мое личное послание, но поступил неприлично. Он не ответил мне, а отправил присланные мной бумаги в Комитет по международным делам, который состряпал нелепейшее «заключение». Феноменальное невежество экспертов комитета и его многолетнего главы К.И. Косачёва мне было известно, и нелепости «заключения» меня не удивили. Все они могут приобрести статус музейных экспонатов в будущей экспозиции истории измены.
Косачёв утверждал, что ратификация Советским Союзом Совместной Декларации от 19.10.1956 г. была осуществлена в соответствии с действовавшей тогда Конституцией СССР. Однако такое мнение противоречит ее положениям.
Действительно, согласно п. «м» ст. 49 Конституции СССР 1936 г. ратификация и денонсация международных договоров была отнесена к компетенции Президиума Верховного Совета СССР, но это полномочие не распространяется на вопросы войны и мира. Их решение согласно п. «б» ст. 14 Конституции СССР отнесено к исключительному ведению Верховного Совета СССР. Именно поэтому прекращение состояния войны с Германией была решено не только Президиумом Верховного Совета СССР, издавшим указ от 25.01.1955 г., но и постановлением Верховного Совета СССР от 9.02.1955 г. В отношении войны с Японией Верховный Совет СССР соответствующего решения не принимал. Отсюда следует, что нет оснований считать ратифицированной Совместную Декларацию от 19.10.1956 г., как и надлежащим образом оформленное решение о прекращении состояния войны с Японией, объявленной Советским Союзом с 9 августа 1945 г.
Далее Косачёв утверждал, что «капитуляция не прекращает состояния войны». При этом он игнорировал тот факт, что в случае с Японией имела место не капитуляция ее вооруженных сил, но безоговорочная, без каких-либо условий капитуляция государства Японии. Такая капитуляция не только прекращает ведение военных действий, но и прекращает состояние войны, поскольку с подписанием такой капитуляции прекращает своё существование один из субъектов войны — побеждённое и капитулировавшее государство. В случае безоговорочной капитуляции государства, находившегося до этого в состоянии войны, юридическое прекращение состояния войны с таким государством не может быть оформлено государством-победителем «двусторонним актом», как это утверждал г-н Косачёв. Состояние войны в данном случае может быть прекращено лишь односторонним актом государства-победителя — СССР. А поскольку этого не было вовремя сделано, то Российской Федерацией, являющейся его продолжателем.
Косачёв также не привел ни одного аргумента, опирающегося на так называемое международное право, чтобы доказать что современные государства Германия и Япония являются продолжателями германского и японского государств. Что свидетельствовало о полном невежестве, несостоятельности руководителя Комитета, а также об изменнической позиции. Последнее особенно важно в связи с тем, что «Единая Россия» и ее хозяева защиту национальных интересов России всегда лишь имитировали, а международные акты стремились трактовать всегда в пользу иных государств.
Понимая безнадежность склонения изменников к необходимому для нашей страны решению, я счел необходимым вынести вопрос на публичное обсуждение и представил законопроект от своего имени. В качестве соавтора меня решил поддержать только А.Н.Крутов. Фракция «Родина» к тому моменту находилась уже в полуразложившемся состоянии, и не смогла вынести по законопроекту никакого решения.
Думская бюрократия долго держала его под сукном. На пленарное заседание он был вынесен лишь летом 2006 года, когда политический момент (60-летие победы над Японией) был упущен. Стенограмма свидетельствует об обстановке, в которой проходило «обсуждение».
Савельев А. Н. Уважаемые коллеги, конечно, в нынешней обстановке голосовать скорее будет желудок, чем мозг, но я предлагаю законопроект от имени двух авторов для настоящих политических гурманов, потому что этот законопроект уникален по своей сущности. Уникален не только по содержанию, но и по реакции на него как со стороны профильных комитетов, так и со стороны правительства. Это сочетание очевидности этого законопроекта, его правовой основы, и чудовищной безграмотности тех, кто готовил отзывы на него. (…) Самое главное в законопроекте, который предлагается, вовсе не его содержание. Оно совершенно очевидно. Главное — это реакция Комитета по обороне. Совершенно безграмотная. Эксперты и депутаты считают, вероятно, что авторы законопроекта никогда не читали декларацию, подписанную СССР и Японией, и поэтому своё заключение Комитета оформили в виде цитаты из этой декларации, проявив тем самым неуважение к законодательной инициативе. То есть, неуважение к основам нашего государственного устройства. Они не прочитали пояснительную записку, в которой всё ясно и понятно изложено. То же самое я бы сказал по поводу Правового управления Аппарата Государственной Думы, которое также составило заключение, как будто не читая те документы, которые предложены для голосования. И здесь ссылаются на декларацию 1956-го года как раз в противоречие тому, что предлагают авторы законопроекта — увидеть ошибку и признать, что эта декларация не действует.
Можно сказать, что и мнение Комитета по международным делам, которое здесь критикуется не первый раз и расходится с национальными интересами России, относится к такого же рода глупым и бессодержательным документам. Комитет прямо игнорирует содержание законопроекта и содержание пояснительной записки, где всё ясно настолько же, насколько, я надеюсь, это ясно тем, кто сидит здесь в зале и слушает меня. Здесь ссылаются на соответствие Конституции СССР 1936 года. То есть чёрное выдается за белое. Здесь также есть ссылка на декларацию 1956 года — все доводы те же самые. Все они представляют собой не что иное, как пересмотр итогов войны.
Отчасти глупость той декларации, которая долго портит кровь нашим дипломатам, тоже связана с этим: торопясь, проголосовали и забыли. А прошлое начинает захватывать наше будущее, и сейчас мы мучаемся с «северными территориями» из-за пресловутой декларации. У нас есть возможность сказать, что она ничтожна, и восстановить нормальные отношения с Японией, забыв обо всех конфликтах.
Но самое примечательное — это официальный отзыв правительства. У меня всё время ощущение, что в правительстве сидят два интеллектуальных калеки и пишут весь этот бред в ответ на наши законопроекты. Я сейчас зачитаю, чтобы представителям правительства было стыдно: «Мотивы авторов законопроекта не ясны». Такое впечатление, что в правительстве нет телефона, такое впечатление, что в правительстве не могут прочитать элементарные вещи, написанные на бумаге. Далее: «Практика международноправового регулирования отношений войны и мира не имеет прецедентов (!) установления даты окончания войны задним числом и в одностороннем порядке».
Передним числом устанавливается окончание войны или задним? Вы знаете хотя бы один прецедент, когда дата окончания войны установлена в день окончания войны? Общая практика, общий факт: дата окончания войны устанавливается после окончания военных действий, и ещё долгое время выясняют, когда же, наконец, военные действия были прекращены? Декларация 1956 года, на страже которой стоит правительство, пустая! Правительственная ложа так же пуста, как и головы вот у этих людей, которые писали отзыв…
Председательствующий. (О.В.Морозов) Я делаю вам замечание, депутат Савельев.
Савельев А. Н. Да, спасибо, я благодарен вам за замечание.
Председательствующий. В следующий раз, если вы будете допускать такие выражения, я отключу вам микрофон.
Савельев А. Н. Хорошо я буду очень рад.
Постоянно, везде и всюду, и в декларации 1956 года в том числе, дата окончания войны устанавливалась после её завершения. Иногда десятилетия проходят с того момента, когда война закончилась. И декларация 1956 года как раз об этом и свидетельствует: прошло больше десятилетия с момента капитуляции Японии. Я считаю, что заочное обсуждение законопроекта, который вам предложен, демонстрирует полную несостоятельность тех лиц, которые сегодня связаны с определением стратегии нашего внешнеполитического курса, полную несостоятельность экспертов, которые консультируют наших политиков, подписывающих те самые бумажки, которые я вам показал и процитировал. Остаётся только один и последний шаг в этом абсурде — продемонстрировать, что и Государственная Дума в лице оставшихся в зале депутатов столь же некомпетентна, как и люди, которые составляли те самые бумажки.
Я сочувствую господину Косачёву, который убежал и не стал здесь выступать с содокладом. Это же стыдобища! Как будто люди лишены представлений о формальной логине, лишены способности прочитать документ, прочитать Конституцию 1936 года, где всё внятно и понятно!
Я призываю вас не быть Иванами, не помнящими родства и забывающими, что для нас значил 1945 год. И призываю к тому, чтобы восстановить отношения с Японией в том формате, который нам необходим: Без всякого лукавства! Потому что не сегодня, так завтра декларация 1956 года будет признана ничтожной. Давайте же сделаем это сегодня, будем здравыми и честными людьми.
Кузнецов В Ф. заместитель председателя Комитета по международным делам, фракция «Единая Россия». Как видно из доклада, основной целью разработчиков является отказ от обязательств, взятых на себя Советским Союзом по Совместной декларации 1956 года, так как именно этим документом, являющимся, по сути, международным договором, ратифицированным парламентами обеих стран, было окончательно прекращено состояние войны между СССР и Японией. Предлагаемый сегодня шаг политически будет означать отказ от всей сложившейся после 1956 года договорной системы с Японией и иметь серьёзные последствия для всего комплекса российско-японских отношений. В соответствии со статьёй 15 Конституции России 1993 года общепризнанные принципы и нормы международного права и ратифицированные международные договоры Российской Федерации являются основной частью её правовой системы и имеют прямое действие. Действовавшие на момент подписания декларации нормы российского законодательства, в частности статья 49 Конституции 1936 года, предусматривали порядок ратификации международных договоров Президиумом Верховного Совета СССР. Однако если даже предположить, что внутреннее советское законодательство не было соблюдено в полной степени, действующие нормы международного права, в частности статья 46 Венской конвенции 1969 года о праве международных договоров, не позволяют ссылаться на его нарушение как на основание признания недействительным международного договора. Нетрудно представить политический резонанс в Японии в случае реализации такой инициативы. Нельзя исключить, что японские территориальные требования, освобождённые от условий статьи 9 декларации, приобретут совсем иную конфигурацию, что может нанести серьёзный ущерб интересам нашей страны.
Что такое «по сути международный договор»? Какие иные последствия для России имеет Декларация кроме того, что японские политики используют ее против нашей страны? Как можно увидеть негативные последствия в случае отмены Декларации, если она тут же заменяется законными решением? Представитель комитета лукавил. Ссылка на Венскую конвенцию была явно неуместна, поскольку речь касалась не международного договора, а лишь декларации. Кроме того, она юридически не вступила в силу и не может иметь никаких последствий. О чем и следовало заявить. Но наши изменники не таковы. Они стремились быть любезно принятыми на банкетах и конференциях, которые для них устраивали враги России. Именно это было единственным действительным мотивом поведения Косачева и прочих соучастников измены.
Ну и штатные невежды поддержали общий стиль рассмотрения законопроекта.
Воронин П. Ю., фракция «Единая Россия». Прослушав выступление автора законопроекта, я ряд неточностей обнаружил и не могу не выступить. Во-первых, есть прецеденты подписания договора об окончании войны до её окончания. Великая Отечественная война — капитуляция была под-писана 8 мая в 11 часов вечера (в Москве это было 9-е), а бои шли, например Прагу взяли 15 мая. То есть формально дата окончания — 8-е, а 15-го ещё шли бои. То, что касается Японии. Вот я был в феврале в Японии, группа молодых парламентариев у нас была, а потом мы к ним поехали. И вот я вам скажу, что они не признают эту декларацию 56-го года не потому, что она не ратифицирована, а потому, что они не хотят её признавать.
(…) Что касается того, что у вас все дураки вокруг, в комитете — дураки, в правительстве — дураки, в ГПУ — тоже, все неучи, бестолковые, идиоты, знаете, есть хорошая пословица: когда два человека говорят, что ты свинья, то надо хрюкать. Я считаю, что ваши аргументы абсолютно неуместны и то, что вы предлагаете, — это какой-то юридический бред, абсолютно ненужный ни России, ни Японии. Я считаю, что у нас есть МИД, в котором грамотный руководитель, и то, что с советских времён, с 50-х годов этот гордиев узел не удаётся разрубить, на это есть, наверное, объективные причины, и прежде всего нежелание японцев, чтобы эта проблема была урегулирована.*
(…) И я думаю, что, если бы проблема была так просто решаема, за шестьдесят лет уже давно бы ратифицировал Верховный Совет СССР или Дума первого, второго, третьего и других созывов. Поэтому абсолютно не вижу смысла его принимать.
Савельев А. Н. К сведению депутата Воронина повторю: прекращение Великой Отечественной войны было объявлено Указом Президиума Верховного Совета СССР 25 января 1955 года и утверждено Верховным Советом СССР 9 февраля 1955 года, таким образом, всё это произошло вовсе не до завершения войны.
Я ругательств в своём выступлении не употреблял, их употребил депутат Воронин, и это на его совести. Характеристику «бред», адресованную мне, я возвращаю ему. Могу точно так же осуждать его собственное высказывание. (…)
Я думаю, когда-нибудь депутатский корпус сменится и будет слушать голос разума, будет защищать национальные интересы России более последовательно и более успешно, чем сейчас.
Закон было поддерживать некому. Прокремлевские силы были проинструктированы, а вымотанные бестолковщиной оппозиционеры досрочно ушли обедать. За законопроект было подано лишь 11 голосов.
Нет сомнений, что думские негодяи действовали по указке негодяев, засевших в МИД. Для последних вечно висящий в воздухе вопрос являлся своего рода средством кормления: на поддержание «диалога» по вопросу о «северных территориях» можно было бесконечно тратить бюджетные средства и делать веские заявления. Так, в конце 2004 года министр иностранных дел Лавров, касаясь русско-японских отношений, сказал, что Россия, являясь продолжателем СССР, признает советско-японскую Декларацию 1956 года; что для решения территориального вопроса с Японией может быть использован тот же подход, что и с Китаем (то есть, кремляне готовы уступить территорию); что в Москве хотели бы урегулировать отношения с Японией в полной мере, и для этого важно подписать мирный договор, которым. Россия признает, что территориальная проблема должна быть урегулирована. («Российская газета», 15.11.2004).
Собственно, такого рода высказывания и привели нас к необходимости внесения законопроекта. Ведь территориальные уступки со стороны режима Путина планировались, и уступка российских островов Японии была вполне реальной. Лишь усилия многих людей удержали Путина от очередного предательства. Надеюсь, что и наша инициатива была одним из сдерживающих моментов. Если бы не подобные усилия, Путин распродавал бы направо и налево наши национальные интересы и наши территории.
Настроения в российском обществе не позволили Путину отдать Курилы. Негативную оценку такому шагу во всех опросах давали 80–90 % граждан. Жесткий протест по этому поводу со стороны жителей нашего Дальнего Востока, прежде всего Сахалинской области, частью которых являются Курильские острова, пугали кремлевских изменников. Но они снова и снова будут подступаться к проблеме Курил, пока общество не капитулирует. Либо, пока русские патриоты не сметут режим изменников.
Русская правда о Великой Победе
Празднование 9 мая каждый раз ставит перед русскими вопрос: как совместить официальное прославление Победы, по праву принадлежащей русскому народу, с тем, что власть позволяет русофобам клеветать на нашу историю и заполнять СМИ фальшивыми хрониками и бесстыдным перевиранием правды в разного рода сериалах и кинофильмах?
Очевидное нежелание власти видеть в Победе ее истинный смысл порождает такие уродливые явления, как отказ некоторых русских людей считать Победу своей, считать ее праздником. Аргументом служит продолжение нынешней властью русофобии, которая имела место в условиях коммунистического режима. Неприятие коммунизма выливается в неприятие Победы, неприятие нынешней власти — даже в отрицании России как родины русского народа. Моральный тупик этой позиции состоит в противопоставлении государства и народа. Под государством пытаются понимать только систему институтов власти. Но это чудовищное заблуждение, которого не допускает даже не очень грамотно составленная Конституция, где сказано, что Россия — это государство.
Россия — русское Отечество, Родина. Она не может замещаться в нашем сознании властью. Власть может быть чужой, а Россия для русского человека — всегда своя. Власть в нынешней России несет в себе порок русофобии. Но Россия — русское государство, в котором русский народ только и может существовать. Отрицание русофобской власти состоит не в том, чтобы отречься от России, а в том, чтобы заменить в России власть и принудить чиновничество к следованию русским национальным интересам.
Противоречием официозных торжеств смыслу Победы является стремление власти продлить в сознание народа пораженческую установку: «лишь бы не было войны». Такая установка дает возможность торговать национальными интересами, обращая их в частный доход. Победа говорит нам о противоположном: «мы за ценой не постоим». Это завещание героического поколения наших предков, отдававших жизни за Победу.
Пацифизм не совместим с Победой. Это значит, что России требуется прямо противоположенное тому, что насаждает власть. Нам нужен прагматично осмысленный милитаризм, позитивный реваншизм и наполненный смыслом патриотизм.
Осознанный патриотизм и есть национализм. «В хорошем смысле слова», — как сказал В.Путин, определив себя и будущего президента Д.Медведева как русских националистов. Национальные интересы превыше всех прочих — в этом содержание национализма. При этом Россия как русская страна (во всех смыслах) не может лишать свой национализм русского духа, русского образа, русской традиции. Политический национализм в России может быть только русским. Этому учит нас и Победа. У Великой Победы русское лицо. Только так и можно понять, что такое «национализм в хорошем смысле».
Правда о войне — это русская правда, правда о русском народе. Как бы ни врали наши враги о том, что мы «завалили трупами» великолепную армию Германии, факты истории говорят о том, что русские воевали не хуже противника, находясь в крайне сложном положении. Мы воевали со всей Европой, которая теперь пытается приобщиться к Великой Победе, имея к ней самое незначительное, ничтожное отношение. При этом тщательно скрывая свою прямую причастность к тому, что гитлеровская Германия приобрела все европейские ресурсы и была направлена против нашей страны. Никто не смог противостоять немцам так, как смогли русские. Русские остановили чуму, рожденную только и исключительно в Европе. Русские вылечили Европу от фашизма.
Победа обеспечена главным образом русским подвигом и русскими жертвами. Они многократно перекрывают выдуманные сюжеты так называемого Холокоста, который превращен узким слоем еврейской общественности в постоянное средство фальсификации истории и частный гешефт. Русские жертвы реальны и достоверны. Жертвы других европейских народов также значительны. Но они значительны только тем, что каждый из народов вложил в Победу. Чудовищным извращением истории и поруганием Победы является непропорциональное внимание СМИ к жертвам других народов и принижение русской трагедии, которая несопоставимо значительнее трагедии любого другого народа, затронутого этой войной, и всех этих народов вместе взятых.
Правда о войне заключается в том, что в ней была одержана победа не над идеологией фашизма, как пытаются представить фальсификаторы истории. Победа была над Германией — над военной и государственной машиной. Доктрина фашизма была столь же далека от реальной практики нацистской Германии, как и коммунистические мифы от практики компартии в СССР. Эта доктрина до сих пор не стала предметом научного анализа и объектом идеологической борьбы. Потому что в противовес идеологии может быть выставлена только идеология. Коммунистическая и либеральная доктрины не способны противостоять фашизму, а потому предпочитают уклоняться от полемики С фашистской доктриной и воюют не против идеологии, а против людей, которым произвольно приписывают взгляды, определяемые как «русский фашизм». Мнимые антифашисты борются с русскими людьми, которые противопоставили фашизму самый решительный аргумент — Победу. Это не антифашизм, а русофобия.
Война сочетает трагедию и триумф, содержит в себе горечь и стыд поражений и славу побед, низость предательств и мужество героев. Без войны нет трагедии жерты, горечи утрат, позора измен, но нет и всего остального — нет победы. Войны неизбежны, и не в наших силах устроить мир без войн. Значит, мы должны быть готовы к войне и искать в войнах, если уж они нагрянут, триумф и славу. Потому что, как сказано Геродотом, «война — отец всего».
От войны образованы самые величественные сюжеты русской истории, священные символы нашей связи с великими предками. Прославление героев войны должно быть выше и значительнее, чем оплакивание жертв. К сожалению, въевшийся в наше общество пацифизм диктует прямо противоположное. Убивая тем самым жизнеспособность граждан и нации в целом, которые неизбежно будут участвовать в новых войнах. И уже участвуют в них, позволяя проникать в размягченное пропагандой сознание русофобским мифам и антигосударственным идеям.
Правда о современной России состоит в том, что чуждые русскому народу идеологические доктрины, утвердившиеся во власти и СМИ, могут только выхолащивать смысл, содержание и значение Великой Победы. Фактически происходит постепенная сдача позиций и уступка тем, кто стремится пересмотреть итоги войны. Это происходит также и потому, что мощь российской державы ослаблена настолько, что отстоять исторические завоевания предков она не в силах.
Наследие Победы не в том, чтобы показать по телевидению хронику и провести увеселительные мероприятия. Победа — это призыв к зрелой гражданской позиции, к иному качеству общественной жизни, которое сегодня не может и помыслить, что способно отразить грядущие нашествия на нашу землю. Прежде всего — идеологические, подрывающие основы нашей общности, нашу нацию. Победа и память о ней требуют пробуждения солидарности с предками, а значит — народного единства, которое делает наш народ непобедимым. Единства, прежде всего, русского.
Власть многие годы систематически разрушает это единство. Поэтому верить в трибунные речи в День Победы — верх глупости. Этот день — повод для размышлений, для достижения понимания своей собственной роли в продолжении русской истории.
Русское мировоззрение победно только в своей первозданной чистоте — без налета всякой интеллигентской чуши, в какие бы одежды она ни рядилась. Русская история дает нам образцы героизма, мужества, верности. Поиск иных героев и скрытых смыслов нелеп и вреден. Выдумывание «правды о войне» превращается в ложь о войне — в осквернение Победы выпячиванием какой-нибудь гнусной частности. Стыдно, когда этим занимаются писатели-фронтовики, в постсоветские времена вдруг обнаружившие в себе позыв к русофобии и страсть к «общечеловеческим ценностям». Многие из тех, кто был прославлен в прежнюю эпоху как носитель правды о войне, стали теперь лгать, подлаживаясь под запросы Запада или обесстыдевшей публики, сладострастно ненавидящей Россию.
Победа напоминает нам, что надо учиться побеждать, уметь побеждать, хотеть побеждать. А потому — не чураться войны и в определенных условиях даже хотеть войны и любить воевать, любить все, что связано с войной — быть милитаристом, милитаризированным обществом. Мужчина должен быть воином, чем бы он ни занимался. Женщина — матерью, сестрой, женой воина, опорой его воинского духа и стремления к Победе.
Наша Победа будет оболгана и опошлена, если мы не будем ее достойны. Если мы не начнем вновь побеждать, если не будем биться героически даже в самой безнадежной ситуации. А ситуация действительна близка к безнадежной. Власть говорит нам обратное, но большинство, раскинув даже не очень богатыми мозгами, знает, что это ложь. Уже много десятилетий Россия нигде всерьез не побеждала. Напротив, мы идем через череду поражений во всех сферах жизни. Без побед страна и народ умирают. Это трудно не замечать по современному состоянию России.
Победа — это призыв к мобилизации. Как и во время войны, когда катастрофа была очевидной, когда ее завершение полным разгромом было логичным, русские люди в большинстве своем сражались до конца. И поэтому логика истории приобрела другое направление. Те, кто сражались до конца, не щадя жизни, получили бесценную Победу. От нас же никто не требует немедленно отдать свою жизнь, но мы уже уверились, что ничего сделать нельзя, что демографический кризис, истощение природных ресурсов, многочисленность и экономическая мощь наших противников скоро сотрут нашу Родину с лица земли. Еще постыднее показной оптимизм: сила России неисчерпаема, поэтому всё как-нибудь само собой устроится. За этой улыбчивой глупостью угадывается надежда спасись лишь самому, не тратя сил на спасение страны.
Великая Победа — это наша, русская победа. Она вручена нам нашими предками как дар. Нынешняя власть ее недостойна. Она ничем эту Победу не подкрепила. Напротив, она сделала немало, чтобы Победа стала пустозвонным ритуалом лояльности к высшему чиновничеству. Но третьего не дано — либо солидарность с нашими предками и Победой, либо лояльность н власти, которая во многом противоположна и даже враждебна Победе.
Русские должны сказать себе: «Это наша Победа. Никому ее не уступим. Никакой власти в распоряжение не отдадим». Это наш праздник, это наша память о триумфе, которую мы храним, чтобы прийти к новым победам.
Забытая слава Отечества
Закон «О днях воинской славы и памятных датах России» был создан из благих намерений — зафиксировать наиболее существенные события отечественной истории, дабы местные власти не изобретали нечто от себя, а руководствовались утвержденным парламентом списком. Но парламент, составленный из невежд, мог разве что пересказать школьный учебник советского периода. В Думе не оказалось даже элементарной сообразительности, чтобы обратиться к историкам и взвесить их аргументы.
Когда мы — депутат с помощниками-соратниками — обнаружили, что закон состоит сплошь из нелепиц, то попытались создать концептуальный документ, разослав письма в научные учреждения. Переписка была достаточно длительной. Большую помощь в подготовке законопроекта нам оказал кандидат исторических наук, сотрудник Института российской истории РАН Е.В. Пчёлов. Полностью равнодушным к проекту осталось Министерство обороны в лице тогдашнего министра С.Б.Иванова.
Научная истина заметно отличалась от обывательских суждений, перенесенных депутатами-единоросами из своих голов в законы. Идеологическими догмами прежних и нынешних лет слава нашего Отечества была не раз осквернена. Мы поставили себе задачу создать достойную концепцию русской истории, выраженной в самом кратком поминальном списке.
Конечно же, нас волновали не просто памятные даты, которые могли устанавливаться конъюнктурно. Нас интересовали именно дни воинской славы. Слава Отечества — вот что было предметом нашего труда над законопроектом. В течение нескольких месяцев мы создали такой документ, не упустив ничего, не добавив ничего лишнего и тщательно продумав терминологию.
В проекте закона мы исключили из дней воинской славы события 23 февраля 1918 года, 7 ноября 1941 года и 4 ноября, перенеся их в раздел «памятные даты» России. В эти дни в нашей истории не случилось никакой воинской славы. Но образовалась традиция что-то праздновать.
Военные события, происходившие 23 февраля 1918 года в районе Пскова, не завершились, согласно данным исторической науки, поражением или разгромом войск противника. Напротив, 24 февраля 1918 года германские части прорвались к железнодорожной станции города и 28 февраля захватили Псков. Тем не менее, праздник 23 февраля стал традицией, Днем защитника Отечества. Поскольку он не отмечен никакой воинской славой, ему надлежало быть в другом разделе закона.
То же касалось и дня 4 ноября, который в действующей редакции закона вообще не был отмечен указанием на конкретное событие. Таковых событий, в общем-то, и не было. Дата праздника была введена лишь для того, чтобы снять из перечня первоочередных праздничных дат 7 ноября. День большевистского переворота стал обычным праздником, а на православный праздник Казанской Иконы Божьей Матери назначили праздник с выходным днем, связав его с избавлением Москвы от польских оккупантов в 1613 году. В действительности, никаких существенных событий в этот день в русской истории не было. Но как некая памятная дата он мог быть оставлен — условная дата освобождения, восстановления суверенитета. Народу нравятся выходные дни, а депутаты ведь радеют за народ! Самые рьяные из них готовы сделать семь дней в неделю выходными и сопроводить их поводами для всероссийской пьянки (с чего, собственно, усилиями «Единой России» теперь начинается каждый новый год). Мы не рискнули предлагать единороссам убрать лишний выходной.
Днем 7 ноября в списке воинской славы был обозначен парад на Красной площади в Москве в 1941 году. Парад был в честь годовщины Октябрьской революции 1917 года. Поэтому либерал-бюрократия пошла на уловку: кто-то будет отмечать годовщину парада, кто-то — годовщину революции. На самом деле эта дата делила народ на тех, кто видел начало всей нашей истории в 1917, и тех, кто с этой датой связывал величайшую трагедию России. Как день памяти ее можно было бы оставить. Мы оставили.
Законопроектом предусматривалось дополнить перечень дней воинской славы России 18 событиями, которые ознаменованы победами русского оружия, отмечены героизмом, стойкостью, храбростью и мужеством русских воинов, высокой боевой выучкой войск, мастерством, талантливостью и искусством полководцев.
Много это или мало — 31 день воинской славы? Для истории России, насыщенной вооруженным противостоянием врагам Отечества, это не так уж много. И это лучше, чем отмечать бессодержательные «дни» — пограничника, десантника, артиллерии, авиации, РВСН и др. Это глупое изобретение советского периода выродилось, превратившись в вереницу пьяных оргий и пустопорожнего пафоса. Вот это все стоило бы отменить.
Действующий закон опустил целые эпохи. Целая мировая война пропала: не было у нас, оказывается, никаких побед в Первую мировую войну! Впервые в истории фронт пролёг от моря до моря, а побед не было! Но даже школьник, напрягшись, мог вспомнить хотя бы Брусиловский прорыв. История русского флота — блестящая история! В действующем законе с ошибками были указаны три даты, одна малосущественная. Малосущественную мы предложили убрать, а дополнить закон известными датами славных морских операций — штурм с моря крепости Корфу и Чесменская битва.
Мы дополнили закон 3 сентября как «день победы над Японией», которым в 1945 году завершилась Вторая мировая война. В ходе войны с Японией, продолжавшейся с 9 августа по 2 сентября 1945 года, войска Красной Армии разгромили и принудили капитулировать самую сильную группировку японских войск — Квантунскую. Освободив при этом Маньчжурию, Северо-Восточный Китай, северную часть Кореи, южную часть Сахалина и Курильские острова. Что лишило Японию реальных сил и возможностей продолжать войну. Тогда же Президиум Верховного Совета СССР установил 3 сентября Днем победы над Японией. И это было выдающееся событие военной истории.
В датах воинской славы по действующему закону оказывается, что против немецко-фашистских войск у нас действовала Советская Армия. Это неправда, действовала Красная Армия. Переименование произошло только в 1946 году. Надо было исправлять нелепицу. В действующих датах местами указывались фамилии полководцев, которые обеспечили русские триумфы, а в других не указывались. Почему-то забвению подлежали полководцы Великой Отечественной войны. Надо было исправлять это безобразие.
Противник, которому были нанесены поражения, в действующем законе местами указывался, местами — нет. Из закона неясно, кто осаждал Ленинград. Если мы указываем, что немецкие войска были под Сталинградом, то почему не указать, что были румынские, венгерские, итальянские войска? Мы уточняли государственную принадлежность, название армий и войск противника, одновременно устраняя терминологию, наличие которой объясняется идеологическими факторами. Описание исторических событий мы считали необходимым изложить в единообразных грамматических конструкциях. Везде, где речь идет о днях воинской славы, указывали имя командующего или командующих войсками. При этом в событиях Первой мировой войны и Великой Отечественной войны указывали имена командующих фронтами и флотами, которые принимали участие в соответствующих операциях, битвах и сражениях.
Новой памятной датой (памятной, но не славной в военном отношении) мы предложили установить 20 ноября как дня суверенитета (самодержавия) России. Эта дата связана с событиями, известными в русской истории как «стояние на реке Угре», в результате которых русские войска, руководимые Великим князем Иваном III, стойко и упорно противостояли натиску татаро-монгольских войск (крупных сражений в этот период не происходило), что обеспечило политическую независимость Русского государства после 240-летнего вассального подчинения Золотой орде.
Работая над законом, мы обнаружили грубейшие ошибки в установлении дат воинской славы. Это связано с изменением летоисчисления при переходе от прежнего Юлианского на ныне применяемый Григорианский календарь. Есть соответствующие методические указания для осуществления пересчёта. Действующий закон демонстрировал крайнее пренебрежение к этому обстоятельству: семь дат в действующем законе не соответствовало исторической правде — на день, на два, на три дня. Добропорядочные историки при пересчете дат пользовались общей методикой, но при разработке исходного законопроекта историческому знанию не удалось проникнуть в стены парламента. Впрочем, как и на этот раз.
Вот какой перечень дат у нас получился.

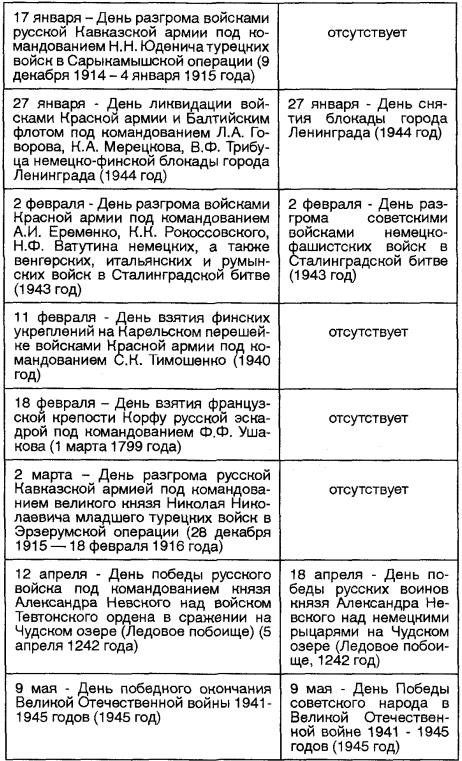




Перечень памятных дат России

Сравним охват русской истории в действующем законе и нашем законопроекте:

Три века парламентская бюрократия просто пропустила!
При правильном подходе к делу мы рассчитывали вовсе не на беспрерывные фейерверки. Памятные даты — не выходные и не повод, чтобы пить во славу русского оружия. Повод совершенно другой. Повод был в формировании здравой государственной политики. После этого законопроекта должны были бы последовать другие, связанные с формированием политики в области культуры, образования, финансирования исторической науки, монументальной пропаганды и т. д. Ничего из этого не вышло…
Наш законопроект, выверенный до последней запятой, был направлен на рассмотрение в Совет Думы, как того требовал думский Регламент. Но из Совета он попал на рассмотрение в Комитет по обороне. При чем тут оборона? Может быть, там собрались выдающиеся историки? Нет, просто в думской канцелярии наш проект проходил «по военному ведомству». А там истории не читали. Зачем либеральным генералам история? Эти генералы не имеют по службе ни одной победы. Им не тревожить начальства было важнее, чем отстаивать научную истину и защищать от забвения славу Отечества.
Комитет по обороне безумно долго держал проект у себя. И вернул мне его без рассмотрения. Потому что «отсутствует заключение правительства». При этом решение, вынесенное Советом Думы по представлению Комитета (Совет, ничего не изучая, лишь согласился с «мнением Комитета»), мне было сообщено не сразу, а спустя три недели. Как автор законопроекта и в соответствии со статусом депутата я должен был быть приглашен на рассмотрение законопроекта и в Комитет, и в Совет. Но меня не приглашали.
Я обнаружил в таком подходе к законопроекту грубое нарушение статуса депутата и Регламента Думы, который предусматривал перечень материалов, обязательных для представления законодательной инициативы, и не требовал ничего сверх части 3 статьи 104 Конституции РФ, где указано заключения Правительства РФ лишь при внесении законопроектов, в которых содержится «введение или отмена налогов, освобождение от их уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых обязательств государства, предусматривающих расходы, покрываемые за счёт федерального бюджета». В нашем законопроекте ничего подобного не было, и лишь содержалось отсылочное положение, что «финансовое обеспечение проведения дней воинской славы России и мероприятий, посвящённых памятным датам России, осуществляется за счёт средств федерального бюджета». Кроме того, действующий закон никогда не рассматривался правительством как затратный для бюджета, и при его принятии не предполагалось никаких финансово-экономических обоснований. Почему же изменения могли требовать чего-то подобного? Только потому, что я имел дело с дураками и жуликами.
Никакого отзыва правительства не требовалось! Но подлая думская бюрократия целенаправленно срывала рассмотрение всех неугодных ей законопроектов. Данный законопроект был неугоден тем, что восстанавливал связь современности с русской историей. Именно русской. Потому что никакой другой истории у России не было. Я направил письмо председателю Думы Б.Грызлову и председателю Комитета по обороне В.Заварзину с требованием устранить нарушение Конституции и отменить принятые решения Комитета и Совета по поводу моего законопроекта.
Это был март 2006 года. Ситуация в Думе четвертого созыва окончательно протухла. По этой причине я получил от генерала Заварзина фантастический по идиотизму ответ. (И это было уже конец мая). Генерал заверил меня, что повторное принятие моего проекта к рассмотрению не предусмотрено Регламентом и прецедентов подобной процедуры не было. Тем самым утверждалось, что нарушение Конституции, чтобы быть исправленным, требует прецедентов! Ни одного аргумента в обоснование своей позиции либерал-генерал не приводил. Зато объявил, что требование статьи 104 Конституции в части обязательности представления Правительства «должно быть безусловно выполнено». Почему? Вот аргумент, который позволяет говорить о фантастическом идиотизме:
Сообщаю также, что полученный Вами ответ Минфина России об отсутствии методики расчета потребности финансирования расходов на исполнение Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» не отменяет требования части третьей статьи 104 Конституции России о необходимости получения заключения Правительства Российской Федерации на законопроекты о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых обязательств государства, другие законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за счет федерального бюджета. Он свидетельствует о необходимости совершенствования бюджетного процесса и повышения требований к представляемым Правительством Российской Федерации материалам по проектам федеральных законов о федеральных бюджетах на очередной финансовый год, обосновывающим предлагаемое распределение расходов по направлениям и объемам финансирования.
В Думе мне стало очень отчетливо понятно, почему российская армия рассыпается, а у генералов такие довольные рожи.
Нам все-таки удалось дожать думскую бюрократию. Сколько на это потребовалось? Год! Что из этого вышло? Пакость. Вконец разложившаяся Дума и правительство изменников устроили законопроекту обструкцию.
Как сработала бюрократическая машина? Всей нашей работе было противопоставлено некое «мнение»: в правительстве есть мнение из трёх коротеньких абзацев — заключение правительства. Потом это «мнение» перекочёвывает в Комитет — в комитете есть «мнение» ещё из нескольких абзацев. Никаких аргументов против законопроекта не высказывается, но «мнение» перекочёвывает во фракцию большинства, и эта фракция решает не тревожить себя, не просыпаться. Раз правительство «против», то не важно, почему. И обсуждать с этой дремлющей подлостью было, собственно, нечего. Разве что, выйти на трибуну и исполнить свой долг: сказать негодяям и изменникам все, что думаешь о них. Конечно, в рамках «парламентской этики». Ведь даже если с трибуны сказать: «вы тут все — сволочи», ничего не изменится. Разве что слова лишат. Героизма в хамстве нет.
Мнение правительства за подписью вице-премьера А.Жукова можно считать явкой с повинной. В правительственном заключении говорилось, что законопроект «может вызвать неоднозначные оценки со стороны государств, находившихся в конфликтных отношениях с Россией на различных исторических этапах». И кому тогда служит наше правительство? Выходит, что другим странам, которые на каких-то исторических этапах имели с нами конфликтные отношения. Измена, и тут измена! Об этом я прямо и сказал с думской трибуны. Но чинушам чем ни плесни в глаза — все Божья роса.
Мнение комитета состояло в том, что я пытаюсь превратить законопроект в справочник: мол, слишком много у нас, оказывается, памятных дат, связанных с военными событиями. Но ведь у нас история большая — около семисот сражений!. А здесь всего три десятка — самая что ни на есть квинтэссенция! Плевать они хотели на русскую историю…
Мне в вину было поставлено, что я не понял сути действующего закона, который, якобы представляет собой историко-просветительский проект и предназначен для военно-патриотической работы! Только дубинноголовый генерал мог выдумать такую формулировку. Вдоль единственной извилины в его мозгу могла двигаться только «параграфом предусмотренная мысль».
От имени Комитета единоросс В.Овсянников, кривляясь и ерничая, сказал с думской трибуны:
Предлагаемый депутатом Савельевым подход приведёт к девальвации в общественном сознании значимости уже установленных в настоящее время дней воинской славы и памятных дат России, а следовательно, и самого закона в целом, а также и понимания очерёдности следующих одно за другим событий, то есть мы общество запутаем и, в общем-то, мало кто будет помнить и знать, какая же следующая, очередная дата воинской славы нас ожидает по календарю. Сходные последствия известны нам из области финансов: чем больше дензнаков, тем ниже их покупательная способность. Развивая предложения депутата Савельева до логического конца, нам следовало бы, наверное, просто придать статус федерального закона учебнику истории Российской Федерации и России в целом и более не утруждать себя вопросами установления дней воинской славы и памятных дат России. Что касается вопросов изменения датировки дней воинской славы России и предложения о внесении различного рода уточнений в редакцию наименования ряда дней воинской славы России, Комитет по обороне полагает, что эти вопросы носят не правовой, а в значительной мере узкопрофессиональный характер. Эти вопросы должны решаться специалистами в области истории и иных областей знаний. То есть не всё может быть так, как написано в истории, поэтому не раз и не два мы перечитывали историю обратно, сверху вниз, и сбоку, так сказать, и снизу.
В обсуждении выступил депутат Воронин — штатный единороссовский абсурд-ман. Он вообще не помнил, о чем ему только что сообщили с трибуны. И предложил сначала создать учебник для детей, а потом уж заниматься законопроектом. Пусть, мол, дети изучают историю! А потом, когда детям все станет ясно, историю начнут изучать «единороссы». Также депутат откровенно высказался по поводу конъюнктурное™ любых оценок истории.
К единороссовской обструкции прибавилась и коммунистическая. Депутат В.Тюлькин от имени фракции КПРФ объявил, что его коллеги не будут участвовать в голосовании, потому что считают, что все даты в законе в целом есть «переписывание истории», а 7 ноября и 23 февраля в его речи были представлены как нечто священное. Военный парад он назвал «продуманной и взвешенной, и с расчётом на произведённый эффект и идеологическое давление» операцией. А 23 февраля отметил замечательным воззванием Совета народных комиссаров, после которого начались массовые митинги и запись в красное ополчение. Вероятно, для коммунистов именно это и есть «воинская слава» — парад и организация записи в ополчение.
Я предлагал избавить закон от абсурда, выйти из абсурдного отношения к родной истории как к грязной тряпке, предназначенной, чтобы подтирать за политиками. Но думское большинство было глухо. Оно пребывало в летаргическом «путинском консенсусе». Законопроект был провален. За него проголосовало 27 человек.
Слава Богу, военные триумфы устанавливаются точно и не имеют никакого отношения к политической конъюнктуре, к тому, кто у власти находится — коммунисты или антикоммунисты. Эти даты установлены историками. И когда мы избавимся от либерал-бюрократов и коммуно-бюрократов в системе власти, то достоверно определенные даты не надо будет пересматривать.
Память, перемешанная с дерьмом
Человек с собакой может проявлять черты психоза, если заподозрит, что к его питомцу кто-то относится с недостаточным почтением. При этом агрессивный пес всегда «не кусается», а потому может ходить без намордника и поводка. Все московские парки заполнены свободно гуляющими псами под охраной своих хозяев.
Столичные жители загадили город собачьими экскрементами, запугали своими четвероногими друзьями малолетних детей и даже взрослых. Все это полбеды. Когда собак выводят на русские могилы — вот подлость!
Летом 2004 года московские власти выделили средства для приведения в порядок парка вокруг кинотеатра «Ленинград» (ул. Новопесчаная) и превращения его в мемориальный парк памяти русских солдат, погибших и умерших от ран в Первую мировую войну (в свое время парк был разбит на территории кладбища, где имелись соответствующие захоронения). К сожалению, жители окрестных домов не восприняли изменение статуса парка и продолжали выгуливать собак, несмотря на размещенные при входах в парк запретительные знаки. Попытка убрать собак из Мемориального парка вылилась в длинное дело с достаточно скромным результатом. Собственно, главный результат — свидетельство о моральном облике власти.
Поначалу дело казалось мне пустяковым. Действительно, указание на факт осквернения Мемориального комплекса собачьими экскрементами, должно было подвигнуть местную администрацию к немедленному действию, а милицию — к обеспечению порядка. Не тут-то было!
Я обратился к главе управы района «Сокол» Ф.М.Измайлову. Написал о том, что парк используется проживающими в близлежащих домах гражданами не по назначению: несмотря на запретительные объявления, каждое утро и каждый вечер местные жители выгуливают в парке своих собак, а устные замечания скорее вызывают склоки, чем призывают владельцев собак к порядку. Я предложил запланировать совместные с милицией акции с наложением на осквернителей соответствующих штрафов, а также временно сократить количество входов на территорию парка, чтобы не превращать его в проходной двор. А также проинформировать жителей близлежащих домом местными средствами информации о том, на каких правовых основаниях осуществляется запрет выгула собак в парке, и каковы меры ответственности за нарушение этого запрета.
Ответа я ждал долго. Через два месяца я повторил свой запрос и потребовал объяснить, почему в районе «Сокол» нарушается законодательство о сроках направления ответов? И это обращение осталось без ответа. Меж тем осквернение Мемориала продолжалось. Настало время обращаться в прокуратуру Москвы.
Еще до ответа из прокуратуры до меня добралось письмо с пометкой «повторно». Это была уловка. В Думе, как показывает практика, письма не теряли. К почте претензий не было ни разу. Мне сообщалось, что у всех входов в данный парк установлены специальные предупреждающие таблички: «Выгул собак запрещен». Это была ложь. Также говорилось, что дано поручение сотрудникам ОВД «Сокол» и частному охранному предприятию «Защита» о проведении регулярного патрулирования, в целях недопущения актов вандализма и иных нарушений общественного порядка. Это также была ложь. Ответ не содержал реакции на мои предложения или безбожно их перевирал. Об этом я поторопился известить городскую прокуратуру, чтобы она не ограничилась санкциями за нарушения правил работы с депутатскими письмами, а обратилась к сути дела. Тем более, что весь парк был по-прежнему «исписан» собачьими отметинами, что особенно хорошо видно в зимнее время. Я попросил принять меры против осквернителей и Управы, которая своим бездействием способствует правонарушениям со стороны владельцев собак, навещающих парк с неблаговидными целями.
И что я получил от прокурора Москвы А.И.Зуева, который проинформировал меня о результатах «проверки»? Опять ложь: «Установлено, что в целях предотвращения осквернения парка у входов установлены специальные запрещающие выгул собак знаки. Сотрудники ОВД района Сокол и ЧОП «Защита» регулярно патрулируют территорию парка. Заявлений от граждан по фактам нарушения общественного порядка на указанной территории с 01.01.2004 в ОВД не поступало».
Моего обращения, оказывается, недостаточно, чтобы провести проверку состояния дел! Между тем, в зимний период такая проверка могла быть проведена в любой момент — загаженность парка собаками (причем вовсе не бездомными!) очевидна. Их «деятельность» на снегу отчетливо видна. Их владельцы находятся в парке всегда, а в утренний и вечерний период — в массовом количестве.
Прокурор просто переписал поступившую ему бюрократическую отписку. Никакой проверки он не проводил и соответствующих распоряжений не давал. Что касается сроков ответа, то прокурор предпочел поверить фальсификаторам документов, а не депутату. Мол, мне уже даны разъяснения самой Управой. Управу лишь пожурили за несоблюдение сроков ответов и предложили ей провести мероприятия по отлову безнадзорных животных в парке.
Поскольку положение в парке не изменилось, а меня пытались обмануть, я обратился в вышестоящую инстанцию — к Генеральному прокурору В.В. Устинову. Я обрисовал ситуацию и сообщил, что никакого патрулирования в парке не ведется. По крайней мере, оно столь редко в сравнении с появлением в парке собак, что патруль обнаружить не удается никогда, а собаки в любой момент оказываются перед глазами. Нельзя пройти парк и не увидеть в нем хотя бы одного собаковода со своим другом (практически всегда без поводка и без намордника). Также я прокомментировал довод Московской прокуратуры на мое предложение закрыть часть входов в парк — для лучшего контроля его территории. На это прокурор города мне возражал, что, мол, это «приведет к ограничению прав граждан на свободное посещение парка как места общего пользования». Как известно «местами общего пользования» на канцелярском языке называют отхожие места. Выходит, что владельцы собак должны быть свободны в том, чтобы превращать парк именно в отхожее место.
Надежд на рассмотрение вопроса по существу у меня почти не было. В расчете на здоровую реакцию добропорядочных граждан, я описал ситуацию с Парком в передаче православной радиостанции «Радонеж». Никакой реакции на эту передачу не было. Разумеется, ведь ее слушают люди приличные. И их очень мало. А неприличные смотрят всякую похабщину на государственном ТВ. И таких — подавляющее большинство.
Пришедший от городского прокурора ответ снова был совершенно бесстыдным — в нем снова заявлялись разного рода темы, которых я не поднимал. Сообщалось, что Управой принимаются дополнительные меры «по информированию жителей о недопустимости выгула собак с использованием средств массовой информации, разъяснительных бесед, установки информационных табличек. Кроме того, производится отлов безнадзорных животных». Это была ложь. Опять ложь.
Я отреагировал с нескрываемым ехидством.
.. из Вашего ответа не ясно, в чем же состояла проверка. В связи с этим прошу представить мне материалы проверки. В частности, сведения об упомянутых Вами 1) информировании населения через средства массовой информации,
2) разъяснительных беседах, 3) установке информационных табличек, 4) отлове безнадзорных животных. Прошу сообщить, место, время, содержание публикаций в СМИ, посвященных данной теме, с кем, когда и о чем проводились разъяснительные беседы? Где после моего обращения установлены дополнительные информационные таблички? Сколько и когда отловлено безнадзорных животных на территории парка?
Дополнительно прошу сообщить о работе собственно правоохранительных органов, на которые Вы ссылались в Вашем предшествующем ответе. Сколько, когда и в отношении каких лиц составлены протоколы о правонарушениях — выгуле собак на территории историко-культурного памятника? Какими силами осуществляется патрулирование парка, какова периодичность патрулирования, время и маршрут патрулирования? Каковы результаты патрулирования? Кто лично ответственен за поддержание порядка на территории парка?
В своем ответе Вы сообщаете о финансировании работ по эксплуатации парка, хотя я такой информации и не запрашивал. Поскольку Вы располагаете соответствующими данными, прошу уточнить размеры финансирования с указанием статей расходов.
Не сомневаюсь, что подготовка запрашиваемой в данном обращении информации позволит Вам убедиться, что защита парка от осквернения находится в неудовлетворительном состоянии. Со своей стороны я могу убеждаться в этом почти ежедневно, о чем и сообщал Вам в предыдущих своих посланиях.
На это обращение ответа так и не поступило. Не мог сказать прокурор Зуев ни слова по существу вопроса. Он мог только подмахивать переписанные бюрократические враки. Зато пришло письмо из Генеральной прокуратуры. В нем сообщалось, что согласно постановлению правительства Москвы от 26.11.02 № 962-ПП «О Московском городском братском кладбище героев Первой мировой войны — памятнике истории и культуры (Новопесчаная улица, вл. 12)» мемориальный парк площадью 11 га, расположенный по указанному адресу, относится к памятникам истории и культуры регионального значения. Тем же документом охрана общественного порядка на территории мемориального парка возложена на ГУВД. За эту информацию можно было бы сказать «спасибо», но она сопровождалась очередной порцией лжи: запретительные таблички висят, граждане проинформированы о запрете, патрулирование ведется некоей «добровольной народной дружиной» САО. Опять вранье. Ни табличек, ни дружин не было.
Определенный результат мои обращения все-таки дали. Единственная проверка органами ОВД дала возбуждение трех административных дел в связи с п. 2 ст. 1 Закона города Москвы от 24.04.96 № 12 «О штрафных санкциях за нарушения законодательства Российской Федерации в области охраны животных и Временных правил содержания собак и кошек в городе Москве». Главе управы района «Сокол» Савеловским межрайонным прокурором внесено представление об устранении нарушений закона в связи с бездействием по проведению проверок и возбуждению административных производств за нарушения требований по содержанию домашних животных, предложено обратиться в Архитектурно-планировочное управление САО г. Москвы для решения вопроса об организации дополнительных собачьих площадок, а также объявлено предостережение о недопустимости нарушения сроков, установленных для ответов на депутатские обращения.
По этой информации хотелось бы считать дело успешно завершенным. Но личное наблюдение за обстановкой в парке убеждало: чиновники не обращали внимания на осквернения парка. Прокурор Москвы продолжал беспардонно врать. Теперь его ответ на мое обращение, якобы, затерялся. И мне «повторно» сообщалось о результатах «проверки». За проверку выдано «предоставление материалов» «органами исполнительной власти, предприятиями, организациями и органами внутренних дел». То есть, чиновникам прокуроры всегда верят на слово, а депутатам — нет. Поэтому никакой работы прокуратуры мне увидеть так и не удалось. Прокурор Зуев прямо указал, что он не является «держателем указанных информационных ресурсов» и предложил мне самолично запросить их в перечисленных организациях. То есть, ложь была совершенно открытой: не было никакой проверки!
Я обратился также в Мосзеленхоз, на балансе которого, как мне было сказано, теперь находится парк. Оттуда откровенно ответили, что отвечают только за состояние газона, а мемориальное значение парка — якобы, не их забота. Иными словами, газон от собачьего дерьма они освободить готовы, а свои головы приводить в порядок — нет. И вот что важно: «На наш баланс приняты деревья, кустарники, газоны, дорожно-тропиночная сеть, МАФ (садовые диваны, скамейки, детские площадки), за которыми осуществляется уход в течение года. При передаче объекта на данной территории не были установлены таблички, запрещающие выгул собак. Перед проведением торжественных мероприятий посвященных 91 годовщине начала 1 — ой Мировой войны в Мемориальном парке нашим структурным подразделением были установлены 30.07.05 г. пять табличек, запрещающих выгул собак на озелененной территории, но 1 августа т.г. табличек уже не было», «…установка и снятие табличек о запрещении выгула собак не входит в обязанности ГУП «Мосзеленхоз»».
Понятно, что некая организованная группа начала борьбу с запрещающими табличками. Но ни Мосзеленхоз, ни милиция палец о палец не ударили, чтобы воспрепятствовать преступлению. А это уже точно было преступление.
Поскольку прочие средства были исчерпаны, я написал письмо Лужкову, упирая на пренебрежение бюджетными расходами, которые были затрачены на мемориал, не обеспеченный защитой от осквернителей. Но Лужков был точно таким же саботажником, как и мелкая чиновничья челядь. За подписью первого заместителя мэра, и.о. руководителя Комплекса городского хозяйства Москвы В.И. Ресина мне рассказали про посторонние предметы: про отлов собак, устройство собачьих площадок, новостные сообщения жителям в трансляциях районной телестудии (ее никто сроду в районе не видел). А еще о развешанных тут и там запретительных табличках (их тоже не было). После получения этого письма раненько утром я прошел через парк. Встретил с десяток собаководов с крупными породами без поводков и без намордников. Ни одной таблички о запрете выгула собак. То есть, первый зам мэра — тоже лжец. Оттого что тунеядец, который руководит также тунеядцами. Им ведь не досуг было самим проверять, как дело обстоит на самом деле.
Я еще раз попытался привлечь внимание Лужкова к загаживанию нашей истории и наших парков. Поводом послужило письмо московской избирательницы, чьи дети вынуждены обходить газоны парков стороной — там раздолье для гадящих собак. На этот раз мене сообщили, что «мер административного или иного воздействия за выгул собак в рекреационных зонах не предусмотрено», поскольку действующее «Временные правила содержания собак и кошек в городе Москве» от 08.02.1994 года № 101 запрещает гадить только в подъездах, на лестничных клетках, в лифтах, а также на детских площадках и дорожных тротуарах. Во всех остальных местах гадить позволялось. Одновременно мне сообщалось невероятное: на входах во всех парках Москвы вывешены таблички «Выгул собак запрещен», а парки патрулируются сотрудниками ОВД и экологической милицией. Что проку от этого, если «рычагов воздействия на владельцев собак нет, меры к ним не применяются». Честно сообщил об этом и.о. руководителя Комплекса городского хозяйства Л.М. Липсиц. И было это уже летом 2006 года.
Врать мне продолжали уже без малого два года. Минул месяц, потом еще один. Никаких табличек в парке так и не появилось. Чинуши были заняты другими делами. Еще раз написал Лужкову о том, что таблички не появились. А также попросил убрать из парка позорный забор, за которым уж много лет не велось никакого строительства, а окончание работ давным-давно просрочено. На этот раз ответил еще один «первый зам» Лужкова П.Н. Аксенов. Он сообщил, что Мосзеленхозу и ОВД в очередной раз поручено исполнять свои обязанности. А что касается забора, то вся документация в порядке и проводится ее утверждение в Москомархи-тектуре. То есть, к моменту подписания письма это утверждение занимало 5 лет.
Уже на излете своих депутатских полномочий я сообщил Аксенову, что его распоряжения целиком и полностью не выполнены и просил принять меры. Еще один «первый заместитель» Лужкова П.П. Бирюков объяснил мне, что в парке регулярно устанавливаются таблички «выгул собак запрещен». Однако из-за отсутствия надлежащей охраны территории, таблички находятся в парке не более недели. И обещал, что очередная партия табличек будет установлена, а ОВД будет патрулировать парк. Забор же будет стоять на своем месте потому, что собственник не может приступить к выполнению работ в связи с отсутствием согласования с Комитетом по культурному наследию города Москвы. Это была новая версия для оправдания уродливого забора.
Табличек так и не появилось. Раз я увидел человека, который прикидывал, как приладить табличку «Выгул собак воспрещен». Порадовался: скоро они будут везде. И напрасно. Сдается мне, что тут какой-то важный дядя для своей собаки устроил большую площадку посреди мемориала. И никто в мэрии ему не указ. Оттуда говорят: повесить таблички. Он: снять таблички. И так годами. Кто после этого будет утверждать, что Лужков управлял Москвой? Да он даже собачьим дерьмом не управлял!
Перед завершением депутатских полномочий я еще успел выступить с интервью в местной газете «Сокол» по поводу безобразий в парке. Но местные власти к этой публикации отнеслись с полным равнодушием. Через несколько лет (положение в парке так и не изменилось) я по хозяйственной надобности обратился в управу «Сокол». В конце концов, измотанный враньем и бестолковостью чиновников, я сказал сгоряча, что в следующий раз обращусь в управу, когда вместе с гражданами надо будет спалить ее.
В Писании сказано «и лицо поколения будет собачьим». Лицо нынешнего поколения чиновников, действительно, подчас трудно ассоциировать с чем-то еще, кроме собачьей морды.
Имена на обелиске, которого нет
В 2009 году кремляне создали специальную комиссию по борьбе с фальсификациями истории. Это был ответ не беспрерывные попытки западных политиков уравнять сталинизм и гитлеризм, а под этим предлогом пересмотреть статус России как правопреемницы СССР в статусе победителя во Второй мировой войне.
Внешне разумная миссия теряет привлекательность при соотнесении с фактами фальсификации, исходящими от самих же кремлян. А также с фактами глумления над историей. Кремляне полностью приняли «религию Катыни», и в сентябре 2009 года премьер Путин даже ездил в Польшу, чтобы там подтвердить целиком и полностью геббельсов-скую трактовку «Катынского дела», в 2010 соответствующее заявление приняла Дума. Чем сталинизм и гитлеризм были отождествлены уже от имени России.
В течение многих лет Российский Императорский Дом добивался реабилитации Николая I! и его семьи. Сомнительная затея в отношении к царственным мученикам. Потому что нет смысла реабилитировать жертвы, если преступниками-изуверами были лица, исполнявшие поручения преступной власти. Данная реабилитация, в конце концов, состоялась. Почему же Кремль изменил свою позицию? Лишь по одной причине: в недрах кремлевских полит-технологических кругов решили вновь разыграть «монархическую карту», пристегнуть к своим «проектам» РИД, в подходящий момент скандализировать ситуацию, отвлекая людей от прочих претензий к власти. Вместо провалившегося либерализма планировалось предложить подделку под монархию.
Глумление над историей более всего отражено в символике памятников и названий, испещривших карты русских городов. Власть упорно отказывалась даже от самых насущных изменений. В начале 90-х в Москве множество названий улиц было сменено, а ряд идеологических памятников устранено с центральных площадей, но работа не была доведена до конца. Московским властям показалось слишком затратным, прежде всего, переименовывать станции метро. Многократно общественность требовала сменить название метро «Войковская», но мэр Лужков стоял насмерть: мол, условия для переименования не созрели. Депутаты кучно подписывались под обращениями об устранении с карты метрополитена имени изувера, причастного к расстрелу Царской семьи. Лужков был непреклонен. Но зато без труда переименовал станцию «Измайловская» на «Партизанская». Имя убийцы осталось нетронутым.
Кремлевские махинаторы оскверняли историческую память в своих подлых целях. Так произошло летом 2007 года, когда кремлянам понадобилось дискредитировать партию «Великая Россия», идущую на регистрацию, а потом на выборы, где ей сулили блестящую победу, перекрывающую успех «Родины» в 2003. С участием привластных «аналитиков» была разработана провокация и развернута пропагандистская кампания, в которой «Великая Россия» должна была быть представлена буквально как фашистская партия. Объектом провокации была избрана мирно стоявшая за церковной оградой Всахсвятского храма на Соколе памятная плита в честь казачьих генералов, выступавших
против большевиков после гражданской войны. Многие из них позднее оказались в рядах гитлеровского вермахта. Но до того — верой и правдой служили Отечеству, большинство — участники Первой мировой войны, показавшие выдающиеся образцы мужества и героизма. Те из них, кто был выдан англичанами Сталину, в тайных процессах были признаны военными преступниками и повешены. Прах покойных был ритуально развеян. Данное деяние было само по себе преступным, поскольку казнены по сфабрикованным делам (до сих пор засекреченным) военнопленные, никогда не приносившие присяги Советам и не совершавшие военных преступлений.
Для провокации была использована группа экзальтированных молодых людей, именовавшая себя «Красный блицкриг». По наущению спецслужб, группа совершила акт вандализма — разрушила памятную плиту молотками. О страхе перед наказанием говорили маски, напяленные на манер бандитов-грабителей, и обрез ружья, который от страха же был брошен вблизи места преступления. Для придания значимости событию, фотографии разрушенного памятника были размещены в сети на ресурсе «Живой Журнал», где началось бурное обсуждение.
Немалую роль в провокации сыграла некая Матильда (интернет-кличка), побывавшая в различных молодежных группировках и очень воодушевленная тем, что в данном случае ей поручили «настоящее дело». Кто поручил? У меня нет сомнений, что во время одного из задержаний (совершенно незаконных), милую девушку если и не завербовали, то основательно мотивировали на «борьбу с фашизмом». В силу своей наивности, она не учла странных особенностей глобальной сети, в которых авторство сделанных фотографий можно установить, сличая невидимые простакам кодировки. Матильда была изобличена как соучастница преступления. Но избежала внимания милиции. По одной простой причине. Если уж агентура «засветилась», то ее можно было сдавать напрямую. Матильду изящно использовали в информационной кампании. Для этого была создана явно эпатажная передача «С.С.С.Р.» (слухи, скандалы, события, расследования). В одной из первых передач этого недолго жившего детища кремлян Матильда оказалась главной героиней: инженю в спектакле «красных дьяволях», сцена в косметическом салоне. Наивная барышня торжествовала: ее миссия оказалась успешной, волна возмущения «общественности» против защитников пресловутой памятной плиты ударила по «Великой России». Кремлевские полит-технологи обеспечили массовые тиражи публикаций и обличений. В дискуссию включились самозваные «мстители», проповедующие любовь к Сталину и ненависть к «предателям».
Для продолжения провокации кремляне подослали ко мне корреспондентов передачи «С.С.С.Р», которые сообщили, что хотят полностью и объективно оценить ситуацию и предоставить мне возможность объяснить свою позицию. Мне задавались вопросы самого разного свойства. Сорок минут я терпеливо отвечал на них. Но на выходе в материале осталась лишь одна ничего не значащая фраза, а вся передача была забита кокетничающей Матильдой.
Провокаторы наперебой и произвольно усекая цитировали мою фразу из одной частной дискуссии в ЖЖ: «Я против гитлерофилов, но за германофилов (особенно тех, кто любит немецкую философию). Я против власовцев, но Я считаю Краснова и Шкуро достойнейшими русскими офицерами, а разрушение памятника — запредельной мерзостью…». Общественное мнение, конечно, раскачать не удалось. Уж слишком грязными были методы. Но удалось убедить кремлевское начальство, что «Великую Россию» допускать до выборов нельзя. Принятые на содержание Кремля технологи, как оказалось, могут неплохо манипулировать своими хозяевами. Хвост махал собакой, и собака была этим вполне довольна.
Меня беспокоит продолжение гражданской войны, в которой взгляд на русскую историю диктуется ненавистью русских людей друг к другу. В 2009 году эта ненависть вновь обострилась в связи с заявлением Синода Русской Православной Церкви за рубежом в защиту генерала Власова и его соратников, миссия которых была оценена как благородная борьба с большевиками. Это была ошибка, которая, увы, свойственна и многим «ультрапатриотическим» молодежным группам. А врагов обнаруживает в столь же экспрессивных «ультралевых» молодежных группах, которых играть «в войнушку», не интересуясь исторической правдой.
Нет, я не считаю Власова героем. Я считаю его предателем. И даже типичным порождением «советского патриотизма» — столь же нестойкого, как и вся сталинская армия, ставшая грудой трупов и искореженного металла в первые месяцы войны с Германией. Мало кто понимает, что гибель целых поколений молодых людей во время войны — это плата за большевизм и сталинизм. Победу обеспечили люди средних возрастов — те, кто был воспитан в русской традиции, под образами православных святых. Русской трагедией, итогом гражданской войны, необходимо считать тот факт, что патриоты России оказались вне ее границ и с началом войны Германии против СССР все еще считали, что это продолжение гражданской. В действительности, они воевали уже не против большевиков, а против родной страны. Пусть и захваченной чуждым режимом.
Генералы Краснов и Шкуро — трагические фигуры русской истории, а вовсе не предатели. Они не присягали большевикам, они с ними только сражались. В отличие от Власова, который большевикам присягал и был типичным «красным генералом». Его «антибольшевизм» был принужденным, обусловленным пленением, которое, в свою очередь, последовало в связи со страхом смерти в бою. Различные ухищрения Власова, который хотел быть привлекательным для русских людей, создавали лишь оправдательные мотивы поведения его самого и рекрутируемых им предателей. Эти предатели — целая армия предателей — русские и нерусские люди, с которых легко слетел советский патриотизм. Часть из них избавлялась одновременно и от показной любви к своей стране, часть — мучительно отыскивая для себя объяснения случившемуся: сочетания ненависти к режиму и войны против собственного народа, этим режимом взнузданного.
Для казачьих генералов, казаков, ушедших в эмиграцию вместе с «белыми», подобные муки были неведомы. Они были врагами большевиков, и никакой привязанности к режиму не имели. То же касалось и затаившихся врагов большевизма, которые Советы никогда не признавали и тут же стали на сторону его врагов, как только представилась возможность. Предатели ли они? Ответ на этот вопрос приводит к необходимости ответить: были ли предателями те, кто проиграл в гражданской войне? С моей точки зрения, нет. По обе стороны сражались русские люди. Одни — за иллюзию «светлого будущего», другие — за Отечество, каким они его знали и любили. Кто был в гражданской войне предателем? Большевики. Но и «белые» не были безгрешны. Их лидеры были изменниками — февралистами, поддержавшими переворот, позволившими арестовать Царя и смутить народ либеральными бреднями партийных провокаторов, засевших в Думе.
Во всей этой истории меня занимает не хитросплетение мыслей провокаторов, а историческая память. Конечно, это провокаторы учитывали: и мои многолетние усилия в защиту Мемориального парка, который разбит близ Всехсвятского храма, и тот факт, что мимо этого храма я проходил почти каждый день.
Ненависть к предателям — дело естественное. На этом и спекулируют извратители истории. Особенно те, что хотел бы, чтобы наша история начиналась то ли с 1917, то ли 1991 года. И тем, и другим русская истории, трагедия гибели Российской Империи — только повод для злословия. Поэтому к предателю генералу Власову с его РОА пытаются привязать вообще всех русских, включая тех, кто никогда не был на стороне советских коммунистов. Помимо РОА, состоявшей преимущественно из советских военнопленных, была старая русская военная эмиграция, которая формировала русские части, не входившие в РОА. Бывшие царские генералы и офицеры предпочитали не служить вместе с советскими предателями. Некоторые исследователи считают, что в вермахте прошло службу 2 миллиона русских. Цифра сомнительная, но о сотнях тысяч можно говорить уверенно. Нужно ли было всех их расстрелять после войны? До этого не додумался даже Сталин. А сегодняшние «борцы за патриотизм», прикормленные Кремлем, считают, что именно так и надо было сделать.
Краснов, Шкуро и другие казачьи генералы были выданы Сталину вопреки Ялтинскому договору, согласно которому выдаче подлежали лишь советские граждане, воевавшие на стороне немцев. Сталин по сфабрикованному и засекреченному делу повесил их в 1947 году. Это была месть за страх поражения в гражданской войне, а не акт правосудия.
Я специально изучил биографии на обелиске. Некоторые из указанных там лиц вообще не служили в вермахте, а были убиты сталинской разведкой. Некоторые стали немецкими офицерами еще до прихода Гитлера к власти. Почти все были героями Первой мировой войны и проливали кровь за Россию. Плита с их именами появилась у Всехс-вятского храма не случайно. Рядом были братские могилы солдат и офицеров Первой мировой, умерших от ран. Здесь, по непроверенным данным, были и могилы юнкеров, расстрелянных после захвата Кремля большевиками. Здесь наследники большевиков устроили парк, который потом превратился в собачью площадку. К 90-летию начала 1-й мировой собачья площадка была окультурена — возведены монументы, восстановлены газоны, проложены дорожки, парк обнесен оградой. Но собаки по-прежнему ходят по русским костям, «подписывая» их по воле своих отупевших от «демократии» хозяев. Это свидетельство глубокого морального разложения.
По депутатскому запросу из Генеральной прокуратуры мне было сообщено следующее:
16 января 1947 г. Военной коллегией Верховного Суда СССР за конкретные совершённые преступления вместе с вышеуказанными лицами, к высшей мере наказания — расстрелу, осуждён Краснов С.Н.
По приговору Военной коллегии Верховного Суда СССР от 26–30 августа 1946 г. за совершение контрреволюционных преступлений к смертной казни через повешение, с конфискацией имущества, осужден и бывший Главнокомандующий Вооружёнными Силами Российской Восточной окраины генерал-лейтенант Белой армии Семёнов Г.М.
В соответствии с заключениями Главной военной прокуратуры об отказе в их реабилитации определениями Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации Краснов П.Н., Краснов С.Н., Шкуро А.Г., Доманов Т.Н., Султан Гирей Клыч и Семёнов Г.М. признаны не подлежащими реабилитации.
В отношении фон Панвица Г. 22 апреля 1996 г. Главной военной прокуратурой принято решение о признании его обоснованно осужденным и отсутствии оснований для принесения протеста на отмену или изменение приговора.
Уголовные дела в отношении всех перечисленных лиц находятся на хранении в Центральном архиве ФСБ России.
Сведений об осуждении Кутепова А.П., Миллера Е.К., Туркула А.В., Михайлова Т.В., Зборовского В.Э., Кононова И.Н.,Хольмстон-Смысловского Б.А., Скородумова М.Ф. и Штейфона Б.А., а также уголовных дел и материалов в отношении указанных лиц в Главной военной прокуратуре не имеется.
Прокуроры умолчали, что и по делу генерала Власова, и по делу генерала Краснова приговорам Военной коллегии предшествовало постановление Политбюро ЦК ВКП(б). Политическое решение диктовало результат судебных рассмотрений в Военной коллегии Верховного суда. В1992 году Конституционный суд при разбирательстве «дела КПСС» принял постановление об отмене всех репрессивных приговоров, которые были вынесены партийными органами. Но поименной реабилитации это решение не вызвало.
Выяснилось, что есть некий ведомственный параграф (Положение о порядке доступа к материалам, хранящимся в государственных архивах и архивах государственных органов РФ, прекращенных уголовных и административных дел в отношении лиц, подвергшихся политическим репрессиям, а также фильтрационно-проверочных дел, утвержденное Министерством культуры и массовых коммуникаций РФ, МВД Ф и ФСБ РФ), принятый совсем недавно — 25 июля 2006 года — и гласящий (п. 5 Раздела 1): на обращение граждан по доступу к материалам уголовных дел с отрицательными заключениями о реабилитации проходящих по ним лиц, архивами выдаются только справки о результатах пересмотра указанных дел.
По другому моему запросу наследники всесильного КГБ скромно сообщили, что дела на указанных лиц хранятся в архиве ФСБ — всего на 7 лиц, из которых 5 имен были на уничтоженном обелиске. Все они уже в наши времена «признаны осужденными обоснованно и реабилитации не подлежат». Краснов П.Н., Краснов С.Н., Шкуро А.Г., Султан-Гирей, Доманов Т.И. - по определению Военной коллегии Верховного суда РФ от 25 декабря 1997, Панвиц Г.В. - по заключению Главной военной прокуратуры от 28 июня 2001, Семенов Г.М. - по постановлению ВС РФ от 27 февраля 2003 г. Казненный вместе с русскими казачьими генералами немецкий казачий генерал Паннвиц (который предпочел остаться с подчиненными ему казаками, и этот поступок чести стоил ему жизни) был в 1996 реабилитирован, но в 2001 реабилитация отменена.
Тех, кто не попал в застенки Сталина (либо умер или был убит еще до войны, либо успел бежать подальше куда-нибудь в Аргентину) уголовные дела вообще не коснулись, их даже Сталин не определил в преступники. Это половина имен на мемориальной плите, которую уничтожили «красные дьяволята», посчитавшие, что именно они являются судьями этих людей. Вероятно, в порядке реанимации «революционной законности», согласно которой физическому уничтожению и посмертному проклятью принадлежат все, кто боролся с большевиками.
В начале 2008 года попытку реабилитации генерала Краснова предпринял депутат Госдумы от партии «Единая Россия» атаман Всевеликого войска Донского Виктор Водолацкий. Но кремляне быстро поставили его на место, организовали возмущение среди самих казаков. Решение о поддержке этой инициативы было отменено. Замечательно, что при Володацком каким-то образом оказалась все та же Матильда. Роль провокатора ей явно была по душе.
Для плененных солдат противника всегда предусмотрено уважение, и на то есть международные конвенции. Многочисленные голоса в поддержку разрушения памятной плиты требовали, чтобы никакого уважения не было. Они хоть сейчас убили бы русских генералов только за то, что они русские. Пленных немцев оставили бы в покое. Подобной ненависти почти никогда не встречается у ветеранов войны. Кто воевал по-настоящему, знает, что такое честь солдата, к какой бы армии он ни принадлежал. Ненависть войны остается на войне. А кто ее приносит в мирную жизнь, становится опасен для окружающих. Ветераны в большинстве своем ненависть к врагу оставили в прошлом. Мы же, кто на ней не был, прав на ненависть не имеем. Даже если наши предки на этой войне полегли. Они нам ненависти не завещали. Они нам завещали память.
На войне противник всегда проливает кровь наших сограждан. А мы — его кровь. Это преступлением не считается. В условиях войны расстрел паникера — обычное дело. Но в условиях мира подобное действие — преступление. Есть военные преступления — то есть, нарушение традиций войны. Например, казни мирного населения. За это закон может полагать бессрочную ответственность и смертную казнь. Но тогда нужно доказывать совершение подобного преступления. Записные патриоты, лишившиеся моральных ориентиров, решили, что вправе воевать языками, оправдывая казни по сфабрикованным делам. Казни русских зато, что Они русские. Казни офицеров за то, что они воевали против большевиков. Кто мысленно вешает и расстреливает, убоится ли роли палача в настоящем?
«Белые» считали, что большевики хуже немцев. С немцами о чем-то еще можно договариваться, а с большевиками — нет. У немцев есть закон, у большевиков — только петля и револьвер. Не дай Бог нам все это перенести, и не дай Бог никому настолько померкнуть умом, чтобы судить направо и налево о правоте и неправоте. Мы должны быть милостивы хотя бы к собственной истории и русским людям.
«Религия Катыни» и зараза русофобии
17 сентября 1939 советские войска вошли на территорию Польши, когда под ударами вермахта польское государство фактически перестало существовать. От гитлеровской оккупации были спасены жители Западной Украины и Западной Белоруссии — около 12 млн человек. При этом в советский плен попало около 250 тысяч польских солдат и офицеров. Подавляющее большинство было отправлено по домам, 40 тыс. уроженцев центральных областей Польши также смогли вернуться на родину — под контроль германских оккупационных властей. «Верхушку» польской армии разместили в лагерях для военнопленных — в Козельске, Старобельске и Осташкове.
Считается, что весной 1940 года в местечке Катынь под Смоленском были расстреляны свыше 4 тыс. польских офицеров из Козельского лагеря. Захоронения, действительно были найдены. Кем? Гитлеровцами, в 1943 году. Именно гитлеровцы объявили, что это расстрелянные польские офицеры. Утку тут же подхватило польское правительство в изгнании. В условиях войны с Гитлером оно включилось в планы пропагандистской кампании фашистов. И СССР разорвал с этим правительством отношения.
Главе польского правительства Сикорскому, принявшему игру Геббельса, никто не верил. Даже Муссолини. Не говоря уже о союзниках СССР. Поэтому гитлеровцы организовали в Катыни международную комиссию с участием судмедэкспертов и криминалистов. Провокация была хорошо спланирована. В могилах нашлись обрывки польских газет, польские пуговицы, детали амуниции и даже дневниковые записи. Провокаторы не учли одного: немцы не знали реалий советской жизни. Не могли в советских условиях уложить десять тысяч трупов ровненькими рядами в новеньких сапогах и неношеных шинелях. Скудность жизни советских людей требовала шинельки и сапоги снять. И уж точно никто не складывал бы трупы с немецкой педантичностью. Никто не дал бы приготовленным к расстрелу иметь при себе личные вещи и дневники. Все было бы изъято. Тем более, если предполагать особую секретность ликвидации, которой пытаются объяснить отсутствие свидетелей расстрелов (показания имеющихся свидетелей более чем сомнительны).
В наши дни польские «ресследователи» указали на другие захоронения, где, якобы, были захоронены остальные польские офицеры — на спецкладбище в Медном под Тверью (все 6311 польских полицейских, из Осташковского лагеря). Однако есть свидетельства, что польские полицейские в 1941 году работали на Беломорско-Балтийском канале, а в начале войны польские офицеры содержались в лагерях, которые советским командованием были просто брошены при отступлении.
В 1940 году НКВД, безусловно, проводило расстрелы. И поляков, и других — всех, кого считали врагами Советской власти. Среди польских офицеров таковых было достаточно, и об этом доносила внедренная в круги военнопленных агентура. Но ставить расстрелы на поток никто не собирался, а в начале войны польские граждане были амнистированы, выпущены из лагерей и возвращены из спецпоселений. Началось формирование польской армии.
После освобождение Смоленска была создана комиссия под председательством академика Николая Бурденко, главного хирурга Красной Армии и президента Академии медицинских наук, которая провела свое исследование и установила, что расстреляли поляков сами немцы. Что касается документов пленных поляков, включая и тех, кто был расстрелян по приговорам «особых совещаний», то дела были уничтожены. Оставшиеся документы поступили в «особую папку», которая по цепочке преемственности попала сначала к Горбачеву, потом в Ельцину. В 1991 году, когда в КГБ царила измена, было изготовлено множество фальшивых документов. Один из них оказался в «особой папке». Ельцин и «демократы» вынули давно забытое дело и отдали его в руки русофобам. Фактически именно Ельцин и его окружение были создателями «религии Катыни».
На фальсификацию указывает анализ документов «закрытого пакета № 1», который неожиданно обнаружился у Горбачева. Записка Берии о расстреле поляков была зарегистрирована в феврале 1940, а сама записка датирована мартом. Причем без указания даты. Протокол заседания Политбюро ЦК ВКП(б) от 5 марта 1940 года оформлен с нарушениями: сохранились только незаверенные копии. В «записке Шелепина» Хрущеву, в которой говорится о расстреле 21857 польских граждан весной 1940 года, содержится явная ложь: якобы, мировое общественное мнение согласно с выводами комиссии Н.Бурденко. Трудно представить полную неосведомленность председателя КГБ или готовность принять очевидную ложь со стороны Первого секретаря ЦК КПСС. Л гать им было не привыкать. Но то в публичных делах. Множество передержек в документах, ставших известными в наши дни, наталкивает на мысль, что следы фальсификации были оставлены намерено и в большом количестве. Они бросаются в глаза. Но только не тем, кому поручено было проводить расследование.
Уже в 1990 году повсеместно считалось, что польских офицеров расстреляли органы НКВД. С сентября 1990 года началось официальное расследование Главной военной прокуратуры. Как я убедился, на самом деле никакого расследования не было. Была фабрикация доказательств вины нашей страны. Она растянулась на многие годы. Только в 2004 году расследование было объявлено завершенным. Якобы, был подтвержден факт вынесения НКВД смертных приговоров 14 542 полякам-военнопленным, достоверно установлена смерть 1803 человек и определены личности 22 расстрелянных.
Бывший тогда главным военным прокурором РФ Александр Савенков определил катынские события как «общеуголовные преступления, связанные с отдачей незаконных приказов, а также превышением должностных полномочий лицами высокого ранга». Позднее, когда мне довелось по другому поводу беседовать с А.Н.Савенковым, перешедшим в Министерство юстиции вслед за своим патроном — В.В.Устиновым, я понял, почему расследования не было, а итоговые документы дела не выдерживают никакой критики. Подобные люди своеобразно понимают принцип законности. Для них законность — это распоряжение начальства и собственное мнение. Они не интересуются истиной, а ложь для них — вполне допустима и является привычным инструментарием в работе.
Дело засекретили и закрыли. Ведь виновные в расстреле (ровным счетом пять человек, принявших решение) давно умерли. В Кремле считали, что тем самым вопрос снят. Это было не только преступление против собственной страны (фальсификация исторической ответственности), но и ошибка. «Мировое сообщество» не собиралось что-то там «прощать» России. Напротив, позднее были придуманы новые легенды, направленные против нашей страны. Вроде «религии Голодомора» на Украине.
В «Катынском деле» отметилось множество русофобов. Но наивреднейшей была миссия СМИ, разыгрывавших «исторические детективы». Многосерийная подделка под историческую правду — бесконечная «мыльницы» лживых фильмов Леонида Млечина в передаче «Особая папка». 19 апреля 2004 года вышел отдельный фильм о «Катынском деле». Разговор в фильме начинается именно с детектива — с загадочной гибели главы польского правительства Владислава Сикорского в 1943 году… Что может быть загадочного в условиях войны? Погибали и от шальной пули, и просто оттого, что на войне смерть не выбирает свои жертвы по какому-то особому сценарию. Сценарии придумывает писатели. Или драматурги закулисной политики. Млечин исполнял чье-то задание. Трудно представить себе, что так просто по многим каналам СМИ шли передачи все об одном и с одной и той же версией: НКВД расстреляло столько-то тысяч (цифры разнятся) пленных польских офицеров. В переводе на обыденный язьж (а именно на это и расчет) это означало: русские расстреляли столько-то тысяч польских офицеров.
В фильме Млечина все указывало на заданность. Покров тайны должен был интриговать зрители: какой ужас еще там скрывается? Если скрывается — значит, ужас. Если ужас — значит, правда. Нынешние игры в прятки по поводу Катыни скрывают вовсе не ту правду, о которой многие думают. Они скрывают полную несостоятельность тех, кто многие годы посвятил «расследованию». На поверку вышел «пшик».
Одним из доказательств того, что расстрелы проводились немцами, было установление факта убийства людей из немецкого оружия. На это русофобы придумали сказочку о том, что специально для уничтожения людей НКВД приобрело партию немецких пистолетов. Вот как об этом повествует Млечин:
«Во внутренней тюрьме областного управления одну из камер обивали кошмой, чтобы не было слышно, пленных по одному заводили в камеру, надевали наручники и стреляли в голову. Пользовались закупленными в Германии пистолетами марки “Вальтер” — их доставляли из Москвы чемоданами. После каждого расстрела в Москву, заместителю наркома Меркулову шла короткая шифротелеграмма такого содержания: «исполнено 292». Это означало, что за ночь расстреляли 292 человека. К концу мая расстреляли 21 тысячу пленных поляков.
Трупы на грузовиках вывозили за город и закапывали в районе дач областного НКВД — сюда чужие люди не зайдут. Трупы укладывали как сардины в банке: голова к ногам — ноги к голове. Когда операция закончилась, братскую могилу засыпали землёй и сажали ёлочки. Но часть пленных из козельского лагеря расстреляли прямо в катынском лесу. Эти могилы и обнаружили потом немцы, заняв Смоленск».
На самом деле простой следственный эксперимент показывал, что в ночь в смоленском областном управлении НКВД расстрелять почти три сотни человек было просто невозможно. Как и вывезти трупы, чтобы не образовать целой колонных грузовиков. Разумеется, «голова к голове» могли укладывать разве что педантичные немцы. И сажать елочки — тоже.
Млечин играет деталями, перевирая действительность. «Условия содержания были ужасными». Это о лагерях для военнопленных. На самом деле, лагерь сам по себе — тяжкое испытание. Но для поляков были устроены очень даже сносные условия. Старались соблюсти конвенции о правах военнопленных. Офицеры не работали и сохраняли свою форму. Другая ложь: «В Нюрнберге, где после войны судили главных нацистских преступников, по требованию советской делегации эта тема не возникала». Как раз наоборот. Тема была поднята советской делегацией, но не попала в итоговые документы, поскольку русофобский миф уже породил сомнения, а СССР не мог похвастаться гуманизмом: поляков все же расстреливали, хотя не в том количестве. Никакого тотального уничтожения польских офицеров не было. Известно, что бывший прокурор Верховного суда Польши полковник Любодзецкий и комендант подпольного террористического «Союза вооруженной борьбы» на Западной Украине полковник Окулицкий, не были расстреляны, а получили лагерные сроки и амнистированы в августе 1941 года.
Массовая аудитория дезинформировалась — где грубо и нагло, где тонко и незаметно. Поскольку для разоблачения дезинформации мне нужна была документальная база, в мае 2004 я направил президенту ОАО «ТВ Центр» О.М. Попцову вполне нейтральный запрос с просьбой предоставить мне копию видеозаписи и стенограмму. Ответа от Попцова не последовало. Вместо него мне пришла бумажка за подписью начальника управления делопроизводства. К ней было приложено любезное письмо Млечина, содержащее некоторые данные о двух книгах, касающихся «Катынского дела», относительно которых я ничего не просил мне разъяснять, поскольку был достаточно осведомлен о предмете. Впрочем, было интересно освежить в памяти некоторые детали. Стенограммы не было. Я вынужден был повторить запрос и напомнить Попцову нормы закона. В ответ мне пришел отказ, мотивированный тем, что моя просьба, якобы, не соответствует предмету депутатской деятельности. На самом деле статус депутата позволяет ему самостоятельно определять сферу своей деятельности, которая может быть ограничена только законом, и уж никак не мнением телевизионного начальника. Пришлось склонять ТВЦ к исполнению правовых норм через прокуратуру, подчеркивая, что в данном случае имеется прямое противодействие депутатской деятельности.
В августе 2004 года в адрес президента ОАО «ТВ Центр» прокуратурой было внесено представление. Тем не менее, Попцов вовсе не сразу его исполнил. Мне понадобилось еще раз обращаться в прокуратуру, указывая, что теперь Попцов пренебрегает уже статусом прокурорского предписания. В конце концов, я получил искомую стенограмму. Но тем временем озадачило меня уже совсем иное — затруднение в реализации статуса депутата уже в самой ГВП, где я надеялся ознакомиться с массивом документов «Катынского дела».
Другой фальсификатор истории и русофоб Николай Сванидзе, вероятно, поставил себе задачу изолгать все исторические сюжеты, существенные для современности. По теме «Катыни» он выпустил фильм на телеканале «Россия». Но меня заинтересовал другой случай выхода Сванидзе в эфир с этой темой. 4 ноября 2005 года цепные псы власти ждали появления активистов «Родины» на Русском марше, где уже была заготовлена провокация с демонстрацией фашистских жестов и символики. Гряземеты были развернуты, но, как оказалось, тщательно организованный повод не состоялся. «Родина» проводила свою акцию в другом месте. Мне же, как на грех, довелось дать обещание выступить на митинге у польского посольства, где активисты движения «Правда о Катыни» говорили о необходимости открытого судебного разбирательства дела и обсуждения найденных доказательств о его фальсификации в период «поздней перестройки» и «раннего ельцинизма».
Заряженный гряземет должен был выстрелить на «Эхо Москвы». Именно поэтому в передачу русофоба Матвея Ганапольского был приглашен русофоб Николай Сванидзе. От ведущего он получил замечательный посыл в связи с митингом у польского посольства: «Если я не ошибаюсь, рого-зинский. Где Рогозин сотоварищи (если я ошибся, господин Рогозин, извините, но, по-моему, его ребята, я в новостях слышал) собрались и требовали пересмотра решений по Катыни, когда были расстреляны… сколько польских офицеров?»
Сванидзе бодро ответил: «Несколько сот тысяч». Это сказал человек, представленный в эфире как историк. И Ганапольский бодренько его поддержал.
Ганапольский: «Несколько сот тысяч, как бы доказано. Говорю «доказано» для господина Рогозина, потому что он же не верит, что это сделали нквд-шники. Вы же, по-моему, по этому поводу фильм делали».
Сванидзе: «Да, совершенно верно».
Понятно, какого качества делал фильм Сванидзе. Ну и понятно, какой «журналист» Ганапольский. Он что-то слышал, да ничего не понял. Не было у польского посольства Рогозина, а из «его сотоварищей» был я один. Большая ложь Сванидзе и маленькая ложь Ганапольского. Соединяясь вместе, они дают актуальную клевету.
Сванидзе: «Так, Матвей, и снова я вам говорю, а те же рогозинцы, если им давать такую возможность, объединившись с нацистами (а в рогозинской, кстати, фракции в ГД есть нацисты прямые, я это говорю совершенно откровенно, я могу их по фамилиям назвать), так вот, эти ребята могут и 9 мая выходить к немецкому посольству и требовать, скажем, восстановления Берлинской стены».
Подобные фантазии, конечно, происходят от невежества и подлости. Выпустив свой русофобский фильм, Сванидзе хотел закрепить за собой право на истину. Поэтому все другие точки зрения вызывали у него раздражение. И надо же ему было тут же попасться на лжи! Сванидзе был позорно схвачен за руку как неловкий карманник.
Слушатель Алексей: Во всей польской армии не было нескольких сот тысяч офицеров, я так думаю, это первое.
Сванидзе (сразу как-то ослабнув слухом): Что-что, я не расслышал?
Слушатель Алексей: Во всей польской армии, наверное, не было нескольких сот тысяч офицеров, как вы сказали про Катынь.
Сванидзе (переходя на другую тему): Там были не только офицеры, кстати.
Слушатель Алексей: Неважно. Несколько сот тысяч не могло, там (не) больше 20 тыс. всего было.
Сванидзе (обрывая разговор и играя в оскорбленные чувства): Вы считаете, что это нормально уже? Мы не будем сейчас с вами спорить по цифрам.
Еще в 2004 году в статусе депутата Госдумы я поставил себе целью использовать этот статус, чтобы ознакомиться с засекреченным «Катынским делом». К такому решению меня подтолкнули подробные беседы с Сергеем Стрыги-ным — одним из активных энтузиастов-исследователей, искавшим правду о Катыни и раскопавшим множество свидетельств, опровергающих официальную версию. По его просьбе я направил более сотни запросов во все инстанции, по крупицам собирая информацию, которую тщательно вычищали полтора десятка лет.
Добиться ознакомления с документами оказалось не так просто. Прикрываясь «тайной следствия», прокуроры блокировали ознакомление с материалами. Будто бы чтение дела могло нанести расследованию какой-то вред. Главный военный прокурор А.Н. Савенков на мой запрос ответил лишь, что «срок следствия по уголовному делу № 159 продлён в установленном законом порядке до 22 сентября 2004 года». Но уже 21 сентября ГВП прекратила расследование. Это еще не означало, что мне предоставят документы. А события продолжали развиваться, угрожая национальным интересам России.
28-29 сентября 2004 г. в Москву приехал президента Польши А.Квасьневский. В ходе его визита было объявлено о скорой передаче польской стороне в дополнение к ранее переданным 96 томам с материалами данного расследования остальных 73 томов. В связи с этим 19 ноября 2004 г. мною в Главную военную прокуратуру было направлено письмо с запросом информации по «Катынскому делу» и просьбой ознакомиться с материалами проведенного расследования. В частности, — с текстом постановления о прекращении данного уголовного расследования. Если полякам можно, то почему русскому депутату нельзя?
20 декабря 2004 г. из Главной военной прокуратуры за подписью заместителя Главного военного прокурора генерала-лейтенанта юстиции А.И. Арутюняна был получен ответ с отказом в предоставлении запрашиваемых документов или информации об их содержании, из которого следует, что депутаты Государственной Думы, по мнению Главной военной прокуратуры, не имеют права ознакомления с переданными в архив материалами законченного производством уголовного дела. Я вынужден был снова писать
Генеральному Прокурору, мотивируя свой интерес тем, что результаты расследования будут иметь серьезные политические и экономические последствия для Российской Федерации. Неизбежно предъявление Республикой Польшей требований о выплате денежных компенсаций родственникам погибших из бюджета Российской Федерации. Принятие федеральных законов по вопросам формирования бюджета РФ, согласно Конституции, является обязанностью Государственной Думы, из чего следует, что ознакомление с результатами расследования напрямую связано с деятельностью Госдумы и её депутатов, а не является сомнительной своекорыстной инициативой частного лица или предметом пустопорожнего любопытства пресыщенного жизнью, праздного и скучающего законодателя.
9 марта 2005 года на пленарном заседании Госдумы я задал вопрос Генеральному прокурору В.В.Устинову по поводу возможности ознакомления с результатами проведенного расследования по «Катынскому делу». В ответе, отраженном в стенограмме, Устинов разъяснил, что открытые выводы расследования опубликованы и являются общедоступными, а с прочими результатами расследования, в которых есть признаки государственной тайны, могут знакомиться лица, имеющие соответствующий допуск. Депутаты Государственной Думы имеют доступ к государственной тайне.
Так я оказался в здании ГВП, где несколько часов читал постановление о прекращении дела и пролистывал отдельные тома. Читать само дело — полторы сотни томов, было невозможно. Потому что это был хаос. Разобраться в нем стоило бы нескольких месяцев труда. Я такую роскошь позволить себе не мог. Мое внимание сосредоточилось на итоговом документе. И он поразил меня своей нелогичностью, низким уровнем культуры. Такое впечатление, что эти шесть десятков страниц просто списали по фрагментам из разных частей дела и скрепили выводами, которые из этих фрагментов никак не следовали. Это была халтура. Все «расследование» свелось к тому, чтобы не допустить к делу никого. Ничего «секретного» или «сов. секретного» в материалах и заключительном постановлении на было и в помине. Секретность покрывала тайну: отсутствие факта расследования и постыдность итога. Такой итог стыдно было публиковать.
Меня поразил легкомысленный ответ кураторов «Катынского дела» в ГВП на мой вопрос: «Изучались ли материалы комиссии Бурденко? Есть ли основания считать их недостоверными?». Оказалось, что не изучались, потому что «и так ясно, что это фальшивка». Это подвигло меня к продолжению работы по «Катынскому делу».
Особенно важным в этом деле было изобличение государственной измены там, где ее присутствие было очевидно в 1991 году. На глазах руководства КГБ был разрушен Советский Союз, государственная безопасность подверглась убийственной атаке, но всесильная спецслужба и пальцем не повела. Не по тем ли причинам, что было фальсифицировано «Катынское дело»? На фальсификацию указывал факт, открытый в июне 2004 года. В архивах нашлись документы о трех лагерях особого назначения близ Смоленска (Вяземлаг), где до 1941 года содержались бывшие польские военнослужащие и государственные чиновники, вывезенные в апреле-мае 1940 г из трех спецлагерей НКВД. Всего здесь содержалось около 8 тыс. поляков, еще какое-то количество — на отдельных лесозаготовительных пунктах. Это была своеобразная трудовая армия, разбежавшаяся с приближением наступающих немцев или захваченная ими. Данный факт не нашел отражения в расследовании ГВП. Власть полностью устранилась от необходимости защиты национальных интересов. Историческая правда интересовала только общественных активистов.
В ноябре 2005 году противники исторической лжи вышли на митинг к польскому посольству — об этом митинге развязно говорили в эфире «Эхо Москвы» Ганапольский со Сванидзе. Выступления были посвящены фальсификации дела и требованиям расследовать его в полной мере и вынести решение в судебном порядке. На эту инициативу отреагировало общество «Мемориал». Но «Мемориалу» нужна была не правда, а только поводы, чтобы унижать Россию и говорить гадости в адрес патриотического движения. На этот раз «мемориальцы» выступили с письмом в адрес польского посла, переполненным ложью, фантастическими измышлениями и клеветой. Митинг у стен польского посольства они назвали «омерзительной акцией», а ее лозунги — «манифестацией ненависти», попыткой оправдать преступления Сталина и Берии и даже оправдание нацистской агрессии 1939 года. Их интерпретация митинга у польского посольства показала, что эти люди не способны сказать ни слова правды. Любому очевидцу или участнику митинга было ясно, что «мемориальное» описание бесстыдно перевирает все, что происходило в действительности и извращает высказанные ораторами позиции.
Зная о моей активности, «мемориальнцы» уделили внимание и моей персоне. Они понимали, что у меня с ними не может быть никаких точек соприкосновения. Они мне отвратительны как враги моего народа и грязные лгуны. Поэтому «мемориальская» шушера писала польскому послу донос: «Вполне закономерно и участие в позорном спектакле 4 ноября депутата Государственной Думы РФ от партии «Родина» Андрея Савельева. Этот парламентарий уже давно зарекомендовал себя как сторонник националистических, шовинистических и антисемитских взглядов. Его активность на пикете всего лишь расставляет точки над «і»: она демонстрирует истинную политическую ориентацию организаторов акции, проясняет идеологические предпочтения «Родины» и еще раз подтверждает, что появление свастики в символике пикета — не случайность».
Какая еще свастика? Дело в том, что на митинге в качестве наглядно агитации присутствовал макет памятника польским офицерам, возведенный в Нью-Йорке. Он отличался от трагичной фигуры, созданной американскими печальниками о судье Польши, только тем, что штык винтовки пронзал фигуру не в спину, а чуть ниже. Чтобы не повторять фальшь американцев, на прикладе винтовки была изображена свастика. В соответствии с исторической правдой: немцы во главе с Гитлером добили бегущую польскую армию. Переносить на родную почву двусмысленность, которая всегда трактуется против России и русских, никто не хотел. Ведь винтовка вполне могла считаться советской, а удар штыком в спину — будто бы, предательством по отношении к полякам. Мы-то знали, что ничего подобного не было. Напротив, наши солдаты спасли от немедленной смерти множество поляков — и военных, и гражданских. Подлость «Мемориала» в том, что его текст не поясняет что это за «символика пикета». Как будто участники митинга пришли с плакатами, на которых была свастика! Этого не было.
«Правозащитники» взяли за правило науськивать власти на патриотическую оппозицию, запугивая Кремль реакцией мирового сообщества. Их все меньше слушают, поскольку до мирового сообщества этим жалким группкам «мемориальцев» не докричаться. Во власти их слышат только считанные отморозки с таким же повреждением морали и психического здоровья. Именно поэтому «Мемориал» в равной мере ненавидит Россию, российскую власть и русских патриотов. Называя участников митинга «кучкой политических хулиганов», «мемориальцы» разоблачают себя как политическая шпана. Встав на защиту фальсификаторов «Катынского дела» эта группировка заявила свою цель: возбуждение розни между Россией и Польшей. Толкуя о несуществующих преступлениях, «Мемориал» в лице своих писарей, штампующих пасквили, сам совершил преступление. Обвиняя других в сталинизме, они сами суть рабы сталинизма, ибо без мифов о сталинизме жить не в состоянии. Этим некрофилам выжить среди нормальных людей позволяет только ненависть, обвинения других в преступных деяниях и тотальная ложь.
Я еще надеялся, что есть разумные доводы, которые могут подвигнуть режим Путина к тому, чтобы защищать интересы страны. Написал в Администрацию Президента Игорю Сечину, который заведовал доступом к президентскому архиву. Там можно было найти косвенные данные об истинной судьбе польских офицеров. Мы знали, где искать. Но запросы остались без ответов. Мне сообщили, что о допуске к архивам даже для депутата Госдумы не может быть и речи.
Потом я написал письмо Президенту РФ. Обосновал — особую опасность для страны претензий Польши, которые международный суд мог признать состоятельными. Требовалась энергичная работа, чтобы на Катынский миф ответить правдой о Катыни. Были подробно изложены обстоятельства, указывающие на фальсификацию дела. Предложено сформировать непубличную исследовательскую группу, которая в течение полугода подготовит материал для публикации и стратегию противодействия польским претензиям. Возникал бы повод возобновить расследование, создать убедительные следственные материалы, сделать их публичными, разоблачить заговор фальсификаторов.
Президентская «вертикаль» осталась глухой к моим предложениям. Только в зале заседаний Думы в перерыве ко мне подошел один из сотрудников Администрации и вполголоса, чтобы никто не слышал, похвалил мою записку, направленную секретной почтой. Никаких последствий эта похвала не имела. Нет, власть не собиралась заниматься проблемами страны. У нее были свои собственные проблемы. А общественную активность приказано было подавлять.
В марте 2006 года группа граждан намеревалась провести митинг у здания ГВП с целью публично заявить требования о гласном, объективном и всестороннем рассмотрении в суде материалов расследования уголовного «Катынского дела». Московские власти сделали все, чтобы сорвать митинг. Инициаторов вызывали для «профилактических бесед». Раз за разом отвергались одна заявка за другой. В беседах участвовал глава следственно бригады по «Катынскому делу» и сотрудники Правительства Москвы — генералы, полковники, генерал-полковники. В ходе бесед было сообщено, что причина для запрета митинга будет непременно найдена.
Еще раз тема Катыни коснулась меня лично в поганень-кой брошюрке, где русофобы собрали несколько публикаций ученых, которые соблазнились гонорарами за публикацию оскорблений и клеветы в адрес нескольких книжных публикаций, касающихся проблем русской нации. Почти все авторы оказались из русофобского гнезда — Института этнологии и антропологии во главе с Валерием Тишковым, который в России с начала 90-х годов курирует межнациональные отношения, а теперь занимается еще и проблемами толерантности в Общественной палате. В указанном заведении есть некий отдел народов Кавказа. В отделе заведующий — С.Арутюнов. Ему было дано задание в три странички оценить мою книгу «Время русской нации». Конечно, не читая ее, а лишь скользнув взглядом по любезно предоставленным «правозащитниками» цитатам. Среди всех прочих цитат оказалась буквально единственная фраза о «Катынском деле».
Не будучи в курсе «Катынского дела», которым я занимался несколько лет как депутат Госдумы, Арутюнов обвинил меня в клевете на власть, которой я предъявил претензии за поддержку гббельсовского мифа о расстреле 25 тыс. польских офицеров. Для ученого, не видевшего в глаза никаких документов, весьма смело делать выводы о том, что «вина НКВД в катынских расстрелах на сегодня доказана уже неопровержимо». Особенно поражает гражданский пафос вставшего против «популистской клеветы на власть» гордого защитника правды. Ученым можешь ты не быть, а быть доносчиком — обязан. Таково, как я понимаю, кредо русофоба, внедренного в ученую среду.
Помимо проблемы исторической правды, есть еще и проблема российско-польских отношений, омраченных «религией Катыни», ставшей основой польского политического самосознания. В Польше отрицание убийств польских офицеров сотрудниками НКВД приравнено к уголовным преступлениям. Тем самым, смыкаются «религия Катыни», «религия Холокоста» и русофобия, стремящаяся доказать, что между фашистами и русскими нет никакого различия. Русские, не желавшие брать на себя фальсифицированное «Катынское дело», — настоящие современные неофашисты! Собственно, такая характеристика давалась всем русским, кто не соглашался с позицией властей, а также прокрем-левскими СМИ. Не зная ничего по поводу «катынского дела», они были уверены, что «русские фашисты» не могли не расстрелять несчастных польских офицеров — настоящих борцов с фашизмом.
Груз «Катынского дела» может немалым весом лечь на плечи русского народа, как лежит «Холокост» на плечах немцев, расплачивающихся не одно поколение вовсе не за нацизм, а за миф о еврейских страданиях, которые признаны почему-то самыми ужасными. Другим народам подобная мифология не свойственна, они на своих жертвах и своем горе не делают грязный бизнес. Русские полякам не предъявляли счет за десятки тысяч уморенных голодом и болезнями пленных красноармейцев, которых в 1920 году держали в чистом поле за колючей проволокой, пока большая часть из них не отдала Богу душу. А вот поляки потребовали от России «компенсации» за геббельсовский миф о польских офицерах. Сначала в 2005 году польский сейм принял резолюцию с требованием к России признать геноцидом расстрел пленных польских офицеров. В 2007 году в Польше к власти пришли отпетые русофобы братья Качиньские. «Катынская религия» стала их главным аргументом на выборах. В центре Варшавы они провели фотовыставку «Katyn», предваряя ее плакатом, где зверомордые русские с окровавленными руками расстреливали польского офицера. Специально к выборам был создан фильм А.Вайды «Катынь». Хотя режиссер попытался превратить его в мелодраму, всепольский показ (а потом и всемирный) и множество публикаций, посвященных премьере, вызвали всплеск яростной русофобии. После победы на выборах Лех Качиньский провел демонстративную акцию: повысил в званиях всех поляков, которые считаются погибшими в Катыни.
Попытки поляков говорить о том, что их интересует только моральный ущерб, опровергаются тем, что уже в 1989 году сейм Польши предлагал СССР в порядке компенсации списать задолженность Советскому Союза в размере 5,3 млрд инвалютных рублей. В 2008 году разговоры шли не о покаянных заявлениях, а о компенсациях родственникам погибших. Отказ московского суда рассматривать требования о реабилитации расстрелянных польских офицеров дал инициаторам соответствующего иска основание обратиться в Страсбургский суд по правам человека. Решение этого суда предопределено предшествующей историей и политической конъюнктурой. В 2010 году рассмотрение дел о «компенсации» (пока что моральной) было принято к рассмотрению. Так русофобия Кремля оборачивается моральными и материальными потерями для России.
«Катынское дело» не оставляло меня и после завершения работы в Думе. Сергей Стрыгин познакомил меня с криминалистической экспертизой «записки Берия», в которой было достоверно установлено, что она напечатана на двух разных машинках. Последние листы явно являются подменой.
Через несколько месяцев разразилась трагедия под Смоленском — «Катынь-2». Польские летчики угробили все руководство страны вместе с Лехом Качиньским, попытавшись посадить самолет в плотном тумане и вопреки настоятельным рекомендациям диспетчеров аэропорта. Русофобы очень хотели найти в катастрофе «руку Москвы». Но не получилось. Скорее тут стоит говорить о Божьей Воле. Ведь поляки торопились на масштабное мероприятие к «годовщине расстрела», закрепляя фальсификацию истории государственным ритуалом. И российское руководство готово было им в этом содействовать.
Наконец, в мае 2010 разорвалась информационная бомба — депутат ГД Виктор Илюхин обнародовал свои контакты с человеком, который сообщил о порядке и методах фальсификации «Катынского дела» и других подобных «дел», которые были организованы в начале 90-х и продолжались много лет. Виктор Иванович позвонил мне и предложил принять участие в подготовке материала, суммирующего разоблачение фальсификации. Мне была прислана записка «комиссии экспертов» под руководством директора Института государства и права Российской академии наук академика Б.Н.Топорнина, составленная в 1993 году. Это был новый для меня документ, и я с особой тщательностью проследил все хитросплетения мысли придворных фальсификаторов истории. Свой разбор этой записки я отправил в Думу, и она была использована для подготовки итоговой коллективной публикации.
Борьба за историческую правду продолжается.
Кремль капитулирует перед Японией
Накануне празднования 60-летия Победы в Великой Отечественной войне мы с соратниками решили внести на рассмотрение Думы законопроект «Об установлении даты прекращения состояния войны между Советским Союзом и Японией». У непросвященного наблюдателя такой законопроект мог вызвать недоумение. В самом деле, война кончилась 60 лет назад, а мы тут занимаемся каким-то странным правотворчеством. В действительности правовой пробел, связанный с отсутствием правомочно принятого акта о дате окончания войны с Японией, оказывал серьезное влияние на российско-японские отношения, омрачая их постоянным возвращением к вопросу о «северных территориях». Пробел был очевиден в связи с тем, что подобные обстоятельства были урегулированы в отношении Германии. Причем совсем не в мае 1945 года, как многие думают. Тогда был решен вопрос о капитуляции германских войск, а срок окончания войны (определявший многие правовые вопросы) был обозначен десятилетием позднее — Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25.01.1955, утвержденным Верховным Советом СССР 9.02.1955 г.
Правовой пробел породил ряд ошибочных шагов со стороны советского государственного и партийного руководства, в частности — включение в известную совместную Декларацию от 19.10.1956 г. фраз о «прекращении состояния войны между СССР и Японией», о «восстановлении дипломатических и консульских отношений между СССР и Японией» и некоторых других, которые были, тем не менее, ничтожными в юридическом отношении с момента подписания. Ошибочной следует признать также ссылку на эту Декларацию, не ратифицированную в надлежащем порядке, предусмотренном Конституцией СССР, в некоторых дипломатических актах органов исполнительной власти РФ, которые могли быть неправильно поняты руководством современной Японии, неверно трактовались руководством РФ. Произвольные трактовки Декларации давали врагам России широкое поприще для псевдоправовых претензий в адрес нашей страны. Многими при этом наша страна выставляется как агрессор. На самом деле действия советского руководства были обусловлены договоренностями, достигнутыми на Потсдамской конференции великих держав.
Дело в том, что при заключении упомянутой совместной советско-японской Декларации со стороны руководства СССР было допущено существенное правовое нарушение, выразившееся в том, что она рассматривалась как обычный двусторонний международно-правовой акт, ратификация которого, согласно Конституции СССР, относилась к ведению Президиума Верховного Совета СССР. В действительности, содержащиеся в этой Декларации положения регулировали вопросы войны и мира, в частности вопрос прекращения состояния войны между СССР и Японией, в связи с чем такого рода вопрос мог быть решен лишь высшим государственным органом СССР — Верховным Советом СССР. Но так как Верховный Совет СССР не рассматривал данного вопроса и не принимал по нему решения, то указанная Декларация в той её части, которая относится к исключительному ведению Верховного Совета СССР, является ничтожной в юридическом отношении с момента её подписания, как и факт её ратификации со стороны Президиума Верховного Совета СССР, не имевшего таких полномочий в отношении данного вопроса.
Надлежащий законодательный акт в отношении состояния войны между СССР и японским государством издан не был. Но это не может служить основанием для того, чтобы считать непрекращеннным состояние войны между СССР и японским государством. Проблема заключается лишь в определении законодательством СССР или его государства-продолжателя, каковым является Российская Федерация, даты ее юридического прекращения. Состояние войны между государствами прекратил акт о безоговорочной капитуляции одной из сторон. Проблема в том, что до Второй мировой войны не было ни общепризнанного правового решения, ни прецедента. Поэтому вопрос был решен великими державами-победительницами в результате победоносного завершения войны в отношении Германии и Японии. Оба эти государства и их государственные институты были упразднены победившими державами, подвергнуты оккупации их вооруженными силами с установлен оккупационный режим. В дальнейшем на территории бывшей Германии державы-победительницы санкционировали создание двух немецких государства (ГДР и ФРГ), а также особого политического образования в виде Западного Берлина, а на территории бывшей Японии — японского государства. В отношении других государств, участвовавших во Второй мировой войне на стороне Германии и Японии (Италия, Болгария, Венгрия, Финляндия и т. д.), заключались не акты о безоговорочной капитуляции, а перемирие, не упразднявшее их в качестве субъектов международного права.
Акт о безоговорочной капитуляции воюющего государства, что имело место со стороны надлежащих властей Германии и Японии, прекратил практическое и юридическое существование этих государств. Поэтому прекращение состояния войны с такими государствами является прерогативой законодательства державы-победительницы, принимающей решение в одностороннем порядке. Современная японская государственность не является ни продолжателем, ни правопреемником того японского государства, в отношении которого Союзные государства вели войну (Китай с 1937, США и Британия с 1942 г.) и против которого СССР объявил войну с 9 августа 1945 г. Таково мнение многих отечественных правоведов и специалистов по международным отношениям.
Принятие предложенного нами закона призвано было навсегда снять с повестки российско-японских отношений какие-либо территориальные вопросы, обусловленные результатами Второй мировой войны. Учитывая международную и внутриполитическую важность такого акта, я решил предложить председателю Госдумы Б.Грызлову стать инициатором его принятия и направил ему личное послание не этот счет. При этом можно было бы избежать фракционной ревности и сделать серьезный политический шаг, укрепляющий правовые основы российской государственности накануне праздника Победы.
Конечно, я знал о трусости и, мягко говоря, неумности Грызлова, но надеялся, что в нем есть хотя бы зародыш честолюбия. Мой расчет оказался неверным. Грызлов не только не рассмотрел мое личное послание, но поступил неприлично. Он не ответил мне, а отправил присланные мной бумаги в Комитет по международным делам, который состряпал нелепейшее «заключение». Феноменальное невежество экспертов комитета и его многолетнего главы К.И. Косачёва мне было известно, и нелепости «заключения» меня не удивили. Все они могут приобрести статус музейных экспонатов в будущей экспозиции истории измены.
Косачёв утверждал, что ратификация Советским Союзом Совместной Декларации от 19.10.1956 г. была осуществлена в соответствии с действовавшей тогда Конституцией СССР. Однако такое мнение противоречит ее положениям.
Действительно, согласно п. «м» ст. 49 Конституции СССР 1936 г. ратификация и денонсация международных договоров была отнесена к компетенции Президиума Верховного Совета СССР, но это полномочие не распространяется на вопросы войны и мира. Их решение согласно п. «б» ст. 14 Конституции СССР отнесено к исключительному ведению Верховного Совета СССР. Именно поэтому прекращение состояния войны с Германией была решено не только Президиумом Верховного Совета СССР, издавшим указ от 25.01.1955 г., но и постановлением Верховного Совета СССР от 9.02.1955 г. В отношении войны с Японией Верховный Совет СССР соответствующего решения не принимал. Отсюда следует, что нет оснований считать ратифицированной Совместную Декларацию от 19.10.1956 г., как и надлежащим образом оформленное решение о прекращении состояния войны с Японией, объявленной Советским Союзом с 9 августа 1945 г.
Далее Косачёв утверждал, что «капитуляция не прекращает состояния войны». При этом он игнорировал тот факт, что в случае с Японией имела место не капитуляция ее вооруженных сил, но безоговорочная, без каких-либо условий капитуляция государства Японии. Такая капитуляция не только прекращает ведение военных действий, но и прекращает состояние войны, поскольку с подписанием такой капитуляции прекращает своё существование один из субъектов войны — побеждённое и капитулировавшее государство. В случае безоговорочной капитуляции государства, находившегося до этого в состоянии войны, юридическое прекращение состояния войны с таким государством не может быть оформлено государством-победителем «двусторонним актом», как это утверждал г-н Косачёв. Состояние войны в данном случае может быть прекращено лишь односторонним актом государства-победителя — СССР. А поскольку этого не было вовремя сделано, то Российской Федерацией, являющейся его продолжателем.
Косачёв также не привел ни одного аргумента, опирающегося на так называемое международное право, чтобы доказать что современные государства Германия и Япония являются продолжателями германского и японского государств. Что свидетельствовало о полном невежестве, несостоятельности руководителя Комитета, а также об изменнической позиции. Последнее особенно важно в связи с тем, что «Единая Россия» и ее хозяева защиту национальных интересов России всегда лишь имитировали, а международные акты стремились трактовать всегда в пользу иных государств.
Понимая безнадежность склонения изменников к необходимому для нашей страны решению, я счел необходимым вынести вопрос на публичное обсуждение и представил законопроект от своего имени. В качестве соавтора меня решил поддержать только А.Н.Крутов. Фракция «Родина» к тому моменту находилась уже в полуразложившемся состоянии, и не смогла вынести по законопроекту никакого решения.
Думская бюрократия долго держала его под сукном. На пленарное заседание он был вынесен лишь летом 2006 года, когда политический момент (60-летие победы над Японией) был упущен. Стенограмма свидетельствует об обстановке, в которой проходило «обсуждение».
Савельев А. Н. Уважаемые коллеги, конечно, в нынешней обстановке голосовать скорее будет желудок, чем мозг, но я предлагаю законопроект от имени двух авторов для настоящих политических гурманов, потому что этот законопроект уникален по своей сущности. Уникален не только по содержанию, но и по реакции на него как со стороны профильных комитетов, так и со стороны правительства. Это сочетание очевидности этого законопроекта, его правовой основы, и чудовищной безграмотности тех, кто готовил отзывы на него. (…) Самое главное в законопроекте, который предлагается, вовсе не его содержание. Оно совершенно очевидно. Главное — это реакция Комитета по обороне. Совершенно безграмотная. Эксперты и депутаты считают, вероятно, что авторы законопроекта никогда не читали декларацию, подписанную СССР и Японией, и поэтому своё заключение Комитета оформили в виде цитаты из этой декларации, проявив тем самым неуважение к законодательной инициативе. То есть, неуважение к основам нашего государственного устройства. Они не прочитали пояснительную записку, в которой всё ясно и понятно изложено. То же самое я бы сказал по поводу Правового управления Аппарата Государственной Думы, которое также составило заключение, как будто не читая те документы, которые предложены для голосования. И здесь ссылаются на декларацию 1956-го года как раз в противоречие тому, что предлагают авторы законопроекта — увидеть ошибку и признать, что эта декларация не действует.
Можно сказать, что и мнение Комитета по международным делам, которое здесь критикуется не первый раз и расходится с национальными интересами России, относится к такого же рода глупым и бессодержательным документам. Комитет прямо игнорирует содержание законопроекта и содержание пояснительной записки, где всё ясно настолько же, насколько, я надеюсь, это ясно тем, кто сидит здесь в зале и слушает меня. Здесь ссылаются на соответствие Конституции СССР 1936 года. То есть чёрное выдается за белое. Здесь также есть ссылка на декларацию 1956 года — все доводы те же самые. Все они представляют собой не что иное, как пересмотр итогов войны.
Отчасти глупость той декларации, которая долго портит кровь нашим дипломатам, тоже связана с этим: торопясь, проголосовали и забыли. А прошлое начинает захватывать наше будущее, и сейчас мы мучаемся с «северными территориями» из-за пресловутой декларации. У нас есть возможность сказать, что она ничтожна, и восстановить нормальные отношения с Японией, забыв обо всех конфликтах.
Но самое примечательное — это официальный отзыв правительства. У меня всё время ощущение, что в правительстве сидят два интеллектуальных калеки и пишут весь этот бред в ответ на наши законопроекты. Я сейчас зачитаю, чтобы представителям правительства было стыдно: «Мотивы авторов законопроекта не ясны». Такое впечатление, что в правительстве нет телефона, такое впечатление, что в правительстве не могут прочитать элементарные вещи, написанные на бумаге. Далее: «Практика международноправового регулирования отношений войны и мира не имеет прецедентов (!) установления даты окончания войны задним числом и в одностороннем порядке».
Передним числом устанавливается окончание войны или задним? Вы знаете хотя бы один прецедент, когда дата окончания войны установлена в день окончания войны? Общая практика, общий факт: дата окончания войны устанавливается после окончания военных действий, и ещё долгое время выясняют, когда же, наконец, военные действия были прекращены? Декларация 1956 года, на страже которой стоит правительство, пустая! Правительственная ложа так же пуста, как и головы вот у этих людей, которые писали отзыв…
Председательствующий. (О.В.Морозов) Я делаю вам замечание, депутат Савельев.
Савельев А. Н. Да, спасибо, я благодарен вам за замечание.
Председательствующий. В следующий раз, если вы будете допускать такие выражения, я отключу вам микрофон.
Савельев А. Н. Хорошо я буду очень рад.
Постоянно, везде и всюду, и в декларации 1956 года в том числе, дата окончания войны устанавливалась после её завершения. Иногда десятилетия проходят с того момента, когда война закончилась. И декларация 1956 года как раз об этом и свидетельствует: прошло больше десятилетия с момента капитуляции Японии. Я считаю, что заочное обсуждение законопроекта, который вам предложен, демонстрирует полную несостоятельность тех лиц, которые сегодня связаны с определением стратегии нашего внешнеполитического курса, полную несостоятельность экспертов, которые консультируют наших политиков, подписывающих те самые бумажки, которые я вам показал и процитировал. Остаётся только один и последний шаг в этом абсурде — продемонстрировать, что и Государственная Дума в лице оставшихся в зале депутатов столь же некомпетентна, как и люди, которые составляли те самые бумажки.
Я сочувствую господину Косачёву, который убежал и не стал здесь выступать с содокладом. Это же стыдобища! Как будто люди лишены представлений о формальной логине, лишены способности прочитать документ, прочитать Конституцию 1936 года, где всё внятно и понятно!
Я призываю вас не быть Иванами, не помнящими родства и забывающими, что для нас значил 1945 год. И призываю к тому, чтобы восстановить отношения с Японией в том формате, который нам необходим: Без всякого лукавства! Потому что не сегодня, так завтра декларация 1956 года будет признана ничтожной. Давайте же сделаем это сегодня, будем здравыми и честными людьми.
Кузнецов В Ф. заместитель председателя Комитета по международным делам, фракция «Единая Россия». Как видно из доклада, основной целью разработчиков является отказ от обязательств, взятых на себя Советским Союзом по Совместной декларации 1956 года, так как именно этим документом, являющимся, по сути, международным договором, ратифицированным парламентами обеих стран, было окончательно прекращено состояние войны между СССР и Японией. Предлагаемый сегодня шаг политически будет означать отказ от всей сложившейся после 1956 года договорной системы с Японией и иметь серьёзные последствия для всего комплекса российско-японских отношений. В соответствии со статьёй 15 Конституции России 1993 года общепризнанные принципы и нормы международного права и ратифицированные международные договоры Российской Федерации являются основной частью её правовой системы и имеют прямое действие. Действовавшие на момент подписания декларации нормы российского законодательства, в частности статья 49 Конституции 1936 года, предусматривали порядок ратификации международных договоров Президиумом Верховного Совета СССР. Однако если даже предположить, что внутреннее советское законодательство не было соблюдено в полной степени, действующие нормы международного права, в частности статья 46 Венской конвенции 1969 года о праве международных договоров, не позволяют ссылаться на его нарушение как на основание признания недействительным международного договора. Нетрудно представить политический резонанс в Японии в случае реализации такой инициативы. Нельзя исключить, что японские территориальные требования, освобождённые от условий статьи 9 декларации, приобретут совсем иную конфигурацию, что может нанести серьёзный ущерб интересам нашей страны.
Что такое «по сути международный договор»? Какие иные последствия для России имеет Декларация кроме того, что японские политики используют ее против нашей страны? Как можно увидеть негативные последствия в случае отмены Декларации, если она тут же заменяется законными решением? Представитель комитета лукавил. Ссылка на Венскую конвенцию была явно неуместна, поскольку речь касалась не международного договора, а лишь декларации. Кроме того, она юридически не вступила в силу и не может иметь никаких последствий. О чем и следовало заявить. Но наши изменники не таковы. Они стремились быть любезно принятыми на банкетах и конференциях, которые для них устраивали враги России. Именно это было единственным действительным мотивом поведения Косачева и прочих соучастников измены.
Ну и штатные невежды поддержали общий стиль рассмотрения законопроекта.
Воронин П. Ю., фракция «Единая Россия». Прослушав выступление автора законопроекта, я ряд неточностей обнаружил и не могу не выступить. Во-первых, есть прецеденты подписания договора об окончании войны до её окончания. Великая Отечественная война — капитуляция была под-писана 8 мая в 11 часов вечера (в Москве это было 9-е), а бои шли, например Прагу взяли 15 мая. То есть формально дата окончания — 8-е, а 15-го ещё шли бои. То, что касается Японии. Вот я был в феврале в Японии, группа молодых парламентариев у нас была, а потом мы к ним поехали. И вот я вам скажу, что они не признают эту декларацию 56-го года не потому, что она не ратифицирована, а потому, что они не хотят её признавать.
(…) Что касается того, что у вас все дураки вокруг, в комитете — дураки, в правительстве — дураки, в ГПУ — тоже, все неучи, бестолковые, идиоты, знаете, есть хорошая пословица: когда два человека говорят, что ты свинья, то надо хрюкать. Я считаю, что ваши аргументы абсолютно неуместны и то, что вы предлагаете, — это какой-то юридический бред, абсолютно ненужный ни России, ни Японии. Я считаю, что у нас есть МИД, в котором грамотный руководитель, и то, что с советских времён, с 50-х годов этот гордиев узел не удаётся разрубить, на это есть, наверное, объективные причины, и прежде всего нежелание японцев, чтобы эта проблема была урегулирована.*
(…) И я думаю, что, если бы проблема была так просто решаема, за шестьдесят лет уже давно бы ратифицировал Верховный Совет СССР или Дума первого, второго, третьего и других созывов. Поэтому абсолютно не вижу смысла его принимать.
Савельев А. Н. К сведению депутата Воронина повторю: прекращение Великой Отечественной войны было объявлено Указом Президиума Верховного Совета СССР 25 января 1955 года и утверждено Верховным Советом СССР 9 февраля 1955 года, таким образом, всё это произошло вовсе не до завершения войны.
Я ругательств в своём выступлении не употреблял, их употребил депутат Воронин, и это на его совести. Характеристику «бред», адресованную мне, я возвращаю ему. Могу точно так же осуждать его собственное высказывание. (…)
Я думаю, когда-нибудь депутатский корпус сменится и будет слушать голос разума, будет защищать национальные интересы России более последовательно и более успешно, чем сейчас.
Закон было поддерживать некому. Прокремлевские силы были проинструктированы, а вымотанные бестолковщиной оппозиционеры досрочно ушли обедать. За законопроект было подано лишь 11 голосов.
Нет сомнений, что думские негодяи действовали по указке негодяев, засевших в МИД. Для последних вечно висящий в воздухе вопрос являлся своего рода средством кормления: на поддержание «диалога» по вопросу о «северных территориях» можно было бесконечно тратить бюджетные средства и делать веские заявления. Так, в конце 2004 года министр иностранных дел Лавров, касаясь русско-японских отношений, сказал, что Россия, являясь продолжателем СССР, признает советско-японскую Декларацию 1956 года; что для решения территориального вопроса с Японией может быть использован тот же подход, что и с Китаем (то есть, кремляне готовы уступить территорию); что в Москве хотели бы урегулировать отношения с Японией в полной мере, и для этого важно подписать мирный договор, которым. Россия признает, что территориальная проблема должна быть урегулирована. («Российская газета», 15.11.2004).
Собственно, такого рода высказывания и привели нас к необходимости внесения законопроекта. Ведь территориальные уступки со стороны режима Путина планировались, и уступка российских островов Японии была вполне реальной. Лишь усилия многих людей удержали Путина от очередного предательства. Надеюсь, что и наша инициатива была одним из сдерживающих моментов. Если бы не подобные усилия, Путин распродавал бы направо и налево наши национальные интересы и наши территории.
Настроения в российском обществе не позволили Путину отдать Курилы. Негативную оценку такому шагу во всех опросах давали 80–90 % граждан. Жесткий протест по этому поводу со стороны жителей нашего Дальнего Востока, прежде всего Сахалинской области, частью которых являются Курильские острова, пугали кремлевских изменников. Но они снова и снова будут подступаться к проблеме Курил, пока общество не капитулирует. Либо, пока русские патриоты не сметут режим изменников.
Русская правда о Великой Победе
Празднование 9 мая каждый раз ставит перед русскими вопрос: как совместить официальное прославление Победы, по праву принадлежащей русскому народу, с тем, что власть позволяет русофобам клеветать на нашу историю и заполнять СМИ фальшивыми хрониками и бесстыдным перевиранием правды в разного рода сериалах и кинофильмах?
Очевидное нежелание власти видеть в Победе ее истинный смысл порождает такие уродливые явления, как отказ некоторых русских людей считать Победу своей, считать ее праздником. Аргументом служит продолжение нынешней властью русофобии, которая имела место в условиях коммунистического режима. Неприятие коммунизма выливается в неприятие Победы, неприятие нынешней власти — даже в отрицании России как родины русского народа. Моральный тупик этой позиции состоит в противопоставлении государства и народа. Под государством пытаются понимать только систему институтов власти. Но это чудовищное заблуждение, которого не допускает даже не очень грамотно составленная Конституция, где сказано, что Россия — это государство.
Россия — русское Отечество, Родина. Она не может замещаться в нашем сознании властью. Власть может быть чужой, а Россия для русского человека — всегда своя. Власть в нынешней России несет в себе порок русофобии. Но Россия — русское государство, в котором русский народ только и может существовать. Отрицание русофобской власти состоит не в том, чтобы отречься от России, а в том, чтобы заменить в России власть и принудить чиновничество к следованию русским национальным интересам.
Противоречием официозных торжеств смыслу Победы является стремление власти продлить в сознание народа пораженческую установку: «лишь бы не было войны». Такая установка дает возможность торговать национальными интересами, обращая их в частный доход. Победа говорит нам о противоположном: «мы за ценой не постоим». Это завещание героического поколения наших предков, отдававших жизни за Победу.
Пацифизм не совместим с Победой. Это значит, что России требуется прямо противоположенное тому, что насаждает власть. Нам нужен прагматично осмысленный милитаризм, позитивный реваншизм и наполненный смыслом патриотизм.
Осознанный патриотизм и есть национализм. «В хорошем смысле слова», — как сказал В.Путин, определив себя и будущего президента Д.Медведева как русских националистов. Национальные интересы превыше всех прочих — в этом содержание национализма. При этом Россия как русская страна (во всех смыслах) не может лишать свой национализм русского духа, русского образа, русской традиции. Политический национализм в России может быть только русским. Этому учит нас и Победа. У Великой Победы русское лицо. Только так и можно понять, что такое «национализм в хорошем смысле».
Правда о войне — это русская правда, правда о русском народе. Как бы ни врали наши враги о том, что мы «завалили трупами» великолепную армию Германии, факты истории говорят о том, что русские воевали не хуже противника, находясь в крайне сложном положении. Мы воевали со всей Европой, которая теперь пытается приобщиться к Великой Победе, имея к ней самое незначительное, ничтожное отношение. При этом тщательно скрывая свою прямую причастность к тому, что гитлеровская Германия приобрела все европейские ресурсы и была направлена против нашей страны. Никто не смог противостоять немцам так, как смогли русские. Русские остановили чуму, рожденную только и исключительно в Европе. Русские вылечили Европу от фашизма.
Победа обеспечена главным образом русским подвигом и русскими жертвами. Они многократно перекрывают выдуманные сюжеты так называемого Холокоста, который превращен узким слоем еврейской общественности в постоянное средство фальсификации истории и частный гешефт. Русские жертвы реальны и достоверны. Жертвы других европейских народов также значительны. Но они значительны только тем, что каждый из народов вложил в Победу. Чудовищным извращением истории и поруганием Победы является непропорциональное внимание СМИ к жертвам других народов и принижение русской трагедии, которая несопоставимо значительнее трагедии любого другого народа, затронутого этой войной, и всех этих народов вместе взятых.
Правда о войне заключается в том, что в ней была одержана победа не над идеологией фашизма, как пытаются представить фальсификаторы истории. Победа была над Германией — над военной и государственной машиной. Доктрина фашизма была столь же далека от реальной практики нацистской Германии, как и коммунистические мифы от практики компартии в СССР. Эта доктрина до сих пор не стала предметом научного анализа и объектом идеологической борьбы. Потому что в противовес идеологии может быть выставлена только идеология. Коммунистическая и либеральная доктрины не способны противостоять фашизму, а потому предпочитают уклоняться от полемики С фашистской доктриной и воюют не против идеологии, а против людей, которым произвольно приписывают взгляды, определяемые как «русский фашизм». Мнимые антифашисты борются с русскими людьми, которые противопоставили фашизму самый решительный аргумент — Победу. Это не антифашизм, а русофобия.
Война сочетает трагедию и триумф, содержит в себе горечь и стыд поражений и славу побед, низость предательств и мужество героев. Без войны нет трагедии жерты, горечи утрат, позора измен, но нет и всего остального — нет победы. Войны неизбежны, и не в наших силах устроить мир без войн. Значит, мы должны быть готовы к войне и искать в войнах, если уж они нагрянут, триумф и славу. Потому что, как сказано Геродотом, «война — отец всего».
От войны образованы самые величественные сюжеты русской истории, священные символы нашей связи с великими предками. Прославление героев войны должно быть выше и значительнее, чем оплакивание жертв. К сожалению, въевшийся в наше общество пацифизм диктует прямо противоположное. Убивая тем самым жизнеспособность граждан и нации в целом, которые неизбежно будут участвовать в новых войнах. И уже участвуют в них, позволяя проникать в размягченное пропагандой сознание русофобским мифам и антигосударственным идеям.
Правда о современной России состоит в том, что чуждые русскому народу идеологические доктрины, утвердившиеся во власти и СМИ, могут только выхолащивать смысл, содержание и значение Великой Победы. Фактически происходит постепенная сдача позиций и уступка тем, кто стремится пересмотреть итоги войны. Это происходит также и потому, что мощь российской державы ослаблена настолько, что отстоять исторические завоевания предков она не в силах.
Наследие Победы не в том, чтобы показать по телевидению хронику и провести увеселительные мероприятия. Победа — это призыв к зрелой гражданской позиции, к иному качеству общественной жизни, которое сегодня не может и помыслить, что способно отразить грядущие нашествия на нашу землю. Прежде всего — идеологические, подрывающие основы нашей общности, нашу нацию. Победа и память о ней требуют пробуждения солидарности с предками, а значит — народного единства, которое делает наш народ непобедимым. Единства, прежде всего, русского.
Власть многие годы систематически разрушает это единство. Поэтому верить в трибунные речи в День Победы — верх глупости. Этот день — повод для размышлений, для достижения понимания своей собственной роли в продолжении русской истории.
Русское мировоззрение победно только в своей первозданной чистоте — без налета всякой интеллигентской чуши, в какие бы одежды она ни рядилась. Русская история дает нам образцы героизма, мужества, верности. Поиск иных героев и скрытых смыслов нелеп и вреден. Выдумывание «правды о войне» превращается в ложь о войне — в осквернение Победы выпячиванием какой-нибудь гнусной частности. Стыдно, когда этим занимаются писатели-фронтовики, в постсоветские времена вдруг обнаружившие в себе позыв к русофобии и страсть к «общечеловеческим ценностям». Многие из тех, кто был прославлен в прежнюю эпоху как носитель правды о войне, стали теперь лгать, подлаживаясь под запросы Запада или обесстыдевшей публики, сладострастно ненавидящей Россию.
Победа напоминает нам, что надо учиться побеждать, уметь побеждать, хотеть побеждать. А потому — не чураться войны и в определенных условиях даже хотеть войны и любить воевать, любить все, что связано с войной — быть милитаристом, милитаризированным обществом. Мужчина должен быть воином, чем бы он ни занимался. Женщина — матерью, сестрой, женой воина, опорой его воинского духа и стремления к Победе.
Наша Победа будет оболгана и опошлена, если мы не будем ее достойны. Если мы не начнем вновь побеждать, если не будем биться героически даже в самой безнадежной ситуации. А ситуация действительна близка к безнадежной. Власть говорит нам обратное, но большинство, раскинув даже не очень богатыми мозгами, знает, что это ложь. Уже много десятилетий Россия нигде всерьез не побеждала. Напротив, мы идем через череду поражений во всех сферах жизни. Без побед страна и народ умирают. Это трудно не замечать по современному состоянию России.
Победа — это призыв к мобилизации. Как и во время войны, когда катастрофа была очевидной, когда ее завершение полным разгромом было логичным, русские люди в большинстве своем сражались до конца. И поэтому логика истории приобрела другое направление. Те, кто сражались до конца, не щадя жизни, получили бесценную Победу. От нас же никто не требует немедленно отдать свою жизнь, но мы уже уверились, что ничего сделать нельзя, что демографический кризис, истощение природных ресурсов, многочисленность и экономическая мощь наших противников скоро сотрут нашу Родину с лица земли. Еще постыднее показной оптимизм: сила России неисчерпаема, поэтому всё как-нибудь само собой устроится. За этой улыбчивой глупостью угадывается надежда спасись лишь самому, не тратя сил на спасение страны.
Великая Победа — это наша, русская победа. Она вручена нам нашими предками как дар. Нынешняя власть ее недостойна. Она ничем эту Победу не подкрепила. Напротив, она сделала немало, чтобы Победа стала пустозвонным ритуалом лояльности к высшему чиновничеству. Но третьего не дано — либо солидарность с нашими предками и Победой, либо лояльность н власти, которая во многом противоположна и даже враждебна Победе.
Русские должны сказать себе: «Это наша Победа. Никому ее не уступим. Никакой власти в распоряжение не отдадим». Это наш праздник, это наша память о триумфе, которую мы храним, чтобы прийти к новым победам.
«Царские долги» и «французская болезнь»
Проблема правопродолжения
Погруженному в свои дела обывателю трудно понять дела государственной важности, не касающиеся его непосредственно. Он упорно будет считать множество важнейших тем совершенно пустыми и ненужными. И не возьмет в голову простую мысль о том, что многое вопросы «кое-чего стоят», и что на его долю от них тоже немало приходится. Один из таких вопросов — государственный статус Российской Федерации.
Казалось бы, что тут непонятного? Государство, как и все прочие, — со своей Конституцией, президентом, парламентом, армией, территорией и т. д. Но на поверку оказывается, что все не так. Государство откуда-нибудь да происходит. Оно не может входить в историю самозванцем. Не только у каждого человека, но и у каждого государства есть своя биография. В этой «биографии» заложены права государства на данную территорию, права высших органов власти распоряжаться унаследованными богатствами, обязательства по договорам — баланс долгов и кредитов и т. д.
Когда правительство РФ направо и налево дарило прежним союзникам десятки миллиардов долларов, оставшихся от обязательств перед советским правительством за поставки вооружений и другую помощь, чьим богатством оно распоряжалось? Уж не чужим ли? Ведь никакой приемки-передачи дел от союзного правительства российскому не было. Был лишь акт принятия РФ на себя ответственности за все советские долги, что, будто бы, обосновало право/ РФ также и на всю зарубежную собственность СССР и все финансовые обязательства в отношении СССР со стороны облагодетельствованных им стран. Получилось, что все не так. Долги наши мы признали, а долги нам в основном остались непризнанными.
Российская государственность не может существовать без соотнесения с прошлым — с использованием символов Империи, ее исторической славы, ее культурных достижений. Между тем, проникновению исторической памяти в право поставлен жесткий барьер. Так, МИД уклоняется от возможностей, которые предоставляет династическая дипломатия — пугается каких-либо контактов с Российским Императорским Домом. Перезахоронение праха Великой Княгини Марии Федоровны, запланированное как яркое мероприятие с государственным ритуалом, превращено в частное дело потомков династии Романовых, а статус царской усыпальницы в Петропавловской крепости так и остается на уровне музейной достопримечательности. Весь этот символизм имеет прямое отношение к благосостоянию страны. Потому что доброе имя и долговременная позитивная «кредитная история» конвертируется не только в национальной достоинство, но и в национальное богатство.
Проблема правопреемства или правопродолжения современной российской государственности от Российской Империи остается не выясненной ни с научной, ни с политической точки зрения. Российские правоведы лишь спорят о том, насколько объемлющим является правопродолжение Российской Федерации от СССР и правопродолжение ли это, если власть отказалась от множества обязательств советского периода — не только внешнеполитических, но и внутренних. Разумеется, безответственная власть хочет пользоваться всеми преимуществами, достигнутыми в предшествующие эпохи, но не желает нести ответственность перед гражданами, подвергнутыми унижению воровской приватизацией, ограблению путем освобождения цен и «дефолта». Поэтому внешний долг признается и выплачивается, а внутренний не признается и не выплачивается.
Одно из следствий принятия государственной властью всей полноты ответственности по обязательствам предшественников — это ответственность за статус граждан. Изменение контура границ, утрата территорий обязательно ставят на повестку дня проблему репатриации. Соответственно, возникает вопрос, каковы принципы репатриации? Кто имеет безусловные права на гражданство? В отношении кого государство обязано подтвердить статус гражданина? Отсюда возникает проблема континуитета (правопродол-жения), если мы имеем дело с тем же политическим субъектом, или проблема правопреемства, если политический субъект изменен.
В государственных делах правопреемство — дело почти невозможное, поскольку новый субъект обязан заново пересмотреть все свои обязательства, а все, кто имело таковые по отношению к прежнему государству, по своей воле могут от них отказаться. Соответственно, если бы РФ была лишь правопреемником СССР, ей пришлось бы отстаивать свое право на место постоянного члена в Совете Безопасности ООН, а также многие другие международные статусы.
Уклониться от правопродолжения не так-то просто. Но ельцинский режим предпочел уклончивые, неправовые формулировки, взяв на себя обязательства правопродолжения от СССР только в отношении международных договоров и в отношении территории. Внутренний континуитет был полностью отброшен, хотя это и не было отражено в каких-либо правовых актах. Принятие Конституции в 1993 году, напротив, декларировало обратное. В преамбуле Конституции имеется ссылка на историческую ответственность. Тем не менее, положения Конституции не нашли отражения в праве, правительство в РФ оказалось полностью безответственным.
Безответственность власти проявляется многогранно. В том числе и в проблеме репатриации. Законопроект о репатриации, внесенный в 2004 году в Государственную Думу депутатами фракции «Родина», получил отрицательный отзыв. Среди аргументов в официальном правительственном отзыве оказался и такой:
«…норма статьи 3 законопроекта о признании Российской Федерации правопреемницей Российской Империи противоречит общим положениям российского законодательства. Анализ заключенных международных договоров в этой области (Договор о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов Союза ССР от 4 декабря 1991 г., Соглашение глав государств Содружества Независимых Государств о собственности бывшего СССР за рубежом от 30 декабря 1991 г., Соглашение о распределении всей собственности бывшего Союза ССР за рубежом от 6 июля 1992 г.) позволяет сделать вывод о том, что Российская Федерация является правопреемником только лишь Союза ССР».
Последовавшая депутатская переписка показала, что никакого анализа международных договоров в правительстве не было. Как не было и анализа российского законодательства, якобы, препятствующего введению института репатриации. Вице-премьер А.Д.Жуков не смог также ответить на вопрос, какие нормы российского законодательства мешают реализации правопреемства от Российской Империи. Все последующие выяснения показали, что таковых не существует. Зато существует политическая позиция, лишающая страну суверенитета, а правительство — ответственности перед гражданами. Что отражено также в именовании г-ном Жуковым нашего государства «многонациональным». В Конституции РФ есть слова только о «многонациональном народе». Никакого «многонационального государства» в правовом поле не существует. Тем не менее, одно из высших должностных лиц пользуется этим термином в официальной переписке при аргументации против внесенного депутатами законопроекта. Это говорит о глубоком непрофессионализме правительственных чиновников.
Здесь необходимо пояснение. Что такое «многонациональный»? Путаются термины «национальность» и «нация». «Национальность» это, грубо говоря, этичность. «Нация» — понятие политическое, связанное с государством. Этносов в стране живет много. При многозначности понятия «народ» нетрудно согласиться с тем, что народ в смысле населения страны — эго множество этносов (национальностей). Никто с этим и не спорит. А вот что есть для России «нация»? Если мы скажем, что у нас «многонациональное государство», то это возможно только в одном случае — в случае конфедерации. В одном политическом субъекте не может быть двух наций. Таким образом, исходя из политической теории, любое унитарное (и даже федеративное) государство мононационально в принципе. Осталось определить, что есть нация в данном конкретном случае. В России есть одна нация — русские. И национальные меньшинства, которые не составляют нацию (не делают значимого вклада в политическую культуру), но являются национальностями. И требуется защищать от дискриминации, а также предоставлять возможность приобщаться к политической культуре (госязыку — русскому, культурным основам государства — русской культуре) и т. д. Проблема только в том, что в России нацменьшинства защищены вполне, а вот русская нация составляет дискриминируемое большинство, отстраненное от собственного государства. Иначе говоря, политический субъект в России подменен: вместо государства-нации мы имеем государство-бюрократию. Которая имитирует свою «народность», опираясь исключительно на нацменьшинства. Мол, если есть «меньшинства», то уж «большинство» как-нибудь обеспечено и пристроено. На самом деле это не так.
Проблема правопродолжения\правопреемства становится не только научной, но и политической. Кто вправе решать судьбу России? Кто имеет право на статус гражданина? Что Россия наследует от прежних эпох? Нынешняя Россия и прежняя — один субъект права или разные? Если разные, то чем же обосновать право владения данной территорией, властвования над данным народом, обладание всеми богатствами, которые были прежде у Российской Империи и СССР?
Россия не оформила своих прав на наследство. Именно поэтому правительственные чиновники так легко «прощали» долги ранее облагодетельствованным государствам, даже не предпринимая попыток их «реструктуризации», обмена на имущество и прочие активы задолжавших стран. Они дарили заведомо чужое — то, что создавалось тяжким трудом народа. Нет сомнений, что за свои щедрые жесты чиновники получали колоссальные «отступные». Возникает вопрос: а мы им так же легко простим преступления, как они простили чужие долги, распоряжаться которыми у них не было прав?
В апреле 2006 г. появилась информация о том, что кремлевские чиновники затеяли учет зарубежной собственности и активов, включая те, которые по каким-то причинам ускользнули от контроля России. В том числе и наследство Российской Империи. Скажем в виде золота, которым царское правительство во время войны оплачивало военные поставки из США, не получив и 20 % закупленного. Управделами Президента даже сообщил, что создается база данных по собственности, общий объем которой оценивается в 400 млрд, долларов. Вопрос, с какой стати РФ задумала претендовать на достояние Российской Империи? Какое отношение постсоветская Россия имеет к досоветской? Чем оформлена преемственность прав? Оказалось — ничем.
Мне довелось вести длинную переписку с правительственными чиновниками, которые пытались скрыть еще одно преступление — выплату Франции так называемых «царских долгов», не имея для этого никаких оснований. Потому что долги Российской Империи к Российской Федерации не имеют никакого отношения. Они не приняты современной Россией как унаследованное обязательство ни в каком виде. Нет сомнения, что и в этом случае огромная сумма, вырванная из бюджета страны, была щедро оплачена правительственным жуликам. В то же время, на все мои запросы чиновники отвечали, что Россия не имеет статуса провопреемницы Российской Империи. Более того, чиновники страшно пугались самой перспективы такого преемства. Они точно знали, что их ответственность начинается с момента вступления в должность. Все остальное — совершенно чужое, к ним не относящееся. Именно поэтому бюрократии совершенно не жалко «чужого добра» — то есть, достояния исторической России, которое разбазаривали по грошу за рубль.
В прежние времена вопрос поднимался в Госдуме. Но робко и невнятно. Вопросы внешних заимствований обсуждались не раз, но «царские долги» в думских стенограммах всерьез зафиксированы лишь однажды.
Из стенограммы 6 декабря 1996 года
Черномырдин В.С. Да, действительно, на прошлой неделе (или, может быть, чуть больше времени прошло) мы во Франции подписали, наконец, все о долгах, то есть решили все вопросы по взаиморасчетам; в том числе (об этом много, я сегодня слышу, говорят и много в прессе пишут и там, и у нас) речь шла и о царских долгах, или о царских облигациях, которые были выпущены в начале века. Ну, для тех, кто не знаком и не знает какие это облигации, подо что они выпущены, я, может быть, вкратце скажу. Это строительство Транссибирской железнодорожной магистрали, дороги Санкт-Петербург — Москва, это строительство заводов в Санкт-Петербурге, Москве (там целый перечень заводов в 10–12 городах России). Все это было израсходовано, но это часть. Не все только укладывается в эти долги, то есть когда это к нам… Теперь какие мы имеем претензии.
Какие наши были претензии к французам? Ну, прежде всего ущерб, который был нанесен в результате интервенции 1918–1920 годов. Подсчитать тут многие пытались, думали, разные методики определяли. Ну, посчитали какую-то часть. Это часть золота, которое было увезено в 1918 году, когда Ленин принял решение часть золота вывезти в Германию, а из Германии — во Францию. Эту часть тоже конкретно никто не мог определить. Колчак вывез, говорят, 18 тонн, но тоже документов нет.
Работала комиссия еще в советское время, при том правительстве, и не при одном правительстве. И в конце концов, баланс был такой: мы должны были заплатить 1 миллиард 200 миллионов долларов, а мы сказали, что наша возможность и что мы считаем — 200–250 миллионов. В итоге после длительной, продолжительной работы сошлись на 400 миллионах — на несколько лет. На нас много жали, чтобы мы заплатили 300 миллионов, но сразу, в один год. Мы этого не могли сделать, и мы сказали: мы этого делать не будем, не сможем. Естественно, они нам перекрыли все пути. Поскольку Франция является еще и лидером в Парижском клубе, естественно, нам все тормозили из-за наших долгов, в том числе и тех ранних долгов союзных, которые были накоплены за много лет. Поэтому и пошли на то, что мы подписали 400 миллионов на несколько лет, а они нам снизили некоторые ставки по долгам, которые мы имеем. А вы знаете, что мы эти долги реструктурировали (в основном там союзные долги), но на 25 лет по Парижскому клубу и на 25 лет по Лондонскому клубу. И только с учетом снижения ставки (мы договорились на 0,5 процента понизить ставку) мы в год будем иметь от 150 до 190 миллионов долларов экономии. То есть, на льготный период до 190 миллионов, на следующий — до 25 лет, — конечно, доходность будет уменьшаться. В целом только от одного этого мы будем иметь эффект порядка 2,5–3 миллиардов долларов. Вот, значит, на что мы могли согласиться. Поэтому и подписали.
И спорить сегодня о том, Россия выиграла или Россия проиграла… Я считаю, мы ничего не проиграли. Доказать многое было почти невозможно, ибо никаких документов не было, а так только, одни эмоции. Поэтому и мы, и они решили на этом поставить точку. Если вы знаете, нас с еврооблигациями Франция не пустила. Многие инвестиционные компании, которые могли бы работать на нашем рынке, были, по сути, связаны, их не выпускали. Сейчас и эти проблемы сняты.
Фактически ельцинский премьер рассказал, как он согласился выплачивать долги, которые к Российской Федерации не имели отношения, Во-первых, потому что с Францией СССР находился в состоянии войны до 9 мая 1945 года и до этого срока никаких долгов Россия как правопреемница СССР признавать не могла. Во-вторых, потому что официального вступления в наследство Российской Империи Российская Федерация не провела, а Правительство РФ не имело полномочий, чтобы обсуждать вопросы о займах царского правительства и балансировать долги с ущербом от интервенции. Отказ считать ущерб от интервенции — это отказ от установления исторической правды, которую Черномырдин и прочие деятели просто смахнули под ноги «демократии».
У меня нет сомнений в том, что долги Франции были признаны в рамках большой коррупционной игры, в которой Россия была повязана всеми долгами СССР, а долговые обязательства перед СССР были практически полностью списаны. Сделка по незаконному изъятию из госбюджета 400 млн долларов кажется ничтожной на фоне многомиллиардных долгов Парижскому клубу. Но даже малая часть украденного — значительна в порядке установления правового прецедента и формирования правовой системы, которая не допускала бы подобного впредь
Как бюрократия закапывает Империю
Одна из ключевых правовых идей, которая возвращала бы России ее державный статус не только в воспоминаниях, означает оформление правопреемства от предшествующих форм российской государственности. Или, точнее, правопродолжения — не наследования от прежней власти (когда можно от чего-то отказаться, унаследовать права и обязанности частично), а владения в полном праве — владения субъектом, который не изменялся, несмотря на исторические катаклизмы и перемену форм правления.
Что президенту писать письма бесполезно даже депутату Государственной Думы, я предполагал, но все же пытался проверить, так ли это. По особым делам такие письма не только возможны, но и необходимы. Доверять их чиновникам — гиблое дело. Может быть, президент все же не чиновник, хоть и называл себя именно так — «чиновник, нанятый на срок»? Глава государства все же не должен быть просто чиновником. На это я и рассчитывал, обратившись по теме, которая была тесно связана с правопреемством России.
С традиционной российской государственностью нас связывают лишь два института — Русская Православная Церковь и Российский Императорский Дом. Вопреки очевидности этого факта сложилась ситуация, когда в отношении РПЦ и ее иерархов государственная власть РФ проявляет уважение и готовность к сотрудничеству, а к РИД относится как к какой-то фольклорной достопримечательности. На РИД смотрят как на забаву, которую можно купить — приобщить в качестве безделушки к коллекции бюрократии, собирающей умерщвленные ею институты общества и государства.
Традиция, если мы хотим воспринимать от нее живительную для нации силу, не может приниматься догматически. Но в некоторых принципиальных моментах она остается неизменной во все времена. Российский Императорский Дом — один из ценнейших элементов Традиции. Ведь здесь мы имеем дело не с какой-нибудь общественной организацией и даже не с потомками династии, которые в большинстве своем уже не считают Россию своей родиной и не служат ей. Здесь символическая связь с предками, с Соборной клятвой 1613 года, в которой отражена сущность нашего государства. Немногим сегодня понятно, что без возрождения этой сущности Россия лишена будущего. Что касается бюрократии, то ей всеми силами нужно превратить истоки нашей истории в нечто неживое, не имеющее отношение к сегодняшнему дню. Поэтому не прекращаются попытки купить РИД и обюрократить РПЦ, приобщив императорскую династию и священноначалие к «вертикали» чиновников.
В лице членов РИД русская государственная традиция имеет свое продолжение и исполняется по заветам предков и династическим законам — насколько это возможно в сегодняшнем положении Августейшей Семьи. Это прекрасно понимал Святейший Патриарх Алексий II, именуя Великую Княгиню императорским титулом, принимая от нее имперский орден Святого Апостола Андрея Первозванного и вручая Главе Российского Императорского Дома православный орден Святой Равноапостольной княгини Ольги. О связи монархии и Церкви говорит и судьбоносный факт канонизации Государя Николая II и его семьи. Совершенно иная ситуация сложилась в Московской Патриархии после смерти Алексия II. В связи с «делом епископа Диомида» архиереи публично отреклись от клятвы 1613 года и объ-явили, что идеал православного царства для РПЦ МП не имеет никакого значения. Высшие иерархи МП восприняли от путинской бюрократии ее бесстыдные методы. Монархические взгляды среди священства и мирян, казавшиеся прежде естественными и даже необходимыми, теперь объявлены предосудительными, а попытки изобличать зло в' действиях властей стали поводом для внутрицерковных репрессий с привлечением карательных органов.
Подрыв авторитета РПЦ и РИД является для бюрократии продолжением борьбы «с экстремизмом». То есть, с естественным стремлением нации жить в соответствии со своими традициями, в согласии со сложившимися морально-нравственными принципами русской цивилизации. Бюрократия стремится к тому, чтобы воспоминания о монархии в нашем народе были исключительно негативными. Путинская бюрократия продолжает дело коммунистов — ложь против русской истории, клевету против монархии. Тем самым мы лишаемся своей родословной, а с ней — и возможности правопреемства, убеждающего нам самих в том, что мы по праву владеем своим государством, его территорией, размещенными на этой территории природными и рукотворными богатствами.
В современном мире различие между монархической и республиканской формами правления во многом нивелируются, демократические институты сочетаются с сохранением элементов монархии. Тем самым в народе воспитывается представление о непрерывности его истории и уважение к действующим институтам власти как к носителям древней традиции. В этом Россия могла бы заимствовать подходы к статусу монархических институтов у ряда европейских стран. Между тем, путинская бюрократия сделала все, чтобы сохранить символизм коммунистической эпохи, который бросается в глаза буквально на каждом углу. Пространство нашей жизни остается антиисторическим. Лишь в самой малой мере посреди океана «красного» символизма, увековечивающего имена убийц и живодеров, появляются вкрапления символизма истинной русской истории. Через два десятка лет после краха коммунистического режима мы лишены того, чем владеют другие народы — признаков родной истории в собственной повседневности.
Наше отличие от европейских государств состоит в том, что русская династия не имела за рубежом никаких сбережений, а на родине была истерзана расстрелами и экспроприациями. Без помощи государственной власти Императорский Дом не сможет обеспечить себе достойное существование и достойно представлять нашу Традицию. Как не смогла бы подняться с колен Русская Православная Церковь, которой возвращено многое из отнятого имущества и достойный статус в российском обществе.
Эти соображения я отправил в Кремль в начале 2004 года. Уровень полученного мной ответа ни по статусу подписавшего лица, ни по качеству изложения позиции верховной власти не выдерживал никакой критики. Вместо президента мне ответил заместитель начальника Управления по внутренней политике в президентской администрации — мелкий клерк. Вместо взвешенного и профессионального обсуждения моего предложения о статусе Российского Императорского Дома, я прочел целый ряд нелепостей. Мне предлагалось считать носителем традиции общественную организацию Российское дворянское собрание. Между тем эта организация (при всей своей позитивной роли) являлась лишь объединением потомков дворянских родов. Никакой дворянской службы в России не существует. Вне связей РДС с Российским Императорским Домом эта организация и вовсе выглядит историческим анахронизмом. Вторая нелепость, присутствующая в направленном мне ответе, состояла в том, что мое предложение почему-то было истолковано как попытка преодолеть республиканскую форму правления, закрепленную в российской Конституции. При этом сделана отсылка к Своду основных государственных законов Российской Империи, который не является на сегодня действующим правовым актом. В моем обращении не предполагалось вводить в действие какой-либо из пунктов этого Свода (хотя, почему бы и нет?). Я говорил лишь о том, что в России для РИД должен быть предусмотрен государственный статус (какой и в какой форме — отдельный вопрос). Этот статус может в настоящих условиях носить скорее мемориальный характер, как это имеет место в ряде европейских государств. Разумеется, вводить такой статус следует вовсе не масштабными изменениями в законодательстве.
Еще одна нелепость состояла в ссылке чиновника на мнение неких придворных авторитетов бюрократии — Г.В.Вилинбахова и Р.Г.Пихоя, которые, будто бы, высказывают сомнение в легитимности родственников Великого Князя Кирилла Владимировича в качестве престолонаследников. Это, бесспорно, мнение некомпетентных лиц, к тому же противоречившее позиции Святейшего Патриарха и признанию РИД монархических домов Европы. Мнения частных лиц вообще не могут быть приняты к сведению, I поскольку престолонаследие однозначно определено Законами о престолонаследии. Эти Законы в условиях республиканского режима являются внутренним делом династии, а «легитимацию» получают лишь в силу авторитета лиц, знающих династические правила и согласных считаться с ними. Но чиновник предпочитает иметь свои авторитеты, презирая общепринятые.
В связи с этими несуразицами я написал обращение к тогдашнему главе Администрации Президента Д.А.Медведеву, в прямом подчинении которого находился глупый чиновник, нагородивший чепухи в ответе депутату. На сей раз система несколько смягчилась, но ответ подписал все тот же «козел отпущения». Политические суждения вместо ответственного лица высказывал некто совершенно безответственный. Тем не менее, ответ намекал на возможность развития отношений с монархическим движением в случае определенных сдвигов в общественном сознании. «Обращение к историческим традициям российской государственности и желание найти им применение в современной России заслуживают внимания, а сама проблема, связанная с Российским императорским домом Романовых, — всестороннего изучения».
Как было сообщено, ни от РИД, ни от РПЦ никаких просьб о каком-либо статусе для не поступало. И это представлялось в качестве аргумента! То есть, мне как депутату никаких предложений по поводу статуса РИД делать почему-то нельзя и рассматривать их никто не собирался. Почему? Потому что позитивная реакция путинской бюрократии была невозможна, а негативная разоблачала ее с головой как врагов нашего Отечества. В остальном суждения подписавшего ответ лица оставались невежественными — как это принято у чиновников, исходящих не из интересов России, а из либеральной догмы, которая только и нужна, чтобы отчитываться перед начальством и покрывать собственную корысть. Вновь чиновник подменял один вопрос другим — толковал об «официальном признании монархической династии в качестве государственного института», что, мол, не вяжется с республиканской формой правления. Ни одного аргумента в пользу этого тезиса не приведено. В других государствах вяжется, а у нас не вяжется. Может быть потом, что кровь убитого царя и миллионов его верноподданных еще не смыта с рук убийц, находящихся во власти?
Некомпетентный чиновник формулировал за президента безграмотные суждения, делая вывод о том, что мои предложения не могут быть реализованы, и предлагал ограничиться общественной активностью и выяснением общественного мнения. Увы, примерно ту же позицию заняла и Канцелярия РИД, действовавшая в Москве в единичном лице главы этой Канцелярии. У меня создалось впечатление, что президентская бюрократия продолжается в этой Канцелярии, где любое живое начинание встречает настороженность, а все инициаторы оживления монархических организаций представляются как подозрительные лица.
Дальнейшая проработка темы была посвящена попыткам затеять диалог с МИДом. И здесь ситуация в значительной степени повторилась.
Поскольку мне довелось побывать в Мадриде и встретиться лично с Ее Императорским Высочеством Главой РИД Великой Княгиней Марией Владимировной (2005 год), я обратился к главе российского МИД С.В.Лаврову с предложением наладить неофициальное взаимодействие с РИД, используя бесспорный патриотизм его Главы во благо нашей страны. В частности, российские интересы могли бы проводиться через монархические круги тех государств, где монархические традиции достаточно сильны и составляют часть политической культуры. Это могло бы дать неофициальную поддержку российских дипломатических инициатив — как это практикуется в ряде европейских стран.
Вполне, казалось бы, разумные предложения, испугали мидовских чиновников, и они, как и кремлевские чинуши, начали уклоняться от принципиального ответа на поставленный вопрос. Мне пришло письмо, где говорилось, что «связи с М.В.Романовой» поддерживает посольство в Испании, а также о том, что МИД работает с диаспорой, с соотечественниками, эмиграцией и т. п. В общем — глупая чушь за подписью заместителя министра.
Меня эта бюрократическая писуля сильно нервировала. Имея достаточные сведения о порядке и интенсивности работы российских дипломатов с нашими зарубежными соотечественниками (я много лет занимался этой проблемой), я мог всерьез оспорить утверждения чиновника и с цифрами в руках доказать, что никакого укрепления связей с соотечественниками («диаспорой», «эмиграцией») не было и нет. Ничтожные бюджетные ассигнования — тому самое яркое свидетельство. Но это другая тема. То же касается контактов с некими «представителями рода Романовых», давно переставших нести какую-либо полезную для России службу и даже в значительной части утратившими владение русским языком.
МИД дипломатично признал факт: «последовательные шаги нашего государства по восстановлению отношений с Главой и Членами Российского Императорского Дома». А также указывалось, что «прорабатывается вопрос о приглашении М.В.Романовой на Всемирный конгресс российских соотечественников». Проработка оказалась безрезультатной, никакой работы в указанном направлении МИД вести не стал. Меня просто обманули.
Через МИД я попытался прояснить вопрос о статусе правящих европейских династий Или потомков ранее правивших династий и их отражении в европейском законодательстве. Увы, МИД расписался в полной неспособности провести соответствующую работу. В представленной мне информации нашлись грубые ошибки, а разыскать законодательные акты, которые определяли бы статус европейских монархов в республиканских государствах, российские дипломаты так и не смогли. Поэтому я направил запросы во все европейский посольства. Ответ поступил только от посла Испании, который представил мне русский перевод испанской конституции, раздел «О короне». Из посольства Германии меня заверили, что у них от монархии осталось лишь право на приставку «фон» в дворянских фамилиях. Оказалось, что я знаю о монархических институтах в Европе гораздо больше, чем посольские дипломаты. Мне вспоминается шок английских участников одной из конференций, где я напомнил им о важности монархии как института, символизирующего сплочение нации. Вероятно, в Европе бюрократия делает для уничтожения памяти о монархии не меньше, чем в России.
Даже когда путинские чиновники хотели бы продемонстрировать какие-то признаки имперского стиля, приверженность традиции, символы, связывающие нынешнюю Россию с прежней, исторической, получалось у них — дурнее не придумаешь. Так случилось с разного рода перезахоронениями. Прах философа-монархиста Ивана Ильина угнездили рядом с прахом генерала-республиканца Антона Деникина — в Даниловой монастыре в Москве. В том же духе в Санкт-Петербурге захоронили «гражданку М.Ф.Романову» — прах, скончавшейся на чужбине императрицы Марии Федоровны, супруги Александра III.
Поскольку перезахоронение планировалось и пропагандировалось с большой помпой, я решил вновь обратиться к Президенту РФ. Это уже была весна 2006 года, а перезахоронение планировалось на сентябрь — торжественное перемещение праха на военных кораблях, приглашение многих важных персон, парад, а затем торжественная церемония перезахоронения праха в Петропавловской крепости. Утвержденный протокол предстоящей церемонии обещал превратить перезахоронение в важное событие общественной жизни.
Я обратил внимание Президента, что от планируемого события устранен РИД, а также упомянул о нежелании чиновников вести продуктивный диалог о проблеме право-продолжения Российской Федерации от Российской Империи и использовании в целях российской дипломатии авторитета РИД. Эти обстоятельства лишали содержания замысел организаторов перезахоронения — он оказывался не связанным ни с восстановлением исторической правды, ни с переосмыслением трагических событий российской истории, ни с какой-либо реабилитацией институтов монархии, веками присущих российской государственности. В таких условиях ритуал перезахоронения приобретал бутафорский характер и дискредитировал как историческую роль российской монархии, так и действующую российскую власть. Следовало предусмотреть в ритуале перезахоронения особый статус РИД, а также ведущую роль его Главы в церемонии.
На заседании Думы ко мне подошел сотрудник Администрации Президента и сообщил, что на мое обращение они отвечать не будут, так как этим вопросом занимается Правительство. Я попросил все же дать мне хотя бы формальный ответ, выразив также удивление, что обращение к Президенту от депутата парламента может остаться без ответа. Но по опыту я знал, что АП занимается только теми вопросами, в которых есть какая-то экономическая или политическая выгода для какого-нибудь кремлевского клана. Поэтому я сразу же направил аналогичное послание в правительство. Кроме того, я направил послания губернатору Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко и послу Дании. От администрации Путина я так ничего и не получил. Президент и его подчиненные проблему игнорировали.
Перед питерским начальством (а именно с ним мне рекомендовали выяснять все вопросы правительственные чиновники) я поставил ряд вопросов, которые должны были побудить к более серьезному отношению к запланированному мероприятию.
Я просил пояснить, какими нормативными актами или иными основаниями:
— регулируется существование захоронений в соборе Петропавловской крепости и проведение в нем новых захоронений;
— установлено, что усыпальница российских государей приобрела по факту статус родового кладбища некоторых потомков династии Романовых;
— определен круг лиц, которые впредь могут быть захоронены рядом с российскими государями;
— установлено, что прах императрицы Марии Федоровны будет захоронен в том же соборе, и какова мера участия властей Санкт-Петербурга в этом событии;
— определен характер участия государственных органов и органов власти Санкт-Петербурга в церемонии перезахоронения?
Послу Дании я предложил просто пригласить РИД на церемонию прощания с прахом, чтобы избавиться от двусмысленности, которую я ожидал от российских чиновников.
От Матвиенко ответ был пространным, но ничтожным по содержанию. Чиновникам не стыдно было признать, что кладбище и музей в Петропавловском соборе легко совместимы, а прах погребенных — всего лишь музейные экспонаты. Похоронное законодательство здесь и не ночевало. В 1995 Ельцин издал поручение «О перезахоронении останков Кирилла Владимировича и Виктории Федоровны Романовых в Великокняжеской Усыпальнице Петропавловского собора». То есть речь шла о неких лицах без какого-либо статуса. Затем, в 1998 году «екатеринбургские останки», определенные как останки Николая II и его семьи, привезли и закопали в соборе по распоряжению правительства. Без каких-либо правовых оснований. Так решили поступить и на этот раз. Путин издал странное распоряжение «О Межведомственной рабочей группе по организации церемонии переноса из Королевства Дания и захоронения в Петропавловском соборе г. Санкт-Петербурга праха вдовствующей Императрицы Марии Федоровны — супруги Императора Александра III», где статус уже был прописан, но смысл церемонии так и остался за скобками. Затем Министерство культуры и массовых коммуникаций издало свой документ — «О составе рабочей группы по обеспечению деятельности Межведомственной рабочей группы по организации церемонии переноса из Королевства Дания и захоронения в Петропавловском соборе г. Санкт-Петербурга праха вдовствующей Императрицы Марии Федоровны — супруги Императора Александра III», где также не было ни смыслов, ни целей. Питерские чиновники только еще раз переписали бюрократическую чушь — озаглавили местное распоряжение.
Посольство Дании было немногословно. Оно сообщило, что вся процедура — частное дело, а все Романовы без исключения имеют полную возможность участвовать в церемонии прощания с прахом императрицы. Таким образом, я получил подтверждение, что в Дании никакой монархии нет, как нет и уважения к прошлому нашей и их собственной истории.
Таким образом, круг замкнулся. Они хоронили не императрицу, а «гражданку Романову». Хотя и прикрывали свой цинизм пышным ритуалом и значительными затратами из городской и государственной казны.
Империя не умещается в жалких мозгах российского чиновника, отмороженных либеральными догмами.
Опыт монархиста
Кажется, что в России есть дела поважнее, чем статус Российского Императорского Дома и разного рода похоронные или праздничные дела. Но это ложное представление. Потому что наследие предшествующих поколений просто так в руки не дается. Оно требует ответственности. В том числе и в мелочах. Для русских выбор облика своего государства — важнейший вопрос, перекрывающий по значимости все остальные. Если мы отрекаемся от своей истории, то между русским и российским исчезает тождество и устанавливается непримиримый антагонизм.
В политическую жизнь я всерьез включился в конце 80-х годов, а в 1990 году стал депутатом Московского городского совета, выиграв выборы в непростой схватке. Шел в политику демократом, но очень быстро увидел, что люди, называвшие себя демократами — просто группа воров. В Москве это было особенно заметно. Через полгода те, кого я считал чуть ли не надеждой Отечества, стали моими политическими врагами. От социал-демократической доктрины, которой соблазнился по молодости и неопытности, я отошел, когда начал читать русских философов. Идеологический выбор обозначился — национал-консерватизм, в котором соединяются национальные интересы и традиция, русское государство и русская нация.
Проникновение в традицию поставило передо мной вопрос о форме государственности, который с очевидностью разрешился не в пользу либеральной демократии и западных стандартов политического устройства, которые возникли только в послевоенные годы. Традиция требовала принятия опыта Российской Империи и применения его к задачам сегодняшнего дня.
Уже в 1992 году из представителей различных партий нами была создана группа Союз возрождения России, где вчерашние «демократы» стремились сформулировать цели и задачи консервативной политики. Естественным образом возникли контакты с Всероссийским монархическим центром, который в те времена был достаточно активной организацией, ориентированной на РИД.
В те времена в кремлевских коридорах бродили самые причудливые веяния. В том числе, считалось, что монархические настроения (а они явно нарастали) надо как-то использовать, и за счет государственных контактов с РИД сделать режим более привлекательным как для российской общественности, так и для зарубежных партнеров России. К чести Великой Княгини Марии Владимировны, при всей мягкости высказываний в отношении официального курса, при всех неизбежных ошибках в оценках внутрироссийской ситуации, глава РИД не пошла на поводу у тех, кто вместе с «екатеринбургскими останками» решил «закопать» и проблему преемственности современной России от России исторической.
В 1993 году мне довелось принять участие в организации официального визита РИД в Москву. Так получилось, что в момент визита Лужков исчез из столицы, и высшим должностным лицом в столице остался председатель Моссовета Николай Гончар, который первенство Лужкова признавал, несмотря на то, что тот не был избран на свой пост, а противозаконно унаследовал его от бежавшего с должности Гавриила Попова. Мне удалось уговорить Гончара встретить Великую Княгиню у трапа самолета, а также способствовать тому, чтобы она была размещена в одной из дипломатических резиденций на Воробьевых горах. Тогда же состоялось и мое первое знакомство с Августейшей Семьей. Мимолетное, ни к чему не обязывающее.
Последующие годы после расстрела парламента в 1993 году и незаконного роспуска Моссовета (вместе с Верховным Советом) монархическое движение не ослабло. Даже возникла интрига с попыткой выдвинуть в 1996 году на выборах президента кандидатуру режиссера Никиты Михалкова, который демонстрировал неравнодушие к монархическим идеям, а также получил в управление Фонд культуры. Сомнительная репутация режиссера, его постоянное заигрывание с властями, а затем пожар, спаливший предполагавшуюся в помещениях Фонда культуры штаб-квартиру, закрыли этот вопрос. Не получив политического воплощения, стало вянуть и монархическое движение, распавшееся на множество мелких групп.
Не сомневаюсь, что здесь большую роль сыграли спецслужбы, окутавшие РИД своим неусыпным вниманием и систематически разрушавшие все инициативы, которые могли бы обеспечить РИД необходимыми финансами для ведения своей миссии и поддержки монархических настроений. В 1993 я видел, что множество бизнесменов готовы были вложить средства, чтобы РИД стал весомым фактором в российской политике. Немало монархистов находилось и в органах власти. (Сегодня во власти мне известен как монархист только глава ЦИК, с которым в нашу совместную бытность депутатами Думы мы не только работали в одном Комитете, но также пару раз сталкивались на крупных монархических «сходках».)
За время депутатства мне довелось не раз встречаться с Великой Княгиней в Москве, а также навестить ее скромную резиденцию в Мадриде (небольшая квартира с низкими потолками вдали от престижных районов и городского центра). Тогда грезилось разворачивание серьезной работы по консолидации всех, кто декларировал свою приверженность РИД. Мыс друзьями начали выпускать исторический альманах, соединяя историю и современность в монархическом ключе и презентируя РИД наравне с высшими государственными институтами России. На основании старинного документа был разработан современный текст присяги на верность РИД. Увы, эта инициатива заглохла, найдя среди монархических кругов не поддержку, а равнодушие и даже ревнивое противодействие. Мой личный пример принять присягу РИД, а с нею — ответственность за Россию истинную, вечную, какую ее нам Бог дал, также не вызвала заметного энтузиазма даже среди монархистов, а позднее стала поводом для беспрерывной клеветы в мой адрес. В том числе и отвратительных публикаций писателя М.Назарова, с которым я отказался дискутировать на темы, которые он подавал не как историк или мыслитель, а как политический провокатор.
Единственным (и весьма странным) каналом регулярных приглашений РИД в Россию и материального обеспечения этих визитов стало Министерство обороны. Сотни офицеров и генералов были награждены имперскими наградами. Но служить Империи в России было практически некому. Попытка активизировать всех этих орденоносцев и хотя бы напомнить им о моральных обязательствах перед РИД разбились об интригу — декларированные Канцелярией РИД связи с важными орденоносными персонами оказались фиктивными, и конференция с их участием фактически была сорвана. Это уже был 2006 год. Империя оставалась для политической системы опасным символом прежнего могущества, выставляющего немощь бюрократии в самом постыдном виде.
К 100-летию Государственной Думы я предложил председателю Думы Б.В. Грызлову дополнение в план торжественных мероприятий, предусматривающий участие Главы РИД и проведение слушаний по континуитету. Эти предложения были признаны чиновниками «нецелесообразными».
В 2007 году Думу посетил Наследник — Великий Князь Георгий Михайлович, которого благосклонно приняли в парламенте зампред Думы Л.Слиска и председатель Комитета по делам общественных организаций. В Комитете состоялась недлинная беседа, а затем — встреча в банкетном зале Думы, где мне удалось поговорить с Наследником и даже показать на стенде к 100-летию ГД примечательную записку одного из членов императорской фамилии, который встретил создание Думы отповедью настолько резкой, что появление этого документа в стенах нынешней Думы можно было расценить только как курьез. Впрочем, к этим стендам, как я понял, кроме нас и музейных работников, никто и не подходил.
Семнадцать вопросов для МИДа и Минфина
Конечно, не ко времени мной была заявлена тема пра-вопродолжения РФ от предшествующих государственных форм. Но она прямо была связана с воровством — беззаконной выплатой Франции 400 млн. долларов из государственной казны России. Либо надо было сделать шаги к признанию принципа континуитета и оформить его какими-то нормативными актами, либо сажать в тюрьму лиц, расплатившихся с одним из кредиторов Империи. Поскольку вопрос, как мне казалось, должен прямо проходить через структуры МИД, туда я и направил свои вопросы на данную тему.
Дело в том, что в 1996–2000 годах органы государственной исполнительной власти Российской Федерации производили выплаты из федеральных средств в пользу Франции по финансовым и имущественным претензиям, возникшим до 9 мая 1945 г. Общедоступная информация не содержала сведений, какие конкретно претензии и какого именно материального характера со стороны Франции при этом имелись в виду, когда именно они возникли и на каком правовом и основании. Оставалось неясным, какие должностные лица принимали участие в инициировании, оформлении, обсуждении и принятии решения о признании таких претензий, кто из них выполнял, проверял и утверждал расчеты, кто участвовал в проведении переговоров? Должны были остаться какие-то стенограммы, протоколы, и я просил МИД ознакомить меня с документами. Отдельно надо было разобраться в правовых основаниях (включая международные и межгосударственные договоры, а также и российское национальное законодательство) для выплаты так называемых «царских долгов». То есть, понять основания правопреемственности для данного случая по обязательствам Российской Империи.
Ответ был поразительно бессодержательным. Вместо правовых оснований и указаний на документы мне сообщили, что «проводимые различными французскими ассоциациями держателей русских ценных бумаг (т. н. «царских займов») шумные кампании, в том числе в средствах массовой информации, не способствовали росту доверия иностранных инвесторов к нашей стране, зачастую ставили под сомнение ее репутацию как государства, способного нести ответственность по своим финансовым обязательствам. В первой половине 1990-х гг. Франция неоднократно увязывала эту проблему с готовностью идти навстречу российской стороне в вопросах реструктуризации задолженности бывшего СССР и присоединения России к Парижскому клубу на правах страны-кредитора».
Переговоры по долгам велись в советский период, а в конце 80-х годов XX века были согласованы основные принципы возможного межправительственного соглашения в этой области. Содержание этих принципов МИД не сообщил (их в реальности и не существовало), а обязательность выплат вовсе не была установлена. Между тем, в Договоре между Россией и Францией 1992 года были вновь закреплены обязательства сторон урегулировать взаимные финансовые и имущественные претензии, касающиеся интересов и собственности физических и юридических лиц обеих стран. На основе совершенно неконкретных обязательств МИД и Минфин РФ вновь начали переговоры.
В ноябре 1996 года был подписан Меморандума о взаимопонимании между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской Республики, а в мае 1997 года Россия и Франция подписали межправительственное Соглашение об окончательном урегулировании взаимных финансовых и имущественных требований, возникших до 9 мая 1945 г. Правительство своей волей, без привлечения парламента согласовало выплату Франции 400 млн. долларов США. Успехом считалось, что Франция не потребовала многократного увеличения данной суммы под давлением Французской ассоциации держателей облигаций царских займов. В соглашении был закреплен отказ правительств обеих стран как от своего имени, так и совершенно произвольно от имени физических или юридических лиц, предъявлять друг другу или иным образом поддерживать какие бы то ни было финансовые или имущественные требования, возникшие до 9 мая 1945 г.
Поскольку МИД все прочие вопросы отнес на счет Минфина, то я отправил туда запрос, где более подробно и системно привел перечень интересующих меня документов. В то же время, МИД явно не собирался тщательно проработать мои вопросы, и я счел необходимым также предложить их в систематизированной форме. Прежде всего, в связи инициированием, обсуждением, подготовкой и заключением Соглашения и иных подобных договоренностей с Францией:
1. Какие конкретно претензии (или требования) и какого именно материального характера имелись в виду, когда именно они возникли (конкретные даты) и на каком правовом и фактическом основании? Какие именно институты или органы государства, а также должностные лица принимали в прошлом обязательства России перед Францией и какие размеры обязательств были при этом признаны?
2. Какое конкретно участие и какие именно должностные лица МИД РФ принимали в инициировании, оформлении, обсуждении и принятии решения о признании таких претензий? Кто из них выполнял, проверял и утверждал расчеты, а также кто участвовал в проведении переговоров с французской стороной и кто именно участвовал в таких переговорах со стороны Франции?
3. Велись ли в процессе таких переговоров стенограммы, и если велись, то какой порядок допуска к ним существует? Могу ли я, в качестве депутата ГД, ознакомиться с ними?
4. Каким законодательным актом или актами Российской Федерации, международно-правовым либо межгосударственным актом были приняты к рассмотрению указанные претензии?
5. Какие реквизиты имеют нормативно-правовые или иные акты Правительства РФ и МИД РФ по признанию, расчету, утверждению, выплатам и иным вопросам, связанным с указанными претензиями? Прошу дать точные ссылки либо предоставить мне копии этих актов.
6. Какие правовые основания, (включая международные и межгосударственные договоры, а также и российское национальное законодательство) существуют для выплаты так называемых «царских долгов» Франции (то есть основания правопреемственности Российской Федерации по обязательствам Российской Империи), а также размеры и порядок осуществления этих выплат?
7. Какие финансовые и имущественные претензии, возникшие до 9 мая 1945 г., существовали со стороны России (Российской империи, Российской республики 1917 г., СССР, РСФСР) по отношению к Франции? Когда, каким органом власти и в какой форме и порядке они оформлялись, учитывались и предъявлялись Франции и какова была официальная реакция Франции на эти претензии?
Конкретно, когда, кем и в каких формах Российской Федерацией предъявлялись претензии Французской стороне по активам, принадлежащим Правительству Российской Империи; займам и облигациям, которые были выпущены и гарантированы до марта 1917 года Российской Империей; долгам Правительства Франции и французских физических и юридических лиц со стороны Правительства Российской Империи, физических и юридических лиц, проживавших или осуществлявших профессиональную деятельность на территориях, управлявшихся Правительством Российской Империи? Имеется ли реестр претензий со стороны России, российских юридических и физических лиц? Каковы размеры претензий по каждому из перечисленных выше классов претензий и прочих претензий? Какова доля претензий, относящаяся к периоду до марта 1917 года, в общем объеме претензий?
8. Какие финансовые и имущественные претензии, возникшие до 9 мая 1945 г., существовали со стороны Франции по отношению к России (Российской империи, Российской республике 1917 г., РСФСР, СССР)? Когда, каким органом власти и в какой форме и порядке они предъявлялись России, и какова была официальная реакция России на эти претензии?
Конкретно, когда, кем и в каких формах Францией предъявлялись претензии Российской Федерации по займам и облигациям, которые были выпущены и гарантированы до марта 1917 года Российской Империей; долгам Правительству Франции и французским физическим и юридическим лицам со стороны Правительства Российской Империи; долгам физических и юридических лиц, проживавших или осуществлявших профессиональную деятельность на территориях, управлявшихся Правительством Российской Империи. Имеется ли реестр претензий со стороны Франции, французских юридических и физических лиц? Каковы размеры претензий по каждому из перечисленных выше классов претензий и прочих претензий? Какова доля претензий, относящаяся к периоду до марта 1917 года, в общем объеме претензий?
9. Несмотря на то, что в Договоре от 7 февраля 1992 года не содержится обязательства сторон относительно достижения договоренности об урегулировании взаимных финансовых и имущественных претензий, касающихся интересов и собственности РФ как государств, как, впрочем, и подтверждения наличия таких претензий, в Соглашении от 27 мая 1997 г. содержится односторонний отказ Правительства РФ от предъявления требований в отношении золота из золотого запаса России, оказавшегося во Франции, и в отношении требований, связанных с интервенцией в Россию со стороны Франции в 1918–1922 гг. На каком правовом, документальном, расчетном и ином основании Правительство РФ приняло такое обязательство? Каковы физические размеры, номенклатура и стоимость указанных активов?
10. Что именно может быть отнесено к фактам, свидетельствующим о наличии на протяжении десятилетий «болезненных раздражителей» в советско-французских и российско-французских отношениях, о которых упоминалось в ответе МИД? Как они связанны с финансовыми и имущественными претензиями, возникшими до 9 мая 1945 г.?
11. Каким образом, когда, в какой форме Франция увязывала проблему взаимных финансовых и имущественных претензий, возникших до 9 мая 1945 г., с другими факторами российско-французских отношений, возникших, надо полагать, значительно позднее, в частности по вопросам реструктуризации задолженности СССР или присоединения России к Парижскому клубу?
12. В какой форме, кем и когда были согласованы основные принципы возможного соглашения между СССР и Францией в 20-е, 70-е и в конце 80-х годов прошлого столетия по урегулированию проблемы взаимных требований?
13. Какие фактические, документальные, расчетные, правовые и иные обстоятельства послужили основанием для подписания Меморандума от 26 ноября 1996 г., в котором содержится одностороннее обязательство Правительства РФ выплатить Правительству Франции 400 миллионов долларов США «в качестве окончательного урегулирования взаимных требований между Россией и Францией, возникших до 9 мая 1945 года»?
14. Какие российские юридические и физические лица, когда, каким образом и через какие официальные органы или организации России (Российской Империи, Российской республики 1917 г., СССР, РСФСР) предъявляли Франции, французским юридическим и физическим лицам имущественные и финансовые претензии, возникшие до 9 мая 1945 г.? Имеется ли реестр таких претензий?
15. По Соглашению от 27 мая 1997 г., вопреки положениям статьи 22 упомянутого Договора между Россией и Францией, совершенном 7 февраля 1992 г., содержащей обязательство сторон договориться об урегулировании взаимных финансовых и имущественных претензий, касающихся интересов и собственности физических и юридических лиц обеих стран, российское Правительство отказалось от поддержки претензий российских физических и юридических лиц финансового и имущественного характера к «французской стороне». Это противоречие требует разъяснения.
16. В статье 22 упомянутого Договора между Россией и Францией, совершенном 7 февраля 1992 г., содержится обязательство сторон «договориться об урегулировании взаимных финансовых и имущественных претензий, касающихся интересов и собственности физических и юридических лиц обеих стран». Договор ничего не упоминает об урегулировании такого рода претензий между РФ как государствами. Однако упомянутое Соглашение содержит односторонний отказ Правительства РФ от находящихся во Франции активов, принадлежащих Правительству Российской Империи, Правительствам, пришедшим на смену Правительству Российской Империи, Правительству РСФСР, Правительству СССР. Однако законодательство России и в прошлом и в настоящее время не наделяет Правительство правом собственности на имущество и какие-либо иные активы, принадлежащее России как государству (государственная собственность). Что именно имеется в виду под активами, «принадлежащими правительству» в статье 2 упомянутого Соглашения?
17. Известно, что Франция, с которой СССР имел дипломатические отношения до 22 июня 1941 г., участвовала на стороне нацистской Германии в интервенции против России (СССР) во время Второй мировой войны, к тому же объявив СССР войну, тем самым причинив России как государству, а также ее юридическим и физическим лицам ущерб, порождая с их стороны соответствующие имущественные и финансовые претензии. Означает ли неупоминание такого рода претензий, что они не охватываются рамками Соглашения от 27 мая 1997 г.?
Подписанные документы, как я полагал, уже были обоснованы некими справками о законности и целесообразности действий Правительства РФ именно таким образом. Соответственно, МИД должен был иметь на руках все объяснения, которые я затребовал. И эти аргументы должны были пролить свет на истинную цену утверждений в ответах правительственных чиновников, которые утверждали, что правопродолжение от Российской Империи не оформлено. В частности, речь шла об отзыве Правительства РФ на законопроект «О репатриации». Там правопродолжение требовалось для обеспечения статуса репатрианта. Но в официальном отзыве Правительства такой статус объявлен невозможным именно в связи с тем, что правопреемства для РФ не существует. Выходило, что Россия образовалась как государство только после референдума по Конституции 1993 года. Или же в 1991 году, когда Ельцин и его преступная группа разрушили единое государство.
Прецедент принятия Правительством РФ обязательств Российской Империи должен был получить правовую оценку либо как нарушение законодательства, связанное с серьезным ущербом для РФ материального и нематериального характера, либо как фактическое признание Российской Империи в качестве одной из предшествующих форм российской государственности, от которой современное российское государство преемствует все права и обязанности без изменения субъекта.
МИД не смог ответить на мои вопросы. Первый заместитель министра Лощинин, на которого взвалили ответственность за все ответы на депутатские запросы, ограничился короткой запиской, отражающей хронику отношений с Францией с Генуэзской и Гаагской конференций 1923 года. Вся эта шелуха могла быть отброшена ради главного: МИД признавал, что речь идет о политическом займе: «Позднее, в разгар перестройки, СССР стал испытывать нехватку финансовых средств. Все чаще и чаше приходилось обращаться за внешними заимствованиями. Из-за неурегулированности проблемы царских долгов Франция была закрыта для размещения советских облигаций. В контексте создания странами ЕС единого рынка имелась реальная опасность того, что вслед за Францией и остальные страны ЕС откажутся приобретать советские облигации. Поэтому решением ЦК КПСС от 13 октября 1988 года Минфину СССР и МИД СССР было поручено возобновить переговоры с французской стороной по царским долгам». «С мая 1989 года началось интенсивное обсуждение путей урегулирования проблемы царских долгов. На переговорах в Москве в октябре 1990 года были согласованы основные принципы урегулирования претензий: Франция признает ущерб, нанесенный СССР интервенцией в 1918–1920 гг., а СССР признает обязательства по займам, выпущенным или гарантированным до 1917 года Российской империей, и оплатит в виде окончательного расчета некое сальдо, призванное компенсировать ущерб французским держателям российских ценных бумаг».
Была названа и фамилия человека, сдавшего позиции России. Это «переговорщик» с российской стороны — юный заместитель Министра финансов Российской Федерации А.П.Вавилов. Впоследствии этому персонажу было предоставлено укромное место в Совете Федерации, где он безбедно проживал капиталы, приобретенные в начале 90-х. Попытки возбудить против него различные уголовные дела успеха не имели, но промелькнули в прессе в период 2005–2007.
Немного об этом. В 1992 году правительства России и Индии подписали соглашение, в рамках которого Индии должны были предоставляться кредиты для покупки самолетов МиГ-29 и комплектующих к ним в РФ. Программа действовала до 1996 года, когда индийская сторона отказалась от дальнейшего использования российских кредитов на закупки авиатехники. Тогдашний первый замминистра финансов организовал выделение из бюджета $231 млн якобы для производства самолетов в структурах государственного унитарного предприятия ВПК МАПО. Эта сумма, полученная ВПК МАПО из Внешэкономбанка, в итоге оказалась в офшорах Антигуа и на счетах подставных фирм в латвийском банке. В 2008 году Следственный комитет при прокуратуре РФ сообщил, что в 1997 году господин Вавилов, занимавший тогда пост первого замминистра финансов, совершил хищение и злоупотребил служебным положением. Однако с согласия господина Вавилова его дело было прекращено «в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности» по вменяемым ему статьям УК. Вавилов дал следствию официальное согласие на прекращение в отношении него уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, отказавшись от обжалования итогов следствия, указавшего, что вина Андрея Вавилова в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 285 УК РФ (соответственно хищение путем мошенничества в особо крупных размерах и злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), полностью доказана. Куда Вавилов девал краденные деньги, стало ясно из судебного иска его фирм против нью-йоркского застройщика. Иск относился к покупке Андреем Вавиловым двух пентхаусов нью-йоркском центре Hotel Plaza стоимостью $53.5 миллиона, за которые Вавилов внёс предоплату 10,7 миллиона.
И только в 2010 году Вавилов был почти насильно вытолкан из Совета Федерации. Его вынудили написать заявление об отставке и отправили проживать ворованные у страны капиталы. Глава СФ Сергей Миронов на прощание заявил, что у Вавилова «огромный потенциал» и «вы его еще увидите». Действительно, он возглавил некий Институт финансовых исследований, главной задачей которого стал «отраслевой лоббизм».
Вероятно, уступка Франции 400 млн. долларов была для замминистра Вавилова сущим пустяком. Что касается МИД, то финансисты полностью отстранили дипломатов от дележа бюджетного пирога. МИД посылал за конкретными цифрами в Минфин. Осилить простую операцию — по-пунктно ответить на мой запрос — в МИД сил не хватило. Мои повторные требования это сделать были оставлены без удовлетворения. Я требовал не две странички малоинформативной «выжимки», а сотни страниц, подлежащих изучению и оценке. МИД уклонился от исполнения закона о статусе депутата и ответил мне, что по поручению Правительства по моему запросу вся имеющаяся информация направлена в Минфин.
Минфин был озадачен мной теми же вопросами, что и МИД, но в отличие от дипломатов, финансисты предпочитали просто не отвечать на мои запросы. Я послал министру финансов Кудрину телеграмму о нарушении им закона о статусе депутата. Затем мне пришлось обращаться в Генеральную прокуратуру, требуя привлечь чиновников Минфина к ответственности за очевидное нарушение закона. Только после представления Генпрокуратуры за двукратное превышение срока, отведенного законом на ответ, Минфин разродился письмом. В письме за подписью замминистра фактически содержалось признание в том, что Минфин действовал на переговорах непрофессионально и вразрез с интересами России.
В письме было сказано, что «российская сторона исходила из необходимости учитывать результаты последнего раунда переговоров по данному вопросу, состоявшегося в 1991 году, в ходе которых между бывшим СССР и Францией была достигнута принципиальная договоренность о формировании положительного сальдо расчетов в пользу французской стороны. Учитывалось и то обстоятельство, что предъявленные Францией претензии опирались на юридически грамотно оформленные документы, в то время как российская сторона в целом ряде случаев могла ссылаться только на оценки экспертов, не имеющие юридической силы. Это связано прежде всего с тем, что большая часть французских требований (порядка 64 %) приходилась на ценные бумаги, на которых указаны их номинальная стоимость и ставка процентов годовых. Значительная же часть российских требований (свыше 50 %) базировались на экспертных оценках ущерба, который был нанесен Советской России в годы интервенции».
Таким образом, Минфин заранее был готов на невыгодный для России исход переговоров и соглашался признать номинальные цифры на бумагах дореволюционного периода более важными, чем ущерб от интервенции. Собственно, интервенция означала отказ от каких-либо обязательств, что и должны были объявить переговорщики с российской стороны. Но Минфину нужны были политические инвестиции — режим можно было спасти только новыми займами, а те могли поступить только после выплаты по старым займам, пусть даже и очень сомнительным.
В письме сообщался еще ряд фамилий лиц, причастных к сдаче интересов России. Итоговый Меморандум со стороны РФ подписал заместитель Председателя Правительства О.Д. Давыдов. Последующее Соглашение от имени Правительства было подписано заместителем Министра финансов М.М. Касьяновым — будущим премьером, а потом миллиардером-оппозиционером, собиравшим митинги в защиту демократии. Россия выплачивала оговоренную сумму восемью полугодовыми траншами размером в 50 млн долл, каждый. Последний платеж пришелся на август 2000 года. Все, что удалось переговорщикам — растянуть платеж на несколько лет, а также снизить его сумму в 2,5 раза. На самом деле, платеж возрос в 4 раза в сравнении с первоначально объявленной суммой. Франция выставила сальдо в свою пользу 1 млрд долл., а Россия предложила со своей стороны расчет сальдо в пользу Франции размером в 100 млн. Сошлись на 400. Но Франция снизила свои претензии только в 2,5 раза, а России пришлось пойти на четырехкратное увеличение своих обязательств.
Минфин проговорился, зачем все это было нужно. Не только для нормализации отношений двух стран. Это ложь, что отношения не складывались из-за неурегулированности проблемы долгов. Главное состояло в том, что расплодившемуся под сенью ельцинской власти ворью нужны были французские финансовые рынки. Их-то и вскрыли за счет бюджета «переговорщики». В ответе на мой запрос было сказано, что данная выплата привела к «значительному сокращению расходов федерального бюджета, связанных с урегулированием проблемы т. н. “царских долгов”, а также позволило снять ограничения на деятельность российских резидентов на французском финансовом рынке». Какое же это бремя, отстаивать национальные интересы! И как замечательно дать дорогу «резидентам»!
Так просто удовлетвориться лукавыми рассуждениями минфиновцев я не счел возможным и направил в Минфин те же вопросы, которыми мучил МИД. На это Минфин сделал изящный бюрократический пируэт. Вся последующая переписка шла под грифом «секретно». Хотя никаких секретных сведений мне не сообщалось. Но первое же письмо с таким грифом пришло по открытой почте, и думские работники не заметили «подставы», передав мне послание из Минфина в открытом режиме. Чиновники объявили, что нарушение режима секретности делает переписку невозможной. Мне пришлось грозить новым обращением в прокуратуру, поскольку никакой моей вины в том, что секретное письмо оказалось в открытом доступе, не было.
Министру финансов РФ Кудрину А.Л.
Уважаемый Алексей Леонидович!
Касательно возникших у Вас претензий в мой адрес, связанных с появлением текста Вашего ответа на мой запрос «в открытом доступе», сообщаю, что получил Ваш ответ именно несекретным порядком. Полагая, что это недоработка Вашего ведомства, я направил его в пакете других документов, прилагаемых к моему обращению к Председателю Правительства РФ, пометкой обратив внимание на гриф. В дальнейшем выяснилось, что в несекретную почту Ваш ответ попал по вине аппарата ГД, о чем свидетельствует прилагаемая к данному обращению расписка. Как мне сообщено в отделе по защите гостайны УД ГД РФ, служебное расследование показало, что за пределы служебной переписки информация в ГД не выходила, поскольку доставлялась в нераспечатанном конверте. Таким образом, инцидент исчерпан, а Ваши претензии в мой адрес несостоятельны.
Добавлю также, что эти претензии могли бы быть сняты Вами и Вашими подчиненными без перечисления того, что я должен, а что не должен делать. Это, поверьте, я и без Вас знаю достаточно хорошо. Кроме того, Вы могли бы получить все необходимые разъяснения напрямую в УД ГД РФ, а не требовать их от меня. Полагаю, что Вы не без умысла стремитесь затянуть ответы на поставленные перед Вами вопросы и прямо идете на нарушение статуса депутата.
Напоминаю Вам, что между нами не может быть никакого «взаимодействия», отличного от оговоренного в законе. Выдвижение с Вашей стороны неких условий совершенно несостоятельно и является демонстрацией вольного отношения к правовым нормам. Требования законодательства Вы обязаны выполнять, а не выдвигать условия и только при их выполнении «рассматривать вопрос».
Напомню также, что вы обязаны не только предоставить мне документы, но и дать полные ответы на поставленные мной вопросы (чего я добиваюсь от Вас не один месяц). Ранее направленные мне ответы были очевидным уклонением от исполнения закона, а секретный статус последнего ответа — явно нарочитый, ибо в нем практически не содержалось информации. Именно поэтому я вынужден был обратиться непосредственно к Председателю Правительства. Но теперь, оказывается, что именно Вы «рассматриваете вопрос». И сколько же Вы будете водить меня по кругу?
Разумеется, я не намерен тем или иным образом нарушать режим секретности. В то же время и Вы должны отделять гостайну от тайны «паркетной» (фиктивной, чиновничьей). Избиратели вправе знать, на каком основании из госсредств выделены столь значительные суммы. Поэтому тема, бесспорно, имеет публичное измерение; и мы с Вами должны ясно видеть, где режим гостайны должен заканчивать свое действие. Надеюсь, что Вы намерены сотрудничать со мной, исходя из такого рода понимания, а не ставить палки в колеса. (…)
Надеюсь, что жесткий тон настоящего обращения к Вам не станет поводом для детских обид и мстительного сведения счетов путем бюрократических манипуляций с бумагами и процедурами. Полагаю, что работа возглавляемого Вами ведомства требует энергичной деятельности там, где его репутация поставлена под сомнение. Именно таковы обстоятельства, вынудившие меня поднять вопрос о «царских долгах» — пока без публичного обсуждения, но предвидя его неизбежность. Ввиду этой неизбежности Вы, надеюсь, ответите на мои вопросы в кратчайшие сроки и исчерпывающим образом.
С неизменным уважением, А. Н. Савельев
За подписью министра финансов Кудрина была представлена прямая дезинформация: «Важное значение имеет и то обстоятельство, что в соответствии с Соглашением прямые выплаты держателям царских облигаций взяла на себя Франция, т. е. специально было оговорено, что факт заключения упомянутого Соглашения не считается признанием российской стороной наличия у нее ответственности по каким-либо требованиям, урегулированным Соглашением или подтверждением юридической действительности требований, связанных с так называемыми “царскими долгами”». Что это наглая ложь, нетрудно было установить из анализа текста Соглашения. Им покрывались именно «царские долги», смешанные в неизвестной пропорции с последующими обязательствами до 9 мая 1945 года.
В секретном письме Минфина фигурируют, помимо ранее упомянутых фамилий, также премьер В.С.Черномырдин и министр финансов А.Я.Лифшиц, которые и были лицами, согласовавшими решение, изъявшее из российского бюджета 400 млн долл, ради реструктуризации долгов Парижскому клубу. То есть, это была взнос в спасение ельцинского режима от банкротства. Или, точнее, ритуальная жертва, когда международно-правовые нормы были растоптаны в угоду кредиторам, выкручивающим податливым российским финансистам руки, чтобы склонить их к уступчивости также и во множестве прочих вопросов. Долги СССР были реструктуризированы на 25 лет. Режим спас себя за счет противоправного сговора с иностранными кредиторами.
Министр финансов А.Л.Кудрин, лично подписавший ответ на мой запрос, намекнул мне, чтобы я прекратил свою деятельность, поскольку публичное обсуждение поднятых мной вопросов, якобы, может нанести России ущерб — в случае активизации держателей ценных бумаг Российской Империи. Мне было сказано, что возможен не только финансовый, но и политический ущерб. Разумеется, эти запугивания на меня не возымели действия. Политический ущерб в этой ситуации мог понести только воровской режим и спонсирующие его западные кредиторы. К тому же Кудрин не ответил на 15 из 17 моих вопросов. Мне не были предоставлены документы, что требовал закон. И я не оставил Кудрина в покое. Также я проинформировал Кудрина, что его намеки на то, что моя деятельность может принести ущерб России, я рассматриваю как оскорбительные и требую подробного разъяснения, каким образом полное выяснение всех обстоятельств выплаты Россией 400 миллионов долларов и обнародование этих обстоятельств с использованием официальных материалов может нанести ущерб России.
Одновременно я обратился к председателю правительства М.Е.Фрадкову, сформулировав перед ним расширенный список вопросов, на которые мне не хотели дать ответ ни МИД, ни Минфин. Фрадков сделал обычный бюрократический «пас» в Минфин. Также я обратился в думские комитета, надеясь получить от них архивные данные о том, как обсуждались бюджеты тех лет, в которые проводились противозаконные выплаты. Бюджетный и налоговый комитеты просто отмолчались. Запросы в структуры аппарата Госдумы не дали результата. Все упоминания «царских долгов» носили случайный характер. Тема среди депутатов не обсуждалась, а бюджеты принимались вслепую — никто не интересовался, с какой это стати страна должна платить очередные 50 млн долларов.
Из Минфина (опять же секретной почтой) мне пришла достаточно подробная историческая справка о переговорах по долгам. Помимо массы сведений, не имевших отношения к делу и не отвечавших на мои вопросы, справка содержала фантастически наглую ложь. Поскольку я упомянул о проблеме континуитета в связи с выплатами «царских долгов», минфиновцы объявили, что подписав соответствующие документы Россия, не признала никоим образом «царские долги». Речь идет всего лишь об окончательном урегулировании взаимных финансовых и имущественных претензий.
Попутно всплыла еще одна история. Минфин расписался в своей неспособности собрать материалы для учета так называемого «брест-литовского» и «колчаковского» золота. Это отдельная проблема, которая ждет своих исследователей. Почём было замять зто дело? Чтобы оставить золото за рубежом, чиновникам нужно было создать представление о невозможности его возврата, а для этого постоянно упирать на то, что РФ не наследует прав и обязанностей Российской Империи. Точнее, обязанности она наследует по выбору того или иного чиновника, намеренного поживиться за счет очередного кредита, а о правах говорить просто не приходится.
Российская Федерация наследует имперскую символику в государственном гербе, наследует сокровища Империи, наследует ее историческую славу и культурное достояние. Но всячески уклоняется от фиксации полномасштабной ответственности — реализации принципа континуитета. Тем не менее, когда преемство от Империи сулит выгоду, оно все же к случаю признается. Так произошло с выплатой российским правительством «царскихдолгов».
В письме, полученном из МИД РФ, утверждается:
«Из-за неурегулированности проблемы царских долгов Франция была закрыта для размещения советских облигаций. В контексте создания странами ЕС единого рынка имелась реальная опасность того, что вслед за Францией и остальные страны ЕС откажутся приобретать советские облигации. Поэтому решением ЦК КПСС от 13 октября 1988 года Минфину СССР и МИД СССР было поручено возобновить переговоры с французской стороной по царским долгам». «На переговорах в Москве в октябре 1990 года были согласованы основные принципы урегулирования претензий: Франция признает ущерб, нанесенный СССР интервенцией в 1918–1920 гг., а СССР признает обязательства по займам, выпущенным или гарантированным до 1917 года Российской империей, и оплатит в виде окончательного расчета некое сальдо, призванное компенсировать ущерб французским держателям российских ценных бумаг».
Разумеется, для советского периода выплата указанной суммы не была фатальной, а новые кредиты — неподъемным бременем. Правительство СССР обладало огромной собственностью и огромным государственным бюджетом. Правительство РФ обладало на момент выплаты (да и в настоящее время) многократно меньшими возможностями. Поэтому в высшей степени нелепо было продолжать те же переговоры. Они были продолжены в прежнем формате только потому, что только новые кредиты могли обеспечить выживание ельцинского режима.
Выплата «царских долгов» могла быть оформлена только в порядке правопродолжения от Российской Империи. Причем, для этого требовался отдельный правовой акт, выражавший как общий принцип правопродолжения, так и при- нятие обязательств по данному комплексу эпизодов взаимоотношений Российской Империи и Франции. Без этого выплата 400 млн. долларов является более чем очевидным преступным деянием. Во-первых, никаких обязательств до 9 мая 1945 года в отношении Франции у Российской Федерации быть не может, поскольку СССР и Франция до победы над гитлеровской Германией находились в состоянии войны. А война отменяет любые взаимные обязательства. Либо они должны восстанавливаться отдельным правовым актом. Такого акта ни во времена СССР, ни в РФ не было. Во-вторых, данной выплатой правительство вышло за пределы российского законодательства. У него не было никаких правовых оснований для уплаты «царских долгов» (не было признания даже частичного преемства обязательств от Империи). Следовательно, требовалась ратификация международного договора парламентом, а не подписание межправительственного соглашения. И таковая ратификация была бы фактическим признанием правопродолжения от Империи — по крайней мере, в части долговых обязательств в отношении Франции. Поскольку этого не было, мы можем говорить о совершении преступления.
В Соглашении между Россией и Францией финансовые претензии перечислены, а значит, — признаны основа-
тельными. В том числе и российской стороной. Признание «царских долгов» прямо следует из сообщения МИД о том, что переговоры представителей РФ о выплате долгов были прямым продолжением переговоров советского периода, а в них (и это прямо следует из вышеприведенного текста письма МИД) предполагалось именно признание долгов, возникших до 1917 года. Таким образом, мы выявили еще одного лжеца среди высших должностных лиц правительства. А также установили явную заинтересованность министра финансов в сокрытии реального положения дел.
Выплата «царских долгов» состоялась под давлением обстоятельств, когда Минфин тем самым создавал «благоприятный финансовый климат» (иначе говоря, финансовую «пирамиду»), чтобы получить новые кредиты, заплатив по старым, пусть даже и не оформленным надлежащим образом. Но уже самим фактом официального признания «царских долгов» правительство оформило акт преемства от Российской Империи — в стыдливой и лукавой форме и в связи с не слишком приличным поводом. Это свидетельствует о том, что государство (даже такое нестабильное и несуверенное, как Российская Федерация) не может существовать без обращения к принципу континуитета.
Дипломаты зовут на помощь милиционеров
Следующая «итерация» процесса разоблачения международной аферы снова была связана с обращением к Фрадкову, где я сравнил цитаты из различных писем и прямо показал, что Кудрин, мягко говоря, лукавит, а Минфин либо не желает, либо не способен вести аналитическую работу, которая могла бы закрыть сложные вопросы международных финансовых отношений, а не оставлять их следующим поколениям российских дипломатов и финансистов. Если Минфин, как следует из моей переписки, больше всего был озабочен возможностью пересмотра Соглашения и восстановлением требований Франции о «компенсации», то моя забота заключалась в проблеме правопродолжения российской государственности. Если принцип континуитета в России будет официальным порядком восстановлен, он снимет огромное количество вопросов, а проблема «компенсации» не будет поднята в связи с тем, что российско-французские отношения исторически имеют богатый союзнический опыт. Чего не скажешь о советско-французских отношениях, которые были отношениями держав, входящих во враждебные политические и военные блоки. Кроме того, при любых «компенсациях» приоритет имеют российские граждане, затем — потомки выходцев из Российской Империи. Да и то лишь в случае, если они не были замечены в антироссийской деятельности. Все эти вопросы, очевидно, требовали комплексной законодательной инициативы, прежде которой — политической воли лиц, обладающих реальной властью. Именно эту волю я пытался обнаружить в правительственных коридорах. Но нарывался все время на одно и то же: корысть, трусость, некомпетентность.
Вслед за этим обращением после дипломатов и финансистов должны были появиться люди в фуражках. «Французская болезнь», поражала метастазами все министерства и добралась до МВД, куда Фрадков «сплавил» всю проблематику, касающуюся принципа континуитета.
Депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
А.Н. Савельеву
Уважаемый Андрей Николаевич!
Министерством внутренних дел Российской Федерации совместно с Министерством регионального развития Российской Федерации, Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федеральной службой безопасности Российской Федерации рассмотрен Ваш запрос о возможности признания Российской Федерации правопреемницей Российской Империи.
Сообщаем, что результаты анализа нормативных правовых актов и международных договоров, регулирующих вопросы правопреемства Российской Федерации, были представлены в официальном отзыве на проект федерального закона NQ 90759-4 «О репатриации в Россию русских и представителей других коренных народов России» от 24 декабря 2004 г. № 5871п-П12, который затрагивал в том числе и вопросы правопреемства Российской Федерации в отношении Российской Империи.
Позиция МВД России относительно возможности признания Российской Федерации правопреемницей Российской Империи была изложена в письме на Ваше имя от 13 октября 2005 г.
Первый заместитель Министра внутренних дел
А.А. Чекалин
Первому заместителю Министра внутренних дел РФ
А. А. Чекалину
Уважаемый Александр Алексеевич!
Судя по Вашему ответу на мой запрос, касающийся возможности признания Российской Федерацией правопреемства от Российской Империи, именно Вам Правительство РФ поручило рассмотрение соответствующих проблем. Не может не вызывать уважения Ваша решимость взять на себя ответственность координировать деятельность чиновников целого ряда министерств, которые, по Вашему утверждению, готовили ответ на мой запрос.
Между тем, смею отметить, что ни Вы, ни привлеченные Вами специалисты других министерств не заметили ряда немаловажных деталей, что сделало подписанный Вами ответ бессмысленным и не имеющим никакого отношения к тому запросу, который был мною направлен Председателю Правительства РФ.
Во-первых, я вовсе не запрашивал ни Вашего мнения, ни мнения каких-либо чиновников или государственных деятелей по данному вопросу. Мнения меня совершенно не интересуют. Я и сам могу по множеству вопросов такого рода мнения высказывать. Меня интересуют аргументы. Обмолвившись о некоем «проведенном анализе», Вы обязаны его представить как информацию, которую запрашивает депутат.
Вы ссылаетесь на то, что мой запрос рассмотрен. Тогда где аргументы? Что и каким образом рассматривалось? И кем? Где тот анализ нормативных актов и международных договоров, который, как Вы утверждаете, проведен? Напомню, что в своем запросе я предлагал направить мне именно этот анализ, а вовсе не мнение, представляющее собой вывод из данного анализа.
Во-вторых, привлеченные Вами эксперты не знакомы с российским законодательством. В частности, с законом «О государственной политике Российской Федерации в отношении зарубежных соотечественников». Я бы рекомендовал Вам и Вашим экспертам из различных министерств прочесть преамбулу этого закона, чтобы убедиться в полной несостоятельности своего финального вывода (результата анализа). В этой преамбуле в частности значится: «Российская Федерация есть правопреемник и правопродолжатель Российского государства, Российской республики…». Контекст этого положения однозначно свидетельствует, что речь идет именно о Российской Империи, в которой равнозначным названием было также и Российское Государство (см. Основные законы Российской Империи). Таким образом, речь может идти не об определении правопреемства, а лишь о надлежащем его оформлении. Также следует сделать вывод о некомпетентности лиц, привлеченных Вами к составлению ответа на мой запрос.
В-третьих, в своем ответе Вы ссылаетесь на официальный отзыв Правительства на законопроект «О репатриации…», где якобы были представлены результаты некоего анализа, затрагивающего обсуждаемый круг вопросов. Скорее всего, привлеченные Вами эксперты данный отзыв в глаза не видели, ибо именно в связи с отсутствием указанного анализа мной и были направлены два запроса, и на оба из них поступили ответы, подписанные Вами. Причем во втором запросе я указывал, что Вы уклоняетесь от предоставления мне информации: вместо анализа, на который сослался подписавший отзыв на законопроект вице-премьер А.Жуков, даете просто перечень нормативных актов. Поскольку Вы не в курсе, я прилагаю к настоящему обращения копию этого самого отзыва, где, как Вы можете лично убедиться, нет ровным счетом никакого анализа.
Тот факт, что МВД в состоянии составить перечень нормативных актов, регулирующих вопросы правопреемства, должен бы свидетельствовать, что анализ может быть проведен. В конце концов, все исходные материалы имеются в Вашем распоряжении, о чем Вы сами же и засвидетельствовали. Понимаю, что до сих пор никакого анализа не было. Но хотя бы теперь Вы можете отдать распоряжение, чтобы юристы МВД и других привлеченных к составлению ответа на мое обращение министерств поднатужились и такой анализ провели?
В-четвертых, Вы ссылаетесь на позицию МВД, представленную в ответе на мой предыдущий запрос. Перечитав еще раз Ваш ответ и вновь ознакомившись с этой позицией, не могу не удивиться странной ссылке на научную и общественно-политическую дискуссию, о которой мне ничего не известно, а Вы не даете соответствующих ссылок. Притом что я очень внимательно отношусь к соответствующему кругу вопросов, о такой дискуссии я не знаю. Полагаю, что о состоянии научной и общественно-политической дискуссии я осведомлен достаточно, и здесь информация МВД мне ровным счетом ничего не дает для удовлетворения вопросов, поставленных в моем обращении. Переход в Вашем ответе к правовым аргументам еще более странен. Указание на отсутствие в Конституции РФ каких-то положений не просто не является правовым аргументом, а свидетельствует о непонимании исполнителем письма самой природы таких аргументов. Ссылка в данном случае на отсутствие нормы — это нонсенс, полный абсурд. То же самое касается и «незакрепленности в международных договорах». Аналогично это касается и отсутствия упоминания Российской Империи в Договоре о правопреемстве в отношении государственного долга. Отсутствует в праве неизмеримо больше того, что там есть. Если использовать принятый Вами подход, можно доказать все, что угодно. Именно поэтому такой подход нигде не используется. В любом случае, подход Ваших экспертов уникален и совершенно неприемлем.
В-пятых, Вы и Ваши эксперты не в курсе правоприменительной практики в отношении государственного долга, которая демонстрирует, что Российская Федерация пользуется в этой области не только названным Договором о правопреемстве в отношении государственного долга. Россия выплатила Франции 400 млн. долларов в покрытие обязательств, возникших до 9 мая 1945 года, включая те из них, которые возникли до образования СССР (так называемые «царские долги»).
Таким образом, во всех аспектах подписанный Вами ответ на мое обращение демонстрирует некомпетентность или лукавство: никакой реальной работы по моему обращению, как я полагаю, до сих пор не проводилось. И это служит еще одним подтверждением глубокого административного кризиса, о котором я постоянно заявляю публично. Хотелось бы хотя бы в каком-то элементе деятельности преодолеть этот кризис.
Исходя из вышеизложенного и в соответствии с действующим законодательством я предлагаю Вам предоставить мне исчерпывающий правовой анализ, который должен лежать в основе сделанных А.Жуковым выводов, на которые Вы ссылаетесь (мол, признание Российской Федерации правопреемницей Российской Империи «противоречит общим положениям российского законодательства»). Прошу также ознакомить меня не с мнением, а с официальными документами, в которых представители Министерства регионального развития, Министерства здравоохранения и социального развития и ФСБ (то есть, по списку из Вашего ответа) проводили бы свой анализ или соглашались бы с
Вашим анализом круга вопросов, связанных с правопреемством Российской Федерации от Российской Империи.
В заключении выражаю надежду, что на сей раз Вы, как представитель Правительства по данному кругу вопросов, подготовите квалифицированный и полный ответ на мое обращение. Полагаю также, что государственному служащему Вашего ранга ясна важность принципа континуитета и его правового оформления. Мое обращение также преследует целью побудить правительственные структуры к деятельности, а не к составлению отписок в ответ на депутатские запросы. Не вижу никаких препятствий к тому, чтобы под Вашим руководством были подготовлены необходимые законодательные предложения и нормативные акты, которые реализовали бы принцип континуитета, а также право-продолжение от Российской Империи в той форме, которая принесла бы России пользу, восстановила бы средствами права ее честь и славу, как древнейшего государства мира.
С уважением,
А.Н.Савельев
МВД силами привлеченных экспертов все-таки подготовило письмо-справку, где с возможной подробностью отразило позицию власти со всеми ее нелепостями, алогизмом и политической несостоятельностью. В Справке сказано: «Российская Федерация является, наряду с другими бывшими республиками, правопреемником СССР, а СССР — государством-предшественником Российской Федерации. В свою очередь СССР является правопреемником Российской Республики, провозглашенной Актом Временного правительства 1 сентября 1917 г. и просуществовавшей до 25 октября 1917 г. И, наконец, Российская Республика явилась правопреемницей Российской Империи. Таким образом, можно утверждать, что в формально-юридическом смысле Российская Федерация действительно является правопреемницей Российской Империи (Российского государства)».
Казалось бы, надо радоваться тому, что хотя бы правопреемство признано и в перспективе можно вести речь о правопродолжении, пока занимаясь следствиями из такого признания. Но не тут-то было! Следующие строки Справки опровергают предшествующие: «Российская Федерация является государством преемником Российской Империи не непосредственно, а опосредованно, следуя вышеописанной последовательности правопреемства. При этом существенно, что никогда, ни на одном из указанных этапов правопреемство от государства-предшественника в целом, в полном объеме не признавалось». При этом в международных договорах Советский Союз, как сказано, признавался «не правопреемником, а просто государством, находящимся в пределах территориальных границ бывшей Российской Империи».
То есть, в Справке проблема правопреемства выносится на суд иностранных государств!. И с полным нарушением логики говорится о том, что РФ сама принимает решение, что она преемствует, а что не преемствует от Империи. То есть, может произвольно (решением правительства) менять свою позицию.
В Справке указывается, что «у законодателя пока нет при обсуждении и принятии конкретных нормативных правовых актов, а у правоприменителя — при реализации соответствующих нормативных правовых актов никакого единого, общего, принципиального основания для решения вопросов правопреемства автоматически». «В каждом отдельном случае вопрос о правопреемстве решается отдельно».
Правительству, таким образом, предоставляется карт-бланш: раз нет закона с указанием общего принципа, то оно может действовать произвольно «в каждом конкретном случае». Это все равно что приватизировать часть государственной границы размером в торец чемодана. В данном случае правительство приватизирует право действовать по принципу: разрешено, раз не запрещено. Но этот принцип не может быть применен чиновниками без чудовищного ущерба государству! Он может распространяться только на граждан. Именно поэтому международные договоры, если они противоречат национальному законодательству, подлежат ратификации.
И, что интересно, в Справке это обстоятельство признается: «…не всегда государственное решение выступить правопреемником по отдельным вопросам можно считать обоснованным и законным. Например, факт выплаты Российской Федерацией в 1996 г. (так в справке! — А. С.) 400 млн. долларов так называемых “царских долгов” Франции является скорее не правилом, а исключением. Кроме того, Договор о вступлении России в Парижский клуб до сих пор не ратифицирован Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, что свидетельствует о спорности юридических обоснований данных выплат».
Для гражданина «исключение» из правового поля считается правонарушением или преступлением. Для правительства, выходит, нет?
Тема ответственности правопродолжателя перед гражданами некогда единой страны подается в Справке таким образом: «вопросы правопреемства решаются: индивидуально, на обычной и договорной основе. Поэтому преамбула закона "Ό государственной политике…” указывает лишь на возможность юридического решения конкретных вопросов о правопреемстве, а вовсе не об обязанности Российской Федерации быть государством-преемником “вообще”». То есть, МВД трактует закон не по букве закона, а также игнорирует очевидное положение, что нормы любого закона имеют общее значение, а принцип, если это не оговорено, применим всюду.
Все эти псевдоправовые аргументы мало чего стоили бы, не будь политической позиции власти — антигосударственной по своей сути. Именно такую позицию отражает Справка. В ней с наивной откровенностью изложены позиции руководства страны в вопросе об исторической ответственности: «1). Никто не оспаривает, что Россия является древним государством с богатейшей историей и культурой. Российская Федерация занимает достойное место в мировом сообществе государств, и ей нет необходимости “…восстанавливать средствами права, честь и славу”».
Разумеется, это вкусовое определение. От того, как посмотреть, можно оценить и достоинство Российской Федерации. Если РФ сама отреклась от всего, что связывает ее с Империей, то с какой стати будет уважаться ее суверенитет над занимаемой территорией? Ведь РФ — не монархия, не империя, не православное царство, не ведущая экономическая держава, не культурный образец и т. д. К России предъявляется множество претензий — и моральных, и территориальных. Но главное, за РФ никто не признает мощи прежней исторической традиции — она не наследует мощи СССР и величия Российской Империи. И это устраивает действующую власть: «2). Признание правопреемственности современной России от Российской Империи может вызвать непредвиденные последствия. Например, тогда может возникнуть вопрос о правопреемственности Российской Федерации от СССР. На основании чего Россия является постоянным членом Совета безопасности ООН? Может встать вопрос о принадлежности части территории острова Сахалин, островах Курильской гряды, входивших в состав Японской, а не Российской Империи. Нынешняя Калининградская область не входила в состав Российской Империи, а город Выборг входил в состав Великого княжества Финляндского и т. д.»
Странная логика. Правопреемство от Империи не противоречит правопреемству от СССР. Все это может быть решено декларативно, и никто не посягнет на территорию, которая, собственно, является основой фактического правопреемства.
Тем более, что милицейские страхи опровергаются другой Справкой, подготовленной по тому же кругу вопросов экспертами Совета Федерации РФ: «Современное международное право полностью исключает возможность изменения государственных границ “по историческим основаниям”. Неслучайно поэтому подпункт (а) пункта 2 статьи 62 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года предусматривает, что даже при коренном изменении обстоятельств, которое обычно является основанием для одностороннего выхода из международного договора, государство не должно прекращать свое участие в международном договоре, если он устанавливает границу». «3). Современной России многие страны предъявляют претензии как правопреемнице СССР. Правопреемственность Российской Федерации от СССР признана мировым сообществом, соответствует принципам международного права. Неизвестно, как отнесется мировое сообщество к заявлению о правопреемственности Российской Федерации от Российской Империи. Можно предположить, что это будет расценено как очередное проявление “имперских амбиций”».
Повторение антироссийского пропагандистского штампа достаточно характерно и отражает несуверенность российской власти, ее зависимость не только от позиции иных государств, но и от мнений зарубежной публики. Эксперты Совета Федерации полностью находятся в плену исключительно международного характера принципа континуитета и не понимают значимости ответственности власти перед собственным народом. Также как и эксперты МВД, они исходят из делимости континуитета, продолжая тем самым проводить в жизнь порочную концепцию делимого и делегируемого суверенитета. С нашей точки зрения, отчуждение у государства части суверенитета и делегирование его международным институтам по воле собственного же правительства является не чем иным, как государственной изменой.
Последней фазой исследования проблемы стало обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой провести расследование дела о «царских долгах». Но к 2007 году здесь уже был создан прочный заслон любой депутатской инициативе, которую курировал первый заместитель Генерального Прокурора РФ А.Э. Буксман. От него в мой адрес поступил совершенно возмутительный ответ, свидетельствовавший о циничном нежелании заниматься вопросом. Вероятно, Генеральная Прокуратура вполне намеренно была очищена от специалистов в области государственного и международного права, чтобы полностью исключить возможность привлечения к ответственности махинаторов, наживавшихся на крайне невыгодных для России соглашениях с иными государствами, среди которых было и противозаконное погашение «царских долгов».
Буксман добавил в копилку абсурда вот такой пассаж:
«В соответствии со ст. 114 Конституции Российской Федерации Правительство Российской Федерации обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой политики и осуществляет меры по реализации внешней политики страны.
Законом Российской Федерации от 22.12.92 № 4174-1 «О Совете Министров — Правительстве Российской Федерации» Правительство Российской Федерации было уполномочено осуществлять управление экономическими процессами и руководство в области отношений Российской Федерации с иностранными государствами, а также заключать межправительственные соглашения и принимать меры к исполнению международных договоров Российской Федерации.
Согласно Федеральному закону от 15.07.95 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» предложения о заключении международных договоров от имени Российской Федерации по вопросам, относящимся к ведению Правительства Российской Федерации, представляются в Правительство Российской Федерации (ст. 9).
В силу ст. 13 данного Закона решения о проведении переговоров и подписании международных договоров Российской Федерации, заключенных от имени Правительства Российской Федерации, принимаются Правительством Российской Федерации.
Таким образом, выплаты из федерального бюджета в пользу Франции по претензиям, возникшим до 09.05.45, в том числе по так называемым царским долгам, осуществлялись Правительством Российской Федерации в рамках действующего российского законодательства».
Трудно поверить, но первый заместитель Генпрокурора сознательно включил в текст письма не просто сомнительные, а очевидно бессмысленные аргументы, представляя дело так, будто Правительство РФ уже самой Конституцией допущено до любых выплат иностранным государствам и может совершать любые финансовые операции, никак не соотносясь с российским законодательством и интересами нашего государства, а также игнорируя парламент. Множественная подмена понятий, очевидная любому мало-мальски грамотному человеку, в формулировках письма очевидна.
Ответ из ГП, вообще не имеет никакого отношения к поставленным мной вопросам. Лица, готовившие его, не утруждались прочтением моего обращения и поиском формулировок в ответ на мои доводы. Между тем, с обращением были направлены обширные приложения, содержавшие серьезные правовые исследования, свидетельствующие, что в указанном вопросе не все так просто, как показалось Буксману. Он предпочел игнорировать мои вопросы, подменив реакцию на них изложением истории вопроса.
Как я ни старался, Генеральная прокуратура оставила вопрос без рассмотрения. Между тем, выплата «царских долгов», по меньшей мере, предполагала разрешение вопроса о правопреемстве от Российской Империи. Соответствующего акта в природе не существовало. Следовательно, прокуратура покрывала совершение преступления, нанесшего Российской Федерации значительный материальный ущерб.
Останется ли РФ без имперского наследства?
В системе власти России, как оказалось, отсутствует орган, который ведал бы столь фундаментальными вопросами права. Ни Верховный, ни Конституционный суды этим не занимаются. Неудачей закончились и мои обращения в Администрацию Президента. Сам президент Путин, разумеется, письма от депутатов не читал, а его помощники были заняты преимущественно дележом собственности и обеспечением тотального успеха «партии власти» на выборах всех уровней. Позиция официальных лиц выглядит согласно русской пословице: «наводит тень на плетень». Академические институты отреклись: объявили, что они не имеют разработок в этом направлении. Из трех ведущих правоведческих центров откликнулась лишь Академия госслужбы, представившая мнение профессора Барцица, доказывающего правопродолжение Российской Федерации от СССР. Вопрос об Империи остался не раскрытым. Литературный поиск продемонстрировал почти полное отсутствие фундаментальных трудов по проблеме континуитета. В связи с этим к обсуждению вопроса была привлечена независимая юридическая фирма.
Тщательный анализ проблемы правопреемства заострил многие вопросы и выявил некоторые слабые места в правовой теории государства. Например, возникло противоречие между волей к преемству и правом на преемство (то же и для правопродолжения). Что создает условие правопреемства? Возможен ли отказ от правопреемства? Возможно ли правопреемство при разрыве цепочки правопреемствова-ния? Последний вопрос особенно актуален, поскольку есть немало оснований считать некоторые периоды русской истории XX века «смутными» — в них продолжение от предшествующего правового режима явно не наблюдалось. Но также и в условиях достаточной стабильности принимались не просто «новые редакции» Конституции, но и попросту новые Конституции.
При рассмотрении правовой проблемы «Осталась ли Россия тем же субъектом после 1917 года?» возникает соблазн политических трактовок. И тогда неприятие политического режима однозначно отрицает правопродолжение от Империи. В то же время, сравнивая политический режим до февраля 1917, в период республики и после завершения гражданской войны, мы видим практически ту же территорию, тот же народ, единственное центральное правительство, прежние народные нормы морали, прежние культурные образцы. Некоторые явные отклонения от прежней жизни («пролетарская мораль», соцарт, атеизм и пр.) оказались поверхностными и исторически преходящими.
Мы знаем достаточно яркие исторические примеры восстановления правосубъектности — Польша после длительной несамостоятельности, Германия после длительной разделенное™, Испания, вновь ставшая монархией, и т. д. Различные аспекты правопродложения, таким образом, могут восстанавливаться, а не утрачиваются навсегда. Только нелегитимный режим, действительно, не может претендовать на правопродолжение или на правопреемство. Таковые претензии могут быть опровергнуты как зарубежными партнерами, так и последующими политическими режимами. Но сам факт нелегитимного правительства не означает, что сменился субъект государства. Он лишь временно утратил способность к правопродолжению. Легитимация означает также восстановление этой способности. Если СССР, многократно отрекаясь от прежней традиции, легитимировался выстраиванием народного представительства советского типа, исторической победой в Великой Отечественной войне и обретением статуса сверхдержавы, то тем самым он получал некоторые основания для правопреемства и достаточно широко пользовался им. Современная Российская Федерация, также многократно отрекшаяся от исторического наследия СССР, пользуется тем же самым приемом. Но и Российской Федерации появляются основания для полномасштабного правопродолжения от Российской Империи через «отрицание отрицания».
Для осуществления правопродолжения Российской Федерации необходимо исключить некоторые периоды XX века из правовой традиции и считать созданные в этот период правовые нормы фиктивными, не подлежащими применению. Те же нормы, которые до сих пор считаются продуктивными, можно восстановить в статусе специальным законодательным актом. Тогда цепочка правопреемства может быть вновь замкнута и по этой цепи может пройти «импульс» правопродолжения. В принципе, можно даже установить неправомерность всех политических режимов, начиная с февраля 1917 года до настоящего времени. Такой подход возможен, но вряд ли будет конструктивным. Тогда многие международные статусы России окажутся в «подвешенном» состоянии. Для правопреемства достаточно будет отбросить из правовой традиции исторические переломы — период революций и гражданской войны и период разрушения СССР и госпереворотов.
Стратегический подход к государственному строительству в России, безусловно, не может обойтись без восстановления правопродолжения от предшествующих государственных форм. Это своего рода самообязывание традицией, дающее значительные перспективы в различных сферах жизни русского общества.
Суверенность России, как считается, выражена самой Конституцией. Но в Конституции лишь преамбула содержит некоторые элементы правопреемства. О принципе континуитета сказано в законе «О государственной политике в отношении зарубежных соотечественников», но этот закон так и остался декларацией, принципы которой не распространились в других законах и нормативных актах.
Суверенитет России был лишь однажды продекларирован, когда Российская Федерация еще была в составе СССР и данная декларация была скорее формой мятежа против центрального правительства — то есть, тем самым историческим разрывом правовой традиции, который мы хотели бы устранить. Таким образом, правового выражения суверенного статуса России до сих пор не существует.
Есть суверенитет факта (весьма условный, ибо суверенитет у нас считается делимым и делегируемым), есть суверенитет признания иными государствами (формальный и мало что значащий), но нет правового акта, который бы утвердил суверенитет. Иными словами, не продекларировано и не обосновано право нынешнего правительство владеть данной территорией и размещенными на ней материальными ценностями, править данным народом и рассматривать государственную традицию исторической России как свою. Тем более, это право не подкреплено правовыми нормами, защищающими суверенитет, если он будет поставлен под вопрос — установлениями норм режима чрезвычайного положения. Впрочем, это отдельная тема.
Таким образом, мы подходим к тому, что суверенитет без континуитета невозможен. Люди, для которых история России начинается с 1991 года, не должны быть у власти, потому что они не способны обеспечить суверенитет нашей страны. Это наносит нам непоправимый ущерб, который далеко не всегда можно измерить в денежных единицах. Но и в деньгах этот ущерб колоссален. Неоформленность преемства России от СССР и Российской Империи убивает результаты труда многих поколений. Бесхозная собственность растаскивается по странам и континентам.
Правовая система, создающаяся фальсифицированным народным представительством, торопливо засыпает правовые пропасти соломой никому не нужных законодательных актов. Дума за одно заседание рассматривает до полусотни законопроектов. Десятки лет этой бессмысленной «работы» все сильнее отдаляют нас от возможности решения ключевых проблем нашей государственности правовым путем.
Выдающийся правовед первой трети XX века Карл Шмит выделил и обосновал главный принцип суверенной государственности: суверенен тот, кто объявляет чрезвычайное положение. Иными словами, суверен способен стать над законом. Что соответствует русскому самосознанию: справедливость выше закона. Следовательно, в чрезвычайной ситуации суверен (высшая власть) должен стать над законом во имя справедливость и отбросить весь этот законодательный мусор ради решения принципиальных вопросов, среди которых правопродолжение — один из первейших.
Чтобы правовая система была отодвинута в сторону, а потом тщательно разобрана, очищена от плевел и кодифицирована, должен быть введен режим диктатуры. При этом надо вспомнить, что диктатура — это не беззаконие, а жесткий закон, не бесправие, а чрезвычайные меры ради сохранения права как такового. Национальная диктатура должна уничтожить нагромождения бессмыслицы, которой либералы пытались прикрыть свое беспрецедентное воровство, лишившее Россию крайне необходимых средств на переход к новым экономическим укладам, без которых она обречена на тотальное отставание от остального мира.
О национальной диктатуре писал крупнейший русский философ XX века Иван Ильин. Как правовед он обосновал необходимость и неизбежность национальной диктатуры для возрождения России и становления в ней национальной формы власти и национального права, исходящего из исторической традиции. Национальная диктатура необходима России и мы должны стремиться к ней как к последней надежде спасти нацию от небытия.
В целом мероприятие национальной диктатуры как кризисной формы управления прямо прокладывают путь к традиционной для России самодержавной монархии, которая смягчает чрезвычайные меры, заменяет власть Силы и Порядка властью Правды и Традиции. Испанский опыт восстановления монархии дает нам урок: не может монархия стать привычной, если восстанавливается без диктатуры и после диктатуры. Диктатура и монархия должны некоторое время сосуществовать. Монархия органично вытекает из диктатуры. Диктатура придает современной форме монархии соответствие времени и устраняет опасность непродуктивного копирования властных отношений прежних эпох. Верховенство личной воли, которая и устанавливает общий закон. Соответственно, при традиционной форме управления, личность правителя скрыта за нормой закона, но в кризисный момент она выдвигается на первый план. И тогда отбрасывается ложный принцип «Государство — это закон» и восстанавливается исходное: «Государство — это суверенная диктатура». Разумеется, это не произвол, а явленная в личности традиция. Государь, как и Спаситель, приходит не для того, чтобы разрушить Закон, а чтобы его исполнить. Общие правила и нормы могут действовать лишь при определенном минимуме стабильности государства. Подрыв этого минимума и есть условие необходимого вмешательства законодателя, который не совершенствует нормы, переставшие работать, а учреждает новые.
При всей кажущейся экстравагантности идеи реставрации монархии в России, в основных чертах она есть народная мечта о справедливом правлении, которого не построишь при либеральном правовом буквоедстве. Отеческое отношение к гражданам — принцип традиции, который не умещается в либеральное законодательство. Национальный диктатор и Царь-батюшка в большой семье-народе есть не только явление силы, но и явление авторитета. Он не только принуждает, но и увещевает и учит. Усилия власти в основном концентрируются на чиновнике, а не на по-мыкании населением.
Общий кризис республиканских институтов очевиден не только в силу негодности чиновников, но и в силу республиканской концепции власти. Деградация власти вполне может поставить вопрос о восстановлении монархии сначала как определенного рода «громоотвода» или ширмы, а потом — как действующего властного института. В XIX веке так была восстановлена власть императора в Японии, а в XX веке — в Испании. Сегодня монархия — реальность многих европейских государств, не говоря уже о неевропейских. Конечно, это не абсолютная монархия давних эпох, но вполне органичный элемент общества и государственного управления.
Усталость от безобразий российского парламентаризма и произвола властей склоняет к монархическим взглядам многих политиков, ранее не проявлявших соответствующего интереса. Важно лишь, чтобы эти взгляды становились основательными и перерастали в убеждения.
Древние римляне говорили, что республика возможна, когда народ преисполнен мужества. Если мужество ослабло, то взамен республике приходит Империя. Имперское государство стремится найти для каждого человека ту социальную позицию, в которой он проявляет максимум мужества. И тогда Империя становится выше республики. Ее организованное мужество превышает мужество республиканцев, суммируемое без системы и взаимного усиления.
Удивительной логичностью самодержавной системы власти, которая никого из истинно русских интеллектуалов не оставляет равнодушным, может быть отражена в перефразированном тезисе Черчилля, который говорил о демократии. Вразрез с его суждением, но в духе этого суждения, мы можем сказать: монархия — несовершенная форма правления, но ничего лучшего человечество не придумало.
Проблема правопродолжения
Погруженному в свои дела обывателю трудно понять дела государственной важности, не касающиеся его непосредственно. Он упорно будет считать множество важнейших тем совершенно пустыми и ненужными. И не возьмет в голову простую мысль о том, что многое вопросы «кое-чего стоят», и что на его долю от них тоже немало приходится. Один из таких вопросов — государственный статус Российской Федерации.
Казалось бы, что тут непонятного? Государство, как и все прочие, — со своей Конституцией, президентом, парламентом, армией, территорией и т. д. Но на поверку оказывается, что все не так. Государство откуда-нибудь да происходит. Оно не может входить в историю самозванцем. Не только у каждого человека, но и у каждого государства есть своя биография. В этой «биографии» заложены права государства на данную территорию, права высших органов власти распоряжаться унаследованными богатствами, обязательства по договорам — баланс долгов и кредитов и т. д.
Когда правительство РФ направо и налево дарило прежним союзникам десятки миллиардов долларов, оставшихся от обязательств перед советским правительством за поставки вооружений и другую помощь, чьим богатством оно распоряжалось? Уж не чужим ли? Ведь никакой приемки-передачи дел от союзного правительства российскому не было. Был лишь акт принятия РФ на себя ответственности за все советские долги, что, будто бы, обосновало право/ РФ также и на всю зарубежную собственность СССР и все финансовые обязательства в отношении СССР со стороны облагодетельствованных им стран. Получилось, что все не так. Долги наши мы признали, а долги нам в основном остались непризнанными.
Российская государственность не может существовать без соотнесения с прошлым — с использованием символов Империи, ее исторической славы, ее культурных достижений. Между тем, проникновению исторической памяти в право поставлен жесткий барьер. Так, МИД уклоняется от возможностей, которые предоставляет династическая дипломатия — пугается каких-либо контактов с Российским Императорским Домом. Перезахоронение праха Великой Княгини Марии Федоровны, запланированное как яркое мероприятие с государственным ритуалом, превращено в частное дело потомков династии Романовых, а статус царской усыпальницы в Петропавловской крепости так и остается на уровне музейной достопримечательности. Весь этот символизм имеет прямое отношение к благосостоянию страны. Потому что доброе имя и долговременная позитивная «кредитная история» конвертируется не только в национальной достоинство, но и в национальное богатство.
Проблема правопреемства или правопродолжения современной российской государственности от Российской Империи остается не выясненной ни с научной, ни с политической точки зрения. Российские правоведы лишь спорят о том, насколько объемлющим является правопродолжение Российской Федерации от СССР и правопродолжение ли это, если власть отказалась от множества обязательств советского периода — не только внешнеполитических, но и внутренних. Разумеется, безответственная власть хочет пользоваться всеми преимуществами, достигнутыми в предшествующие эпохи, но не желает нести ответственность перед гражданами, подвергнутыми унижению воровской приватизацией, ограблению путем освобождения цен и «дефолта». Поэтому внешний долг признается и выплачивается, а внутренний не признается и не выплачивается.
Одно из следствий принятия государственной властью всей полноты ответственности по обязательствам предшественников — это ответственность за статус граждан. Изменение контура границ, утрата территорий обязательно ставят на повестку дня проблему репатриации. Соответственно, возникает вопрос, каковы принципы репатриации? Кто имеет безусловные права на гражданство? В отношении кого государство обязано подтвердить статус гражданина? Отсюда возникает проблема континуитета (правопродол-жения), если мы имеем дело с тем же политическим субъектом, или проблема правопреемства, если политический субъект изменен.
В государственных делах правопреемство — дело почти невозможное, поскольку новый субъект обязан заново пересмотреть все свои обязательства, а все, кто имело таковые по отношению к прежнему государству, по своей воле могут от них отказаться. Соответственно, если бы РФ была лишь правопреемником СССР, ей пришлось бы отстаивать свое право на место постоянного члена в Совете Безопасности ООН, а также многие другие международные статусы.
Уклониться от правопродолжения не так-то просто. Но ельцинский режим предпочел уклончивые, неправовые формулировки, взяв на себя обязательства правопродолжения от СССР только в отношении международных договоров и в отношении территории. Внутренний континуитет был полностью отброшен, хотя это и не было отражено в каких-либо правовых актах. Принятие Конституции в 1993 году, напротив, декларировало обратное. В преамбуле Конституции имеется ссылка на историческую ответственность. Тем не менее, положения Конституции не нашли отражения в праве, правительство в РФ оказалось полностью безответственным.
Безответственность власти проявляется многогранно. В том числе и в проблеме репатриации. Законопроект о репатриации, внесенный в 2004 году в Государственную Думу депутатами фракции «Родина», получил отрицательный отзыв. Среди аргументов в официальном правительственном отзыве оказался и такой:
«…норма статьи 3 законопроекта о признании Российской Федерации правопреемницей Российской Империи противоречит общим положениям российского законодательства. Анализ заключенных международных договоров в этой области (Договор о правопреемстве в отношении внешнего государственного долга и активов Союза ССР от 4 декабря 1991 г., Соглашение глав государств Содружества Независимых Государств о собственности бывшего СССР за рубежом от 30 декабря 1991 г., Соглашение о распределении всей собственности бывшего Союза ССР за рубежом от 6 июля 1992 г.) позволяет сделать вывод о том, что Российская Федерация является правопреемником только лишь Союза ССР».
Последовавшая депутатская переписка показала, что никакого анализа международных договоров в правительстве не было. Как не было и анализа российского законодательства, якобы, препятствующего введению института репатриации. Вице-премьер А.Д.Жуков не смог также ответить на вопрос, какие нормы российского законодательства мешают реализации правопреемства от Российской Империи. Все последующие выяснения показали, что таковых не существует. Зато существует политическая позиция, лишающая страну суверенитета, а правительство — ответственности перед гражданами. Что отражено также в именовании г-ном Жуковым нашего государства «многонациональным». В Конституции РФ есть слова только о «многонациональном народе». Никакого «многонационального государства» в правовом поле не существует. Тем не менее, одно из высших должностных лиц пользуется этим термином в официальной переписке при аргументации против внесенного депутатами законопроекта. Это говорит о глубоком непрофессионализме правительственных чиновников.
Здесь необходимо пояснение. Что такое «многонациональный»? Путаются термины «национальность» и «нация». «Национальность» это, грубо говоря, этичность. «Нация» — понятие политическое, связанное с государством. Этносов в стране живет много. При многозначности понятия «народ» нетрудно согласиться с тем, что народ в смысле населения страны — эго множество этносов (национальностей). Никто с этим и не спорит. А вот что есть для России «нация»? Если мы скажем, что у нас «многонациональное государство», то это возможно только в одном случае — в случае конфедерации. В одном политическом субъекте не может быть двух наций. Таким образом, исходя из политической теории, любое унитарное (и даже федеративное) государство мононационально в принципе. Осталось определить, что есть нация в данном конкретном случае. В России есть одна нация — русские. И национальные меньшинства, которые не составляют нацию (не делают значимого вклада в политическую культуру), но являются национальностями. И требуется защищать от дискриминации, а также предоставлять возможность приобщаться к политической культуре (госязыку — русскому, культурным основам государства — русской культуре) и т. д. Проблема только в том, что в России нацменьшинства защищены вполне, а вот русская нация составляет дискриминируемое большинство, отстраненное от собственного государства. Иначе говоря, политический субъект в России подменен: вместо государства-нации мы имеем государство-бюрократию. Которая имитирует свою «народность», опираясь исключительно на нацменьшинства. Мол, если есть «меньшинства», то уж «большинство» как-нибудь обеспечено и пристроено. На самом деле это не так.
Проблема правопродолжения\правопреемства становится не только научной, но и политической. Кто вправе решать судьбу России? Кто имеет право на статус гражданина? Что Россия наследует от прежних эпох? Нынешняя Россия и прежняя — один субъект права или разные? Если разные, то чем же обосновать право владения данной территорией, властвования над данным народом, обладание всеми богатствами, которые были прежде у Российской Империи и СССР?
Россия не оформила своих прав на наследство. Именно поэтому правительственные чиновники так легко «прощали» долги ранее облагодетельствованным государствам, даже не предпринимая попыток их «реструктуризации», обмена на имущество и прочие активы задолжавших стран. Они дарили заведомо чужое — то, что создавалось тяжким трудом народа. Нет сомнений, что за свои щедрые жесты чиновники получали колоссальные «отступные». Возникает вопрос: а мы им так же легко простим преступления, как они простили чужие долги, распоряжаться которыми у них не было прав?
В апреле 2006 г. появилась информация о том, что кремлевские чиновники затеяли учет зарубежной собственности и активов, включая те, которые по каким-то причинам ускользнули от контроля России. В том числе и наследство Российской Империи. Скажем в виде золота, которым царское правительство во время войны оплачивало военные поставки из США, не получив и 20 % закупленного. Управделами Президента даже сообщил, что создается база данных по собственности, общий объем которой оценивается в 400 млрд, долларов. Вопрос, с какой стати РФ задумала претендовать на достояние Российской Империи? Какое отношение постсоветская Россия имеет к досоветской? Чем оформлена преемственность прав? Оказалось — ничем.
Мне довелось вести длинную переписку с правительственными чиновниками, которые пытались скрыть еще одно преступление — выплату Франции так называемых «царских долгов», не имея для этого никаких оснований. Потому что долги Российской Империи к Российской Федерации не имеют никакого отношения. Они не приняты современной Россией как унаследованное обязательство ни в каком виде. Нет сомнения, что и в этом случае огромная сумма, вырванная из бюджета страны, была щедро оплачена правительственным жуликам. В то же время, на все мои запросы чиновники отвечали, что Россия не имеет статуса провопреемницы Российской Империи. Более того, чиновники страшно пугались самой перспективы такого преемства. Они точно знали, что их ответственность начинается с момента вступления в должность. Все остальное — совершенно чужое, к ним не относящееся. Именно поэтому бюрократии совершенно не жалко «чужого добра» — то есть, достояния исторической России, которое разбазаривали по грошу за рубль.
В прежние времена вопрос поднимался в Госдуме. Но робко и невнятно. Вопросы внешних заимствований обсуждались не раз, но «царские долги» в думских стенограммах всерьез зафиксированы лишь однажды.
Черномырдин В.С. Да, действительно, на прошлой неделе (или, может быть, чуть больше времени прошло) мы во Франции подписали, наконец, все о долгах, то есть решили все вопросы по взаиморасчетам; в том числе (об этом много, я сегодня слышу, говорят и много в прессе пишут и там, и у нас) речь шла и о царских долгах, или о царских облигациях, которые были выпущены в начале века. Ну, для тех, кто не знаком и не знает какие это облигации, подо что они выпущены, я, может быть, вкратце скажу. Это строительство Транссибирской железнодорожной магистрали, дороги Санкт-Петербург — Москва, это строительство заводов в Санкт-Петербурге, Москве (там целый перечень заводов в 10–12 городах России). Все это было израсходовано, но это часть. Не все только укладывается в эти долги, то есть когда это к нам… Теперь какие мы имеем претензии.
Какие наши были претензии к французам? Ну, прежде всего ущерб, который был нанесен в результате интервенции 1918–1920 годов. Подсчитать тут многие пытались, думали, разные методики определяли. Ну, посчитали какую-то часть. Это часть золота, которое было увезено в 1918 году, когда Ленин принял решение часть золота вывезти в Германию, а из Германии — во Францию. Эту часть тоже конкретно никто не мог определить. Колчак вывез, говорят, 18 тонн, но тоже документов нет.
Работала комиссия еще в советское время, при том правительстве, и не при одном правительстве. И в конце концов, баланс был такой: мы должны были заплатить 1 миллиард 200 миллионов долларов, а мы сказали, что наша возможность и что мы считаем — 200–250 миллионов. В итоге после длительной, продолжительной работы сошлись на 400 миллионах — на несколько лет. На нас много жали, чтобы мы заплатили 300 миллионов, но сразу, в один год. Мы этого не могли сделать, и мы сказали: мы этого делать не будем, не сможем. Естественно, они нам перекрыли все пути. Поскольку Франция является еще и лидером в Парижском клубе, естественно, нам все тормозили из-за наших долгов, в том числе и тех ранних долгов союзных, которые были накоплены за много лет. Поэтому и пошли на то, что мы подписали 400 миллионов на несколько лет, а они нам снизили некоторые ставки по долгам, которые мы имеем. А вы знаете, что мы эти долги реструктурировали (в основном там союзные долги), но на 25 лет по Парижскому клубу и на 25 лет по Лондонскому клубу. И только с учетом снижения ставки (мы договорились на 0,5 процента понизить ставку) мы в год будем иметь от 150 до 190 миллионов долларов экономии. То есть, на льготный период до 190 миллионов, на следующий — до 25 лет, — конечно, доходность будет уменьшаться. В целом только от одного этого мы будем иметь эффект порядка 2,5–3 миллиардов долларов. Вот, значит, на что мы могли согласиться. Поэтому и подписали.
И спорить сегодня о том, Россия выиграла или Россия проиграла… Я считаю, мы ничего не проиграли. Доказать многое было почти невозможно, ибо никаких документов не было, а так только, одни эмоции. Поэтому и мы, и они решили на этом поставить точку. Если вы знаете, нас с еврооблигациями Франция не пустила. Многие инвестиционные компании, которые могли бы работать на нашем рынке, были, по сути, связаны, их не выпускали. Сейчас и эти проблемы сняты.
Фактически ельцинский премьер рассказал, как он согласился выплачивать долги, которые к Российской Федерации не имели отношения, Во-первых, потому что с Францией СССР находился в состоянии войны до 9 мая 1945 года и до этого срока никаких долгов Россия как правопреемница СССР признавать не могла. Во-вторых, потому что официального вступления в наследство Российской Империи Российская Федерация не провела, а Правительство РФ не имело полномочий, чтобы обсуждать вопросы о займах царского правительства и балансировать долги с ущербом от интервенции. Отказ считать ущерб от интервенции — это отказ от установления исторической правды, которую Черномырдин и прочие деятели просто смахнули под ноги «демократии».
У меня нет сомнений в том, что долги Франции были признаны в рамках большой коррупционной игры, в которой Россия была повязана всеми долгами СССР, а долговые обязательства перед СССР были практически полностью списаны. Сделка по незаконному изъятию из госбюджета 400 млн долларов кажется ничтожной на фоне многомиллиардных долгов Парижскому клубу. Но даже малая часть украденного — значительна в порядке установления правового прецедента и формирования правовой системы, которая не допускала бы подобного впредь
Как бюрократия закапывает Империю
Одна из ключевых правовых идей, которая возвращала бы России ее державный статус не только в воспоминаниях, означает оформление правопреемства от предшествующих форм российской государственности. Или, точнее, правопродолжения — не наследования от прежней власти (когда можно от чего-то отказаться, унаследовать права и обязанности частично), а владения в полном праве — владения субъектом, который не изменялся, несмотря на исторические катаклизмы и перемену форм правления.
Что президенту писать письма бесполезно даже депутату Государственной Думы, я предполагал, но все же пытался проверить, так ли это. По особым делам такие письма не только возможны, но и необходимы. Доверять их чиновникам — гиблое дело. Может быть, президент все же не чиновник, хоть и называл себя именно так — «чиновник, нанятый на срок»? Глава государства все же не должен быть просто чиновником. На это я и рассчитывал, обратившись по теме, которая была тесно связана с правопреемством России.
С традиционной российской государственностью нас связывают лишь два института — Русская Православная Церковь и Российский Императорский Дом. Вопреки очевидности этого факта сложилась ситуация, когда в отношении РПЦ и ее иерархов государственная власть РФ проявляет уважение и готовность к сотрудничеству, а к РИД относится как к какой-то фольклорной достопримечательности. На РИД смотрят как на забаву, которую можно купить — приобщить в качестве безделушки к коллекции бюрократии, собирающей умерщвленные ею институты общества и государства.
Традиция, если мы хотим воспринимать от нее живительную для нации силу, не может приниматься догматически. Но в некоторых принципиальных моментах она остается неизменной во все времена. Российский Императорский Дом — один из ценнейших элементов Традиции. Ведь здесь мы имеем дело не с какой-нибудь общественной организацией и даже не с потомками династии, которые в большинстве своем уже не считают Россию своей родиной и не служат ей. Здесь символическая связь с предками, с Соборной клятвой 1613 года, в которой отражена сущность нашего государства. Немногим сегодня понятно, что без возрождения этой сущности Россия лишена будущего. Что касается бюрократии, то ей всеми силами нужно превратить истоки нашей истории в нечто неживое, не имеющее отношение к сегодняшнему дню. Поэтому не прекращаются попытки купить РИД и обюрократить РПЦ, приобщив императорскую династию и священноначалие к «вертикали» чиновников.
В лице членов РИД русская государственная традиция имеет свое продолжение и исполняется по заветам предков и династическим законам — насколько это возможно в сегодняшнем положении Августейшей Семьи. Это прекрасно понимал Святейший Патриарх Алексий II, именуя Великую Княгиню императорским титулом, принимая от нее имперский орден Святого Апостола Андрея Первозванного и вручая Главе Российского Императорского Дома православный орден Святой Равноапостольной княгини Ольги. О связи монархии и Церкви говорит и судьбоносный факт канонизации Государя Николая II и его семьи. Совершенно иная ситуация сложилась в Московской Патриархии после смерти Алексия II. В связи с «делом епископа Диомида» архиереи публично отреклись от клятвы 1613 года и объ-явили, что идеал православного царства для РПЦ МП не имеет никакого значения. Высшие иерархи МП восприняли от путинской бюрократии ее бесстыдные методы. Монархические взгляды среди священства и мирян, казавшиеся прежде естественными и даже необходимыми, теперь объявлены предосудительными, а попытки изобличать зло в' действиях властей стали поводом для внутрицерковных репрессий с привлечением карательных органов.
Подрыв авторитета РПЦ и РИД является для бюрократии продолжением борьбы «с экстремизмом». То есть, с естественным стремлением нации жить в соответствии со своими традициями, в согласии со сложившимися морально-нравственными принципами русской цивилизации. Бюрократия стремится к тому, чтобы воспоминания о монархии в нашем народе были исключительно негативными. Путинская бюрократия продолжает дело коммунистов — ложь против русской истории, клевету против монархии. Тем самым мы лишаемся своей родословной, а с ней — и возможности правопреемства, убеждающего нам самих в том, что мы по праву владеем своим государством, его территорией, размещенными на этой территории природными и рукотворными богатствами.
В современном мире различие между монархической и республиканской формами правления во многом нивелируются, демократические институты сочетаются с сохранением элементов монархии. Тем самым в народе воспитывается представление о непрерывности его истории и уважение к действующим институтам власти как к носителям древней традиции. В этом Россия могла бы заимствовать подходы к статусу монархических институтов у ряда европейских стран. Между тем, путинская бюрократия сделала все, чтобы сохранить символизм коммунистической эпохи, который бросается в глаза буквально на каждом углу. Пространство нашей жизни остается антиисторическим. Лишь в самой малой мере посреди океана «красного» символизма, увековечивающего имена убийц и живодеров, появляются вкрапления символизма истинной русской истории. Через два десятка лет после краха коммунистического режима мы лишены того, чем владеют другие народы — признаков родной истории в собственной повседневности.
Наше отличие от европейских государств состоит в том, что русская династия не имела за рубежом никаких сбережений, а на родине была истерзана расстрелами и экспроприациями. Без помощи государственной власти Императорский Дом не сможет обеспечить себе достойное существование и достойно представлять нашу Традицию. Как не смогла бы подняться с колен Русская Православная Церковь, которой возвращено многое из отнятого имущества и достойный статус в российском обществе.
Эти соображения я отправил в Кремль в начале 2004 года. Уровень полученного мной ответа ни по статусу подписавшего лица, ни по качеству изложения позиции верховной власти не выдерживал никакой критики. Вместо президента мне ответил заместитель начальника Управления по внутренней политике в президентской администрации — мелкий клерк. Вместо взвешенного и профессионального обсуждения моего предложения о статусе Российского Императорского Дома, я прочел целый ряд нелепостей. Мне предлагалось считать носителем традиции общественную организацию Российское дворянское собрание. Между тем эта организация (при всей своей позитивной роли) являлась лишь объединением потомков дворянских родов. Никакой дворянской службы в России не существует. Вне связей РДС с Российским Императорским Домом эта организация и вовсе выглядит историческим анахронизмом. Вторая нелепость, присутствующая в направленном мне ответе, состояла в том, что мое предложение почему-то было истолковано как попытка преодолеть республиканскую форму правления, закрепленную в российской Конституции. При этом сделана отсылка к Своду основных государственных законов Российской Империи, который не является на сегодня действующим правовым актом. В моем обращении не предполагалось вводить в действие какой-либо из пунктов этого Свода (хотя, почему бы и нет?). Я говорил лишь о том, что в России для РИД должен быть предусмотрен государственный статус (какой и в какой форме — отдельный вопрос). Этот статус может в настоящих условиях носить скорее мемориальный характер, как это имеет место в ряде европейских государств. Разумеется, вводить такой статус следует вовсе не масштабными изменениями в законодательстве.
Еще одна нелепость состояла в ссылке чиновника на мнение неких придворных авторитетов бюрократии — Г.В.Вилинбахова и Р.Г.Пихоя, которые, будто бы, высказывают сомнение в легитимности родственников Великого Князя Кирилла Владимировича в качестве престолонаследников. Это, бесспорно, мнение некомпетентных лиц, к тому же противоречившее позиции Святейшего Патриарха и признанию РИД монархических домов Европы. Мнения частных лиц вообще не могут быть приняты к сведению, I поскольку престолонаследие однозначно определено Законами о престолонаследии. Эти Законы в условиях республиканского режима являются внутренним делом династии, а «легитимацию» получают лишь в силу авторитета лиц, знающих династические правила и согласных считаться с ними. Но чиновник предпочитает иметь свои авторитеты, презирая общепринятые.
В связи с этими несуразицами я написал обращение к тогдашнему главе Администрации Президента Д.А.Медведеву, в прямом подчинении которого находился глупый чиновник, нагородивший чепухи в ответе депутату. На сей раз система несколько смягчилась, но ответ подписал все тот же «козел отпущения». Политические суждения вместо ответственного лица высказывал некто совершенно безответственный. Тем не менее, ответ намекал на возможность развития отношений с монархическим движением в случае определенных сдвигов в общественном сознании. «Обращение к историческим традициям российской государственности и желание найти им применение в современной России заслуживают внимания, а сама проблема, связанная с Российским императорским домом Романовых, — всестороннего изучения».
Как было сообщено, ни от РИД, ни от РПЦ никаких просьб о каком-либо статусе для не поступало. И это представлялось в качестве аргумента! То есть, мне как депутату никаких предложений по поводу статуса РИД делать почему-то нельзя и рассматривать их никто не собирался. Почему? Потому что позитивная реакция путинской бюрократии была невозможна, а негативная разоблачала ее с головой как врагов нашего Отечества. В остальном суждения подписавшего ответ лица оставались невежественными — как это принято у чиновников, исходящих не из интересов России, а из либеральной догмы, которая только и нужна, чтобы отчитываться перед начальством и покрывать собственную корысть. Вновь чиновник подменял один вопрос другим — толковал об «официальном признании монархической династии в качестве государственного института», что, мол, не вяжется с республиканской формой правления. Ни одного аргумента в пользу этого тезиса не приведено. В других государствах вяжется, а у нас не вяжется. Может быть потом, что кровь убитого царя и миллионов его верноподданных еще не смыта с рук убийц, находящихся во власти?
Некомпетентный чиновник формулировал за президента безграмотные суждения, делая вывод о том, что мои предложения не могут быть реализованы, и предлагал ограничиться общественной активностью и выяснением общественного мнения. Увы, примерно ту же позицию заняла и Канцелярия РИД, действовавшая в Москве в единичном лице главы этой Канцелярии. У меня создалось впечатление, что президентская бюрократия продолжается в этой Канцелярии, где любое живое начинание встречает настороженность, а все инициаторы оживления монархических организаций представляются как подозрительные лица.
Дальнейшая проработка темы была посвящена попыткам затеять диалог с МИДом. И здесь ситуация в значительной степени повторилась.
Поскольку мне довелось побывать в Мадриде и встретиться лично с Ее Императорским Высочеством Главой РИД Великой Княгиней Марией Владимировной (2005 год), я обратился к главе российского МИД С.В.Лаврову с предложением наладить неофициальное взаимодействие с РИД, используя бесспорный патриотизм его Главы во благо нашей страны. В частности, российские интересы могли бы проводиться через монархические круги тех государств, где монархические традиции достаточно сильны и составляют часть политической культуры. Это могло бы дать неофициальную поддержку российских дипломатических инициатив — как это практикуется в ряде европейских стран.
Вполне, казалось бы, разумные предложения, испугали мидовских чиновников, и они, как и кремлевские чинуши, начали уклоняться от принципиального ответа на поставленный вопрос. Мне пришло письмо, где говорилось, что «связи с М.В.Романовой» поддерживает посольство в Испании, а также о том, что МИД работает с диаспорой, с соотечественниками, эмиграцией и т. п. В общем — глупая чушь за подписью заместителя министра.
Меня эта бюрократическая писуля сильно нервировала. Имея достаточные сведения о порядке и интенсивности работы российских дипломатов с нашими зарубежными соотечественниками (я много лет занимался этой проблемой), я мог всерьез оспорить утверждения чиновника и с цифрами в руках доказать, что никакого укрепления связей с соотечественниками («диаспорой», «эмиграцией») не было и нет. Ничтожные бюджетные ассигнования — тому самое яркое свидетельство. Но это другая тема. То же касается контактов с некими «представителями рода Романовых», давно переставших нести какую-либо полезную для России службу и даже в значительной части утратившими владение русским языком.
МИД дипломатично признал факт: «последовательные шаги нашего государства по восстановлению отношений с Главой и Членами Российского Императорского Дома». А также указывалось, что «прорабатывается вопрос о приглашении М.В.Романовой на Всемирный конгресс российских соотечественников». Проработка оказалась безрезультатной, никакой работы в указанном направлении МИД вести не стал. Меня просто обманули.
Через МИД я попытался прояснить вопрос о статусе правящих европейских династий Или потомков ранее правивших династий и их отражении в европейском законодательстве. Увы, МИД расписался в полной неспособности провести соответствующую работу. В представленной мне информации нашлись грубые ошибки, а разыскать законодательные акты, которые определяли бы статус европейских монархов в республиканских государствах, российские дипломаты так и не смогли. Поэтому я направил запросы во все европейский посольства. Ответ поступил только от посла Испании, который представил мне русский перевод испанской конституции, раздел «О короне». Из посольства Германии меня заверили, что у них от монархии осталось лишь право на приставку «фон» в дворянских фамилиях. Оказалось, что я знаю о монархических институтах в Европе гораздо больше, чем посольские дипломаты. Мне вспоминается шок английских участников одной из конференций, где я напомнил им о важности монархии как института, символизирующего сплочение нации. Вероятно, в Европе бюрократия делает для уничтожения памяти о монархии не меньше, чем в России.
Даже когда путинские чиновники хотели бы продемонстрировать какие-то признаки имперского стиля, приверженность традиции, символы, связывающие нынешнюю Россию с прежней, исторической, получалось у них — дурнее не придумаешь. Так случилось с разного рода перезахоронениями. Прах философа-монархиста Ивана Ильина угнездили рядом с прахом генерала-республиканца Антона Деникина — в Даниловой монастыре в Москве. В том же духе в Санкт-Петербурге захоронили «гражданку М.Ф.Романову» — прах, скончавшейся на чужбине императрицы Марии Федоровны, супруги Александра III.
Поскольку перезахоронение планировалось и пропагандировалось с большой помпой, я решил вновь обратиться к Президенту РФ. Это уже была весна 2006 года, а перезахоронение планировалось на сентябрь — торжественное перемещение праха на военных кораблях, приглашение многих важных персон, парад, а затем торжественная церемония перезахоронения праха в Петропавловской крепости. Утвержденный протокол предстоящей церемонии обещал превратить перезахоронение в важное событие общественной жизни.
Я обратил внимание Президента, что от планируемого события устранен РИД, а также упомянул о нежелании чиновников вести продуктивный диалог о проблеме право-продолжения Российской Федерации от Российской Империи и использовании в целях российской дипломатии авторитета РИД. Эти обстоятельства лишали содержания замысел организаторов перезахоронения — он оказывался не связанным ни с восстановлением исторической правды, ни с переосмыслением трагических событий российской истории, ни с какой-либо реабилитацией институтов монархии, веками присущих российской государственности. В таких условиях ритуал перезахоронения приобретал бутафорский характер и дискредитировал как историческую роль российской монархии, так и действующую российскую власть. Следовало предусмотреть в ритуале перезахоронения особый статус РИД, а также ведущую роль его Главы в церемонии.
На заседании Думы ко мне подошел сотрудник Администрации Президента и сообщил, что на мое обращение они отвечать не будут, так как этим вопросом занимается Правительство. Я попросил все же дать мне хотя бы формальный ответ, выразив также удивление, что обращение к Президенту от депутата парламента может остаться без ответа. Но по опыту я знал, что АП занимается только теми вопросами, в которых есть какая-то экономическая или политическая выгода для какого-нибудь кремлевского клана. Поэтому я сразу же направил аналогичное послание в правительство. Кроме того, я направил послания губернатору Санкт-Петербурга В.И.Матвиенко и послу Дании. От администрации Путина я так ничего и не получил. Президент и его подчиненные проблему игнорировали.
Перед питерским начальством (а именно с ним мне рекомендовали выяснять все вопросы правительственные чиновники) я поставил ряд вопросов, которые должны были побудить к более серьезному отношению к запланированному мероприятию.
Я просил пояснить, какими нормативными актами или иными основаниями:
— регулируется существование захоронений в соборе Петропавловской крепости и проведение в нем новых захоронений;
— установлено, что усыпальница российских государей приобрела по факту статус родового кладбища некоторых потомков династии Романовых;
— определен круг лиц, которые впредь могут быть захоронены рядом с российскими государями;
— установлено, что прах императрицы Марии Федоровны будет захоронен в том же соборе, и какова мера участия властей Санкт-Петербурга в этом событии;
— определен характер участия государственных органов и органов власти Санкт-Петербурга в церемонии перезахоронения?
Послу Дании я предложил просто пригласить РИД на церемонию прощания с прахом, чтобы избавиться от двусмысленности, которую я ожидал от российских чиновников.
От Матвиенко ответ был пространным, но ничтожным по содержанию. Чиновникам не стыдно было признать, что кладбище и музей в Петропавловском соборе легко совместимы, а прах погребенных — всего лишь музейные экспонаты. Похоронное законодательство здесь и не ночевало. В 1995 Ельцин издал поручение «О перезахоронении останков Кирилла Владимировича и Виктории Федоровны Романовых в Великокняжеской Усыпальнице Петропавловского собора». То есть речь шла о неких лицах без какого-либо статуса. Затем, в 1998 году «екатеринбургские останки», определенные как останки Николая II и его семьи, привезли и закопали в соборе по распоряжению правительства. Без каких-либо правовых оснований. Так решили поступить и на этот раз. Путин издал странное распоряжение «О Межведомственной рабочей группе по организации церемонии переноса из Королевства Дания и захоронения в Петропавловском соборе г. Санкт-Петербурга праха вдовствующей Императрицы Марии Федоровны — супруги Императора Александра III», где статус уже был прописан, но смысл церемонии так и остался за скобками. Затем Министерство культуры и массовых коммуникаций издало свой документ — «О составе рабочей группы по обеспечению деятельности Межведомственной рабочей группы по организации церемонии переноса из Королевства Дания и захоронения в Петропавловском соборе г. Санкт-Петербурга праха вдовствующей Императрицы Марии Федоровны — супруги Императора Александра III», где также не было ни смыслов, ни целей. Питерские чиновники только еще раз переписали бюрократическую чушь — озаглавили местное распоряжение.
Посольство Дании было немногословно. Оно сообщило, что вся процедура — частное дело, а все Романовы без исключения имеют полную возможность участвовать в церемонии прощания с прахом императрицы. Таким образом, я получил подтверждение, что в Дании никакой монархии нет, как нет и уважения к прошлому нашей и их собственной истории.
Таким образом, круг замкнулся. Они хоронили не императрицу, а «гражданку Романову». Хотя и прикрывали свой цинизм пышным ритуалом и значительными затратами из городской и государственной казны.
Империя не умещается в жалких мозгах российского чиновника, отмороженных либеральными догмами.
Опыт монархиста
Кажется, что в России есть дела поважнее, чем статус Российского Императорского Дома и разного рода похоронные или праздничные дела. Но это ложное представление. Потому что наследие предшествующих поколений просто так в руки не дается. Оно требует ответственности. В том числе и в мелочах. Для русских выбор облика своего государства — важнейший вопрос, перекрывающий по значимости все остальные. Если мы отрекаемся от своей истории, то между русским и российским исчезает тождество и устанавливается непримиримый антагонизм.
В политическую жизнь я всерьез включился в конце 80-х годов, а в 1990 году стал депутатом Московского городского совета, выиграв выборы в непростой схватке. Шел в политику демократом, но очень быстро увидел, что люди, называвшие себя демократами — просто группа воров. В Москве это было особенно заметно. Через полгода те, кого я считал чуть ли не надеждой Отечества, стали моими политическими врагами. От социал-демократической доктрины, которой соблазнился по молодости и неопытности, я отошел, когда начал читать русских философов. Идеологический выбор обозначился — национал-консерватизм, в котором соединяются национальные интересы и традиция, русское государство и русская нация.
Проникновение в традицию поставило передо мной вопрос о форме государственности, который с очевидностью разрешился не в пользу либеральной демократии и западных стандартов политического устройства, которые возникли только в послевоенные годы. Традиция требовала принятия опыта Российской Империи и применения его к задачам сегодняшнего дня.
Уже в 1992 году из представителей различных партий нами была создана группа Союз возрождения России, где вчерашние «демократы» стремились сформулировать цели и задачи консервативной политики. Естественным образом возникли контакты с Всероссийским монархическим центром, который в те времена был достаточно активной организацией, ориентированной на РИД.
В те времена в кремлевских коридорах бродили самые причудливые веяния. В том числе, считалось, что монархические настроения (а они явно нарастали) надо как-то использовать, и за счет государственных контактов с РИД сделать режим более привлекательным как для российской общественности, так и для зарубежных партнеров России. К чести Великой Княгини Марии Владимировны, при всей мягкости высказываний в отношении официального курса, при всех неизбежных ошибках в оценках внутрироссийской ситуации, глава РИД не пошла на поводу у тех, кто вместе с «екатеринбургскими останками» решил «закопать» и проблему преемственности современной России от России исторической.
В 1993 году мне довелось принять участие в организации официального визита РИД в Москву. Так получилось, что в момент визита Лужков исчез из столицы, и высшим должностным лицом в столице остался председатель Моссовета Николай Гончар, который первенство Лужкова признавал, несмотря на то, что тот не был избран на свой пост, а противозаконно унаследовал его от бежавшего с должности Гавриила Попова. Мне удалось уговорить Гончара встретить Великую Княгиню у трапа самолета, а также способствовать тому, чтобы она была размещена в одной из дипломатических резиденций на Воробьевых горах. Тогда же состоялось и мое первое знакомство с Августейшей Семьей. Мимолетное, ни к чему не обязывающее.
Последующие годы после расстрела парламента в 1993 году и незаконного роспуска Моссовета (вместе с Верховным Советом) монархическое движение не ослабло. Даже возникла интрига с попыткой выдвинуть в 1996 году на выборах президента кандидатуру режиссера Никиты Михалкова, который демонстрировал неравнодушие к монархическим идеям, а также получил в управление Фонд культуры. Сомнительная репутация режиссера, его постоянное заигрывание с властями, а затем пожар, спаливший предполагавшуюся в помещениях Фонда культуры штаб-квартиру, закрыли этот вопрос. Не получив политического воплощения, стало вянуть и монархическое движение, распавшееся на множество мелких групп.
Не сомневаюсь, что здесь большую роль сыграли спецслужбы, окутавшие РИД своим неусыпным вниманием и систематически разрушавшие все инициативы, которые могли бы обеспечить РИД необходимыми финансами для ведения своей миссии и поддержки монархических настроений. В 1993 я видел, что множество бизнесменов готовы были вложить средства, чтобы РИД стал весомым фактором в российской политике. Немало монархистов находилось и в органах власти. (Сегодня во власти мне известен как монархист только глава ЦИК, с которым в нашу совместную бытность депутатами Думы мы не только работали в одном Комитете, но также пару раз сталкивались на крупных монархических «сходках».)
За время депутатства мне довелось не раз встречаться с Великой Княгиней в Москве, а также навестить ее скромную резиденцию в Мадриде (небольшая квартира с низкими потолками вдали от престижных районов и городского центра). Тогда грезилось разворачивание серьезной работы по консолидации всех, кто декларировал свою приверженность РИД. Мыс друзьями начали выпускать исторический альманах, соединяя историю и современность в монархическом ключе и презентируя РИД наравне с высшими государственными институтами России. На основании старинного документа был разработан современный текст присяги на верность РИД. Увы, эта инициатива заглохла, найдя среди монархических кругов не поддержку, а равнодушие и даже ревнивое противодействие. Мой личный пример принять присягу РИД, а с нею — ответственность за Россию истинную, вечную, какую ее нам Бог дал, также не вызвала заметного энтузиазма даже среди монархистов, а позднее стала поводом для беспрерывной клеветы в мой адрес. В том числе и отвратительных публикаций писателя М.Назарова, с которым я отказался дискутировать на темы, которые он подавал не как историк или мыслитель, а как политический провокатор.
Единственным (и весьма странным) каналом регулярных приглашений РИД в Россию и материального обеспечения этих визитов стало Министерство обороны. Сотни офицеров и генералов были награждены имперскими наградами. Но служить Империи в России было практически некому. Попытка активизировать всех этих орденоносцев и хотя бы напомнить им о моральных обязательствах перед РИД разбились об интригу — декларированные Канцелярией РИД связи с важными орденоносными персонами оказались фиктивными, и конференция с их участием фактически была сорвана. Это уже был 2006 год. Империя оставалась для политической системы опасным символом прежнего могущества, выставляющего немощь бюрократии в самом постыдном виде.
К 100-летию Государственной Думы я предложил председателю Думы Б.В. Грызлову дополнение в план торжественных мероприятий, предусматривающий участие Главы РИД и проведение слушаний по континуитету. Эти предложения были признаны чиновниками «нецелесообразными».
В 2007 году Думу посетил Наследник — Великий Князь Георгий Михайлович, которого благосклонно приняли в парламенте зампред Думы Л.Слиска и председатель Комитета по делам общественных организаций. В Комитете состоялась недлинная беседа, а затем — встреча в банкетном зале Думы, где мне удалось поговорить с Наследником и даже показать на стенде к 100-летию ГД примечательную записку одного из членов императорской фамилии, который встретил создание Думы отповедью настолько резкой, что появление этого документа в стенах нынешней Думы можно было расценить только как курьез. Впрочем, к этим стендам, как я понял, кроме нас и музейных работников, никто и не подходил.
Семнадцать вопросов для МИДа и Минфина
Конечно, не ко времени мной была заявлена тема пра-вопродолжения РФ от предшествующих государственных форм. Но она прямо была связана с воровством — беззаконной выплатой Франции 400 млн. долларов из государственной казны России. Либо надо было сделать шаги к признанию принципа континуитета и оформить его какими-то нормативными актами, либо сажать в тюрьму лиц, расплатившихся с одним из кредиторов Империи. Поскольку вопрос, как мне казалось, должен прямо проходить через структуры МИД, туда я и направил свои вопросы на данную тему.
Дело в том, что в 1996–2000 годах органы государственной исполнительной власти Российской Федерации производили выплаты из федеральных средств в пользу Франции по финансовым и имущественным претензиям, возникшим до 9 мая 1945 г. Общедоступная информация не содержала сведений, какие конкретно претензии и какого именно материального характера со стороны Франции при этом имелись в виду, когда именно они возникли и на каком правовом и основании. Оставалось неясным, какие должностные лица принимали участие в инициировании, оформлении, обсуждении и принятии решения о признании таких претензий, кто из них выполнял, проверял и утверждал расчеты, кто участвовал в проведении переговоров? Должны были остаться какие-то стенограммы, протоколы, и я просил МИД ознакомить меня с документами. Отдельно надо было разобраться в правовых основаниях (включая международные и межгосударственные договоры, а также и российское национальное законодательство) для выплаты так называемых «царских долгов». То есть, понять основания правопреемственности для данного случая по обязательствам Российской Империи.
Ответ был поразительно бессодержательным. Вместо правовых оснований и указаний на документы мне сообщили, что «проводимые различными французскими ассоциациями держателей русских ценных бумаг (т. н. «царских займов») шумные кампании, в том числе в средствах массовой информации, не способствовали росту доверия иностранных инвесторов к нашей стране, зачастую ставили под сомнение ее репутацию как государства, способного нести ответственность по своим финансовым обязательствам. В первой половине 1990-х гг. Франция неоднократно увязывала эту проблему с готовностью идти навстречу российской стороне в вопросах реструктуризации задолженности бывшего СССР и присоединения России к Парижскому клубу на правах страны-кредитора».
Переговоры по долгам велись в советский период, а в конце 80-х годов XX века были согласованы основные принципы возможного межправительственного соглашения в этой области. Содержание этих принципов МИД не сообщил (их в реальности и не существовало), а обязательность выплат вовсе не была установлена. Между тем, в Договоре между Россией и Францией 1992 года были вновь закреплены обязательства сторон урегулировать взаимные финансовые и имущественные претензии, касающиеся интересов и собственности физических и юридических лиц обеих стран. На основе совершенно неконкретных обязательств МИД и Минфин РФ вновь начали переговоры.
В ноябре 1996 года был подписан Меморандума о взаимопонимании между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской Республики, а в мае 1997 года Россия и Франция подписали межправительственное Соглашение об окончательном урегулировании взаимных финансовых и имущественных требований, возникших до 9 мая 1945 г. Правительство своей волей, без привлечения парламента согласовало выплату Франции 400 млн. долларов США. Успехом считалось, что Франция не потребовала многократного увеличения данной суммы под давлением Французской ассоциации держателей облигаций царских займов. В соглашении был закреплен отказ правительств обеих стран как от своего имени, так и совершенно произвольно от имени физических или юридических лиц, предъявлять друг другу или иным образом поддерживать какие бы то ни было финансовые или имущественные требования, возникшие до 9 мая 1945 г.
Поскольку МИД все прочие вопросы отнес на счет Минфина, то я отправил туда запрос, где более подробно и системно привел перечень интересующих меня документов. В то же время, МИД явно не собирался тщательно проработать мои вопросы, и я счел необходимым также предложить их в систематизированной форме. Прежде всего, в связи инициированием, обсуждением, подготовкой и заключением Соглашения и иных подобных договоренностей с Францией:
1. Какие конкретно претензии (или требования) и какого именно материального характера имелись в виду, когда именно они возникли (конкретные даты) и на каком правовом и фактическом основании? Какие именно институты или органы государства, а также должностные лица принимали в прошлом обязательства России перед Францией и какие размеры обязательств были при этом признаны?
2. Какое конкретно участие и какие именно должностные лица МИД РФ принимали в инициировании, оформлении, обсуждении и принятии решения о признании таких претензий? Кто из них выполнял, проверял и утверждал расчеты, а также кто участвовал в проведении переговоров с французской стороной и кто именно участвовал в таких переговорах со стороны Франции?
3. Велись ли в процессе таких переговоров стенограммы, и если велись, то какой порядок допуска к ним существует? Могу ли я, в качестве депутата ГД, ознакомиться с ними?
4. Каким законодательным актом или актами Российской Федерации, международно-правовым либо межгосударственным актом были приняты к рассмотрению указанные претензии?
5. Какие реквизиты имеют нормативно-правовые или иные акты Правительства РФ и МИД РФ по признанию, расчету, утверждению, выплатам и иным вопросам, связанным с указанными претензиями? Прошу дать точные ссылки либо предоставить мне копии этих актов.
6. Какие правовые основания, (включая международные и межгосударственные договоры, а также и российское национальное законодательство) существуют для выплаты так называемых «царских долгов» Франции (то есть основания правопреемственности Российской Федерации по обязательствам Российской Империи), а также размеры и порядок осуществления этих выплат?
7. Какие финансовые и имущественные претензии, возникшие до 9 мая 1945 г., существовали со стороны России (Российской империи, Российской республики 1917 г., СССР, РСФСР) по отношению к Франции? Когда, каким органом власти и в какой форме и порядке они оформлялись, учитывались и предъявлялись Франции и какова была официальная реакция Франции на эти претензии?
Конкретно, когда, кем и в каких формах Российской Федерацией предъявлялись претензии Французской стороне по активам, принадлежащим Правительству Российской Империи; займам и облигациям, которые были выпущены и гарантированы до марта 1917 года Российской Империей; долгам Правительства Франции и французских физических и юридических лиц со стороны Правительства Российской Империи, физических и юридических лиц, проживавших или осуществлявших профессиональную деятельность на территориях, управлявшихся Правительством Российской Империи? Имеется ли реестр претензий со стороны России, российских юридических и физических лиц? Каковы размеры претензий по каждому из перечисленных выше классов претензий и прочих претензий? Какова доля претензий, относящаяся к периоду до марта 1917 года, в общем объеме претензий?
8. Какие финансовые и имущественные претензии, возникшие до 9 мая 1945 г., существовали со стороны Франции по отношению к России (Российской империи, Российской республике 1917 г., РСФСР, СССР)? Когда, каким органом власти и в какой форме и порядке они предъявлялись России, и какова была официальная реакция России на эти претензии?
Конкретно, когда, кем и в каких формах Францией предъявлялись претензии Российской Федерации по займам и облигациям, которые были выпущены и гарантированы до марта 1917 года Российской Империей; долгам Правительству Франции и французским физическим и юридическим лицам со стороны Правительства Российской Империи; долгам физических и юридических лиц, проживавших или осуществлявших профессиональную деятельность на территориях, управлявшихся Правительством Российской Империи. Имеется ли реестр претензий со стороны Франции, французских юридических и физических лиц? Каковы размеры претензий по каждому из перечисленных выше классов претензий и прочих претензий? Какова доля претензий, относящаяся к периоду до марта 1917 года, в общем объеме претензий?
9. Несмотря на то, что в Договоре от 7 февраля 1992 года не содержится обязательства сторон относительно достижения договоренности об урегулировании взаимных финансовых и имущественных претензий, касающихся интересов и собственности РФ как государств, как, впрочем, и подтверждения наличия таких претензий, в Соглашении от 27 мая 1997 г. содержится односторонний отказ Правительства РФ от предъявления требований в отношении золота из золотого запаса России, оказавшегося во Франции, и в отношении требований, связанных с интервенцией в Россию со стороны Франции в 1918–1922 гг. На каком правовом, документальном, расчетном и ином основании Правительство РФ приняло такое обязательство? Каковы физические размеры, номенклатура и стоимость указанных активов?
10. Что именно может быть отнесено к фактам, свидетельствующим о наличии на протяжении десятилетий «болезненных раздражителей» в советско-французских и российско-французских отношениях, о которых упоминалось в ответе МИД? Как они связанны с финансовыми и имущественными претензиями, возникшими до 9 мая 1945 г.?
11. Каким образом, когда, в какой форме Франция увязывала проблему взаимных финансовых и имущественных претензий, возникших до 9 мая 1945 г., с другими факторами российско-французских отношений, возникших, надо полагать, значительно позднее, в частности по вопросам реструктуризации задолженности СССР или присоединения России к Парижскому клубу?
12. В какой форме, кем и когда были согласованы основные принципы возможного соглашения между СССР и Францией в 20-е, 70-е и в конце 80-х годов прошлого столетия по урегулированию проблемы взаимных требований?
13. Какие фактические, документальные, расчетные, правовые и иные обстоятельства послужили основанием для подписания Меморандума от 26 ноября 1996 г., в котором содержится одностороннее обязательство Правительства РФ выплатить Правительству Франции 400 миллионов долларов США «в качестве окончательного урегулирования взаимных требований между Россией и Францией, возникших до 9 мая 1945 года»?
14. Какие российские юридические и физические лица, когда, каким образом и через какие официальные органы или организации России (Российской Империи, Российской республики 1917 г., СССР, РСФСР) предъявляли Франции, французским юридическим и физическим лицам имущественные и финансовые претензии, возникшие до 9 мая 1945 г.? Имеется ли реестр таких претензий?
15. По Соглашению от 27 мая 1997 г., вопреки положениям статьи 22 упомянутого Договора между Россией и Францией, совершенном 7 февраля 1992 г., содержащей обязательство сторон договориться об урегулировании взаимных финансовых и имущественных претензий, касающихся интересов и собственности физических и юридических лиц обеих стран, российское Правительство отказалось от поддержки претензий российских физических и юридических лиц финансового и имущественного характера к «французской стороне». Это противоречие требует разъяснения.
16. В статье 22 упомянутого Договора между Россией и Францией, совершенном 7 февраля 1992 г., содержится обязательство сторон «договориться об урегулировании взаимных финансовых и имущественных претензий, касающихся интересов и собственности физических и юридических лиц обеих стран». Договор ничего не упоминает об урегулировании такого рода претензий между РФ как государствами. Однако упомянутое Соглашение содержит односторонний отказ Правительства РФ от находящихся во Франции активов, принадлежащих Правительству Российской Империи, Правительствам, пришедшим на смену Правительству Российской Империи, Правительству РСФСР, Правительству СССР. Однако законодательство России и в прошлом и в настоящее время не наделяет Правительство правом собственности на имущество и какие-либо иные активы, принадлежащее России как государству (государственная собственность). Что именно имеется в виду под активами, «принадлежащими правительству» в статье 2 упомянутого Соглашения?
17. Известно, что Франция, с которой СССР имел дипломатические отношения до 22 июня 1941 г., участвовала на стороне нацистской Германии в интервенции против России (СССР) во время Второй мировой войны, к тому же объявив СССР войну, тем самым причинив России как государству, а также ее юридическим и физическим лицам ущерб, порождая с их стороны соответствующие имущественные и финансовые претензии. Означает ли неупоминание такого рода претензий, что они не охватываются рамками Соглашения от 27 мая 1997 г.?
Подписанные документы, как я полагал, уже были обоснованы некими справками о законности и целесообразности действий Правительства РФ именно таким образом. Соответственно, МИД должен был иметь на руках все объяснения, которые я затребовал. И эти аргументы должны были пролить свет на истинную цену утверждений в ответах правительственных чиновников, которые утверждали, что правопродолжение от Российской Империи не оформлено. В частности, речь шла об отзыве Правительства РФ на законопроект «О репатриации». Там правопродолжение требовалось для обеспечения статуса репатрианта. Но в официальном отзыве Правительства такой статус объявлен невозможным именно в связи с тем, что правопреемства для РФ не существует. Выходило, что Россия образовалась как государство только после референдума по Конституции 1993 года. Или же в 1991 году, когда Ельцин и его преступная группа разрушили единое государство.
Прецедент принятия Правительством РФ обязательств Российской Империи должен был получить правовую оценку либо как нарушение законодательства, связанное с серьезным ущербом для РФ материального и нематериального характера, либо как фактическое признание Российской Империи в качестве одной из предшествующих форм российской государственности, от которой современное российское государство преемствует все права и обязанности без изменения субъекта.
МИД не смог ответить на мои вопросы. Первый заместитель министра Лощинин, на которого взвалили ответственность за все ответы на депутатские запросы, ограничился короткой запиской, отражающей хронику отношений с Францией с Генуэзской и Гаагской конференций 1923 года. Вся эта шелуха могла быть отброшена ради главного: МИД признавал, что речь идет о политическом займе: «Позднее, в разгар перестройки, СССР стал испытывать нехватку финансовых средств. Все чаще и чаше приходилось обращаться за внешними заимствованиями. Из-за неурегулированности проблемы царских долгов Франция была закрыта для размещения советских облигаций. В контексте создания странами ЕС единого рынка имелась реальная опасность того, что вслед за Францией и остальные страны ЕС откажутся приобретать советские облигации. Поэтому решением ЦК КПСС от 13 октября 1988 года Минфину СССР и МИД СССР было поручено возобновить переговоры с французской стороной по царским долгам». «С мая 1989 года началось интенсивное обсуждение путей урегулирования проблемы царских долгов. На переговорах в Москве в октябре 1990 года были согласованы основные принципы урегулирования претензий: Франция признает ущерб, нанесенный СССР интервенцией в 1918–1920 гг., а СССР признает обязательства по займам, выпущенным или гарантированным до 1917 года Российской империей, и оплатит в виде окончательного расчета некое сальдо, призванное компенсировать ущерб французским держателям российских ценных бумаг».
Была названа и фамилия человека, сдавшего позиции России. Это «переговорщик» с российской стороны — юный заместитель Министра финансов Российской Федерации А.П.Вавилов. Впоследствии этому персонажу было предоставлено укромное место в Совете Федерации, где он безбедно проживал капиталы, приобретенные в начале 90-х. Попытки возбудить против него различные уголовные дела успеха не имели, но промелькнули в прессе в период 2005–2007.
Немного об этом. В 1992 году правительства России и Индии подписали соглашение, в рамках которого Индии должны были предоставляться кредиты для покупки самолетов МиГ-29 и комплектующих к ним в РФ. Программа действовала до 1996 года, когда индийская сторона отказалась от дальнейшего использования российских кредитов на закупки авиатехники. Тогдашний первый замминистра финансов организовал выделение из бюджета $231 млн якобы для производства самолетов в структурах государственного унитарного предприятия ВПК МАПО. Эта сумма, полученная ВПК МАПО из Внешэкономбанка, в итоге оказалась в офшорах Антигуа и на счетах подставных фирм в латвийском банке. В 2008 году Следственный комитет при прокуратуре РФ сообщил, что в 1997 году господин Вавилов, занимавший тогда пост первого замминистра финансов, совершил хищение и злоупотребил служебным положением. Однако с согласия господина Вавилова его дело было прекращено «в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности» по вменяемым ему статьям УК. Вавилов дал следствию официальное согласие на прекращение в отношении него уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, отказавшись от обжалования итогов следствия, указавшего, что вина Андрея Вавилова в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 и ч. 3 ст. 285 УК РФ (соответственно хищение путем мошенничества в особо крупных размерах и злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), полностью доказана. Куда Вавилов девал краденные деньги, стало ясно из судебного иска его фирм против нью-йоркского застройщика. Иск относился к покупке Андреем Вавиловым двух пентхаусов нью-йоркском центре Hotel Plaza стоимостью $53.5 миллиона, за которые Вавилов внёс предоплату 10,7 миллиона.
И только в 2010 году Вавилов был почти насильно вытолкан из Совета Федерации. Его вынудили написать заявление об отставке и отправили проживать ворованные у страны капиталы. Глава СФ Сергей Миронов на прощание заявил, что у Вавилова «огромный потенциал» и «вы его еще увидите». Действительно, он возглавил некий Институт финансовых исследований, главной задачей которого стал «отраслевой лоббизм».
Вероятно, уступка Франции 400 млн. долларов была для замминистра Вавилова сущим пустяком. Что касается МИД, то финансисты полностью отстранили дипломатов от дележа бюджетного пирога. МИД посылал за конкретными цифрами в Минфин. Осилить простую операцию — по-пунктно ответить на мой запрос — в МИД сил не хватило. Мои повторные требования это сделать были оставлены без удовлетворения. Я требовал не две странички малоинформативной «выжимки», а сотни страниц, подлежащих изучению и оценке. МИД уклонился от исполнения закона о статусе депутата и ответил мне, что по поручению Правительства по моему запросу вся имеющаяся информация направлена в Минфин.
Минфин был озадачен мной теми же вопросами, что и МИД, но в отличие от дипломатов, финансисты предпочитали просто не отвечать на мои запросы. Я послал министру финансов Кудрину телеграмму о нарушении им закона о статусе депутата. Затем мне пришлось обращаться в Генеральную прокуратуру, требуя привлечь чиновников Минфина к ответственности за очевидное нарушение закона. Только после представления Генпрокуратуры за двукратное превышение срока, отведенного законом на ответ, Минфин разродился письмом. В письме за подписью замминистра фактически содержалось признание в том, что Минфин действовал на переговорах непрофессионально и вразрез с интересами России.
В письме было сказано, что «российская сторона исходила из необходимости учитывать результаты последнего раунда переговоров по данному вопросу, состоявшегося в 1991 году, в ходе которых между бывшим СССР и Францией была достигнута принципиальная договоренность о формировании положительного сальдо расчетов в пользу французской стороны. Учитывалось и то обстоятельство, что предъявленные Францией претензии опирались на юридически грамотно оформленные документы, в то время как российская сторона в целом ряде случаев могла ссылаться только на оценки экспертов, не имеющие юридической силы. Это связано прежде всего с тем, что большая часть французских требований (порядка 64 %) приходилась на ценные бумаги, на которых указаны их номинальная стоимость и ставка процентов годовых. Значительная же часть российских требований (свыше 50 %) базировались на экспертных оценках ущерба, который был нанесен Советской России в годы интервенции».
Таким образом, Минфин заранее был готов на невыгодный для России исход переговоров и соглашался признать номинальные цифры на бумагах дореволюционного периода более важными, чем ущерб от интервенции. Собственно, интервенция означала отказ от каких-либо обязательств, что и должны были объявить переговорщики с российской стороны. Но Минфину нужны были политические инвестиции — режим можно было спасти только новыми займами, а те могли поступить только после выплаты по старым займам, пусть даже и очень сомнительным.
В письме сообщался еще ряд фамилий лиц, причастных к сдаче интересов России. Итоговый Меморандум со стороны РФ подписал заместитель Председателя Правительства О.Д. Давыдов. Последующее Соглашение от имени Правительства было подписано заместителем Министра финансов М.М. Касьяновым — будущим премьером, а потом миллиардером-оппозиционером, собиравшим митинги в защиту демократии. Россия выплачивала оговоренную сумму восемью полугодовыми траншами размером в 50 млн долл, каждый. Последний платеж пришелся на август 2000 года. Все, что удалось переговорщикам — растянуть платеж на несколько лет, а также снизить его сумму в 2,5 раза. На самом деле, платеж возрос в 4 раза в сравнении с первоначально объявленной суммой. Франция выставила сальдо в свою пользу 1 млрд долл., а Россия предложила со своей стороны расчет сальдо в пользу Франции размером в 100 млн. Сошлись на 400. Но Франция снизила свои претензии только в 2,5 раза, а России пришлось пойти на четырехкратное увеличение своих обязательств.
Минфин проговорился, зачем все это было нужно. Не только для нормализации отношений двух стран. Это ложь, что отношения не складывались из-за неурегулированности проблемы долгов. Главное состояло в том, что расплодившемуся под сенью ельцинской власти ворью нужны были французские финансовые рынки. Их-то и вскрыли за счет бюджета «переговорщики». В ответе на мой запрос было сказано, что данная выплата привела к «значительному сокращению расходов федерального бюджета, связанных с урегулированием проблемы т. н. “царских долгов”, а также позволило снять ограничения на деятельность российских резидентов на французском финансовом рынке». Какое же это бремя, отстаивать национальные интересы! И как замечательно дать дорогу «резидентам»!
Так просто удовлетвориться лукавыми рассуждениями минфиновцев я не счел возможным и направил в Минфин те же вопросы, которыми мучил МИД. На это Минфин сделал изящный бюрократический пируэт. Вся последующая переписка шла под грифом «секретно». Хотя никаких секретных сведений мне не сообщалось. Но первое же письмо с таким грифом пришло по открытой почте, и думские работники не заметили «подставы», передав мне послание из Минфина в открытом режиме. Чиновники объявили, что нарушение режима секретности делает переписку невозможной. Мне пришлось грозить новым обращением в прокуратуру, поскольку никакой моей вины в том, что секретное письмо оказалось в открытом доступе, не было.
Министру финансов РФ Кудрину А.Л.
Уважаемый Алексей Леонидович!
Касательно возникших у Вас претензий в мой адрес, связанных с появлением текста Вашего ответа на мой запрос «в открытом доступе», сообщаю, что получил Ваш ответ именно несекретным порядком. Полагая, что это недоработка Вашего ведомства, я направил его в пакете других документов, прилагаемых к моему обращению к Председателю Правительства РФ, пометкой обратив внимание на гриф. В дальнейшем выяснилось, что в несекретную почту Ваш ответ попал по вине аппарата ГД, о чем свидетельствует прилагаемая к данному обращению расписка. Как мне сообщено в отделе по защите гостайны УД ГД РФ, служебное расследование показало, что за пределы служебной переписки информация в ГД не выходила, поскольку доставлялась в нераспечатанном конверте. Таким образом, инцидент исчерпан, а Ваши претензии в мой адрес несостоятельны.
Добавлю также, что эти претензии могли бы быть сняты Вами и Вашими подчиненными без перечисления того, что я должен, а что не должен делать. Это, поверьте, я и без Вас знаю достаточно хорошо. Кроме того, Вы могли бы получить все необходимые разъяснения напрямую в УД ГД РФ, а не требовать их от меня. Полагаю, что Вы не без умысла стремитесь затянуть ответы на поставленные перед Вами вопросы и прямо идете на нарушение статуса депутата.
Напоминаю Вам, что между нами не может быть никакого «взаимодействия», отличного от оговоренного в законе. Выдвижение с Вашей стороны неких условий совершенно несостоятельно и является демонстрацией вольного отношения к правовым нормам. Требования законодательства Вы обязаны выполнять, а не выдвигать условия и только при их выполнении «рассматривать вопрос».
Напомню также, что вы обязаны не только предоставить мне документы, но и дать полные ответы на поставленные мной вопросы (чего я добиваюсь от Вас не один месяц). Ранее направленные мне ответы были очевидным уклонением от исполнения закона, а секретный статус последнего ответа — явно нарочитый, ибо в нем практически не содержалось информации. Именно поэтому я вынужден был обратиться непосредственно к Председателю Правительства. Но теперь, оказывается, что именно Вы «рассматриваете вопрос». И сколько же Вы будете водить меня по кругу?
Разумеется, я не намерен тем или иным образом нарушать режим секретности. В то же время и Вы должны отделять гостайну от тайны «паркетной» (фиктивной, чиновничьей). Избиратели вправе знать, на каком основании из госсредств выделены столь значительные суммы. Поэтому тема, бесспорно, имеет публичное измерение; и мы с Вами должны ясно видеть, где режим гостайны должен заканчивать свое действие. Надеюсь, что Вы намерены сотрудничать со мной, исходя из такого рода понимания, а не ставить палки в колеса. (…)
Надеюсь, что жесткий тон настоящего обращения к Вам не станет поводом для детских обид и мстительного сведения счетов путем бюрократических манипуляций с бумагами и процедурами. Полагаю, что работа возглавляемого Вами ведомства требует энергичной деятельности там, где его репутация поставлена под сомнение. Именно таковы обстоятельства, вынудившие меня поднять вопрос о «царских долгах» — пока без публичного обсуждения, но предвидя его неизбежность. Ввиду этой неизбежности Вы, надеюсь, ответите на мои вопросы в кратчайшие сроки и исчерпывающим образом.
С неизменным уважением, А. Н. Савельев
За подписью министра финансов Кудрина была представлена прямая дезинформация: «Важное значение имеет и то обстоятельство, что в соответствии с Соглашением прямые выплаты держателям царских облигаций взяла на себя Франция, т. е. специально было оговорено, что факт заключения упомянутого Соглашения не считается признанием российской стороной наличия у нее ответственности по каким-либо требованиям, урегулированным Соглашением или подтверждением юридической действительности требований, связанных с так называемыми “царскими долгами”». Что это наглая ложь, нетрудно было установить из анализа текста Соглашения. Им покрывались именно «царские долги», смешанные в неизвестной пропорции с последующими обязательствами до 9 мая 1945 года.
В секретном письме Минфина фигурируют, помимо ранее упомянутых фамилий, также премьер В.С.Черномырдин и министр финансов А.Я.Лифшиц, которые и были лицами, согласовавшими решение, изъявшее из российского бюджета 400 млн долл, ради реструктуризации долгов Парижскому клубу. То есть, это была взнос в спасение ельцинского режима от банкротства. Или, точнее, ритуальная жертва, когда международно-правовые нормы были растоптаны в угоду кредиторам, выкручивающим податливым российским финансистам руки, чтобы склонить их к уступчивости также и во множестве прочих вопросов. Долги СССР были реструктуризированы на 25 лет. Режим спас себя за счет противоправного сговора с иностранными кредиторами.
Министр финансов А.Л.Кудрин, лично подписавший ответ на мой запрос, намекнул мне, чтобы я прекратил свою деятельность, поскольку публичное обсуждение поднятых мной вопросов, якобы, может нанести России ущерб — в случае активизации держателей ценных бумаг Российской Империи. Мне было сказано, что возможен не только финансовый, но и политический ущерб. Разумеется, эти запугивания на меня не возымели действия. Политический ущерб в этой ситуации мог понести только воровской режим и спонсирующие его западные кредиторы. К тому же Кудрин не ответил на 15 из 17 моих вопросов. Мне не были предоставлены документы, что требовал закон. И я не оставил Кудрина в покое. Также я проинформировал Кудрина, что его намеки на то, что моя деятельность может принести ущерб России, я рассматриваю как оскорбительные и требую подробного разъяснения, каким образом полное выяснение всех обстоятельств выплаты Россией 400 миллионов долларов и обнародование этих обстоятельств с использованием официальных материалов может нанести ущерб России.
Одновременно я обратился к председателю правительства М.Е.Фрадкову, сформулировав перед ним расширенный список вопросов, на которые мне не хотели дать ответ ни МИД, ни Минфин. Фрадков сделал обычный бюрократический «пас» в Минфин. Также я обратился в думские комитета, надеясь получить от них архивные данные о том, как обсуждались бюджеты тех лет, в которые проводились противозаконные выплаты. Бюджетный и налоговый комитеты просто отмолчались. Запросы в структуры аппарата Госдумы не дали результата. Все упоминания «царских долгов» носили случайный характер. Тема среди депутатов не обсуждалась, а бюджеты принимались вслепую — никто не интересовался, с какой это стати страна должна платить очередные 50 млн долларов.
Из Минфина (опять же секретной почтой) мне пришла достаточно подробная историческая справка о переговорах по долгам. Помимо массы сведений, не имевших отношения к делу и не отвечавших на мои вопросы, справка содержала фантастически наглую ложь. Поскольку я упомянул о проблеме континуитета в связи с выплатами «царских долгов», минфиновцы объявили, что подписав соответствующие документы Россия, не признала никоим образом «царские долги». Речь идет всего лишь об окончательном урегулировании взаимных финансовых и имущественных претензий.
Попутно всплыла еще одна история. Минфин расписался в своей неспособности собрать материалы для учета так называемого «брест-литовского» и «колчаковского» золота. Это отдельная проблема, которая ждет своих исследователей. Почём было замять зто дело? Чтобы оставить золото за рубежом, чиновникам нужно было создать представление о невозможности его возврата, а для этого постоянно упирать на то, что РФ не наследует прав и обязанностей Российской Империи. Точнее, обязанности она наследует по выбору того или иного чиновника, намеренного поживиться за счет очередного кредита, а о правах говорить просто не приходится.
Российская Федерация наследует имперскую символику в государственном гербе, наследует сокровища Империи, наследует ее историческую славу и культурное достояние. Но всячески уклоняется от фиксации полномасштабной ответственности — реализации принципа континуитета. Тем не менее, когда преемство от Империи сулит выгоду, оно все же к случаю признается. Так произошло с выплатой российским правительством «царскихдолгов».
В письме, полученном из МИД РФ, утверждается:
«Из-за неурегулированности проблемы царских долгов Франция была закрыта для размещения советских облигаций. В контексте создания странами ЕС единого рынка имелась реальная опасность того, что вслед за Францией и остальные страны ЕС откажутся приобретать советские облигации. Поэтому решением ЦК КПСС от 13 октября 1988 года Минфину СССР и МИД СССР было поручено возобновить переговоры с французской стороной по царским долгам». «На переговорах в Москве в октябре 1990 года были согласованы основные принципы урегулирования претензий: Франция признает ущерб, нанесенный СССР интервенцией в 1918–1920 гг., а СССР признает обязательства по займам, выпущенным или гарантированным до 1917 года Российской империей, и оплатит в виде окончательного расчета некое сальдо, призванное компенсировать ущерб французским держателям российских ценных бумаг».
Разумеется, для советского периода выплата указанной суммы не была фатальной, а новые кредиты — неподъемным бременем. Правительство СССР обладало огромной собственностью и огромным государственным бюджетом. Правительство РФ обладало на момент выплаты (да и в настоящее время) многократно меньшими возможностями. Поэтому в высшей степени нелепо было продолжать те же переговоры. Они были продолжены в прежнем формате только потому, что только новые кредиты могли обеспечить выживание ельцинского режима.
Выплата «царских долгов» могла быть оформлена только в порядке правопродолжения от Российской Империи. Причем, для этого требовался отдельный правовой акт, выражавший как общий принцип правопродолжения, так и при- нятие обязательств по данному комплексу эпизодов взаимоотношений Российской Империи и Франции. Без этого выплата 400 млн. долларов является более чем очевидным преступным деянием. Во-первых, никаких обязательств до 9 мая 1945 года в отношении Франции у Российской Федерации быть не может, поскольку СССР и Франция до победы над гитлеровской Германией находились в состоянии войны. А война отменяет любые взаимные обязательства. Либо они должны восстанавливаться отдельным правовым актом. Такого акта ни во времена СССР, ни в РФ не было. Во-вторых, данной выплатой правительство вышло за пределы российского законодательства. У него не было никаких правовых оснований для уплаты «царских долгов» (не было признания даже частичного преемства обязательств от Империи). Следовательно, требовалась ратификация международного договора парламентом, а не подписание межправительственного соглашения. И таковая ратификация была бы фактическим признанием правопродолжения от Империи — по крайней мере, в части долговых обязательств в отношении Франции. Поскольку этого не было, мы можем говорить о совершении преступления.
В Соглашении между Россией и Францией финансовые претензии перечислены, а значит, — признаны основа-
тельными. В том числе и российской стороной. Признание «царских долгов» прямо следует из сообщения МИД о том, что переговоры представителей РФ о выплате долгов были прямым продолжением переговоров советского периода, а в них (и это прямо следует из вышеприведенного текста письма МИД) предполагалось именно признание долгов, возникших до 1917 года. Таким образом, мы выявили еще одного лжеца среди высших должностных лиц правительства. А также установили явную заинтересованность министра финансов в сокрытии реального положения дел.
Выплата «царских долгов» состоялась под давлением обстоятельств, когда Минфин тем самым создавал «благоприятный финансовый климат» (иначе говоря, финансовую «пирамиду»), чтобы получить новые кредиты, заплатив по старым, пусть даже и не оформленным надлежащим образом. Но уже самим фактом официального признания «царских долгов» правительство оформило акт преемства от Российской Империи — в стыдливой и лукавой форме и в связи с не слишком приличным поводом. Это свидетельствует о том, что государство (даже такое нестабильное и несуверенное, как Российская Федерация) не может существовать без обращения к принципу континуитета.
Дипломаты зовут на помощь милиционеров
Следующая «итерация» процесса разоблачения международной аферы снова была связана с обращением к Фрадкову, где я сравнил цитаты из различных писем и прямо показал, что Кудрин, мягко говоря, лукавит, а Минфин либо не желает, либо не способен вести аналитическую работу, которая могла бы закрыть сложные вопросы международных финансовых отношений, а не оставлять их следующим поколениям российских дипломатов и финансистов. Если Минфин, как следует из моей переписки, больше всего был озабочен возможностью пересмотра Соглашения и восстановлением требований Франции о «компенсации», то моя забота заключалась в проблеме правопродолжения российской государственности. Если принцип континуитета в России будет официальным порядком восстановлен, он снимет огромное количество вопросов, а проблема «компенсации» не будет поднята в связи с тем, что российско-французские отношения исторически имеют богатый союзнический опыт. Чего не скажешь о советско-французских отношениях, которые были отношениями держав, входящих во враждебные политические и военные блоки. Кроме того, при любых «компенсациях» приоритет имеют российские граждане, затем — потомки выходцев из Российской Империи. Да и то лишь в случае, если они не были замечены в антироссийской деятельности. Все эти вопросы, очевидно, требовали комплексной законодательной инициативы, прежде которой — политической воли лиц, обладающих реальной властью. Именно эту волю я пытался обнаружить в правительственных коридорах. Но нарывался все время на одно и то же: корысть, трусость, некомпетентность.
Вслед за этим обращением после дипломатов и финансистов должны были появиться люди в фуражках. «Французская болезнь», поражала метастазами все министерства и добралась до МВД, куда Фрадков «сплавил» всю проблематику, касающуюся принципа континуитета.
Депутату Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
А.Н. Савельеву
Уважаемый Андрей Николаевич!
Министерством внутренних дел Российской Федерации совместно с Министерством регионального развития Российской Федерации, Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федеральной службой безопасности Российской Федерации рассмотрен Ваш запрос о возможности признания Российской Федерации правопреемницей Российской Империи.
Сообщаем, что результаты анализа нормативных правовых актов и международных договоров, регулирующих вопросы правопреемства Российской Федерации, были представлены в официальном отзыве на проект федерального закона NQ 90759-4 «О репатриации в Россию русских и представителей других коренных народов России» от 24 декабря 2004 г. № 5871п-П12, который затрагивал в том числе и вопросы правопреемства Российской Федерации в отношении Российской Империи.
Позиция МВД России относительно возможности признания Российской Федерации правопреемницей Российской Империи была изложена в письме на Ваше имя от 13 октября 2005 г.
Первый заместитель Министра внутренних дел
А.А. Чекалин
Первому заместителю Министра внутренних дел РФ
А. А. Чекалину
Уважаемый Александр Алексеевич!
Судя по Вашему ответу на мой запрос, касающийся возможности признания Российской Федерацией правопреемства от Российской Империи, именно Вам Правительство РФ поручило рассмотрение соответствующих проблем. Не может не вызывать уважения Ваша решимость взять на себя ответственность координировать деятельность чиновников целого ряда министерств, которые, по Вашему утверждению, готовили ответ на мой запрос.
Между тем, смею отметить, что ни Вы, ни привлеченные Вами специалисты других министерств не заметили ряда немаловажных деталей, что сделало подписанный Вами ответ бессмысленным и не имеющим никакого отношения к тому запросу, который был мною направлен Председателю Правительства РФ.
Во-первых, я вовсе не запрашивал ни Вашего мнения, ни мнения каких-либо чиновников или государственных деятелей по данному вопросу. Мнения меня совершенно не интересуют. Я и сам могу по множеству вопросов такого рода мнения высказывать. Меня интересуют аргументы. Обмолвившись о некоем «проведенном анализе», Вы обязаны его представить как информацию, которую запрашивает депутат.
Вы ссылаетесь на то, что мой запрос рассмотрен. Тогда где аргументы? Что и каким образом рассматривалось? И кем? Где тот анализ нормативных актов и международных договоров, который, как Вы утверждаете, проведен? Напомню, что в своем запросе я предлагал направить мне именно этот анализ, а вовсе не мнение, представляющее собой вывод из данного анализа.
Во-вторых, привлеченные Вами эксперты не знакомы с российским законодательством. В частности, с законом «О государственной политике Российской Федерации в отношении зарубежных соотечественников». Я бы рекомендовал Вам и Вашим экспертам из различных министерств прочесть преамбулу этого закона, чтобы убедиться в полной несостоятельности своего финального вывода (результата анализа). В этой преамбуле в частности значится: «Российская Федерация есть правопреемник и правопродолжатель Российского государства, Российской республики…». Контекст этого положения однозначно свидетельствует, что речь идет именно о Российской Империи, в которой равнозначным названием было также и Российское Государство (см. Основные законы Российской Империи). Таким образом, речь может идти не об определении правопреемства, а лишь о надлежащем его оформлении. Также следует сделать вывод о некомпетентности лиц, привлеченных Вами к составлению ответа на мой запрос.
В-третьих, в своем ответе Вы ссылаетесь на официальный отзыв Правительства на законопроект «О репатриации…», где якобы были представлены результаты некоего анализа, затрагивающего обсуждаемый круг вопросов. Скорее всего, привлеченные Вами эксперты данный отзыв в глаза не видели, ибо именно в связи с отсутствием указанного анализа мной и были направлены два запроса, и на оба из них поступили ответы, подписанные Вами. Причем во втором запросе я указывал, что Вы уклоняетесь от предоставления мне информации: вместо анализа, на который сослался подписавший отзыв на законопроект вице-премьер А.Жуков, даете просто перечень нормативных актов. Поскольку Вы не в курсе, я прилагаю к настоящему обращения копию этого самого отзыва, где, как Вы можете лично убедиться, нет ровным счетом никакого анализа.
Тот факт, что МВД в состоянии составить перечень нормативных актов, регулирующих вопросы правопреемства, должен бы свидетельствовать, что анализ может быть проведен. В конце концов, все исходные материалы имеются в Вашем распоряжении, о чем Вы сами же и засвидетельствовали. Понимаю, что до сих пор никакого анализа не было. Но хотя бы теперь Вы можете отдать распоряжение, чтобы юристы МВД и других привлеченных к составлению ответа на мое обращение министерств поднатужились и такой анализ провели?
В-четвертых, Вы ссылаетесь на позицию МВД, представленную в ответе на мой предыдущий запрос. Перечитав еще раз Ваш ответ и вновь ознакомившись с этой позицией, не могу не удивиться странной ссылке на научную и общественно-политическую дискуссию, о которой мне ничего не известно, а Вы не даете соответствующих ссылок. Притом что я очень внимательно отношусь к соответствующему кругу вопросов, о такой дискуссии я не знаю. Полагаю, что о состоянии научной и общественно-политической дискуссии я осведомлен достаточно, и здесь информация МВД мне ровным счетом ничего не дает для удовлетворения вопросов, поставленных в моем обращении. Переход в Вашем ответе к правовым аргументам еще более странен. Указание на отсутствие в Конституции РФ каких-то положений не просто не является правовым аргументом, а свидетельствует о непонимании исполнителем письма самой природы таких аргументов. Ссылка в данном случае на отсутствие нормы — это нонсенс, полный абсурд. То же самое касается и «незакрепленности в международных договорах». Аналогично это касается и отсутствия упоминания Российской Империи в Договоре о правопреемстве в отношении государственного долга. Отсутствует в праве неизмеримо больше того, что там есть. Если использовать принятый Вами подход, можно доказать все, что угодно. Именно поэтому такой подход нигде не используется. В любом случае, подход Ваших экспертов уникален и совершенно неприемлем.
В-пятых, Вы и Ваши эксперты не в курсе правоприменительной практики в отношении государственного долга, которая демонстрирует, что Российская Федерация пользуется в этой области не только названным Договором о правопреемстве в отношении государственного долга. Россия выплатила Франции 400 млн. долларов в покрытие обязательств, возникших до 9 мая 1945 года, включая те из них, которые возникли до образования СССР (так называемые «царские долги»).
Таким образом, во всех аспектах подписанный Вами ответ на мое обращение демонстрирует некомпетентность или лукавство: никакой реальной работы по моему обращению, как я полагаю, до сих пор не проводилось. И это служит еще одним подтверждением глубокого административного кризиса, о котором я постоянно заявляю публично. Хотелось бы хотя бы в каком-то элементе деятельности преодолеть этот кризис.
Исходя из вышеизложенного и в соответствии с действующим законодательством я предлагаю Вам предоставить мне исчерпывающий правовой анализ, который должен лежать в основе сделанных А.Жуковым выводов, на которые Вы ссылаетесь (мол, признание Российской Федерации правопреемницей Российской Империи «противоречит общим положениям российского законодательства»). Прошу также ознакомить меня не с мнением, а с официальными документами, в которых представители Министерства регионального развития, Министерства здравоохранения и социального развития и ФСБ (то есть, по списку из Вашего ответа) проводили бы свой анализ или соглашались бы с
Вашим анализом круга вопросов, связанных с правопреемством Российской Федерации от Российской Империи.
В заключении выражаю надежду, что на сей раз Вы, как представитель Правительства по данному кругу вопросов, подготовите квалифицированный и полный ответ на мое обращение. Полагаю также, что государственному служащему Вашего ранга ясна важность принципа континуитета и его правового оформления. Мое обращение также преследует целью побудить правительственные структуры к деятельности, а не к составлению отписок в ответ на депутатские запросы. Не вижу никаких препятствий к тому, чтобы под Вашим руководством были подготовлены необходимые законодательные предложения и нормативные акты, которые реализовали бы принцип континуитета, а также право-продолжение от Российской Империи в той форме, которая принесла бы России пользу, восстановила бы средствами права ее честь и славу, как древнейшего государства мира.
С уважением,
А.Н.Савельев
МВД силами привлеченных экспертов все-таки подготовило письмо-справку, где с возможной подробностью отразило позицию власти со всеми ее нелепостями, алогизмом и политической несостоятельностью. В Справке сказано: «Российская Федерация является, наряду с другими бывшими республиками, правопреемником СССР, а СССР — государством-предшественником Российской Федерации. В свою очередь СССР является правопреемником Российской Республики, провозглашенной Актом Временного правительства 1 сентября 1917 г. и просуществовавшей до 25 октября 1917 г. И, наконец, Российская Республика явилась правопреемницей Российской Империи. Таким образом, можно утверждать, что в формально-юридическом смысле Российская Федерация действительно является правопреемницей Российской Империи (Российского государства)».
Казалось бы, надо радоваться тому, что хотя бы правопреемство признано и в перспективе можно вести речь о правопродолжении, пока занимаясь следствиями из такого признания. Но не тут-то было! Следующие строки Справки опровергают предшествующие: «Российская Федерация является государством преемником Российской Империи не непосредственно, а опосредованно, следуя вышеописанной последовательности правопреемства. При этом существенно, что никогда, ни на одном из указанных этапов правопреемство от государства-предшественника в целом, в полном объеме не признавалось». При этом в международных договорах Советский Союз, как сказано, признавался «не правопреемником, а просто государством, находящимся в пределах территориальных границ бывшей Российской Империи».
То есть, в Справке проблема правопреемства выносится на суд иностранных государств!. И с полным нарушением логики говорится о том, что РФ сама принимает решение, что она преемствует, а что не преемствует от Империи. То есть, может произвольно (решением правительства) менять свою позицию.
В Справке указывается, что «у законодателя пока нет при обсуждении и принятии конкретных нормативных правовых актов, а у правоприменителя — при реализации соответствующих нормативных правовых актов никакого единого, общего, принципиального основания для решения вопросов правопреемства автоматически». «В каждом отдельном случае вопрос о правопреемстве решается отдельно».
Правительству, таким образом, предоставляется карт-бланш: раз нет закона с указанием общего принципа, то оно может действовать произвольно «в каждом конкретном случае». Это все равно что приватизировать часть государственной границы размером в торец чемодана. В данном случае правительство приватизирует право действовать по принципу: разрешено, раз не запрещено. Но этот принцип не может быть применен чиновниками без чудовищного ущерба государству! Он может распространяться только на граждан. Именно поэтому международные договоры, если они противоречат национальному законодательству, подлежат ратификации.
И, что интересно, в Справке это обстоятельство признается: «…не всегда государственное решение выступить правопреемником по отдельным вопросам можно считать обоснованным и законным. Например, факт выплаты Российской Федерацией в 1996 г. (так в справке! — А. С.) 400 млн. долларов так называемых “царских долгов” Франции является скорее не правилом, а исключением. Кроме того, Договор о вступлении России в Парижский клуб до сих пор не ратифицирован Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации, что свидетельствует о спорности юридических обоснований данных выплат».
Для гражданина «исключение» из правового поля считается правонарушением или преступлением. Для правительства, выходит, нет?
Тема ответственности правопродолжателя перед гражданами некогда единой страны подается в Справке таким образом: «вопросы правопреемства решаются: индивидуально, на обычной и договорной основе. Поэтому преамбула закона "Ό государственной политике…” указывает лишь на возможность юридического решения конкретных вопросов о правопреемстве, а вовсе не об обязанности Российской Федерации быть государством-преемником “вообще”». То есть, МВД трактует закон не по букве закона, а также игнорирует очевидное положение, что нормы любого закона имеют общее значение, а принцип, если это не оговорено, применим всюду.
Все эти псевдоправовые аргументы мало чего стоили бы, не будь политической позиции власти — антигосударственной по своей сути. Именно такую позицию отражает Справка. В ней с наивной откровенностью изложены позиции руководства страны в вопросе об исторической ответственности: «1). Никто не оспаривает, что Россия является древним государством с богатейшей историей и культурой. Российская Федерация занимает достойное место в мировом сообществе государств, и ей нет необходимости “…восстанавливать средствами права, честь и славу”».
Разумеется, это вкусовое определение. От того, как посмотреть, можно оценить и достоинство Российской Федерации. Если РФ сама отреклась от всего, что связывает ее с Империей, то с какой стати будет уважаться ее суверенитет над занимаемой территорией? Ведь РФ — не монархия, не империя, не православное царство, не ведущая экономическая держава, не культурный образец и т. д. К России предъявляется множество претензий — и моральных, и территориальных. Но главное, за РФ никто не признает мощи прежней исторической традиции — она не наследует мощи СССР и величия Российской Империи. И это устраивает действующую власть: «2). Признание правопреемственности современной России от Российской Империи может вызвать непредвиденные последствия. Например, тогда может возникнуть вопрос о правопреемственности Российской Федерации от СССР. На основании чего Россия является постоянным членом Совета безопасности ООН? Может встать вопрос о принадлежности части территории острова Сахалин, островах Курильской гряды, входивших в состав Японской, а не Российской Империи. Нынешняя Калининградская область не входила в состав Российской Империи, а город Выборг входил в состав Великого княжества Финляндского и т. д.»
Странная логика. Правопреемство от Империи не противоречит правопреемству от СССР. Все это может быть решено декларативно, и никто не посягнет на территорию, которая, собственно, является основой фактического правопреемства.
Тем более, что милицейские страхи опровергаются другой Справкой, подготовленной по тому же кругу вопросов экспертами Совета Федерации РФ: «Современное международное право полностью исключает возможность изменения государственных границ “по историческим основаниям”. Неслучайно поэтому подпункт (а) пункта 2 статьи 62 Венской конвенции о праве международных договоров 1969 года предусматривает, что даже при коренном изменении обстоятельств, которое обычно является основанием для одностороннего выхода из международного договора, государство не должно прекращать свое участие в международном договоре, если он устанавливает границу». «3). Современной России многие страны предъявляют претензии как правопреемнице СССР. Правопреемственность Российской Федерации от СССР признана мировым сообществом, соответствует принципам международного права. Неизвестно, как отнесется мировое сообщество к заявлению о правопреемственности Российской Федерации от Российской Империи. Можно предположить, что это будет расценено как очередное проявление “имперских амбиций”».
Повторение антироссийского пропагандистского штампа достаточно характерно и отражает несуверенность российской власти, ее зависимость не только от позиции иных государств, но и от мнений зарубежной публики. Эксперты Совета Федерации полностью находятся в плену исключительно международного характера принципа континуитета и не понимают значимости ответственности власти перед собственным народом. Также как и эксперты МВД, они исходят из делимости континуитета, продолжая тем самым проводить в жизнь порочную концепцию делимого и делегируемого суверенитета. С нашей точки зрения, отчуждение у государства части суверенитета и делегирование его международным институтам по воле собственного же правительства является не чем иным, как государственной изменой.
Последней фазой исследования проблемы стало обращение в Генеральную прокуратуру с просьбой провести расследование дела о «царских долгах». Но к 2007 году здесь уже был создан прочный заслон любой депутатской инициативе, которую курировал первый заместитель Генерального Прокурора РФ А.Э. Буксман. От него в мой адрес поступил совершенно возмутительный ответ, свидетельствовавший о циничном нежелании заниматься вопросом. Вероятно, Генеральная Прокуратура вполне намеренно была очищена от специалистов в области государственного и международного права, чтобы полностью исключить возможность привлечения к ответственности махинаторов, наживавшихся на крайне невыгодных для России соглашениях с иными государствами, среди которых было и противозаконное погашение «царских долгов».
Буксман добавил в копилку абсурда вот такой пассаж:
«В соответствии со ст. 114 Конституции Российской Федерации Правительство Российской Федерации обеспечивает проведение в Российской Федерации единой финансовой политики и осуществляет меры по реализации внешней политики страны.
Законом Российской Федерации от 22.12.92 № 4174-1 «О Совете Министров — Правительстве Российской Федерации» Правительство Российской Федерации было уполномочено осуществлять управление экономическими процессами и руководство в области отношений Российской Федерации с иностранными государствами, а также заключать межправительственные соглашения и принимать меры к исполнению международных договоров Российской Федерации.
Согласно Федеральному закону от 15.07.95 № 101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации» предложения о заключении международных договоров от имени Российской Федерации по вопросам, относящимся к ведению Правительства Российской Федерации, представляются в Правительство Российской Федерации (ст. 9).
В силу ст. 13 данного Закона решения о проведении переговоров и подписании международных договоров Российской Федерации, заключенных от имени Правительства Российской Федерации, принимаются Правительством Российской Федерации.
Таким образом, выплаты из федерального бюджета в пользу Франции по претензиям, возникшим до 09.05.45, в том числе по так называемым царским долгам, осуществлялись Правительством Российской Федерации в рамках действующего российского законодательства».
Трудно поверить, но первый заместитель Генпрокурора сознательно включил в текст письма не просто сомнительные, а очевидно бессмысленные аргументы, представляя дело так, будто Правительство РФ уже самой Конституцией допущено до любых выплат иностранным государствам и может совершать любые финансовые операции, никак не соотносясь с российским законодательством и интересами нашего государства, а также игнорируя парламент. Множественная подмена понятий, очевидная любому мало-мальски грамотному человеку, в формулировках письма очевидна.
Ответ из ГП, вообще не имеет никакого отношения к поставленным мной вопросам. Лица, готовившие его, не утруждались прочтением моего обращения и поиском формулировок в ответ на мои доводы. Между тем, с обращением были направлены обширные приложения, содержавшие серьезные правовые исследования, свидетельствующие, что в указанном вопросе не все так просто, как показалось Буксману. Он предпочел игнорировать мои вопросы, подменив реакцию на них изложением истории вопроса.
Как я ни старался, Генеральная прокуратура оставила вопрос без рассмотрения. Между тем, выплата «царских долгов», по меньшей мере, предполагала разрешение вопроса о правопреемстве от Российской Империи. Соответствующего акта в природе не существовало. Следовательно, прокуратура покрывала совершение преступления, нанесшего Российской Федерации значительный материальный ущерб.
Останется ли РФ без имперского наследства?
В системе власти России, как оказалось, отсутствует орган, который ведал бы столь фундаментальными вопросами права. Ни Верховный, ни Конституционный суды этим не занимаются. Неудачей закончились и мои обращения в Администрацию Президента. Сам президент Путин, разумеется, письма от депутатов не читал, а его помощники были заняты преимущественно дележом собственности и обеспечением тотального успеха «партии власти» на выборах всех уровней. Позиция официальных лиц выглядит согласно русской пословице: «наводит тень на плетень». Академические институты отреклись: объявили, что они не имеют разработок в этом направлении. Из трех ведущих правоведческих центров откликнулась лишь Академия госслужбы, представившая мнение профессора Барцица, доказывающего правопродолжение Российской Федерации от СССР. Вопрос об Империи остался не раскрытым. Литературный поиск продемонстрировал почти полное отсутствие фундаментальных трудов по проблеме континуитета. В связи с этим к обсуждению вопроса была привлечена независимая юридическая фирма.
Тщательный анализ проблемы правопреемства заострил многие вопросы и выявил некоторые слабые места в правовой теории государства. Например, возникло противоречие между волей к преемству и правом на преемство (то же и для правопродолжения). Что создает условие правопреемства? Возможен ли отказ от правопреемства? Возможно ли правопреемство при разрыве цепочки правопреемствова-ния? Последний вопрос особенно актуален, поскольку есть немало оснований считать некоторые периоды русской истории XX века «смутными» — в них продолжение от предшествующего правового режима явно не наблюдалось. Но также и в условиях достаточной стабильности принимались не просто «новые редакции» Конституции, но и попросту новые Конституции.
При рассмотрении правовой проблемы «Осталась ли Россия тем же субъектом после 1917 года?» возникает соблазн политических трактовок. И тогда неприятие политического режима однозначно отрицает правопродолжение от Империи. В то же время, сравнивая политический режим до февраля 1917, в период республики и после завершения гражданской войны, мы видим практически ту же территорию, тот же народ, единственное центральное правительство, прежние народные нормы морали, прежние культурные образцы. Некоторые явные отклонения от прежней жизни («пролетарская мораль», соцарт, атеизм и пр.) оказались поверхностными и исторически преходящими.
Мы знаем достаточно яркие исторические примеры восстановления правосубъектности — Польша после длительной несамостоятельности, Германия после длительной разделенное™, Испания, вновь ставшая монархией, и т. д. Различные аспекты правопродложения, таким образом, могут восстанавливаться, а не утрачиваются навсегда. Только нелегитимный режим, действительно, не может претендовать на правопродолжение или на правопреемство. Таковые претензии могут быть опровергнуты как зарубежными партнерами, так и последующими политическими режимами. Но сам факт нелегитимного правительства не означает, что сменился субъект государства. Он лишь временно утратил способность к правопродолжению. Легитимация означает также восстановление этой способности. Если СССР, многократно отрекаясь от прежней традиции, легитимировался выстраиванием народного представительства советского типа, исторической победой в Великой Отечественной войне и обретением статуса сверхдержавы, то тем самым он получал некоторые основания для правопреемства и достаточно широко пользовался им. Современная Российская Федерация, также многократно отрекшаяся от исторического наследия СССР, пользуется тем же самым приемом. Но и Российской Федерации появляются основания для полномасштабного правопродолжения от Российской Империи через «отрицание отрицания».
Для осуществления правопродолжения Российской Федерации необходимо исключить некоторые периоды XX века из правовой традиции и считать созданные в этот период правовые нормы фиктивными, не подлежащими применению. Те же нормы, которые до сих пор считаются продуктивными, можно восстановить в статусе специальным законодательным актом. Тогда цепочка правопреемства может быть вновь замкнута и по этой цепи может пройти «импульс» правопродолжения. В принципе, можно даже установить неправомерность всех политических режимов, начиная с февраля 1917 года до настоящего времени. Такой подход возможен, но вряд ли будет конструктивным. Тогда многие международные статусы России окажутся в «подвешенном» состоянии. Для правопреемства достаточно будет отбросить из правовой традиции исторические переломы — период революций и гражданской войны и период разрушения СССР и госпереворотов.
Стратегический подход к государственному строительству в России, безусловно, не может обойтись без восстановления правопродолжения от предшествующих государственных форм. Это своего рода самообязывание традицией, дающее значительные перспективы в различных сферах жизни русского общества.
Суверенность России, как считается, выражена самой Конституцией. Но в Конституции лишь преамбула содержит некоторые элементы правопреемства. О принципе континуитета сказано в законе «О государственной политике в отношении зарубежных соотечественников», но этот закон так и остался декларацией, принципы которой не распространились в других законах и нормативных актах.
Суверенитет России был лишь однажды продекларирован, когда Российская Федерация еще была в составе СССР и данная декларация была скорее формой мятежа против центрального правительства — то есть, тем самым историческим разрывом правовой традиции, который мы хотели бы устранить. Таким образом, правового выражения суверенного статуса России до сих пор не существует.
Есть суверенитет факта (весьма условный, ибо суверенитет у нас считается делимым и делегируемым), есть суверенитет признания иными государствами (формальный и мало что значащий), но нет правового акта, который бы утвердил суверенитет. Иными словами, не продекларировано и не обосновано право нынешнего правительство владеть данной территорией и размещенными на ней материальными ценностями, править данным народом и рассматривать государственную традицию исторической России как свою. Тем более, это право не подкреплено правовыми нормами, защищающими суверенитет, если он будет поставлен под вопрос — установлениями норм режима чрезвычайного положения. Впрочем, это отдельная тема.
Таким образом, мы подходим к тому, что суверенитет без континуитета невозможен. Люди, для которых история России начинается с 1991 года, не должны быть у власти, потому что они не способны обеспечить суверенитет нашей страны. Это наносит нам непоправимый ущерб, который далеко не всегда можно измерить в денежных единицах. Но и в деньгах этот ущерб колоссален. Неоформленность преемства России от СССР и Российской Империи убивает результаты труда многих поколений. Бесхозная собственность растаскивается по странам и континентам.
Правовая система, создающаяся фальсифицированным народным представительством, торопливо засыпает правовые пропасти соломой никому не нужных законодательных актов. Дума за одно заседание рассматривает до полусотни законопроектов. Десятки лет этой бессмысленной «работы» все сильнее отдаляют нас от возможности решения ключевых проблем нашей государственности правовым путем.
Выдающийся правовед первой трети XX века Карл Шмит выделил и обосновал главный принцип суверенной государственности: суверенен тот, кто объявляет чрезвычайное положение. Иными словами, суверен способен стать над законом. Что соответствует русскому самосознанию: справедливость выше закона. Следовательно, в чрезвычайной ситуации суверен (высшая власть) должен стать над законом во имя справедливость и отбросить весь этот законодательный мусор ради решения принципиальных вопросов, среди которых правопродолжение — один из первейших.
Чтобы правовая система была отодвинута в сторону, а потом тщательно разобрана, очищена от плевел и кодифицирована, должен быть введен режим диктатуры. При этом надо вспомнить, что диктатура — это не беззаконие, а жесткий закон, не бесправие, а чрезвычайные меры ради сохранения права как такового. Национальная диктатура должна уничтожить нагромождения бессмыслицы, которой либералы пытались прикрыть свое беспрецедентное воровство, лишившее Россию крайне необходимых средств на переход к новым экономическим укладам, без которых она обречена на тотальное отставание от остального мира.
О национальной диктатуре писал крупнейший русский философ XX века Иван Ильин. Как правовед он обосновал необходимость и неизбежность национальной диктатуры для возрождения России и становления в ней национальной формы власти и национального права, исходящего из исторической традиции. Национальная диктатура необходима России и мы должны стремиться к ней как к последней надежде спасти нацию от небытия.
В целом мероприятие национальной диктатуры как кризисной формы управления прямо прокладывают путь к традиционной для России самодержавной монархии, которая смягчает чрезвычайные меры, заменяет власть Силы и Порядка властью Правды и Традиции. Испанский опыт восстановления монархии дает нам урок: не может монархия стать привычной, если восстанавливается без диктатуры и после диктатуры. Диктатура и монархия должны некоторое время сосуществовать. Монархия органично вытекает из диктатуры. Диктатура придает современной форме монархии соответствие времени и устраняет опасность непродуктивного копирования властных отношений прежних эпох. Верховенство личной воли, которая и устанавливает общий закон. Соответственно, при традиционной форме управления, личность правителя скрыта за нормой закона, но в кризисный момент она выдвигается на первый план. И тогда отбрасывается ложный принцип «Государство — это закон» и восстанавливается исходное: «Государство — это суверенная диктатура». Разумеется, это не произвол, а явленная в личности традиция. Государь, как и Спаситель, приходит не для того, чтобы разрушить Закон, а чтобы его исполнить. Общие правила и нормы могут действовать лишь при определенном минимуме стабильности государства. Подрыв этого минимума и есть условие необходимого вмешательства законодателя, который не совершенствует нормы, переставшие работать, а учреждает новые.
При всей кажущейся экстравагантности идеи реставрации монархии в России, в основных чертах она есть народная мечта о справедливом правлении, которого не построишь при либеральном правовом буквоедстве. Отеческое отношение к гражданам — принцип традиции, который не умещается в либеральное законодательство. Национальный диктатор и Царь-батюшка в большой семье-народе есть не только явление силы, но и явление авторитета. Он не только принуждает, но и увещевает и учит. Усилия власти в основном концентрируются на чиновнике, а не на по-мыкании населением.
Общий кризис республиканских институтов очевиден не только в силу негодности чиновников, но и в силу республиканской концепции власти. Деградация власти вполне может поставить вопрос о восстановлении монархии сначала как определенного рода «громоотвода» или ширмы, а потом — как действующего властного института. В XIX веке так была восстановлена власть императора в Японии, а в XX веке — в Испании. Сегодня монархия — реальность многих европейских государств, не говоря уже о неевропейских. Конечно, это не абсолютная монархия давних эпох, но вполне органичный элемент общества и государственного управления.
Усталость от безобразий российского парламентаризма и произвола властей склоняет к монархическим взглядам многих политиков, ранее не проявлявших соответствующего интереса. Важно лишь, чтобы эти взгляды становились основательными и перерастали в убеждения.
Древние римляне говорили, что республика возможна, когда народ преисполнен мужества. Если мужество ослабло, то взамен республике приходит Империя. Имперское государство стремится найти для каждого человека ту социальную позицию, в которой он проявляет максимум мужества. И тогда Империя становится выше республики. Ее организованное мужество превышает мужество республиканцев, суммируемое без системы и взаимного усиления.
Удивительной логичностью самодержавной системы власти, которая никого из истинно русских интеллектуалов не оставляет равнодушным, может быть отражена в перефразированном тезисе Черчилля, который говорил о демократии. Вразрез с его суждением, но в духе этого суждения, мы можем сказать: монархия — несовершенная форма правления, но ничего лучшего человечество не придумало.
Непризнанные мятежи
Постановка диагноза
Современная «демократическая Россия» вылупилась на свет калекой без рода-племени, образовавшись на развалинах коммунистического режима в результате антигосударственного мятежа. Мятеж был организован группой лиц, в которой номинальным лидером был президент РСФСР Б.Ельцин. В дальнейшем уродец присвоил себе историческое имя «Россия», не имея к этому имени ни малейшего отношения. Во всем противоположный исторической России ельцинский режим жил исключительно мятежами.
Самый жестокий мятеж — расстрел парламента из танковых орудий в 1993 году. За организацию этого мятежа до сих пор никто не ответил, правовой оценки событий, в которых погибло множество людей, не было дано. Ельцин отправился в мир иной, возможно, и не по естественным причинам, но уж точно его место в истории не было по заслугам обозначено российскими властями. Происходившее в России в 1990–1993 гг. я постарался описать в книге «Мятеж номенклатуры», которой особенно недовольны были московские власти, а читатели мгновенно раскупили тираж книги, вышедшей в середине 1995 года.
Тихий мятеж произошел в России в 1996 году, когда Ельцин, проиграв президентские выборы, поручил своему окружению объявить о победе, оправдывая обман народа необходимостью «не допустить коммунистического реванша». Организация выборов в 2007–2008 гг. также говорит об антигосударственном заговоре и фальсификации итогов голосования силами разветвленной преступной организации, которая была возглавлена высшими должностными лицами страны.
Таким образом, Россия живет в обстановке мятежей, когда власть узурпируется, а не передается по праву. Причем происходит это не только на всероссийском уровне, но и на уровне регионов, где множество мелких мятежей кажутся ничтожными в сравнении с многолетним мятежом, в Чеченской Республике. О первой Чеченской войне 1994–1996 гг. я написал книгу «Чеченский капкан», включив в нее записи бесед с участниками боев и раскрыв механизм содействия мятежникам со стороны «либеральной общественности» и властных кругов, оккупировавших Кремль. В ходе второй Чеченской войны 1999–2002 по просьбе Дмитрия Рогозина, который тогда был председателем Думского комитета по международным делам и отбивал нападки европейских недоброжелателей нашей страны, я подготовил доклад «Черная книга Чеченской войны», где в тезисной форме описал ситуацию в Чечне с 1991 года и дал анализ каждого этапа развития мятежа с точки зрения нарушения прав граждан и преступлений против человечности. В феврале 2001 года по итогам «мозгового штурма», проведенного в Фонде «Русский проект», я составил краткую аналитическую записку «Что делать правительству в Чечне?», которую мы направили в Кремль, но не получили оттуда никакого отклика. В записке положение в Чечне оценивалось как мятеж, и давались рекомендации по пресечению мятежа.
В 2001 году мы видели, что повторяются ошибки 1996 года, когда Россия фактически капитулировала перед бандитами, закладывая условия новой войны, бросая в плену своих солдат, отдавая оставшееся русское население Чечни на убой. Никто нас не слушал, и с боевиками старались договариваться. В 2004 году, став депутатом Госдумы, я попытался вновь обратить внимание органов власти на абсурдность подходов, применяемых в Чечне. Депутатским запросом я направил в Совет Безопасности наш материал, три года назад безвестно сгинувший в недрах Администрации Президента.
На тот момент ситуация повторялась с той же трагичной последовательностью, как и в 1996 при заключении так называемого «Хасавьюртовского мира». Видимая военная победа не привела к установлению мира и лояльности со стороны большинства населения. Армия, не ведущая войны и находящаяся во враждебном окружении, продолжала разлагаться. Повторялась тупиковая тактика блокпостов, которые обороняют сами себя и служат объектом провокаций со стороны мелких групп повстанцев. Повторялась бесперспективная политика назначения на административные посты чеченских «авторитетов», не способных внушить чеченцам стремления к мирному труду. Восстановление Чечни велось без учета реальной ситуации и лишь порождало коррупцию и казнокрадство. Непризнанная и неузнанная война без границ позволяла списывать на нее все затраты и обесценивать любые действия власти.
В этой ситуации власти вновь предлагалось определиться со стратегией, поставив первоначально «диагноз» явлению, с которым столкнулась Россия в Чечне. Неверно поставленный диагноз вел к неверной стратегии, которая могла быть успешной лишь эпизодически.
Диагноз: мятеж с целью захвата власти и отторжения от страны части ее территории.
Особенность: Мятеж есть форма уголовного преступления, которая отличается от бандитизма вовлечением в преступную деятельность больших масс населения и требует от правоохранительных органов и государства в целом особого поведения. Невозможность применения обычных уголовных норм принуждения требует сочетания «кнута» и «пряника» с целью склонить участвующие в мятеже массы к повиновению легитимной власти.
Текущая фаза мятежа: Мятеж находится в латентной стадии в связи с уничтожением регулярных формирований мятежников. Попытка создания гражданских органов управления с участием бывших участников мятежа дает им возможность для подготовки нового всплеска активности. Последнее возможно в связи с сохранением вовлеченности в мятеж масс чеченского населения не только на территории Чечни, но и на территории всей России и за ее пределами (диаспора).
Политика «кнута»:
Общий принцип: В условиях мятежа действует презумпция виновности на всей территории, охваченной мятежом. Это означает, что любое лицо, не находящееся на службе в государственных органах, занятых подавлением мятежа, находится под подозрением.
Репрессивные мероприятия:
1. Ограничение мобильности населения, втянутого в мятеж: запрет на передвижение на личном автотранспорте (запрет продажи бензина, изъятие и хранение автоаккумуляторов на охраняемых складах, изъятие транспортных средств у нарушающих запрет), запрет на движение группами, запрет на въезд и выезд с территории республики (прекращение свободного пассажирского сообщения). Комендантский час на всей территории. В неспокойных зонах — полный запрет на перемещение вне населенных пунктов.
2. Установление полного контроля за распределением продовольствия: закрытие рынков и любых форм частной торговли продовольствием. Распределение продовольствия только через административные структуры и только для оседлого населения, учтенного в каждом населенном пункте.
3. Снятие моратория на смертную казнь. В условиях мятежа этот мораторий есть прямое поощрение к убийству госслужащих и лояльных граждан.
4. Запрет на какие-либо формы общественной активности (мятеж может быть изжит только максимальным угнетением всякой социальности, которая в данном случае носит губительный для страны характер). В особенности это касается любых форм этнической консолидации (советов старейшин, съездов чеченского народа и т. п.). Население должно быть приучено к тому, что каждый человек в отдельности получает гражданские права только после того, как лично и в течение достаточно продолжительного времени подтвердит способность выполнять гражданские обязанности. Лишь тогда (на заключительных стадиях подавления мятежа) можно допустить гражданские форумы, также лишенные всякой эгничности (что должно внушить равноправие русских и чеченцев на данной территории, как и во всей России).
Сочетание «кнута» и «пряника»
1. Объявление полной амнистии для тех, кто выдаст вождей мятежа, объявленных в розыск (список обнародуется).
2. Люстрационная политика: формирование властных структур только из лиц, не имевших причастности к мятежу (к любой из соперничавших группировок) и не находившихся на территории Чечни после 1992 года (то есть, не подозреваемых в содействии или сочувствии мятежникам).
3. Принуждение к оседлости и труду: введение обязательных общественных работ за пайковое обеспечение для всех безработных.
Мы пытались убедить власть, что решение проблемы Чечни может состояться только в связи с ликвидацией Чеченской Республики как субъекта РФ. Только таким образом можно предотвратить использование статуса субъекта и системы государственной власти в целях антигосударственной деятельности как отдельными кланами, так и чеченской этнической элитой в целом. Решение этой задачи возможно путем постепенного создания внутренних границ, делящих Чечню на «оккупационные зоны», подконтрольные соседним территориям. Общее управление должно носить подчеркнуто жесткий и временный характер, для чего удобнее всего объединить функции административного и военного управления. В дальнейшем пост главы администрации Чечни (который должен занять командующий армейской группировкой) должен быть просто ликвидирован.
Мы говорили: нельзя проводить на территории Чечни никаких общечеченских выборов. Обратное будет означать новый виток этнической консолидации, подрывающей гражданское поведение, а также забвение интересов русского населения, изгнанного из Чечни. Чеченский народ не вправе решать вопросы о судьбе территории части России ни с точки зрения закона (народы России не могут быть субъектом права), ни с моральной точки зрения (мятежникам предоставляются особые права в сравнении с остальными гражданами). В целом противодействие антигосударственным настроениям должно предполагать последовательное изживание этничности из законодательства и финансируемых государством форм социальной активности. Вся формы этнической консолидации должны происходить за счет частного финансирования и без перспектив получения каких-либо политических прав. Все права должны быть связаны с гражданином России, а вовсе не с этнической общностью.
Все предложения, которые мной и моими единомышленниками направлялись в органы власти, не приводили к результату. Не сразу стало ясно, что на самом деле мятеж — элемент управляемого хаоса, который является удобным состоянием России для того, чтобы в ней правили коррумпированные кланы и свободно действовали изменники. Именно поэтому в Чечне Кремлем был поддержан один из бандитских кланов, возглавленный Р. Кадыровым, получившим в нашей стране совершенно особый статус. В его распоряжение Кремль ежегодно отчислял из федерального бюджета не менее миллиарда долларов. Сама Чечня при этом производила на душу населения примерно как самые низкоразвитые страны Африки.
Лживые речи врагов
В феврале 2004 года мне довелось посмотреть в глаза врагам — главарям бандитов, которым Путин отдал Чечню в управление. Дмитрий Рогозин пригласил меня и других только что избранных депутатов «Родины» на дискуссию в телепередачу «Свобода слова». Я увидел и услышал Ахмата Кадырова и его сообщников, среди которых выделялся бывший полевой командир Руслан Ямадаев, вместе с нами ставший депутатом Государственной Думы.
Мне чудом удалось вклиниться в разговор в самом начале, когда все замешкались с начало дискуссии.
САВЕЛЬЕВ:…Этот раскол происходит еще и потому, что все время забывается, что из Чечни изгнаны 300 тысяч русских. И этот раскол останется до тех пор, пока сами чеченцы не вспомнят, что с ними вместе жили русские, что земля Чечни — это не земля чеченцев. Это земля тех народов, которые там жили, и если мы будем продолжать говорить, что в Чечне обидели только чеченцев, в Чечне пострадали от войны только чеченцы, будет продолжаться этот раскол. Нам надо вернуться к здравому пониманию равенства граждан, которое должно быть установлено. А его сейчас нет в Чечне, и раскол происходит еще и потому…
Но поднятая мной проблема русских, бежавших из Чечни, все-таки была затоптана. Горские и демократические политики ее игнорировали. Вместо этого «горец» коммунистической выделки и ельцинский специалист по «национальным вопросам» Рамзан Абдулатипов начал мне выговаривать по поводу какой-то предполагаемой у меня мысли, о которой я слова не сказал. Как только что-то скажешь о русских — тут же тебя начинают подозревать в экстремизме. Разумеется, слова для того, чтобы снять недоразумение, мне предоставлено не было.
В дискуссии жестко схлестнулись Дмитрий Рогозин и Ахмат Кадыров:
КАДЫРОВ: Корни терроризма здесь, в Кремле, были тогда, отсюда они и ушли. Выходит, так?
РОГОЗИН: Я думаю, что не война была прародительницей терроризма, а, скорее всего, был мятеж, и не в 94-ом году, а намного раньше. Это был мятеж. Мы знали о нем. В 92-ом году, в 93-ем году там резали русских. Федеральная власть действительно…
КАДЫРОВ: Неправда! Это неправда!
РОГОЗИН: Это правда. Огромное количество русских людей бежало оттуда. Русская община около 350 тысяч человек была практически выгнана, изгнана оттуда. Поэтому в 94-ом году попытались найти решение этой проблемы. Нашли абсолютно неадекватное решение этой проблемы. Но я считаю, что корни терроризма, безусловно, уходят в мятеж, который появился на территории Чечни. Другое дело, что этому мятежу способствовали неадекватные, а иногда даже провокационные действия Ельцина и его окружения. Это точно.
КАДЫРОВ:.. за период до 94-го года, насколько я помню, наверное вы знаете, в Чечне не было ни одного теракта, и на территории Российской Федерации ни одного террористического акта.
Кадыров лгал. Это известно точно. И по показаниям, которые собирались правоохранительными органами, и по журналистским расследованиям, и по тому, что нам было известно от активистов Русской общины Чечни. Именно так: русских резали и в 92-м, и в 93-м. При попустительстве ельцинского режима. Если терактов не было за пределами Чечни, то они были в Чечне — массовые убийства, изнасилования, массовый грабеж, изгнание и похищение людей. За пределами Чечни были не теракты, а бандитизм — захват чеченскими бандами сфер влияния в бизнесе и управлении.
При этом Кадырова стоял на стороне бандитов, насильников и грабителей. И втот период, и когда кричал «неправда!» Он признавал, что был с Дудаевым и Масхадовым, а теперь — с Путиным.
КАДЫРОВ: Вот вы именно разжигаете межнациональную рознь, когда говорили, здесь стояли. «Чеченцев надо в угол загнать», — один говорит. Другой: «Их надо депортировать, этих черных». Пожалуйста, после ваших выступлений в Питере убили 9-летнюю девчонку. Если мы сегодня, то есть власть, не обратим внимание на тех бритоголовых, которые называются «шалостями», «ребячеством», мы получим не одну Чечню.
Предполагалось, что говорить можно только о правах чеченцев и преступлениях русской армии.
ЯМАДАЕВ: Пожалуйста, это так и есть. Я скажу, за это тех 300 тысяч людей: это он и такие генералы, бомбили их, они обстреливали танками, уничтожали, Грозный в руинах. Кто это сделал? Террористы? Вот они поддерживают терроризм! Вот где русских выгнали. Чеченцы находятся в таком положении. Сами с радостью уехали бы, но некуда этим бедным людям уехать. Вот такой же Шаманов уничтожил, где он прошел этот Запад, войска он командовал, полностью, 90 процентов уничтожено, ничего живого нет. Это его рук дело. Восток возглавлял Трошев. Там вообще 1 процент уничтоженного. Кто породил терроризм? Он породил, когда убил женщин, детей. Когда остался один человек. Что ему сегодня делать? Он — это террорист. Где сдаются боевики? На востоке, где прошел Трошев. А там ни один не сдается.
ШУСТЕР: Руслан, скажите, Руслан, вот вы сегодня в Государственной Думе, вы от «Единой России», вы обвиняете Владимира Шаманова в том, что он сделал. Вы обвиняете Трошева в том, что он сделал. Есть какая-то точка, где мы можем это забыть и начать движение вперед? Или нет такой точки?
ЯМАДАЕВ: Другого выхода у нас нет. Мы делаем, мы делаем шаги. Эта передача, другие. Они сейчас озлабли-вают. Маленькая, дайте скажу…! Взрыв в метро, вы сразу видите: Невзоров, Рогозин. Как у них глаза искрятся, понимаешь. А чеченский народ как страдает! Боятся выйти. Их там в метро останавливают, везде мучают. Вот почему вы не смотрите, где, кто виновен. Пока мы не ответим на этот вопрос, это будет продолжаться. А виновен он. <.. >
ЯМАДАЕВ: Вот сейчас много вопросов возникает по Чечне. Сразу чеченцы, во всех грехах обвиняют чеченский народ. Когда-то евреев вот так же гоняли как чеченцев сейчас. Точно такая же ситуация у нас, у чеченцев. Вот что я хочу сказать. Вы поймите одно: чеченский народ — пострадавший, а его обвиняют во всех грехах. То, что русскоязычных выгнали, это не мы выгнали, мы просим, чтобы они вернулись, мы желаем и мы сделаем все для того, чтобы они вернулись. И они вернутся, если захотят здесь власти. И мы над этим работаем. А то, что Невзоров или Рогозин, Шаманов, вы знаете, у них постоянно такая позиция, неконкретная. Вот они сейчас насчет эмиссии говорят. Какой эмиссии? Там давно эмиссии нет. Давно нет. Боевики приходят, возбуждается уголовное дело, возбуждается уголовное дело…
ШУСТЕР: Вы говорите: эмиссия или амнистия? Но это…
ЯМАДАЕВ: эмиссия…
ШУСТЕР:…
ЯМАДАЕВ: Ну я чуть-чуть волнуюсь, вы извините.
ШУСТЕР: Военная эмиссия — это амнистия.
ЯМАДАЕВ: Да, да. Военная эмиссия, там есть, там все бомбы, все там идут… Там возбуждается уголовное дело, вот с Хамбиевым тоже точно такая же ситуация. На нем нет крови, нет преступлений. А то, что он был бригадным генералом, дивизионным, это же не значит… Вот мы критикуем коммунизм, а фактически всех коммунистов же не посадили, ничего. Это же граждане России. А весь чеченский народ обвиняют в грехах.
ШУСТЕР: Ну, поаплодируйте, это же правильно! <…> (Апл.)
Ямадаев от микрофона сравнил чеченцев с евреями, которых тоже все обижают. Симптоматичное сравнение, которое многое говорит о средствах пропаганды чеченской исключительности: не признавать никаких жертв среди других народов, говорить только о своих бедах, не признавать за собой никаких грехов, преследовать самым яростным способом любого, кто не признает исключительного статуса чеченцев, а более всего — тех, кто сражался с чеченскими бандами.
Еще раз я вклинился, когда у микрофона бесновался Ямадаев, требовавший, чтобы генерал Шаманов ответил перед законом за разгромленные села и горы трупов. Я крикнул: «А когда Ямадаев будет отвечать?» У меня не было микрофона. Поэтому Шустер смерил меня взглядом укоризны и перевел мою реплику в эфир, но развить тему не дал.
ЯМАДАЕВ: Это потом ему (Шаманову) станет тяжело, когда мы станем на путь правовой действительно, когда начнутся разбирательства.
ШУСТЕР: Ой, только не угрозы, я вас умоляю, ну что вы, это же…
ЯМАДАЕВ.: Нет, нет, нет, вы подождите, сотни тысяч убитых людей, детей, женщин, стариков, русских, чеченцев, армяне. Кто-то когда-то должен отвечать? Когда это будет, хоть сто лет, ответят-то они… Перед богом ответят они…
САВЕЛЬЕВ: А когда Ямадаев будет отвечать? Вы когда будете отвечать?
ЯМАДАЕВ: Я отвечаю вам, я же стою, отвечаю в Москве…
САВЕЛЬЕВ: В правовом смысле!
Ахмат Кадыров был убит через три месяца после передачи. Земного суда за свои преступления он избежал. Руслан Ямадаев тоже не ответил перед судом за то, что воевал против России. Он был убит прямо в центре Москвы в сентябре 2008 года. Вероятнее всего, в борьбе с кланом Рамзана Кадырова, которому Путин отдал Чечню в наследство после убийства его отца Ахмата. Программа «Свобода слова» тоже долго не прожила. Сави к Шустер уехал на Украину вести аналогичное ток-шоу.
Переписка с глухарями
Ощущение, что крови прольется еще немало, у меня сложилось задолго до этой передачи. Но личные впечатления побудили использовать депутатский статус, чтобы попытаться вразумить чиновников, которые не считали кровь какой-то проблемой для себя. Предположив, что политика в Чечне вырабатывается в Совете Безопасности, который готовит решения для Президента, я решил направить туда запрос с предложением рассмотреть нашу коллективную разработку 2001 года. На тот момент он совершенно не утратил актуальности. В письме Секретарю СБ В.Б. Рушайло я указывал, что террористическая деятельность на территории РФ продолжается, и это свидетельствует о непродуктивности применяемых подходов и о непонимании лицами, принимающими решения, что они имеют дело вовсе не с мифическим «международным терроризмом», а с мятежом (ст. 279 УК). Я упомянул, что Ахмат Кадыров в передаче «Свобода слова» цинично продемонстрировал свою решимость стоять на страже интересов одного из чеченских кланов, принимая входящих в этот клан боевиков на должности в правоохранительных органах Чечни. Кадыров откровенно заявил, что будет бороться против федеральных властей и против бандитов (имея в виду «других бандитов»).
Прекращение этнического мятежа требовало введения чрезвычайного, а лучше военного положения, которое наиболее эффективно в момент, когда суверенитет над частью территории государства поставлен под вопрос. Отказ от принятия такого решения является одновременно отказом от суверенитета. Принятие же такого решения требовало порвать с либеральными догмами. Жизнь людей и судьба государства прямо побуждала к этому.
Прошло два месяца. Рушайло был смешен со своего поста, и на мое обращение не поступило никакого отклика. Правда, позвонил некий сотрудник СБ, который уговаривал меня: мол, в Чечне все нормально и даже можно гулять по улицам без охраны. Я не стал спрашивать, гулял ли этот сотрудник в форме и как далеко уходил от оцепления. Его уговоры показались мне совершенно идиотскими и никак не относящимися к вопросам, поставленным в моем обращении. Пришлось направлять в СБ напоминание о том, что закон следует исполнять и вовремя отвечать на депутатские запросы.
Наконец, я получил ответ за подписью Заместителя Секретаря СБ В.Соболева, датированный 7 мая — за два дня до того, как под Ахматом Кадыровым на грозненском стадионе взорвалась бомба. Эту бюрократическую отписку я держал в руках, когда мятежника уже не было в живых. Соболев писал: «В результате совместной работы в Чеченской Республике последовательно стабилизируется обстановка в военной (правоохранительной), общественно-политической, социально-экономической и информационной сферах». Остальное содержание ответа — бюрократический треп.
Предполагая, что убийство президента Чечни доказывает, что трепология в данном вопросе неуместна, что никакой стабилизации в Чечне нет, я написал письмо новому Секретарю СБ И.С. Иванову, где отметил несостоятельность успокоительных реляций. Обстановка якобы «последовательно стабилизируется», «проблемы разрешаются», «противодействие бандформирований снижается», в связи с чем соответствующие функции контртеррористического характера от федерального центра «постепенно переносятся на республиканские органы исполнительной власти». Неужели эта несостоятельная политика будет продолжаться? Неужели непонятно, что принятыми мерами правопорядок, определенный Конституцией РФ и российскими законами, на территории Чечни и в прилегающих к ней местностях, практически не установлен?
Я обратил внимание Иванова на тот факт, что до и во время разгара вооруженной фазы мятежа и военных операций по его подавлению со стороны чеченцев был осуществлен геноцид нечеченского населения. Кто не был физически уничтожен, был разорен, ограблен и изгнан. В Чечне тем самым утвердился расизм в самом зверском, бесчеловечном и кровавом виде. Тем не менее, власть отказывалась признавать этот факт. Сформированные погибшим А.Кадыровым органы исполнительной власти и корпоративные институты принципиально строились на основе этнической сегрегации, допускающей на руководящие должности лиц не по признакам профессионализма, добросовестности, безупречной лояльности и любви к Отечеству, а на началах этнического происхождения, клановости и личной преданности. Это трагически закончилось для самого главы Чечни и стало для него расплатой за русофобию и тупость. Столь же вредна и бесперспективна позиция федерального центра, позволившего под видом амнистии участников незаконных вооруженных формирований провести их широкомасштабную реабилитацию. Не говоря уже о пособниках мятежа, которых в Чечне, по данным генерала Шаманова, было не менее половины населения. Эти считаются реабилитированными от рождения, а после осуждения полковника Юрия Буданова — чуть ли не пострадавшей стороной, которой нужно выплачивать компенсации, собирая средства со всей России. О таких компенсациях договаривался в Чечне глава Минэкономразвития Герман Греф. Между тем, в личной «гвардии» Ахмата Кадырова, которая стала de facto «личной гвардией» его сына, состояли по одним сведениям 3500, по другим более 6000 боевиков, набранных из число активных участников бандформирований.
Я поставил перед главой СБ конкретные вопросы:
1) Действительно ли под видом силовых структур действуют незаконные вооруженные формирования, на которые нет никаких средств воздействия со стороны федеральных органов власти?
2) Какова численность вооруженных местных формирований в Чечне и насколько эта численность соответствует нормативам, принятым в других регионах страны?
3) Каков порядок финансирования подчиненных руководству Чечни вооруженных формирований? Какова доля федеральных средств, оплачивающих деятельность этих формирований?
4) Насколько практика содержания личных местных «гвардий» соответствует действующему в РФ законодательству, и какие действия предпринимаются, чтобы такое соответствие было всеобъемлющим?
5) Сколько с 1999 года было приговоров статьям УК 205 (терроризм), 209 (бандитизм), 210 (организация преступного сообщества, преступной организации), 279 (вооруженный мятеж), 281 (диверсия), 357 (геноцид)?
6) Каковы основания, не позволившие квалифицировать события в Чечне как мятеж?
7) Какие меры предполагаются для пресечения деления населения Чечни на чеченцев и нечеченцев, а в чеченской среде в зависимости от принадлежности к родоплеменным кланам?
Жесткость постановки вопросов вовсе не означала стремления как-то обидеть секретаря Совбеза, хотя и симпатий к нему у меня не было. Мои мотивы состояли лишь в том, что в течение многих лет органы государственной власти проводили в Чечне поразительно недальновидную и неэффективную политику, которая подрывала не только перспективы умиротворения чеченцев, но и основы российской государственности. Все вернулось почти в точности к ситуации 1996 года. Чего же стоят тогда все жертвы двух Чеченских войн?
Ответил мне все тот же генерал Соболев. С присущим ему цинизмом и в духе «не мешайте работать». Ни один мой вопрос не был рассмотрен и не получил ответа. Мне сообщали лишь, что процесс идет, и нужные решения принимаются. А всю прочую информацию я могу «запросить в соответствующих ведомствах».
Я предположил, что это письмо в полстранички — форма личного саботажа г-на Соболева. Ведь не может быть, чтобы в СБ вообще не имели никакой информации, не принимали никаких значимых решений, были не способны ответить на мои вопросы! Кроме того, Соболев подписал ответ как раз накануне вторжения боевиков в Ингушетию, в результате которого погибли около 100 человек, включая работников милиции. Складывалось правило: г-н Соболев писал мне всякие глупости, и они тут же опровергались жизнью. Я отметил это обстоятельство в письме к Иванову, где определил ответы Соболева как проявление цинизма. Я прямо написал: ответы г-на Соболева пахнут кровью и смертью. А также заявил, что эти ответ свидетельствуют о служебном несоответствии и нежелании исполнять закон. У секретаря СБ я потребовал провести служебное расследование и выяснить, каким образом столь бессодержательные и глупые тексты могут исходить от государственной структуры, чей интеллектуальный потенциал призван свидетельствовать о высоком уровне управления государством в целом.
Очередной ответ свидетельствовал о прогрессивной наглости со стороны г-на Соболева, а также о полной несостоятельности СБ РФ. За подписью некоего референта мне сообщалось, что ответы по существу дела мне даны, а депутатский статус не предоставляет мне права направления депутатского запроса ни в Совет Безопасности Российской Федерации, ни в аппарат Совета Безопасности Российской Федерации. Кроме того, этот «отставной козы барабанщик» объяснял мне, что мои обращения рассматриваются исключительно как обращения гражданина. Но поскольку они «не несут новой информации и выдержаны в оскорбительном тоне, решено дальнейшую переписку с Вами считать нецелесообразной».
Бюрократия уцепилась за невнятность законодательства, из которого невозможно понять, что есть депутатский запрос, а что — депутатское обращение. В принципе и то, и то имело один и тот же статус. Но запросы могут, согласно закону, отправляться только по определенному списку. Тем не менее, статус моих обращений недвусмысленно требовал отношения к ним в соответствии со статусом депутата. Определять их как «письма граждан» закон не позволял.
Трудно в такой ситуации не рассвирепеть. Я запросил в соответствии с Ст. 17, п.2 «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» у главы СБ информацию по следующим пунктам:
1. Кем лично принято решение о том, что дальнейшая переписка со мной нецелесообразна?
2. По чьему поручению действовал референт аппарата Совета Безопасности, направляя мне письмо?
3. Что именно свидетельствует о том, что мои обращения в Совет Безопасности «выдержаны в оскорбительном тоне»?
4. На каком основании мои обращения как депутата Государственной Думы рассматриваются в аппарате Совета Безопасности в качестве обращения гражданина Российской Федерации, а не в соответствии с законом «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»?
5. Существует ли практика содержательных ответов на депутатские обращения, направляемые в адрес Секретаря Совета Безопасности, или таковые обращения все считаются просто обращениями граждан и ответы по существу на них никогда не даются?
6. Участвует ли аппарат Совета Безопасности в разработке государственной стратегии, политики федеральной власти в Чеченской Республике? Если да, то кто лично отвечает за эту работу? Проводилась ли оценка его работы, и какова была эта оценка после убийства президента Чечни и после нападения боевиков на Ингушетию?
7. Имеются ли в аппарате Совета Безопасности разработанные рекомендации по урегулированию ситуации в Чечне в текущих условиях и прогнозные разработки развития этой ситуации? Если да, то имею ли я возможность ознакомиться с таковыми рекомендациями и прогнозами?
8. Кому лично было поручено изучение моих предшествующих обращений и рассмотрение содержавшихся в них предложений? Какова оценка этих обращений и предложений в части их содержания (а не оценки тона)? Существует ли у меня, как у депутата Государственной Думы, возможность ознакомиться с этими оценками и аргументами, их обосновывающими? Существует ли у меня возможность узнать эти оценки и эти аргументы в письменном виде? В состоянии ли аппарат Совета Безопасности документально зафиксировать эти оценки и аргументы и предоставить их мне?
Негодяй Соболев ответил мне в двух коротких абзацах, что мои обращения рассмотрены, и ответы даны в рамках имеющихся полномочий. Ни на один из поставленных мной вопросов снова не было никакой реакции.
Параллельно я запросил Генеральную прокуратуру по поводу правовой оценки действий должностных лиц СБ, отказывающихся отвечать на мои обращения. Из поступившего ответа стало ясно, что «конституционный орган», которым является СБ, оказывается вне действия закона только потому, что прокуратуре в работу его аппарата вмешиваться не позволено. Совет Безопасности в перечень структур, за деятельностью которых осуществляется прокурорский надзор (таковой имеется в законе «О прокуратуре») не входит. Иными словами, существует такой орган власти, который вполне может позволить себе преступать закон. Абсурд ситуации прорисовался в законченном виде.
Чиновники СБ по закону, вроде бы, обязаны отвечать, но если не ответят — ничего не поделаешь. Привлечь к ответственности чиновников аппарата СБ невозможно. Поэтому в ответах депутату пишут явную глупость и ложь. Соболев прямо-таки рекорд поставил: ни разу не давал ответ ни на один вопрос.
Как контрход я направил И.С.Иванову правительственную телеграмму с требованием принять меня. Удовлетворить такое требование обязывала норма закона о статусе депутата. И тут система попыталась смягчиться. Мне позвонил еще один сотрудник аппарата СБ и предложил по-сотрудничать неформально, без предъявления взаимных претензий. Мол, дайте нам свои предложения. Предложения были оперативно и во всех возможных подробностях сформулированы и отправлены в обмен на обещание удовлетворить мои вопросы. Оказалось, что сотрудник СБ просто обманул. Никаких ответов я так и не получил. Поэтому вновь стал тревожить Секретаря СБ, предлагая ему сообщить о результатах рассмотрения моей разработки основ стратегии борьбы с терроризмом. С интервалами в месяц я отправил три безответных обращения к И.С.Иванову. Ответов не было. Неужели «работа над ошибками» в Аппарате СБ не ведется, и прежние документы прячутся лишь ради того, чтобы сохранить «честь мундира» — пусть даже ценой продолжения неэффективной политики?
Последние письмо я писал после потрясения Беслана. Горы трупов детей свидетельствовали о полной несостоятельности государственной политики против терроризма. Я не мог оставить СБ в покое: перед глазами у меня были обгоревшие детские тела. «А что перед глазами у Вас?», — спрашивал я Игоря Иванова. Ответа не было. Я представлял себе глаза чиновника, заплывшие бельмами и совершенно обессмысленными.
Беслан обострил глухариную болезнь властных «верхов». На Беслан им было просто нечего ответить. Власть не могла она ответить депутату. Оставалось обращаться к президенту — гаранту Конституции, законности и одновременно — главе Совета Безопасности, вышестоящему и непосредственному начальнику оглохшего и ослепшего И.С.Иванова. Я сообщил президенту, что на протяжении всего 2004 года предпринимал попытки выяснить причины провальной политики в отношении Чечни и источник экспертной ошибки, неверно представившей ситуацию в Чечне руководству страны. А также о циничной позиции чиновников аппарата СБ. Я не преминул отметить, что характерным обстоятельством моей переписки с аппаратом СБ было совпадение «успокаивающих» ответов на мои обращения с новыми терактами. Цинично-спокойные ответы-отписки я получил после убийства Ахмата Кадырова, после вторжения боевиков в Ингушетию, накануне взрыва двух самолетов и Бесланской трагедии. Эти фатальные совпадения ни коим образом не поколебали сотрудников СБ в их уверенности, что они все делают правильно и не обязаны информировать о своей работе депутата Госдумы.
Также мне попалась на глаза публикация интервью руководителя парламентской комиссии по Беслану А.Торшина (МК 22.12.2004), который напомнил, что одна из главных функций СБ — немедленный анализ ситуации и немедленная же выработка оперативных решений. Эта функция обеспечивается средствами «ситуационной комнаты». По данным Торшина, уникальные возможности СБ во время трагедии в Беслане не были задействованы. В то же время Секретарь СБ И.С.Иванов в своих интервью говорил о том, что СБ будет заниматься выработкой очередной Концепции национальной безопасности. О «работе над ошибками» по прежней версии Концепции, как и о стратегической ошибке в выстраивании политики в Чечне, речи нигде не шло.
Они вообще не считают, что хоть в чем-то ошибаются. То есть, вполне сознательно наносят вред нашей стране и нашему народу. В статусе первого заместителя председателя Совета Федерации ФС РФ Александр Торшин на «Радио России» 10.04.2009, сказал: «…процессы идут не только дерусификации, будем говорить так, Северного Кавказа, но идут процессы и чеченизации просторов Российской Федерации. Вообще-то, это надо приветствовать». Это уже не глухарь, а самый отъявленный враг русского народа. И вообще эти люди глухарями только прикидываются. Мол, чего-то они недослышали, а мы их недопоняли. На самом деле за этой игрой скрывается ненависть к нам, русским. Самая свирепая и подлая. Какими бы тюфяками внешне вся эта публика ни выглядела. Они — соучастники мятежа, его организаторы и вдохновители.
Мне пришлось сделать тот же вывод по поводу СБ. Этот орган превратился в бюрократическую структуры, которая не в состоянии отвечать ни за стратегические вопросы национальной безопасности, ни оказывать политическому руководству страны помощь в оперативных решениях. Он превратился в прикрытие для враждебной нам деятельности и соучастия в чеченском бандитизме.
Что я получаю по своему обращению от «гаранта Конституции», у которого перед глазами тоже были трупы бесланских детей? А ничего. Претензии были направлены на рассмотрение тем, в адрес кого они были выдвинуты. Примерно так поступают среди управдомов. Ответ мне пришел от некоего Соболевского помощника, который сообщил, что все ответы на мои вопросы уже даны в установленном порядке. Фамилия чиновника соответствовала политике властной «вертикали» — Криволапов. Цикл замкнулся. Больше ждать от этой власти было нечего. Ясно, что «рассмотрение и учет в работе» моих материалов означали просто размещение моих их в мусорной корзине. Власти было не до стратегии, не до терроризма, не до мятежа. Она занималась более важными делами — присвоением богатств страны, формированием олигархии, торговлей национальными интересам. Она была заодно с бандитам и врагами России.
Уже в 2008 году по другому поводу я оказался в СБ в кабинете одного из замов Секретаря. Когда я вошел, в приемной никого не было. За десять минут моего ожидания телефон ни разу не звякнул. Потом прибежала веселая дама-референт, и я был принят высоким начальством. За четверть часа разговора телефон также ни разу не звякнул. По теме разговора мне также было понятно, что этот человек не в курсе дела и никому не нужен. Ничего не изменилось: СБ остался отстойником для пенсионеров с большими звездами.
Задавать вопрос «кто виноват?» больше не надо. Источник обнаружил себя. «Мистер Путин» расшифровался. Причем документально. Кто-то скажет: а это с самого начала было ясно. Нет, не было. И до сих пор не всем ясно. У Путина был шанс что-то изменить в жизни страны. Но Путин просто ничего и стал делать. Он «мочил же в сортире» только когда надо было захватывать власть. А потом устранился от дел. Ему интереснее было ездить по миру, смотреть, как реагируют на его скабрезные шуточки, позировать в разных мужественных позах перед телекамерами (с усыпленной тигрицей, с дельфинами, с удочками), умилять публику своей непосредственностью (целовать мальчика в животик, рыбину — в зубастую пасть, лошадь — в холку). Главное — быть на виду. И не говорите президенту ничего о Чечне, не тревожьте его Бесланом! Избавьте его от тревог, треплющих нервы!
Дела в Чечне — очень примечательный тест для любого политика. Для Путина это тоже был тест. Он прошел его на «два». Не потому что у него «нет других писателей», а потому что он таких «писателей» сам набирает и потом вместе с ними старается прикидываться глухарем — не слышать болезненного пульса страны, мучимой загноившейся раной по имени Чечня.
Трагедия Беслана
Самый чудовищный в российской истории теракт унес жизни 331 человек, 227 раненых попали в больницы в тяжелом состоянии.
Страдальческое лицо Путина, произносившего обращение к нации 4 сентября 2004 года, предвещало крутые меры. Верховный главнокомандующий, а не какой-нибудь кухонный философ, заявил, что России объявлена война. Для добропорядочного гражданина это означало необходимость немедленно ответить на призыв. Страна напряглась в ожидании команды выступить на защиту Отечества. Команды не последовало. Последовала тотальная ложь.
Несмотря на очевидную недееспособность власти, своими постами за трагедию расплатились только осетинские чиновники. Иные позднее получили другие высокие назначения, иные отправились на пенсию. Виноватых не нашлось. На своих местах остались директор ФСБ и глава МВД. Надолго задержались в своих креслах бывшие «силовики», посаженные на президентские посты в Ингушетии и Чечне. А Путин, хотя он высказался в своем обращении к нации достаточно ясно и резко, пошел на попятную и не стал трогать кадровый состав силовых структур, которые продемонстрировали свою несостоятельность.
В этом деле телевидение сыграло свою гнусную роль. Буквально за полчаса до трагической развязки в программе «Вести» было продемонстрировано обращение жены одного из террористов, которая сказала: «Спаси детей. Сделай все по Аллаху, а не по своей воле». И показали ее детей. Это можно было трактовать только так: забудь о жалости и милосердии, на твоей стороне будет Аллах. Сообщения о том, что «спецслужбы работают по родственной базе террористов» также взвинтили обстановку в захваченной школе. Публикация данных о специфической деятельности по противодействию бандитам спровоцировала еще большую жестокость.
Показательно, что руководители местного ВГТРК продали «сигнал» зарубежной компании CNN, которая начала вещать из Беслана первой. Кто-то погибал от рук бандитов, а кто-то делал свой маленький бизнес.
Постыдными и провокационными были действия отдельных политиков. Руководство «Единой России», вместо того чтобы собирать депутатов на сессию из отпусков, решило прислать в Беслан свою делегацию — пофигурировать на телеэкране. Они бы сделали это, но не успели. Зато успел покрутиться на телевидении Б.Грызлов, рассуждавший, что придется кое-где ограничивать права человека. Рамзан Кадыров намеревался прислать в Беслан делегацию чеченских женщин для митинга против терроризма. В штабе, руководящим операцией по освобождении заложников, нашлись люди, которые поняли, что этих женщин родственники заложников просто разорвут на части, а ситуация в городе выйдет из-под контроля.
Представители спецслужб все время очень ревниво относились к действиям всех остальных государственных структур. Когда от одного из заложников, освобожденных Аушевым, была получена информация, что в спортзале сидит не менее 1000 человек, последовал чванливый ответ: не надо сеять панику, их там не больше 300. Примерно такое же отношение было к попыткам организовать подготовку скорой медицинской помощи на случай непредвиденного развития событий и большого числа пострадавших. Поначалу это дало эффект: недалеко от школы выстроились около 40 карет скорой помощи. Но какой-то умник распорядился их оттуда убрать, и когда помощь понадобилась, машины буквально по одной пробивались к школе через толпу.
Как только чиновники обнаружили, что общество не делает из трагедии далеко идущих выводов на счет власти, они тут же забрали назад свои резкие заявления. Послание к нации, с которым выступил Путин, содержало множество прозрачных намеков, но через неделю эти намеки уже были только намеками. Никаких реальных действий президент так и не совершил, никаких выводов о своем месте в системе власти и своей ответственности за случившееся не сделал.
Не случайно организацией траурных митингов занимался не президент и не его соратники. Главным организатором митинга в Москве стал мэр Лужков, превративший акт народного гнева и скорби в личное дело, в пропаганду своей персоны. Когда первый канал телевидения приглашал людей на митинг, все думали, что это идет от Путина, что на митинге выступят первые лица государства. Получилось, что на трибуне собралась всякая шушера — как в советские времена в народ вещали никому не ведомые персонажи, а подвел итог пустопорожней болтовне Лужков, раскритиковавший правительство.
На митинг приехал Дмитрий Рогозин, стремящийся рассказать, как все было на самом деле. Он трое суток не спал, работая в штабе рядом с захваченной террористами школой, а теперь гнал машину от далекого Пскова, лишь бы успеть выступить перед взволнованными гражданами. Но лужковские холуи встали стеной и не пустили председателя фракции «Родина» на трибуну. За трибуной вальяжно ходил Андрей Исаев — одни из руководителей фракции «Единая Россия» в Госдуме. Он не отказал себе в удовольствии задеть смертельно уставшего Рогозина сарказмом: «Вот когда, Дмитрий Олегович, Вы станете мэром Москвы, тогда и будете выступать на московских митингах без ограничений».
Кто же выступал вместо политиков, вместо государственных мужей, вместо очевидцев? Карикатурно изломанный артист еврей Райкин, телеведущий еврей Соловьев, пара второразрядных «представителей конфессий» и еще целый выводок записных ораторов «от народа». Тут же стояли самые важные «отцы города» — глава Мосгордумы (его роль — пресечение каких-либо разговоров даже о временном закрытии Москвы для мигрантов), вечно бубнящий несуразицы адвокат Резник, вечный вице-мэр Шанцев, порхнувшая сюда неизвестно откуда гимнастка Кабаева и еще дюжина всякой придворной челяди. На этом фоне Лужков должен был выглядеть просто златоустом: только он смог произнести пару-тройку осмысленных фраз, оставшись в целом в рамках бессмыслицы, которую наговорили его пафосные холуи.
Море людское, заполнившее площадь, было обильно разбавлено заказными митинговщиками, которых по приказу Лужкова свозили из муниципальных структур и институтов столицы автобусами. Как только люди увидели состав выступающих, они стали расходиться. Было хорошо видно, что с первыми же словами, произнесенными в микрофон, образовался мощный поток в сторону метро.
А чем занялись другие сегменты власти?
Секретарь Совбеза И.Иванов просто затеял разработку очередной концепции безопасности. Это лучший способ уклониться от ответственности — потеть над многостраничным документом, сделав вид, что работа над ошибками — дело совершенно не нужное. Этот специалист по тому «как организовать провал» снова намерен был выяснять, что такое национальная безопасность и привлекать для этого общественность на «круглые столы».
Министр обороны С.Иванов почему-то стал говорить о множестве террористов, прибывающих к нам из десятков стран. Кажется он, не мог оторваться от стиля мышления, привитого по прежнему месту работы — в спецслужбах. Именно поэтому он подвергся тайным насмешкам своих подчиненных, которые не могли не видеть непрофессионализма министра, который дает команду подготовить учения по отражению нападения террористов на походную колонну стрелкового полка. Им без всяких учений ясно, что террористы на такие колонные не нападают, а нападают на невооруженных граждан. Потому что полк обладает такой огневой мощью, что за сколько секунд он уничтожит любую группу боевиков. Правда, это в боевой обстановке. Вот если скажут, что стрелять нельзя (как было не раз в Чечне), то придется туго, и террорист будет потешаться над солдатом, руки которого повязаны изменниками, засевшими в Кремле и в штабах.
Министр внутренних дел и директор Федеральной службы безопасности, представ перед Государственной Думой, готовы были говорить только банальности и отчитываться о сотнях предотвращенных терактов. Раньше все это называлось просто уголовщиной. Теперь — ради успокоения обывателя и в угоду политической конъюнктуре — переписывали с одной уголовной статьи на другую. Помнится, после убийства чеченского президента А.Кадырова шеф МВД Р. Нургалиев предлагал формировать строительные бригады чеченцев и платить им столько, чтобы их не тянуло закладывать фугасы. Теперь про идею забыли: стало ясно, что подкладывают фугасы из «спортивного интереса», свойственного изуверам, а вовсе не от безысходной нищеты.
" Тем не менее, о недостатке рабочих мест толковали все силовые министры — как будто Кавказ размещен за Полярным кругом, а не в самом выгодной климатической зоне России, где природа за труд воздает сторицей.
Генеральный прокурор с отчаянья предложил брать в заложники родственников террористов. И никто не поддержал его — не сказал, что именно так и следует поступать. Отчаянье было перед неизбежной отставкой. Но не за провороненный теракт. Просто в силу внутривластных интриг. И не был никогда настоящим борцом с преступностью прокурор В.Устинов, и на посту главы Минюста не стал ничем иным, кроме того, чем был — чиновником. На посту полпреда президента в ЮФО он прославился лакейской характеристикой Рамзана Кадырова: «Та критика, которая сегодня еще дается в адрес ЧР, что здесь не достаточно демократии, я считаю, что во многом надуманна… Кадыров человек по своей натуре глубоко духовный и нравственный» (август 2009).
Власть, напрягшаяся от злого выступления Путина 4 сентября, снова обмякла и принялась за свое — врать и подличать. Сигналом для расслабления было объявление, что расследование трагедии будет происходить в закрытом режиме, а парламентское расследование будет возглавлять ни к чему не пригодный спикер верхней палаты Миронов. Расследование было затянуто. Случайно оказавшиеся в Беслане в гуще событий депутаты думской «Родины» во главе с Дмитрием Рогозиным не были включены в состав парламентской комиссии. Фракция «Родина», принявшая решение о недоверии правительству и приступившая к процедуре сбора подписей для вынесения этого вопроса на голосование Думы, была подвергнута информационной блокаде. Ни один канал телевидения не сообщил об оценках лидеров «Родины», сделанных в отношении высокопоставленных должностных лиц. Под руководством штатных административных интриганов продолжилась линия «не пускать Рогозина никуда».
Создание парламентской комиссии по Беслану под патронажем С.Миронова имело одну цель: перехватить инициативу и спрятать концы в воду. В Совете Федерации не нашлось мужественных людей, которые встали бы на сторону общества против изменников, скрывших истинные причины трагедии и истинных ее виновников. Среди депутатов Госдумы, включенных в состав комиссии, лишь депутат фракции «Родина» Юрий Петрович Савельев проявил себя как гражданин и народный представитель. Я горжусь тем, что близко знаком с этим человеком. На праздновании его 70-летиия (как раз накануне завершения наших депутатских полномочий в 2007 году), я сказал: «Если меня спросят, знаю ли я настоящих героев, то я первым делом вспомню Юрия Петровича. Он совершил гражданский подвиг, проведя собственный анализ причин Бесланской трагедии».
Юрием Савельевым, доктором технических наук, специалистом-взрывотехником высшей пробы по материалам дела (показаниям свидетелей и фотоматериалам) было достоверно установлено, что спортзал с заложниками был взорван не захватившими их боевиками, а выстрелами из гранатомета и огнемета извне. Расчет стрелявших был в том, чтобы убить боевика, который стоял на кнопке взрывного механизма. Боевик был сметен выстрелом, но взрыва не последовало. Заложников, которые остались живы после этого обстрела, боевики вывели в другие помещения, и только потом взрывные устройства сработали от начавшегося пожара. Кому-то (думаю, что услужить хотели все-таки Путину) надо было «разрешить ситуацию». И ее разрешили таким живодерским способом. А потом били из всех стволов, не щадя ни заложников, ни боевиков. Каждый из них — лишняя информация о том, кто отправил на тот свет бесланских детей.
Альтернативый доклад Юрия Петровича не был допущен к широкому разглашению. Его доводы не были затребованы следствием, не рассматривались властями, не замечены высшим руководством страны. Официальное следствие не раз заходило в тупик, пока тема не сошла с первых страниц газет. Никто толком не заметил, когда оно все же закончилось. Парламентское расследование завершилось фальшивкой — докладом, который не показали даже депутатам. Глава комиссии лишь огласил выводы, которые просто повторяли прокурорские предположения. При оглашении этих выводов фракция «Родина» в «дебатах» (по 5 минут от фракции) дала возможность выступить Ю.П.Савельеву. Он не оставил камня на камне на выводах парламентской комиссии. Но это ничего не изменило. Власть решила скрыть правду.
За полгода после Беслана власть отчиталась только одним — убийством Аслана Масхадова. Его труп в луже крови показывали многократно все государственные телеканалы, нарочно подчеркивая, что это подарок женщинам к 8 марта. Это была прямая цитата из уст другого головореза — Р. Кадырова, которому за особые заслуги Путин вручил звание Героя России. Между тем, смертоубийство в Чечне и разгул чеченской мафии по стране продолжались. Смерть Масхадова никаких препятствий этому не создала. Просто потому, что власть — соучастник преступлений бандитов. Одних бандитов она вяло преследует, с другими дружит. Дружит против России и русских.
Власть ничтожеств и изменников дала фальшивый сигнал к атаке на врагов Отечества, а сама скрылась в штабных блиндажах. Рванувшиеся в бой оказались в дураках и даже были обвинены в «возбуждении и разжигании». Их теперь выставляли не просто экзальтированными чудаками, а прямо фашистами. Больше всего досталось «Родине», поскольку именно эта партия реально готова была биться за Россию на всех фронтах, исполосовавших нашу страну. Власть занялась не битвой с врагом, ясным и всем видным, а растаскиванием последних ресурсов сопротивления — всего, что не удалось разграбить ельцинистам и что нации все-таки удается, вопреки той же власти, производить.
Через полтора года после трагедии я побывал во Владикавказе. Только здесь еще помнили Беслан. Но и среди осетин эта память была однобокой. Их добродушие и хлебосольство как-то причудливо сочеталось с общим негативом в адрес русского политического движения, которое считали опасным. Но разве русские убили осетинских детей? Разве русский народ не воспринял трагедию Беслана как свою собственную? Разве русские политики не сделали все возможное, чтобы правда о Беслане не растворилась в потоках лжи, распространенной по поручению федеральной власти? Нет, многим важнее была не солидарность русских и осетин, а поиск конфликтных точек, поиск повода для того, чтобы почувствовать себя оскорбленными. И такой повод находили в агитационном ролике «Родины» на выборах в Москве об арбузных корках. О нем судили именно так, чтобы считать себя оскорбленными.
Мне довелось потратить немало усилий, чтобы осетинские активисты «Родины» поняли, что для нас значил этот ролик. До усталости голосовых связок я говорил с малыми группами и в аудитории на сотню человек, до отвращения пил осетинское вино в бесконечных застольях — лишь бы понимание между русскими и осетинами продвинулось хоть на один шаг. Продвинулось. Но этого шага оказалось мало. Трагедия Беслана не прояснила сознание ни русских, ни осетин, ни чиновников, ни руководителей государства.
Россия была обречена на беспрерывную череду актов террора. Северный Кавказ в последующие годы был территорией, где убийства и взрывы стали обычным делом. А в 2010 году состоялся двойной взрыв в московском метро, в очередной раз шокировавший публику и заставивший руководство страны сделать каменные лица и сказать грозные слова. Но прошло несколько месяцев, и все было снова забыто. Достаточно сказать публике, что все организаторы теракта уничтожены. Почему не задержаны? Потому что в этом случае надо было бы докапываться до корней и причин терроризма. А они прямо связаны с Кремлем.
Экспортный терроризм
Разговоры о международном терроризме — одна из самых любимых тем наших государственных мужей. А есть ли основания, чтобы говорить в России именно о международном терроризме? Ведь большинство террористов в России — чеченцы или кавказцы, очень редко — выходцы из «дальнего зарубежья». Что у них есть хозяева за рубежом — наверняка. Но как догадку подтвердить? Есть только один путь — опереться на документально установленные факты.
А таковыми можно считать только установленные факты иностранного гражданства. Численность и география экспортного терроризма скажет о многом. В том числе и о работе наших спецслужб и дипломатов.
После трагедии в Беслане (сентябрь 2004), когда все СМИ были вновь заполнены сообщениями о международном терроризме, который чуть ли не объявил войну нашей стране, я попытался выяснить принадлежность террористов к иностранным государствам, обратившись в МИД. Заодно спросил, подавались ли соответствующим государствам дипломатические ноты по этому поводу? И предпринимались ли меры, связанные с ограничением въезда граждан этих стран на территорию России? Параллельно был направлен запрос в ФСБ в связи с массовым вбросом в СМИ информации о том, что среди боевиков в Беслане были русские. Я пытался также прощупать, делает ли что-нибудь полезное для ФСБ президентская структура — СБ, задача которой определять стратегию. Без стратегии, какая может быть успешность в работе спецслужб?
Надо было уточнить, кто и каким образом установил, что среди бандитов были именно русские. Может быть славянскую внешность, не вдаваясь в подробности, кто-то отнес только и исключительно к русским? А видел ли кто-то в Беслане боевиков со славянской внешностью? Кто первым предложил публике информацию о том, что среди бандитов имеются представители русского народа или славяне? Поскольку подобная информация, появившаяся так быстро, как будто она была заготовлена заранее (еще трупы не были похоронены), я пытался узнать планирует ли ФСБ какие-либо меры противодействия распространению подстрекательской информации со стороны ведущих СМИ и отдельных журналистов? По поводу СБ я задал вопросы о том, поступают ли в ФСБ от этой структуры руководящие указания, решения, аналитические материалы по «чеченской проблеме» и противодействию терроризму?
Ответ из МИДа был ласков и бесполезен. Сообщалось, что в связи с участием иностранных граждан в незаконных вооруженных формированиях в Чечне, МИД обращался, в частности, властям Турции и Германии. В 2002–2004 гг. несколько граждан этих стран было уничтожено в ходе операций в Чечне. Все прочее (ужесточение условий выдачи виз, усиление контроля за въездом на территорию ЮФО и въездом из стран, откуда приходит основной поток нелегальных иммигрантов) представляло собой отчет о несделанном — о том, что трудно проверить и выявить степень продуктивности предпринимаемых мер. Серьезные ограничения в связи с событиями в Беслане были временно введены только при пересечении российско-азербайджанской и российско-грузинской границы.
Удивительно, но МИД расписался в том, что не обладает данными о расследовании террористических актов, что означает и полную невозможность противодействовать терроризму на дипломатическом уровне. МИД при Путине, как я понял, вообще оказался структурой, заведенной не для того, чтобы работать на результат. Это место отбывания пожизненной или временной нетрудоспособности для «золотой молодежи» и политических пенсионеров. Поэтому МИД не только не владел информацией, но ею и не интересовался.
По поводу национальной принадлежности террористом в МИДе мне было предложено обращаться в «компетентные органы». Прямо не было сказано, куда направлять запросы, но кроме ФСБ обращаться было некуда.
Ответ на мой запрос пришел оперативно — по секретной почте. Увы, в нем не было ничего действительно важного, кроме примерной численности террористов-иностранцев и заверений, что личности боевиков, убитых в Беслане, устанавливаются. Можно было только подивиться, что многолетняя истерия высших госчиновников и подконтрольных им СМИ касались всего-то нескольких десятков человек, чья принадлежность к иностранным государствам установлена. Трудно найти этому иную характеристику, кроме как «наглая ложь».
Вопрос о «русском следе» был более интересен. К нему прилагались выдержки из сообщений прессы и информагентств, снятые из интернета. Получалось, что тему «русского следа» запустило в прессу руководство Осетии. Но при этом ФСБ не имеет иных источников, кроме интернета! Хороша же спецслужба, которая не владеет фактами и не имеет собственных источников информации!
Из ФСБ мне также сообщили, что эта служба «не наделена функциями по обнародованию решений Совета Безопасности Российской Федерации». Разумеется, я не призывал к какому-либо обнародованию решений СБ, а лишь стремился выяснить, какие документы поступили в адрес ФСБ из Совета Безопасности. Мне это было нужно, чтобы понять источник стратегической ошибки в кавказской политике, наметившейся примерно в середине 2000 года, и повлекшей за собой значительные человеческие жертвы и разгул терроризма на территории РФ. Я хотел знать, чем руководствовалась и чем руководствуется ФСБ в своих действиях против чеченских банд? Существует ли документ, в котором изложена стратегия и общие принципы решения «чеченской проблемы», которым руководствуется ФСБ?
С новым запросом ситуация прояснилась: тут ни слова не добьешься. Закон законом, но он не для спецслужб писан. ФСБ законы соблюдать не собирается. Тем самым, мои предположения о том, что данная служба не ориентирована на интересы страны и наследует свои методы от живодеров-чекистов и изменников из КГБ, сдавших страну в 1991 г., еще раз косвенно подтвердились.
Пришлось обращаться в Генеральную прокуратуру с просьбой предоставить мне полные сведения за последние пять лет о гражданстве иностранных лиц, принимавших участие в террористической деятельности или участвовавших в незаконных вооруженных формированиях на территории России (включая не только задержанных и осужденных, но и уничтоженных). Оказалось, что задача для ГП более чем сложная. Меня проинформировали, что по моему обращению организован сбор информации. То есть, такой информации у ГП на момент Бесланской трагедии не было. Занятно, что при сборе сведений ГП обратилось с запросами в МВД, ФСБ и к прокурорам ряда субъектов РФ.
К концу 2004 года была получена следующая информация. В 2000–2004 годах к уголовной ответственности за терроризм (ст. 205 УК РФ) и организацию незаконного вооруженного формирования или участия в нем (ст. 208 УК РФ) привлечено 15 иностранных граждан. Из них: 3 гражданина Азербайджана, 3 — Иордании, 2 — Турции, 2 — Китая, 1 — Грузии, 1 — Алжира, 1 — Ирака, 1 — Саудовской Аравии, 1 — Великобритании. Все они, за исключением китайских граждан, судами Российской Федерации признаны виновными в инкриминируемых им преступлениях и осуждены к различным срокам лишения свободы. Задержанным в марте 2000 года на территории Чеченской Республики гражданам КНР было предъявлено обвинение в участии в вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 УК РФ) и незаконном пересечении границы (ч. 2 ст. 322 УК РФ). По ходатайству китайской стороны они были переданы правоохранительным органам Китая и осуждены на родине.
За организацию террористических акций и совершение ряда других преступлений во всероссийском и международном розыске находятся два иностранца (граждане Саудовской Аравии и Иордании). В материалах уголовных дел о преступлениях террористического характера имеются данные о гибели пяти иностранных граждан (Саудовская Аравия — 1, Великобритания — 1, Турция — 1, личности двух преступников, участников нападения на школу в г. Беслане, на тот момент были еще точно не установлены, предположительно, это были граждане Саудовской Аравии и Египта).
Мне также было сообщено, что по оперативным сведениям ФСБ России за последние пять лет в числе участников террористических групп и незаконных вооруженных формирований, а также лиц, оказывавших поддержку террористам, выявлены граждане 42 государств, больше всего — из Йемена, Иордании, Египта.
Результат получен. Пора было поделиться этой радостью с МИД и напомнить о моих прежних вопросах и предложениях. Я представил на рассмотрение данные, по которым можно было предъявлять претензии странам, из которых к нам прибывали террористы и боевики. Но МИД охладил мой энтузиазм. Как я теперь понимаю, это такой бюрократический стиль — чтобы успокоить свою и чужую совесть. И закрыть вопрос, как будто его и не было. Оказывается «МИД России самым тщательным и серьезным образом обрабатывает поступающие от Генпрокуратуры России и компетентных российских ведомств данные по каждому из «заявленных» иностранных граждан. Такая работа ведется постоянно. Безусловно, в каждом конкретном случае после проведения соответствующей проверки предпринимаем необходимые шаги по дипломатическим и иным имеющимся каналам в отношении тех или иных государств». Но это противоречило предшествующему сообщению, что МИД никакой информации не имел, а потому отправлял меня за сведениями в «компетентные органы»! Тогда был обман или обманывали теперь?
«По известным причинам не всегда предаем широкой известности факты наших демаршей». То есть, лгать депутату — это в порядке вещей. В порядке защиты служебной тайны и «известных причин»! «Вынуждены заметить, что у многих наших зарубежных партнеров также могут иметься основания предъявлять претензии и к России с учетом того, что наши соотечественники, фигурирующие в глазах иностранцев под вывеской «чеченские боевики», систематически появляются в различных «горячих точках» мира». Вот это признание дорогого стоит. Получалось, что «международный терроризм» — дело вовсе не зарубежное. Оказывается, с российской территории тоже исходит террористическая угроза, и власти с этим ничего не могут поделать. А раз так, то нет возможности предъявить претензии, скажем Ливану, Саудовской Аравии, Марокко, Йемену, Пакистану! Они ведь могут нас обвинить в том, что от нас к ним тоже едут террористы и убивают, взрывают, грабят!
Такое впечатление, что МИД в этом вопросе был совершенно не в курсе дела и подписавший письмо Специальный представитель Президента РФ по вопросам международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и транснациональной организованной преступностью А.Сафонов просто лжец. Это был тот же самый чиновник, который подписал первый ответ, где значилось: «МИД России не располагает материалами расследования террористических актов». Теперь он же: «МИД России самым тщательным и серьезным образом обрабатывает поступающие от Генпрокуратуры России и компетентных российских ведомств данные по каждому из «заявленных» иностранных граждан. Такая работа ведется постоянно».
Я бы такого сотрудника уволил бы сразу. Но в путинской России такие, напротив, поднимались по ступеням государственной службы все выше и выше. Правда, лично Анатолий Сафронов высоко не взлетел. Его имитаторские таланты были задействованы на посту заместителя директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ (2009), где он только и мог заявлять, что «поддержка соотечественников относится к одному из приоритетов российской внешней политики». Это тоже ложь. Но по другому поводу, о котором мы поговорим в других разделах.
Неотомщенные жертвы мятежа
В 1999 году против бандитского режима, окопавшегося в Чечне, Путин начал войну, которая обеспечила ему победу на президентских выборах, а незадолго до того — подавляющее большинство наскоро собранной парии «Единство» в Госдуме. Но мятеж не был подавлен, с мятежниками предпочли «договариваться» и уже с 2001 года Чечня вновь снова стала фактически независимой республикой и управлялась не по российским законом. Свидетельство тому — попытки расследования преступлений бандитов и мятежников, которые натыкались на полное отсутствие интереса органов прокуратуры к такого рода занятиям. Мне пришлось не раз сталкиваться со стремлением бюрократии перевернуть эту страницу современной истории и забыть о ней.
Поводом для выяснения давних уже обстоятельств убийства православных священников в Чечне стало обращение Русской общины, которая вместе со всеми русскими была изгнана из Чечни, а от российских властей не получила никакой помощи. Не встретили понимания у чиновников и попытки общины расследовать многие преступления. В том числе и это — особенно циничное.
В октябре 2004 года ко мне обратился наш старый соратник по Конгрессу русских общин Олег Маковеев, добивавшийся законных действий по расследованию ряда преступлений. Он просил поднять перед правоохранительными органами вопрос в связи с розыском похищенных в ЧР православных священников, бывших в 1996–1999 годах настоятелями грозненского храма Архангела Михаила — иерея Анатолия Чистоусова и иеромонаха Захарии Ямпольского. Отец Анатолий был похищен в ЧР в январе 1996 года вместе с прибывшим тогда из Москвы представителем Московской патриархии о. Сергия Жигулина. Позднее отец Сергий был освобожден и возвратился в Москву, а отец Анатолий оставался в плену. Только в 2000 году, после ввода в Чечню российских войск появились некоторые отрывочные сведения о его гибели, но место его захоронения не было найдено. Иеромонах Захария был похищен в июле 1999 года прямо из церкви. Вместе с ним был похищен и увезен в неизвестном направлении староста церковного прихода Яков Рящин. Об их судьбе не было никаких сведений. Расследовались ли эти дела, также никто не знал. Розыском похищенных никто не занимался.
Используя свой депутатский статус, я написал запрос Генеральному прокурору В.В. Устинову, в котором поставил вопросы, связанные с фактами похищений и порядком их расследования. Но вместо ответа мне пришло уведомление от заместителя Генпрокурора Н.И.Шепеля, который сообщил, что мой запрос переправлен и.о. прокурора ЧР. Ни фамилии чеченского прокурора, ни причин, по которым Генпрокуратура оказалась не готовой отвечать на мои вопросы, не указывалось.
По истечении месяца (законный срок направления ответа) я не получил никакой информации и направил запрос прокурору ЧР В.П. Кравченко с требованием ответить на поставленные мной вопросы. Я потребовал у Генеральной прокуратуры разъяснить мне ситуацию. И только в июне следующего (2005 года) пришел ответ от все того же Шепеля, который за это время повысил свой класс государственного советника юстиции с 2 на 1-й. Этот первоклассный советник сообщил мне известные факты о похищении священников, а также о возбуждении дел по этим фактам непосредственно после похищений. Следствием установлено, что первое похищение совершено по приказу Закаева А.И. начальником его личной охраны А. Гайсумовым и другими неустановленными лицами. Установлено, что 14.02.96 отец Анатолий был убит похитителями, а отец Сергий после долгих месяцев подвального содержания был освобожден в июле того же года. Закаев скрылся в Дании, а затем переехал в Великобританию. В его выдаче российским властям отказано. Если по первому делу мне не сообщалось, кем велось следствие, то по второму делу оказалось, что его вел отдел следственного управления Главного управления Генеральной прокуратуры РФ на Северном Кавказе. Установить местонахождение похищенных не удалось. Следствие многократно приостанавливалось, пока не было закрыто и июле 2004 года «за неустановлением лица, подлежащего _ привлечению в качестве обвиняемого». И только благодаря моему обращению это постановление было отменено и с июня 2005 года возобновлено с указанием руководства по проведению оперативно-розыскных и следственных действий.
Мне также сообщалось, что при рассмотрении в прокуратуре ЧР моего обращения допущена волокита, но срок привлечения к дисциплинарной ответственности истёк, а работники аппарата прокуратуры ЧР Донцов и Мальцев там уже не работают. Ответ на мое обращение из ЧР не мог быть направлен, потому что мое обращение туда, как оказалось, и не поступало. Между тем, именно Генеральная прокуратура направляла мое первичное обращение в ЧР. Выходит, что в мятежной республике Генпрокуратура не имела никакой власти над местными прокурорами. Генпрокуратура, оказывается, вовсе не контролирует работы командированных в Чечню прокуроров и не преследует их за должностные нарушения, когда командировка заканчивается. Два названных в ответе волокитчика (я бы назвал их саботажниками) ушли от ответственности, фактически отказавшись предпринимать какие-либо действия по расследованию убийств православных священников. Но и Генеральная прокуратура лишь имитировала активность. Никакого расследования по второму делу так и не было проведено, вопрос с годами перестал интересовать правоохранительные органы. Увы, и Московская Патриархия не проявила должной активности, чтобы выяснить судьбу своего священника.
Социальные гарантии для семей бандитов
Что сын за отца не отвечает, всегда говорится, когда кому-то нужно скрыть тот факт, что подобная ответственность всегда имеется. Пусть она носит неправовой характер, но она — в традиции многих народов. Потому что изувер, убийца, предатель должен знать, что совершая свои злодеяния, он ставит собственную семью под удар.
В извращенной логике путинской «эрэфии» все наоборот, все против традиций. Вместо помощи семьям погибших солдат — глухая стена бюрократического равнодушия, вместо посмертного преследования бандита через разоблачение его аморализма и порочности — то же равнодушие, позволяющее наследникам бандита жить за счет страны и пользоваться поддержкой его подельников.
В 1996 году чеченские бандиты зверски замучили русского солдата Евгения Родионова только за то, что он отказался снять с груди православный крест. Эта история облетела страну и прославила мужество русского солдата, глубину его веры. Но мало кто знал, что семья убийцы солдата стояла на довольствии у России. Убитый в боях против России бандит Руслан Хархароев получил посмертный статус «кормильца», а его семье была установлена пенсия, позволявшая воспитывать детей в ненависти к России и русским. Евгений Родионов погиб в юном возрасте, и у него никогда не будет детей, которые встали бы на защиту России. А многочисленные дети Руслана Хархароева, которым Россия заменила отца-кормильца, в большой вероятностью когда-нибудь пойдут против России, вступят в криминальные сообщества и будут терзать русских людей, как их отец-изувер.
Летом 2004 года мы с Олегом Маковеевым составили депутатский запрос министру здравоохранения М.Ю.Зурабову с целью выяснить фактическую и правовую сторону дела: каким образом дети бандита содержатся за счет государственных средств. Страшно занятый своими кровопийскими реформами министр упорно не желал отвечать. Ему был направлен новый запрос с требованием соблюдать российское законодательство. Запрос был снова проигнорирован. В октябре 2004 я обратился в Генеральную прокуратуру с требованием принудить министра соблюдать закон. Два месяца Генпрокуратура проводила проверку по факту непредоставления информации депутату. Саботаж обошелся министру недорого: ему было всего лишь вынесено представление «о принятии мер к недопущению нарушений законодательства и привлечении к ответственности виновных должностных лиц министерства». Ни о каких мерах подобного рода из министерства мне не сообщили. Уверен, их и не было.
Наконец, из Минздравсоцразвития мне пришло «затерявшееся» письмо. Мне сообщалось, что матери Евгения Родионова в соответствии с законом «О статусе военнослужащих» выплачено 24 млн. 780 тыс. неденоминированных рублей (примерно эквивалент 1000 долларов), а также согласно закону «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих…» еще 5 млн. 162,5 тыс. рублей. Еще 30 тыс. рублей (вероятно, уже деноминированных) выплачено Общероссийским национальным военным фондом в качестве материальной помощи. Размеры пенсии по поводу потери кормильца указаны не были. Ежемесячное пособие двум сыновьям и дочери бандита Хархароева было установлено в размере 70 рублей в месяц на ребенка (вероятно, это те самые пресловутые 70 рублей после деноминации). Пенсия по случаю потери кормильца на троих детей составила 1041,4 рублей. О выплатах местного значения ничего не сообщалось.
«Кормилец» содержал свою семью на доходы от бандитизма и работорговли, а теперь государство в память о нем содержало его детей. При всей символичности выделенных им сумм (наверняка доходы от убийств и работорговли, которые шли в эту семью, были значительно больше), СИМ-воличен и факт прямого сотрудничества бюрократии с бандитами, на которых распространена система социального обеспечения. Что на них обращена также и система бандитской солидарности, чиновников не волновало.
Компенсации в пользу мятежников
Вряд ли для кого-то секрет, что чеченское население Чечни в большинстве своем сочувствовало бандитскому режиму, соучаствовало в его деятельности и получало доходы от своих близких, занимавшихся грабежами, похищениями людей, убийствами.
Боевые действия распугивают людей, не занятых непосредственно военным делом. Население разбегается. Социальная база бандитского режима тоже предпочла выйти из-под огня и прокричать уши местным властям и зарубежным наблюдателям о своих страданиях. Они получили все необходимое, чтобы жить в лагерях беженцев. А когда война затихла — возможность вернуться в свои жилища и получить компенсации за утраченное имущество.
Русские, бежавшие не только от войны, но и от озверевших чеченцев, не могли вернуться. Такое возвращение почти неизбежно означало смерть. Русские потеряли в Чечне все имущество, которым владели. Но предусмотренные имущественные компенсации были установлены правительством втрое ниже, чем для соучастников мятежа. Да и те получить было практически невозможно. Чиновники стояли насмерть, лишь бы не дать русским укорениться на новом месте жительства. Их убеждали, что надо ехать в Чечню на убой. Если не жить там, то добывать всяческие справки об утраченном имуществе. То есть, все равно ехать на убой.
В связи с этой очевидной несправедливостью, мы с Олегом Маковеевым составили запрос председателю правительства Михаилу Фрадкову. Они касались постановлений правительства за 1997 и 2003 год. Первое из них определяло порядок выплат компенсаций тем, кто покинут Чечню безвозвратно, второе — тем, кто постоянно проживает в Чечне. Так людей разделили на «социально близких» (соучастников мятежа) и чужих (жертв мятежа). Первым (кто пострадал значительно меньше, а также участвовал развязывании войны) компенсации были больше, вторым (кто потерял имущество, а зачастую родных и близких, и перенес чудовищные унижения и физические страдания) компенсации должны были быть меньше.
Почему так произошло? Может быть, у нас принято виновных награждать, а невиновных наказывать? Нет, правительство не располагает такими полномочиями. Оно было наделено правом определения порядка осуществления выплат, но не определения каких-то дополнительных условий для того, чтобы эти выплаты проводить или не проводить. Правительство не только самочинно вторглось в компетенцию законодательной власти, но при этом в его решениях были установлены дискриминационные положения в отношении компенсационных выплат. Граждане были разделены на две категории. К первой категории Правительство отнесло граждан, «утративших на территории Чеченской Республики жилье независимо от формы его собственности и степени разрушения и/или личное имущество, безвозвратно покинувшие Чеченскую Республику в период с 12 декабря 1994 г., при условии снятия с регистрационного учета всех членов семьи по прежнему месту жительства и их отказа от жилья на территории Чеченской Республики». Размер компенсации установлен «из расчета расходов на строительство (приобретение) жилья исходя из нормы 18 кв. метров общей площади на каждого члена семьи (для граждан, зарегистрированных (прописанных) на занимаемой ранее площади в единственном числе, — 29 кв. метров общей площади), но не более 120 млн. рублей на семью» (данные в неденоминированных рублях). При определении размера компенсации учитывались члены семьи, временно отсутствовавшие в период разрешения кризиса в Чеченской Республике в связи с выбытием на учебу, военную службу, лечение, в длительную командировку, при условии отсутствия у них любого иного постоянного жилья. Факты нахождения на учебе, военной службе, лечении, в длительной командировке должны быть подтверждены соответствующими документами. Граждане, владевшие несколькими жилыми помещениями, были вправе получить компенсацию только за одно жилое помещение.
Несообразность всех этих требований очевидна. Они требовали от людей, бежавших от войны, возвращения на пепелище с угрозой потерять жизнь. Ясно, что для многих такая поездка была невозможна и по причинам материального характера — люди, бежавшие или изгнанные из Чечни порой теряли все свое имущество и сбережения.
Компенсация за утраченное имущество для этой категории лиц была установлена в размере 5000 рублей на каждого члена семьи для семей, имеющих в своем составе до 3 человек включительно, и в размере 1000 рублей на каждого последующего члена семьи, но не более 20.000 рублей на одну семью. Ко второй категории были отнесены граждане, постоянно проживающие на территории Чечни, жилье которых независимо от формы собственности утрачено и включено в перечень разрушенного жилья, не подлежащего восстановлению. Такой перечень утверждался Правительством Чечни, и оно не поскупилось на бумагу. Размер компенсационных выплат для этой категории: за утраченное жилье в размере 300 тыс. рублей и за утраченное имущество 50 тыс. рублей.
Таким образом, в отношении одного и того же обстоятельства — наличия имущественного ущерба в форме потери жилья — вид и размер компенсации пострадавшим гражданам был поставлен в зависимость от субъективного обстоятельства, не относящегося к характеру ущерба — от того, остались они жителями Чечни или поселились вне ее территории. При этом для пострадавших, проживающих в Чечне, величина компенсационных выплат и условиях их предоставления значительно больше и щедрее, нежели для пострадавших, ставших беженцами и вынужденными переселенцами.
Максимальная выплата для покинувших Чечню составила 120 тыс. рублей за утрату жилья и 20 тыс. рублей за утрату имущества. Для вернувшихся в Чечню — 300 тыс. рублей за жилье и 50 тыс. рублей за утрату имущества. Кроме того, при выплате меньших сумм, судя по экспертным оценкам, выехавшие из Чечни получали компенсации в три раза меньшие по сравнению с вернувшимися в Чечню.
Дифференциация пострадавших граждан, введенная постановлениями Правительства, было прямым нарушением конституционного принципа равенства прав граждан, в том числе и равенства прав вне зависимости от места жительства. Введение категории оценки «безвозвратно покинувшие» выгладит и вовсе цинично-подлым. Выехавшему из Чечни Правительство предлагало или вернуться или считать себя вечным изгнанником, которому обратной дороги нет, и никто во власти впредь не позаботится, чтобы условия подобного возвращения возникли.
За очевидным социальным неравенством угадывалось разделение по этническому признаку — русские чаще всего не возвращались в Чечню, где не видели перспектив для спокойной жизни, а чеченцы возвращались, рассчитывая на помощь многочисленных родственников и представителей власти, имеющих в большинстве своем ту же этническую принадлежность. Благоприятные условия были установлены в отношении этнических чеченцев, поскольку именно они после этнического геноцида нечеченского населения преимущественно продолжали находиться на территории Чечни, неблагоприятные — главным образом для этнических русских, спасавшихся бегством из Чечни под угрозой убийства, насилия, террора и иных форм преступного воздействия.
Показательно, что в постановлениях о компенсациях вообще не упоминается участников банд, которые не выделены в особую категорию и могли получать компенсацию наравне со всеми остальными. Одни — избежав тюрьмы, другие — освободившись после множества амнистий. Ничего не было сказано про соучастников преступных сообществ, которые провоцировали, оправдывали, поддерживали бандитов и должны были понести за это предусмотренное законом наказание. Они тоже стали полноправными получателями компенсаций. Эту позицию правительства Путина нельзя было рассматривать иначе, как оправдание участия организованной и вооруженной группы лиц в тягчайших преступлениях, имевших и продолжающих иметь место на территории Чечни и за ее пределами. Терроризм, вооруженный мятеж, бандитизм, убийства, грабеж и иные формы насилия — все было оправдано, всем полагалась компенсация. Как будто бандиты сами не жгли, не грабили, на взрывали.
В депутатских запросах Фрадкову мы потребовали прекратить подобную практику и устранить вопиющее беззаконие из нормативных актов.
В поступившем ответе за подписью заместителя министра регионального развития В.А. Гончарова высказанная нами позиция «в своей основе поддерживалась». Но какие-.. либо решения, как оказалось, принять невозможно, пока Минфин не соизволить выделить «достаточные финансовые средства». То есть, нам предлагалось уговаривать Минфин, а правительственные чиновники снимали с себя всякую ответственность за беззаконные постановления. Минрегион сообщил, что подготовил проект необходимого постановления Правительства, но Минфин «выразил особую позицию по данному вопросу». А Минэкономразвития «считает возможным рассматривать вопрос о выравнивании компенсационных выплат только после завершения работ по формированию перечня разрушенного на территории Чеченской Республики жилья, не подлежащего восстановлению, и определения полного объема затрат на выплату компенсаций». То есть считать до тех пор, пока беженцы не решат сами свои проблемы. А там уж можно обойтись й без выплат. На заседании Межведомственной комиссии по вопросам восстановления социальной сферы и экономики Чеченской Республики 3 февраля 2005 г. был рассмотрен вопрос о выравнивании компенсационных выплат (при особом мнении Минфина России) и включении в федеральный бюджет на 2006 год средств для реализации этих целей. Но на этом активность правительства закончилась. Большая коррупция влекла высших чиновников. Им не было дела до страданий людей, принципов законности и справедливости.
Мы провели еще один цикл вразумления Правительства, но своего не добились. Правительство перекинуло вопрос в МВД. Казалось бы, при чем тут МВД, когда речь касается компенсаций за утраченное имущество? Дело в том, что в ту пору там возникла целая команда по изготовлению отписок на депутатские запросы, возглавляемая заместителем министра Чекалиным (в 2008 году он тихо уйдет в отставку, на покой). Замминистра сообщил нам, что «вопрос не нашел своего решения в связи с принципиальными разногласиями федеральных министерств». И правительство постановило вообще прекратить какие-либо выплаты, отменив все решения по этому поводу и закрыв вопрос.
Из ответа Чекалина мы узнали некоторые цифры, которые свидетельствуют о полной несостоятельности режима, которые не знает и не хочет знать, что происходит в России. Согласно бюрократическому бумаготворчеству, за период проведения на территории Чеченской Республики мероприятий по борьбе с терроризмом было учтено около 600 тысяч человек, покинувших места своего постоянного проживания. На 01.07.2003 г. 60284 человек, получили статус вынужденного переселенца. Бюрократическая машина работала не только неторопливо, но и подло: статус, предполагающий поддержку государством, получила малая доля беженцев. Кто именно? По состоянию на 24 июля 2006 года, численность «внутри перемещенных лиц» по бюрократическому учету составила 67,3 тысяч человек, в том числе за пределами Чеченской Республики -19,6 тысяч человек. Численность граждан, выехавших из Чеченской Республики и имеющих статус вынужденного переселенца составила 26550 человек. То есть, из примерно 300 тыс. человек, бежавших от Чеченского бандитизма, бюрократы готовы были поддержать то ли порядка 20 тыс., то ли к ним надо добавить еще 25 тыс. Поскольку бюрократия вообще не желала никого учитывать за пределами Чечни как получателей компенсаций, то были установлены разнообразные статусы с неясными перспективами что-то получить от государства. Речь шла о компенсациях, а давали статус «вну-триперемещенныхлиц» или «вынужденных переселенцев». Причем тут компенсации?! Компенсации давали лишь тем, кто рисковал ехать в Чечню за справками. А таковых было меньшинство.
С момента реализации постановления о компенсациях беженцам из Чечни было подано 44964 заявления, в том числе, 19706 заявлений — до августа 1998 года. Это говорило о том, что люди просто не знали, какие заявления и кому подавать. С 1997 года до 28 июля 1998 года компенсации были выплачены 4702 заявителю на сумму 341,94 млн. рублей. То есть, бюрократия облагодетельствовала лишь каждого десятого беженца. Всего за период с 1997 года по 2006 год компенсации были выплачены 36755 заявителям на сумму 3890 млн. рублей. Программа выплаты компенсаций была прекращена, когда в очереди на получение компенсаций стояло еще около 2,5 тыс. человек. Им деньги обещали выплатить до конца 2006 года. Тем не менее, никто так и не установил, сколько человек потеряли в Чечне жилье и имущество. Их было не меньше 300 тыс. Если так, то лишь 12 % получили ничтожные суммы, и близко не покрывавшие материальные утраты. О моральных утратах и говорить не приходится.
Позднее мы провели натурный эксперимент. Сам Олег Маковеев потерял в Чечне имущество. Его дом боевики взорвали. Собрав всевозможные справки, Олег принес их мне, а я отправил исполняющему обязанности президента ЧР (такая вот была должность — назначенный и.о.) Сергею Абрамову. Никакого ответа на это письмо не пришло, И через несколько месяцев я обратился уже к президенту ЧР Аллу Алханову. И опять ничего. Переписки с разными инстанциями по поводу прав Олега продолжались долго. Он получил удостоверение «Ветеран боевых действий» как участник борьбы с бандитами. И только через несколько лет ему удалось выбраться из нищеты, каким-то чудом приобщившись к программе переподготовки военнослужащих. А компенсации? Да какие могут быть компенсации…
Компенсацией для всех нас будет уничтожение режима изменников и казнокрадов, а с ним — и бандитов.
Мятежники прессингуют
В физиономии и повадках Рамзана Кадырова я всегда видел что-то невыносимо отвратительное. Эта самодовольная ухмылка, эти растянутые трико на приеме в Кремле… Но особенно отвратительна была его речь — наглая, беспардонная, провонявшая криминальщиной. Когда Кадыров высказался по поводу Кондопоги, что он туда направит своих людей наводить порядок, я сказал журналистам все, что думал про этого пригретого властью бандита.
В связи с этими событиями, как говорится в заявлении Кадырова, к нему «обратились представители чеченской диаспоры Карелии с просьбой вмешаться в ситуацию и помочь в ее разрешении». Вместо того чтобы отвергнуть эти предложения как направленные не по адресу и лицу, чьи служебные обязанности исключают такого рода вмешательство, Кадыров не только обнародовал свои скоропалительные оценки ситуации, фактически оправдав убийц, но и объявил свою позицию по поводу протеста жителей Кондопоги, требовавших наказания преступников и оказавшихся втянутыми в уличные беспорядки: «если карельские власти не могут найти формы и методы урегулирования ситуации, то мы сумеем найти правовые методы способные привести ситуацию в правовое русло».
Таким образом, Кадыров приписал себе право вмешательства в ситуацию и способность разрешить ее. В сложившихся обстоятельствах это необходимо было интерпретировать как превышение должностных полномочий и побуждение чеченской диаспоры к продолжению конфликта — теперь под покровительством председателя правительства Чеченской Республики.
Мало того, очевидцы, присутствовавшие при оглашении заявления или видевшие его без изъятий в телетрансляции, утверждали, что приведенная фраза Кадырова имела свое продолжение. Оторвавшись от текста, Кадыров заявил: если правовых методов будет недостаточно, то найдутся и неправовые. Данное высказывание было прямым подстрекательством к межэтническому конфликту, сигналом в адрес преступных сообществ, сформированных по этническому принципу, о том, что они найдут в Кадырове своего защитника, где бы они ни находились и что бы ни творили.
В заявлении Кадырова также говорилось, что «чеченцы уже не раз доказали свою приверженность общечеловеческим ценностям и желание жить в братской семье народов России». Это было форменным глумлением над памятью десятков тысяч жертв резни в Чечне, которую вооруженные банды вели как против нечеченского населения, так и против чеченцев, не желающих соучаствовать в их преступлениях. Запоздалые объяснение пресс-службы Рамзана Кадырова о том, что он вовсе не собирается направлять в Карелию вооруженные батальоны, уже ничего не могло ничего исправить.
Я был до крайности возмущен как поведением самого Кадырова, так и бесстыдным молчанием Кремля. 13 сентября 2005 года на заседании Думы в утренней «разминке» я потребовал отстранения Кадырова от должности за возбуждение страстей и превышение должностных полномочий. Мне было предложено официально все изложить на бумаге в Совет Думы. Я предлагал обратиться к президенту от имени Думы с предложением отстранить Кадырова от занимаемой должности и более не использовать его на государственной службе.
В эфире Би-Би-Си мне накоротко довелось схлестнуться с одним из политических отморозков — спикером «парламента» ЧР Дукуваха (или Дукувахой? — черт разберет) Абдурахмановым. На мое утверждение, что заявление Кадырова по поводу Кондопоги является провокацией межнационального конфликта и обещанием мести всем, кто в Карелии выступил с требованием наказать убийц, этот неврастенический тип начал орать в микрофон о том, что Кадырова будет президентом Чечни, а провокатором является Савельев (то есть, я). Я не стал отвечать этому больному человеку на оскорбления и разоблачать его ложь о событиях в Кондопоге. Достаточно было и того, что любой слушатель сделал для себя такие же выводы, что и я, и без моих комментариев.
Потом я обнаружил, что этот неадекватный человек заявил РБК daily: «Кадыров — Герой России и кумир всей российской молодежи, во всяком случае, большей ее части. Мы используем все политические и правовые методы, чтобы противодействовать инициативе Савельева, и у нас, членов «Единой России», для этого хватит рычагов».
Эти слова для меня очевидное обещание мести — точно такое же, что и слова Кадырова в адрес жителей и властей Кондопоги. Он меня напугать задумал? Напрасно. Я живу на своей земле, а этот отморозок зарится на чужую. Придет время, будет он разглядывать небо в клеточку, а своих «спонсоров» — в полосочку. Если доживет. На них на всех печать смерти. Язык длинный может довести не только до Киева.
Мое обращение об отстранении Кадырова от государственной должности в Совете Думы не было рассмотрено. Обсуждение состоялось, но в виде базара. Потом «едро-сы» решили стереть стенограмму обсуждения. Почему они боятся? Потому что за это сборище не встанет ни один русский человек. Они для всех нас, русских, люди чужие. Наша, русская власть трусить не будет. Путинские регалии с Кадырова будут позорно содраны, а остальное — как суд решит. Вряд ли он будет милостив к мятежнику и бандиту.
В день, когда я выступил в Думе с требованием отставки Кадырова, в Доме журналистов чеченская диаспора Москвы готовила провокацию. Или бойню, если почувствует слабину. Некий представитель Московского Грозненского делового клуба Хасбулат Житиев, как сообщили потом СМИ, был организатором сбора шайки, вломившейся на собрание аналитиков. Но на самом деле команда поступила из постпредства Чечни — скорее всего, лично от Кадырова. Его очень не устроила тема «круглого стола» политологов и политиков под названием «Политический смысл «кадыров-щины» и угроза распада Российской Федерации».
Обстановку на «круглом столе» намерено накаляли члены СФ от Чечни Умаров и Джабраилов. Рядом с собой они посадили негодяя, который стал оскорблять члена партии «Родина» Вислана Гантамирова. Он точно знал, что сзади на противника кадыровщины нападет животное из звериной «массовки», дышавшей в спину политологам. Бойня могла вспыхнуть внезапно. Не исключено, что под курточками эти люди держали острые и тяжелые предметы. Один из наиболее активных, до этого цинично впершийся в зал в майке, теперь пришел в пиджаке с чужого плеча. Им досталось бы крепко. Они надеялись взять числом и не замечали, что в зале присутствовало с полдюжины ребят, которые порвали бы эту публику в тряпки.
Много было сказано всякой чуши и гнусности — особенно двумя «сенаторами» (с позволения сказать). Усманов, например, стал наскакивать на Рогозина за ролик «Очистим Москву от мусора». И опять повторил лужковскую ложь о том, что речь в нем шла о кавказцах. «Я бы так про русских никогда не сказал!» — надрывался Усманов.
На фразу Усманова я процедил сквозь зубы: «Ну да, не сказал бы. Просто зарезал бы». Сидевший впереди молодой кавказец подумал, что это удачная шутка от своих. О весело обернулся. Но тут же стушевался, напоровшись на мой злобный взгляд.
Усманову ответил Гантамиров: «Если бы я считал, что это про чеченцев, то меня бы в «Родине» не было. Я знаю, что чеченцы никогда арбузами не торговали».
За время дискуссии мне не раз хотелось оборвать зарвавшихся «интеллектуалов», больше похожих на истеричных баб. Но это было не мое мероприятие. Удивляюсь самообладанию Дмитрия Рогозина, который до конца склонял чеченцев к человеческому разговору. Проблески рассудка были лишь едва заметны.
Неопрятные провокаторы пытались спровоцировать драку. Они толпились в зале, нависая над участниками дискуссии, гомонили, бурно реагировали на слова. Пару раз я раздвигал тех, кто пытался заполнить проход между радами слушателей и столом, где заседали приглашенные ораторы. Наконец, из этой гудящей группы выделился особо буйный уродец, который разогрел себя каким-то выкриком и грубо схватил сидящего перед ним Гантамирова за плечо. Тот поднялся во весь свой богатырский рост и отбросил сразу всю толпу шелупони шага на два. Шелупонь взвыла, собираясь перейти в наступление. Но тут подоспели другие участники дискуссии. Полдюжины крепких парней придавили горских хулиганов к выходу из зала. И те, вяло отпихиваясь, трусливо отступили в коридор.
Казалось, потасовка, собственно, кончилась. Но ближе к концу заседания в зал вновь вошла большая группа чеченцев, чьи намерения были далеки от простого желания послушать, что будут говорить. Став плечом к плечу, группа заблокировала выход из зала и ее намерения не вызывали никаких сомнений. Предчувствуя опасность, я потребовал, чтобы непрошенные гости немедленно покинули помещение. Это требование было проигнорировано.
Я не сумел вылезти из своего «медвежьего угла», но сделал бы это при обострении ситуации, преодолевая страх отдавить уши сидящему впереди «аксакалу». Мне удалось отвлечь на себя двух- трех резвунчиков из этой банды, заорав, чтобы они выметались вон. Один стал уговаривать меня, что он сам кандидат наук, другой пообещал меня самого вывести из зала, но тут же спрятался в толпу. Ощущая опасность ситуации, я вызвал милицию, набрав телефон 02, и громко поговорил с дежурным. Милицию, как потом выяснилось, вызвал и директор Дома журналистов. После этого банда начала утекать за дверь, заседание продолжилось, но уже без прежней энергии. К тому времени я уже стоял вплотную к остаткам этой шумной кампании. Обещавший меня вывести из зала оказался на голову ниже и прошмыгнул у меня где-то под мышкой.
Заседание закончилось, но коридор был полон шпаны. Прежде чем Рогозин и Гантамиров выйдут из здания, я сходил на разведку. Перед Домжуром уже стояла разогретая чеченская толпа — несанкционированный митинг человек в 50, который никто не собирался разгонять. Мне удалось обойти эту толпу. За воротами стоял милицейский «козлик» и три милиционера с автоматами — все низкорослые, двое из них русские толстячки, один — худющий азиат. Спросил у них, где вызванные мной силы? Прошло уже полчаса, а готовый вспыхнуть беспредел все еще маячил в финале мероприятия. Оставил им номер своего телефон и предложил позвонить, когда банда будет отправлена восвояси. Звонок от замначальника местного ОВД пришел еще минут через сорок, когда мы уже вышли через служебный ход и ехали в Думу. Таков был уровень безопасности в центре лужковской Москвы.
После этого события я направил депутатские обращения главе ФСБ Патрушеву и Генеральному прокурору Чайке. Ни тот, ни другой пальцем не пошевелили, чтобы начать расследование. Меж тем в сети интернет, в публикациях крупных изданий фотографии бандитов имелись, и найти их не представляло труда. Почему их не искали и не разогнали митинг горцев? Потому что уголовная вылазка была предпринята по воле большого друга президента Путина — одного из самых титулованных его сподвижников.
Еще в 2004 году своим указом Путин присвоил Кадырову звание Героя России с вручением медали «Золотая Звезда». «За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга». Через два года Кадыров был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени». И вся привластная сволочь считала своим долгом потрафить приятелю президента. Глава Чечни был отмечен орденами Мужества, имени Ахмата Кадырова, Петра Великого I степени, медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», «За участие в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики», «Защитник Чеченской Республики», «За укрепление уголовной исполнительной системы РФ» (ведомственная награда ФСИН РФ), знаком «За службу на Кавказе». От имени мусульманского сообщества председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин наградил Рамзана Кадырова орденом «Аль-Фахр» I степени. Среди почетных званий Кадырова «Почетный гражданин Чеченской Республики», «Почетный член Российской академии естественных наук», «Почетный академик Академии наук ЧР», «Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный строитель Чеченской Республики», «Человек года» в Чеченской Республике», «Заслуженный защитник прав человека». А в феврале 2008
Кадыров стал еще и лауреатом премии «Россиянин года», вручаемой гражданам страны, добившимся успехов в становлении России как сильного и современного государства. Премия была вручена чеченскому президенту в номинации «Во имя жизни на земле». Также Кадыров являлся профессором и членом Академии проблем безопасности обороны и правопорядка (созданной шайкой жуликов, которых разоблачили только в 2009 году), почетным профессором Современной гуманитарной академии, президентом футбольного клуба «Терек», главой Федерации бокса Чечни, кандидатом в мастера спорта по боксу, президентом чеченской Лиги КВН, полковником милиции (в 2009 году президент Медведев присвоил Кадырову звание генерал-майора милиции), кандидатом экономических наук, руководителем региональной ячейки партии «Единая Россия».
Ни Путин, ни его окружение так и не поняли, что подписали приговор себе и чеченскому народу, поставив во главе Чечни бандита. Спираль насилия, раскрученная против русских в Чечне и по всей стране, вызвала ответную реакцию. До времени полицейскими репрессиями русское сопротивление может подавляться, но уже ни один чеченец не может считать себя защищенным за пределами Чечни. Потому что уже не чеченцев надо успокаивать и уговаривать вести себя мирно, а русских. И речь уже не о том, как заставить чеченцев прилично вести себя среди русских, а о том, чтобы дать чеченцам уехать в Чечню. Русское милосердие теперь состоит именно в этом: не дать побить и порезать этих зарвавшихся юнцов, решивших, что они сговорились с Кремлем против русского народа и теперь им все дозволено.
Чрезвычайное законодательство
Исходя из своего понимания проблемы, в Государственной Думе четверного созыва мы с помощниками подготовили обширный законопроект, где в деталях прописывались меры противодействия мятежу и полномочия органов власти. Рабочее название «О мятеже» в завершенной форме законопроекта мы заманили иным — «О противодействии насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Российской Федерации»
Разработка данного законопроекта обусловлена, с одной стороны, неблагоприятной обстановкой, сложившейся на протяжении последних лет в области государственной безопасности Российской Федерации, наличием особо опасных уголовных проявлений, направленных на насильственное изменение конституционного строя и нарушение ее территориальной целостности, что связано с событиями на Северном Кавказе и в некоторых других территориях страны. Важно было также определить порядок применения статьи 279 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за вооруженный мятеж, которая являлась новеллой отечественного уголовного законодательства, по крайней мере, с 1961 года.
В настоящее время в пределах Российской Федерации регулярно и активно действуют незаконные вооруженные группировки, которые формируются как на территории отдельных российских регионов, так и за пределами России, проникая в дальнейшем на территорию нашей страны из сопредельных государств. Целью указанных вооруженных формирований является насильственное изменение конституционного строя нашей страны, нарушение ее территориальной целостности, расшатывание основ стабильности государственной власти и безопасности граждан. Формами деятельности незаконных вооруженных формирований, как правило, являются: организация вооруженных столкновений и ведение боевых действий, захват и удержание заложников, систематически осуществляемая физическая расправа над должностными лицами федеральных, региональных и местных органов власти и сотрудниками правоохранительных органов, а также организация и осуществление террористических актов на территории Российской Федерации.
В связи с тем что природа уголовного деяния в форме вооруженного мятежа имеет ряд существенных особенностей по сравнению с другими видами преступлений, а его состав — объективная сторона, субъект и субъективная сторона — имеет принципиальные отличия, несовпадающие по своему содержанию с иными видами уголовно-правовых деяний, предупреждение этого вида преступления со стороны правоохранительных органов власти и формы и методы борьбы с вооруженным мятежом, если это преступление совершается, также не может не отличаться от того, что применяется на практике для предупреждения и борьбы с иными видами преступлений.
В частности, эти особенности находят свое выражение в существенных и принципиальных отличиях, содержащихся между преступлением в форме вооруженного мятежа (ст. 279 УК), которое рассматривается в действующем уголовном праве как преступление против государственной власти, и преступлением в форме терроризма (ст. 295 УК), некоторые черты которого подобны мятежу, но данное преступление включено в главу УК, касающуюся преступлений против общественной безопасности. Однако неурегулированность вопросов предупреждения преступных проявлений в форме вооруженного мятежа и тех особенностей, которые должны быть предусмотрены нормами права по его подавлению, порождают как неправильное отождествление мятежа с терроризмом, убийством, бандитизмом и иными видами преступлений, так и необоснованное сужение полномочий органов исполнительной власти и иных государственных институтов, призванных защищать территориальную целостность и конституционный строй государства, в том числе и от такого вида особо опасного государственного преступления, каким является мятеж.
Наш законопроект принципиально отличался от принятых законодательных актов, направленных на борьбу с отдельными видами преступлений. В частности от закона «О борьбе с терроризмом», принятого еще в 1998 году и не — сыгравшего ровным счетом никакой роли в жизни страны, и от закона «О противодействии терроризму», который в тот период рассматривался Думой. Проект последнего был принят в первом чтении Государственной Думой в декабре 2004 года, но далее его принятие застопорилось. Этот законопроект чем-то очень не понравился правительству, и его долго препарировали, чтобы изменить до неузнаваемости и полностью выхолостить. Данный закон был принят только в марте 2006 года и остался совершенно бессмысленным и бесполезным. Таким же бесполезным оказался закон 2001 года «О чрезвычайном положении». Он никогда не применялся и был интерпретирован бюрократией всего лишь как средство разрешения проблем, связанных со стихийным бедствием. К мятежам он никогда не применялся.
Разработанный нами законопроект с методологической стороны находился с этими законопроектами в определенном соответствии, хотя существенно расширял и дополнял соответствующие или аналогичные положения в техническом и технико-юридическом отношении. Можно сказать, рожденные в недрах бюрократии проекты по борьбе с терроризмом были конъюнктурным поветрием после серии терактов на территории нашей страны. Наш проект, напротив, исходил из потребности в регулировании важнейших общественных отношений и опирался на ранее разработанные концепции и анализ, полностью подтвердивший правильность нашего понимания обстановки. Законопроект направлялся против вооруженных мятежников, но также затрагивал и чиновничество, которое действием или бездействием могло способствовать мятежу.
Противодействие насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Российской Федерации по данному законопроекту относится к конституционной обязанности государственной власти, которая должна обеспечивать защиту государства и граждан от уголовных посягательств. Поэтому мероприятия и полномочия, связанные с борьбой с мятежом и с отдельными мятежниками (то есть с преступлением, предусмотренным ст. 279 УК РФ) предполагают введения режима чрезвычайного положения, в чем нет необходимости при воспрепятствовании иным видам уголовных деяний, подобных грабежу, бандитизму, терроризму и т. д.
Отсутствие в федеральном законодательстве положений, отражающих особенности предупреждения, профилактики и борьбы с мятежом как отдельным видом преступления, а также реабилитационного периода в отношении территорий, на которых происходил мятеж, и в отношении лиц, участвовавших в мятеже или причастных к нему, сводят на нет усилия государства по предотвращению мятежа. То же касается обязанностей органов власти, должностных лиц и специальных служб, в компетенции которых находится борьба с мятежом. Они обязаны соблюдать нормы права, но для этого им необходимо правовое понимание природы вооруженного мятежа как вида уголовного деяния, что дает возможность подавлять мятеж в максимально короткий срок.
Законопроектом предлагались правовые и организационные основы противодействия мятежу, для чего раскрываются понятия мятежника, мятежной деятельности, очага мятежа, мятежной территории и другие. Законопроект содержал принципы организации и цели противодействия вооруженному мятежу, а также нормы, регламентирующие правовое положение граждан и организаций на мятежных территориях. Также предлагалось ввести виды правового режима при подавлении мятежа — правовой режим мятежной территории, правовой режим зоны безопасности мятежной территории и правовой режим борьбы с терроризмом. А также временный режим специальных мероприятий, предназначенный для органов государственной власти, должностных лиц и организаций, а по завершению мероприятий по подавлению мятежа — реабилитационный период. Законопроект содержал перечень органов государственной власти, непосредственно осуществляющих противодействие мятежу, устанавливал связанные с этой деятельностью полномочия данных органов, а также предусматривал формирование специальных органов государственной власти и организаций для осуществления управления и руководства подавлением мятежа и проведением комплекса специальных мероприятий по воспрепятствованию мятежной деятельности. Отдельная глава законопроекта была посвящена последствиям подавления мятежа. Она включала положения о возмещении вреда лицам, пострадавшим от вооруженного мятежа и членам их семей, гарантии и компенсации лицам, участвующим в противодействии мятежу, а также в проведении неотложных работ, связанных с мятежом и ликвидацией его последствий. Законопроект регламентировал ответственность лиц, участвующих в мятеже (уголовная для граждан и административная для юридических лиц), и предусматривал заниженную меру ответственности либо освобождения от ответственности лиц, принимающих участие в противодействии мятежу и в мероприятиях по его ликвидации.
Как же отнеслись в правящих кругах к нашему проекту, объем которого был почти сто страниц? У нас сложилось впечатление, что правительственные эксперты встали перед дилеммой: выступать «против» неудобно, выступать «за» нельзя — противоречит интересам правящей верхушки, предпочитающей праву закулисный сговор. Поэтому проект наш стали заматывать. Сначала предложили ряд поправок, указали на частные неточности. Мы поправили эти неточности и вновь направили документы в правительство, от которого должно было поступить официальное заключение.
Проходят многие месяцы и вместо заключения нам предоставляют официальный отзыв. Не наблюдая разницы в содержании документа, мы отправляет законопроект в Совет Думы. После многих месяцев принимается решение, что заключения нет, и проект возвращается к нам. Мы вновь отправляем проект в правительство и просим оформить тот же документ заголовком «официальный отзыв» вместо «официальное заключение». Снова текут месяц за месяцем. И нам вновь присылают отзыв вместо заключения.
Уловка состояла в том, что мы должны были рассчитать, сколько потребуется средств для реализации законопроекта. То есть, предсказать, сколько и какой интенсивности в России произойдет мятежей и сколько на их ликвидацию потребуется средств. Этот абсурд повторялся в официальных бумагах раз за разом. Так с момента, когда законопроект был впервые отправлен в правительство, прошло более двух лет. Бюрократия замотала нашу инициативу и не дала внести проект на рассмотрение парламента. Впрочем, даже если такое внесение состоялось, судьба проекта была бы предрешена. Со скандалом, с очередным бесстыдным фарсом правящей группировки.
На этот раз нас решили просто не допустить до обсуждения вопроса, потому что уже началась избирательная кампания 2007 года. Бюрократы боялись, что острые проблемы вновь будут озвучены с трибуны Думы. Думская и правительственная бюрократия выступили против самого принципа чрезвычайного законодательства, объявив в своих отзывах, что данный проект посягает на права граждан. То есть, в условиях мятежа нам предлагалось применять концепцию прав человека к тем, кто с оружием в руках атаковал нашу государственность! Нам было сказано, что мы неправомерно стремимся отменить понятие презумпции невиновности по отношению к мятежникам. Стрелять в мятежников, таким образом, иногда позволялось, но ставить под подозрение пособников мятежа — ни в коем случае. Нам предлагали заводить сначала уголовные дела. Как это было в Чечне — горы трупов и неторопливое возбуждение дел, львиная доля которых так никогда и не была завершена. Презумпция невиновности по отношению к мятежникам обернулась их безнаказанностью. Этого бюрократия признавать не желала.
Становится понятным, почему бюрократия примерно терзала русских офицеров, исполнявших свой долг в Чечне. Понятно, почему полковник Юрий Буданов был измотан издевательских процессом за убийство чеченской снайпер-ши, а потом лишен права на условно-досрочное освобождение только потому, что судья считал, что осужденный должен был как-то особенно ярко демонстрировать раскаяние в содеянном. Понятно почему судили группу капитана Ульмана, выполнившего приказ и уничтожившего машину с подозрительными лицами. Понятно, почему издевались в суде над лейтенантами Аракчеевым и Худяковым, приписав им преступление, которого они не совершали.
Особенно не понравилось бюрократам, что мы ввели в законопроект положения об обязанности Госдумы начать процедуру отрешения Президента при наличии признаков его причастности к мятежу. Президенту бюрократия предоставляла полную свободу мятежных действий. И Президент не огорчил бюрократию — провел полную «зачистку» легальной политики от русского движения, от патриотов свой страны. Кремлевские мерзавцы открыто заявляли, что больше не дадут никому создать какой-то новой партии, помимо тех, которых бюрократия уже охомутала и сделала соучастниками своей изменнической политики.
В целом аргументация правительственных экспертов, заверенная подписью вице-премьера А.Жукова, сводилась к тому, что наш проект во всем противоречит букве и духу Конституции. Иначе говоря, дело представлялось так, будто Конституция стоит на страже участников мятежа и их пособников. Такова, как мне не раз приходилось убеждаться, была трактовка конституционных норм во всех без исключения случаях, когда право трактовки запрашивалось у чиновников. В этом смысле Конституция может считаться препарированной и извращенной в пользу сформированного при Ельцине и утвердившегося при Путине паразитического слоя чиновничества.
Против измены
Чрезвычайное законодательство требовало развития, прежде всего в уголовном праве, где мы (депутат вместе с помощниками) обнаружили гигантскую лакуну, появившуюся в результате «либерализации» законодательства. При внимательном взгляде на УК выяснилось, что этот важнейший документ не предусматривает защиты государства и государственного суверенитета. В УК не было отдельного раздела или совокупности статей, устанавливающих уголовную ответственность за противоправные деяния против Российской Федерации как государства.
Ряд составов преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства (глава 29 УК), были необоснованно включены в раздел X «Преступление против государственной власти». Но политическая теория требовала проводить отчетливую границу между понятиями «государство» и «власть». Тем более что в нашей стране власть для большинства народа оставалась чужой, а государство при любой власти оставалось своим.
Хорошо известные деяния многих должностных лиц, направленные против государства, его суверенитета, территориальной целостности, хозяйственного благополучия, остаются неподсудными для УК. Ряд диспозиций УК исключает ответственность даже в случаях очевидного и сознательно нанесенного вреда государству. В связи с этим требовалась переквалификация целого ряда уголовных статей.
Работа над законопроектом проводилась главным образом Сергеем Петровичем Пыхтиным, с которым мы были единодушны в постановке проблемы, а деталировка и доведение документа до окончательного вида стали предметом его забот на несколько месяцев. Мы предложили ввести в УК новый раздел «Преступления против государства», который был основан, с одной стороны, на принципе построения действующего УК, где деление составов преступлений на виды произведено по материальному объекту посягательства (личность, экономика, безопасность, порядок, власть, военная служба и т. д.), а с другой — на основании Конституции РФ, в ряде статей которой государство обозначено в качестве державы, имеющей самодостаточную ценность. Нам представлялось принципиально неправильным наличие в действующем УК в качестве предмета защиты уголовного закона «государственной власти» и отсутствием в нем в качестве такого же предмета самого «государства».
Из сферы защиты уголовного закона выпала сама Россия как государство. От этого образовалась ненаказуемость целого ряда особо опасных для ее существования и целостности деяний. К таким видам преступлений, согласно разработанному нами законопроекту, относятся: насильственный захват местного самоуправления или насильственное удержание местного самоуправления; антироссийская агитация и пропаганда; пропаганда переселения за границу; вредительство; недонесение о преступлениях против государства; подстрекательство к совершению преступлений против государства; пособничество в совершении преступлений против государства; укрывательство преступлений против государства. В этой связи наш законопроект предусматривал исключение из действующего УК главы 29 «Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства» (статьи с 275 по 284) и дополнение действующего УК новым разделом «Преступления против государства», в соответствующие главы которого перенесены указанные статьи из главы 29. Новый раздел формировался из 4-х глав и статей, описывающих составы однородных уголовно-наказуемых деяний: «Преступления против основ конституционного строя»; «Преступления против безопасности государства»; «Преступления против целостности государства»; «Иные преступления против государства».
В главе «Преступления против основ конституционного строя» предусматривалось два состава: 1) насильственный захват власти или насильственное удержание власти, что предусматривалось (в иной редакции) статьей 278 ныне действующей редакцией УК; 2) насильственный захват местного самоуправления или насильственное удержание местного самоуправления, что являлось новеллой. По сравнению со статьей 278 действующей редакции УК статья 330-1 законопроекта предусматривала простые и квалифицированные составы данного преступления. К квалифицированным составам законопроектом отнесены деяния, совершенные организованной группой, либо с использованием служебного положения, либо с использованием средств массовой информации, и деяния, совершенные с применением оружия или угрозой его применения, либо военнослужащим или лицом, находящимся на государственной службе. При этом предлагалось внести уточняющее изменение в редакцию основного понятия данного вида преступления, согласно которой преступлением являются не те действия, которые «нарушают Конституцию Российской Федерации», а те действия, которые совершаются «вопреки положениям Конституции Российской Федерации». Смысл этого изменения состоит в том, что законопослушность гражданина по отношению к институтам власти должна выражаться не в том, чтобы не нарушать Конституции РФ, а в том, чтобы действовать строго в соответствии с положениями Конституции РФ. Это принципиально различные позиции. Чиновник обязан исполнять Конституцию, а не осторожничать, чтобы ее не нарушить. Мы предлагали предписать деятельную позицию взамен пассивной.
В главу «Преступления против безопасности государства» были включены без каких-либо изменений статьи: 277 «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»; 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»; 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»; 282.1 «Организация экстремистского сообщества»; 282.2 «Организация деятельности экстремистской организации»; 283 «Разглашение государственной тайны». Мы не тронули «антиэкстремистские статьи» только по тактически соображениям, понимая, что «экстремизм» — термин, проникший в УК только благодаря политической конъюнктуре. Это тема требовала отдельной законотворческой атаки.
Мы решили целесообразным внести существенные изменения в статьи 276 (шпионаж), 281 (диверсия), 284 (утрата документов, содержащих государственную тайну).
В действующей редакции УК понятие шпионажа связано с сотрудничеством с иностранным государством, иностранной организацией или их представителями, а также с деятельностью по заданию иностранной разведки для использования сведений в ущерб внешней безопасности РФ. Доказать связи с иностранной разведкой или конкретным иностранным государством зачастую бывает крайне затруднительно. Кроме того, целью может быть ущерб не только внешней, но и внутренней безопасности. Поэтому мы предложили считать шпионажем не только собирание сведений или предметов (про предметы в действующей редакции ничего не говорилось), составляющих государственную тайну, с целью их передачи кому-либо, но также и любых сведений и предметов для использования в ущерб национальным или государственным интересам. Нам не важно, кому передается гостайна: государству, организации или их представителям. Этим мы существенно исправляли закон, пасующий перед многими антигосударственными деяниями.
В статье «Диверсия» мы, напротив, предложили судить не по цели, а по результату. Если в действующей редакции предусматривалась преступная цель, то в нашей редакции — результат. Результат мог наступить или прогнозироваться, если диверсия была пресечена. То есть, диверсией необходимо было считать действие (взрыв, поджог и т. д.), подрывающее или могущее подорвать экономическую безопасность или обороноспособность России.
Кроме того, мы сгруппировали статьи, связанные с наркотиками, собрав их в одной статье «Наркотизация»: посев или выращивание не разрешенных федеральным законом к возделыванию растений, а также культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества; пропаганда или агитация, направленные на потребление наркотических средств или психотропных веществ или их аналогов; незаконное производство, пересылка, перевозка, хранение или сбыт, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов; содержание притона для потребления наркотических средств или психотропных веществ.
Мы ввели также новую статью «Алкоголизация», которая предусматривала пропаганду или агитацию в средствах массовой информации, направленную на потребление спиртных напитков, их аналогов, фальсификатов или суррогатов; незаконную организация производства, предназначенного для изготовления спиртных напитков или их компонентов, а равно их фальсификатов, суррогатов или аналогов; незаконное изготовление, хранение, перевозка или сбыт спиртных напитков или его компонентов, а также их суррогатов или аналогов в крупных размерах.
К статье 285 УК о злоупотреблении должностными полномочиями мы добавили в главе, посвященной безопасности государства, статью «Коррупция», в которой данное деяние определялось как корыстное злоупотребление должностными полномочиями или служебным положением, направленное против Российской Федерации либо национальных или государственных интересов Российской Федерации, а равно наносящих или могущих нанести ущерб " Российской Федерации.
В статье об утрате документов, содержащих государственную тайну, мы сочли слишком мягкой формулировку, согласно которой для наступления уголовной ответственности необходимо было наступление тяжких последствий. То есть, пока последствия не наступили, уголовного деяния как бы и не существовало. Мы исключили это смягчение и ввели квалифицированный состав того же преступления на случай наступления тяжких последствий.
Мы ввели в проект УК два новых, не предусмотренных действующей редакцией, состава преступления: «антирос-сийская агитация и пропаганда» и «пропаганда переселения за границу». Первая статья была направлена против разгула антироссийской публицистики, затопившей многотиражные издания и эфир нашей страны. Вторая статья предусматривала пресечение деятельности разного рода «вербовщиков», сманивавших за рубеж российскую молодежь и квалифицированные кадры.
В отдельную главу мы ввели измененные статьи 275 (государственная измена) и 279 (вооруженный мятеж).
Если в действующей редакции государственная измена определялась как шпионаж, выдача государственной тайны и иное оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или их представителям в проведении враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности Российской Федерации, то в нашем варианте «иное» выглядело иначе — «либо иная враждебная деятельность, направленная против существования, целостности, устойчивости или безопасности Российской Федерации». Мы убрали из текста явно неуместное понятие о штрафе в размере полумиллиона рублей или трехлетнего заработка, поскольку с изменниками у российского государства не могло быть никаких материальных счетов. Если материальный ущерб нанесен, то он мог быть взыскан по другим статьям УН. В качестве квалифицированного преступления мы положили отдельный пункт в отношении военнослужащих, совершивших измену, где нижний порог срока лишения свободы удваивался.
Статью «Вооруженный мятеж» мы полностью переделали. Понятия мятежа в УК не существовало. Статья была явно безграмотной: вооруженный мятеж, судя по этой статье, это организация вооруженного мятежа либо активное участие в нем. Мы озаглавили статью «Мятеж» и определили: «мятеж, то есть, организация либо участие в деяниях, направленных на…» А дальше определили цель. Если в действующей редакции целью было свержение конституционного строя, то мы уточнили, что речь идет именно о вооруженном свержении. В остальном текст совпал: целью могло быть также насильственное изменение конституционного строя либо нарушение территориальной целостности. Мы лишь добавили квалифицированный состав данного преступления на случай активных действий мятежников, при которых минимальный срок лишения свободы удваивался.
В ту же главу мы включили давно забытый состав преступления — «вредительство». Под этим деянием мы понимали действие или бездействие, направленное на дезорганизацию, подрыв или нанесение иного ущерба вооруженным силам, отрасли или отраслям национального хозяйства (промышленности, транспорту, сельскому хозяйству, денежной системе, торговле, науке, образованию, здравоохранению, социальному обеспечению или иной отрасли), предприятию, организации или производству стратегического назначения, а равно деятельности государственного органа, местного самоуправления или иного объекта, если это ослабило или могло ослабить Российскую Федерацию, а равно если таковые, деяния нанесли или могли нанести ущерб существованию, целостности, устойчивости или безопасности Российской Федерации.
В главу «Иные преступления против государства» мы внесли новые составы преступлений: недонесение о преступлениях против государства; подстрекательство к совершению преступлений против государства; пособничество в совершении преступлений против государства; укрывательство преступлений против государства.
При подготовке проекта нам основательно ставили палки в колеса. Ведь нам требовалась достаточно подробная статистика по совершенным преступлениям и соотнесение ее с действительностью. Кроме того, порядок внесения изменений в УК требовал отзыва Верховного Суда (того самого, который отменил оправдательный приговор присяжных полковнику Квачкову и отклонил кассацию на обвинительный приговор лейтенантам Аракчееву и Худякову). Тем не менее, руководство ВС (председатель З.М.Лебедев) решило, что может уклониться от представления официального отзыва. Вероятно, в этом ведомстве не сталкивались с подобного рода инициативами.
Первоначально нам ответили, что отзыв представить невозможно, ибо мы не прислали пояснительную записку. То есть, ВС вторгался во внутренний регламент законодательного органа и расписывался в неспособности проанализировать достаточно сложный юридический текст. Нам пришлось напомнить руководству высшей судебной инстанции, что закон обязывает готовить официальный отзыв на проект федерального закона, а не на сопроводительные документы, относящиеся к его прохождению в Государственной Думе. Кроме того, абсурдный ответ пришел к нам не через 30 дней, как полагалось по закону, а почти через два месяца. В своем депутатском обращении я прямо указал, что усматриваю в этом умышленную попытку воспрепятствовать конституционному праву депутата Госдумы на законодательную инициативу под надуманными и противоправными предлогами и заблокировать возможность рассмотрения законопроекта Государственной Думой. ВС как орган, учрежденный для защиты законности, действовал бесстыдно и беззаконно, как и во многих других случаях.
Отзыв, в конце концов пришедший из ВС, был просто набором слов, откровенной чушью. Скажем, нам указывали на определение экстремизма в законе «О противодействии экстремистской деятельности», а потом писали: «Вопреки этому в проекте предлагается перенести статьи о преступлениях, связанных с экстремизмом из главы «Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства» в главу «Преступления против общественной безопасности». В путаных положениях закона «О противодействии…», действительно под экстремизмом понимается деятельность, связанная с насильственным изменением основ конституционного строя и нарушением целостности государства. Но подобных определений нет к УК. К тому же под экстремизмом понимается не только это, но и много чего еще — огромный и нелепый перечень деяний. Что же касается правоприменительной практики, то нам не известно и по эту пору никаких «экстремистских» дел или приговоров, связанных с покушением на конституционный строй или безопасность. Зато потоком идут дела, которые связаны с хулиганскими деяниями, усиленными вменением мотива разного рода «экстремистских возбуждений».
Нам сообщали, что нельзя согласиться с идеей криминализации действий, описанных нами в статье «Алкоголизация». Это при кошмарном моровом поражении нашего населения алкоголем! Также в ВС сочли, что «Наркотизация» — это не преступление против государства, а лишь посягательство на интересы в области условий обитания и жизнедеятельности людей. При гибели в России до 100 тыс. человек в год от наркотиков! Нет, судебные чинуши определенно не желали ничего видеть вокруг себя, отмахиваясь от трагедии народа и страны, которая должна подвигать всякого честного человека к самым решительным мерам.
ВС безапелляционно разошелся с нами в определении понятия «шпионаж» и «государственная измена», заявив, что эти преступления могут быть совершены только в пользу конкретного иностранных государств. А если эти деяния никому не на пользу, но лишь во вред нашей стране? Если эти деяния реализуют просто задачи террористических организаций, а вовсе не государств? Если это деятельность отдельного маньяка, намеренного нанести ущерб нашей стране, доискиваясь государственных тайн страны и распространяя их, скажем, в сети интернет? Тупая чиновничья группировка, получившая статус высшего судебного органа, не желала видеть очевидного, не понимала ни реальной обстановки, ни самой страны, за счет которой питалась, обслуживая при этом правящую олигархию. Эти люди лишены способности сформулировать и обосновать даже свою собственную позицию. Они фабрикуют даже не отписки, а просто откровенную чушь — набор слов, исходящих от патологических лентяев и неучей. Они имеют лишь мнения, случайно залетевшие в их неумные головы… Где место этим людям? Уж точно не в судебных органах, не на государственной службе.
Отзыв, поступивший из Правительства, был многословнее, претендовал на аналитизм, но также демонстрировал низкую квалификацию тех, кто под руководством вице-премьера А.Жукова штамповал официальные отзывы на депутатские законопроекты — почти всегда лишенные аргументов и знания дела, а также страдающие нарушениями логики. Безо всяких оснований нам сообщалось, что наши новации могут «привести к существенному ущемлению конституционных прав и свобод граждан, таких как право на свободу слова, свободу предпринимательской деятельности и др., а также осложнить международное сотрудничество в уголовно-правовой сфере». Разумеется, правительственные эксперты не утруждали себя обоснованием этого бреда.
Отрадным в отзыве было то, что чиновники поняли, что мы собираемся ввести в УК те нормы, которые будут направлены именно против них, что в их повседневной дея- тельности будущие правоприменители смогут увидеть факты вредительства. Поэтому нам было сказано, что мы хоти вернуться к политизированным трактовкам УК РСФСР 1960 года. Верно, именно это мы и хотели сделать. С нашей точки зрения, законодательство о преступлениях против нации и государства должно быть сплошь политизировано, глубоко политизировано, поскольку касается политических сущностей и политических интересов. Правительственному клерку этого не понять. Он начнет что-то понимать, только когда его без всякого права будут брать за грудки и прислонять к стенке. Как уже не раз бывало в нашей бурной истории.
То же можно сказать и о наших расхождениях в оценке алкоголизации и наркотизации страны, а также о пропаганде переселения за границу. Для бюрократии это доходные статьи ее изменнической деятельности, для нас — очевидное преступление против нации и государства.
Что меня всегда волновало, так это полное отсутствие во всех без исключения законодательных инициативах «партии власти» какой-либо научной базы. Все обоснования, которые мне приходилось читать, сводились к одному: нам так нравится, уверены, что от этого всем будет хорошо. И вот в отзыве на наш проект нас начинают поучать: мол, любое изменение обязательно должно быть обосновано с научной позиции и подкреплено данными правоприменительной практики. И откуда же мы все это должны взять? У тех, кто пишет всё те же негодные отзывы? У тех, кто вообще лишен понимания научной истины и здравого смысла? У тех, кто не способен придерживаться даже элементарной логики?
Конечно, при нашей загруженности другими делами, мы допустили ряд неточностей. Эти неточности были исправлены, и проект вновь был направлен по инстанциям. Вновь прошел волокитное рассмотрение, после которого нам сообщили, что существенных изменений в новом тексте не усмотрено, и инстанции не поддерживают данный законопроект. Дальше наступила очередь думской волокиты, которая окончательно угробила перспективы рассмотрения проекта в пределах моих депутатских полномочий. На последнюю сессию 2007 года проект не был вынесен и сгинул в мусорных архивах Думы.
Из этой эпопеи я делаю вывод о том, что бюрократия не способна работать с народным представителем, ибо она лишена способности реагировать на насущные проблемы и не имеет профессиональных навыков, которые позволяли бы вести продуктивную дискуссию с субъектом законодательной инициативы, коим является депутат. Именно поэтому мы сталкиваемся с диктатом бюрократии. Она не способна к дискуссии, диалогу и сотрудничеству. Бюрократия — суть воплощение идеи антинациональной тирании.
Разумеется, самое острое противостояние бюрократии и нации проявляется в отношении к проблеме чрезвычайного законодательства. Чрезвычайное законодательство — инициатива по уничтожению бюрократии. Поэтому внутри бюрократии никогда не быть решительной поддержке такого рода законодательным изменениям. Они могут быть введены либо волей национального лидера (лидера Россия заждалась), либо волей последних спасителей страны, которые удержат ее от краха, отстраняя бюрократию от управления и лишая ее права что-либо решать. Это можно назвать «революционной законностью», которая жестока не только к бюрократии. Но ее позитивная роль именно в этом — в уничтожении бюрократии. Фактически ниспровержение негодного законодательства — это ответ народа на отсутствие национального лидера, который способен к проведению «революции сверху».
Ответ террористам: на войне как на войне
В борьбе с мятежом России опоздала. Возможно, навсегда. Пока общественное сознание потрясали страшные террористические акты, происходящие то в столице, то на Северном Кавказе, властные спикеры толковали о войне и необходимости мобилизации всех сил против опасности террористической угрозы. Но стоило террористам найти свое успокоение на государственных должностях, широко открытых для них в Чечне, и мятеж оказался для власти вполне удобным процессом. Сдавать территории в управление бандитом было куда как проще, чем сражаться с ними и предоставлять народу самоуправление. Огромное запаздывание в понимании ситуации демонстрируется неготовностью общества и инфраструктуры государства к противодействию новым методам войны, которые были узнаны лишь в жестоких терактах, а в прочих формах до сих пор так и остаются неизвестными. Мятеж происходит у всех на глазах, маскируясь под «стабильность».
Разработка контртеррористической стратегии не может состояться, если не будут установлены конкретные виновники, дававшие неверные прогнозы и снабжавшие государственную власть неверными стратегическими ориентирами. Прежде всего, это касается Чечни. Но в значительной мере — и общей ситуации в стране, которая остается катастрофической, но таким образом практически никем из высших государственных чиновников не характеризуется. У политического руководства страны не складывается понимания, что Россия как государство может «схлопнуться» в ближайшие десятилетия. И причиной тому может быть как совокупность ряда факторов, так и отдельные кризисные процессы (демография, неконтролируемая миграция, наркомания, техногенные катастрофы, интервенция и др.).
Для того чтобы иметь какую-то надежду, что мы еще в состоянии отреагировать на убийственные для нашей страны процессы, необходимы самые радикальные меры в самых различных областях государственного регулирования. Они в свою очередь могут быть сформулированы только если отказаться от негодной системы ценностей, показавшей свою полную несостоятельность, но до сих пор внедряемой всеми силами государственных институтов. Речь идет о гибельной доктрине либерализма, ставшей необъявленной идеологией власти.
Терроризм и мятеж невозможно победить одними лишь техническими мерами. Президент, отдавая приказ на расправу над бандитским режимом в Чечне, говорил, что необходимо расправляться с террористами в их гнезде. Но дело в том, что за прошедшие годы мятеж и внешне мирные антироссийские установки дали метастазы во всем национально-государственном организме России. Не случайно в СМИ антигосударственный пафос сменился антируссним. СМИ, которые власти удалось взять под контроль, оказались лишены концептуальной позиции, чтобы обеспечить коммуникацию между властью и обществом, но прекрасно поняли сигнал из Кремля, разрешивший клеветать на русскую культуру, историю, представлять русскую молодежь как экстремистскую группу и т. д.
Терроризм вовсе не является неким замыслом враждебных России государств. И противодействие ему не связано с созданием каких-либо антитеррористических государственных коалиций — они невозможны или неэффективны, поскольку противник организован не государствами и государства, расколотые внутри себя, не могут создать эффективной корпорации против терроризма. Главная проблема государств — поиск путей освобождения от неверных стратегий, выявление внутри себя вирусов идеологического разложения, отказ от уступок нигилистическим группировкам, изгнание и нейтрализация союзников и спонсоров терроризма. Только в этом случае государство в состоянии стать субъектом борьбы с терроризмом и антинациональным экстремизмом.
Терроризм носит транснациональный характер и является проявлением общих процессов, идущих в мире. Эти процессы связаны с деятельности нигилистических группировок, нацеленных на разрушение Традиции — вплоть до краха государств и передачи полномочий по управлению социумами транснациональным бюрократическим органам (типа Евросоюза или НАТО). Антигосударственные силы присутствуют во всех государствах — в том числе и на Западе, и в России. Террористические атаки лишь подхлестывают антигосударственные и антинациональные настроения, опираясь сочувствие и тайную поддержку со стороны организаторов этих настроений.
Тот факт, что мир ислама поставляет львиную долю террористов для организации «актов возмездия» против Запада и его союзников, говорит только о том, что ислам пока имеет возможность вытеснять деструктивные практики на свою периферию и за ее пределы. Тем не менее, разложение и разрушение традиции действует в мире ислама стой же силой, что и на Западе. Распространение варварских, поверхностных форм религиозности здесь аналогично вестернизации и является ее оборотной стороной.
Россия волей судеб собирает на своей территории два нигилистических подхода: 1) не имея крепких основ для традиционного ислама, российская умма радикализируется и становится источником антироссийских идей; 2) не сумев обратиться к традиционным формам жизни в момент крушения коммунистического режима, Россия позволила развернуться на своей территории и в общественном сознании агрессивному либерализму, ставящему своей целью уничтожение государства как такового. Обе нигилистические установки подпитываются паразитическими практиками хозяйствования: олигархией и этнической клановостью. Средства, поступающие от этих кругов, достигают организаторов терактов.
Истребление террористов и изживание мятежа требует, прежде всего, излечения государства, пронизанного вирусами либеральной идеологии. Формальные нормы демократии западного образца остаются для государственной власти единственной опорой. Власть продолжает разговаривать с обществом на языке либеральных догм. И от этого все более теряет доверие. Рецептом может быть только решительное расставание с западнической риторикой и приверженностью к западным социальным технологиям. Вместо западной формы демократии, которая в России закрепиться не может, нам необходима национальная форма демократии, которая не станет пугаться чрезвычайных мер в условиях чрезвычайных ситуаций. Это демократия не прав человека, а «прав» традиции — власти демоса-общины.
Для ситуации, требующей экстренных мер, ни в системе управления, ни в правовом поле не подготовлено почти ничего. Не готовы даже нормы, регулирующие чрезвычайную ситуацию. То же и в кадровом составе высших органов власти. Здесь нет и тени понимания, как действовать в чрезвычайно ситуации, как осуществлять профилактику мятежа, его подавление и реабилитацию системы власти после мятежа. Необходимы такие кадры, которым не надо объяснять, что делать в оперативно меняющейся обстановке. Их недостаток очевидно проявился в августе 2008 года во время «пятидневной войны» с Грузией, когда весь дипкорпус только ожидал сигналов из Центра, ничего не предпринимая в условиях стремительно развернувшейся информационной войны. Единственным организатором ответных информационных действий в тот момент оказался Дмитрий Рогозин, постпред России в НАТО.
Существенное препятствие к тому, чтобы уничтожить опору терроризма в российском обществе, представляют как раз российские законы, выстроенные по либеральным рецептам. Либералы-правоведы доминируют в формулировании задач законодательной деятельности, поэтому российский парламент занимается преимущественно мусорными проектами, лишь имитирующими плодотворную работу. Поэтому запрещается противодействовать абортам, пьянству, наркомании, порнографии, депопуляции и т. д. Даже обстановка чрезвычайного положения после Беслана не привела к принятию новой правовой позиции и к пересмотру ценностных ориентиров. Антитеррористическое законодательство так и не было создано.
Эффективные меры против терроризма и мятежа возможны только в результате нового кадрового призыва, которого российское общество заждалось — призыва на службу России русских традиционалистов, православных русских людей, понимающих толк в уроках истории и не боящихся радикальных мер, пусть даже и вызывающих волну ненависти со стороны Запада и доморощенных либералов. Кадрам террора должны противостоять кадры антитеррора. Пока о наличии соответствующего кадрового потенциала, выстраивающего всю деятельность государственной власти, говорить не приходится.
Нужно понять, что в России нет никакого международного терроризма. Транснациональный характер имеют антироссийские силы, сформировавшие альянс с бандитами и убийцами ради разрушения нашей страны, любого государства, хоть в какой-то мере наследующего национальную традицию. В России есть главным образом чеченский терроризм, опирающийся на состоявшийся и так и не пресеченный в Чеченской Республике мятеж.
Представление о том, что терроризм хоть в какой-то мере может быть связан с такими факторами, как безработица на Северном Кавказе, является опрометчивым. Терроризм происходит не от материальных трудностей, а от идей, которые в условиях тупиковой экономической политики государства распространяются в социально ослабленных слоях населения. Прямой связи между материальными затруднениями и участием в терактах не существует. Иначе террористами в России были бы сплошь русские люди.
Разговоры о том, что у бандитизма и терроризма нет национальности, вызывают повсеместные насмешки. В России всем и каждому известно, что лицо терроризма на нашей территории почти исключительно кавказское. Соответственно, меры против этнобандитизма (ставящего под контроль российский бизнес и создающего источники финансирования террористов, мятежников и изменников) и этнотерроризма требуют повсеместных действий именно против кавказцев — прежде всего той их части, что не занята на госслужбе, ведет почти всегда нечистоплотный бизнес, работает в сфере, где вращаются большие объемы наличных денег (банковская сфера, торговля, обмен валюты и пр.). Лояльное отношение может быть сохранено только в отношении сильно ассимилированных, обрусевших кавказцев, давно живущих в центральной России, а также тех, кто занят физическим трудом — пашет землю и работает у станка. Не следует забывать, что в условиях войны (а мы живем именно в таких условиях, когда война ведется, но не всегда знакомыми нам средствами), все, кто находится под подозрением в пособничестве мятежникам и террористам, должны быть интернированы. Это было во всех больших "войнах XX века, это в значительной мере должно касаться чеченской диаспоры — все она должна пройти экзамен на лояльность российской государственности.
На войне не проводят выборов. Не только губернаторов или президентов, но и вообще каких бы то ни было выборов. На войне должны выдвигаться новые кадры — более дееспособные, чем те, что пропустили начало агрессии против нашей страны.
На войне действуют только нормы чрезвычайного законодательства, а вовсе не «права человека» и не конституционные свободы, которые и в обычной-то жизни никогда не работали. На войне не бывает независимых средств массовой информации. Массовая информация вообще не может быть частным делом — ведь она формирует самосознание нации и может либо создавать, либо разрушать мобилизацию нации на борьбу с врагом.
На войне нужно разговаривать с народом откровенно — только тогда можно рассчитывать на поддержку действий власти. Имитация благополучия нацией распознается как ложь, и власть оказывается для нации чужой и лживой. Честный разговор могут вести только верно подготовленные профессионалы. Задача власти отыскать таковых и расставить на нужные места — провести кадровую революцию.
На войне действует идеология победы, а все остальное считается происками врага. Нам больше некуда отступать. XXI век дает нам множество поводов для того, чтобы считать, что именно этот век станет последним в истории России и русского народа, а также всей европейской культуры, которая не будет нужна новым народам и государствам, готовым прийти нам на смену.
Война будет победной для настолько в том случае, если нации будет ясен образ «своего» и образ «чужого». Если власть повременит определять Россию как русскую православную страну, мы заведомо погибнем.
Только русская мобилизация и православная духовная традиция составляют дееспособную конкуренцию нигилистическим силам, плодящим терроризм и подрывающим государства по всему миру.
Постановка диагноза
Современная «демократическая Россия» вылупилась на свет калекой без рода-племени, образовавшись на развалинах коммунистического режима в результате антигосударственного мятежа. Мятеж был организован группой лиц, в которой номинальным лидером был президент РСФСР Б.Ельцин. В дальнейшем уродец присвоил себе историческое имя «Россия», не имея к этому имени ни малейшего отношения. Во всем противоположный исторической России ельцинский режим жил исключительно мятежами.
Самый жестокий мятеж — расстрел парламента из танковых орудий в 1993 году. За организацию этого мятежа до сих пор никто не ответил, правовой оценки событий, в которых погибло множество людей, не было дано. Ельцин отправился в мир иной, возможно, и не по естественным причинам, но уж точно его место в истории не было по заслугам обозначено российскими властями. Происходившее в России в 1990–1993 гг. я постарался описать в книге «Мятеж номенклатуры», которой особенно недовольны были московские власти, а читатели мгновенно раскупили тираж книги, вышедшей в середине 1995 года.
Тихий мятеж произошел в России в 1996 году, когда Ельцин, проиграв президентские выборы, поручил своему окружению объявить о победе, оправдывая обман народа необходимостью «не допустить коммунистического реванша». Организация выборов в 2007–2008 гг. также говорит об антигосударственном заговоре и фальсификации итогов голосования силами разветвленной преступной организации, которая была возглавлена высшими должностными лицами страны.
Таким образом, Россия живет в обстановке мятежей, когда власть узурпируется, а не передается по праву. Причем происходит это не только на всероссийском уровне, но и на уровне регионов, где множество мелких мятежей кажутся ничтожными в сравнении с многолетним мятежом, в Чеченской Республике. О первой Чеченской войне 1994–1996 гг. я написал книгу «Чеченский капкан», включив в нее записи бесед с участниками боев и раскрыв механизм содействия мятежникам со стороны «либеральной общественности» и властных кругов, оккупировавших Кремль. В ходе второй Чеченской войны 1999–2002 по просьбе Дмитрия Рогозина, который тогда был председателем Думского комитета по международным делам и отбивал нападки европейских недоброжелателей нашей страны, я подготовил доклад «Черная книга Чеченской войны», где в тезисной форме описал ситуацию в Чечне с 1991 года и дал анализ каждого этапа развития мятежа с точки зрения нарушения прав граждан и преступлений против человечности. В феврале 2001 года по итогам «мозгового штурма», проведенного в Фонде «Русский проект», я составил краткую аналитическую записку «Что делать правительству в Чечне?», которую мы направили в Кремль, но не получили оттуда никакого отклика. В записке положение в Чечне оценивалось как мятеж, и давались рекомендации по пресечению мятежа.
В 2001 году мы видели, что повторяются ошибки 1996 года, когда Россия фактически капитулировала перед бандитами, закладывая условия новой войны, бросая в плену своих солдат, отдавая оставшееся русское население Чечни на убой. Никто нас не слушал, и с боевиками старались договариваться. В 2004 году, став депутатом Госдумы, я попытался вновь обратить внимание органов власти на абсурдность подходов, применяемых в Чечне. Депутатским запросом я направил в Совет Безопасности наш материал, три года назад безвестно сгинувший в недрах Администрации Президента.
На тот момент ситуация повторялась с той же трагичной последовательностью, как и в 1996 при заключении так называемого «Хасавьюртовского мира». Видимая военная победа не привела к установлению мира и лояльности со стороны большинства населения. Армия, не ведущая войны и находящаяся во враждебном окружении, продолжала разлагаться. Повторялась тупиковая тактика блокпостов, которые обороняют сами себя и служат объектом провокаций со стороны мелких групп повстанцев. Повторялась бесперспективная политика назначения на административные посты чеченских «авторитетов», не способных внушить чеченцам стремления к мирному труду. Восстановление Чечни велось без учета реальной ситуации и лишь порождало коррупцию и казнокрадство. Непризнанная и неузнанная война без границ позволяла списывать на нее все затраты и обесценивать любые действия власти.
В этой ситуации власти вновь предлагалось определиться со стратегией, поставив первоначально «диагноз» явлению, с которым столкнулась Россия в Чечне. Неверно поставленный диагноз вел к неверной стратегии, которая могла быть успешной лишь эпизодически.
Диагноз: мятеж с целью захвата власти и отторжения от страны части ее территории.
Особенность: Мятеж есть форма уголовного преступления, которая отличается от бандитизма вовлечением в преступную деятельность больших масс населения и требует от правоохранительных органов и государства в целом особого поведения. Невозможность применения обычных уголовных норм принуждения требует сочетания «кнута» и «пряника» с целью склонить участвующие в мятеже массы к повиновению легитимной власти.
Текущая фаза мятежа: Мятеж находится в латентной стадии в связи с уничтожением регулярных формирований мятежников. Попытка создания гражданских органов управления с участием бывших участников мятежа дает им возможность для подготовки нового всплеска активности. Последнее возможно в связи с сохранением вовлеченности в мятеж масс чеченского населения не только на территории Чечни, но и на территории всей России и за ее пределами (диаспора).
Политика «кнута»:
Общий принцип: В условиях мятежа действует презумпция виновности на всей территории, охваченной мятежом. Это означает, что любое лицо, не находящееся на службе в государственных органах, занятых подавлением мятежа, находится под подозрением.
Репрессивные мероприятия:
1. Ограничение мобильности населения, втянутого в мятеж: запрет на передвижение на личном автотранспорте (запрет продажи бензина, изъятие и хранение автоаккумуляторов на охраняемых складах, изъятие транспортных средств у нарушающих запрет), запрет на движение группами, запрет на въезд и выезд с территории республики (прекращение свободного пассажирского сообщения). Комендантский час на всей территории. В неспокойных зонах — полный запрет на перемещение вне населенных пунктов.
2. Установление полного контроля за распределением продовольствия: закрытие рынков и любых форм частной торговли продовольствием. Распределение продовольствия только через административные структуры и только для оседлого населения, учтенного в каждом населенном пункте.
3. Снятие моратория на смертную казнь. В условиях мятежа этот мораторий есть прямое поощрение к убийству госслужащих и лояльных граждан.
4. Запрет на какие-либо формы общественной активности (мятеж может быть изжит только максимальным угнетением всякой социальности, которая в данном случае носит губительный для страны характер). В особенности это касается любых форм этнической консолидации (советов старейшин, съездов чеченского народа и т. п.). Население должно быть приучено к тому, что каждый человек в отдельности получает гражданские права только после того, как лично и в течение достаточно продолжительного времени подтвердит способность выполнять гражданские обязанности. Лишь тогда (на заключительных стадиях подавления мятежа) можно допустить гражданские форумы, также лишенные всякой эгничности (что должно внушить равноправие русских и чеченцев на данной территории, как и во всей России).
Сочетание «кнута» и «пряника»
1. Объявление полной амнистии для тех, кто выдаст вождей мятежа, объявленных в розыск (список обнародуется).
2. Люстрационная политика: формирование властных структур только из лиц, не имевших причастности к мятежу (к любой из соперничавших группировок) и не находившихся на территории Чечни после 1992 года (то есть, не подозреваемых в содействии или сочувствии мятежникам).
3. Принуждение к оседлости и труду: введение обязательных общественных работ за пайковое обеспечение для всех безработных.
Мы пытались убедить власть, что решение проблемы Чечни может состояться только в связи с ликвидацией Чеченской Республики как субъекта РФ. Только таким образом можно предотвратить использование статуса субъекта и системы государственной власти в целях антигосударственной деятельности как отдельными кланами, так и чеченской этнической элитой в целом. Решение этой задачи возможно путем постепенного создания внутренних границ, делящих Чечню на «оккупационные зоны», подконтрольные соседним территориям. Общее управление должно носить подчеркнуто жесткий и временный характер, для чего удобнее всего объединить функции административного и военного управления. В дальнейшем пост главы администрации Чечни (который должен занять командующий армейской группировкой) должен быть просто ликвидирован.
Мы говорили: нельзя проводить на территории Чечни никаких общечеченских выборов. Обратное будет означать новый виток этнической консолидации, подрывающей гражданское поведение, а также забвение интересов русского населения, изгнанного из Чечни. Чеченский народ не вправе решать вопросы о судьбе территории части России ни с точки зрения закона (народы России не могут быть субъектом права), ни с моральной точки зрения (мятежникам предоставляются особые права в сравнении с остальными гражданами). В целом противодействие антигосударственным настроениям должно предполагать последовательное изживание этничности из законодательства и финансируемых государством форм социальной активности. Вся формы этнической консолидации должны происходить за счет частного финансирования и без перспектив получения каких-либо политических прав. Все права должны быть связаны с гражданином России, а вовсе не с этнической общностью.
Все предложения, которые мной и моими единомышленниками направлялись в органы власти, не приводили к результату. Не сразу стало ясно, что на самом деле мятеж — элемент управляемого хаоса, который является удобным состоянием России для того, чтобы в ней правили коррумпированные кланы и свободно действовали изменники. Именно поэтому в Чечне Кремлем был поддержан один из бандитских кланов, возглавленный Р. Кадыровым, получившим в нашей стране совершенно особый статус. В его распоряжение Кремль ежегодно отчислял из федерального бюджета не менее миллиарда долларов. Сама Чечня при этом производила на душу населения примерно как самые низкоразвитые страны Африки.
Лживые речи врагов
В феврале 2004 года мне довелось посмотреть в глаза врагам — главарям бандитов, которым Путин отдал Чечню в управление. Дмитрий Рогозин пригласил меня и других только что избранных депутатов «Родины» на дискуссию в телепередачу «Свобода слова». Я увидел и услышал Ахмата Кадырова и его сообщников, среди которых выделялся бывший полевой командир Руслан Ямадаев, вместе с нами ставший депутатом Государственной Думы.
Мне чудом удалось вклиниться в разговор в самом начале, когда все замешкались с начало дискуссии.
САВЕЛЬЕВ:…Этот раскол происходит еще и потому, что все время забывается, что из Чечни изгнаны 300 тысяч русских. И этот раскол останется до тех пор, пока сами чеченцы не вспомнят, что с ними вместе жили русские, что земля Чечни — это не земля чеченцев. Это земля тех народов, которые там жили, и если мы будем продолжать говорить, что в Чечне обидели только чеченцев, в Чечне пострадали от войны только чеченцы, будет продолжаться этот раскол. Нам надо вернуться к здравому пониманию равенства граждан, которое должно быть установлено. А его сейчас нет в Чечне, и раскол происходит еще и потому…
Но поднятая мной проблема русских, бежавших из Чечни, все-таки была затоптана. Горские и демократические политики ее игнорировали. Вместо этого «горец» коммунистической выделки и ельцинский специалист по «национальным вопросам» Рамзан Абдулатипов начал мне выговаривать по поводу какой-то предполагаемой у меня мысли, о которой я слова не сказал. Как только что-то скажешь о русских — тут же тебя начинают подозревать в экстремизме. Разумеется, слова для того, чтобы снять недоразумение, мне предоставлено не было.
В дискуссии жестко схлестнулись Дмитрий Рогозин и Ахмат Кадыров:
КАДЫРОВ: Корни терроризма здесь, в Кремле, были тогда, отсюда они и ушли. Выходит, так?
РОГОЗИН: Я думаю, что не война была прародительницей терроризма, а, скорее всего, был мятеж, и не в 94-ом году, а намного раньше. Это был мятеж. Мы знали о нем. В 92-ом году, в 93-ем году там резали русских. Федеральная власть действительно…
КАДЫРОВ: Неправда! Это неправда!
РОГОЗИН: Это правда. Огромное количество русских людей бежало оттуда. Русская община около 350 тысяч человек была практически выгнана, изгнана оттуда. Поэтому в 94-ом году попытались найти решение этой проблемы. Нашли абсолютно неадекватное решение этой проблемы. Но я считаю, что корни терроризма, безусловно, уходят в мятеж, который появился на территории Чечни. Другое дело, что этому мятежу способствовали неадекватные, а иногда даже провокационные действия Ельцина и его окружения. Это точно.
КАДЫРОВ:.. за период до 94-го года, насколько я помню, наверное вы знаете, в Чечне не было ни одного теракта, и на территории Российской Федерации ни одного террористического акта.
Кадыров лгал. Это известно точно. И по показаниям, которые собирались правоохранительными органами, и по журналистским расследованиям, и по тому, что нам было известно от активистов Русской общины Чечни. Именно так: русских резали и в 92-м, и в 93-м. При попустительстве ельцинского режима. Если терактов не было за пределами Чечни, то они были в Чечне — массовые убийства, изнасилования, массовый грабеж, изгнание и похищение людей. За пределами Чечни были не теракты, а бандитизм — захват чеченскими бандами сфер влияния в бизнесе и управлении.
При этом Кадырова стоял на стороне бандитов, насильников и грабителей. И втот период, и когда кричал «неправда!» Он признавал, что был с Дудаевым и Масхадовым, а теперь — с Путиным.
КАДЫРОВ: Вот вы именно разжигаете межнациональную рознь, когда говорили, здесь стояли. «Чеченцев надо в угол загнать», — один говорит. Другой: «Их надо депортировать, этих черных». Пожалуйста, после ваших выступлений в Питере убили 9-летнюю девчонку. Если мы сегодня, то есть власть, не обратим внимание на тех бритоголовых, которые называются «шалостями», «ребячеством», мы получим не одну Чечню.
Предполагалось, что говорить можно только о правах чеченцев и преступлениях русской армии.
ЯМАДАЕВ: Пожалуйста, это так и есть. Я скажу, за это тех 300 тысяч людей: это он и такие генералы, бомбили их, они обстреливали танками, уничтожали, Грозный в руинах. Кто это сделал? Террористы? Вот они поддерживают терроризм! Вот где русских выгнали. Чеченцы находятся в таком положении. Сами с радостью уехали бы, но некуда этим бедным людям уехать. Вот такой же Шаманов уничтожил, где он прошел этот Запад, войска он командовал, полностью, 90 процентов уничтожено, ничего живого нет. Это его рук дело. Восток возглавлял Трошев. Там вообще 1 процент уничтоженного. Кто породил терроризм? Он породил, когда убил женщин, детей. Когда остался один человек. Что ему сегодня делать? Он — это террорист. Где сдаются боевики? На востоке, где прошел Трошев. А там ни один не сдается.
ШУСТЕР: Руслан, скажите, Руслан, вот вы сегодня в Государственной Думе, вы от «Единой России», вы обвиняете Владимира Шаманова в том, что он сделал. Вы обвиняете Трошева в том, что он сделал. Есть какая-то точка, где мы можем это забыть и начать движение вперед? Или нет такой точки?
ЯМАДАЕВ: Другого выхода у нас нет. Мы делаем, мы делаем шаги. Эта передача, другие. Они сейчас озлабли-вают. Маленькая, дайте скажу…! Взрыв в метро, вы сразу видите: Невзоров, Рогозин. Как у них глаза искрятся, понимаешь. А чеченский народ как страдает! Боятся выйти. Их там в метро останавливают, везде мучают. Вот почему вы не смотрите, где, кто виновен. Пока мы не ответим на этот вопрос, это будет продолжаться. А виновен он. <.. >
ЯМАДАЕВ: Вот сейчас много вопросов возникает по Чечне. Сразу чеченцы, во всех грехах обвиняют чеченский народ. Когда-то евреев вот так же гоняли как чеченцев сейчас. Точно такая же ситуация у нас, у чеченцев. Вот что я хочу сказать. Вы поймите одно: чеченский народ — пострадавший, а его обвиняют во всех грехах. То, что русскоязычных выгнали, это не мы выгнали, мы просим, чтобы они вернулись, мы желаем и мы сделаем все для того, чтобы они вернулись. И они вернутся, если захотят здесь власти. И мы над этим работаем. А то, что Невзоров или Рогозин, Шаманов, вы знаете, у них постоянно такая позиция, неконкретная. Вот они сейчас насчет эмиссии говорят. Какой эмиссии? Там давно эмиссии нет. Давно нет. Боевики приходят, возбуждается уголовное дело, возбуждается уголовное дело…
ШУСТЕР: Вы говорите: эмиссия или амнистия? Но это…
ЯМАДАЕВ: эмиссия…
ШУСТЕР:…
ЯМАДАЕВ: Ну я чуть-чуть волнуюсь, вы извините.
ШУСТЕР: Военная эмиссия — это амнистия.
ЯМАДАЕВ: Да, да. Военная эмиссия, там есть, там все бомбы, все там идут… Там возбуждается уголовное дело, вот с Хамбиевым тоже точно такая же ситуация. На нем нет крови, нет преступлений. А то, что он был бригадным генералом, дивизионным, это же не значит… Вот мы критикуем коммунизм, а фактически всех коммунистов же не посадили, ничего. Это же граждане России. А весь чеченский народ обвиняют в грехах.
ШУСТЕР: Ну, поаплодируйте, это же правильно! <…> (Апл.)
Ямадаев от микрофона сравнил чеченцев с евреями, которых тоже все обижают. Симптоматичное сравнение, которое многое говорит о средствах пропаганды чеченской исключительности: не признавать никаких жертв среди других народов, говорить только о своих бедах, не признавать за собой никаких грехов, преследовать самым яростным способом любого, кто не признает исключительного статуса чеченцев, а более всего — тех, кто сражался с чеченскими бандами.
Еще раз я вклинился, когда у микрофона бесновался Ямадаев, требовавший, чтобы генерал Шаманов ответил перед законом за разгромленные села и горы трупов. Я крикнул: «А когда Ямадаев будет отвечать?» У меня не было микрофона. Поэтому Шустер смерил меня взглядом укоризны и перевел мою реплику в эфир, но развить тему не дал.
ЯМАДАЕВ: Это потом ему (Шаманову) станет тяжело, когда мы станем на путь правовой действительно, когда начнутся разбирательства.
ШУСТЕР: Ой, только не угрозы, я вас умоляю, ну что вы, это же…
ЯМАДАЕВ.: Нет, нет, нет, вы подождите, сотни тысяч убитых людей, детей, женщин, стариков, русских, чеченцев, армяне. Кто-то когда-то должен отвечать? Когда это будет, хоть сто лет, ответят-то они… Перед богом ответят они…
САВЕЛЬЕВ: А когда Ямадаев будет отвечать? Вы когда будете отвечать?
ЯМАДАЕВ: Я отвечаю вам, я же стою, отвечаю в Москве…
САВЕЛЬЕВ: В правовом смысле!
Ахмат Кадыров был убит через три месяца после передачи. Земного суда за свои преступления он избежал. Руслан Ямадаев тоже не ответил перед судом за то, что воевал против России. Он был убит прямо в центре Москвы в сентябре 2008 года. Вероятнее всего, в борьбе с кланом Рамзана Кадырова, которому Путин отдал Чечню в наследство после убийства его отца Ахмата. Программа «Свобода слова» тоже долго не прожила. Сави к Шустер уехал на Украину вести аналогичное ток-шоу.
Переписка с глухарями
Ощущение, что крови прольется еще немало, у меня сложилось задолго до этой передачи. Но личные впечатления побудили использовать депутатский статус, чтобы попытаться вразумить чиновников, которые не считали кровь какой-то проблемой для себя. Предположив, что политика в Чечне вырабатывается в Совете Безопасности, который готовит решения для Президента, я решил направить туда запрос с предложением рассмотреть нашу коллективную разработку 2001 года. На тот момент он совершенно не утратил актуальности. В письме Секретарю СБ В.Б. Рушайло я указывал, что террористическая деятельность на территории РФ продолжается, и это свидетельствует о непродуктивности применяемых подходов и о непонимании лицами, принимающими решения, что они имеют дело вовсе не с мифическим «международным терроризмом», а с мятежом (ст. 279 УК). Я упомянул, что Ахмат Кадыров в передаче «Свобода слова» цинично продемонстрировал свою решимость стоять на страже интересов одного из чеченских кланов, принимая входящих в этот клан боевиков на должности в правоохранительных органах Чечни. Кадыров откровенно заявил, что будет бороться против федеральных властей и против бандитов (имея в виду «других бандитов»).
Прекращение этнического мятежа требовало введения чрезвычайного, а лучше военного положения, которое наиболее эффективно в момент, когда суверенитет над частью территории государства поставлен под вопрос. Отказ от принятия такого решения является одновременно отказом от суверенитета. Принятие же такого решения требовало порвать с либеральными догмами. Жизнь людей и судьба государства прямо побуждала к этому.
Прошло два месяца. Рушайло был смешен со своего поста, и на мое обращение не поступило никакого отклика. Правда, позвонил некий сотрудник СБ, который уговаривал меня: мол, в Чечне все нормально и даже можно гулять по улицам без охраны. Я не стал спрашивать, гулял ли этот сотрудник в форме и как далеко уходил от оцепления. Его уговоры показались мне совершенно идиотскими и никак не относящимися к вопросам, поставленным в моем обращении. Пришлось направлять в СБ напоминание о том, что закон следует исполнять и вовремя отвечать на депутатские запросы.
Наконец, я получил ответ за подписью Заместителя Секретаря СБ В.Соболева, датированный 7 мая — за два дня до того, как под Ахматом Кадыровым на грозненском стадионе взорвалась бомба. Эту бюрократическую отписку я держал в руках, когда мятежника уже не было в живых. Соболев писал: «В результате совместной работы в Чеченской Республике последовательно стабилизируется обстановка в военной (правоохранительной), общественно-политической, социально-экономической и информационной сферах». Остальное содержание ответа — бюрократический треп.
Предполагая, что убийство президента Чечни доказывает, что трепология в данном вопросе неуместна, что никакой стабилизации в Чечне нет, я написал письмо новому Секретарю СБ И.С. Иванову, где отметил несостоятельность успокоительных реляций. Обстановка якобы «последовательно стабилизируется», «проблемы разрешаются», «противодействие бандформирований снижается», в связи с чем соответствующие функции контртеррористического характера от федерального центра «постепенно переносятся на республиканские органы исполнительной власти». Неужели эта несостоятельная политика будет продолжаться? Неужели непонятно, что принятыми мерами правопорядок, определенный Конституцией РФ и российскими законами, на территории Чечни и в прилегающих к ней местностях, практически не установлен?
Я обратил внимание Иванова на тот факт, что до и во время разгара вооруженной фазы мятежа и военных операций по его подавлению со стороны чеченцев был осуществлен геноцид нечеченского населения. Кто не был физически уничтожен, был разорен, ограблен и изгнан. В Чечне тем самым утвердился расизм в самом зверском, бесчеловечном и кровавом виде. Тем не менее, власть отказывалась признавать этот факт. Сформированные погибшим А.Кадыровым органы исполнительной власти и корпоративные институты принципиально строились на основе этнической сегрегации, допускающей на руководящие должности лиц не по признакам профессионализма, добросовестности, безупречной лояльности и любви к Отечеству, а на началах этнического происхождения, клановости и личной преданности. Это трагически закончилось для самого главы Чечни и стало для него расплатой за русофобию и тупость. Столь же вредна и бесперспективна позиция федерального центра, позволившего под видом амнистии участников незаконных вооруженных формирований провести их широкомасштабную реабилитацию. Не говоря уже о пособниках мятежа, которых в Чечне, по данным генерала Шаманова, было не менее половины населения. Эти считаются реабилитированными от рождения, а после осуждения полковника Юрия Буданова — чуть ли не пострадавшей стороной, которой нужно выплачивать компенсации, собирая средства со всей России. О таких компенсациях договаривался в Чечне глава Минэкономразвития Герман Греф. Между тем, в личной «гвардии» Ахмата Кадырова, которая стала de facto «личной гвардией» его сына, состояли по одним сведениям 3500, по другим более 6000 боевиков, набранных из число активных участников бандформирований.
Я поставил перед главой СБ конкретные вопросы:
1) Действительно ли под видом силовых структур действуют незаконные вооруженные формирования, на которые нет никаких средств воздействия со стороны федеральных органов власти?
2) Какова численность вооруженных местных формирований в Чечне и насколько эта численность соответствует нормативам, принятым в других регионах страны?
3) Каков порядок финансирования подчиненных руководству Чечни вооруженных формирований? Какова доля федеральных средств, оплачивающих деятельность этих формирований?
4) Насколько практика содержания личных местных «гвардий» соответствует действующему в РФ законодательству, и какие действия предпринимаются, чтобы такое соответствие было всеобъемлющим?
5) Сколько с 1999 года было приговоров статьям УК 205 (терроризм), 209 (бандитизм), 210 (организация преступного сообщества, преступной организации), 279 (вооруженный мятеж), 281 (диверсия), 357 (геноцид)?
6) Каковы основания, не позволившие квалифицировать события в Чечне как мятеж?
7) Какие меры предполагаются для пресечения деления населения Чечни на чеченцев и нечеченцев, а в чеченской среде в зависимости от принадлежности к родоплеменным кланам?
Жесткость постановки вопросов вовсе не означала стремления как-то обидеть секретаря Совбеза, хотя и симпатий к нему у меня не было. Мои мотивы состояли лишь в том, что в течение многих лет органы государственной власти проводили в Чечне поразительно недальновидную и неэффективную политику, которая подрывала не только перспективы умиротворения чеченцев, но и основы российской государственности. Все вернулось почти в точности к ситуации 1996 года. Чего же стоят тогда все жертвы двух Чеченских войн?
Ответил мне все тот же генерал Соболев. С присущим ему цинизмом и в духе «не мешайте работать». Ни один мой вопрос не был рассмотрен и не получил ответа. Мне сообщали лишь, что процесс идет, и нужные решения принимаются. А всю прочую информацию я могу «запросить в соответствующих ведомствах».
Я предположил, что это письмо в полстранички — форма личного саботажа г-на Соболева. Ведь не может быть, чтобы в СБ вообще не имели никакой информации, не принимали никаких значимых решений, были не способны ответить на мои вопросы! Кроме того, Соболев подписал ответ как раз накануне вторжения боевиков в Ингушетию, в результате которого погибли около 100 человек, включая работников милиции. Складывалось правило: г-н Соболев писал мне всякие глупости, и они тут же опровергались жизнью. Я отметил это обстоятельство в письме к Иванову, где определил ответы Соболева как проявление цинизма. Я прямо написал: ответы г-на Соболева пахнут кровью и смертью. А также заявил, что эти ответ свидетельствуют о служебном несоответствии и нежелании исполнять закон. У секретаря СБ я потребовал провести служебное расследование и выяснить, каким образом столь бессодержательные и глупые тексты могут исходить от государственной структуры, чей интеллектуальный потенциал призван свидетельствовать о высоком уровне управления государством в целом.
Очередной ответ свидетельствовал о прогрессивной наглости со стороны г-на Соболева, а также о полной несостоятельности СБ РФ. За подписью некоего референта мне сообщалось, что ответы по существу дела мне даны, а депутатский статус не предоставляет мне права направления депутатского запроса ни в Совет Безопасности Российской Федерации, ни в аппарат Совета Безопасности Российской Федерации. Кроме того, этот «отставной козы барабанщик» объяснял мне, что мои обращения рассматриваются исключительно как обращения гражданина. Но поскольку они «не несут новой информации и выдержаны в оскорбительном тоне, решено дальнейшую переписку с Вами считать нецелесообразной».
Бюрократия уцепилась за невнятность законодательства, из которого невозможно понять, что есть депутатский запрос, а что — депутатское обращение. В принципе и то, и то имело один и тот же статус. Но запросы могут, согласно закону, отправляться только по определенному списку. Тем не менее, статус моих обращений недвусмысленно требовал отношения к ним в соответствии со статусом депутата. Определять их как «письма граждан» закон не позволял.
Трудно в такой ситуации не рассвирепеть. Я запросил в соответствии с Ст. 17, п.2 «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» у главы СБ информацию по следующим пунктам:
1. Кем лично принято решение о том, что дальнейшая переписка со мной нецелесообразна?
2. По чьему поручению действовал референт аппарата Совета Безопасности, направляя мне письмо?
3. Что именно свидетельствует о том, что мои обращения в Совет Безопасности «выдержаны в оскорбительном тоне»?
4. На каком основании мои обращения как депутата Государственной Думы рассматриваются в аппарате Совета Безопасности в качестве обращения гражданина Российской Федерации, а не в соответствии с законом «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»?
5. Существует ли практика содержательных ответов на депутатские обращения, направляемые в адрес Секретаря Совета Безопасности, или таковые обращения все считаются просто обращениями граждан и ответы по существу на них никогда не даются?
6. Участвует ли аппарат Совета Безопасности в разработке государственной стратегии, политики федеральной власти в Чеченской Республике? Если да, то кто лично отвечает за эту работу? Проводилась ли оценка его работы, и какова была эта оценка после убийства президента Чечни и после нападения боевиков на Ингушетию?
7. Имеются ли в аппарате Совета Безопасности разработанные рекомендации по урегулированию ситуации в Чечне в текущих условиях и прогнозные разработки развития этой ситуации? Если да, то имею ли я возможность ознакомиться с таковыми рекомендациями и прогнозами?
8. Кому лично было поручено изучение моих предшествующих обращений и рассмотрение содержавшихся в них предложений? Какова оценка этих обращений и предложений в части их содержания (а не оценки тона)? Существует ли у меня, как у депутата Государственной Думы, возможность ознакомиться с этими оценками и аргументами, их обосновывающими? Существует ли у меня возможность узнать эти оценки и эти аргументы в письменном виде? В состоянии ли аппарат Совета Безопасности документально зафиксировать эти оценки и аргументы и предоставить их мне?
Негодяй Соболев ответил мне в двух коротких абзацах, что мои обращения рассмотрены, и ответы даны в рамках имеющихся полномочий. Ни на один из поставленных мной вопросов снова не было никакой реакции.
Параллельно я запросил Генеральную прокуратуру по поводу правовой оценки действий должностных лиц СБ, отказывающихся отвечать на мои обращения. Из поступившего ответа стало ясно, что «конституционный орган», которым является СБ, оказывается вне действия закона только потому, что прокуратуре в работу его аппарата вмешиваться не позволено. Совет Безопасности в перечень структур, за деятельностью которых осуществляется прокурорский надзор (таковой имеется в законе «О прокуратуре») не входит. Иными словами, существует такой орган власти, который вполне может позволить себе преступать закон. Абсурд ситуации прорисовался в законченном виде.
Чиновники СБ по закону, вроде бы, обязаны отвечать, но если не ответят — ничего не поделаешь. Привлечь к ответственности чиновников аппарата СБ невозможно. Поэтому в ответах депутату пишут явную глупость и ложь. Соболев прямо-таки рекорд поставил: ни разу не давал ответ ни на один вопрос.
Как контрход я направил И.С.Иванову правительственную телеграмму с требованием принять меня. Удовлетворить такое требование обязывала норма закона о статусе депутата. И тут система попыталась смягчиться. Мне позвонил еще один сотрудник аппарата СБ и предложил по-сотрудничать неформально, без предъявления взаимных претензий. Мол, дайте нам свои предложения. Предложения были оперативно и во всех возможных подробностях сформулированы и отправлены в обмен на обещание удовлетворить мои вопросы. Оказалось, что сотрудник СБ просто обманул. Никаких ответов я так и не получил. Поэтому вновь стал тревожить Секретаря СБ, предлагая ему сообщить о результатах рассмотрения моей разработки основ стратегии борьбы с терроризмом. С интервалами в месяц я отправил три безответных обращения к И.С.Иванову. Ответов не было. Неужели «работа над ошибками» в Аппарате СБ не ведется, и прежние документы прячутся лишь ради того, чтобы сохранить «честь мундира» — пусть даже ценой продолжения неэффективной политики?
Последние письмо я писал после потрясения Беслана. Горы трупов детей свидетельствовали о полной несостоятельности государственной политики против терроризма. Я не мог оставить СБ в покое: перед глазами у меня были обгоревшие детские тела. «А что перед глазами у Вас?», — спрашивал я Игоря Иванова. Ответа не было. Я представлял себе глаза чиновника, заплывшие бельмами и совершенно обессмысленными.
Беслан обострил глухариную болезнь властных «верхов». На Беслан им было просто нечего ответить. Власть не могла она ответить депутату. Оставалось обращаться к президенту — гаранту Конституции, законности и одновременно — главе Совета Безопасности, вышестоящему и непосредственному начальнику оглохшего и ослепшего И.С.Иванова. Я сообщил президенту, что на протяжении всего 2004 года предпринимал попытки выяснить причины провальной политики в отношении Чечни и источник экспертной ошибки, неверно представившей ситуацию в Чечне руководству страны. А также о циничной позиции чиновников аппарата СБ. Я не преминул отметить, что характерным обстоятельством моей переписки с аппаратом СБ было совпадение «успокаивающих» ответов на мои обращения с новыми терактами. Цинично-спокойные ответы-отписки я получил после убийства Ахмата Кадырова, после вторжения боевиков в Ингушетию, накануне взрыва двух самолетов и Бесланской трагедии. Эти фатальные совпадения ни коим образом не поколебали сотрудников СБ в их уверенности, что они все делают правильно и не обязаны информировать о своей работе депутата Госдумы.
Также мне попалась на глаза публикация интервью руководителя парламентской комиссии по Беслану А.Торшина (МК 22.12.2004), который напомнил, что одна из главных функций СБ — немедленный анализ ситуации и немедленная же выработка оперативных решений. Эта функция обеспечивается средствами «ситуационной комнаты». По данным Торшина, уникальные возможности СБ во время трагедии в Беслане не были задействованы. В то же время Секретарь СБ И.С.Иванов в своих интервью говорил о том, что СБ будет заниматься выработкой очередной Концепции национальной безопасности. О «работе над ошибками» по прежней версии Концепции, как и о стратегической ошибке в выстраивании политики в Чечне, речи нигде не шло.
Они вообще не считают, что хоть в чем-то ошибаются. То есть, вполне сознательно наносят вред нашей стране и нашему народу. В статусе первого заместителя председателя Совета Федерации ФС РФ Александр Торшин на «Радио России» 10.04.2009, сказал: «…процессы идут не только дерусификации, будем говорить так, Северного Кавказа, но идут процессы и чеченизации просторов Российской Федерации. Вообще-то, это надо приветствовать». Это уже не глухарь, а самый отъявленный враг русского народа. И вообще эти люди глухарями только прикидываются. Мол, чего-то они недослышали, а мы их недопоняли. На самом деле за этой игрой скрывается ненависть к нам, русским. Самая свирепая и подлая. Какими бы тюфяками внешне вся эта публика ни выглядела. Они — соучастники мятежа, его организаторы и вдохновители.
Мне пришлось сделать тот же вывод по поводу СБ. Этот орган превратился в бюрократическую структуры, которая не в состоянии отвечать ни за стратегические вопросы национальной безопасности, ни оказывать политическому руководству страны помощь в оперативных решениях. Он превратился в прикрытие для враждебной нам деятельности и соучастия в чеченском бандитизме.
Что я получаю по своему обращению от «гаранта Конституции», у которого перед глазами тоже были трупы бесланских детей? А ничего. Претензии были направлены на рассмотрение тем, в адрес кого они были выдвинуты. Примерно так поступают среди управдомов. Ответ мне пришел от некоего Соболевского помощника, который сообщил, что все ответы на мои вопросы уже даны в установленном порядке. Фамилия чиновника соответствовала политике властной «вертикали» — Криволапов. Цикл замкнулся. Больше ждать от этой власти было нечего. Ясно, что «рассмотрение и учет в работе» моих материалов означали просто размещение моих их в мусорной корзине. Власти было не до стратегии, не до терроризма, не до мятежа. Она занималась более важными делами — присвоением богатств страны, формированием олигархии, торговлей национальными интересам. Она была заодно с бандитам и врагами России.
Уже в 2008 году по другому поводу я оказался в СБ в кабинете одного из замов Секретаря. Когда я вошел, в приемной никого не было. За десять минут моего ожидания телефон ни разу не звякнул. Потом прибежала веселая дама-референт, и я был принят высоким начальством. За четверть часа разговора телефон также ни разу не звякнул. По теме разговора мне также было понятно, что этот человек не в курсе дела и никому не нужен. Ничего не изменилось: СБ остался отстойником для пенсионеров с большими звездами.
Задавать вопрос «кто виноват?» больше не надо. Источник обнаружил себя. «Мистер Путин» расшифровался. Причем документально. Кто-то скажет: а это с самого начала было ясно. Нет, не было. И до сих пор не всем ясно. У Путина был шанс что-то изменить в жизни страны. Но Путин просто ничего и стал делать. Он «мочил же в сортире» только когда надо было захватывать власть. А потом устранился от дел. Ему интереснее было ездить по миру, смотреть, как реагируют на его скабрезные шуточки, позировать в разных мужественных позах перед телекамерами (с усыпленной тигрицей, с дельфинами, с удочками), умилять публику своей непосредственностью (целовать мальчика в животик, рыбину — в зубастую пасть, лошадь — в холку). Главное — быть на виду. И не говорите президенту ничего о Чечне, не тревожьте его Бесланом! Избавьте его от тревог, треплющих нервы!
Дела в Чечне — очень примечательный тест для любого политика. Для Путина это тоже был тест. Он прошел его на «два». Не потому что у него «нет других писателей», а потому что он таких «писателей» сам набирает и потом вместе с ними старается прикидываться глухарем — не слышать болезненного пульса страны, мучимой загноившейся раной по имени Чечня.
Трагедия Беслана
Самый чудовищный в российской истории теракт унес жизни 331 человек, 227 раненых попали в больницы в тяжелом состоянии.
Страдальческое лицо Путина, произносившего обращение к нации 4 сентября 2004 года, предвещало крутые меры. Верховный главнокомандующий, а не какой-нибудь кухонный философ, заявил, что России объявлена война. Для добропорядочного гражданина это означало необходимость немедленно ответить на призыв. Страна напряглась в ожидании команды выступить на защиту Отечества. Команды не последовало. Последовала тотальная ложь.
Несмотря на очевидную недееспособность власти, своими постами за трагедию расплатились только осетинские чиновники. Иные позднее получили другие высокие назначения, иные отправились на пенсию. Виноватых не нашлось. На своих местах остались директор ФСБ и глава МВД. Надолго задержались в своих креслах бывшие «силовики», посаженные на президентские посты в Ингушетии и Чечне. А Путин, хотя он высказался в своем обращении к нации достаточно ясно и резко, пошел на попятную и не стал трогать кадровый состав силовых структур, которые продемонстрировали свою несостоятельность.
В этом деле телевидение сыграло свою гнусную роль. Буквально за полчаса до трагической развязки в программе «Вести» было продемонстрировано обращение жены одного из террористов, которая сказала: «Спаси детей. Сделай все по Аллаху, а не по своей воле». И показали ее детей. Это можно было трактовать только так: забудь о жалости и милосердии, на твоей стороне будет Аллах. Сообщения о том, что «спецслужбы работают по родственной базе террористов» также взвинтили обстановку в захваченной школе. Публикация данных о специфической деятельности по противодействию бандитам спровоцировала еще большую жестокость.
Показательно, что руководители местного ВГТРК продали «сигнал» зарубежной компании CNN, которая начала вещать из Беслана первой. Кто-то погибал от рук бандитов, а кто-то делал свой маленький бизнес.
Постыдными и провокационными были действия отдельных политиков. Руководство «Единой России», вместо того чтобы собирать депутатов на сессию из отпусков, решило прислать в Беслан свою делегацию — пофигурировать на телеэкране. Они бы сделали это, но не успели. Зато успел покрутиться на телевидении Б.Грызлов, рассуждавший, что придется кое-где ограничивать права человека. Рамзан Кадыров намеревался прислать в Беслан делегацию чеченских женщин для митинга против терроризма. В штабе, руководящим операцией по освобождении заложников, нашлись люди, которые поняли, что этих женщин родственники заложников просто разорвут на части, а ситуация в городе выйдет из-под контроля.
Представители спецслужб все время очень ревниво относились к действиям всех остальных государственных структур. Когда от одного из заложников, освобожденных Аушевым, была получена информация, что в спортзале сидит не менее 1000 человек, последовал чванливый ответ: не надо сеять панику, их там не больше 300. Примерно такое же отношение было к попыткам организовать подготовку скорой медицинской помощи на случай непредвиденного развития событий и большого числа пострадавших. Поначалу это дало эффект: недалеко от школы выстроились около 40 карет скорой помощи. Но какой-то умник распорядился их оттуда убрать, и когда помощь понадобилась, машины буквально по одной пробивались к школе через толпу.
Как только чиновники обнаружили, что общество не делает из трагедии далеко идущих выводов на счет власти, они тут же забрали назад свои резкие заявления. Послание к нации, с которым выступил Путин, содержало множество прозрачных намеков, но через неделю эти намеки уже были только намеками. Никаких реальных действий президент так и не совершил, никаких выводов о своем месте в системе власти и своей ответственности за случившееся не сделал.
Не случайно организацией траурных митингов занимался не президент и не его соратники. Главным организатором митинга в Москве стал мэр Лужков, превративший акт народного гнева и скорби в личное дело, в пропаганду своей персоны. Когда первый канал телевидения приглашал людей на митинг, все думали, что это идет от Путина, что на митинге выступят первые лица государства. Получилось, что на трибуне собралась всякая шушера — как в советские времена в народ вещали никому не ведомые персонажи, а подвел итог пустопорожней болтовне Лужков, раскритиковавший правительство.
На митинг приехал Дмитрий Рогозин, стремящийся рассказать, как все было на самом деле. Он трое суток не спал, работая в штабе рядом с захваченной террористами школой, а теперь гнал машину от далекого Пскова, лишь бы успеть выступить перед взволнованными гражданами. Но лужковские холуи встали стеной и не пустили председателя фракции «Родина» на трибуну. За трибуной вальяжно ходил Андрей Исаев — одни из руководителей фракции «Единая Россия» в Госдуме. Он не отказал себе в удовольствии задеть смертельно уставшего Рогозина сарказмом: «Вот когда, Дмитрий Олегович, Вы станете мэром Москвы, тогда и будете выступать на московских митингах без ограничений».
Кто же выступал вместо политиков, вместо государственных мужей, вместо очевидцев? Карикатурно изломанный артист еврей Райкин, телеведущий еврей Соловьев, пара второразрядных «представителей конфессий» и еще целый выводок записных ораторов «от народа». Тут же стояли самые важные «отцы города» — глава Мосгордумы (его роль — пресечение каких-либо разговоров даже о временном закрытии Москвы для мигрантов), вечно бубнящий несуразицы адвокат Резник, вечный вице-мэр Шанцев, порхнувшая сюда неизвестно откуда гимнастка Кабаева и еще дюжина всякой придворной челяди. На этом фоне Лужков должен был выглядеть просто златоустом: только он смог произнести пару-тройку осмысленных фраз, оставшись в целом в рамках бессмыслицы, которую наговорили его пафосные холуи.
Море людское, заполнившее площадь, было обильно разбавлено заказными митинговщиками, которых по приказу Лужкова свозили из муниципальных структур и институтов столицы автобусами. Как только люди увидели состав выступающих, они стали расходиться. Было хорошо видно, что с первыми же словами, произнесенными в микрофон, образовался мощный поток в сторону метро.
А чем занялись другие сегменты власти?
Секретарь Совбеза И.Иванов просто затеял разработку очередной концепции безопасности. Это лучший способ уклониться от ответственности — потеть над многостраничным документом, сделав вид, что работа над ошибками — дело совершенно не нужное. Этот специалист по тому «как организовать провал» снова намерен был выяснять, что такое национальная безопасность и привлекать для этого общественность на «круглые столы».
Министр обороны С.Иванов почему-то стал говорить о множестве террористов, прибывающих к нам из десятков стран. Кажется он, не мог оторваться от стиля мышления, привитого по прежнему месту работы — в спецслужбах. Именно поэтому он подвергся тайным насмешкам своих подчиненных, которые не могли не видеть непрофессионализма министра, который дает команду подготовить учения по отражению нападения террористов на походную колонну стрелкового полка. Им без всяких учений ясно, что террористы на такие колонные не нападают, а нападают на невооруженных граждан. Потому что полк обладает такой огневой мощью, что за сколько секунд он уничтожит любую группу боевиков. Правда, это в боевой обстановке. Вот если скажут, что стрелять нельзя (как было не раз в Чечне), то придется туго, и террорист будет потешаться над солдатом, руки которого повязаны изменниками, засевшими в Кремле и в штабах.
Министр внутренних дел и директор Федеральной службы безопасности, представ перед Государственной Думой, готовы были говорить только банальности и отчитываться о сотнях предотвращенных терактов. Раньше все это называлось просто уголовщиной. Теперь — ради успокоения обывателя и в угоду политической конъюнктуре — переписывали с одной уголовной статьи на другую. Помнится, после убийства чеченского президента А.Кадырова шеф МВД Р. Нургалиев предлагал формировать строительные бригады чеченцев и платить им столько, чтобы их не тянуло закладывать фугасы. Теперь про идею забыли: стало ясно, что подкладывают фугасы из «спортивного интереса», свойственного изуверам, а вовсе не от безысходной нищеты.
" Тем не менее, о недостатке рабочих мест толковали все силовые министры — как будто Кавказ размещен за Полярным кругом, а не в самом выгодной климатической зоне России, где природа за труд воздает сторицей.
Генеральный прокурор с отчаянья предложил брать в заложники родственников террористов. И никто не поддержал его — не сказал, что именно так и следует поступать. Отчаянье было перед неизбежной отставкой. Но не за провороненный теракт. Просто в силу внутривластных интриг. И не был никогда настоящим борцом с преступностью прокурор В.Устинов, и на посту главы Минюста не стал ничем иным, кроме того, чем был — чиновником. На посту полпреда президента в ЮФО он прославился лакейской характеристикой Рамзана Кадырова: «Та критика, которая сегодня еще дается в адрес ЧР, что здесь не достаточно демократии, я считаю, что во многом надуманна… Кадыров человек по своей натуре глубоко духовный и нравственный» (август 2009).
Власть, напрягшаяся от злого выступления Путина 4 сентября, снова обмякла и принялась за свое — врать и подличать. Сигналом для расслабления было объявление, что расследование трагедии будет происходить в закрытом режиме, а парламентское расследование будет возглавлять ни к чему не пригодный спикер верхней палаты Миронов. Расследование было затянуто. Случайно оказавшиеся в Беслане в гуще событий депутаты думской «Родины» во главе с Дмитрием Рогозиным не были включены в состав парламентской комиссии. Фракция «Родина», принявшая решение о недоверии правительству и приступившая к процедуре сбора подписей для вынесения этого вопроса на голосование Думы, была подвергнута информационной блокаде. Ни один канал телевидения не сообщил об оценках лидеров «Родины», сделанных в отношении высокопоставленных должностных лиц. Под руководством штатных административных интриганов продолжилась линия «не пускать Рогозина никуда».
Создание парламентской комиссии по Беслану под патронажем С.Миронова имело одну цель: перехватить инициативу и спрятать концы в воду. В Совете Федерации не нашлось мужественных людей, которые встали бы на сторону общества против изменников, скрывших истинные причины трагедии и истинных ее виновников. Среди депутатов Госдумы, включенных в состав комиссии, лишь депутат фракции «Родина» Юрий Петрович Савельев проявил себя как гражданин и народный представитель. Я горжусь тем, что близко знаком с этим человеком. На праздновании его 70-летиия (как раз накануне завершения наших депутатских полномочий в 2007 году), я сказал: «Если меня спросят, знаю ли я настоящих героев, то я первым делом вспомню Юрия Петровича. Он совершил гражданский подвиг, проведя собственный анализ причин Бесланской трагедии».
Юрием Савельевым, доктором технических наук, специалистом-взрывотехником высшей пробы по материалам дела (показаниям свидетелей и фотоматериалам) было достоверно установлено, что спортзал с заложниками был взорван не захватившими их боевиками, а выстрелами из гранатомета и огнемета извне. Расчет стрелявших был в том, чтобы убить боевика, который стоял на кнопке взрывного механизма. Боевик был сметен выстрелом, но взрыва не последовало. Заложников, которые остались живы после этого обстрела, боевики вывели в другие помещения, и только потом взрывные устройства сработали от начавшегося пожара. Кому-то (думаю, что услужить хотели все-таки Путину) надо было «разрешить ситуацию». И ее разрешили таким живодерским способом. А потом били из всех стволов, не щадя ни заложников, ни боевиков. Каждый из них — лишняя информация о том, кто отправил на тот свет бесланских детей.
Альтернативый доклад Юрия Петровича не был допущен к широкому разглашению. Его доводы не были затребованы следствием, не рассматривались властями, не замечены высшим руководством страны. Официальное следствие не раз заходило в тупик, пока тема не сошла с первых страниц газет. Никто толком не заметил, когда оно все же закончилось. Парламентское расследование завершилось фальшивкой — докладом, который не показали даже депутатам. Глава комиссии лишь огласил выводы, которые просто повторяли прокурорские предположения. При оглашении этих выводов фракция «Родина» в «дебатах» (по 5 минут от фракции) дала возможность выступить Ю.П.Савельеву. Он не оставил камня на камне на выводах парламентской комиссии. Но это ничего не изменило. Власть решила скрыть правду.
За полгода после Беслана власть отчиталась только одним — убийством Аслана Масхадова. Его труп в луже крови показывали многократно все государственные телеканалы, нарочно подчеркивая, что это подарок женщинам к 8 марта. Это была прямая цитата из уст другого головореза — Р. Кадырова, которому за особые заслуги Путин вручил звание Героя России. Между тем, смертоубийство в Чечне и разгул чеченской мафии по стране продолжались. Смерть Масхадова никаких препятствий этому не создала. Просто потому, что власть — соучастник преступлений бандитов. Одних бандитов она вяло преследует, с другими дружит. Дружит против России и русских.
Власть ничтожеств и изменников дала фальшивый сигнал к атаке на врагов Отечества, а сама скрылась в штабных блиндажах. Рванувшиеся в бой оказались в дураках и даже были обвинены в «возбуждении и разжигании». Их теперь выставляли не просто экзальтированными чудаками, а прямо фашистами. Больше всего досталось «Родине», поскольку именно эта партия реально готова была биться за Россию на всех фронтах, исполосовавших нашу страну. Власть занялась не битвой с врагом, ясным и всем видным, а растаскиванием последних ресурсов сопротивления — всего, что не удалось разграбить ельцинистам и что нации все-таки удается, вопреки той же власти, производить.
Через полтора года после трагедии я побывал во Владикавказе. Только здесь еще помнили Беслан. Но и среди осетин эта память была однобокой. Их добродушие и хлебосольство как-то причудливо сочеталось с общим негативом в адрес русского политического движения, которое считали опасным. Но разве русские убили осетинских детей? Разве русский народ не воспринял трагедию Беслана как свою собственную? Разве русские политики не сделали все возможное, чтобы правда о Беслане не растворилась в потоках лжи, распространенной по поручению федеральной власти? Нет, многим важнее была не солидарность русских и осетин, а поиск конфликтных точек, поиск повода для того, чтобы почувствовать себя оскорбленными. И такой повод находили в агитационном ролике «Родины» на выборах в Москве об арбузных корках. О нем судили именно так, чтобы считать себя оскорбленными.
Мне довелось потратить немало усилий, чтобы осетинские активисты «Родины» поняли, что для нас значил этот ролик. До усталости голосовых связок я говорил с малыми группами и в аудитории на сотню человек, до отвращения пил осетинское вино в бесконечных застольях — лишь бы понимание между русскими и осетинами продвинулось хоть на один шаг. Продвинулось. Но этого шага оказалось мало. Трагедия Беслана не прояснила сознание ни русских, ни осетин, ни чиновников, ни руководителей государства.
Россия была обречена на беспрерывную череду актов террора. Северный Кавказ в последующие годы был территорией, где убийства и взрывы стали обычным делом. А в 2010 году состоялся двойной взрыв в московском метро, в очередной раз шокировавший публику и заставивший руководство страны сделать каменные лица и сказать грозные слова. Но прошло несколько месяцев, и все было снова забыто. Достаточно сказать публике, что все организаторы теракта уничтожены. Почему не задержаны? Потому что в этом случае надо было бы докапываться до корней и причин терроризма. А они прямо связаны с Кремлем.
Экспортный терроризм
Разговоры о международном терроризме — одна из самых любимых тем наших государственных мужей. А есть ли основания, чтобы говорить в России именно о международном терроризме? Ведь большинство террористов в России — чеченцы или кавказцы, очень редко — выходцы из «дальнего зарубежья». Что у них есть хозяева за рубежом — наверняка. Но как догадку подтвердить? Есть только один путь — опереться на документально установленные факты.
А таковыми можно считать только установленные факты иностранного гражданства. Численность и география экспортного терроризма скажет о многом. В том числе и о работе наших спецслужб и дипломатов.
После трагедии в Беслане (сентябрь 2004), когда все СМИ были вновь заполнены сообщениями о международном терроризме, который чуть ли не объявил войну нашей стране, я попытался выяснить принадлежность террористов к иностранным государствам, обратившись в МИД. Заодно спросил, подавались ли соответствующим государствам дипломатические ноты по этому поводу? И предпринимались ли меры, связанные с ограничением въезда граждан этих стран на территорию России? Параллельно был направлен запрос в ФСБ в связи с массовым вбросом в СМИ информации о том, что среди боевиков в Беслане были русские. Я пытался также прощупать, делает ли что-нибудь полезное для ФСБ президентская структура — СБ, задача которой определять стратегию. Без стратегии, какая может быть успешность в работе спецслужб?
Надо было уточнить, кто и каким образом установил, что среди бандитов были именно русские. Может быть славянскую внешность, не вдаваясь в подробности, кто-то отнес только и исключительно к русским? А видел ли кто-то в Беслане боевиков со славянской внешностью? Кто первым предложил публике информацию о том, что среди бандитов имеются представители русского народа или славяне? Поскольку подобная информация, появившаяся так быстро, как будто она была заготовлена заранее (еще трупы не были похоронены), я пытался узнать планирует ли ФСБ какие-либо меры противодействия распространению подстрекательской информации со стороны ведущих СМИ и отдельных журналистов? По поводу СБ я задал вопросы о том, поступают ли в ФСБ от этой структуры руководящие указания, решения, аналитические материалы по «чеченской проблеме» и противодействию терроризму?
Ответ из МИДа был ласков и бесполезен. Сообщалось, что в связи с участием иностранных граждан в незаконных вооруженных формированиях в Чечне, МИД обращался, в частности, властям Турции и Германии. В 2002–2004 гг. несколько граждан этих стран было уничтожено в ходе операций в Чечне. Все прочее (ужесточение условий выдачи виз, усиление контроля за въездом на территорию ЮФО и въездом из стран, откуда приходит основной поток нелегальных иммигрантов) представляло собой отчет о несделанном — о том, что трудно проверить и выявить степень продуктивности предпринимаемых мер. Серьезные ограничения в связи с событиями в Беслане были временно введены только при пересечении российско-азербайджанской и российско-грузинской границы.
Удивительно, но МИД расписался в том, что не обладает данными о расследовании террористических актов, что означает и полную невозможность противодействовать терроризму на дипломатическом уровне. МИД при Путине, как я понял, вообще оказался структурой, заведенной не для того, чтобы работать на результат. Это место отбывания пожизненной или временной нетрудоспособности для «золотой молодежи» и политических пенсионеров. Поэтому МИД не только не владел информацией, но ею и не интересовался.
По поводу национальной принадлежности террористом в МИДе мне было предложено обращаться в «компетентные органы». Прямо не было сказано, куда направлять запросы, но кроме ФСБ обращаться было некуда.
Ответ на мой запрос пришел оперативно — по секретной почте. Увы, в нем не было ничего действительно важного, кроме примерной численности террористов-иностранцев и заверений, что личности боевиков, убитых в Беслане, устанавливаются. Можно было только подивиться, что многолетняя истерия высших госчиновников и подконтрольных им СМИ касались всего-то нескольких десятков человек, чья принадлежность к иностранным государствам установлена. Трудно найти этому иную характеристику, кроме как «наглая ложь».
Вопрос о «русском следе» был более интересен. К нему прилагались выдержки из сообщений прессы и информагентств, снятые из интернета. Получалось, что тему «русского следа» запустило в прессу руководство Осетии. Но при этом ФСБ не имеет иных источников, кроме интернета! Хороша же спецслужба, которая не владеет фактами и не имеет собственных источников информации!
Из ФСБ мне также сообщили, что эта служба «не наделена функциями по обнародованию решений Совета Безопасности Российской Федерации». Разумеется, я не призывал к какому-либо обнародованию решений СБ, а лишь стремился выяснить, какие документы поступили в адрес ФСБ из Совета Безопасности. Мне это было нужно, чтобы понять источник стратегической ошибки в кавказской политике, наметившейся примерно в середине 2000 года, и повлекшей за собой значительные человеческие жертвы и разгул терроризма на территории РФ. Я хотел знать, чем руководствовалась и чем руководствуется ФСБ в своих действиях против чеченских банд? Существует ли документ, в котором изложена стратегия и общие принципы решения «чеченской проблемы», которым руководствуется ФСБ?
С новым запросом ситуация прояснилась: тут ни слова не добьешься. Закон законом, но он не для спецслужб писан. ФСБ законы соблюдать не собирается. Тем самым, мои предположения о том, что данная служба не ориентирована на интересы страны и наследует свои методы от живодеров-чекистов и изменников из КГБ, сдавших страну в 1991 г., еще раз косвенно подтвердились.
Пришлось обращаться в Генеральную прокуратуру с просьбой предоставить мне полные сведения за последние пять лет о гражданстве иностранных лиц, принимавших участие в террористической деятельности или участвовавших в незаконных вооруженных формированиях на территории России (включая не только задержанных и осужденных, но и уничтоженных). Оказалось, что задача для ГП более чем сложная. Меня проинформировали, что по моему обращению организован сбор информации. То есть, такой информации у ГП на момент Бесланской трагедии не было. Занятно, что при сборе сведений ГП обратилось с запросами в МВД, ФСБ и к прокурорам ряда субъектов РФ.
К концу 2004 года была получена следующая информация. В 2000–2004 годах к уголовной ответственности за терроризм (ст. 205 УК РФ) и организацию незаконного вооруженного формирования или участия в нем (ст. 208 УК РФ) привлечено 15 иностранных граждан. Из них: 3 гражданина Азербайджана, 3 — Иордании, 2 — Турции, 2 — Китая, 1 — Грузии, 1 — Алжира, 1 — Ирака, 1 — Саудовской Аравии, 1 — Великобритании. Все они, за исключением китайских граждан, судами Российской Федерации признаны виновными в инкриминируемых им преступлениях и осуждены к различным срокам лишения свободы. Задержанным в марте 2000 года на территории Чеченской Республики гражданам КНР было предъявлено обвинение в участии в вооруженном формировании (ч. 2 ст. 208 УК РФ) и незаконном пересечении границы (ч. 2 ст. 322 УК РФ). По ходатайству китайской стороны они были переданы правоохранительным органам Китая и осуждены на родине.
За организацию террористических акций и совершение ряда других преступлений во всероссийском и международном розыске находятся два иностранца (граждане Саудовской Аравии и Иордании). В материалах уголовных дел о преступлениях террористического характера имеются данные о гибели пяти иностранных граждан (Саудовская Аравия — 1, Великобритания — 1, Турция — 1, личности двух преступников, участников нападения на школу в г. Беслане, на тот момент были еще точно не установлены, предположительно, это были граждане Саудовской Аравии и Египта).
Мне также было сообщено, что по оперативным сведениям ФСБ России за последние пять лет в числе участников террористических групп и незаконных вооруженных формирований, а также лиц, оказывавших поддержку террористам, выявлены граждане 42 государств, больше всего — из Йемена, Иордании, Египта.
Результат получен. Пора было поделиться этой радостью с МИД и напомнить о моих прежних вопросах и предложениях. Я представил на рассмотрение данные, по которым можно было предъявлять претензии странам, из которых к нам прибывали террористы и боевики. Но МИД охладил мой энтузиазм. Как я теперь понимаю, это такой бюрократический стиль — чтобы успокоить свою и чужую совесть. И закрыть вопрос, как будто его и не было. Оказывается «МИД России самым тщательным и серьезным образом обрабатывает поступающие от Генпрокуратуры России и компетентных российских ведомств данные по каждому из «заявленных» иностранных граждан. Такая работа ведется постоянно. Безусловно, в каждом конкретном случае после проведения соответствующей проверки предпринимаем необходимые шаги по дипломатическим и иным имеющимся каналам в отношении тех или иных государств». Но это противоречило предшествующему сообщению, что МИД никакой информации не имел, а потому отправлял меня за сведениями в «компетентные органы»! Тогда был обман или обманывали теперь?
«По известным причинам не всегда предаем широкой известности факты наших демаршей». То есть, лгать депутату — это в порядке вещей. В порядке защиты служебной тайны и «известных причин»! «Вынуждены заметить, что у многих наших зарубежных партнеров также могут иметься основания предъявлять претензии и к России с учетом того, что наши соотечественники, фигурирующие в глазах иностранцев под вывеской «чеченские боевики», систематически появляются в различных «горячих точках» мира». Вот это признание дорогого стоит. Получалось, что «международный терроризм» — дело вовсе не зарубежное. Оказывается, с российской территории тоже исходит террористическая угроза, и власти с этим ничего не могут поделать. А раз так, то нет возможности предъявить претензии, скажем Ливану, Саудовской Аравии, Марокко, Йемену, Пакистану! Они ведь могут нас обвинить в том, что от нас к ним тоже едут террористы и убивают, взрывают, грабят!
Такое впечатление, что МИД в этом вопросе был совершенно не в курсе дела и подписавший письмо Специальный представитель Президента РФ по вопросам международного сотрудничества в борьбе с терроризмом и транснациональной организованной преступностью А.Сафонов просто лжец. Это был тот же самый чиновник, который подписал первый ответ, где значилось: «МИД России не располагает материалами расследования террористических актов». Теперь он же: «МИД России самым тщательным и серьезным образом обрабатывает поступающие от Генпрокуратуры России и компетентных российских ведомств данные по каждому из «заявленных» иностранных граждан. Такая работа ведется постоянно».
Я бы такого сотрудника уволил бы сразу. Но в путинской России такие, напротив, поднимались по ступеням государственной службы все выше и выше. Правда, лично Анатолий Сафронов высоко не взлетел. Его имитаторские таланты были задействованы на посту заместителя директора Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ (2009), где он только и мог заявлять, что «поддержка соотечественников относится к одному из приоритетов российской внешней политики». Это тоже ложь. Но по другому поводу, о котором мы поговорим в других разделах.
Неотомщенные жертвы мятежа
В 1999 году против бандитского режима, окопавшегося в Чечне, Путин начал войну, которая обеспечила ему победу на президентских выборах, а незадолго до того — подавляющее большинство наскоро собранной парии «Единство» в Госдуме. Но мятеж не был подавлен, с мятежниками предпочли «договариваться» и уже с 2001 года Чечня вновь снова стала фактически независимой республикой и управлялась не по российским законом. Свидетельство тому — попытки расследования преступлений бандитов и мятежников, которые натыкались на полное отсутствие интереса органов прокуратуры к такого рода занятиям. Мне пришлось не раз сталкиваться со стремлением бюрократии перевернуть эту страницу современной истории и забыть о ней.
Поводом для выяснения давних уже обстоятельств убийства православных священников в Чечне стало обращение Русской общины, которая вместе со всеми русскими была изгнана из Чечни, а от российских властей не получила никакой помощи. Не встретили понимания у чиновников и попытки общины расследовать многие преступления. В том числе и это — особенно циничное.
В октябре 2004 года ко мне обратился наш старый соратник по Конгрессу русских общин Олег Маковеев, добивавшийся законных действий по расследованию ряда преступлений. Он просил поднять перед правоохранительными органами вопрос в связи с розыском похищенных в ЧР православных священников, бывших в 1996–1999 годах настоятелями грозненского храма Архангела Михаила — иерея Анатолия Чистоусова и иеромонаха Захарии Ямпольского. Отец Анатолий был похищен в ЧР в январе 1996 года вместе с прибывшим тогда из Москвы представителем Московской патриархии о. Сергия Жигулина. Позднее отец Сергий был освобожден и возвратился в Москву, а отец Анатолий оставался в плену. Только в 2000 году, после ввода в Чечню российских войск появились некоторые отрывочные сведения о его гибели, но место его захоронения не было найдено. Иеромонах Захария был похищен в июле 1999 года прямо из церкви. Вместе с ним был похищен и увезен в неизвестном направлении староста церковного прихода Яков Рящин. Об их судьбе не было никаких сведений. Расследовались ли эти дела, также никто не знал. Розыском похищенных никто не занимался.
Используя свой депутатский статус, я написал запрос Генеральному прокурору В.В. Устинову, в котором поставил вопросы, связанные с фактами похищений и порядком их расследования. Но вместо ответа мне пришло уведомление от заместителя Генпрокурора Н.И.Шепеля, который сообщил, что мой запрос переправлен и.о. прокурора ЧР. Ни фамилии чеченского прокурора, ни причин, по которым Генпрокуратура оказалась не готовой отвечать на мои вопросы, не указывалось.
По истечении месяца (законный срок направления ответа) я не получил никакой информации и направил запрос прокурору ЧР В.П. Кравченко с требованием ответить на поставленные мной вопросы. Я потребовал у Генеральной прокуратуры разъяснить мне ситуацию. И только в июне следующего (2005 года) пришел ответ от все того же Шепеля, который за это время повысил свой класс государственного советника юстиции с 2 на 1-й. Этот первоклассный советник сообщил мне известные факты о похищении священников, а также о возбуждении дел по этим фактам непосредственно после похищений. Следствием установлено, что первое похищение совершено по приказу Закаева А.И. начальником его личной охраны А. Гайсумовым и другими неустановленными лицами. Установлено, что 14.02.96 отец Анатолий был убит похитителями, а отец Сергий после долгих месяцев подвального содержания был освобожден в июле того же года. Закаев скрылся в Дании, а затем переехал в Великобританию. В его выдаче российским властям отказано. Если по первому делу мне не сообщалось, кем велось следствие, то по второму делу оказалось, что его вел отдел следственного управления Главного управления Генеральной прокуратуры РФ на Северном Кавказе. Установить местонахождение похищенных не удалось. Следствие многократно приостанавливалось, пока не было закрыто и июле 2004 года «за неустановлением лица, подлежащего _ привлечению в качестве обвиняемого». И только благодаря моему обращению это постановление было отменено и с июня 2005 года возобновлено с указанием руководства по проведению оперативно-розыскных и следственных действий.
Мне также сообщалось, что при рассмотрении в прокуратуре ЧР моего обращения допущена волокита, но срок привлечения к дисциплинарной ответственности истёк, а работники аппарата прокуратуры ЧР Донцов и Мальцев там уже не работают. Ответ на мое обращение из ЧР не мог быть направлен, потому что мое обращение туда, как оказалось, и не поступало. Между тем, именно Генеральная прокуратура направляла мое первичное обращение в ЧР. Выходит, что в мятежной республике Генпрокуратура не имела никакой власти над местными прокурорами. Генпрокуратура, оказывается, вовсе не контролирует работы командированных в Чечню прокуроров и не преследует их за должностные нарушения, когда командировка заканчивается. Два названных в ответе волокитчика (я бы назвал их саботажниками) ушли от ответственности, фактически отказавшись предпринимать какие-либо действия по расследованию убийств православных священников. Но и Генеральная прокуратура лишь имитировала активность. Никакого расследования по второму делу так и не было проведено, вопрос с годами перестал интересовать правоохранительные органы. Увы, и Московская Патриархия не проявила должной активности, чтобы выяснить судьбу своего священника.
Социальные гарантии для семей бандитов
Что сын за отца не отвечает, всегда говорится, когда кому-то нужно скрыть тот факт, что подобная ответственность всегда имеется. Пусть она носит неправовой характер, но она — в традиции многих народов. Потому что изувер, убийца, предатель должен знать, что совершая свои злодеяния, он ставит собственную семью под удар.
В извращенной логике путинской «эрэфии» все наоборот, все против традиций. Вместо помощи семьям погибших солдат — глухая стена бюрократического равнодушия, вместо посмертного преследования бандита через разоблачение его аморализма и порочности — то же равнодушие, позволяющее наследникам бандита жить за счет страны и пользоваться поддержкой его подельников.
В 1996 году чеченские бандиты зверски замучили русского солдата Евгения Родионова только за то, что он отказался снять с груди православный крест. Эта история облетела страну и прославила мужество русского солдата, глубину его веры. Но мало кто знал, что семья убийцы солдата стояла на довольствии у России. Убитый в боях против России бандит Руслан Хархароев получил посмертный статус «кормильца», а его семье была установлена пенсия, позволявшая воспитывать детей в ненависти к России и русским. Евгений Родионов погиб в юном возрасте, и у него никогда не будет детей, которые встали бы на защиту России. А многочисленные дети Руслана Хархароева, которым Россия заменила отца-кормильца, в большой вероятностью когда-нибудь пойдут против России, вступят в криминальные сообщества и будут терзать русских людей, как их отец-изувер.
Летом 2004 года мы с Олегом Маковеевым составили депутатский запрос министру здравоохранения М.Ю.Зурабову с целью выяснить фактическую и правовую сторону дела: каким образом дети бандита содержатся за счет государственных средств. Страшно занятый своими кровопийскими реформами министр упорно не желал отвечать. Ему был направлен новый запрос с требованием соблюдать российское законодательство. Запрос был снова проигнорирован. В октябре 2004 я обратился в Генеральную прокуратуру с требованием принудить министра соблюдать закон. Два месяца Генпрокуратура проводила проверку по факту непредоставления информации депутату. Саботаж обошелся министру недорого: ему было всего лишь вынесено представление «о принятии мер к недопущению нарушений законодательства и привлечении к ответственности виновных должностных лиц министерства». Ни о каких мерах подобного рода из министерства мне не сообщили. Уверен, их и не было.
Наконец, из Минздравсоцразвития мне пришло «затерявшееся» письмо. Мне сообщалось, что матери Евгения Родионова в соответствии с законом «О статусе военнослужащих» выплачено 24 млн. 780 тыс. неденоминированных рублей (примерно эквивалент 1000 долларов), а также согласно закону «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих…» еще 5 млн. 162,5 тыс. рублей. Еще 30 тыс. рублей (вероятно, уже деноминированных) выплачено Общероссийским национальным военным фондом в качестве материальной помощи. Размеры пенсии по поводу потери кормильца указаны не были. Ежемесячное пособие двум сыновьям и дочери бандита Хархароева было установлено в размере 70 рублей в месяц на ребенка (вероятно, это те самые пресловутые 70 рублей после деноминации). Пенсия по случаю потери кормильца на троих детей составила 1041,4 рублей. О выплатах местного значения ничего не сообщалось.
«Кормилец» содержал свою семью на доходы от бандитизма и работорговли, а теперь государство в память о нем содержало его детей. При всей символичности выделенных им сумм (наверняка доходы от убийств и работорговли, которые шли в эту семью, были значительно больше), СИМ-воличен и факт прямого сотрудничества бюрократии с бандитами, на которых распространена система социального обеспечения. Что на них обращена также и система бандитской солидарности, чиновников не волновало.
Компенсации в пользу мятежников
Вряд ли для кого-то секрет, что чеченское население Чечни в большинстве своем сочувствовало бандитскому режиму, соучаствовало в его деятельности и получало доходы от своих близких, занимавшихся грабежами, похищениями людей, убийствами.
Боевые действия распугивают людей, не занятых непосредственно военным делом. Население разбегается. Социальная база бандитского режима тоже предпочла выйти из-под огня и прокричать уши местным властям и зарубежным наблюдателям о своих страданиях. Они получили все необходимое, чтобы жить в лагерях беженцев. А когда война затихла — возможность вернуться в свои жилища и получить компенсации за утраченное имущество.
Русские, бежавшие не только от войны, но и от озверевших чеченцев, не могли вернуться. Такое возвращение почти неизбежно означало смерть. Русские потеряли в Чечне все имущество, которым владели. Но предусмотренные имущественные компенсации были установлены правительством втрое ниже, чем для соучастников мятежа. Да и те получить было практически невозможно. Чиновники стояли насмерть, лишь бы не дать русским укорениться на новом месте жительства. Их убеждали, что надо ехать в Чечню на убой. Если не жить там, то добывать всяческие справки об утраченном имуществе. То есть, все равно ехать на убой.
В связи с этой очевидной несправедливостью, мы с Олегом Маковеевым составили запрос председателю правительства Михаилу Фрадкову. Они касались постановлений правительства за 1997 и 2003 год. Первое из них определяло порядок выплат компенсаций тем, кто покинут Чечню безвозвратно, второе — тем, кто постоянно проживает в Чечне. Так людей разделили на «социально близких» (соучастников мятежа) и чужих (жертв мятежа). Первым (кто пострадал значительно меньше, а также участвовал развязывании войны) компенсации были больше, вторым (кто потерял имущество, а зачастую родных и близких, и перенес чудовищные унижения и физические страдания) компенсации должны были быть меньше.
Почему так произошло? Может быть, у нас принято виновных награждать, а невиновных наказывать? Нет, правительство не располагает такими полномочиями. Оно было наделено правом определения порядка осуществления выплат, но не определения каких-то дополнительных условий для того, чтобы эти выплаты проводить или не проводить. Правительство не только самочинно вторглось в компетенцию законодательной власти, но при этом в его решениях были установлены дискриминационные положения в отношении компенсационных выплат. Граждане были разделены на две категории. К первой категории Правительство отнесло граждан, «утративших на территории Чеченской Республики жилье независимо от формы его собственности и степени разрушения и/или личное имущество, безвозвратно покинувшие Чеченскую Республику в период с 12 декабря 1994 г., при условии снятия с регистрационного учета всех членов семьи по прежнему месту жительства и их отказа от жилья на территории Чеченской Республики». Размер компенсации установлен «из расчета расходов на строительство (приобретение) жилья исходя из нормы 18 кв. метров общей площади на каждого члена семьи (для граждан, зарегистрированных (прописанных) на занимаемой ранее площади в единственном числе, — 29 кв. метров общей площади), но не более 120 млн. рублей на семью» (данные в неденоминированных рублях). При определении размера компенсации учитывались члены семьи, временно отсутствовавшие в период разрешения кризиса в Чеченской Республике в связи с выбытием на учебу, военную службу, лечение, в длительную командировку, при условии отсутствия у них любого иного постоянного жилья. Факты нахождения на учебе, военной службе, лечении, в длительной командировке должны быть подтверждены соответствующими документами. Граждане, владевшие несколькими жилыми помещениями, были вправе получить компенсацию только за одно жилое помещение.
Несообразность всех этих требований очевидна. Они требовали от людей, бежавших от войны, возвращения на пепелище с угрозой потерять жизнь. Ясно, что для многих такая поездка была невозможна и по причинам материального характера — люди, бежавшие или изгнанные из Чечни порой теряли все свое имущество и сбережения.
Компенсация за утраченное имущество для этой категории лиц была установлена в размере 5000 рублей на каждого члена семьи для семей, имеющих в своем составе до 3 человек включительно, и в размере 1000 рублей на каждого последующего члена семьи, но не более 20.000 рублей на одну семью. Ко второй категории были отнесены граждане, постоянно проживающие на территории Чечни, жилье которых независимо от формы собственности утрачено и включено в перечень разрушенного жилья, не подлежащего восстановлению. Такой перечень утверждался Правительством Чечни, и оно не поскупилось на бумагу. Размер компенсационных выплат для этой категории: за утраченное жилье в размере 300 тыс. рублей и за утраченное имущество 50 тыс. рублей.
Таким образом, в отношении одного и того же обстоятельства — наличия имущественного ущерба в форме потери жилья — вид и размер компенсации пострадавшим гражданам был поставлен в зависимость от субъективного обстоятельства, не относящегося к характеру ущерба — от того, остались они жителями Чечни или поселились вне ее территории. При этом для пострадавших, проживающих в Чечне, величина компенсационных выплат и условиях их предоставления значительно больше и щедрее, нежели для пострадавших, ставших беженцами и вынужденными переселенцами.
Максимальная выплата для покинувших Чечню составила 120 тыс. рублей за утрату жилья и 20 тыс. рублей за утрату имущества. Для вернувшихся в Чечню — 300 тыс. рублей за жилье и 50 тыс. рублей за утрату имущества. Кроме того, при выплате меньших сумм, судя по экспертным оценкам, выехавшие из Чечни получали компенсации в три раза меньшие по сравнению с вернувшимися в Чечню.
Дифференциация пострадавших граждан, введенная постановлениями Правительства, было прямым нарушением конституционного принципа равенства прав граждан, в том числе и равенства прав вне зависимости от места жительства. Введение категории оценки «безвозвратно покинувшие» выгладит и вовсе цинично-подлым. Выехавшему из Чечни Правительство предлагало или вернуться или считать себя вечным изгнанником, которому обратной дороги нет, и никто во власти впредь не позаботится, чтобы условия подобного возвращения возникли.
За очевидным социальным неравенством угадывалось разделение по этническому признаку — русские чаще всего не возвращались в Чечню, где не видели перспектив для спокойной жизни, а чеченцы возвращались, рассчитывая на помощь многочисленных родственников и представителей власти, имеющих в большинстве своем ту же этническую принадлежность. Благоприятные условия были установлены в отношении этнических чеченцев, поскольку именно они после этнического геноцида нечеченского населения преимущественно продолжали находиться на территории Чечни, неблагоприятные — главным образом для этнических русских, спасавшихся бегством из Чечни под угрозой убийства, насилия, террора и иных форм преступного воздействия.
Показательно, что в постановлениях о компенсациях вообще не упоминается участников банд, которые не выделены в особую категорию и могли получать компенсацию наравне со всеми остальными. Одни — избежав тюрьмы, другие — освободившись после множества амнистий. Ничего не было сказано про соучастников преступных сообществ, которые провоцировали, оправдывали, поддерживали бандитов и должны были понести за это предусмотренное законом наказание. Они тоже стали полноправными получателями компенсаций. Эту позицию правительства Путина нельзя было рассматривать иначе, как оправдание участия организованной и вооруженной группы лиц в тягчайших преступлениях, имевших и продолжающих иметь место на территории Чечни и за ее пределами. Терроризм, вооруженный мятеж, бандитизм, убийства, грабеж и иные формы насилия — все было оправдано, всем полагалась компенсация. Как будто бандиты сами не жгли, не грабили, на взрывали.
В депутатских запросах Фрадкову мы потребовали прекратить подобную практику и устранить вопиющее беззаконие из нормативных актов.
В поступившем ответе за подписью заместителя министра регионального развития В.А. Гончарова высказанная нами позиция «в своей основе поддерживалась». Но какие-.. либо решения, как оказалось, принять невозможно, пока Минфин не соизволить выделить «достаточные финансовые средства». То есть, нам предлагалось уговаривать Минфин, а правительственные чиновники снимали с себя всякую ответственность за беззаконные постановления. Минрегион сообщил, что подготовил проект необходимого постановления Правительства, но Минфин «выразил особую позицию по данному вопросу». А Минэкономразвития «считает возможным рассматривать вопрос о выравнивании компенсационных выплат только после завершения работ по формированию перечня разрушенного на территории Чеченской Республики жилья, не подлежащего восстановлению, и определения полного объема затрат на выплату компенсаций». То есть считать до тех пор, пока беженцы не решат сами свои проблемы. А там уж можно обойтись й без выплат. На заседании Межведомственной комиссии по вопросам восстановления социальной сферы и экономики Чеченской Республики 3 февраля 2005 г. был рассмотрен вопрос о выравнивании компенсационных выплат (при особом мнении Минфина России) и включении в федеральный бюджет на 2006 год средств для реализации этих целей. Но на этом активность правительства закончилась. Большая коррупция влекла высших чиновников. Им не было дела до страданий людей, принципов законности и справедливости.
Мы провели еще один цикл вразумления Правительства, но своего не добились. Правительство перекинуло вопрос в МВД. Казалось бы, при чем тут МВД, когда речь касается компенсаций за утраченное имущество? Дело в том, что в ту пору там возникла целая команда по изготовлению отписок на депутатские запросы, возглавляемая заместителем министра Чекалиным (в 2008 году он тихо уйдет в отставку, на покой). Замминистра сообщил нам, что «вопрос не нашел своего решения в связи с принципиальными разногласиями федеральных министерств». И правительство постановило вообще прекратить какие-либо выплаты, отменив все решения по этому поводу и закрыв вопрос.
Из ответа Чекалина мы узнали некоторые цифры, которые свидетельствуют о полной несостоятельности режима, которые не знает и не хочет знать, что происходит в России. Согласно бюрократическому бумаготворчеству, за период проведения на территории Чеченской Республики мероприятий по борьбе с терроризмом было учтено около 600 тысяч человек, покинувших места своего постоянного проживания. На 01.07.2003 г. 60284 человек, получили статус вынужденного переселенца. Бюрократическая машина работала не только неторопливо, но и подло: статус, предполагающий поддержку государством, получила малая доля беженцев. Кто именно? По состоянию на 24 июля 2006 года, численность «внутри перемещенных лиц» по бюрократическому учету составила 67,3 тысяч человек, в том числе за пределами Чеченской Республики -19,6 тысяч человек. Численность граждан, выехавших из Чеченской Республики и имеющих статус вынужденного переселенца составила 26550 человек. То есть, из примерно 300 тыс. человек, бежавших от Чеченского бандитизма, бюрократы готовы были поддержать то ли порядка 20 тыс., то ли к ним надо добавить еще 25 тыс. Поскольку бюрократия вообще не желала никого учитывать за пределами Чечни как получателей компенсаций, то были установлены разнообразные статусы с неясными перспективами что-то получить от государства. Речь шла о компенсациях, а давали статус «вну-триперемещенныхлиц» или «вынужденных переселенцев». Причем тут компенсации?! Компенсации давали лишь тем, кто рисковал ехать в Чечню за справками. А таковых было меньшинство.
С момента реализации постановления о компенсациях беженцам из Чечни было подано 44964 заявления, в том числе, 19706 заявлений — до августа 1998 года. Это говорило о том, что люди просто не знали, какие заявления и кому подавать. С 1997 года до 28 июля 1998 года компенсации были выплачены 4702 заявителю на сумму 341,94 млн. рублей. То есть, бюрократия облагодетельствовала лишь каждого десятого беженца. Всего за период с 1997 года по 2006 год компенсации были выплачены 36755 заявителям на сумму 3890 млн. рублей. Программа выплаты компенсаций была прекращена, когда в очереди на получение компенсаций стояло еще около 2,5 тыс. человек. Им деньги обещали выплатить до конца 2006 года. Тем не менее, никто так и не установил, сколько человек потеряли в Чечне жилье и имущество. Их было не меньше 300 тыс. Если так, то лишь 12 % получили ничтожные суммы, и близко не покрывавшие материальные утраты. О моральных утратах и говорить не приходится.
Позднее мы провели натурный эксперимент. Сам Олег Маковеев потерял в Чечне имущество. Его дом боевики взорвали. Собрав всевозможные справки, Олег принес их мне, а я отправил исполняющему обязанности президента ЧР (такая вот была должность — назначенный и.о.) Сергею Абрамову. Никакого ответа на это письмо не пришло, И через несколько месяцев я обратился уже к президенту ЧР Аллу Алханову. И опять ничего. Переписки с разными инстанциями по поводу прав Олега продолжались долго. Он получил удостоверение «Ветеран боевых действий» как участник борьбы с бандитами. И только через несколько лет ему удалось выбраться из нищеты, каким-то чудом приобщившись к программе переподготовки военнослужащих. А компенсации? Да какие могут быть компенсации…
Компенсацией для всех нас будет уничтожение режима изменников и казнокрадов, а с ним — и бандитов.
Мятежники прессингуют
В физиономии и повадках Рамзана Кадырова я всегда видел что-то невыносимо отвратительное. Эта самодовольная ухмылка, эти растянутые трико на приеме в Кремле… Но особенно отвратительна была его речь — наглая, беспардонная, провонявшая криминальщиной. Когда Кадыров высказался по поводу Кондопоги, что он туда направит своих людей наводить порядок, я сказал журналистам все, что думал про этого пригретого властью бандита.
В связи с этими событиями, как говорится в заявлении Кадырова, к нему «обратились представители чеченской диаспоры Карелии с просьбой вмешаться в ситуацию и помочь в ее разрешении». Вместо того чтобы отвергнуть эти предложения как направленные не по адресу и лицу, чьи служебные обязанности исключают такого рода вмешательство, Кадыров не только обнародовал свои скоропалительные оценки ситуации, фактически оправдав убийц, но и объявил свою позицию по поводу протеста жителей Кондопоги, требовавших наказания преступников и оказавшихся втянутыми в уличные беспорядки: «если карельские власти не могут найти формы и методы урегулирования ситуации, то мы сумеем найти правовые методы способные привести ситуацию в правовое русло».
Таким образом, Кадыров приписал себе право вмешательства в ситуацию и способность разрешить ее. В сложившихся обстоятельствах это необходимо было интерпретировать как превышение должностных полномочий и побуждение чеченской диаспоры к продолжению конфликта — теперь под покровительством председателя правительства Чеченской Республики.
Мало того, очевидцы, присутствовавшие при оглашении заявления или видевшие его без изъятий в телетрансляции, утверждали, что приведенная фраза Кадырова имела свое продолжение. Оторвавшись от текста, Кадыров заявил: если правовых методов будет недостаточно, то найдутся и неправовые. Данное высказывание было прямым подстрекательством к межэтническому конфликту, сигналом в адрес преступных сообществ, сформированных по этническому принципу, о том, что они найдут в Кадырове своего защитника, где бы они ни находились и что бы ни творили.
В заявлении Кадырова также говорилось, что «чеченцы уже не раз доказали свою приверженность общечеловеческим ценностям и желание жить в братской семье народов России». Это было форменным глумлением над памятью десятков тысяч жертв резни в Чечне, которую вооруженные банды вели как против нечеченского населения, так и против чеченцев, не желающих соучаствовать в их преступлениях. Запоздалые объяснение пресс-службы Рамзана Кадырова о том, что он вовсе не собирается направлять в Карелию вооруженные батальоны, уже ничего не могло ничего исправить.
Я был до крайности возмущен как поведением самого Кадырова, так и бесстыдным молчанием Кремля. 13 сентября 2005 года на заседании Думы в утренней «разминке» я потребовал отстранения Кадырова от должности за возбуждение страстей и превышение должностных полномочий. Мне было предложено официально все изложить на бумаге в Совет Думы. Я предлагал обратиться к президенту от имени Думы с предложением отстранить Кадырова от занимаемой должности и более не использовать его на государственной службе.
В эфире Би-Би-Си мне накоротко довелось схлестнуться с одним из политических отморозков — спикером «парламента» ЧР Дукуваха (или Дукувахой? — черт разберет) Абдурахмановым. На мое утверждение, что заявление Кадырова по поводу Кондопоги является провокацией межнационального конфликта и обещанием мести всем, кто в Карелии выступил с требованием наказать убийц, этот неврастенический тип начал орать в микрофон о том, что Кадырова будет президентом Чечни, а провокатором является Савельев (то есть, я). Я не стал отвечать этому больному человеку на оскорбления и разоблачать его ложь о событиях в Кондопоге. Достаточно было и того, что любой слушатель сделал для себя такие же выводы, что и я, и без моих комментариев.
Потом я обнаружил, что этот неадекватный человек заявил РБК daily: «Кадыров — Герой России и кумир всей российской молодежи, во всяком случае, большей ее части. Мы используем все политические и правовые методы, чтобы противодействовать инициативе Савельева, и у нас, членов «Единой России», для этого хватит рычагов».
Эти слова для меня очевидное обещание мести — точно такое же, что и слова Кадырова в адрес жителей и властей Кондопоги. Он меня напугать задумал? Напрасно. Я живу на своей земле, а этот отморозок зарится на чужую. Придет время, будет он разглядывать небо в клеточку, а своих «спонсоров» — в полосочку. Если доживет. На них на всех печать смерти. Язык длинный может довести не только до Киева.
Мое обращение об отстранении Кадырова от государственной должности в Совете Думы не было рассмотрено. Обсуждение состоялось, но в виде базара. Потом «едро-сы» решили стереть стенограмму обсуждения. Почему они боятся? Потому что за это сборище не встанет ни один русский человек. Они для всех нас, русских, люди чужие. Наша, русская власть трусить не будет. Путинские регалии с Кадырова будут позорно содраны, а остальное — как суд решит. Вряд ли он будет милостив к мятежнику и бандиту.
В день, когда я выступил в Думе с требованием отставки Кадырова, в Доме журналистов чеченская диаспора Москвы готовила провокацию. Или бойню, если почувствует слабину. Некий представитель Московского Грозненского делового клуба Хасбулат Житиев, как сообщили потом СМИ, был организатором сбора шайки, вломившейся на собрание аналитиков. Но на самом деле команда поступила из постпредства Чечни — скорее всего, лично от Кадырова. Его очень не устроила тема «круглого стола» политологов и политиков под названием «Политический смысл «кадыров-щины» и угроза распада Российской Федерации».
Обстановку на «круглом столе» намерено накаляли члены СФ от Чечни Умаров и Джабраилов. Рядом с собой они посадили негодяя, который стал оскорблять члена партии «Родина» Вислана Гантамирова. Он точно знал, что сзади на противника кадыровщины нападет животное из звериной «массовки», дышавшей в спину политологам. Бойня могла вспыхнуть внезапно. Не исключено, что под курточками эти люди держали острые и тяжелые предметы. Один из наиболее активных, до этого цинично впершийся в зал в майке, теперь пришел в пиджаке с чужого плеча. Им досталось бы крепко. Они надеялись взять числом и не замечали, что в зале присутствовало с полдюжины ребят, которые порвали бы эту публику в тряпки.
Много было сказано всякой чуши и гнусности — особенно двумя «сенаторами» (с позволения сказать). Усманов, например, стал наскакивать на Рогозина за ролик «Очистим Москву от мусора». И опять повторил лужковскую ложь о том, что речь в нем шла о кавказцах. «Я бы так про русских никогда не сказал!» — надрывался Усманов.
На фразу Усманова я процедил сквозь зубы: «Ну да, не сказал бы. Просто зарезал бы». Сидевший впереди молодой кавказец подумал, что это удачная шутка от своих. О весело обернулся. Но тут же стушевался, напоровшись на мой злобный взгляд.
Усманову ответил Гантамиров: «Если бы я считал, что это про чеченцев, то меня бы в «Родине» не было. Я знаю, что чеченцы никогда арбузами не торговали».
За время дискуссии мне не раз хотелось оборвать зарвавшихся «интеллектуалов», больше похожих на истеричных баб. Но это было не мое мероприятие. Удивляюсь самообладанию Дмитрия Рогозина, который до конца склонял чеченцев к человеческому разговору. Проблески рассудка были лишь едва заметны.
Неопрятные провокаторы пытались спровоцировать драку. Они толпились в зале, нависая над участниками дискуссии, гомонили, бурно реагировали на слова. Пару раз я раздвигал тех, кто пытался заполнить проход между радами слушателей и столом, где заседали приглашенные ораторы. Наконец, из этой гудящей группы выделился особо буйный уродец, который разогрел себя каким-то выкриком и грубо схватил сидящего перед ним Гантамирова за плечо. Тот поднялся во весь свой богатырский рост и отбросил сразу всю толпу шелупони шага на два. Шелупонь взвыла, собираясь перейти в наступление. Но тут подоспели другие участники дискуссии. Полдюжины крепких парней придавили горских хулиганов к выходу из зала. И те, вяло отпихиваясь, трусливо отступили в коридор.
Казалось, потасовка, собственно, кончилась. Но ближе к концу заседания в зал вновь вошла большая группа чеченцев, чьи намерения были далеки от простого желания послушать, что будут говорить. Став плечом к плечу, группа заблокировала выход из зала и ее намерения не вызывали никаких сомнений. Предчувствуя опасность, я потребовал, чтобы непрошенные гости немедленно покинули помещение. Это требование было проигнорировано.
Я не сумел вылезти из своего «медвежьего угла», но сделал бы это при обострении ситуации, преодолевая страх отдавить уши сидящему впереди «аксакалу». Мне удалось отвлечь на себя двух- трех резвунчиков из этой банды, заорав, чтобы они выметались вон. Один стал уговаривать меня, что он сам кандидат наук, другой пообещал меня самого вывести из зала, но тут же спрятался в толпу. Ощущая опасность ситуации, я вызвал милицию, набрав телефон 02, и громко поговорил с дежурным. Милицию, как потом выяснилось, вызвал и директор Дома журналистов. После этого банда начала утекать за дверь, заседание продолжилось, но уже без прежней энергии. К тому времени я уже стоял вплотную к остаткам этой шумной кампании. Обещавший меня вывести из зала оказался на голову ниже и прошмыгнул у меня где-то под мышкой.
Заседание закончилось, но коридор был полон шпаны. Прежде чем Рогозин и Гантамиров выйдут из здания, я сходил на разведку. Перед Домжуром уже стояла разогретая чеченская толпа — несанкционированный митинг человек в 50, который никто не собирался разгонять. Мне удалось обойти эту толпу. За воротами стоял милицейский «козлик» и три милиционера с автоматами — все низкорослые, двое из них русские толстячки, один — худющий азиат. Спросил у них, где вызванные мной силы? Прошло уже полчаса, а готовый вспыхнуть беспредел все еще маячил в финале мероприятия. Оставил им номер своего телефон и предложил позвонить, когда банда будет отправлена восвояси. Звонок от замначальника местного ОВД пришел еще минут через сорок, когда мы уже вышли через служебный ход и ехали в Думу. Таков был уровень безопасности в центре лужковской Москвы.
После этого события я направил депутатские обращения главе ФСБ Патрушеву и Генеральному прокурору Чайке. Ни тот, ни другой пальцем не пошевелили, чтобы начать расследование. Меж тем в сети интернет, в публикациях крупных изданий фотографии бандитов имелись, и найти их не представляло труда. Почему их не искали и не разогнали митинг горцев? Потому что уголовная вылазка была предпринята по воле большого друга президента Путина — одного из самых титулованных его сподвижников.
Еще в 2004 году своим указом Путин присвоил Кадырову звание Героя России с вручением медали «Золотая Звезда». «За мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга». Через два года Кадыров был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени». И вся привластная сволочь считала своим долгом потрафить приятелю президента. Глава Чечни был отмечен орденами Мужества, имени Ахмата Кадырова, Петра Великого I степени, медалями «За отличие в охране общественного порядка», «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», «За участие в контртеррористической операции на территории Чеченской Республики», «Защитник Чеченской Республики», «За укрепление уголовной исполнительной системы РФ» (ведомственная награда ФСИН РФ), знаком «За службу на Кавказе». От имени мусульманского сообщества председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин наградил Рамзана Кадырова орденом «Аль-Фахр» I степени. Среди почетных званий Кадырова «Почетный гражданин Чеченской Республики», «Почетный член Российской академии естественных наук», «Почетный академик Академии наук ЧР», «Заслуженный работник физической культуры», «Заслуженный строитель Чеченской Республики», «Человек года» в Чеченской Республике», «Заслуженный защитник прав человека». А в феврале 2008
Кадыров стал еще и лауреатом премии «Россиянин года», вручаемой гражданам страны, добившимся успехов в становлении России как сильного и современного государства. Премия была вручена чеченскому президенту в номинации «Во имя жизни на земле». Также Кадыров являлся профессором и членом Академии проблем безопасности обороны и правопорядка (созданной шайкой жуликов, которых разоблачили только в 2009 году), почетным профессором Современной гуманитарной академии, президентом футбольного клуба «Терек», главой Федерации бокса Чечни, кандидатом в мастера спорта по боксу, президентом чеченской Лиги КВН, полковником милиции (в 2009 году президент Медведев присвоил Кадырову звание генерал-майора милиции), кандидатом экономических наук, руководителем региональной ячейки партии «Единая Россия».
Ни Путин, ни его окружение так и не поняли, что подписали приговор себе и чеченскому народу, поставив во главе Чечни бандита. Спираль насилия, раскрученная против русских в Чечне и по всей стране, вызвала ответную реакцию. До времени полицейскими репрессиями русское сопротивление может подавляться, но уже ни один чеченец не может считать себя защищенным за пределами Чечни. Потому что уже не чеченцев надо успокаивать и уговаривать вести себя мирно, а русских. И речь уже не о том, как заставить чеченцев прилично вести себя среди русских, а о том, чтобы дать чеченцам уехать в Чечню. Русское милосердие теперь состоит именно в этом: не дать побить и порезать этих зарвавшихся юнцов, решивших, что они сговорились с Кремлем против русского народа и теперь им все дозволено.
Чрезвычайное законодательство
Исходя из своего понимания проблемы, в Государственной Думе четверного созыва мы с помощниками подготовили обширный законопроект, где в деталях прописывались меры противодействия мятежу и полномочия органов власти. Рабочее название «О мятеже» в завершенной форме законопроекта мы заманили иным — «О противодействии насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Российской Федерации»
Разработка данного законопроекта обусловлена, с одной стороны, неблагоприятной обстановкой, сложившейся на протяжении последних лет в области государственной безопасности Российской Федерации, наличием особо опасных уголовных проявлений, направленных на насильственное изменение конституционного строя и нарушение ее территориальной целостности, что связано с событиями на Северном Кавказе и в некоторых других территориях страны. Важно было также определить порядок применения статьи 279 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за вооруженный мятеж, которая являлась новеллой отечественного уголовного законодательства, по крайней мере, с 1961 года.
В настоящее время в пределах Российской Федерации регулярно и активно действуют незаконные вооруженные группировки, которые формируются как на территории отдельных российских регионов, так и за пределами России, проникая в дальнейшем на территорию нашей страны из сопредельных государств. Целью указанных вооруженных формирований является насильственное изменение конституционного строя нашей страны, нарушение ее территориальной целостности, расшатывание основ стабильности государственной власти и безопасности граждан. Формами деятельности незаконных вооруженных формирований, как правило, являются: организация вооруженных столкновений и ведение боевых действий, захват и удержание заложников, систематически осуществляемая физическая расправа над должностными лицами федеральных, региональных и местных органов власти и сотрудниками правоохранительных органов, а также организация и осуществление террористических актов на территории Российской Федерации.
В связи с тем что природа уголовного деяния в форме вооруженного мятежа имеет ряд существенных особенностей по сравнению с другими видами преступлений, а его состав — объективная сторона, субъект и субъективная сторона — имеет принципиальные отличия, несовпадающие по своему содержанию с иными видами уголовно-правовых деяний, предупреждение этого вида преступления со стороны правоохранительных органов власти и формы и методы борьбы с вооруженным мятежом, если это преступление совершается, также не может не отличаться от того, что применяется на практике для предупреждения и борьбы с иными видами преступлений.
В частности, эти особенности находят свое выражение в существенных и принципиальных отличиях, содержащихся между преступлением в форме вооруженного мятежа (ст. 279 УК), которое рассматривается в действующем уголовном праве как преступление против государственной власти, и преступлением в форме терроризма (ст. 295 УК), некоторые черты которого подобны мятежу, но данное преступление включено в главу УК, касающуюся преступлений против общественной безопасности. Однако неурегулированность вопросов предупреждения преступных проявлений в форме вооруженного мятежа и тех особенностей, которые должны быть предусмотрены нормами права по его подавлению, порождают как неправильное отождествление мятежа с терроризмом, убийством, бандитизмом и иными видами преступлений, так и необоснованное сужение полномочий органов исполнительной власти и иных государственных институтов, призванных защищать территориальную целостность и конституционный строй государства, в том числе и от такого вида особо опасного государственного преступления, каким является мятеж.
Наш законопроект принципиально отличался от принятых законодательных актов, направленных на борьбу с отдельными видами преступлений. В частности от закона «О борьбе с терроризмом», принятого еще в 1998 году и не — сыгравшего ровным счетом никакой роли в жизни страны, и от закона «О противодействии терроризму», который в тот период рассматривался Думой. Проект последнего был принят в первом чтении Государственной Думой в декабре 2004 года, но далее его принятие застопорилось. Этот законопроект чем-то очень не понравился правительству, и его долго препарировали, чтобы изменить до неузнаваемости и полностью выхолостить. Данный закон был принят только в марте 2006 года и остался совершенно бессмысленным и бесполезным. Таким же бесполезным оказался закон 2001 года «О чрезвычайном положении». Он никогда не применялся и был интерпретирован бюрократией всего лишь как средство разрешения проблем, связанных со стихийным бедствием. К мятежам он никогда не применялся.
Разработанный нами законопроект с методологической стороны находился с этими законопроектами в определенном соответствии, хотя существенно расширял и дополнял соответствующие или аналогичные положения в техническом и технико-юридическом отношении. Можно сказать, рожденные в недрах бюрократии проекты по борьбе с терроризмом были конъюнктурным поветрием после серии терактов на территории нашей страны. Наш проект, напротив, исходил из потребности в регулировании важнейших общественных отношений и опирался на ранее разработанные концепции и анализ, полностью подтвердивший правильность нашего понимания обстановки. Законопроект направлялся против вооруженных мятежников, но также затрагивал и чиновничество, которое действием или бездействием могло способствовать мятежу.
Противодействие насильственному изменению конституционного строя либо нарушению территориальной целостности Российской Федерации по данному законопроекту относится к конституционной обязанности государственной власти, которая должна обеспечивать защиту государства и граждан от уголовных посягательств. Поэтому мероприятия и полномочия, связанные с борьбой с мятежом и с отдельными мятежниками (то есть с преступлением, предусмотренным ст. 279 УК РФ) предполагают введения режима чрезвычайного положения, в чем нет необходимости при воспрепятствовании иным видам уголовных деяний, подобных грабежу, бандитизму, терроризму и т. д.
Отсутствие в федеральном законодательстве положений, отражающих особенности предупреждения, профилактики и борьбы с мятежом как отдельным видом преступления, а также реабилитационного периода в отношении территорий, на которых происходил мятеж, и в отношении лиц, участвовавших в мятеже или причастных к нему, сводят на нет усилия государства по предотвращению мятежа. То же касается обязанностей органов власти, должностных лиц и специальных служб, в компетенции которых находится борьба с мятежом. Они обязаны соблюдать нормы права, но для этого им необходимо правовое понимание природы вооруженного мятежа как вида уголовного деяния, что дает возможность подавлять мятеж в максимально короткий срок.
Законопроектом предлагались правовые и организационные основы противодействия мятежу, для чего раскрываются понятия мятежника, мятежной деятельности, очага мятежа, мятежной территории и другие. Законопроект содержал принципы организации и цели противодействия вооруженному мятежу, а также нормы, регламентирующие правовое положение граждан и организаций на мятежных территориях. Также предлагалось ввести виды правового режима при подавлении мятежа — правовой режим мятежной территории, правовой режим зоны безопасности мятежной территории и правовой режим борьбы с терроризмом. А также временный режим специальных мероприятий, предназначенный для органов государственной власти, должностных лиц и организаций, а по завершению мероприятий по подавлению мятежа — реабилитационный период. Законопроект содержал перечень органов государственной власти, непосредственно осуществляющих противодействие мятежу, устанавливал связанные с этой деятельностью полномочия данных органов, а также предусматривал формирование специальных органов государственной власти и организаций для осуществления управления и руководства подавлением мятежа и проведением комплекса специальных мероприятий по воспрепятствованию мятежной деятельности. Отдельная глава законопроекта была посвящена последствиям подавления мятежа. Она включала положения о возмещении вреда лицам, пострадавшим от вооруженного мятежа и членам их семей, гарантии и компенсации лицам, участвующим в противодействии мятежу, а также в проведении неотложных работ, связанных с мятежом и ликвидацией его последствий. Законопроект регламентировал ответственность лиц, участвующих в мятеже (уголовная для граждан и административная для юридических лиц), и предусматривал заниженную меру ответственности либо освобождения от ответственности лиц, принимающих участие в противодействии мятежу и в мероприятиях по его ликвидации.
Как же отнеслись в правящих кругах к нашему проекту, объем которого был почти сто страниц? У нас сложилось впечатление, что правительственные эксперты встали перед дилеммой: выступать «против» неудобно, выступать «за» нельзя — противоречит интересам правящей верхушки, предпочитающей праву закулисный сговор. Поэтому проект наш стали заматывать. Сначала предложили ряд поправок, указали на частные неточности. Мы поправили эти неточности и вновь направили документы в правительство, от которого должно было поступить официальное заключение.
Проходят многие месяцы и вместо заключения нам предоставляют официальный отзыв. Не наблюдая разницы в содержании документа, мы отправляет законопроект в Совет Думы. После многих месяцев принимается решение, что заключения нет, и проект возвращается к нам. Мы вновь отправляем проект в правительство и просим оформить тот же документ заголовком «официальный отзыв» вместо «официальное заключение». Снова текут месяц за месяцем. И нам вновь присылают отзыв вместо заключения.
Уловка состояла в том, что мы должны были рассчитать, сколько потребуется средств для реализации законопроекта. То есть, предсказать, сколько и какой интенсивности в России произойдет мятежей и сколько на их ликвидацию потребуется средств. Этот абсурд повторялся в официальных бумагах раз за разом. Так с момента, когда законопроект был впервые отправлен в правительство, прошло более двух лет. Бюрократия замотала нашу инициативу и не дала внести проект на рассмотрение парламента. Впрочем, даже если такое внесение состоялось, судьба проекта была бы предрешена. Со скандалом, с очередным бесстыдным фарсом правящей группировки.
На этот раз нас решили просто не допустить до обсуждения вопроса, потому что уже началась избирательная кампания 2007 года. Бюрократы боялись, что острые проблемы вновь будут озвучены с трибуны Думы. Думская и правительственная бюрократия выступили против самого принципа чрезвычайного законодательства, объявив в своих отзывах, что данный проект посягает на права граждан. То есть, в условиях мятежа нам предлагалось применять концепцию прав человека к тем, кто с оружием в руках атаковал нашу государственность! Нам было сказано, что мы неправомерно стремимся отменить понятие презумпции невиновности по отношению к мятежникам. Стрелять в мятежников, таким образом, иногда позволялось, но ставить под подозрение пособников мятежа — ни в коем случае. Нам предлагали заводить сначала уголовные дела. Как это было в Чечне — горы трупов и неторопливое возбуждение дел, львиная доля которых так никогда и не была завершена. Презумпция невиновности по отношению к мятежникам обернулась их безнаказанностью. Этого бюрократия признавать не желала.
Становится понятным, почему бюрократия примерно терзала русских офицеров, исполнявших свой долг в Чечне. Понятно, почему полковник Юрий Буданов был измотан издевательских процессом за убийство чеченской снайпер-ши, а потом лишен права на условно-досрочное освобождение только потому, что судья считал, что осужденный должен был как-то особенно ярко демонстрировать раскаяние в содеянном. Понятно почему судили группу капитана Ульмана, выполнившего приказ и уничтожившего машину с подозрительными лицами. Понятно, почему издевались в суде над лейтенантами Аракчеевым и Худяковым, приписав им преступление, которого они не совершали.
Особенно не понравилось бюрократам, что мы ввели в законопроект положения об обязанности Госдумы начать процедуру отрешения Президента при наличии признаков его причастности к мятежу. Президенту бюрократия предоставляла полную свободу мятежных действий. И Президент не огорчил бюрократию — провел полную «зачистку» легальной политики от русского движения, от патриотов свой страны. Кремлевские мерзавцы открыто заявляли, что больше не дадут никому создать какой-то новой партии, помимо тех, которых бюрократия уже охомутала и сделала соучастниками своей изменнической политики.
В целом аргументация правительственных экспертов, заверенная подписью вице-премьера А.Жукова, сводилась к тому, что наш проект во всем противоречит букве и духу Конституции. Иначе говоря, дело представлялось так, будто Конституция стоит на страже участников мятежа и их пособников. Такова, как мне не раз приходилось убеждаться, была трактовка конституционных норм во всех без исключения случаях, когда право трактовки запрашивалось у чиновников. В этом смысле Конституция может считаться препарированной и извращенной в пользу сформированного при Ельцине и утвердившегося при Путине паразитического слоя чиновничества.
Против измены
Чрезвычайное законодательство требовало развития, прежде всего в уголовном праве, где мы (депутат вместе с помощниками) обнаружили гигантскую лакуну, появившуюся в результате «либерализации» законодательства. При внимательном взгляде на УК выяснилось, что этот важнейший документ не предусматривает защиты государства и государственного суверенитета. В УК не было отдельного раздела или совокупности статей, устанавливающих уголовную ответственность за противоправные деяния против Российской Федерации как государства.
Ряд составов преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства (глава 29 УК), были необоснованно включены в раздел X «Преступление против государственной власти». Но политическая теория требовала проводить отчетливую границу между понятиями «государство» и «власть». Тем более что в нашей стране власть для большинства народа оставалась чужой, а государство при любой власти оставалось своим.
Хорошо известные деяния многих должностных лиц, направленные против государства, его суверенитета, территориальной целостности, хозяйственного благополучия, остаются неподсудными для УК. Ряд диспозиций УК исключает ответственность даже в случаях очевидного и сознательно нанесенного вреда государству. В связи с этим требовалась переквалификация целого ряда уголовных статей.
Работа над законопроектом проводилась главным образом Сергеем Петровичем Пыхтиным, с которым мы были единодушны в постановке проблемы, а деталировка и доведение документа до окончательного вида стали предметом его забот на несколько месяцев. Мы предложили ввести в УК новый раздел «Преступления против государства», который был основан, с одной стороны, на принципе построения действующего УК, где деление составов преступлений на виды произведено по материальному объекту посягательства (личность, экономика, безопасность, порядок, власть, военная служба и т. д.), а с другой — на основании Конституции РФ, в ряде статей которой государство обозначено в качестве державы, имеющей самодостаточную ценность. Нам представлялось принципиально неправильным наличие в действующем УК в качестве предмета защиты уголовного закона «государственной власти» и отсутствием в нем в качестве такого же предмета самого «государства».
Из сферы защиты уголовного закона выпала сама Россия как государство. От этого образовалась ненаказуемость целого ряда особо опасных для ее существования и целостности деяний. К таким видам преступлений, согласно разработанному нами законопроекту, относятся: насильственный захват местного самоуправления или насильственное удержание местного самоуправления; антироссийская агитация и пропаганда; пропаганда переселения за границу; вредительство; недонесение о преступлениях против государства; подстрекательство к совершению преступлений против государства; пособничество в совершении преступлений против государства; укрывательство преступлений против государства. В этой связи наш законопроект предусматривал исключение из действующего УК главы 29 «Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства» (статьи с 275 по 284) и дополнение действующего УК новым разделом «Преступления против государства», в соответствующие главы которого перенесены указанные статьи из главы 29. Новый раздел формировался из 4-х глав и статей, описывающих составы однородных уголовно-наказуемых деяний: «Преступления против основ конституционного строя»; «Преступления против безопасности государства»; «Преступления против целостности государства»; «Иные преступления против государства».
В главе «Преступления против основ конституционного строя» предусматривалось два состава: 1) насильственный захват власти или насильственное удержание власти, что предусматривалось (в иной редакции) статьей 278 ныне действующей редакцией УК; 2) насильственный захват местного самоуправления или насильственное удержание местного самоуправления, что являлось новеллой. По сравнению со статьей 278 действующей редакции УК статья 330-1 законопроекта предусматривала простые и квалифицированные составы данного преступления. К квалифицированным составам законопроектом отнесены деяния, совершенные организованной группой, либо с использованием служебного положения, либо с использованием средств массовой информации, и деяния, совершенные с применением оружия или угрозой его применения, либо военнослужащим или лицом, находящимся на государственной службе. При этом предлагалось внести уточняющее изменение в редакцию основного понятия данного вида преступления, согласно которой преступлением являются не те действия, которые «нарушают Конституцию Российской Федерации», а те действия, которые совершаются «вопреки положениям Конституции Российской Федерации». Смысл этого изменения состоит в том, что законопослушность гражданина по отношению к институтам власти должна выражаться не в том, чтобы не нарушать Конституции РФ, а в том, чтобы действовать строго в соответствии с положениями Конституции РФ. Это принципиально различные позиции. Чиновник обязан исполнять Конституцию, а не осторожничать, чтобы ее не нарушить. Мы предлагали предписать деятельную позицию взамен пассивной.
В главу «Преступления против безопасности государства» были включены без каких-либо изменений статьи: 277 «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля»; 280 «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»; 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»; 282.1 «Организация экстремистского сообщества»; 282.2 «Организация деятельности экстремистской организации»; 283 «Разглашение государственной тайны». Мы не тронули «антиэкстремистские статьи» только по тактически соображениям, понимая, что «экстремизм» — термин, проникший в УК только благодаря политической конъюнктуре. Это тема требовала отдельной законотворческой атаки.
Мы решили целесообразным внести существенные изменения в статьи 276 (шпионаж), 281 (диверсия), 284 (утрата документов, содержащих государственную тайну).
В действующей редакции УК понятие шпионажа связано с сотрудничеством с иностранным государством, иностранной организацией или их представителями, а также с деятельностью по заданию иностранной разведки для использования сведений в ущерб внешней безопасности РФ. Доказать связи с иностранной разведкой или конкретным иностранным государством зачастую бывает крайне затруднительно. Кроме того, целью может быть ущерб не только внешней, но и внутренней безопасности. Поэтому мы предложили считать шпионажем не только собирание сведений или предметов (про предметы в действующей редакции ничего не говорилось), составляющих государственную тайну, с целью их передачи кому-либо, но также и любых сведений и предметов для использования в ущерб национальным или государственным интересам. Нам не важно, кому передается гостайна: государству, организации или их представителям. Этим мы существенно исправляли закон, пасующий перед многими антигосударственными деяниями.
В статье «Диверсия» мы, напротив, предложили судить не по цели, а по результату. Если в действующей редакции предусматривалась преступная цель, то в нашей редакции — результат. Результат мог наступить или прогнозироваться, если диверсия была пресечена. То есть, диверсией необходимо было считать действие (взрыв, поджог и т. д.), подрывающее или могущее подорвать экономическую безопасность или обороноспособность России.
Кроме того, мы сгруппировали статьи, связанные с наркотиками, собрав их в одной статье «Наркотизация»: посев или выращивание не разрешенных федеральным законом к возделыванию растений, а также культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества; пропаганда или агитация, направленные на потребление наркотических средств или психотропных веществ или их аналогов; незаконное производство, пересылка, перевозка, хранение или сбыт, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов; содержание притона для потребления наркотических средств или психотропных веществ.
Мы ввели также новую статью «Алкоголизация», которая предусматривала пропаганду или агитацию в средствах массовой информации, направленную на потребление спиртных напитков, их аналогов, фальсификатов или суррогатов; незаконную организация производства, предназначенного для изготовления спиртных напитков или их компонентов, а равно их фальсификатов, суррогатов или аналогов; незаконное изготовление, хранение, перевозка или сбыт спиртных напитков или его компонентов, а также их суррогатов или аналогов в крупных размерах.
К статье 285 УК о злоупотреблении должностными полномочиями мы добавили в главе, посвященной безопасности государства, статью «Коррупция», в которой данное деяние определялось как корыстное злоупотребление должностными полномочиями или служебным положением, направленное против Российской Федерации либо национальных или государственных интересов Российской Федерации, а равно наносящих или могущих нанести ущерб " Российской Федерации.
В статье об утрате документов, содержащих государственную тайну, мы сочли слишком мягкой формулировку, согласно которой для наступления уголовной ответственности необходимо было наступление тяжких последствий. То есть, пока последствия не наступили, уголовного деяния как бы и не существовало. Мы исключили это смягчение и ввели квалифицированный состав того же преступления на случай наступления тяжких последствий.
Мы ввели в проект УК два новых, не предусмотренных действующей редакцией, состава преступления: «антирос-сийская агитация и пропаганда» и «пропаганда переселения за границу». Первая статья была направлена против разгула антироссийской публицистики, затопившей многотиражные издания и эфир нашей страны. Вторая статья предусматривала пресечение деятельности разного рода «вербовщиков», сманивавших за рубеж российскую молодежь и квалифицированные кадры.
В отдельную главу мы ввели измененные статьи 275 (государственная измена) и 279 (вооруженный мятеж).
Если в действующей редакции государственная измена определялась как шпионаж, выдача государственной тайны и иное оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или их представителям в проведении враждебной деятельности в ущерб внешней безопасности Российской Федерации, то в нашем варианте «иное» выглядело иначе — «либо иная враждебная деятельность, направленная против существования, целостности, устойчивости или безопасности Российской Федерации». Мы убрали из текста явно неуместное понятие о штрафе в размере полумиллиона рублей или трехлетнего заработка, поскольку с изменниками у российского государства не могло быть никаких материальных счетов. Если материальный ущерб нанесен, то он мог быть взыскан по другим статьям УН. В качестве квалифицированного преступления мы положили отдельный пункт в отношении военнослужащих, совершивших измену, где нижний порог срока лишения свободы удваивался.
Статью «Вооруженный мятеж» мы полностью переделали. Понятия мятежа в УК не существовало. Статья была явно безграмотной: вооруженный мятеж, судя по этой статье, это организация вооруженного мятежа либо активное участие в нем. Мы озаглавили статью «Мятеж» и определили: «мятеж, то есть, организация либо участие в деяниях, направленных на…» А дальше определили цель. Если в действующей редакции целью было свержение конституционного строя, то мы уточнили, что речь идет именно о вооруженном свержении. В остальном текст совпал: целью могло быть также насильственное изменение конституционного строя либо нарушение территориальной целостности. Мы лишь добавили квалифицированный состав данного преступления на случай активных действий мятежников, при которых минимальный срок лишения свободы удваивался.
В ту же главу мы включили давно забытый состав преступления — «вредительство». Под этим деянием мы понимали действие или бездействие, направленное на дезорганизацию, подрыв или нанесение иного ущерба вооруженным силам, отрасли или отраслям национального хозяйства (промышленности, транспорту, сельскому хозяйству, денежной системе, торговле, науке, образованию, здравоохранению, социальному обеспечению или иной отрасли), предприятию, организации или производству стратегического назначения, а равно деятельности государственного органа, местного самоуправления или иного объекта, если это ослабило или могло ослабить Российскую Федерацию, а равно если таковые, деяния нанесли или могли нанести ущерб существованию, целостности, устойчивости или безопасности Российской Федерации.
В главу «Иные преступления против государства» мы внесли новые составы преступлений: недонесение о преступлениях против государства; подстрекательство к совершению преступлений против государства; пособничество в совершении преступлений против государства; укрывательство преступлений против государства.
При подготовке проекта нам основательно ставили палки в колеса. Ведь нам требовалась достаточно подробная статистика по совершенным преступлениям и соотнесение ее с действительностью. Кроме того, порядок внесения изменений в УК требовал отзыва Верховного Суда (того самого, который отменил оправдательный приговор присяжных полковнику Квачкову и отклонил кассацию на обвинительный приговор лейтенантам Аракчееву и Худякову). Тем не менее, руководство ВС (председатель З.М.Лебедев) решило, что может уклониться от представления официального отзыва. Вероятно, в этом ведомстве не сталкивались с подобного рода инициативами.
Первоначально нам ответили, что отзыв представить невозможно, ибо мы не прислали пояснительную записку. То есть, ВС вторгался во внутренний регламент законодательного органа и расписывался в неспособности проанализировать достаточно сложный юридический текст. Нам пришлось напомнить руководству высшей судебной инстанции, что закон обязывает готовить официальный отзыв на проект федерального закона, а не на сопроводительные документы, относящиеся к его прохождению в Государственной Думе. Кроме того, абсурдный ответ пришел к нам не через 30 дней, как полагалось по закону, а почти через два месяца. В своем депутатском обращении я прямо указал, что усматриваю в этом умышленную попытку воспрепятствовать конституционному праву депутата Госдумы на законодательную инициативу под надуманными и противоправными предлогами и заблокировать возможность рассмотрения законопроекта Государственной Думой. ВС как орган, учрежденный для защиты законности, действовал бесстыдно и беззаконно, как и во многих других случаях.
Отзыв, в конце концов пришедший из ВС, был просто набором слов, откровенной чушью. Скажем, нам указывали на определение экстремизма в законе «О противодействии экстремистской деятельности», а потом писали: «Вопреки этому в проекте предлагается перенести статьи о преступлениях, связанных с экстремизмом из главы «Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства» в главу «Преступления против общественной безопасности». В путаных положениях закона «О противодействии…», действительно под экстремизмом понимается деятельность, связанная с насильственным изменением основ конституционного строя и нарушением целостности государства. Но подобных определений нет к УК. К тому же под экстремизмом понимается не только это, но и много чего еще — огромный и нелепый перечень деяний. Что же касается правоприменительной практики, то нам не известно и по эту пору никаких «экстремистских» дел или приговоров, связанных с покушением на конституционный строй или безопасность. Зато потоком идут дела, которые связаны с хулиганскими деяниями, усиленными вменением мотива разного рода «экстремистских возбуждений».
Нам сообщали, что нельзя согласиться с идеей криминализации действий, описанных нами в статье «Алкоголизация». Это при кошмарном моровом поражении нашего населения алкоголем! Также в ВС сочли, что «Наркотизация» — это не преступление против государства, а лишь посягательство на интересы в области условий обитания и жизнедеятельности людей. При гибели в России до 100 тыс. человек в год от наркотиков! Нет, судебные чинуши определенно не желали ничего видеть вокруг себя, отмахиваясь от трагедии народа и страны, которая должна подвигать всякого честного человека к самым решительным мерам.
ВС безапелляционно разошелся с нами в определении понятия «шпионаж» и «государственная измена», заявив, что эти преступления могут быть совершены только в пользу конкретного иностранных государств. А если эти деяния никому не на пользу, но лишь во вред нашей стране? Если эти деяния реализуют просто задачи террористических организаций, а вовсе не государств? Если это деятельность отдельного маньяка, намеренного нанести ущерб нашей стране, доискиваясь государственных тайн страны и распространяя их, скажем, в сети интернет? Тупая чиновничья группировка, получившая статус высшего судебного органа, не желала видеть очевидного, не понимала ни реальной обстановки, ни самой страны, за счет которой питалась, обслуживая при этом правящую олигархию. Эти люди лишены способности сформулировать и обосновать даже свою собственную позицию. Они фабрикуют даже не отписки, а просто откровенную чушь — набор слов, исходящих от патологических лентяев и неучей. Они имеют лишь мнения, случайно залетевшие в их неумные головы… Где место этим людям? Уж точно не в судебных органах, не на государственной службе.
Отзыв, поступивший из Правительства, был многословнее, претендовал на аналитизм, но также демонстрировал низкую квалификацию тех, кто под руководством вице-премьера А.Жукова штамповал официальные отзывы на депутатские законопроекты — почти всегда лишенные аргументов и знания дела, а также страдающие нарушениями логики. Безо всяких оснований нам сообщалось, что наши новации могут «привести к существенному ущемлению конституционных прав и свобод граждан, таких как право на свободу слова, свободу предпринимательской деятельности и др., а также осложнить международное сотрудничество в уголовно-правовой сфере». Разумеется, правительственные эксперты не утруждали себя обоснованием этого бреда.
Отрадным в отзыве было то, что чиновники поняли, что мы собираемся ввести в УК те нормы, которые будут направлены именно против них, что в их повседневной дея- тельности будущие правоприменители смогут увидеть факты вредительства. Поэтому нам было сказано, что мы хоти вернуться к политизированным трактовкам УК РСФСР 1960 года. Верно, именно это мы и хотели сделать. С нашей точки зрения, законодательство о преступлениях против нации и государства должно быть сплошь политизировано, глубоко политизировано, поскольку касается политических сущностей и политических интересов. Правительственному клерку этого не понять. Он начнет что-то понимать, только когда его без всякого права будут брать за грудки и прислонять к стенке. Как уже не раз бывало в нашей бурной истории.
То же можно сказать и о наших расхождениях в оценке алкоголизации и наркотизации страны, а также о пропаганде переселения за границу. Для бюрократии это доходные статьи ее изменнической деятельности, для нас — очевидное преступление против нации и государства.
Что меня всегда волновало, так это полное отсутствие во всех без исключения законодательных инициативах «партии власти» какой-либо научной базы. Все обоснования, которые мне приходилось читать, сводились к одному: нам так нравится, уверены, что от этого всем будет хорошо. И вот в отзыве на наш проект нас начинают поучать: мол, любое изменение обязательно должно быть обосновано с научной позиции и подкреплено данными правоприменительной практики. И откуда же мы все это должны взять? У тех, кто пишет всё те же негодные отзывы? У тех, кто вообще лишен понимания научной истины и здравого смысла? У тех, кто не способен придерживаться даже элементарной логики?
Конечно, при нашей загруженности другими делами, мы допустили ряд неточностей. Эти неточности были исправлены, и проект вновь был направлен по инстанциям. Вновь прошел волокитное рассмотрение, после которого нам сообщили, что существенных изменений в новом тексте не усмотрено, и инстанции не поддерживают данный законопроект. Дальше наступила очередь думской волокиты, которая окончательно угробила перспективы рассмотрения проекта в пределах моих депутатских полномочий. На последнюю сессию 2007 года проект не был вынесен и сгинул в мусорных архивах Думы.
Из этой эпопеи я делаю вывод о том, что бюрократия не способна работать с народным представителем, ибо она лишена способности реагировать на насущные проблемы и не имеет профессиональных навыков, которые позволяли бы вести продуктивную дискуссию с субъектом законодательной инициативы, коим является депутат. Именно поэтому мы сталкиваемся с диктатом бюрократии. Она не способна к дискуссии, диалогу и сотрудничеству. Бюрократия — суть воплощение идеи антинациональной тирании.
Разумеется, самое острое противостояние бюрократии и нации проявляется в отношении к проблеме чрезвычайного законодательства. Чрезвычайное законодательство — инициатива по уничтожению бюрократии. Поэтому внутри бюрократии никогда не быть решительной поддержке такого рода законодательным изменениям. Они могут быть введены либо волей национального лидера (лидера Россия заждалась), либо волей последних спасителей страны, которые удержат ее от краха, отстраняя бюрократию от управления и лишая ее права что-либо решать. Это можно назвать «революционной законностью», которая жестока не только к бюрократии. Но ее позитивная роль именно в этом — в уничтожении бюрократии. Фактически ниспровержение негодного законодательства — это ответ народа на отсутствие национального лидера, который способен к проведению «революции сверху».
Ответ террористам: на войне как на войне
В борьбе с мятежом России опоздала. Возможно, навсегда. Пока общественное сознание потрясали страшные террористические акты, происходящие то в столице, то на Северном Кавказе, властные спикеры толковали о войне и необходимости мобилизации всех сил против опасности террористической угрозы. Но стоило террористам найти свое успокоение на государственных должностях, широко открытых для них в Чечне, и мятеж оказался для власти вполне удобным процессом. Сдавать территории в управление бандитом было куда как проще, чем сражаться с ними и предоставлять народу самоуправление. Огромное запаздывание в понимании ситуации демонстрируется неготовностью общества и инфраструктуры государства к противодействию новым методам войны, которые были узнаны лишь в жестоких терактах, а в прочих формах до сих пор так и остаются неизвестными. Мятеж происходит у всех на глазах, маскируясь под «стабильность».
Разработка контртеррористической стратегии не может состояться, если не будут установлены конкретные виновники, дававшие неверные прогнозы и снабжавшие государственную власть неверными стратегическими ориентирами. Прежде всего, это касается Чечни. Но в значительной мере — и общей ситуации в стране, которая остается катастрофической, но таким образом практически никем из высших государственных чиновников не характеризуется. У политического руководства страны не складывается понимания, что Россия как государство может «схлопнуться» в ближайшие десятилетия. И причиной тому может быть как совокупность ряда факторов, так и отдельные кризисные процессы (демография, неконтролируемая миграция, наркомания, техногенные катастрофы, интервенция и др.).
Для того чтобы иметь какую-то надежду, что мы еще в состоянии отреагировать на убийственные для нашей страны процессы, необходимы самые радикальные меры в самых различных областях государственного регулирования. Они в свою очередь могут быть сформулированы только если отказаться от негодной системы ценностей, показавшей свою полную несостоятельность, но до сих пор внедряемой всеми силами государственных институтов. Речь идет о гибельной доктрине либерализма, ставшей необъявленной идеологией власти.
Терроризм и мятеж невозможно победить одними лишь техническими мерами. Президент, отдавая приказ на расправу над бандитским режимом в Чечне, говорил, что необходимо расправляться с террористами в их гнезде. Но дело в том, что за прошедшие годы мятеж и внешне мирные антироссийские установки дали метастазы во всем национально-государственном организме России. Не случайно в СМИ антигосударственный пафос сменился антируссним. СМИ, которые власти удалось взять под контроль, оказались лишены концептуальной позиции, чтобы обеспечить коммуникацию между властью и обществом, но прекрасно поняли сигнал из Кремля, разрешивший клеветать на русскую культуру, историю, представлять русскую молодежь как экстремистскую группу и т. д.
Терроризм вовсе не является неким замыслом враждебных России государств. И противодействие ему не связано с созданием каких-либо антитеррористических государственных коалиций — они невозможны или неэффективны, поскольку противник организован не государствами и государства, расколотые внутри себя, не могут создать эффективной корпорации против терроризма. Главная проблема государств — поиск путей освобождения от неверных стратегий, выявление внутри себя вирусов идеологического разложения, отказ от уступок нигилистическим группировкам, изгнание и нейтрализация союзников и спонсоров терроризма. Только в этом случае государство в состоянии стать субъектом борьбы с терроризмом и антинациональным экстремизмом.
Терроризм носит транснациональный характер и является проявлением общих процессов, идущих в мире. Эти процессы связаны с деятельности нигилистических группировок, нацеленных на разрушение Традиции — вплоть до краха государств и передачи полномочий по управлению социумами транснациональным бюрократическим органам (типа Евросоюза или НАТО). Антигосударственные силы присутствуют во всех государствах — в том числе и на Западе, и в России. Террористические атаки лишь подхлестывают антигосударственные и антинациональные настроения, опираясь сочувствие и тайную поддержку со стороны организаторов этих настроений.
Тот факт, что мир ислама поставляет львиную долю террористов для организации «актов возмездия» против Запада и его союзников, говорит только о том, что ислам пока имеет возможность вытеснять деструктивные практики на свою периферию и за ее пределы. Тем не менее, разложение и разрушение традиции действует в мире ислама стой же силой, что и на Западе. Распространение варварских, поверхностных форм религиозности здесь аналогично вестернизации и является ее оборотной стороной.
Россия волей судеб собирает на своей территории два нигилистических подхода: 1) не имея крепких основ для традиционного ислама, российская умма радикализируется и становится источником антироссийских идей; 2) не сумев обратиться к традиционным формам жизни в момент крушения коммунистического режима, Россия позволила развернуться на своей территории и в общественном сознании агрессивному либерализму, ставящему своей целью уничтожение государства как такового. Обе нигилистические установки подпитываются паразитическими практиками хозяйствования: олигархией и этнической клановостью. Средства, поступающие от этих кругов, достигают организаторов терактов.
Истребление террористов и изживание мятежа требует, прежде всего, излечения государства, пронизанного вирусами либеральной идеологии. Формальные нормы демократии западного образца остаются для государственной власти единственной опорой. Власть продолжает разговаривать с обществом на языке либеральных догм. И от этого все более теряет доверие. Рецептом может быть только решительное расставание с западнической риторикой и приверженностью к западным социальным технологиям. Вместо западной формы демократии, которая в России закрепиться не может, нам необходима национальная форма демократии, которая не станет пугаться чрезвычайных мер в условиях чрезвычайных ситуаций. Это демократия не прав человека, а «прав» традиции — власти демоса-общины.
Для ситуации, требующей экстренных мер, ни в системе управления, ни в правовом поле не подготовлено почти ничего. Не готовы даже нормы, регулирующие чрезвычайную ситуацию. То же и в кадровом составе высших органов власти. Здесь нет и тени понимания, как действовать в чрезвычайно ситуации, как осуществлять профилактику мятежа, его подавление и реабилитацию системы власти после мятежа. Необходимы такие кадры, которым не надо объяснять, что делать в оперативно меняющейся обстановке. Их недостаток очевидно проявился в августе 2008 года во время «пятидневной войны» с Грузией, когда весь дипкорпус только ожидал сигналов из Центра, ничего не предпринимая в условиях стремительно развернувшейся информационной войны. Единственным организатором ответных информационных действий в тот момент оказался Дмитрий Рогозин, постпред России в НАТО.
Существенное препятствие к тому, чтобы уничтожить опору терроризма в российском обществе, представляют как раз российские законы, выстроенные по либеральным рецептам. Либералы-правоведы доминируют в формулировании задач законодательной деятельности, поэтому российский парламент занимается преимущественно мусорными проектами, лишь имитирующими плодотворную работу. Поэтому запрещается противодействовать абортам, пьянству, наркомании, порнографии, депопуляции и т. д. Даже обстановка чрезвычайного положения после Беслана не привела к принятию новой правовой позиции и к пересмотру ценностных ориентиров. Антитеррористическое законодательство так и не было создано.
Эффективные меры против терроризма и мятежа возможны только в результате нового кадрового призыва, которого российское общество заждалось — призыва на службу России русских традиционалистов, православных русских людей, понимающих толк в уроках истории и не боящихся радикальных мер, пусть даже и вызывающих волну ненависти со стороны Запада и доморощенных либералов. Кадрам террора должны противостоять кадры антитеррора. Пока о наличии соответствующего кадрового потенциала, выстраивающего всю деятельность государственной власти, говорить не приходится.
Нужно понять, что в России нет никакого международного терроризма. Транснациональный характер имеют антироссийские силы, сформировавшие альянс с бандитами и убийцами ради разрушения нашей страны, любого государства, хоть в какой-то мере наследующего национальную традицию. В России есть главным образом чеченский терроризм, опирающийся на состоявшийся и так и не пресеченный в Чеченской Республике мятеж.
Представление о том, что терроризм хоть в какой-то мере может быть связан с такими факторами, как безработица на Северном Кавказе, является опрометчивым. Терроризм происходит не от материальных трудностей, а от идей, которые в условиях тупиковой экономической политики государства распространяются в социально ослабленных слоях населения. Прямой связи между материальными затруднениями и участием в терактах не существует. Иначе террористами в России были бы сплошь русские люди.
Разговоры о том, что у бандитизма и терроризма нет национальности, вызывают повсеместные насмешки. В России всем и каждому известно, что лицо терроризма на нашей территории почти исключительно кавказское. Соответственно, меры против этнобандитизма (ставящего под контроль российский бизнес и создающего источники финансирования террористов, мятежников и изменников) и этнотерроризма требуют повсеместных действий именно против кавказцев — прежде всего той их части, что не занята на госслужбе, ведет почти всегда нечистоплотный бизнес, работает в сфере, где вращаются большие объемы наличных денег (банковская сфера, торговля, обмен валюты и пр.). Лояльное отношение может быть сохранено только в отношении сильно ассимилированных, обрусевших кавказцев, давно живущих в центральной России, а также тех, кто занят физическим трудом — пашет землю и работает у станка. Не следует забывать, что в условиях войны (а мы живем именно в таких условиях, когда война ведется, но не всегда знакомыми нам средствами), все, кто находится под подозрением в пособничестве мятежникам и террористам, должны быть интернированы. Это было во всех больших "войнах XX века, это в значительной мере должно касаться чеченской диаспоры — все она должна пройти экзамен на лояльность российской государственности.
На войне не проводят выборов. Не только губернаторов или президентов, но и вообще каких бы то ни было выборов. На войне должны выдвигаться новые кадры — более дееспособные, чем те, что пропустили начало агрессии против нашей страны.
На войне действуют только нормы чрезвычайного законодательства, а вовсе не «права человека» и не конституционные свободы, которые и в обычной-то жизни никогда не работали. На войне не бывает независимых средств массовой информации. Массовая информация вообще не может быть частным делом — ведь она формирует самосознание нации и может либо создавать, либо разрушать мобилизацию нации на борьбу с врагом.
На войне нужно разговаривать с народом откровенно — только тогда можно рассчитывать на поддержку действий власти. Имитация благополучия нацией распознается как ложь, и власть оказывается для нации чужой и лживой. Честный разговор могут вести только верно подготовленные профессионалы. Задача власти отыскать таковых и расставить на нужные места — провести кадровую революцию.
На войне действует идеология победы, а все остальное считается происками врага. Нам больше некуда отступать. XXI век дает нам множество поводов для того, чтобы считать, что именно этот век станет последним в истории России и русского народа, а также всей европейской культуры, которая не будет нужна новым народам и государствам, готовым прийти нам на смену.
Война будет победной для настолько в том случае, если нации будет ясен образ «своего» и образ «чужого». Если власть повременит определять Россию как русскую православную страну, мы заведомо погибнем.
Только русская мобилизация и православная духовная традиция составляют дееспособную конкуренцию нигилистическим силам, плодящим терроризм и подрывающим государства по всему миру.
Не система, а химера
Как хуже реорганизовать госслужбу
В первые месяцы работы Государственной Думы IV созыва на обсуждение был внесен проект федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации». При всей важности регулирования вопросов госслужбы, проект не был обсужден, а процедура его принятия вылилась в фарс.
Между тем, была очевидна недостаточность обоснования мотивов принятия такого закона. Цель никем не формулировалась. В преамбуле проекта была лишь ссылка на другой закон — «О системе государственной службы». Было бы желательно, чтобы эта ссылка приобрела более конкретное, развернутое содержание. Но целью бюрократии было скрыть истинные цели законопроекта, который вводил невиданные привилегии для чиновников. Прикрытием бессовестной манипуляции законодательством, как всегда, служили бессодержательные ссылки на Конституцию РФ.
Бюрократия, продавливая через парламент свой привилегированный статус и невиданные «социальные гарантии», действовала грубо, косолапо. Важнейший закон был изложен на совершенно неудовлетворительном языке — сером, бесцветном, невзрачном. Так можно писать в лучшем случае технические инструкции, но принятая лексика совершенно недопустима в законодательстве, которое предназначено для использования и исполнения гражданами.
Это замечание допустимо отнести ко всему законодательству в целом, принимаемому в наше время. Это не досадная ошибка, а господствующий стиль. Если государственная гражданская служба регулируется законом, изложенным на суконном, сером языке, то точно такой же обречена стать и регулируемая им служба, такими же серыми, бездеятельными, апатичными обречены быть чиновники этой службы. Жизнь подтвердила: за серым законом последовали серые будни тотальной коррупции, тотального бесстыдства и непрофессионализма чиновников. Закон дал подлецу и наглецу на госслужбе уверенность в том, что для гражданина он неуязвим.
Законопроект состоял из 74 статьей на 134 страницах. Казалось бы, большой, подробный закон. Но это иллюзия. В действительности практически все статьи, за некоторыми исключениями, это декларации, которые могут воплощаться в действительность лишь после издания огромного количества правительственных актов и актов на региональном уровне. Эти акты на самом деле и стали опорой чиновников, которым «Единая Россия» вручила то, что не имела права вручать — конституционные полномочия народного представительства.
У нас есть опыт, отраженной в Своде Законов Российской Империи. В нем гражданская служба описывалась 1010 статьями. Очевидно, в Российской Империи государственной службе уделяли значительно больше внимания, чем сейчас, хотя чиновников тогда было на порядок меньше. Это был действующий закон. «Единая Россия», приняв современную систему гражданской службы, узаконила произвол.
Деление нормативного регулирования на декларативные законы и практические инструкции находится в вопиющем противоречии с принципом разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную ветви. В такой системе власти не может в принципе быть законов-деклараций. Как и не может быть нормативно-правовых актов исполнительной власти. Поэтому следует говорить о мнимой полноте закона. Исполнители должны исполнять законы, а не творить право. Законодатели должны создавать нормы прямого действия, а не писать декларации.
Закон, регулирующий государственную гражданскую службу, должен быть раз в 10–20 больше по объему. Его нормы должны исключить какую-либо необходимость в произволе исполнительной власти под видом издания инструкций, уточняющих закон. Это прямое посягательство на принцип разделения властей, а значит — на основы Конституции. Но так как законопроект изложен в форме деклараций, то никакими поправками подобные принципиальные недостатки не исправить! Иначе говоря, мы имели заведомо антиконституционный закон.
Я не испытываю священного трепета перед Конституцией, набитой нелепостями. Но я уважаю основной закон. В отличие от чиновников, которые готовы публично молиться на Конституцию, но в грош не ставят зафиксированные там положения. А раз так, то в стране исчезают всякие следы законности. И начинается это беззаконие — с зала заседаний Госдумы, где произвол прямо предписывается, где фиктивные законы подталкивают исполнительные органы к произволу всюду и везде.
В законе перечислены «принципы гражданской службы». Главным в них указан «приоритет прав и свобод человека и гражданина» — текстуальное воспроизведение одной из статей Конституции РФ. Но, вырванный из контекста, этот принцип приобрел двусмысленный характер. Получается, что закон не предполагал в качестве одного из принципов госслужбы приоритет национальных и государственных интересов. Получается, что на государственной гражданской службе этими интересами можно вообще пренебрегать. И эта, казалось бы, умозрительная установка внедрилась в повседневную жизнь чиновничества.
В законе указано, что регулирование отношений, связанных с государственной гражданской службой Российской Федерации возможно по правилам международных договоров. Более того, определено, что при расхождении положений закона и международного договора, действуют положения международного договора. Увольнение гражданского служащего при приобретении им гражданства другого государства отдано на решение представителя нанимателя, причем с существенной оговоркой: «если иное не предусмотрено международным договором».
Подобные нормы представляют собой механическое воспроизведение одного из положений Конституции РФ. В данном случае такие нормы вообще невозможны! В сфере государственной службы, как и в законах, регулирующих вопросы воинской службы, ссылки на международные договоры, которые должны исполняться, а национальные законы не исполняться, неуместны. Потому что это измена. Но на такие «мелочи» правящая группировка никогда не обращала внимания. При нужде она могла распоряжаться по произволу, не обращая внимания ни на международное, ни на внутреннее право.
Гражданскому служащему вменялось в обязанность «проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов РФ», «учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий». Это положение способно разрушить и подорвать государственный характер службы как таковой. К тому же совершенно непонятно, о каких обычаях и традициях, каких группах и конфессиях идет речь. Неужели госслужащие должны будут учитывать особенности последователей вуду, Аум Синрекё и т. д.? Неконкретной деклараций ведет либо к нанесению вреда государству и народу, либо к полной бесполезности закона.
В одном из разделов был изложен порядок «урегулирования конфликта интересов на гражданской службе», под которым имелось в виду противоречие между личными интересами гражданского служащего и интересами службы. Но в законе не было нормы, регулирующей конфликт, который может возникнуть между интересами субъекта РФ и самой Российской Федерацией, между различными субъектами РФ, о которых в этой статье вскользь упомянуто. Это очевидный пробел законопроекта совершенно не смутил ни разработчиков, ни депутатов, привыкших к хоровому голосованию по воле дирижеров, назначенных из президентских кругов.
Антиконституционный абсурд предполагал, что закон в целом ряде статей наделит Президента РФ новыми полномочиями, не предусмотренными Конституцией РФ. Тем самым был нарушен принцип разделения властей, а Президент нагружался дополнительными (порой прямо нелепыми) функциями. Президенту разрешено было определять случаи предъявления «иных документов», необходимых при заключении служебного контракта, порядок ведения сводного реестра государственных гражданских служащих, определять должности гражданской службы категории «руководители», которые должны сдавать квалификационный экзамен, устанавливать размеры должностных окладов и окладов за классный чин федеральных госслужащих, порядок, условия и сроки проведения экспериментов в рамках программ развития гражданской службы в отдельных федеральных государственных органах и т. д. Вместе с тем все полномочия Президента РФ исчерпывающим образом предусмотрены Конституцией РФ и возможность их расширения может иметь место лишь в виде внесения изменений в Конституцию РФ.
Весь этот бред прошел процедуру принятия и стал частью правового абсурда, который ежечасно подрывал Россию, отдав ее в руки бессовестности чиновника и произволу президентской администрации. Увы, даже оппозиционные депутаты в парламенте не заметили системной ошибки, а точнее — замысла, срывавшего всякие перспективы разумного устройства государственной власти. Мои возражения против закона не были поддержаны, а парламентская процедура позволила отмахнуться от попыток изложить претензии к абсурдному закону, как от назойливой мухи.
Правительство: полномочия «от фонаря»
В апреле 2004 года президент внес в Государственную Думу два законопроекта «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации» и «Об изменении и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствованию государственного управления».
Присмотревшись к этим документам, я, будучи еще совсем неопытным парламентарием, сразу понял их катастрофическую роль. Изменять Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации», принятый в 1997 году, не было никакой необходимости, потому что его надо было отменять. Это законодательная ошибка! Понять это мне помог мой соратник и помощник Сергей Петрович Пыхтин.
Дело в том, что в Конституции РФ отсутствует положение, обязывающее принимать федеральный конституционный закон о Правительстве РФ. Но Конституция (п. 2 ст. 114) предписывает принять федеральный конституционный закон о порядне деятельности Правительства. Однако такой закон, предполагающий процессуальные нормы, регламентирующие именно деятельность Правительства РФ, даже не разрабатывался. Более того, установления порядка работы Правительства, который Конституция предписывает сформулировать в специальном конституционном законе, в этом законе каким-то образом оказывается в компетенции самого Правительства, предоставляя ему право на самостоятельное утверждение некоего Регламента (статьи 27 и 28). Таким образом, нормы данного закона содержат положения, прямо нарушающие Конституцию!
Из-за такого подхода в первоначальную редакцию закона, о который был внесен Президентом, не вошли нормы, регламентирующие порядок деятельности Правительства. Более того, из его 47 статей 35 так или иначе являлись буквальным воспроизведением положений Конституции РФ, главным образом связанных с описанием правительственных полномочий.
В данном законе было допущено игнорирование фактически заложенного в Конституции РФ принципиального различия между институтами власти и органами власти. Получается, что это одно и то же: что власть в целом, что ее орган. Все свалено в кучу: правотворец и исполнитель, целое и часть. Статусом институтов власти на федеральном уровне Конституция наделила Президента, Федеральное Собрание, Правительство, суды и Центральный Банк России. Остальные государственные учреждения предназначены для обеспечения деятельности институтов власти _ и имеют иной статус — органов власти. В Конституции нет термина «институт власти», но в ст. 110 сказано, что «исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации». Оборот «орган власти» применительно к Правительству не использован. Однако «Закон о Правительстве» попирал это обстоятельство и устанавливал прямо противоположное: Правительство РФ там названо «высшим исполнительным органом государственной власти Российской Федерации». Это означает, что роль института у Правительства отнята. Понятно, почему в Администрации Президента — этом неконституционном заведении — создано фактически параллельное правительство.
Очевидна разница между институтом и органом власти. Она состоит в том, что только институт власти обладает властными полномочиями, когда как орган власти наделен лишь таким кругом прав и обязанностей, которые дают ему возможность обеспечивать исполнение решений, принимаемых институтами власти. Так, для обеспечения исполнения полномочий Президента РФ при нем состоят Администрация Президента, Генеральный штаб Вооруженных сил, Совет безопасности, полномочные представители Президента, дипломатические представители РФ. При Федеральном Собрании — Счетная палата, Уполномоченный по правам человека, аппарат палат Федерального Собрания. При судах — прокуроры, судебные приставы. Исполнение полномочий Правительства обеспечивают федеральные органы исполнительной власти — министерства и ведомства, которые учреждает, создает, формирует и финансирует власть.
Из этих различий следует, что правом на издание нормативных правовых актов, то есть актов публичного права, обязательных к исполнению в РФ, обладают лишь институты власти (или, как их неверно обозначает законодательство, «органы государственной власти»), но им не могут быть наделены органы власти. Руководители последних могут издавать лишь распорядительные акты, действующие в административных пределах соответствующих органов и обязательные для исполнения только его служащими. Однако вопреки этому сложилась практика, когда органы исполнительной власти издают нормативные правовые акты, что опять-таки, закреплялось президентскими законопроектами.
Конституция (пп. «ж» п.1 ст. 114) установила, что перечисленные в ней полномочия Правительства (они в прямой и косвенной форме установлены в ст. ст. 71, 72 и 114) не являются исчерпывающими, и они могут быть дополнены федеральными законами и указами Президента. Подобной нормы нет ни в отношении палат Федерального Собрания, ни в отношении Президента. Следовательно, полномочия этих институтов власти, определенных Конституцией, являются исчерпывающими и не могут быть ни сужены, ни расширены актами законодательства. Но в президентских законопроектах как раз содержались положения, расширяющие полномочия Президента. И это не случайность. Узурпация власти происходила, как мы выяснили, многие годы. Положения, приписывающие Президенту неконституционные полномочия, содержатся более чем в 80 федеральных законах!
Форма институтов власти предписана Конституцией. Судебная власть представляет собой децентрализованную судебную систему, в которой каждый судья независим и подчиняется только Конституции РФ и федеральному закону. Центробанк, наоборот, централизован. Глава государства персонифицирован, тогда как палаты Федерального Собрания — собрания депутатов. Правительство — собрание федеральных министров, действующее по принципу коллегии, решения которой должны приниматься путем голосования. Конституция упоминает федеральных министров в качестве членов Правительства, но она нигде не упоминает, что министры одновременно являются руководителями федеральных органов исполнительной власти. Этот вопрос вполне может быть урегулирован федеральным конституционным законом о порядке деятельности Правительства. Вместе с тем Конституция предписывает разделение государственной власти и самостоятельность каждого ее института (органа государственной власти). Стало быть, ни один институт власти не вправе непосредственно вмешиваться или подчинять себе другой институт власти.
Конституция наделила Президента правом председательствовать на заседаниях Правительства, однако Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации» и законопроект о внесении в него изменений содержали норму, согласно которой «Президент… руководит деятельностью федеральных органов исполнительной власти». Это прямая узурпация полномочий, которыми Президент по букве Конституции обладать не может!
В первоначальной версии Федерального конституцион-ного" закона «О Правительстве Российской Федерации», принятого в 1997 году, содержалась статья 5, которая устанавливала, что «система федеральных органов исполнительной власти устанавливается федеральным законом». Через две недели после принятия закона эта статья из уже подписанного президентом Б.Н. Ельциным закона была исключена, после чего все процедуры, связанные с созданием, упразднением и реорганизацией федеральных органов исполнительной власти были отнесены к компетенции Президента и стали определяться его указами. На этот счет существует специальное решение Конституционного суда, в котором доказывается, что законодательная власть, якобы, лишена Конституцией права принимать федеральные законы на этот счет. Но это суждение не соответствует, с одной стороны, положению п.1 ст. 76 Конституции, определившей, что «по предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы», а с другой — содержанию главы 4 Конституции, где среди полномочий Президента нет соответствующего правомочия. Мы снова сталкиваемся с очевидной узурпацией. Причем, с участием Конституционного суда.
При наличии доброй воли, проблема решается довольно просто. Если следовать положениям п.1 ст. 112 Конституции, обязывающей Председателя Правительства представить Президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, и п.1 ст. 76, то это должно означать, что принятая Президентом версия структуры/си-стемы таких органов должна приобрести форму федерального закона. Президент не может формировать Правительство, как ему вздумается, учреждая или упраздняя правительственные должности и структурные подразделения. Президент по каждому изменению в Правительстве обязан вносить в Госдуму проект закона.
Основа конституционного строя — принцип законности. Это предполагает, что вся деятельность институтов и органов власти должна соответствовать и непосредственно опираться на нормы федерального закона. Но этот принцип стал размываться. Сначала в форме допущения издания указов Президента, «пока не принят соответствующий федеральный закон». Теперь — в форме разрешения Правительству нарушать или игнорировать положения федерального закона. Именно такую норму бюрократы-узурпаторы внесли от имени Президента в проект закона «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон “О Правительстве Российской Федерации”».
Чтобы пресечь узурпацию власти и вернуться к конституционным нормам, требовалось:
1) разработать и принять федеральный конституционный закон «О порядке деятельности Правительства Российской Федерации», в связи с чем признать утратившим силу федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации»;
2) привести ранее принятые федеральные законы в соответствие с Конституцией РФ, исключив из них не соответствующее ей наделение федеральных органов исполнительной власти полномочиями, которые должна принадлежать лишь Правительству РФ;
3) разработать и принять федеральный закон «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», который будет подлежать изменению, если в систему или структуру таких органов по инициативе Президента потребуется внести коррективы;
4) принципиально определиться с тем, что федеральные органы исполнительной власти (министерства, службы, агентства и т. д.) не творят право, а лишь исполняют его, и привести ранее принятые законы в соответствии с этим принципом;
5) принципиально определиться с тем, чтобы текущее федеральное законодательство не расширяло полномочия, которыми наделен Президент России, согласно главе 4 Конституции РФ, и привести ранее принятые законы в соответствии с этим принципом.
К сожалению, опыт нескольких месяцев деятельности Госдумы нового созыва свидетельствовал, что какая-либо продуктивная работа с прокремлевским большинством в депутатском корпусе невозможна. Оно уклонялось от профессионального обсуждения законопроектов и превращала процедуру обсуждения в фарс, сворачивая ее до нескольких минут, независимо от сложности и важности рассматриваемых вопросов.
Мне удалось добиться принятия только двух поправок к президентскому проекту. Одна из них исключала введение термина «система Правительства» в формулировке того, что же представляет премьер на утверждение Президенту. Всего-то надо было посмотреть на формулировку в Конституции, где в аналогичном фрагменте слова «система» нет. Поправка была принята. Второе предложение касалось сохранения прежнего порядка подписи заключений правительства на законопроекты — не по правительственному Регламенту (как предлагалось), а по закону «О Правительстве РФ». Эта поправка была также принята.
Более существенные поправки к президентскому проекту не пропустили. Прежде всего, было блокировано установление полномочий Правительства законом.
В ст. 114 Конституции очевидна логика: часть 1 посвящена функциональным обязанностям правительства; в соответствии с частью 2, Думе необходимо принимать федеральный конституционный закон о порядке деятельности правительства. Я предлагал распределение полномочий в правительстве рассматривать как функцию и относить к порядку деятельности. Для чего нужен закон о порядке деятельности. Комитет по конституционному законодательству обращал внимание на пункт «ж» части 1, который гласит: правительство осуществляет иные полномочия. Согласно позиции Комитета, под «иными полномочиями» можно понимать всё, что угодно: и любой закон, и любой указ. Моя логика была противоположной: Конституция требует принять закон, и мы его принимаем, исчерпывая перечень полномочий Правительства именно в законе. «Партия власти» предпочитала оставить вопрос о полномочиях открытым и предоставить возможность Президенту произвольно дополнять эти полномочия. И перераспределять полномочия также произвольно. В то же время, перераспределение полномочий касается внутренней жизни Правительства, а значит, должно регулироваться отдельным законом, а не указами Президента.
Меня всегда удивляло, что в некоторых случаях «партия власти» доводит почитание Конституции до культа. Но потом с той же почти щепетильностью над Конституцией водружается принцип непогрешимости и надзаконности Президента.
Конечно, Конституция не только небезгрешна, но и порочна в своей основе. Но если это так, то законнотворцам надо заниматься изменением Конституции (или ее отменой), а не ее нарушением. Но правящей бюрократии это совершенно не нужно, поскольку она вообще не желает жить по закону. Произвол трактовок Конституции означает тотальное беззаконие. Но именно это и есть форма жизни бюрократии.
Еще одна поправка касалась вопроса о том, кто должен утверждать заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти. Если по букве Конституции рассматривать Правительство как коллегию министров, то вопросы, касающиеся деятельности отдельных министров, должны быть отнесены к порядку деятельности Правительства, а не должны вноситься в закон о деятельности Правительства в целом. Поэтому речь шла о том, что заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти, так же как и заместитель министра, должен утверждаться Правительством, а не министром, курирующим данное ведомство. Если бы эта поправка была принята, не нужно было бы разбирать множество проблем, касающихся внутриведомственной конкуренции: руководитель федеральной службы или агентства, назначенный правительством, получает от министра навязанного заместителя. При этом сущность «замещения» искажается. Получается, что в административной системе присутствуют лица, которые реально замещать никого не могут, потому что руководителю они навязаны в порядке внутриминистерской конкуренции.
Правительство по принятому закону формировало не команду, а конфликтную среду. И к 2008 году это стало ясно. В «партии власти» заговорили о необходимости пересмотра многоуровневой структуры Правительства и отказаться от странной логики, согласно которой министерство занимается стратегией, а оперативным управлением фактически не подчиненные ему службы и агентства. Такие разговоры были связаны лишь с тем, что Правительство должно было начать в самом деле работать, а не интриговать в кремлевских коридорах, проводя свои решения через президентские структуры. Фактически это означало, что в течение всего срока президентских полномочий Путина (2000–2008 гг.) в России не было правительства, исполняющего предписанные ему Конституцией полномочия. То есть, имела место узурпация власти. Полномочия правительства стали возвращаться к норме Конституции только вместе с перемещением Путина в премьерское кресло. Так частный интерес на долгие годы подорвал законность в системе государственной службы.
Казалось бы, мелкие поправки в текст законопроекта «О правительстве», выявили фактический отказ «партии власти» от строго исполнения принципа законности, очевидным элементом которого было следование формальной логике. Если нет логики, то нет и законности. Последовательное разрушение логики привело авторов законопроекта, внесенного от имени Президента, к явному абсурду. В их тексте устанавливалось, что Правительство до принятия федеральных законов о внесении соответствующих изменений в законы может перераспределять установленные законами функции органов исполнительной власти. Перераспределять установленные законами функции! То есть прямо нарушать закон! Законом устанавливалось право нарушать закон.
По этому поводу я выступил сначала на заседании Комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству, потом — на пленарном заседании Думы. Все без толку. Там, где логика и законность принесены в жертву бюрократической иерархии, никто доводов рассудка слушать не станет.
Те, кто готовил этот законопроект, записав норму о «законном нарушении закона», были уличены как профаны, которые второпях готовили административную реформу и подорвали дееспособность административной машины. Чиновники перестали исполнять закон вообще. Всего за несколько лет профанация правового статуса Правительства и всей «вертикали» исполнительной власти привела к становлению традиции: чиновник не обращает внимания на закон, а действует либо по воле начальства, либо по своей воле.
Единственный аргумент против моей позиции, выставленный «партией власти» состоял втом, что функции только перераспределяются, но не изменяются. Кроме того, «цель-то, в общем-то, у нас одна, у нас одно государство — Российская Федерация, и цели, и задачи, и стратегию развития мы понимаем одинаково». Вроде бы, пустяковый спор. Но мне он сказал многое еще в самом начале депутатской деятельности: в Думе, в президентских структурах не собираются исполнять никаких законов.
Конституция исчерпывающим образом определяет, что может делать Президент. Например, глагол «руководить» в Конституции в части полномочий президента отнесен только к внешней политике. Но президентский законопроект захватывал целый перечень новых институтов, которыми президент начинает «руководить» вопреки Конституции. Президент стал вторым премьером, на которого навешали множество функций. Фактически это означало, что Правительство делится пополам, что любое правительственное решение требует мнения президента. Как коллегия, Правительство, вопреки Конституции, деятельность прекратило.
В 2008 году переезд Путина из Кремля в премьерские апартаменты поставил перед законодателями вопрос о возвращении к конституционным нормам. Но неприспособленность Думы к творческой работе приводила только к нагромождению одних правовых несуразиц на другие. Управление страной пытались вернуть снова в Правительство, но это привело к тому, что возник новый переходной период, в течение которого и без того обветшалое хозяйство вновь подверглось переделке под фигуру, которая в данный момент казалась «партии власти» наиболее удобной. Чтобы вручить ей все полномочия, невзирая на то, что этими полномочиями реально будут пользоваться клерки.
Вся система стала фикцией, Конституция — ничего не значащей бумажкой, государственные ритуалы и выборы — способом обмана.
Запрещено запрещать коррупцию
Дума много раз затрагивала вопрос о коррупции. Но учрежденная система госслужбы коррупцию предполагала. И, похоже, фракция большинства в Думе это осознавала. Она ни разу не инициировала законов, прямо противодействующих коррупции. А когда с такой инициативой выступил «родинец» Борис Виноградов, его законопроект был провален. Это было обсуждение 2007 года — период завершения депутатских полномочий текущего созыва.
Борис Виноградов предложил только одну частную меру: наложить запрет для чиновников иметь счета и недвижимость за рубежом. Ведь то и другое — не только путь к коррупции, но и к измене. Очевидный конфликт интересов побуждал чиновников в некоторых (или во всех) ситуациях работать не на свою страну, а на чужую, не на интересы своего государства, а на частные интересы, позволявшие накапливать богатства вне российской юрисдикции.
Возражения оппонентов были жалки и бесстыдны. «Держать деньги за рубежом — это не преступление. Преступление — это взятка» — вот и все «богатство мысли» от правящей группировки. Полностью аналогичное поговорке «Не пойман — не вор». Глупый спикер от фракции «Единая Россия» провозглашал с пафосом: «Если он размещает средства, полученные путем взятки, недвижимость в России — это разве не нарушение законодательства?» Штатный думский хам предложил «Родине» бороться с коррупцией в своих рядах. Кормящаяся с рук олигархов партия «Единая Россия» от имени своего представителя предлагала искать коррупционеров в оппозиции, которая вдоль и поперек была просвечена прокуратурой и стиснута произволом бюрократии.
От имени профильного комитета Думы было сказано, что законопроект нарушает конституционные права граждан: «Ограничения отдельных прав граждан могут быть обусловлены выполнением профессиональных обязанностей, но лишь в той мере, в какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства». Мол, каждый гражданин вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им. Только цитата из Конституции, и никакого обоснования связи этой цитаты с законопроектом. Вся защита от коррупции — это обязанность чиновника предоставлять сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему имуществе. Эта информация может быть опубликована в СМИ. Кроме того, сам факт наличия счетов в иностранных банках или имущества за рубежом не может являться достаточным основанием для вывода о том, что на служебную деятельность госслужащего могут оказывать влияние иностранные государства.
Складывалось впечатление, что в ведущей фракции явно недостаток интеллектуальных кадров. И, конечно, нравственных устоев. Борис Виноградов напомнил Думе евангельскую истину: «где сокровище ваше, там и сердце ваше». Сердце «партии власти» было не в России, а в собственных кошельках, в частных накоплениях, в благосклонности начальства.
Путин, назвав себя «чиновником, нанятым на срок», фактически отразил общую тенденцию вырождения гос-службы. Госслужба превращалась в сферу услуг — своеобразный бизнес, использующий статус чиновника как основной конкурентный ресурс. Таким образом, коррупция стала неотъемлемой частью госаппарата. И устранить ее можно было только жесточайшими мерами, неординарными законодательными решениями. Ссылки на опыт стран, где коррупция была в основном подавлена, выдавали тот факт, что «партия власти» хочет жить как в этих странах (то есть, чтобы формально статус чиновника ничем не обременял его в сравнении с гражданином), но получать при этом «административную ренту» — то есть, все виды подношений помимо зарплаты. Главное в статусе госчиновника в России — возможность коррумпироваться! Думские представители бюрократии посмели цинично сослаться на права человека в отношении госчиновника. Права человека стали, таким образом, средством извлечения коррупционных доходов. Это какой-то рекорд цинизма — использовать положения Конституции в оправдание коррупции!
Только в 2008 году президент Д.Медведев стал осторожно говорить о том, что нужен закон против коррупции, который делал бы коррупционное поведение «невыгодным, и специальное ведомство, которое бы занималось этим вопросом». Но все это были слова. На деле сохранившее свои позиции большинство продолжало в Думе прежнюю политику. Разгребая спрятанные под сукном законопроекты, депутаты «Единой России» провалили еще один закон против коррупции. Под предлогом, что он «в корне противоречит Конституции», а с коррупцией, мол, позволяют бороться нормы уголовного и административного права. Как во всех подобных случаях, на трибуну вышел Жириновский, брызгая слюной, отнес все претензии к власти на 1917 год и прямо заявил: «Воровали и будем воровать. Я вам говорю правду: воруем и будем воровать! Всё!». И: «коррупцию все равно победить невозможно, потому что дети подрастают, они хотят чего-то».
В октябре 2008 года испанский судья выдал ордер на арест Ильи Резника — депутата-едроса, возглавляющего думский Комитет по финансовым рынкам. Причина — связь с мафиозными кругами. Грызлов поторопился объявить испанское правосудие в антироссийской провокации.
Партии для народа или против народа?
Казалось бы, укрепление легитимности политического режима, возникшего в результате государственного переворота в 1991 году, требовало закрепления фундаментальных правовых основ — развития конституционных положений, которые прямо предписаны самой Конституцией. Речь идет о том, чтобы принять сотни законов, конкретизирующих эти положения. Это помогло бы превратить декларации в действующую правовую систему и исключить глупости, которыми текст Конституции был набит невежественными ельцинскими юристами. Ничего подобного не делалось. Развитию подлежало только хозяйственное законодательство, да и то — в основном по части монератных отношений. Для грабежа страны было нужно одно — чтобы расхищение национального достояния приобретало видимость законности.
Как люди наивные, мы в «Родине» стремились заявиться с государствоустроительными проектами, среди которых формирование законодательной власти было самым приоритетным. Как люди прагматичные, мы не замахивались на фундаментальные задачи, а скорее зондировали почву: готовы ли в «партии власти» хотя бы устранить из законодательства очевидный абсурд.
Для меня такой зондаж оказался наиболее показательным по части попытки провести поправки в закон «О политических партиях». Вместе с помощниками мы разработали совершенно невинные, не имеющие никакой выгоды для нас поправки. Просто намеревались подправить терминологию и вернуть в закон признаки логики и конституционных основ. Позднее, когда мы стремились зарегистрировать партию «Великая Россия» и прошли огни и воды судебных слушаний, стало понятно, что закон «О политических партиях» весь состоит из правовых рытвин и колдобин, через которые проход был разрешен только по дозволению высшего чиновничества. А пока мы лишь пытались понять, можно ли в Думе работать профессионально, избегая партийной вкусовщины?
Начать требовалось с определения. По действующему закону партией назвали общественное объединение, созданное в целях участия граждан в политической жизни общества. Посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления. При поверхностном взгляде кажется, что все здесь в порядке. При внимательном — что это полная чушь.
Кто, собственно, партию создает? По действующем закону выходило, что создавать партии мог кто угодно — хоть марсиане. Или Администрация Президента. Лишь бы в целях участия граждан в политической жизни. Поэтому мы предложили написать, что партия создается гражданами для участия в политической жизни. Но не общества (ибо это чушь!), а государства. Речь шла именно о государстве — Российской Федерации. Первая же статья Конституции РФ однозначно указывает что Российская Федерация есть государство. Именно участие партии в жизни государства и делает один из видов общественного объединения политическим объединением, то есть политической партией. Прежняя формулировка отстраняла партию от реальной политики, отправляя заниматься обществом, но не государством.
Нам также пришлось ввести в определение понятие «институт государственной власти», поскольку «орган государственной власти» — это некий фрагмент властного института, не более того. Президент — не орган власти, а институт. Дума — не орган власти, а институт. И т. д. Институт — целостность, орган — подчиненная часть. Нормы Конституции свидетельствуют о существенном различии между указанными терминами. Предложенное нами изменение подчеркивало, что партии обеспечивают реализацию механизма представительства граждан в тех институтах государства, состав которых формируется путём выборов, и в тех органах власти, которые также могут формироваться путем представительства.
Наконец, мы к иноязычному слову «акция» добавили вполне русское «мероприятие». Ибо в «акциях» партии участвуют иногда, а в мероприятиях — всегда.
Следующая статья, которую мы хотели просто избавить от абсурда, касалась недопущения создания партии по признакам профессиональной, расовой, национальной или религиозной принадлежности. Ладно бы в законе был прописан этот запрет, и понимай его как хочешь. Нет, здесь прежним авторам надо было сделать приписочку, что только для данного закона под этим понимается указание в уставе и программе политической партии целей защиты профессиональных, расовых, национальных или религиозных интересов, а также отражение указанных целей в наименовании политической партии. Фактически этот текст означает, что никакие групповые интересы преследовать нельзя. То есть, нельзя защищать права учителей, национальных меньшинств, права православных верующих и т. д. Получается, что профессиональные, расовые, национальные и религиозные интересы граждан носят исключительно деструктивный, разрушительный, негативный смысл и при их защите Российской Федерации может наноситься лишь ущерб. Хотя в действующем законе как раз представление интересов граждан и указывается как задача политических партий.
Интерес не является чем-то запретным, Конституция не запрещает преследовать различные интересы. Она запрещает лишь разжигать межнациональную, межрелигиозную, межрасовую рознь. Кроме того, например, расовые интересы вообще невозможно преследовать. И даже если это будет записано, это невозможно реализовать, потому что раса не является субъектом. Раса может иметь признаки, могут возникать случаи дискриминации по расовым признакам, но сама раса не может являться субъектом, поэтому записывать «преследование расового интереса» невозможно — у расы не может быть интереса.
Мы решили, что запрет надо обратить не на деятельность граждан (соответствующие запреты есть в других законах), а на устав (конкретный документ) и на дискриминацию — неравенство прав граждан при формировании партии, которого в уставе быть не должно. Нелепая, абсурдная и вредная норма о запрете политическим партиям защищать интересы должна быть отменена и замещена вполне нейтральной — о защите от дискриминации по любым признакам и об обеспечении равенства прав при вступлении в партию.
Мы попытались также внести в закон понимание различия между государством и государственной властью. Если Россия — государство, то нелепо иметь в законе главу под названием «Государство и политические партии». Понятие «государство», как это следует из его смысла, когда оно применяется в Конституции РФ, является характеристикой России как державы. Поэтому, когда речь идет об институтах и органах государственной власти (что фактически составляет содержание указанной статьи), надо говорить не о государстве, а именно о государственной власти.
Глупой опиской в действующем законе надо считать запрещение для партии защищать национальные интересы. Именно такой запрет буква в букву содержался в одной из статей. Когда в закон записывают фразу о запрете национального интереса, то путают нацию и национальность. Национальный интерес — это то, о чём мы постоянно говорим, когда пропагандируем патриотизм. Мы все вместе преследуем национальный интерес, понимая нацию как политическое единство граждан. Но даже если считать, что в законе речь идёт о национальности, то всё-таки у национальности может быть позитивный интерес — например, защита от дискриминации. Почему же мы тогда запрещаем политической партии следовать этому интересу? Может быть потому, что этот интерес ущемлен невероятно жестоко? И бюрократия хочет оставлять себе руки развязанными, чтобы репрессировать русское большинство и пресечь его борьбу за свои интересы?
Кроме того, мы предприняли попытку уточнения права проведения партиями собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирования. В соответствии со ст. 31 Конституции РФ никто не может препятствовать этим акции и мероприятия, никто не вправе их запрещать или ограничивать, если они носят мирный характер и если их участники не имеют при себе оружия. Конечно же, это была самая страшная поправка для власти. Но мы ее оставили именно для того, чтобы руке лоббиста было что вычеркнуть.
С этими идеями и с полностью отработанным пакетом документов я пришел на заседание Комитета по делам общественных организаций. Поразительная атмосфера встретила меня: никто не мог сформулировать альтернативных суждений и даже просто обсудить правовые последствия тех нововведений, которые предполагались подписанным мной законопроектом. Председатель Комитета даже не мог разглядеть в тексте, где написано «государство», где «государственная власть». Он беспокоился, не будут ли партии ограничены в участии в муниципальных органах, которые в систему государственной власти не входят. И не замечал, что в проекте было написано, что партии участвуют в политической жизни государства. Но оказалось, что председатель не так близорук: он заметил, что слово «институты» очень редко используется в законодательстве. Я отмел этот аргумент: в науке этот термин используется сплошь и рядом, и даже в классификации специальностей ВАК имеет целый раздел «Политические институты и процессы». Оказалось, что председателю слово «институты» не нравится только в отношении государства. У гражданского общества институты быть могут, у государства — нет. Логика «железная» — ультрабюрократическая! Чтобы не допустить к власти представителей народа — сплавить всю политическую активность в «общество»! Пусть там и разбираются со своими «институтами»!
Члены комитета — единороссы смотрели на меня, как на возмутителя спокойствия. Аргументов у них не было, и они цеплялись к пустякам как дети: вы вводите слово «мероприятие» — дайте определение! А в существующем законе слово «акция» не требует определения? Общеупотреби-мые слова надо все без исключения определять в законе? Уто за бред!
Накаляясь от этой глупости, я предложил Комитету конструктивную работу: не хотите принимать формулировку в таком виде — предлагайте свою, и вместе доведем проект до соответствия Конституции, нормам русского языка и применим принятую в научном мире терминологию. Нет, они не слышали! Они затаили заготовленные фразы. Мол, мои предложения «в корне меняют концепцию закона». Не важно, что я говорю, не важно, что написано в законопроекте. Главное — отклонить! Потому что нельзя же дать оппозиции хоть какой-то шанс что-то исправить в законе. Даже если исправляется только опечатка.
Один не очень русский депутат договорился до того, что увидел во введении термина «государственная власть» прямую угрозу повторения событий 1991 и 1993 годов. Потом — до того, что нельзя, мол, навязывать партиям защиту национальных интересов России. Потом — до того, что свобода митингов и шествий грозит «оранжевыми» революциями. Я сидел, слушал и думал: «Они здесь все сошли с ума?» Казалось, что эти взрослые и совсем уже немолодые люди прячут глаза, городя одну нелепицу за другой.
Нет, тон осуждения законопроекта становился все развязнее. «Может они пьяны?» — подумалось мне. Иначе с какой стати мне начали прямо «тыкать», как будто я пошел в баню с родственниками пенсионного возраста или с приятелями. Мне говорили: твои поправки с преференциями партиям при проведении митингов могут обидеть профсоюзы. И вообще надо сначала закон он митингах менять, если на то пошло. Почему? А он базовый! Где это написано? А нигде. И будто похлопывают фамильярно по плечу: «Ну! Не надо на нас сердиться за то, что мы глубоко копаем!». Дальше: «Я тебе как кандидат наук доктору наук объясню…» Это Комитет парламента или кабак? Это от больной головы, когда базовым законом считают закон о митингах, которые проводит партия, закон о которой вдруг оказывается подчиненным? Чьим это решением такая градация законодательства введена? Да просто они так решили! Пенсионеры — то ли из бани, то ли из кабака.
Никакого разговора не получилось и на пленарном заседании, куда мой законопроект попал, когда я уже окончательно был беспартийным — покинул ряды захваченной и переименованной «Родины».
Выступая с докладом по законопроекту, я привел несколько определений партии, принятых как научная истина:
— Партия представляет собой организацию людей, объединённых с целью продвижения совместными усилиями национального интереса, руководствуясь некоторым специфическим принципом относительно которого все они пришли к согласию.
— Партии являются общественными объединениями, опирающимися на добровольный приём членов, ставящих себе целью завоевание власти для своего руководства и обеспечения активным членам соответствующих условий, духовных и материальных, для получения определённых материальных выгод или личных привилегий, либо того и другого одновременно.
— Партия — это союз людей с одинаковыми политическими взглядами и целями, стремящихся к завоеванию политической власти с целью использования её для реализации собственных интересов.
— Партией является всякая политическая группа, участвующая в выборах и способная вследствие этого провести своих кандидатов в государственные учреждения.
— Партии — это организации, которые, во-первых, стремятся к захвату власти или участию в её отправлениях, а также опираются на поддержку широких слоёв населения.
Очевидно, что закон «О партиях» кардинально разошелся с наукой. Но также и с практикой партстроительства.
Выходило, что в России действуют под именем «партия» совсем не партии, а нечто не имеющее аналогов у всего остального человечества. Более того, то, что принято у остального человечества под партийностью, в России строжайше запрещено!
В научной литературе и в политологических учебниках функциональными чертами партии определяется борьба за власть, социальное представительство, социальная интеграция, разработка и осуществление политического курса, формирование правящей элиты. Ничего подобного в целях и задачах партий, судя по действующему закону о партиях, не существует или не имеет права на существование. А имеет право на существование нечто совершенно другое.
Не только учёные, но и политические практики сильно бы удивились, прочитав в действующем законе о том, что целями политической партии является формирование общественного мнения, политическое образование и воспитание граждан, а также выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов государственной власти. То есть, партии — отдельно; власть — отдельно. Партии лишь «доводят до сведения власти». А граждане-то думают, что на выборах формируют власть!
Понятно, что участвовать граждане должны не в политической жизни общества, а в политической жизни государства, что надо употреблять всеобъемлющее понятие — «государство»! Если же употреблять слово «общество», то тогда, с какой политической теорией мы бы ни соотнеслись, это означает сужение сферы деятельности политической партии до общества, а государственная власть остаётся в стороне. И действительно, как оказывается, закон совпадает с жизнью, но не совпадает с конституционными нормами и научными определениями. Конституционная норма требует, чтобы через партии народ осуществлял свою волю. Получается, что закону «О партиях» Конституция не указ.
Все, что мне удалось обнаружить нового в аргументах против законопроекта, свелось к ссылке не постановление Конституционного Суда от 15 декабря 2004 года, в котором норма закона «О партиях», не допускающая создание политических партий по признакам профессиональной, расовой, национальной или религиозной принадлежности, признана не противоречащей Конституции. На самом деле этот аргумент был нелепостью. Потому что предложенные мной изменения также не противоречили Конституции. Поэтому снятие одной законной формулировки и замена её другой, также не противоречащей закону, никак нельзя считать делом неправовым.
Ознакомление с постановлением Конституционного Суда доставило мне огорчение тем, что высветило полную недееспособность этого органа. В постановлении царила фантасмагория слов, которые в законах или в науке никогда не употреблялись. Например, термин «плюралистическая демократия». Что это такое? В Конституции этого термина нет, в законах — нет. Он есть только в либеральной публицистике. Как же он попал в постановление Конституционного суда, где этим термином характеризуется российская государственность?
Там же говорится о том, что Российская Федерация является многонациональной и многоконфессиональной. Если РФ — государство (по Конституции), то откуда КС почерпнул этот бред? Нигде в праве не установлено, что наше государство многонационально и многоконфессионально. Но КС использует подобные обороты, превращая свою работу в профанацию. И как же можно доверять этому органу и принимать за основательные выпускаемые им постановления? Выходит, что этот орган профанирован, как и вся система власти, правосудия, народного представительства. Все сгнило в нашем государстве, все не соответствует тому, что декларируется…
Постановление КС признано было доказать право бюрократии запрещать партии со словом «русский». Произвольно обращаясь с конституционным правом, этот орган утвердил запрет на создание политической партии по признакам национальной или религиозной принадлежности. Но при этом записал: «…то есть если в её уставе и в программе содержится указание целей защиты национальных или религиозных интересов и эти цели отражены в наименовании политической партии…… Если бы было написано «или», тогда трактовка предполагает вообще отсутствие права у партий защищать национальные или религиозные интересы. Раз написано «и», то требуется удовлетворить сразу обоим признакам — устав с программой плюс название партии. Разумеется, правоприменение игнорировало эту деталь, как и сам КС игнорировал право и здравый смысл.
Проект мой, разумеется, был провален. Голоса «за» дали только «Родина» и КПРФ — без малого сотню.
Итак, всего несколько думских эпизодов показывают, что в Российской Федерации система народовластия полностью ликвидирована. Фасад государственности выкрашен в европейском стиле и украшен демократическими финтифлюшками, но это — картонка. За декларациями стоит последовательная борьба против любых возможностей реализации этих деклараций. Правовая система, не внимательная к букве закона, оказывается невнимательной и к основам права — принципу законности. Политические силы, которые могли бы исходить из иного подхода к праву, запрещены. Их возникновение невозможно в силу принятых законов, легитимирующих узурпацию власти бюрократией.
При внимательном рассмотрении действующих законов, формирующих систему власти в России, оказывается, что они более чем откровенны. Они опровергают Конституцию и прямо утверждают всевластие бюрократии и подавление воли нации.
Ракалии
Очень показательное дело из моей практики, связанное с московским «заповедником» — пространством чиновничьего произвола. Волей столичной бюрократии Москва была заполнена людьми, оторванными от своих корней и превратившимися здесь в рабов и пауперов. Москвичи вынуждены жить среди бомжей, завшивленных выходцев из дальних кишлаков, больных и бесправных инородцев. Нас заставляют привыкнуть к тому, что рабство — реальность нашей жизни, и каждый из нас в любой момент может стать таким же рабом. Это не всем по душе. Тем более, коренным москвичам, привыкшим отстаивать свои права.
Ко мне обратилась москвичка Мария Беляева. Она поведала о своем эксперименте: попытке выселить из дворницкой незаконных мигрантов, устроивших там общежитие. Дворницкая — место, не приспособленное для жилья. А если там курить, то сигаретный дым по вентиляции распространяется по всем этажам. То же, если жарить что-нибудь с узбекским усердием. Разумеется, кроме этого при всяком открытом огне есть опасность пожара, а по вентиляции пожар распространяется особенно быстро. Также есть опасность затопления, поскольку рабам приходится открывать вентили, сливая воду прямо на пол. Другого способа добыть воду они не имеют. Там же отправляются и «естественные потребности», которые воздуха тоже не озонируют.
Конечно же, Мария Беляева потребовала выселения нечистоплотной компании, захватившей помещение или посаженной туда рабовладельцами из московских коммунальных служб. А также привлечь к ответственности лиц, которые допускают подобные издевательства над людьми — над самими нелегалами и теми, кому они доставляют массу неудобств, грозя вывести из строя системы жизнеобеспечения.
Что делает добропорядочный гражданин? Он не идет бить морду несчастным дворикам-узбекам или главе коммунальной службы. Он звонит по телефону и пишет письма. Письма написаны, реакции нет. Звонок в ДЭЗ. Ответ — хамство: это не наше дело. Звонок в управу. Ответ: визит пьяного водопроводчика. Снова звонок в управу. Отчет: «Ваш председатель кооператива их туда поселил». Звонок председателю. Он никого не селил, а, напротив, пытается выселить.
Мария Беляева интеллигентно воспользовалась французским термином racaille (ракалии), поскольку знала, что обращение с более жесткими характеристиками не рассматриваются. А этот термин встречается в русской литературе и в целом отражает негативное отношение, но никого не оскорбляет.
Далее: звонок в отделение милиции. Ответ: «Не наше дело» и направление к участковому. Звонки участковому. Ответ: гражданин «обязан знать», куда надо писать, а также должен собирать подписи со всех жильцов. То есть, милиции дела до нелегалов и проблем граждан нет. И верно, их главное дело — собирать дань. А тут дань закреплена за кем-то другим.
Звонок в префектуру. Ответ: «Дом кооперативный? Нас это вообще не касается». Звонок дежурному по ГОЧС. Первые проблески понимания. Совет: это дело Управы, надо делать письменное заявление. Звонок местному депутату, тот звонит в Управу. С этого момента пошли обратные звонки. Из жилконторы: «Я вас всех люблю…» Еще звонок: убедитесь, что в подвале никого нет. Нет? Проверка показывает, что есть. Снова из Управы: давайте обсудим. Что обсуждать, когда всё ясно и понятно: убирайте своих рабов. Заявление в телефон: «А нам устное распоряжение Лужкова: селить в дворницкие».
На следующий день — звонок в мэрию. Записали, обещали разобраться. Дворницкая была опечатана, пока узбеки не замерзли, и не сорвали печать. Телефон управы не отвечал, а потом его переключили на жилконтору. В жилконторе: «Никого в вашем подвале нет! Чисто и сухо — вчера акт составили!» Ясно, что racaille могли составить только липовый акт. Звонок в префектуру. Ответ: «Ваш сигнал принят, будем принимать меры». На следующее утро racaille прислали дворника. Мириться, что ли? Дворницкая вновь опечатана, а на следующее утро вновь распечатана.
Звонок в Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии. Ответ: мы этим не занимаемся! Звоните в префектуру. Круг замкнулся. В справочную правительства Москвы: кто этими вопросами занимается? Дали телефон. А эго Московская городская вневедомственная экспертиза! Причем здесь экспертиза, если помещение нежилое? Там жить нельзя, и экспертировать нечего.
Пересылка этого письма Лужкову, очевидно, ничего не решила. Лужков не вечен, но его racaille вечны — до тех пор, пока фальсификация выборов является надежным инструментом против граждан, пока racaille покрывают «верхи», сделанные из того же теста, пока при них кормятся продажные прокуроры и услужливые судьи. Они вечны, пока общество не противостоит чиновничеству своей консолидацией и дружным «нет» на любых выборах.
Увы, эта история завершилась хуже, чем я предполагал. Среди racaille был определен центрфорвард. В контратаку пошел участковый, посчитавший, что его причисление к racaille задевает его честь, его достоинство и его деловую репутацию. И суд взял его сторону! Гражданину, который добивался своих прав и боролся против беззакония, присудили штраф в пользу негодяя, который манкировал своими обязанностями! Кто подлее, судья или мент?
Мария Беляева попыталась привлечь внимание властей города к фактическому возрождению на территории столицы рабства. Речь в ее заявлении шла о недопустимых условиях проживания в подвале её дома дворников из Узбекистана и сопряжёнными с этим нарушениями прав других жителей. Однако ей пришлось столкнуться не только с некомпетентностью должностных лиц, но и с их открытым противодействием. Рабовладельцы защищали свое право владеть рабами! В исковом заявлении racaille в милицейских погонах даже требовал привлечь заявительницу к уголовной ответственности за клевету и удержать с ответчицы в его пользу 30 тыс. рублей! Ах ты мразь… Как там его? Бурундуков, Барсуков, Крысаков, Скунсаков? Вонь от барсуков… Подобных множество. Впрочем, судья мерзее. Потому что ничего не проверяла и не документировала, а репрессировала гражданина. Потому что судье по должности должно быть известно, что закон запрещает принимать заявления от той инстанции, на которую заявитель жалуется. Потому что единственный шанс для такого решения — доказательство намерения нанести вред, а не защитить свои права. А также доказательство факта распространения информации. Ничего этого в деле не было. И как, бишь, фамилия судьи? Мне сказать и бежать очередной раз в суд? Не хочется, потому что мерзавцу предоставлены права, а мне нет.
500 рублей с Марии Беляевой за попытку вычистить мразь из власти? Что-то в этой сумме говорит об интеллигентности судьи. Нагадить по воле начальства придется, но при этом так, чтобы не очень сильно — чтобы окружающие нос затыкали, но успевали прошмыгнуть мимо. Мой личный опыт в суде стоил 700 рублей. За то, что лжец и циник при должности был назван лжецом и циником.
В этом маленьком эпизоде подлость власти проявлена в полной мере. Любой здравый человек должен сказать себе (прежде всего, себе): «Такая система не имеет право на существование!» Действительно, люди в этой системе становятся racaille. В них умирает что-то такое, что позволяет считать окружающих не просто хитрыми животными, но существами нравственными. Эта система создана лицами без чести и совести. Своей болезнью они заразили всю «вертикаль» и по всем ее «горизонталям» распространили гнилостные метастазы.
Человек во власти быстро утрачивает понимание нравственной нормы. При Ельцине этот процесс начался, при Путине дошел до своего апофеоза. Он состоялся повсеместно и привел страну к кризису: либо сменить эту власть и жить дальше, либо смешаться с racaille, утратить образ человеческий и стать рабом и рабовладельцем одновременно.
Произвол ментов
В народе российском бытует многие годы анекдот: принятый на работы милиционер получил табельное оружие и потом несколько месяцев не приходил за зарплатой. На недоумение начальника он отвечает своим недоумением: а я думал, что дают пистолет, а там выкручивайся как можешь. В виде трагедии этот фарс повторился, когда в Москве милицейский начальник без всякого повода расстрелял в магазине невинных людей.
Один из российских молодых философов предложил эксперимент: выйди на улицу и зафиксируй первую мысль при встрече с попавшимся на глаза сотрудником милиции. Объяснять ничего не надо. Набор мыслей вполне понятен. Мы же остановимся на некоторых не толь ярких, как расстрел граждан, но типичных эпизодах, которые характеризуют разложение милицейской службы.
Алкоголь продают на каждом углу, даже запах изо рта может стать поводом, чтобы лица в милицейской форме до вас докопались. Мне не приходилось попадать в такие ситуации, но историй на эту тему мне пришлось слышать достаточно. Это не только способ приобретения дополнительных доходов (за счет изъятия у гражданина денег), но и обычай, поддержанный милицейским начальством, которое занимается более крупными деяниями.
Пример в подтверждение — нападение милиционеров на героя России десантника Валентина Полянского, который выстоял под напором чеченских банд, рвущихся в Дагестан. А в столице России был унижен и избит милиционерами, да еще подведен под уголовную статью — за то, что оказал этой мрази сопротивление. Исход этого эпизода трагичен: боевой офицер лег на ствол — то ли застрелился, измученный потерявшим совесть следователем, то ли был застрелен теми, кто боялся его общественной активности. Я мимолетно был знаком с Валентином Полянским по оргкомитету Русского марша в 2006 году и восстановительному съезду КРО в конце того же года. Никакой хрупкости натуры в нем не было.
Особенно подробно с работой московской милиции я познакомился после нападения на моего помощника по думским делам. В данном случае, как и во множестве аналогичных, был выдуман факт «появления в общественном месте в виде, унижающем человеческое достоинство». Здесь также наличие удостоверения помощника депутата вызвало особый, плотоядный интерес.
Мой помощник обратился к сотрудникам милиции за помощью в связи с нападением на него неизвестных лиц. Он был взволнован, рубашка порвана. Ноздри чуткого мерзавца уловили запах недавно выпитого пива. Предъявленное помощником удостоверение его возбудило. И потерпевшего решили превратить в подозреваемого, а потом в обвиняемого. Вместо оказания помощи стали внушать, что «гражданин для милиционера», а не «милиционер для гражданина». Служебное удостоверение было вырвано из рук, и начался шантаж и издевательства: задержание, многочасовой допрос, запугивания, насильственное медицинское освидетельствование. Представляю, как пело гнилое нутро живодера, когда он на требование вернуть удостоверение ответил: «Да оно просто упало на землю, ая его поднял». А на требование объяснить причину задержания предложил жертве написать на себя донос на тему: «Почему я пытался прорваться на территорию учреждения МВД».
Мой разговор с неким подполковником Еремеевым по телефону не возымел действия. Но этот субъект, зная отношение начальства к подобным эпизодам, не собрался упускать свою добычу. Только направление по моему звонку сотрудника из дежурной части позволило прекратить угрозы и унижения, которые продолжались до поздней ночи.
Пару раз в своей жизни я подвергался нападениям уличных преступников, и мое здоровье (а возможно и жизнь) находились под угрозой. И ни разу рядом не было сотрудников милиции. Хотя дело происходило на людных улицах. Последующие расследования также не давали результатов. При этом любое обращение к сотрудникам милиции встречало явные признаки досады и раздражения, а также понуждало участвовать в бесплодных и унизительных процедурах, в которых всегда чувствуешь себя виноватым, а не пострадавшим.
Еще один личный опыт был у меня в связи с попыткой найти и задержать грабителей, насильно снявших часы у моего сына (тогда еще подростка) прямо на одной из центральных станций метро. Ясно было, где «тусуется» эта компания. И надо было всего лишь пару раз подежурить там — на Пушкинской площади — чтобы их обнаружить. Но следователи решили измотать меня. Трижды приходилось ездить с сыном в разные части города, трижды заполнять документы. Листать какие-то идиотские папки с анкетами «скинхедов» — одни с мутными фотографиями, а другие и вовсе без фотографий. В общем, дело умерло без единого продуктивного действия со стороны милиции.
Давнее мое воспоминание — о том, как в период всеобщего дефицита в статусе депутата Моссовета я провел проверку деятельности милиции на стадионе Лужники, где в то время был рынок, на который то и дело «выбрасывали» дефицит. Я буквально за руку поймал людей в фуражках, которые мешками выносили этот «дефицит» с черного хода магазина. Застал их в милицейском автобусе за дележом. И что? Многомесячная переписка с милицейским начальством привела к тому, что «офицерам поставили на вид».
Недавний опыт: посещение ОВД с требованием разыскать местного торговца, который угрожал мне ножом. Часовое ожидание следователя. Хамский комментарий дежурного при приеме моего заявления. Бесплодное ожидание ответа месяцами. Запрос в ГУВД. Ответ: письмо отправлено в УВД при метрополитене, а мне, якобы, было об этом сообщено. Еще через месяц прислали копию уведомления — на бланке, но без даты и исходящего номера. А ответа из УВД метрополитена не поступило никогда. Кругом сплошная ложь…
Гражданин, достаточно редко попадая в милицию и сталкиваясь там с недобросовестными должностными лицами, не каждый раз может найти правильную линию поведения. Этим и пользуются «оборотни в погонах», которые не так часто служат преступному миру, зато повседневно попирают достоинство граждан. Чтобы уличить негодяев в преступлении, надо быть просто суперменом. И одновременно психологом-практиком и юристом высшего класса. Проще самому надеть погоны милиционера, иначе надежной защиты от негодяйства не найти. Но не всем хочется погружаться в эту среду. От нее дурно пахнет.
'На последовавший депутатский запрос по сюжету с моим помощником московский генерал-лейтенант милицейской службы, не вдаваясь в подробности, сообщил мне, что «сотрудники милиции действовали в пределах прав и полномочий, предоставленных законом». Потом в том же клеветническом духе ответил замминистра внутренних дел. Но все же, я упорно добивался предоставления мне материалов служебного расследования, которое, якобы, было проведено.
Из письма министру внутренних дел
Свое обращение я рассматриваю как тест на определение уровня, до которого доходит влияние «оборотней в погонах», окопавшихся в милиции. Неужели простейшие нравственные установки полностью изгнаны из возглавляемого Вами министерства, а формулировка «появление в общественном месте в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство» превратилось просто в дежурную подлость? Хотели бы Вы, чтобы Ваши дети и внуки «обслуживались» такой милицией? Я не хотел бы.
Так получилось, что документы о проведенной проверке пришли мне сразу из двух источников — по линии центрального аппарата МВД и из московских структур — управления собственной безопасности. Оказалось, что в документах были занятные несоответствия — вписанные позднее данные и фиктивные подписи. Они свидетельствовали о мнимых понятых, которые были придуманы после — когда правонарушители почувствовали, что я это дело так не оставлю. Кроме того, помянутый Еремеев в рапорте писал, что гражданин предъявил удостоверение помощника депутата Государственной Думы, и «заявил, что он хочет сделать заявление», а в объяснении оперуполномоченному УСБ, Еремеев показал, что гражданин не делал никаких заявлений. Я констатировал отсутствие реальной проверки противоправных действий со стороны сотрудников милиции, а также служебный подлог.
Обсудить этот вопиющий факт с министром мне не удалось, зато с замминистра я говорил долго и без всякого понимания ситуации с его стороны. Высокий министерский чин вел себя как участковый — разве что не матерился. Когда ему были предъявлены два идентичных документа, в одном из которых явно вписаны фамилии понятых, чин сослался на необходимость графологической экспертизы. Получалось, что экспертиза должна сравнить некие росчерки пера с пустым местом и подтвердить, что пустое место не заполнено. Препирались мы довольно долго. Замминистра несколько смягчился только к концу разговора. Обещал мое повторное обращение рассмотреть. Но солгал. Несколько месяцев я ждал ответа. Потом письменно потребовал ответа снова от министра. Ответ был таков: вам уже все разъяснения даны, а если Вы чем-то не довольны — обращайтесь в прокуратуру или в суд. За сим с моей стороны последовало письмо Генеральному прокурору. В МВД уж точно закон никто защищать не собрался.
Московская прокуратура попыталась дело замотать и отказала в возбуждении уголовного дела. Это постановление было отменено Заместителем Генерального прокурора Н.И. Савченко. (Это, отмечу, единственный представитель прокуратуры, чья реакция на обращения депутата была полностью адекватной и конструктивной. Уход Н.И.Савченко нанес этой службе колоссальный урон. Заменившие его люди были не лучше тех «оборотней в погонах», против которых мне довелось не раз выступать). По материалам проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Но дело стали тормозить. Вероятно, в связи с причастностью к подлогу высших должностных лиц. Очевидность саботажа была настолько ясна, что прокурор Москвы вынужден был издать приказ о наказании следователей, расследовавших уголовное дело, и надзирающего прокурора. Чем закончилась эта свистопляска, так и осталось неизвестным. Тянуть годами переписку с милицейско-прокурорской бюрократией не было ни сил, ни желания.
Милицейские уловки в стиле карманников — «чисто машинально». Любого можно задержать лишь на основании, что он, якобы, похож на преступника, портрет которого разослан в милицейской ориентировке. Лишь однажды мне удалось наказать эту шпану в погонах, которая избила человека в кафе, потому что он им не понравился, и затащила в свою берлогу для дальнейших издевательств.
Мне довелось видеть болезненную ненависть милиции к людям. Она идет от неограниченного права применять насилие и отсутствия каких-либо моральных установок, а также сопряжена с животным страхом какой-либо ответственности за свои действия. Это было в 2005 году у Латвийского посольства, куда по приглашению Путина прибы- ла президент этого государства — дама во всех отношениях неуместная на празднике Победы. Пикет «Родины» не был позволен властями. Попытка собраться вблизи посольства была пресечена отрядом иногороднего ОМОНа. Хорошо упакованный командир этого подразделения, весь пятнистый из себя, заявлял мне, не дрогнув ни мускулом: они (человек 40 задержанных молодых людей) похожи на доного преступника. Все сразу. То есть, начальство заранее дало «отмазку»: вам за незаконное насилие над гражданами ничего не будет.
Там же мне запомнился один московский держиморда, из рук которого я вынимал людей, размахивая депутатским удостоверением. Почти юный по возрасту подполковник хотел нахватать как можно больш. Такова была установка, спущенная «сверху». Он готов был даже самолично крутить руки каждому встречному и поперечному. Его поведение напомнило мне октябрьские дни 1993 года. С тех пор поведение милицейских чинов стало еще отвратительнее.
Вот еще она история. Куда более трагичная, чем предыдущая. Передо мной фотографии. На первой — молодой крепкий парень на фоне корабля, на котором он мечтал плавать. Вторая фотография — тело того же парня со страшной гематомой на пояснице. Третья фотография — он же на больничной койке. Страшные раны на плече, забинтованная голова, дыхательная трубка во рту, след удавки на шее. Последняя фотография — он же после больницы. Искромсанная голова, потухший взгляд, едва удерживающий сознательность.
Это не следствие случайности, которая подстерегает каждого. Здесь замешан милицейский чин, который, возбуждаясь безнаказанностью, гонял казенную машину по парку, где движение запрещено. То ли по случайности, то ли по злобной циничности, он наехал на парня. Да так, что превратил его в пожизненного инвалида. Пробит череп, смещен позвоночник. Но парень здоровый — не умер на месте. Его везут в больницу, где операцию делает неспециалист. Уродуют так, что выжить парень не должен. Но он опять не умер. Тогда его душат удавкой — чтобы концы в воду и не перед кем отвечать. Думали: насмерть. Но парень опять не умер. И тогда его швыряют на руки несчастному отцу: заберите тут, ваше нам не нужно… Отец годами пытается добиться справедливости. Суды, прокуроры, милиция — все на стороне живодеров. А для парня нет средств не только на лечение, но и просто на жизнь.
Преступник не был осужден. Это дело было определено как «нарушение правил должного движения». По такого рода делам срок привлечения к ответственности — 2 года. Он был исчерпан в бесконечной волоките. За преступника вступилась не только его родня из налоговой службы (вот еще одно гнездо циников!), но и вся система. Таким образом, преступник, искалечивший на всю жизнь молодого, здорового человека, оказался фактически безнаказанным.
Это длинное и страшное дело, ужасное каким-то запредельным аморализмом всех лиц, которые обязаны исполнять свой долг, но исполняли только какой-то бесовской танец над изувеченным телом. Моя депутатская переписка по этому делу заняла целый год. Пройдены были все инстанции. Последнее — обращение к гаранту Конституции, к Путину. Какая-то канцелярская крыса отправила мое обращение вновь в прокуратуру, объявив, что президент только координирует деятельность органов власти. Я ничего не смог сделать. Корпорация подлецов искалечила не только парня, но и всю систему власти — прокуратуру, суды, милицию и даже медиков, чья роль в этом деле более чем постыдна.
В 2008 году много писали об истории оправдания судом милиционера, который на дороге сбил насмерть девочку и как хлам оставил в больнице, считая, вероятно, себя человечным уже потому, что довез искалеченное тело до врачей. А мне лично в Москве довелось видеть, как частная машина с милиционерами преспокойно разъезжала по парку, где гуляли многочисленные дети. Здесь движение транспорта в принципе запрещено. Но милиция считает, что ей все можно. Лишь бы фуражка была на голове.
Еще одно дело — об избиении Лидии Михайловой (в ту пору — пресс-секретаря фракции «Родина» в Госдуме) и ее сына в собственной квартире. Приобретенная квартира была обременена присутствием еще одного собственника, владеющего ее пятой частью. Этот собственник (или лицо, считающее себя таковым), почему-то решил, что имеет полное право если не жить самому в крошечной квартирке, то подселять туда жильцов с баулами. Естественно, обнаружив в квартире незваную гостью с мешками, Лидия Михайлова сменила замок. Это вызвало ярость «пятой части». Не предпринимая попыток выяснить отношения и предъявить свои права законным путем, наглец раздолбил кувалдой дверь и испортил личинку замка. Была вызвана милиция, составлен протокол, дверь починена. Но через короткое время нашествие повторилось. Дверь снова разбита, замок испорчен. Снова милиция, протокол, ремонт. Никто дело не расследует, участковый и вовсе прячет его под сукно. «Одну пятую» опрашивают, но тот указывает, что по такому-то адресу никогда не был. Адрес обсуждается по месту собственной регистрации, а не по месту разбитой двери. Но милиционеры удовлетворены объяснениями. На обращение в МВД приходит ответ: «обращений заявительницы не было». Ложь подписывает заместитель министра. Как водится, участковый на хорошем счету и нареканий по службе не имеет.
Апофеоз этой истории — вторжение в квартиру Лидии Михайловой некоей дамы, получившей от «одной пятой» уверение, что она там может жить. С дамой еще и некий испаноговорящий субъект, который устраивает в квартире погром и избивает хозяйку и ее сына. Лидия Михайлова буквально теряет дар речи и вынуждена лечиться в стационаре. У ее сына возобновляется едва отступившая тяжелая болезнь. Милиция снова бездействует. Участковый делает вид, что никаких обращений до сих пор не было. На депутатские запросы приходят отписки, одна другой гаже. Наконец, несколько укрепившись здоровьем, Лидия Михайлова идет к следователю давать показания. И что же? В отделении милиции она встречает того самого испаноговорящего негодяя! Его никто не собирается задерживать! Он просто уходит. А через несколько дней уезжает за пределы России. Преступник, оказывается, на дружеской ноге с милицейскими чинами, которые стараются не дать делу ход! Прокуратура, которая настоятельно рекомендовала следователям дело не возбуждать, также ответила отписками. И волокита пошла в суд. Конца-краю ей нет… На сегодня дело так и не закончено, преступник наказания не понес, милицейские чины — тем более.
Еще одна история. Какой-то там хозяйственный спор. Две женщины в офисе. Выродок вышибает ногой дверь, разносит офис в хлам, избивает женщин ногами. От жертв следует заявление в милицию. Сколько продолжается поиск нарушителя, если известно его место жительства? Год! Год пишутся письма, повторяются аргументы, высказываются требования привлечь негодяя к ответственности. Год милиция заматывает дело, играя в свои игры. Почему? Потому что выродок — приятель местной банды в милицейских погонах.
Есть у меня в архиве и дело об освобождении от ответственности убийцы, который нанес жертве 4 удара ножом. И снова «за истечением сроков давности уголовного расследования» — через два года после совершения преступления. Есть другое дело — против 85-летней женщины, награжденной орденами и медалями, ветерана войны, переводчика, работника дипломатических миссий. Она, якобы совершила уголовное преступление в составе организованной группы — мошенничество!
Есть дело о нападении милиции на юношеский военно-спортивный клуб, проводивший занятия не природе. С избиениями, задержанием, похищением снаряжения и бесконечными издевательствами. Я просил руководство МВД не оставить проходимцев, просочившихся в органы правопорядка, без наказания. Им место не в милиции, а в тюрьме. Но система произвола стойко стояла на страже интересов своих послушных холопов. Дело то прекращали, то возбуждали. Пока срок давности не истек.
Об историях на российских дорогах и проклятых «гаишниках» и говорить не стоит. Каждый, кто когда-либо садился за руль автомобиля, знает, сколько унижений ему пришлось вынести от людей с полосатыми палочками, в массовом порядке проводящими изъятия денег у населения.
Наступление на конституционные права граждан в настоящее время осуществляется самым широким фронтом.
И милиция при этом энергично обслуживает интересы олигархии, которая мечтает о превращении России в полицейское государство. Особенно ярко это видно по репрессиям против политических активистов. Сотни людей сидят за колючей проволокой, тысячи занесены в «черные списки» только потому, что имеют свое мнение, собственные политические убеждения и стремление высказывать их публично.
Произвольные задержания без всяких оснований практикуется все шире. Милиция зачастую берет на себя функции физической расправы, если иных методов «вразумления» для гражданина власть не находит. Правоохранительная система в целом демонстрирует полное бессилие против криминализации МВД. Причина тому — криминализация власти, в которой проблемы решаются не по закону, а по произволу.
Разложение МВД зашло очень далеко. Криминальные методы вошли в плоть и кровь милиции. Потому что атмосфера вседозволенности прямо насаждается милицейским начальством. Здесь закон никому не писан, а собственные подлецы — всегда на хорошем счету. Профессиональная — бездарность, склонность к силовым методам подавления любого протеста, готовность покрывать преступления в системе государственной власти в целом и в правоохранительной системе в частности сулят нашей стране тягчайшие испытания. Рассчитывать, что народ будет безропотно и пассивно воспринимать такое издевательство над собой, опрометчиво. Сопротивление власти, попирающей законы Божии и человеческие, не может не начаться.
Ситуация в милиции убеждает в одном: это министерство должно быть либо распущено, либо полностью реорганизовано. Служащее там начальство вполне пригодно для тюремной камеры, но не для того, чтобы защищать граждан.
Размышления о кадрах
От Путина долго ждали серьезных изменений в кадровой политике и трансформации системы управления государством. И кое-чего дождались. Прежде всего, «питерской волны» ельцинистов, слегка потеснивших екатеринбургский клан номенклатуры, и нового наплыва военных, подавшихся в управленцы. По части госреформ дождались системной мобилизации антигосударственной бюрократии и предоставления ей невиданных привилегий, впечатляющих даже в сравнении с коммунистическими временами.
Несколько лет Администрация Президента трудилась ради разрешения проблемы, которая была по силам любому толковому обладателю юридического диплома. Разумеется, толковый юрист даже без всякого опыта мог открыть Конституцию и найти там полную информацию о том, какова должна быть структура правительства и как в нем распределены полномочия. Администрация Президента на такой шаг не решилась и шла к тем же выводам кружными путями, щедро расходуя бюджетные средства в покрытие своей бестолковости. В результате гора родила мышь — утвержденная структура правительства оказалась совершенно непродуманной. Административный аппарат замер на многие месяцы без соответствующих приказов по штатному расписанию и должностных инструкций. Работа центральных органов власти была парализована, что в полной мере высветило некомпетентность той команды, которая готовила некие «реформы Козака» и о деятельности которой с благоговением шелестели внутрибюрократическе сплетни. Реформаторы даже не удосужились отработать момент введения своих нелепостей в административную жизнь. У них в решающий момент оказалось все не готово, позабыто или дурно сделано.
Вся эта команда оказалась не только бездарной, но и циничной. Подсунув Президенту на подпись указ о новой структуре правительства, она только после триумфальных гимнов о завершении своей работы обнаружила, что грубо попирает действующее законодательство. В недрах Администрации Президента был спешно состряпан и внесен в Думу законопроект, в котором курьез пытались разрешить. Вышла опять нелепость, которую не допустил бы в такой ситуации даже студент-юрист. Реформаторы прямо предписали своим думским марионеткам из «Единой России» проголосовать за положение о том, что Правительству на неопределенный период вплоть до принятия законов соответствующего профиля разрешается нарушать иные действующие законы, в которых установлены положения о структуре органов исполнительной власти.
Кроме того, некомпетентность организаторов «реформ Козака» проявилась и в том, что в России закреплено фактическое существование двух правительств — вместо главы государства Президент теперь исполняет обязанности второго премьера, курирующего ряд министерств и отвечающего за результаты их работы. Бюрократия взвалила на плечи Президента функции, не отраженные в Конституции, и сняла с себя соответствующий груз. Насколько дорого стране обходится расслабленность чиновничества, показал теракт в Беслане, когда просто некому было брать на себя ответственность за противодействие бандитам, а президент остался на несколько дней в полном одиночестве.
Дело конечно не в том, чтобы быть верным ельцинской Конституции, а в том, что в действиях власти должна быть элементарная логика. Если считаете эту Конституцию священной, не надо уверять, что в «реформах Козака» все чисто с правовой точки зрения. А если уж нужны эти реформы, то поменяйте Конституцию — тем более что в Думе имеется достаточно голосов и избыток послушности, чтобы это сделать. Такой логике в Администрации Президента не обучены — там кадровый состав набирался исходя из политической целесообразности, а целесообразность в свое время определяли патологические мерзавцы. Отсюда и вся незадача с «реформами Козака».
В столь же спешном порядке и с тем же произвольным отношением к праву был принят куцый по размерам и убогий по содержанию закон о госслужбе, основное содержания которого свелось к гарантиям госслужащим как по части номенклатурного перемещения с должности на должность, так и по части привилегий материального характера. Закон проскользнул сквозь Думу в момент, когда оппозиция билась против «социального пакета» правительства, усекавшего социальное обеспечение до постыдной безобразности. Чиновники получали фактически то, что «Единая Россия» и ее хозяева в Администрации Президента отнимали у населения.
Понятно, что «птичка сама себе на хвостик не накакает». Поэтому «птички» из Администрации Президента, пропитанные ельцинизмом до полной атрофии совести, даже не попытались ввести в систему госслужбы обязанности, которые выстроили бы государственное управление и ограничили бездонную глупость местной бюрократии, плодящейся как кролики. Не введены ни границы штатной численности, ни пределы размеров жалования, ни нормативы исполнения должностных обязанностей, обеспечивающие государственные функции. Бюрократия формально-законным образом получила беззаконные возможности делать то, что делала всегда — коррумпироваться, воровать и издеваться над гражданами.
Особо подлая сторона «реформ Козака» — раздевание российских регионов, получивших массу обязанностей без какого-либо финансового обеспечения. Это превращает местную власть в команду пожарников, которые ждут, когда им в бочку нальют воду, чтобы потом оправдываться, почему выгорело полгубернии. Понадобились жертвы Беслана, чтобы прийти к выводу, что федерализм — никуда не годная система организации власти, в которой никакая «вертикаль» власти состояться не может, а присутствует только спихивание ответственности перед нацией с одного бюрократического этажа на другой. Но даже отмена выборности губернаторов никакой «вертикали» не установила, поскольку тут же возникли проблемы с избираемыми мэрами городов, главами районов и т. д. «Вертикаль» будет иметь смысл, если в ней будут не только должностные отношения, но также этика служения и идеология государственности. Ничего такого пока в административных инициативах власти не просматривается.
Наконец, местное самоуправление в рамках «реформ Козака» оказалось какой-то раковой опухолью, которая требует новых и новых затрат «на демократию». Теперь местное самоуправление с самостийными бюрократическими группировками можно будет обнаружить буквально под каждым кустом — в каждом хуторе будут добиваться выборности власти, а с недавнего времени — еще и по партийным спискам. А потом вешать на нее обязанности, с которыми не справляется ни федеральная ни региональная власти. Пусть граждане грызутся меж собой до потери пульса по всяким пустякам — вот позиция правящей бюрократии. Граждане же не хотят грызни, не хотят голосовать на местных выборах — просто не приходят на выборы, сколько ни понижай планку явки. Не хотят, так заставят — принудят к дикой демократии, внедряемой в соответствии с очередной идиотской догмой, рожденной невеждами и бесстыдниками.
Все эти реформы для государства — то же, что приватизация для экономики. Они идут не от жизни, не от интересов и потребностей выживания нации и страны, а из убогой «теоретической» мысли, изысканной на мировых идеологических помойках. В оправдание воров, в их интересах. Догма-пропаганда эффективности, конкурентоспособности и т. п., практика-реализация принципов воровской шайки.
Проблемы госуправления, заострившиеся в результате «реформ Козака» (в 2008 году они фактически были признаны провальными) и высветившие глубокую некомпетентность идеологов и проводников этих реформ, ставят перед Россией проблему проведения кадровой революции и принципиального изменения отношения к госслужбе. Прежде всего, необходимо верно оценить кадровые ресурсы и кадровые резервы.
Бюрократическое управление в древних цивилизациях всегда уравновешивалось жреческой элитой и харизматической мощью правителей. Даже в Древнем Египте, где всеми делами заправляли писцы, их образованием ведало жреческое сословие, а фараоны направляли государственную стратегию. В современной России «писцы» стали во главе государства и диктуют остальным социальным группам свою этику — беспринципную мораль покорности и услужливости к вышестоящим, мораль произвола и пренебрежения к нижестоящим. Государство «писцов» может содержать народ только как холопов своей системы — предельно неэффективной, с точки зрения принимаемых решений, и оскорбительной для гражданского достоинства.
Народ ожидал, что во власть придет некий «путинский призыв» — невиданные люди с чистыми руками, совестливые и толковые. Эти ожидания остаются напрасными. Восстановления кадровой «вертикали» не получилось. Госкадры остаются раздробленными по частным проектам с личными задачами, по кланам, обслуживающим олигархов. При Путине во власти утвердился принцип фюрерства: образовалась цепочка клиентских отношений — фаворит тянул за собой фаворита меньшего ранга. И в администрации продолжилась возня кланов, которые продолжают делить власть, а не применять ее в интересах граждан. Путин и пальцем не пошевелил, чтобы прервать ельцинскую традицию фаворитизма в кадровой политике. Он ее продолжил и укрепил, отчего кадровый состав госслужбы продолжил свою качественную деградацию.
Диктатура «писцов» не может продолжаться долго. Древний Египет кончился бы очень скоро, если бы даже при имеющихся сдержках «писчего» образа жизни позволил этому сословию укрепляться и передавать свои навыки властвования по наследству. Власть жрецов над писцами создала долговременную устойчивость и в каком-то смысле создала ту утопию, о которой позднее мечтал Платон, видевший философов во главе государства. У нас реализуется бюрократическая антиутопия, вперемежку с либеральным бредом.
Казалось бы, военные представляли собой естественный ресурс для призыва на госслужбу. Выправка и привычка четко и вовремя рапортовать сложили иллюзию, что человеку в погонах многое можно поручить. И это действительно так, покуда плечи служивого не обременяют большие звезды. Капитаны и майоры, в крайнем случае — полковники и подполковники, еще на что-то годятся, а вот с генералов начинается жуткая личностная деградация, которая в полной мере выражена в состоянии российской армии и флота. Увы, на госслужбе ждут, прежде всего, генералов с их небывалыми амбициями, заносчивостью и удивительным сходством с худшими представителями сословия «писцов». Конечно, и здесь есть исключения. Но мне о таких неизвестно. Все известные случаи, когда генерал получал высокую должность на гражданской службе, кончались либо полным крахом, либо диким воровством.
Беда «силовиков» — в полной утрате смысла службы. В особенности на самых верхних этажах военной иерархии. Прежние воины были одновременно и дворянами, сочетая самое глубокое и разностороннее образование с практикой военной службы. С ранних лет служилая аристократия обучалась сословной этике, становящейся частью боевого искусства. Генералы были профессиональными губернаторами, а не становились ими волей случая. Что очень важно, военные воевали, а не готовились к войне. Они на практике знали цену жизни и цену государственного суверенитета. Все это было бесценным нравственным ресурсом при переходе на госслужбу. Современные военные лишены подобной практики, даже если они прошли горнило войны с чеченскими бандитами. В Чеченской войне у нашей армии не было достойного противника — врага не за что было уважать. А это накладывает на участников боевых операций, прежде всего на офицеров, не тот отпечаток, который оставляли войны прежних эпох. Рыцарскую этику и милость к поверженному врагу здесь замещает взаимное зверство.
Госуправление и военная служба в любой национальной традиции едины. Для России это особенно очевидно. Прежде всего потому, что имперская периферия требовала именно военизированного управления. Точно также огромные пространства пограничных губерний и удаленных провинций требуют не демократии, а локальной диктатуры генерал-губернатора. Тип современной российской государственности одновременно губит и основы государства, распространяя демократические процедуры там, где их не должно быть, и сословные перспективы воинского сословия, не находящего себе вне воинских частей никакого поприща и тем самим оторванного от государственных дел.
Армия могла бы стать источником кадров для государственных дел. Но для этого нужно оставить попытки выискать достойных людей в умирающей советской военной машине, созданной в эпоху массовых армий. Отдельные достойные личности там, безусловно, есть (как и везде). Но системных поставок в госаппарат постсоветская армия осуществить не может. Она лишь в состоянии имитировать выправкой и командным голосом некоторые необходимые гос-службе качества. Военное сословие, лишенное этических норм и соответствующего образования, без кардинального изменения в системе подготовки к службе не может пополнять госаппарат. Мода призывать «силовиков» на госслужбу дорого обходится России, в которой управленцы порой не в состоянии понять элементарных норм гражданской жизни и буквально невежественны в тех областях, где от госслужащего требуется высокий профессионализм. Только восстановление аристократического характера офицерства может в будущем дать госслужбе источник достойных кадров. Без глубокой реформы самой армейской службы, без восстановления офицерской чести и славы армии как Христова воинства заимствование кадров госслужбы из армии будет лишь пересаживанием некомпетентных «писцов» с места на место.
Либеральная публика много ждала от внедрения в политику бизнесменов. Но те обычно шли на госслужбу, только когда бизнес явно шел к закату или нужно было переждать какое-то уголовное дело. Примеров удачного выступления бизнесменов на политической арене, которые дали бы стране (или какой-нибудь области, городу) хотя бы какие-то признаки успеха, не наблюдается. В силу индивидуалистического пути образования нынешних российских капиталов (а чаще всего — просто воровского пути), в сословии «кормильцев» не может быть этики государственного служения. Госслужба в любом случае воспринимается «купцами» как род бизнеса. Эта социально-профессиональная категория не в состоянии видеть общенациональный интерес и в последние годы всегда тягала в собственный карман все, что плохо лежит. В этом смысле бизнесмен на госслужбе сталкивается с противоречиями собственным повседневным привычкам и по большей части делает выбор в пользу частных или клановых интересов — просто совмещает в себе жулика-предпринимателя и коррумпированного им же чиновника.
Купцы и дельцы на госслужбе могут только одно: подчинять государство своим частным интересам и насаждать аморальные нормы поведения не только на госслужбе, но и в обществе в целом. Группу высшего чиновничества можно снова назвать «семибанкирщиной», поскольку вытесненный с ведущих позиций отряд олигархов воспроизвелся в новом составе — в узкой компании лиц, для которых свойственна мораль менял и ростовщиков. Мораль этой группы состоит в том, чтобы минимизировать государство, но максимально расширить полномочия бюрократии. Их бизнес при этом выводится из-под контроля, а граждане попадают под жесточайший пресс «писцов». В этом смысле «писцы» и дельцы создают симбиоз, направленный на разрушение России и уничтожение национального самосознания граждан.
Купеческий стиль управления — это стиль людей с «короткой волей». Подобными характеристиками обладают разве что разбойники с большой дороги, которым лишь бы ухватить добычу, а потом лежать на боку, потребляя захваченные ценности. Современный бизнес в России именно таков — он не нацелен на стратегические цели и не добивается успеха своего дела. Он даже не оптимизирует прибыль, а только укрупняет ее в отдельный момент времени. Оттого происходит перетекание капитала из отрасти в отрасль не в силу структурной перестройки, а в силу решения задачи «спрятать концы в воду». Ожидать от такого рода дельцов плодотворного государственного служения не приходится. Тем более, они, не имея собственной стратегии и не замышляя ее для государства, легко становятся элементами чужой стратегии — прежде всего стратегии транснациональной кооперации по захвату российских ресурсов и разрушению российской государственности.
Россия живет под наркозом либеральной пропаганды и пока не в состоянии понять, отчего ее так ломает и корежит от любого телодвижения власти. Те же, кто сбросил с себя дурман либеральных догм, легко определят причины болезни. Это диктатура либеральной бюрократии — ее «писцов», «силовиков» и «купцов». От либерализма следует все — коррупция, измена, пренебрежение гражданскими правами, сепаратизм, некомпетентность. Ведь либерализм связан со вполне определенным типом мышления и поведения. Это нерусский тип. Русскому быть либералом крайне затруднительно. Поэтому либеральная власть во всех отношениях оказывается нерусской и даже антирусской.
В связи с этим любые попытки обнаружить кадровый резерв среди той или иной социальной группы, профессиональной корпорации или землячества, обречен на провал — вперед всегда выдвинутся либералы, получившие в прежние годы огромные преимущества по части фабрикации своих биографий и имитаций профессионального опыта. Этим людям Путин дал возможность в очередной раз гальванизировать свои бюрократические мышцы и с новыми силами стдаить горло России, и без того задыхающейся в тисках либерализма.
Кадровая революция возможна только в том случае, если подбор людей на госслужбу будет иметь идеологический характер. Дело не в опыте и не в социальном происхождении, а в мировоззрении. Иного, как ни подкупай, невозможно свернуть с нравственного пути, другому — только дай повод прихватить чужое. Психологические и биофизические тесты наверняка могут выявить это различие хотя бы в самой грубой форме. В остальном же власть обязана провозгласить принципы этики государственной службы — служения интересам страны. Они могут быть только идеологизированными, а идеология выбрана на основе знания очевидных и ужасных следствий коммунистических и либеральных экспериментов над Россией. То есть, выстроена «от противного».
Спасению Родины может способствовать только слой людей, кровно причастных к ее судьбе и ни в коей мере не связанных ни с какими зарубежными проектами. Это должна быть русская кадровая революция против бюрократической диктатуры «общечеловеков». Возможна она только в одной форме — в форме новой опричнины, когда политический лидер создает в своем прямом подчинении отряд «молодых волков», «комиссаров». Этот отряд начинает терзать старых «спецов», последовательно отнимая у них полномочия и вытесняя из госслужбы. Мы не избавимся от изменнических кадров в госаппарате, пока не проведем кампании по изживанию саботажа, измены и коррупции. Такая кампания возможна только в связи с разгромом либерализма, сдерживанием лево-коммунистической реставрации и утверждением национал-консервативных сил во власти. Именно эта идеологическая позиция в состоянии породить новую стратегическую элиту для России.
Путин в силу своего образования и жизненного опыта мало чего знал о такого рода возможностях. Не будучи уверен в успехе, он так и не собрался провести кадровую революцию и неизбежную при этом переориентацию власти на нелиберапьные и несоциалистические ценности. Поэтому русским в ожидании национального лидера остается «перетерпеть Орду» и готовиться к реваншу своей исторической традиции.
Как хуже реорганизовать госслужбу
В первые месяцы работы Государственной Думы IV созыва на обсуждение был внесен проект федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации». При всей важности регулирования вопросов госслужбы, проект не был обсужден, а процедура его принятия вылилась в фарс.
Между тем, была очевидна недостаточность обоснования мотивов принятия такого закона. Цель никем не формулировалась. В преамбуле проекта была лишь ссылка на другой закон — «О системе государственной службы». Было бы желательно, чтобы эта ссылка приобрела более конкретное, развернутое содержание. Но целью бюрократии было скрыть истинные цели законопроекта, который вводил невиданные привилегии для чиновников. Прикрытием бессовестной манипуляции законодательством, как всегда, служили бессодержательные ссылки на Конституцию РФ.
Бюрократия, продавливая через парламент свой привилегированный статус и невиданные «социальные гарантии», действовала грубо, косолапо. Важнейший закон был изложен на совершенно неудовлетворительном языке — сером, бесцветном, невзрачном. Так можно писать в лучшем случае технические инструкции, но принятая лексика совершенно недопустима в законодательстве, которое предназначено для использования и исполнения гражданами.
Это замечание допустимо отнести ко всему законодательству в целом, принимаемому в наше время. Это не досадная ошибка, а господствующий стиль. Если государственная гражданская служба регулируется законом, изложенным на суконном, сером языке, то точно такой же обречена стать и регулируемая им служба, такими же серыми, бездеятельными, апатичными обречены быть чиновники этой службы. Жизнь подтвердила: за серым законом последовали серые будни тотальной коррупции, тотального бесстыдства и непрофессионализма чиновников. Закон дал подлецу и наглецу на госслужбе уверенность в том, что для гражданина он неуязвим.
Законопроект состоял из 74 статьей на 134 страницах. Казалось бы, большой, подробный закон. Но это иллюзия. В действительности практически все статьи, за некоторыми исключениями, это декларации, которые могут воплощаться в действительность лишь после издания огромного количества правительственных актов и актов на региональном уровне. Эти акты на самом деле и стали опорой чиновников, которым «Единая Россия» вручила то, что не имела права вручать — конституционные полномочия народного представительства.
У нас есть опыт, отраженной в Своде Законов Российской Империи. В нем гражданская служба описывалась 1010 статьями. Очевидно, в Российской Империи государственной службе уделяли значительно больше внимания, чем сейчас, хотя чиновников тогда было на порядок меньше. Это был действующий закон. «Единая Россия», приняв современную систему гражданской службы, узаконила произвол.
Деление нормативного регулирования на декларативные законы и практические инструкции находится в вопиющем противоречии с принципом разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную ветви. В такой системе власти не может в принципе быть законов-деклараций. Как и не может быть нормативно-правовых актов исполнительной власти. Поэтому следует говорить о мнимой полноте закона. Исполнители должны исполнять законы, а не творить право. Законодатели должны создавать нормы прямого действия, а не писать декларации.
Закон, регулирующий государственную гражданскую службу, должен быть раз в 10–20 больше по объему. Его нормы должны исключить какую-либо необходимость в произволе исполнительной власти под видом издания инструкций, уточняющих закон. Это прямое посягательство на принцип разделения властей, а значит — на основы Конституции. Но так как законопроект изложен в форме деклараций, то никакими поправками подобные принципиальные недостатки не исправить! Иначе говоря, мы имели заведомо антиконституционный закон.
Я не испытываю священного трепета перед Конституцией, набитой нелепостями. Но я уважаю основной закон. В отличие от чиновников, которые готовы публично молиться на Конституцию, но в грош не ставят зафиксированные там положения. А раз так, то в стране исчезают всякие следы законности. И начинается это беззаконие — с зала заседаний Госдумы, где произвол прямо предписывается, где фиктивные законы подталкивают исполнительные органы к произволу всюду и везде.
В законе перечислены «принципы гражданской службы». Главным в них указан «приоритет прав и свобод человека и гражданина» — текстуальное воспроизведение одной из статей Конституции РФ. Но, вырванный из контекста, этот принцип приобрел двусмысленный характер. Получается, что закон не предполагал в качестве одного из принципов госслужбы приоритет национальных и государственных интересов. Получается, что на государственной гражданской службе этими интересами можно вообще пренебрегать. И эта, казалось бы, умозрительная установка внедрилась в повседневную жизнь чиновничества.
В законе указано, что регулирование отношений, связанных с государственной гражданской службой Российской Федерации возможно по правилам международных договоров. Более того, определено, что при расхождении положений закона и международного договора, действуют положения международного договора. Увольнение гражданского служащего при приобретении им гражданства другого государства отдано на решение представителя нанимателя, причем с существенной оговоркой: «если иное не предусмотрено международным договором».
Подобные нормы представляют собой механическое воспроизведение одного из положений Конституции РФ. В данном случае такие нормы вообще невозможны! В сфере государственной службы, как и в законах, регулирующих вопросы воинской службы, ссылки на международные договоры, которые должны исполняться, а национальные законы не исполняться, неуместны. Потому что это измена. Но на такие «мелочи» правящая группировка никогда не обращала внимания. При нужде она могла распоряжаться по произволу, не обращая внимания ни на международное, ни на внутреннее право.
Гражданскому служащему вменялось в обязанность «проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов РФ», «учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий». Это положение способно разрушить и подорвать государственный характер службы как таковой. К тому же совершенно непонятно, о каких обычаях и традициях, каких группах и конфессиях идет речь. Неужели госслужащие должны будут учитывать особенности последователей вуду, Аум Синрекё и т. д.? Неконкретной деклараций ведет либо к нанесению вреда государству и народу, либо к полной бесполезности закона.
В одном из разделов был изложен порядок «урегулирования конфликта интересов на гражданской службе», под которым имелось в виду противоречие между личными интересами гражданского служащего и интересами службы. Но в законе не было нормы, регулирующей конфликт, который может возникнуть между интересами субъекта РФ и самой Российской Федерацией, между различными субъектами РФ, о которых в этой статье вскользь упомянуто. Это очевидный пробел законопроекта совершенно не смутил ни разработчиков, ни депутатов, привыкших к хоровому голосованию по воле дирижеров, назначенных из президентских кругов.
Антиконституционный абсурд предполагал, что закон в целом ряде статей наделит Президента РФ новыми полномочиями, не предусмотренными Конституцией РФ. Тем самым был нарушен принцип разделения властей, а Президент нагружался дополнительными (порой прямо нелепыми) функциями. Президенту разрешено было определять случаи предъявления «иных документов», необходимых при заключении служебного контракта, порядок ведения сводного реестра государственных гражданских служащих, определять должности гражданской службы категории «руководители», которые должны сдавать квалификационный экзамен, устанавливать размеры должностных окладов и окладов за классный чин федеральных госслужащих, порядок, условия и сроки проведения экспериментов в рамках программ развития гражданской службы в отдельных федеральных государственных органах и т. д. Вместе с тем все полномочия Президента РФ исчерпывающим образом предусмотрены Конституцией РФ и возможность их расширения может иметь место лишь в виде внесения изменений в Конституцию РФ.
Весь этот бред прошел процедуру принятия и стал частью правового абсурда, который ежечасно подрывал Россию, отдав ее в руки бессовестности чиновника и произволу президентской администрации. Увы, даже оппозиционные депутаты в парламенте не заметили системной ошибки, а точнее — замысла, срывавшего всякие перспективы разумного устройства государственной власти. Мои возражения против закона не были поддержаны, а парламентская процедура позволила отмахнуться от попыток изложить претензии к абсурдному закону, как от назойливой мухи.
Правительство: полномочия «от фонаря»
В апреле 2004 года президент внес в Государственную Думу два законопроекта «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации» и «Об изменении и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с осуществлением мер по совершенствованию государственного управления».
Присмотревшись к этим документам, я, будучи еще совсем неопытным парламентарием, сразу понял их катастрофическую роль. Изменять Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации», принятый в 1997 году, не было никакой необходимости, потому что его надо было отменять. Это законодательная ошибка! Понять это мне помог мой соратник и помощник Сергей Петрович Пыхтин.
Дело в том, что в Конституции РФ отсутствует положение, обязывающее принимать федеральный конституционный закон о Правительстве РФ. Но Конституция (п. 2 ст. 114) предписывает принять федеральный конституционный закон о порядне деятельности Правительства. Однако такой закон, предполагающий процессуальные нормы, регламентирующие именно деятельность Правительства РФ, даже не разрабатывался. Более того, установления порядка работы Правительства, который Конституция предписывает сформулировать в специальном конституционном законе, в этом законе каким-то образом оказывается в компетенции самого Правительства, предоставляя ему право на самостоятельное утверждение некоего Регламента (статьи 27 и 28). Таким образом, нормы данного закона содержат положения, прямо нарушающие Конституцию!
Из-за такого подхода в первоначальную редакцию закона, о который был внесен Президентом, не вошли нормы, регламентирующие порядок деятельности Правительства. Более того, из его 47 статей 35 так или иначе являлись буквальным воспроизведением положений Конституции РФ, главным образом связанных с описанием правительственных полномочий.
В данном законе было допущено игнорирование фактически заложенного в Конституции РФ принципиального различия между институтами власти и органами власти. Получается, что это одно и то же: что власть в целом, что ее орган. Все свалено в кучу: правотворец и исполнитель, целое и часть. Статусом институтов власти на федеральном уровне Конституция наделила Президента, Федеральное Собрание, Правительство, суды и Центральный Банк России. Остальные государственные учреждения предназначены для обеспечения деятельности институтов власти _ и имеют иной статус — органов власти. В Конституции нет термина «институт власти», но в ст. 110 сказано, что «исполнительную власть Российской Федерации осуществляет Правительство Российской Федерации». Оборот «орган власти» применительно к Правительству не использован. Однако «Закон о Правительстве» попирал это обстоятельство и устанавливал прямо противоположное: Правительство РФ там названо «высшим исполнительным органом государственной власти Российской Федерации». Это означает, что роль института у Правительства отнята. Понятно, почему в Администрации Президента — этом неконституционном заведении — создано фактически параллельное правительство.
Очевидна разница между институтом и органом власти. Она состоит в том, что только институт власти обладает властными полномочиями, когда как орган власти наделен лишь таким кругом прав и обязанностей, которые дают ему возможность обеспечивать исполнение решений, принимаемых институтами власти. Так, для обеспечения исполнения полномочий Президента РФ при нем состоят Администрация Президента, Генеральный штаб Вооруженных сил, Совет безопасности, полномочные представители Президента, дипломатические представители РФ. При Федеральном Собрании — Счетная палата, Уполномоченный по правам человека, аппарат палат Федерального Собрания. При судах — прокуроры, судебные приставы. Исполнение полномочий Правительства обеспечивают федеральные органы исполнительной власти — министерства и ведомства, которые учреждает, создает, формирует и финансирует власть.
Из этих различий следует, что правом на издание нормативных правовых актов, то есть актов публичного права, обязательных к исполнению в РФ, обладают лишь институты власти (или, как их неверно обозначает законодательство, «органы государственной власти»), но им не могут быть наделены органы власти. Руководители последних могут издавать лишь распорядительные акты, действующие в административных пределах соответствующих органов и обязательные для исполнения только его служащими. Однако вопреки этому сложилась практика, когда органы исполнительной власти издают нормативные правовые акты, что опять-таки, закреплялось президентскими законопроектами.
Конституция (пп. «ж» п.1 ст. 114) установила, что перечисленные в ней полномочия Правительства (они в прямой и косвенной форме установлены в ст. ст. 71, 72 и 114) не являются исчерпывающими, и они могут быть дополнены федеральными законами и указами Президента. Подобной нормы нет ни в отношении палат Федерального Собрания, ни в отношении Президента. Следовательно, полномочия этих институтов власти, определенных Конституцией, являются исчерпывающими и не могут быть ни сужены, ни расширены актами законодательства. Но в президентских законопроектах как раз содержались положения, расширяющие полномочия Президента. И это не случайность. Узурпация власти происходила, как мы выяснили, многие годы. Положения, приписывающие Президенту неконституционные полномочия, содержатся более чем в 80 федеральных законах!
Форма институтов власти предписана Конституцией. Судебная власть представляет собой децентрализованную судебную систему, в которой каждый судья независим и подчиняется только Конституции РФ и федеральному закону. Центробанк, наоборот, централизован. Глава государства персонифицирован, тогда как палаты Федерального Собрания — собрания депутатов. Правительство — собрание федеральных министров, действующее по принципу коллегии, решения которой должны приниматься путем голосования. Конституция упоминает федеральных министров в качестве членов Правительства, но она нигде не упоминает, что министры одновременно являются руководителями федеральных органов исполнительной власти. Этот вопрос вполне может быть урегулирован федеральным конституционным законом о порядке деятельности Правительства. Вместе с тем Конституция предписывает разделение государственной власти и самостоятельность каждого ее института (органа государственной власти). Стало быть, ни один институт власти не вправе непосредственно вмешиваться или подчинять себе другой институт власти.
Конституция наделила Президента правом председательствовать на заседаниях Правительства, однако Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации» и законопроект о внесении в него изменений содержали норму, согласно которой «Президент… руководит деятельностью федеральных органов исполнительной власти». Это прямая узурпация полномочий, которыми Президент по букве Конституции обладать не может!
В первоначальной версии Федерального конституцион-ного" закона «О Правительстве Российской Федерации», принятого в 1997 году, содержалась статья 5, которая устанавливала, что «система федеральных органов исполнительной власти устанавливается федеральным законом». Через две недели после принятия закона эта статья из уже подписанного президентом Б.Н. Ельциным закона была исключена, после чего все процедуры, связанные с созданием, упразднением и реорганизацией федеральных органов исполнительной власти были отнесены к компетенции Президента и стали определяться его указами. На этот счет существует специальное решение Конституционного суда, в котором доказывается, что законодательная власть, якобы, лишена Конституцией права принимать федеральные законы на этот счет. Но это суждение не соответствует, с одной стороны, положению п.1 ст. 76 Конституции, определившей, что «по предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы и федеральные законы», а с другой — содержанию главы 4 Конституции, где среди полномочий Президента нет соответствующего правомочия. Мы снова сталкиваемся с очевидной узурпацией. Причем, с участием Конституционного суда.
При наличии доброй воли, проблема решается довольно просто. Если следовать положениям п.1 ст. 112 Конституции, обязывающей Председателя Правительства представить Президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти, и п.1 ст. 76, то это должно означать, что принятая Президентом версия структуры/си-стемы таких органов должна приобрести форму федерального закона. Президент не может формировать Правительство, как ему вздумается, учреждая или упраздняя правительственные должности и структурные подразделения. Президент по каждому изменению в Правительстве обязан вносить в Госдуму проект закона.
Основа конституционного строя — принцип законности. Это предполагает, что вся деятельность институтов и органов власти должна соответствовать и непосредственно опираться на нормы федерального закона. Но этот принцип стал размываться. Сначала в форме допущения издания указов Президента, «пока не принят соответствующий федеральный закон». Теперь — в форме разрешения Правительству нарушать или игнорировать положения федерального закона. Именно такую норму бюрократы-узурпаторы внесли от имени Президента в проект закона «О внесении изменений в Федеральный конституционный закон “О Правительстве Российской Федерации”».
Чтобы пресечь узурпацию власти и вернуться к конституционным нормам, требовалось:
1) разработать и принять федеральный конституционный закон «О порядке деятельности Правительства Российской Федерации», в связи с чем признать утратившим силу федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федерации»;
2) привести ранее принятые федеральные законы в соответствие с Конституцией РФ, исключив из них не соответствующее ей наделение федеральных органов исполнительной власти полномочиями, которые должна принадлежать лишь Правительству РФ;
3) разработать и принять федеральный закон «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», который будет подлежать изменению, если в систему или структуру таких органов по инициативе Президента потребуется внести коррективы;
4) принципиально определиться с тем, что федеральные органы исполнительной власти (министерства, службы, агентства и т. д.) не творят право, а лишь исполняют его, и привести ранее принятые законы в соответствии с этим принципом;
5) принципиально определиться с тем, чтобы текущее федеральное законодательство не расширяло полномочия, которыми наделен Президент России, согласно главе 4 Конституции РФ, и привести ранее принятые законы в соответствии с этим принципом.
К сожалению, опыт нескольких месяцев деятельности Госдумы нового созыва свидетельствовал, что какая-либо продуктивная работа с прокремлевским большинством в депутатском корпусе невозможна. Оно уклонялось от профессионального обсуждения законопроектов и превращала процедуру обсуждения в фарс, сворачивая ее до нескольких минут, независимо от сложности и важности рассматриваемых вопросов.
Мне удалось добиться принятия только двух поправок к президентскому проекту. Одна из них исключала введение термина «система Правительства» в формулировке того, что же представляет премьер на утверждение Президенту. Всего-то надо было посмотреть на формулировку в Конституции, где в аналогичном фрагменте слова «система» нет. Поправка была принята. Второе предложение касалось сохранения прежнего порядка подписи заключений правительства на законопроекты — не по правительственному Регламенту (как предлагалось), а по закону «О Правительстве РФ». Эта поправка была также принята.
Более существенные поправки к президентскому проекту не пропустили. Прежде всего, было блокировано установление полномочий Правительства законом.
В ст. 114 Конституции очевидна логика: часть 1 посвящена функциональным обязанностям правительства; в соответствии с частью 2, Думе необходимо принимать федеральный конституционный закон о порядке деятельности правительства. Я предлагал распределение полномочий в правительстве рассматривать как функцию и относить к порядку деятельности. Для чего нужен закон о порядке деятельности. Комитет по конституционному законодательству обращал внимание на пункт «ж» части 1, который гласит: правительство осуществляет иные полномочия. Согласно позиции Комитета, под «иными полномочиями» можно понимать всё, что угодно: и любой закон, и любой указ. Моя логика была противоположной: Конституция требует принять закон, и мы его принимаем, исчерпывая перечень полномочий Правительства именно в законе. «Партия власти» предпочитала оставить вопрос о полномочиях открытым и предоставить возможность Президенту произвольно дополнять эти полномочия. И перераспределять полномочия также произвольно. В то же время, перераспределение полномочий касается внутренней жизни Правительства, а значит, должно регулироваться отдельным законом, а не указами Президента.
Меня всегда удивляло, что в некоторых случаях «партия власти» доводит почитание Конституции до культа. Но потом с той же почти щепетильностью над Конституцией водружается принцип непогрешимости и надзаконности Президента.
Конечно, Конституция не только небезгрешна, но и порочна в своей основе. Но если это так, то законнотворцам надо заниматься изменением Конституции (или ее отменой), а не ее нарушением. Но правящей бюрократии это совершенно не нужно, поскольку она вообще не желает жить по закону. Произвол трактовок Конституции означает тотальное беззаконие. Но именно это и есть форма жизни бюрократии.
Еще одна поправка касалась вопроса о том, кто должен утверждать заместителей руководителей федеральных органов исполнительной власти. Если по букве Конституции рассматривать Правительство как коллегию министров, то вопросы, касающиеся деятельности отдельных министров, должны быть отнесены к порядку деятельности Правительства, а не должны вноситься в закон о деятельности Правительства в целом. Поэтому речь шла о том, что заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти, так же как и заместитель министра, должен утверждаться Правительством, а не министром, курирующим данное ведомство. Если бы эта поправка была принята, не нужно было бы разбирать множество проблем, касающихся внутриведомственной конкуренции: руководитель федеральной службы или агентства, назначенный правительством, получает от министра навязанного заместителя. При этом сущность «замещения» искажается. Получается, что в административной системе присутствуют лица, которые реально замещать никого не могут, потому что руководителю они навязаны в порядке внутриминистерской конкуренции.
Правительство по принятому закону формировало не команду, а конфликтную среду. И к 2008 году это стало ясно. В «партии власти» заговорили о необходимости пересмотра многоуровневой структуры Правительства и отказаться от странной логики, согласно которой министерство занимается стратегией, а оперативным управлением фактически не подчиненные ему службы и агентства. Такие разговоры были связаны лишь с тем, что Правительство должно было начать в самом деле работать, а не интриговать в кремлевских коридорах, проводя свои решения через президентские структуры. Фактически это означало, что в течение всего срока президентских полномочий Путина (2000–2008 гг.) в России не было правительства, исполняющего предписанные ему Конституцией полномочия. То есть, имела место узурпация власти. Полномочия правительства стали возвращаться к норме Конституции только вместе с перемещением Путина в премьерское кресло. Так частный интерес на долгие годы подорвал законность в системе государственной службы.
Казалось бы, мелкие поправки в текст законопроекта «О правительстве», выявили фактический отказ «партии власти» от строго исполнения принципа законности, очевидным элементом которого было следование формальной логике. Если нет логики, то нет и законности. Последовательное разрушение логики привело авторов законопроекта, внесенного от имени Президента, к явному абсурду. В их тексте устанавливалось, что Правительство до принятия федеральных законов о внесении соответствующих изменений в законы может перераспределять установленные законами функции органов исполнительной власти. Перераспределять установленные законами функции! То есть прямо нарушать закон! Законом устанавливалось право нарушать закон.
По этому поводу я выступил сначала на заседании Комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству, потом — на пленарном заседании Думы. Все без толку. Там, где логика и законность принесены в жертву бюрократической иерархии, никто доводов рассудка слушать не станет.
Те, кто готовил этот законопроект, записав норму о «законном нарушении закона», были уличены как профаны, которые второпях готовили административную реформу и подорвали дееспособность административной машины. Чиновники перестали исполнять закон вообще. Всего за несколько лет профанация правового статуса Правительства и всей «вертикали» исполнительной власти привела к становлению традиции: чиновник не обращает внимания на закон, а действует либо по воле начальства, либо по своей воле.
Единственный аргумент против моей позиции, выставленный «партией власти» состоял втом, что функции только перераспределяются, но не изменяются. Кроме того, «цель-то, в общем-то, у нас одна, у нас одно государство — Российская Федерация, и цели, и задачи, и стратегию развития мы понимаем одинаково». Вроде бы, пустяковый спор. Но мне он сказал многое еще в самом начале депутатской деятельности: в Думе, в президентских структурах не собираются исполнять никаких законов.
Конституция исчерпывающим образом определяет, что может делать Президент. Например, глагол «руководить» в Конституции в части полномочий президента отнесен только к внешней политике. Но президентский законопроект захватывал целый перечень новых институтов, которыми президент начинает «руководить» вопреки Конституции. Президент стал вторым премьером, на которого навешали множество функций. Фактически это означало, что Правительство делится пополам, что любое правительственное решение требует мнения президента. Как коллегия, Правительство, вопреки Конституции, деятельность прекратило.
В 2008 году переезд Путина из Кремля в премьерские апартаменты поставил перед законодателями вопрос о возвращении к конституционным нормам. Но неприспособленность Думы к творческой работе приводила только к нагромождению одних правовых несуразиц на другие. Управление страной пытались вернуть снова в Правительство, но это привело к тому, что возник новый переходной период, в течение которого и без того обветшалое хозяйство вновь подверглось переделке под фигуру, которая в данный момент казалась «партии власти» наиболее удобной. Чтобы вручить ей все полномочия, невзирая на то, что этими полномочиями реально будут пользоваться клерки.
Вся система стала фикцией, Конституция — ничего не значащей бумажкой, государственные ритуалы и выборы — способом обмана.
Запрещено запрещать коррупцию
Дума много раз затрагивала вопрос о коррупции. Но учрежденная система госслужбы коррупцию предполагала. И, похоже, фракция большинства в Думе это осознавала. Она ни разу не инициировала законов, прямо противодействующих коррупции. А когда с такой инициативой выступил «родинец» Борис Виноградов, его законопроект был провален. Это было обсуждение 2007 года — период завершения депутатских полномочий текущего созыва.
Борис Виноградов предложил только одну частную меру: наложить запрет для чиновников иметь счета и недвижимость за рубежом. Ведь то и другое — не только путь к коррупции, но и к измене. Очевидный конфликт интересов побуждал чиновников в некоторых (или во всех) ситуациях работать не на свою страну, а на чужую, не на интересы своего государства, а на частные интересы, позволявшие накапливать богатства вне российской юрисдикции.
Возражения оппонентов были жалки и бесстыдны. «Держать деньги за рубежом — это не преступление. Преступление — это взятка» — вот и все «богатство мысли» от правящей группировки. Полностью аналогичное поговорке «Не пойман — не вор». Глупый спикер от фракции «Единая Россия» провозглашал с пафосом: «Если он размещает средства, полученные путем взятки, недвижимость в России — это разве не нарушение законодательства?» Штатный думский хам предложил «Родине» бороться с коррупцией в своих рядах. Кормящаяся с рук олигархов партия «Единая Россия» от имени своего представителя предлагала искать коррупционеров в оппозиции, которая вдоль и поперек была просвечена прокуратурой и стиснута произволом бюрократии.
От имени профильного комитета Думы было сказано, что законопроект нарушает конституционные права граждан: «Ограничения отдельных прав граждан могут быть обусловлены выполнением профессиональных обязанностей, но лишь в той мере, в какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства». Мол, каждый гражданин вправе иметь имущество в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им. Только цитата из Конституции, и никакого обоснования связи этой цитаты с законопроектом. Вся защита от коррупции — это обязанность чиновника предоставлять сведения о себе и членах своей семьи, а также сведения о полученных им доходах и принадлежащем ему имуществе. Эта информация может быть опубликована в СМИ. Кроме того, сам факт наличия счетов в иностранных банках или имущества за рубежом не может являться достаточным основанием для вывода о том, что на служебную деятельность госслужащего могут оказывать влияние иностранные государства.
Складывалось впечатление, что в ведущей фракции явно недостаток интеллектуальных кадров. И, конечно, нравственных устоев. Борис Виноградов напомнил Думе евангельскую истину: «где сокровище ваше, там и сердце ваше». Сердце «партии власти» было не в России, а в собственных кошельках, в частных накоплениях, в благосклонности начальства.
Путин, назвав себя «чиновником, нанятым на срок», фактически отразил общую тенденцию вырождения гос-службы. Госслужба превращалась в сферу услуг — своеобразный бизнес, использующий статус чиновника как основной конкурентный ресурс. Таким образом, коррупция стала неотъемлемой частью госаппарата. И устранить ее можно было только жесточайшими мерами, неординарными законодательными решениями. Ссылки на опыт стран, где коррупция была в основном подавлена, выдавали тот факт, что «партия власти» хочет жить как в этих странах (то есть, чтобы формально статус чиновника ничем не обременял его в сравнении с гражданином), но получать при этом «административную ренту» — то есть, все виды подношений помимо зарплаты. Главное в статусе госчиновника в России — возможность коррумпироваться! Думские представители бюрократии посмели цинично сослаться на права человека в отношении госчиновника. Права человека стали, таким образом, средством извлечения коррупционных доходов. Это какой-то рекорд цинизма — использовать положения Конституции в оправдание коррупции!
Только в 2008 году президент Д.Медведев стал осторожно говорить о том, что нужен закон против коррупции, который делал бы коррупционное поведение «невыгодным, и специальное ведомство, которое бы занималось этим вопросом». Но все это были слова. На деле сохранившее свои позиции большинство продолжало в Думе прежнюю политику. Разгребая спрятанные под сукном законопроекты, депутаты «Единой России» провалили еще один закон против коррупции. Под предлогом, что он «в корне противоречит Конституции», а с коррупцией, мол, позволяют бороться нормы уголовного и административного права. Как во всех подобных случаях, на трибуну вышел Жириновский, брызгая слюной, отнес все претензии к власти на 1917 год и прямо заявил: «Воровали и будем воровать. Я вам говорю правду: воруем и будем воровать! Всё!». И: «коррупцию все равно победить невозможно, потому что дети подрастают, они хотят чего-то».
В октябре 2008 года испанский судья выдал ордер на арест Ильи Резника — депутата-едроса, возглавляющего думский Комитет по финансовым рынкам. Причина — связь с мафиозными кругами. Грызлов поторопился объявить испанское правосудие в антироссийской провокации.
Партии для народа или против народа?
Казалось бы, укрепление легитимности политического режима, возникшего в результате государственного переворота в 1991 году, требовало закрепления фундаментальных правовых основ — развития конституционных положений, которые прямо предписаны самой Конституцией. Речь идет о том, чтобы принять сотни законов, конкретизирующих эти положения. Это помогло бы превратить декларации в действующую правовую систему и исключить глупости, которыми текст Конституции был набит невежественными ельцинскими юристами. Ничего подобного не делалось. Развитию подлежало только хозяйственное законодательство, да и то — в основном по части монератных отношений. Для грабежа страны было нужно одно — чтобы расхищение национального достояния приобретало видимость законности.
Как люди наивные, мы в «Родине» стремились заявиться с государствоустроительными проектами, среди которых формирование законодательной власти было самым приоритетным. Как люди прагматичные, мы не замахивались на фундаментальные задачи, а скорее зондировали почву: готовы ли в «партии власти» хотя бы устранить из законодательства очевидный абсурд.
Для меня такой зондаж оказался наиболее показательным по части попытки провести поправки в закон «О политических партиях». Вместе с помощниками мы разработали совершенно невинные, не имеющие никакой выгоды для нас поправки. Просто намеревались подправить терминологию и вернуть в закон признаки логики и конституционных основ. Позднее, когда мы стремились зарегистрировать партию «Великая Россия» и прошли огни и воды судебных слушаний, стало понятно, что закон «О политических партиях» весь состоит из правовых рытвин и колдобин, через которые проход был разрешен только по дозволению высшего чиновничества. А пока мы лишь пытались понять, можно ли в Думе работать профессионально, избегая партийной вкусовщины?
Начать требовалось с определения. По действующему закону партией назвали общественное объединение, созданное в целях участия граждан в политической жизни общества. Посредством формирования и выражения их политической воли, участия в общественных и политических акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления интересов граждан в органах государственной власти и органах местного самоуправления. При поверхностном взгляде кажется, что все здесь в порядке. При внимательном — что это полная чушь.
Кто, собственно, партию создает? По действующем закону выходило, что создавать партии мог кто угодно — хоть марсиане. Или Администрация Президента. Лишь бы в целях участия граждан в политической жизни. Поэтому мы предложили написать, что партия создается гражданами для участия в политической жизни. Но не общества (ибо это чушь!), а государства. Речь шла именно о государстве — Российской Федерации. Первая же статья Конституции РФ однозначно указывает что Российская Федерация есть государство. Именно участие партии в жизни государства и делает один из видов общественного объединения политическим объединением, то есть политической партией. Прежняя формулировка отстраняла партию от реальной политики, отправляя заниматься обществом, но не государством.
Нам также пришлось ввести в определение понятие «институт государственной власти», поскольку «орган государственной власти» — это некий фрагмент властного института, не более того. Президент — не орган власти, а институт. Дума — не орган власти, а институт. И т. д. Институт — целостность, орган — подчиненная часть. Нормы Конституции свидетельствуют о существенном различии между указанными терминами. Предложенное нами изменение подчеркивало, что партии обеспечивают реализацию механизма представительства граждан в тех институтах государства, состав которых формируется путём выборов, и в тех органах власти, которые также могут формироваться путем представительства.
Наконец, мы к иноязычному слову «акция» добавили вполне русское «мероприятие». Ибо в «акциях» партии участвуют иногда, а в мероприятиях — всегда.
Следующая статья, которую мы хотели просто избавить от абсурда, касалась недопущения создания партии по признакам профессиональной, расовой, национальной или религиозной принадлежности. Ладно бы в законе был прописан этот запрет, и понимай его как хочешь. Нет, здесь прежним авторам надо было сделать приписочку, что только для данного закона под этим понимается указание в уставе и программе политической партии целей защиты профессиональных, расовых, национальных или религиозных интересов, а также отражение указанных целей в наименовании политической партии. Фактически этот текст означает, что никакие групповые интересы преследовать нельзя. То есть, нельзя защищать права учителей, национальных меньшинств, права православных верующих и т. д. Получается, что профессиональные, расовые, национальные и религиозные интересы граждан носят исключительно деструктивный, разрушительный, негативный смысл и при их защите Российской Федерации может наноситься лишь ущерб. Хотя в действующем законе как раз представление интересов граждан и указывается как задача политических партий.
Интерес не является чем-то запретным, Конституция не запрещает преследовать различные интересы. Она запрещает лишь разжигать межнациональную, межрелигиозную, межрасовую рознь. Кроме того, например, расовые интересы вообще невозможно преследовать. И даже если это будет записано, это невозможно реализовать, потому что раса не является субъектом. Раса может иметь признаки, могут возникать случаи дискриминации по расовым признакам, но сама раса не может являться субъектом, поэтому записывать «преследование расового интереса» невозможно — у расы не может быть интереса.
Мы решили, что запрет надо обратить не на деятельность граждан (соответствующие запреты есть в других законах), а на устав (конкретный документ) и на дискриминацию — неравенство прав граждан при формировании партии, которого в уставе быть не должно. Нелепая, абсурдная и вредная норма о запрете политическим партиям защищать интересы должна быть отменена и замещена вполне нейтральной — о защите от дискриминации по любым признакам и об обеспечении равенства прав при вступлении в партию.
Мы попытались также внести в закон понимание различия между государством и государственной властью. Если Россия — государство, то нелепо иметь в законе главу под названием «Государство и политические партии». Понятие «государство», как это следует из его смысла, когда оно применяется в Конституции РФ, является характеристикой России как державы. Поэтому, когда речь идет об институтах и органах государственной власти (что фактически составляет содержание указанной статьи), надо говорить не о государстве, а именно о государственной власти.
Глупой опиской в действующем законе надо считать запрещение для партии защищать национальные интересы. Именно такой запрет буква в букву содержался в одной из статей. Когда в закон записывают фразу о запрете национального интереса, то путают нацию и национальность. Национальный интерес — это то, о чём мы постоянно говорим, когда пропагандируем патриотизм. Мы все вместе преследуем национальный интерес, понимая нацию как политическое единство граждан. Но даже если считать, что в законе речь идёт о национальности, то всё-таки у национальности может быть позитивный интерес — например, защита от дискриминации. Почему же мы тогда запрещаем политической партии следовать этому интересу? Может быть потому, что этот интерес ущемлен невероятно жестоко? И бюрократия хочет оставлять себе руки развязанными, чтобы репрессировать русское большинство и пресечь его борьбу за свои интересы?
Кроме того, мы предприняли попытку уточнения права проведения партиями собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирования. В соответствии со ст. 31 Конституции РФ никто не может препятствовать этим акции и мероприятия, никто не вправе их запрещать или ограничивать, если они носят мирный характер и если их участники не имеют при себе оружия. Конечно же, это была самая страшная поправка для власти. Но мы ее оставили именно для того, чтобы руке лоббиста было что вычеркнуть.
С этими идеями и с полностью отработанным пакетом документов я пришел на заседание Комитета по делам общественных организаций. Поразительная атмосфера встретила меня: никто не мог сформулировать альтернативных суждений и даже просто обсудить правовые последствия тех нововведений, которые предполагались подписанным мной законопроектом. Председатель Комитета даже не мог разглядеть в тексте, где написано «государство», где «государственная власть». Он беспокоился, не будут ли партии ограничены в участии в муниципальных органах, которые в систему государственной власти не входят. И не замечал, что в проекте было написано, что партии участвуют в политической жизни государства. Но оказалось, что председатель не так близорук: он заметил, что слово «институты» очень редко используется в законодательстве. Я отмел этот аргумент: в науке этот термин используется сплошь и рядом, и даже в классификации специальностей ВАК имеет целый раздел «Политические институты и процессы». Оказалось, что председателю слово «институты» не нравится только в отношении государства. У гражданского общества институты быть могут, у государства — нет. Логика «железная» — ультрабюрократическая! Чтобы не допустить к власти представителей народа — сплавить всю политическую активность в «общество»! Пусть там и разбираются со своими «институтами»!
Члены комитета — единороссы смотрели на меня, как на возмутителя спокойствия. Аргументов у них не было, и они цеплялись к пустякам как дети: вы вводите слово «мероприятие» — дайте определение! А в существующем законе слово «акция» не требует определения? Общеупотреби-мые слова надо все без исключения определять в законе? Уто за бред!
Накаляясь от этой глупости, я предложил Комитету конструктивную работу: не хотите принимать формулировку в таком виде — предлагайте свою, и вместе доведем проект до соответствия Конституции, нормам русского языка и применим принятую в научном мире терминологию. Нет, они не слышали! Они затаили заготовленные фразы. Мол, мои предложения «в корне меняют концепцию закона». Не важно, что я говорю, не важно, что написано в законопроекте. Главное — отклонить! Потому что нельзя же дать оппозиции хоть какой-то шанс что-то исправить в законе. Даже если исправляется только опечатка.
Один не очень русский депутат договорился до того, что увидел во введении термина «государственная власть» прямую угрозу повторения событий 1991 и 1993 годов. Потом — до того, что нельзя, мол, навязывать партиям защиту национальных интересов России. Потом — до того, что свобода митингов и шествий грозит «оранжевыми» революциями. Я сидел, слушал и думал: «Они здесь все сошли с ума?» Казалось, что эти взрослые и совсем уже немолодые люди прячут глаза, городя одну нелепицу за другой.
Нет, тон осуждения законопроекта становился все развязнее. «Может они пьяны?» — подумалось мне. Иначе с какой стати мне начали прямо «тыкать», как будто я пошел в баню с родственниками пенсионного возраста или с приятелями. Мне говорили: твои поправки с преференциями партиям при проведении митингов могут обидеть профсоюзы. И вообще надо сначала закон он митингах менять, если на то пошло. Почему? А он базовый! Где это написано? А нигде. И будто похлопывают фамильярно по плечу: «Ну! Не надо на нас сердиться за то, что мы глубоко копаем!». Дальше: «Я тебе как кандидат наук доктору наук объясню…» Это Комитет парламента или кабак? Это от больной головы, когда базовым законом считают закон о митингах, которые проводит партия, закон о которой вдруг оказывается подчиненным? Чьим это решением такая градация законодательства введена? Да просто они так решили! Пенсионеры — то ли из бани, то ли из кабака.
Никакого разговора не получилось и на пленарном заседании, куда мой законопроект попал, когда я уже окончательно был беспартийным — покинул ряды захваченной и переименованной «Родины».
Выступая с докладом по законопроекту, я привел несколько определений партии, принятых как научная истина:
— Партия представляет собой организацию людей, объединённых с целью продвижения совместными усилиями национального интереса, руководствуясь некоторым специфическим принципом относительно которого все они пришли к согласию.
— Партии являются общественными объединениями, опирающимися на добровольный приём членов, ставящих себе целью завоевание власти для своего руководства и обеспечения активным членам соответствующих условий, духовных и материальных, для получения определённых материальных выгод или личных привилегий, либо того и другого одновременно.
— Партия — это союз людей с одинаковыми политическими взглядами и целями, стремящихся к завоеванию политической власти с целью использования её для реализации собственных интересов.
— Партией является всякая политическая группа, участвующая в выборах и способная вследствие этого провести своих кандидатов в государственные учреждения.
— Партии — это организации, которые, во-первых, стремятся к захвату власти или участию в её отправлениях, а также опираются на поддержку широких слоёв населения.
Очевидно, что закон «О партиях» кардинально разошелся с наукой. Но также и с практикой партстроительства.
Выходило, что в России действуют под именем «партия» совсем не партии, а нечто не имеющее аналогов у всего остального человечества. Более того, то, что принято у остального человечества под партийностью, в России строжайше запрещено!
В научной литературе и в политологических учебниках функциональными чертами партии определяется борьба за власть, социальное представительство, социальная интеграция, разработка и осуществление политического курса, формирование правящей элиты. Ничего подобного в целях и задачах партий, судя по действующему закону о партиях, не существует или не имеет права на существование. А имеет право на существование нечто совершенно другое.
Не только учёные, но и политические практики сильно бы удивились, прочитав в действующем законе о том, что целями политической партии является формирование общественного мнения, политическое образование и воспитание граждан, а также выражение мнений граждан по любым вопросам общественной жизни, доведение этих мнений до сведения широкой общественности и органов государственной власти. То есть, партии — отдельно; власть — отдельно. Партии лишь «доводят до сведения власти». А граждане-то думают, что на выборах формируют власть!
Понятно, что участвовать граждане должны не в политической жизни общества, а в политической жизни государства, что надо употреблять всеобъемлющее понятие — «государство»! Если же употреблять слово «общество», то тогда, с какой политической теорией мы бы ни соотнеслись, это означает сужение сферы деятельности политической партии до общества, а государственная власть остаётся в стороне. И действительно, как оказывается, закон совпадает с жизнью, но не совпадает с конституционными нормами и научными определениями. Конституционная норма требует, чтобы через партии народ осуществлял свою волю. Получается, что закону «О партиях» Конституция не указ.
Все, что мне удалось обнаружить нового в аргументах против законопроекта, свелось к ссылке не постановление Конституционного Суда от 15 декабря 2004 года, в котором норма закона «О партиях», не допускающая создание политических партий по признакам профессиональной, расовой, национальной или религиозной принадлежности, признана не противоречащей Конституции. На самом деле этот аргумент был нелепостью. Потому что предложенные мной изменения также не противоречили Конституции. Поэтому снятие одной законной формулировки и замена её другой, также не противоречащей закону, никак нельзя считать делом неправовым.
Ознакомление с постановлением Конституционного Суда доставило мне огорчение тем, что высветило полную недееспособность этого органа. В постановлении царила фантасмагория слов, которые в законах или в науке никогда не употреблялись. Например, термин «плюралистическая демократия». Что это такое? В Конституции этого термина нет, в законах — нет. Он есть только в либеральной публицистике. Как же он попал в постановление Конституционного суда, где этим термином характеризуется российская государственность?
Там же говорится о том, что Российская Федерация является многонациональной и многоконфессиональной. Если РФ — государство (по Конституции), то откуда КС почерпнул этот бред? Нигде в праве не установлено, что наше государство многонационально и многоконфессионально. Но КС использует подобные обороты, превращая свою работу в профанацию. И как же можно доверять этому органу и принимать за основательные выпускаемые им постановления? Выходит, что этот орган профанирован, как и вся система власти, правосудия, народного представительства. Все сгнило в нашем государстве, все не соответствует тому, что декларируется…
Постановление КС признано было доказать право бюрократии запрещать партии со словом «русский». Произвольно обращаясь с конституционным правом, этот орган утвердил запрет на создание политической партии по признакам национальной или религиозной принадлежности. Но при этом записал: «…то есть если в её уставе и в программе содержится указание целей защиты национальных или религиозных интересов и эти цели отражены в наименовании политической партии…… Если бы было написано «или», тогда трактовка предполагает вообще отсутствие права у партий защищать национальные или религиозные интересы. Раз написано «и», то требуется удовлетворить сразу обоим признакам — устав с программой плюс название партии. Разумеется, правоприменение игнорировало эту деталь, как и сам КС игнорировал право и здравый смысл.
Проект мой, разумеется, был провален. Голоса «за» дали только «Родина» и КПРФ — без малого сотню.
Итак, всего несколько думских эпизодов показывают, что в Российской Федерации система народовластия полностью ликвидирована. Фасад государственности выкрашен в европейском стиле и украшен демократическими финтифлюшками, но это — картонка. За декларациями стоит последовательная борьба против любых возможностей реализации этих деклараций. Правовая система, не внимательная к букве закона, оказывается невнимательной и к основам права — принципу законности. Политические силы, которые могли бы исходить из иного подхода к праву, запрещены. Их возникновение невозможно в силу принятых законов, легитимирующих узурпацию власти бюрократией.
При внимательном рассмотрении действующих законов, формирующих систему власти в России, оказывается, что они более чем откровенны. Они опровергают Конституцию и прямо утверждают всевластие бюрократии и подавление воли нации.
Ракалии
Очень показательное дело из моей практики, связанное с московским «заповедником» — пространством чиновничьего произвола. Волей столичной бюрократии Москва была заполнена людьми, оторванными от своих корней и превратившимися здесь в рабов и пауперов. Москвичи вынуждены жить среди бомжей, завшивленных выходцев из дальних кишлаков, больных и бесправных инородцев. Нас заставляют привыкнуть к тому, что рабство — реальность нашей жизни, и каждый из нас в любой момент может стать таким же рабом. Это не всем по душе. Тем более, коренным москвичам, привыкшим отстаивать свои права.
Ко мне обратилась москвичка Мария Беляева. Она поведала о своем эксперименте: попытке выселить из дворницкой незаконных мигрантов, устроивших там общежитие. Дворницкая — место, не приспособленное для жилья. А если там курить, то сигаретный дым по вентиляции распространяется по всем этажам. То же, если жарить что-нибудь с узбекским усердием. Разумеется, кроме этого при всяком открытом огне есть опасность пожара, а по вентиляции пожар распространяется особенно быстро. Также есть опасность затопления, поскольку рабам приходится открывать вентили, сливая воду прямо на пол. Другого способа добыть воду они не имеют. Там же отправляются и «естественные потребности», которые воздуха тоже не озонируют.
Конечно же, Мария Беляева потребовала выселения нечистоплотной компании, захватившей помещение или посаженной туда рабовладельцами из московских коммунальных служб. А также привлечь к ответственности лиц, которые допускают подобные издевательства над людьми — над самими нелегалами и теми, кому они доставляют массу неудобств, грозя вывести из строя системы жизнеобеспечения.
Что делает добропорядочный гражданин? Он не идет бить морду несчастным дворикам-узбекам или главе коммунальной службы. Он звонит по телефону и пишет письма. Письма написаны, реакции нет. Звонок в ДЭЗ. Ответ — хамство: это не наше дело. Звонок в управу. Ответ: визит пьяного водопроводчика. Снова звонок в управу. Отчет: «Ваш председатель кооператива их туда поселил». Звонок председателю. Он никого не селил, а, напротив, пытается выселить.
Мария Беляева интеллигентно воспользовалась французским термином racaille (ракалии), поскольку знала, что обращение с более жесткими характеристиками не рассматриваются. А этот термин встречается в русской литературе и в целом отражает негативное отношение, но никого не оскорбляет.
Далее: звонок в отделение милиции. Ответ: «Не наше дело» и направление к участковому. Звонки участковому. Ответ: гражданин «обязан знать», куда надо писать, а также должен собирать подписи со всех жильцов. То есть, милиции дела до нелегалов и проблем граждан нет. И верно, их главное дело — собирать дань. А тут дань закреплена за кем-то другим.
Звонок в префектуру. Ответ: «Дом кооперативный? Нас это вообще не касается». Звонок дежурному по ГОЧС. Первые проблески понимания. Совет: это дело Управы, надо делать письменное заявление. Звонок местному депутату, тот звонит в Управу. С этого момента пошли обратные звонки. Из жилконторы: «Я вас всех люблю…» Еще звонок: убедитесь, что в подвале никого нет. Нет? Проверка показывает, что есть. Снова из Управы: давайте обсудим. Что обсуждать, когда всё ясно и понятно: убирайте своих рабов. Заявление в телефон: «А нам устное распоряжение Лужкова: селить в дворницкие».
На следующий день — звонок в мэрию. Записали, обещали разобраться. Дворницкая была опечатана, пока узбеки не замерзли, и не сорвали печать. Телефон управы не отвечал, а потом его переключили на жилконтору. В жилконторе: «Никого в вашем подвале нет! Чисто и сухо — вчера акт составили!» Ясно, что racaille могли составить только липовый акт. Звонок в префектуру. Ответ: «Ваш сигнал принят, будем принимать меры». На следующее утро racaille прислали дворника. Мириться, что ли? Дворницкая вновь опечатана, а на следующее утро вновь распечатана.
Звонок в Департамент жилищно-коммунального хозяйства мэрии. Ответ: мы этим не занимаемся! Звоните в префектуру. Круг замкнулся. В справочную правительства Москвы: кто этими вопросами занимается? Дали телефон. А эго Московская городская вневедомственная экспертиза! Причем здесь экспертиза, если помещение нежилое? Там жить нельзя, и экспертировать нечего.
Пересылка этого письма Лужкову, очевидно, ничего не решила. Лужков не вечен, но его racaille вечны — до тех пор, пока фальсификация выборов является надежным инструментом против граждан, пока racaille покрывают «верхи», сделанные из того же теста, пока при них кормятся продажные прокуроры и услужливые судьи. Они вечны, пока общество не противостоит чиновничеству своей консолидацией и дружным «нет» на любых выборах.
Увы, эта история завершилась хуже, чем я предполагал. Среди racaille был определен центрфорвард. В контратаку пошел участковый, посчитавший, что его причисление к racaille задевает его честь, его достоинство и его деловую репутацию. И суд взял его сторону! Гражданину, который добивался своих прав и боролся против беззакония, присудили штраф в пользу негодяя, который манкировал своими обязанностями! Кто подлее, судья или мент?
Мария Беляева попыталась привлечь внимание властей города к фактическому возрождению на территории столицы рабства. Речь в ее заявлении шла о недопустимых условиях проживания в подвале её дома дворников из Узбекистана и сопряжёнными с этим нарушениями прав других жителей. Однако ей пришлось столкнуться не только с некомпетентностью должностных лиц, но и с их открытым противодействием. Рабовладельцы защищали свое право владеть рабами! В исковом заявлении racaille в милицейских погонах даже требовал привлечь заявительницу к уголовной ответственности за клевету и удержать с ответчицы в его пользу 30 тыс. рублей! Ах ты мразь… Как там его? Бурундуков, Барсуков, Крысаков, Скунсаков? Вонь от барсуков… Подобных множество. Впрочем, судья мерзее. Потому что ничего не проверяла и не документировала, а репрессировала гражданина. Потому что судье по должности должно быть известно, что закон запрещает принимать заявления от той инстанции, на которую заявитель жалуется. Потому что единственный шанс для такого решения — доказательство намерения нанести вред, а не защитить свои права. А также доказательство факта распространения информации. Ничего этого в деле не было. И как, бишь, фамилия судьи? Мне сказать и бежать очередной раз в суд? Не хочется, потому что мерзавцу предоставлены права, а мне нет.
500 рублей с Марии Беляевой за попытку вычистить мразь из власти? Что-то в этой сумме говорит об интеллигентности судьи. Нагадить по воле начальства придется, но при этом так, чтобы не очень сильно — чтобы окружающие нос затыкали, но успевали прошмыгнуть мимо. Мой личный опыт в суде стоил 700 рублей. За то, что лжец и циник при должности был назван лжецом и циником.
В этом маленьком эпизоде подлость власти проявлена в полной мере. Любой здравый человек должен сказать себе (прежде всего, себе): «Такая система не имеет право на существование!» Действительно, люди в этой системе становятся racaille. В них умирает что-то такое, что позволяет считать окружающих не просто хитрыми животными, но существами нравственными. Эта система создана лицами без чести и совести. Своей болезнью они заразили всю «вертикаль» и по всем ее «горизонталям» распространили гнилостные метастазы.
Человек во власти быстро утрачивает понимание нравственной нормы. При Ельцине этот процесс начался, при Путине дошел до своего апофеоза. Он состоялся повсеместно и привел страну к кризису: либо сменить эту власть и жить дальше, либо смешаться с racaille, утратить образ человеческий и стать рабом и рабовладельцем одновременно.
Произвол ментов
В народе российском бытует многие годы анекдот: принятый на работы милиционер получил табельное оружие и потом несколько месяцев не приходил за зарплатой. На недоумение начальника он отвечает своим недоумением: а я думал, что дают пистолет, а там выкручивайся как можешь. В виде трагедии этот фарс повторился, когда в Москве милицейский начальник без всякого повода расстрелял в магазине невинных людей.
Один из российских молодых философов предложил эксперимент: выйди на улицу и зафиксируй первую мысль при встрече с попавшимся на глаза сотрудником милиции. Объяснять ничего не надо. Набор мыслей вполне понятен. Мы же остановимся на некоторых не толь ярких, как расстрел граждан, но типичных эпизодах, которые характеризуют разложение милицейской службы.
Алкоголь продают на каждом углу, даже запах изо рта может стать поводом, чтобы лица в милицейской форме до вас докопались. Мне не приходилось попадать в такие ситуации, но историй на эту тему мне пришлось слышать достаточно. Это не только способ приобретения дополнительных доходов (за счет изъятия у гражданина денег), но и обычай, поддержанный милицейским начальством, которое занимается более крупными деяниями.
Пример в подтверждение — нападение милиционеров на героя России десантника Валентина Полянского, который выстоял под напором чеченских банд, рвущихся в Дагестан. А в столице России был унижен и избит милиционерами, да еще подведен под уголовную статью — за то, что оказал этой мрази сопротивление. Исход этого эпизода трагичен: боевой офицер лег на ствол — то ли застрелился, измученный потерявшим совесть следователем, то ли был застрелен теми, кто боялся его общественной активности. Я мимолетно был знаком с Валентином Полянским по оргкомитету Русского марша в 2006 году и восстановительному съезду КРО в конце того же года. Никакой хрупкости натуры в нем не было.
Особенно подробно с работой московской милиции я познакомился после нападения на моего помощника по думским делам. В данном случае, как и во множестве аналогичных, был выдуман факт «появления в общественном месте в виде, унижающем человеческое достоинство». Здесь также наличие удостоверения помощника депутата вызвало особый, плотоядный интерес.
Мой помощник обратился к сотрудникам милиции за помощью в связи с нападением на него неизвестных лиц. Он был взволнован, рубашка порвана. Ноздри чуткого мерзавца уловили запах недавно выпитого пива. Предъявленное помощником удостоверение его возбудило. И потерпевшего решили превратить в подозреваемого, а потом в обвиняемого. Вместо оказания помощи стали внушать, что «гражданин для милиционера», а не «милиционер для гражданина». Служебное удостоверение было вырвано из рук, и начался шантаж и издевательства: задержание, многочасовой допрос, запугивания, насильственное медицинское освидетельствование. Представляю, как пело гнилое нутро живодера, когда он на требование вернуть удостоверение ответил: «Да оно просто упало на землю, ая его поднял». А на требование объяснить причину задержания предложил жертве написать на себя донос на тему: «Почему я пытался прорваться на территорию учреждения МВД».
Мой разговор с неким подполковником Еремеевым по телефону не возымел действия. Но этот субъект, зная отношение начальства к подобным эпизодам, не собрался упускать свою добычу. Только направление по моему звонку сотрудника из дежурной части позволило прекратить угрозы и унижения, которые продолжались до поздней ночи.
Пару раз в своей жизни я подвергался нападениям уличных преступников, и мое здоровье (а возможно и жизнь) находились под угрозой. И ни разу рядом не было сотрудников милиции. Хотя дело происходило на людных улицах. Последующие расследования также не давали результатов. При этом любое обращение к сотрудникам милиции встречало явные признаки досады и раздражения, а также понуждало участвовать в бесплодных и унизительных процедурах, в которых всегда чувствуешь себя виноватым, а не пострадавшим.
Еще один личный опыт был у меня в связи с попыткой найти и задержать грабителей, насильно снявших часы у моего сына (тогда еще подростка) прямо на одной из центральных станций метро. Ясно было, где «тусуется» эта компания. И надо было всего лишь пару раз подежурить там — на Пушкинской площади — чтобы их обнаружить. Но следователи решили измотать меня. Трижды приходилось ездить с сыном в разные части города, трижды заполнять документы. Листать какие-то идиотские папки с анкетами «скинхедов» — одни с мутными фотографиями, а другие и вовсе без фотографий. В общем, дело умерло без единого продуктивного действия со стороны милиции.
Давнее мое воспоминание — о том, как в период всеобщего дефицита в статусе депутата Моссовета я провел проверку деятельности милиции на стадионе Лужники, где в то время был рынок, на который то и дело «выбрасывали» дефицит. Я буквально за руку поймал людей в фуражках, которые мешками выносили этот «дефицит» с черного хода магазина. Застал их в милицейском автобусе за дележом. И что? Многомесячная переписка с милицейским начальством привела к тому, что «офицерам поставили на вид».
Недавний опыт: посещение ОВД с требованием разыскать местного торговца, который угрожал мне ножом. Часовое ожидание следователя. Хамский комментарий дежурного при приеме моего заявления. Бесплодное ожидание ответа месяцами. Запрос в ГУВД. Ответ: письмо отправлено в УВД при метрополитене, а мне, якобы, было об этом сообщено. Еще через месяц прислали копию уведомления — на бланке, но без даты и исходящего номера. А ответа из УВД метрополитена не поступило никогда. Кругом сплошная ложь…
Гражданин, достаточно редко попадая в милицию и сталкиваясь там с недобросовестными должностными лицами, не каждый раз может найти правильную линию поведения. Этим и пользуются «оборотни в погонах», которые не так часто служат преступному миру, зато повседневно попирают достоинство граждан. Чтобы уличить негодяев в преступлении, надо быть просто суперменом. И одновременно психологом-практиком и юристом высшего класса. Проще самому надеть погоны милиционера, иначе надежной защиты от негодяйства не найти. Но не всем хочется погружаться в эту среду. От нее дурно пахнет.
'На последовавший депутатский запрос по сюжету с моим помощником московский генерал-лейтенант милицейской службы, не вдаваясь в подробности, сообщил мне, что «сотрудники милиции действовали в пределах прав и полномочий, предоставленных законом». Потом в том же клеветническом духе ответил замминистра внутренних дел. Но все же, я упорно добивался предоставления мне материалов служебного расследования, которое, якобы, было проведено.
Свое обращение я рассматриваю как тест на определение уровня, до которого доходит влияние «оборотней в погонах», окопавшихся в милиции. Неужели простейшие нравственные установки полностью изгнаны из возглавляемого Вами министерства, а формулировка «появление в общественном месте в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство» превратилось просто в дежурную подлость? Хотели бы Вы, чтобы Ваши дети и внуки «обслуживались» такой милицией? Я не хотел бы.
Так получилось, что документы о проведенной проверке пришли мне сразу из двух источников — по линии центрального аппарата МВД и из московских структур — управления собственной безопасности. Оказалось, что в документах были занятные несоответствия — вписанные позднее данные и фиктивные подписи. Они свидетельствовали о мнимых понятых, которые были придуманы после — когда правонарушители почувствовали, что я это дело так не оставлю. Кроме того, помянутый Еремеев в рапорте писал, что гражданин предъявил удостоверение помощника депутата Государственной Думы, и «заявил, что он хочет сделать заявление», а в объяснении оперуполномоченному УСБ, Еремеев показал, что гражданин не делал никаких заявлений. Я констатировал отсутствие реальной проверки противоправных действий со стороны сотрудников милиции, а также служебный подлог.
Обсудить этот вопиющий факт с министром мне не удалось, зато с замминистра я говорил долго и без всякого понимания ситуации с его стороны. Высокий министерский чин вел себя как участковый — разве что не матерился. Когда ему были предъявлены два идентичных документа, в одном из которых явно вписаны фамилии понятых, чин сослался на необходимость графологической экспертизы. Получалось, что экспертиза должна сравнить некие росчерки пера с пустым местом и подтвердить, что пустое место не заполнено. Препирались мы довольно долго. Замминистра несколько смягчился только к концу разговора. Обещал мое повторное обращение рассмотреть. Но солгал. Несколько месяцев я ждал ответа. Потом письменно потребовал ответа снова от министра. Ответ был таков: вам уже все разъяснения даны, а если Вы чем-то не довольны — обращайтесь в прокуратуру или в суд. За сим с моей стороны последовало письмо Генеральному прокурору. В МВД уж точно закон никто защищать не собрался.
Московская прокуратура попыталась дело замотать и отказала в возбуждении уголовного дела. Это постановление было отменено Заместителем Генерального прокурора Н.И. Савченко. (Это, отмечу, единственный представитель прокуратуры, чья реакция на обращения депутата была полностью адекватной и конструктивной. Уход Н.И.Савченко нанес этой службе колоссальный урон. Заменившие его люди были не лучше тех «оборотней в погонах», против которых мне довелось не раз выступать). По материалам проверки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 292 УК РФ (служебный подлог). Но дело стали тормозить. Вероятно, в связи с причастностью к подлогу высших должностных лиц. Очевидность саботажа была настолько ясна, что прокурор Москвы вынужден был издать приказ о наказании следователей, расследовавших уголовное дело, и надзирающего прокурора. Чем закончилась эта свистопляска, так и осталось неизвестным. Тянуть годами переписку с милицейско-прокурорской бюрократией не было ни сил, ни желания.
Милицейские уловки в стиле карманников — «чисто машинально». Любого можно задержать лишь на основании, что он, якобы, похож на преступника, портрет которого разослан в милицейской ориентировке. Лишь однажды мне удалось наказать эту шпану в погонах, которая избила человека в кафе, потому что он им не понравился, и затащила в свою берлогу для дальнейших издевательств.
Мне довелось видеть болезненную ненависть милиции к людям. Она идет от неограниченного права применять насилие и отсутствия каких-либо моральных установок, а также сопряжена с животным страхом какой-либо ответственности за свои действия. Это было в 2005 году у Латвийского посольства, куда по приглашению Путина прибы- ла президент этого государства — дама во всех отношениях неуместная на празднике Победы. Пикет «Родины» не был позволен властями. Попытка собраться вблизи посольства была пресечена отрядом иногороднего ОМОНа. Хорошо упакованный командир этого подразделения, весь пятнистый из себя, заявлял мне, не дрогнув ни мускулом: они (человек 40 задержанных молодых людей) похожи на доного преступника. Все сразу. То есть, начальство заранее дало «отмазку»: вам за незаконное насилие над гражданами ничего не будет.
Там же мне запомнился один московский держиморда, из рук которого я вынимал людей, размахивая депутатским удостоверением. Почти юный по возрасту подполковник хотел нахватать как можно больш. Такова была установка, спущенная «сверху». Он готов был даже самолично крутить руки каждому встречному и поперечному. Его поведение напомнило мне октябрьские дни 1993 года. С тех пор поведение милицейских чинов стало еще отвратительнее.
Вот еще она история. Куда более трагичная, чем предыдущая. Передо мной фотографии. На первой — молодой крепкий парень на фоне корабля, на котором он мечтал плавать. Вторая фотография — тело того же парня со страшной гематомой на пояснице. Третья фотография — он же на больничной койке. Страшные раны на плече, забинтованная голова, дыхательная трубка во рту, след удавки на шее. Последняя фотография — он же после больницы. Искромсанная голова, потухший взгляд, едва удерживающий сознательность.
Это не следствие случайности, которая подстерегает каждого. Здесь замешан милицейский чин, который, возбуждаясь безнаказанностью, гонял казенную машину по парку, где движение запрещено. То ли по случайности, то ли по злобной циничности, он наехал на парня. Да так, что превратил его в пожизненного инвалида. Пробит череп, смещен позвоночник. Но парень здоровый — не умер на месте. Его везут в больницу, где операцию делает неспециалист. Уродуют так, что выжить парень не должен. Но он опять не умер. Тогда его душат удавкой — чтобы концы в воду и не перед кем отвечать. Думали: насмерть. Но парень опять не умер. И тогда его швыряют на руки несчастному отцу: заберите тут, ваше нам не нужно… Отец годами пытается добиться справедливости. Суды, прокуроры, милиция — все на стороне живодеров. А для парня нет средств не только на лечение, но и просто на жизнь.
Преступник не был осужден. Это дело было определено как «нарушение правил должного движения». По такого рода делам срок привлечения к ответственности — 2 года. Он был исчерпан в бесконечной волоките. За преступника вступилась не только его родня из налоговой службы (вот еще одно гнездо циников!), но и вся система. Таким образом, преступник, искалечивший на всю жизнь молодого, здорового человека, оказался фактически безнаказанным.
Это длинное и страшное дело, ужасное каким-то запредельным аморализмом всех лиц, которые обязаны исполнять свой долг, но исполняли только какой-то бесовской танец над изувеченным телом. Моя депутатская переписка по этому делу заняла целый год. Пройдены были все инстанции. Последнее — обращение к гаранту Конституции, к Путину. Какая-то канцелярская крыса отправила мое обращение вновь в прокуратуру, объявив, что президент только координирует деятельность органов власти. Я ничего не смог сделать. Корпорация подлецов искалечила не только парня, но и всю систему власти — прокуратуру, суды, милицию и даже медиков, чья роль в этом деле более чем постыдна.
В 2008 году много писали об истории оправдания судом милиционера, который на дороге сбил насмерть девочку и как хлам оставил в больнице, считая, вероятно, себя человечным уже потому, что довез искалеченное тело до врачей. А мне лично в Москве довелось видеть, как частная машина с милиционерами преспокойно разъезжала по парку, где гуляли многочисленные дети. Здесь движение транспорта в принципе запрещено. Но милиция считает, что ей все можно. Лишь бы фуражка была на голове.
Еще одно дело — об избиении Лидии Михайловой (в ту пору — пресс-секретаря фракции «Родина» в Госдуме) и ее сына в собственной квартире. Приобретенная квартира была обременена присутствием еще одного собственника, владеющего ее пятой частью. Этот собственник (или лицо, считающее себя таковым), почему-то решил, что имеет полное право если не жить самому в крошечной квартирке, то подселять туда жильцов с баулами. Естественно, обнаружив в квартире незваную гостью с мешками, Лидия Михайлова сменила замок. Это вызвало ярость «пятой части». Не предпринимая попыток выяснить отношения и предъявить свои права законным путем, наглец раздолбил кувалдой дверь и испортил личинку замка. Была вызвана милиция, составлен протокол, дверь починена. Но через короткое время нашествие повторилось. Дверь снова разбита, замок испорчен. Снова милиция, протокол, ремонт. Никто дело не расследует, участковый и вовсе прячет его под сукно. «Одну пятую» опрашивают, но тот указывает, что по такому-то адресу никогда не был. Адрес обсуждается по месту собственной регистрации, а не по месту разбитой двери. Но милиционеры удовлетворены объяснениями. На обращение в МВД приходит ответ: «обращений заявительницы не было». Ложь подписывает заместитель министра. Как водится, участковый на хорошем счету и нареканий по службе не имеет.
Апофеоз этой истории — вторжение в квартиру Лидии Михайловой некоей дамы, получившей от «одной пятой» уверение, что она там может жить. С дамой еще и некий испаноговорящий субъект, который устраивает в квартире погром и избивает хозяйку и ее сына. Лидия Михайлова буквально теряет дар речи и вынуждена лечиться в стационаре. У ее сына возобновляется едва отступившая тяжелая болезнь. Милиция снова бездействует. Участковый делает вид, что никаких обращений до сих пор не было. На депутатские запросы приходят отписки, одна другой гаже. Наконец, несколько укрепившись здоровьем, Лидия Михайлова идет к следователю давать показания. И что же? В отделении милиции она встречает того самого испаноговорящего негодяя! Его никто не собирается задерживать! Он просто уходит. А через несколько дней уезжает за пределы России. Преступник, оказывается, на дружеской ноге с милицейскими чинами, которые стараются не дать делу ход! Прокуратура, которая настоятельно рекомендовала следователям дело не возбуждать, также ответила отписками. И волокита пошла в суд. Конца-краю ей нет… На сегодня дело так и не закончено, преступник наказания не понес, милицейские чины — тем более.
Еще одна история. Какой-то там хозяйственный спор. Две женщины в офисе. Выродок вышибает ногой дверь, разносит офис в хлам, избивает женщин ногами. От жертв следует заявление в милицию. Сколько продолжается поиск нарушителя, если известно его место жительства? Год! Год пишутся письма, повторяются аргументы, высказываются требования привлечь негодяя к ответственности. Год милиция заматывает дело, играя в свои игры. Почему? Потому что выродок — приятель местной банды в милицейских погонах.
Есть у меня в архиве и дело об освобождении от ответственности убийцы, который нанес жертве 4 удара ножом. И снова «за истечением сроков давности уголовного расследования» — через два года после совершения преступления. Есть другое дело — против 85-летней женщины, награжденной орденами и медалями, ветерана войны, переводчика, работника дипломатических миссий. Она, якобы совершила уголовное преступление в составе организованной группы — мошенничество!
Есть дело о нападении милиции на юношеский военно-спортивный клуб, проводивший занятия не природе. С избиениями, задержанием, похищением снаряжения и бесконечными издевательствами. Я просил руководство МВД не оставить проходимцев, просочившихся в органы правопорядка, без наказания. Им место не в милиции, а в тюрьме. Но система произвола стойко стояла на страже интересов своих послушных холопов. Дело то прекращали, то возбуждали. Пока срок давности не истек.
Об историях на российских дорогах и проклятых «гаишниках» и говорить не стоит. Каждый, кто когда-либо садился за руль автомобиля, знает, сколько унижений ему пришлось вынести от людей с полосатыми палочками, в массовом порядке проводящими изъятия денег у населения.
Наступление на конституционные права граждан в настоящее время осуществляется самым широким фронтом.
И милиция при этом энергично обслуживает интересы олигархии, которая мечтает о превращении России в полицейское государство. Особенно ярко это видно по репрессиям против политических активистов. Сотни людей сидят за колючей проволокой, тысячи занесены в «черные списки» только потому, что имеют свое мнение, собственные политические убеждения и стремление высказывать их публично.
Произвольные задержания без всяких оснований практикуется все шире. Милиция зачастую берет на себя функции физической расправы, если иных методов «вразумления» для гражданина власть не находит. Правоохранительная система в целом демонстрирует полное бессилие против криминализации МВД. Причина тому — криминализация власти, в которой проблемы решаются не по закону, а по произволу.
Разложение МВД зашло очень далеко. Криминальные методы вошли в плоть и кровь милиции. Потому что атмосфера вседозволенности прямо насаждается милицейским начальством. Здесь закон никому не писан, а собственные подлецы — всегда на хорошем счету. Профессиональная — бездарность, склонность к силовым методам подавления любого протеста, готовность покрывать преступления в системе государственной власти в целом и в правоохранительной системе в частности сулят нашей стране тягчайшие испытания. Рассчитывать, что народ будет безропотно и пассивно воспринимать такое издевательство над собой, опрометчиво. Сопротивление власти, попирающей законы Божии и человеческие, не может не начаться.
Ситуация в милиции убеждает в одном: это министерство должно быть либо распущено, либо полностью реорганизовано. Служащее там начальство вполне пригодно для тюремной камеры, но не для того, чтобы защищать граждан.
Размышления о кадрах
От Путина долго ждали серьезных изменений в кадровой политике и трансформации системы управления государством. И кое-чего дождались. Прежде всего, «питерской волны» ельцинистов, слегка потеснивших екатеринбургский клан номенклатуры, и нового наплыва военных, подавшихся в управленцы. По части госреформ дождались системной мобилизации антигосударственной бюрократии и предоставления ей невиданных привилегий, впечатляющих даже в сравнении с коммунистическими временами.
Несколько лет Администрация Президента трудилась ради разрешения проблемы, которая была по силам любому толковому обладателю юридического диплома. Разумеется, толковый юрист даже без всякого опыта мог открыть Конституцию и найти там полную информацию о том, какова должна быть структура правительства и как в нем распределены полномочия. Администрация Президента на такой шаг не решилась и шла к тем же выводам кружными путями, щедро расходуя бюджетные средства в покрытие своей бестолковости. В результате гора родила мышь — утвержденная структура правительства оказалась совершенно непродуманной. Административный аппарат замер на многие месяцы без соответствующих приказов по штатному расписанию и должностных инструкций. Работа центральных органов власти была парализована, что в полной мере высветило некомпетентность той команды, которая готовила некие «реформы Козака» и о деятельности которой с благоговением шелестели внутрибюрократическе сплетни. Реформаторы даже не удосужились отработать момент введения своих нелепостей в административную жизнь. У них в решающий момент оказалось все не готово, позабыто или дурно сделано.
Вся эта команда оказалась не только бездарной, но и циничной. Подсунув Президенту на подпись указ о новой структуре правительства, она только после триумфальных гимнов о завершении своей работы обнаружила, что грубо попирает действующее законодательство. В недрах Администрации Президента был спешно состряпан и внесен в Думу законопроект, в котором курьез пытались разрешить. Вышла опять нелепость, которую не допустил бы в такой ситуации даже студент-юрист. Реформаторы прямо предписали своим думским марионеткам из «Единой России» проголосовать за положение о том, что Правительству на неопределенный период вплоть до принятия законов соответствующего профиля разрешается нарушать иные действующие законы, в которых установлены положения о структуре органов исполнительной власти.
Кроме того, некомпетентность организаторов «реформ Козака» проявилась и в том, что в России закреплено фактическое существование двух правительств — вместо главы государства Президент теперь исполняет обязанности второго премьера, курирующего ряд министерств и отвечающего за результаты их работы. Бюрократия взвалила на плечи Президента функции, не отраженные в Конституции, и сняла с себя соответствующий груз. Насколько дорого стране обходится расслабленность чиновничества, показал теракт в Беслане, когда просто некому было брать на себя ответственность за противодействие бандитам, а президент остался на несколько дней в полном одиночестве.
Дело конечно не в том, чтобы быть верным ельцинской Конституции, а в том, что в действиях власти должна быть элементарная логика. Если считаете эту Конституцию священной, не надо уверять, что в «реформах Козака» все чисто с правовой точки зрения. А если уж нужны эти реформы, то поменяйте Конституцию — тем более что в Думе имеется достаточно голосов и избыток послушности, чтобы это сделать. Такой логике в Администрации Президента не обучены — там кадровый состав набирался исходя из политической целесообразности, а целесообразность в свое время определяли патологические мерзавцы. Отсюда и вся незадача с «реформами Козака».
В столь же спешном порядке и с тем же произвольным отношением к праву был принят куцый по размерам и убогий по содержанию закон о госслужбе, основное содержания которого свелось к гарантиям госслужащим как по части номенклатурного перемещения с должности на должность, так и по части привилегий материального характера. Закон проскользнул сквозь Думу в момент, когда оппозиция билась против «социального пакета» правительства, усекавшего социальное обеспечение до постыдной безобразности. Чиновники получали фактически то, что «Единая Россия» и ее хозяева в Администрации Президента отнимали у населения.
Понятно, что «птичка сама себе на хвостик не накакает». Поэтому «птички» из Администрации Президента, пропитанные ельцинизмом до полной атрофии совести, даже не попытались ввести в систему госслужбы обязанности, которые выстроили бы государственное управление и ограничили бездонную глупость местной бюрократии, плодящейся как кролики. Не введены ни границы штатной численности, ни пределы размеров жалования, ни нормативы исполнения должностных обязанностей, обеспечивающие государственные функции. Бюрократия формально-законным образом получила беззаконные возможности делать то, что делала всегда — коррумпироваться, воровать и издеваться над гражданами.
Особо подлая сторона «реформ Козака» — раздевание российских регионов, получивших массу обязанностей без какого-либо финансового обеспечения. Это превращает местную власть в команду пожарников, которые ждут, когда им в бочку нальют воду, чтобы потом оправдываться, почему выгорело полгубернии. Понадобились жертвы Беслана, чтобы прийти к выводу, что федерализм — никуда не годная система организации власти, в которой никакая «вертикаль» власти состояться не может, а присутствует только спихивание ответственности перед нацией с одного бюрократического этажа на другой. Но даже отмена выборности губернаторов никакой «вертикали» не установила, поскольку тут же возникли проблемы с избираемыми мэрами городов, главами районов и т. д. «Вертикаль» будет иметь смысл, если в ней будут не только должностные отношения, но также этика служения и идеология государственности. Ничего такого пока в административных инициативах власти не просматривается.
Наконец, местное самоуправление в рамках «реформ Козака» оказалось какой-то раковой опухолью, которая требует новых и новых затрат «на демократию». Теперь местное самоуправление с самостийными бюрократическими группировками можно будет обнаружить буквально под каждым кустом — в каждом хуторе будут добиваться выборности власти, а с недавнего времени — еще и по партийным спискам. А потом вешать на нее обязанности, с которыми не справляется ни федеральная ни региональная власти. Пусть граждане грызутся меж собой до потери пульса по всяким пустякам — вот позиция правящей бюрократии. Граждане же не хотят грызни, не хотят голосовать на местных выборах — просто не приходят на выборы, сколько ни понижай планку явки. Не хотят, так заставят — принудят к дикой демократии, внедряемой в соответствии с очередной идиотской догмой, рожденной невеждами и бесстыдниками.
Все эти реформы для государства — то же, что приватизация для экономики. Они идут не от жизни, не от интересов и потребностей выживания нации и страны, а из убогой «теоретической» мысли, изысканной на мировых идеологических помойках. В оправдание воров, в их интересах. Догма-пропаганда эффективности, конкурентоспособности и т. п., практика-реализация принципов воровской шайки.
Проблемы госуправления, заострившиеся в результате «реформ Козака» (в 2008 году они фактически были признаны провальными) и высветившие глубокую некомпетентность идеологов и проводников этих реформ, ставят перед Россией проблему проведения кадровой революции и принципиального изменения отношения к госслужбе. Прежде всего, необходимо верно оценить кадровые ресурсы и кадровые резервы.
Бюрократическое управление в древних цивилизациях всегда уравновешивалось жреческой элитой и харизматической мощью правителей. Даже в Древнем Египте, где всеми делами заправляли писцы, их образованием ведало жреческое сословие, а фараоны направляли государственную стратегию. В современной России «писцы» стали во главе государства и диктуют остальным социальным группам свою этику — беспринципную мораль покорности и услужливости к вышестоящим, мораль произвола и пренебрежения к нижестоящим. Государство «писцов» может содержать народ только как холопов своей системы — предельно неэффективной, с точки зрения принимаемых решений, и оскорбительной для гражданского достоинства.
Народ ожидал, что во власть придет некий «путинский призыв» — невиданные люди с чистыми руками, совестливые и толковые. Эти ожидания остаются напрасными. Восстановления кадровой «вертикали» не получилось. Госкадры остаются раздробленными по частным проектам с личными задачами, по кланам, обслуживающим олигархов. При Путине во власти утвердился принцип фюрерства: образовалась цепочка клиентских отношений — фаворит тянул за собой фаворита меньшего ранга. И в администрации продолжилась возня кланов, которые продолжают делить власть, а не применять ее в интересах граждан. Путин и пальцем не пошевелил, чтобы прервать ельцинскую традицию фаворитизма в кадровой политике. Он ее продолжил и укрепил, отчего кадровый состав госслужбы продолжил свою качественную деградацию.
Диктатура «писцов» не может продолжаться долго. Древний Египет кончился бы очень скоро, если бы даже при имеющихся сдержках «писчего» образа жизни позволил этому сословию укрепляться и передавать свои навыки властвования по наследству. Власть жрецов над писцами создала долговременную устойчивость и в каком-то смысле создала ту утопию, о которой позднее мечтал Платон, видевший философов во главе государства. У нас реализуется бюрократическая антиутопия, вперемежку с либеральным бредом.
Казалось бы, военные представляли собой естественный ресурс для призыва на госслужбу. Выправка и привычка четко и вовремя рапортовать сложили иллюзию, что человеку в погонах многое можно поручить. И это действительно так, покуда плечи служивого не обременяют большие звезды. Капитаны и майоры, в крайнем случае — полковники и подполковники, еще на что-то годятся, а вот с генералов начинается жуткая личностная деградация, которая в полной мере выражена в состоянии российской армии и флота. Увы, на госслужбе ждут, прежде всего, генералов с их небывалыми амбициями, заносчивостью и удивительным сходством с худшими представителями сословия «писцов». Конечно, и здесь есть исключения. Но мне о таких неизвестно. Все известные случаи, когда генерал получал высокую должность на гражданской службе, кончались либо полным крахом, либо диким воровством.
Беда «силовиков» — в полной утрате смысла службы. В особенности на самых верхних этажах военной иерархии. Прежние воины были одновременно и дворянами, сочетая самое глубокое и разностороннее образование с практикой военной службы. С ранних лет служилая аристократия обучалась сословной этике, становящейся частью боевого искусства. Генералы были профессиональными губернаторами, а не становились ими волей случая. Что очень важно, военные воевали, а не готовились к войне. Они на практике знали цену жизни и цену государственного суверенитета. Все это было бесценным нравственным ресурсом при переходе на госслужбу. Современные военные лишены подобной практики, даже если они прошли горнило войны с чеченскими бандитами. В Чеченской войне у нашей армии не было достойного противника — врага не за что было уважать. А это накладывает на участников боевых операций, прежде всего на офицеров, не тот отпечаток, который оставляли войны прежних эпох. Рыцарскую этику и милость к поверженному врагу здесь замещает взаимное зверство.
Госуправление и военная служба в любой национальной традиции едины. Для России это особенно очевидно. Прежде всего потому, что имперская периферия требовала именно военизированного управления. Точно также огромные пространства пограничных губерний и удаленных провинций требуют не демократии, а локальной диктатуры генерал-губернатора. Тип современной российской государственности одновременно губит и основы государства, распространяя демократические процедуры там, где их не должно быть, и сословные перспективы воинского сословия, не находящего себе вне воинских частей никакого поприща и тем самим оторванного от государственных дел.
Армия могла бы стать источником кадров для государственных дел. Но для этого нужно оставить попытки выискать достойных людей в умирающей советской военной машине, созданной в эпоху массовых армий. Отдельные достойные личности там, безусловно, есть (как и везде). Но системных поставок в госаппарат постсоветская армия осуществить не может. Она лишь в состоянии имитировать выправкой и командным голосом некоторые необходимые гос-службе качества. Военное сословие, лишенное этических норм и соответствующего образования, без кардинального изменения в системе подготовки к службе не может пополнять госаппарат. Мода призывать «силовиков» на госслужбу дорого обходится России, в которой управленцы порой не в состоянии понять элементарных норм гражданской жизни и буквально невежественны в тех областях, где от госслужащего требуется высокий профессионализм. Только восстановление аристократического характера офицерства может в будущем дать госслужбе источник достойных кадров. Без глубокой реформы самой армейской службы, без восстановления офицерской чести и славы армии как Христова воинства заимствование кадров госслужбы из армии будет лишь пересаживанием некомпетентных «писцов» с места на место.
Либеральная публика много ждала от внедрения в политику бизнесменов. Но те обычно шли на госслужбу, только когда бизнес явно шел к закату или нужно было переждать какое-то уголовное дело. Примеров удачного выступления бизнесменов на политической арене, которые дали бы стране (или какой-нибудь области, городу) хотя бы какие-то признаки успеха, не наблюдается. В силу индивидуалистического пути образования нынешних российских капиталов (а чаще всего — просто воровского пути), в сословии «кормильцев» не может быть этики государственного служения. Госслужба в любом случае воспринимается «купцами» как род бизнеса. Эта социально-профессиональная категория не в состоянии видеть общенациональный интерес и в последние годы всегда тягала в собственный карман все, что плохо лежит. В этом смысле бизнесмен на госслужбе сталкивается с противоречиями собственным повседневным привычкам и по большей части делает выбор в пользу частных или клановых интересов — просто совмещает в себе жулика-предпринимателя и коррумпированного им же чиновника.
Купцы и дельцы на госслужбе могут только одно: подчинять государство своим частным интересам и насаждать аморальные нормы поведения не только на госслужбе, но и в обществе в целом. Группу высшего чиновничества можно снова назвать «семибанкирщиной», поскольку вытесненный с ведущих позиций отряд олигархов воспроизвелся в новом составе — в узкой компании лиц, для которых свойственна мораль менял и ростовщиков. Мораль этой группы состоит в том, чтобы минимизировать государство, но максимально расширить полномочия бюрократии. Их бизнес при этом выводится из-под контроля, а граждане попадают под жесточайший пресс «писцов». В этом смысле «писцы» и дельцы создают симбиоз, направленный на разрушение России и уничтожение национального самосознания граждан.
Купеческий стиль управления — это стиль людей с «короткой волей». Подобными характеристиками обладают разве что разбойники с большой дороги, которым лишь бы ухватить добычу, а потом лежать на боку, потребляя захваченные ценности. Современный бизнес в России именно таков — он не нацелен на стратегические цели и не добивается успеха своего дела. Он даже не оптимизирует прибыль, а только укрупняет ее в отдельный момент времени. Оттого происходит перетекание капитала из отрасти в отрасль не в силу структурной перестройки, а в силу решения задачи «спрятать концы в воду». Ожидать от такого рода дельцов плодотворного государственного служения не приходится. Тем более, они, не имея собственной стратегии и не замышляя ее для государства, легко становятся элементами чужой стратегии — прежде всего стратегии транснациональной кооперации по захвату российских ресурсов и разрушению российской государственности.
Россия живет под наркозом либеральной пропаганды и пока не в состоянии понять, отчего ее так ломает и корежит от любого телодвижения власти. Те же, кто сбросил с себя дурман либеральных догм, легко определят причины болезни. Это диктатура либеральной бюрократии — ее «писцов», «силовиков» и «купцов». От либерализма следует все — коррупция, измена, пренебрежение гражданскими правами, сепаратизм, некомпетентность. Ведь либерализм связан со вполне определенным типом мышления и поведения. Это нерусский тип. Русскому быть либералом крайне затруднительно. Поэтому либеральная власть во всех отношениях оказывается нерусской и даже антирусской.
В связи с этим любые попытки обнаружить кадровый резерв среди той или иной социальной группы, профессиональной корпорации или землячества, обречен на провал — вперед всегда выдвинутся либералы, получившие в прежние годы огромные преимущества по части фабрикации своих биографий и имитаций профессионального опыта. Этим людям Путин дал возможность в очередной раз гальванизировать свои бюрократические мышцы и с новыми силами стдаить горло России, и без того задыхающейся в тисках либерализма.
Кадровая революция возможна только в том случае, если подбор людей на госслужбу будет иметь идеологический характер. Дело не в опыте и не в социальном происхождении, а в мировоззрении. Иного, как ни подкупай, невозможно свернуть с нравственного пути, другому — только дай повод прихватить чужое. Психологические и биофизические тесты наверняка могут выявить это различие хотя бы в самой грубой форме. В остальном же власть обязана провозгласить принципы этики государственной службы — служения интересам страны. Они могут быть только идеологизированными, а идеология выбрана на основе знания очевидных и ужасных следствий коммунистических и либеральных экспериментов над Россией. То есть, выстроена «от противного».
Спасению Родины может способствовать только слой людей, кровно причастных к ее судьбе и ни в коей мере не связанных ни с какими зарубежными проектами. Это должна быть русская кадровая революция против бюрократической диктатуры «общечеловеков». Возможна она только в одной форме — в форме новой опричнины, когда политический лидер создает в своем прямом подчинении отряд «молодых волков», «комиссаров». Этот отряд начинает терзать старых «спецов», последовательно отнимая у них полномочия и вытесняя из госслужбы. Мы не избавимся от изменнических кадров в госаппарате, пока не проведем кампании по изживанию саботажа, измены и коррупции. Такая кампания возможна только в связи с разгромом либерализма, сдерживанием лево-коммунистической реставрации и утверждением национал-консервативных сил во власти. Именно эта идеологическая позиция в состоянии породить новую стратегическую элиту для России.
Путин в силу своего образования и жизненного опыта мало чего знал о такого рода возможностях. Не будучи уверен в успехе, он так и не собрался провести кадровую революцию и неизбежную при этом переориентацию власти на нелиберапьные и несоциалистические ценности. Поэтому русским в ожидании национального лидера остается «перетерпеть Орду» и готовиться к реваншу своей исторической традиции.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ