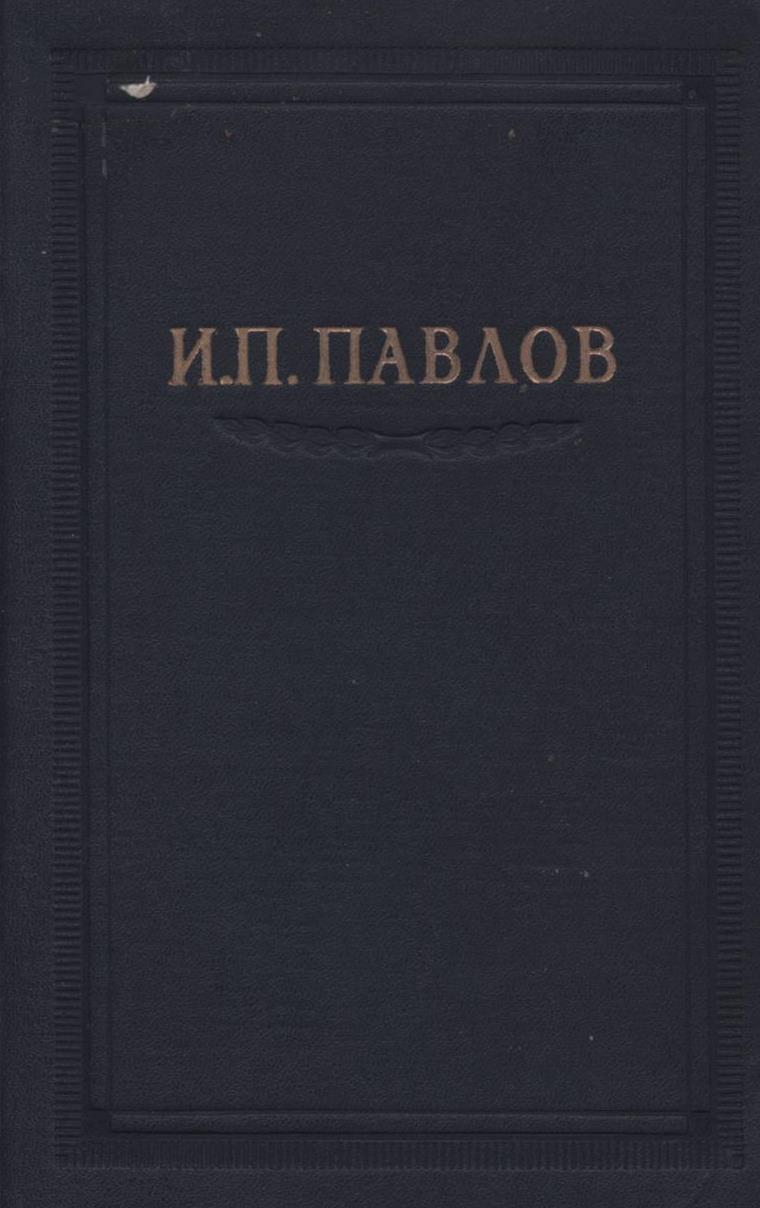




В III томе «Полного собрания сочинений» И. П. Павлова по сравнению с III томом «Полного собрания трудов» произведена перегруппировка глав в точном соответствии с их хронологией и теми дополнениями, которые вносились И. П. Павловым в каждое последующее издание «Двадцатилетнего опыта».
Вторая книга III тома «Полного собрания сочинений» И. П. Павлова содержит статьи, речи и доклады, включенные И. П. Павловым во второе шестое издания «Двадцатилетнего опыта».
Кроме того, во вторую книгу III тома настоящего издания включены три статьи по условным рефлексам, не входившие в отдельные издания «Двадцатилетнего опыта» и в том «Полного собрания трудов»: 1) «Физиология и патология высшей нервной деятельности», вышедшая отдельной брошюрой в 1930 г.; 2) «Проблема сна» - доклад, читанный в декабре 1935 г. и впервые опубликованный в I томе «Полного собрания трудов»; 3) «Новые исследования по условным рефлексам». впервые опубликованная в журнале «Science» в 1923 г. и помещенная в томе «Полного собрания трудов».

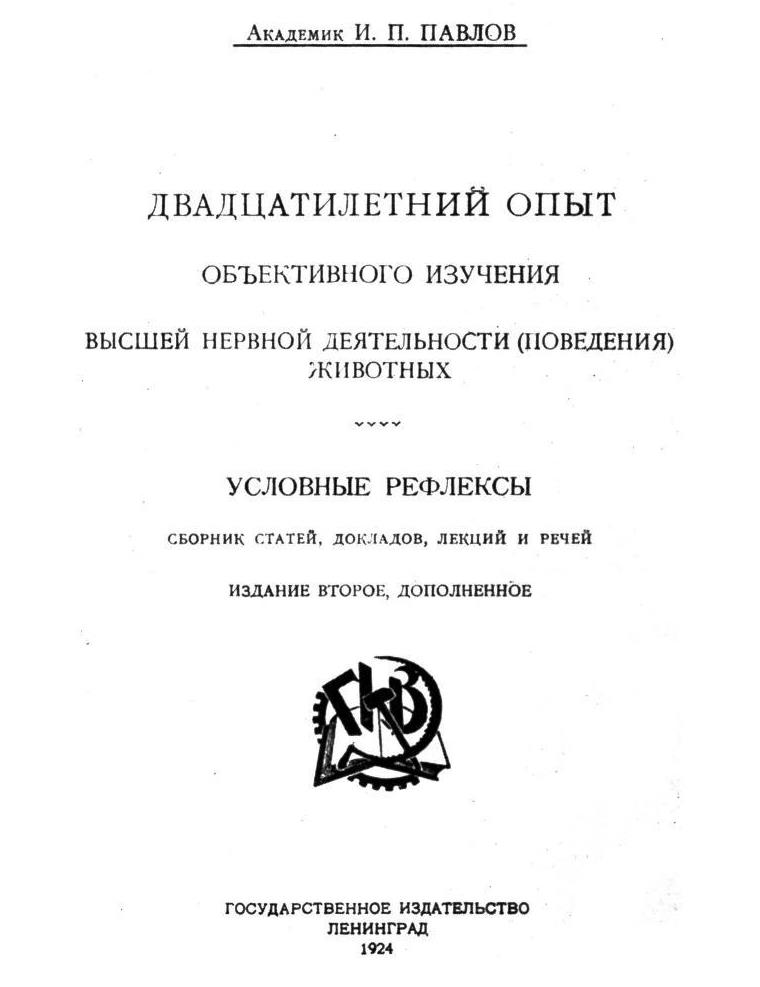
XXXVI. Характеристика корковой массы больших полушарий с точки зрения изменений возбудимости ее отдельных пунктов [1]
Перед физиологом стоит колоссальная задача объяснить себе функционирование корковой массы больших полушарий. В настоящее время, конечно, могут быть делаемы только предварительные попытки к частным характеристикам этой массы, чисто фактического характера. Одну из таких позволяю я себе в настоящем изложении на основании многолетних ранних и текущих работ моих с моими сотрудниками.
С давних пор мы занимаемся изучением рефлексов, названных нами условными, т. е. образованными при определенных условиях в течение индивидуального существования животного. Образование их связано с наличностью больших полушарий; значит, они представляют специальную функцию этих полушарий. При изучении этих рефлексов и собирается материал, годный характеризовать корковую массу полушарий.
Всякий агент внешнего мира, способный при помощи специальных воспринимающих аппаратов данного животного трансформироваться в нервный процесс, раздражая определенный пункт коры, может вызывать определенную деятельность того или другого рабочего органа при посредстве проводов к эффекторным нервным элементам (клеткам и волокнам) этого органа. Основным условием для этого является совпадение во времени действия этого агента на организм с действием раздражителя, вызывающего прирожденный безусловный рефлекс (разумея здесь и то, что обыкновенно называется инстинктом) или выработанный, условный рефлекс, но уже хорошо закрепленный. Пример. Все агенты, ранее не имевшие никакого отношения к еде, раз они совпали в действии на организм один или несколько раз с актом еды, - затем одни, сами по себе вызывают пищевую реакцию животного, т. е. ряд определенных движений и соответствующие секреции. Таким образом образованные условные раздражители могут быть связаны co строго определенными пунктами коры, благодаря чему получается возможность точно следить за теми изменениями этих пунктов, которые они претерпевают при разнообразной деятельности больших полушарий. Эти изменения в настоящем изложении я буду понимать как изменения в возбудимости этих пунктов.
Как уже также давно оказалось в наших опытах, всякий хорошо выработанный условный раздражитель, раз он повторяется временно или постоянно, но тогда при определенном условии, без сопровождения тем безусловным раздражителем, при помощи которого он образован, он быстро (в минуты) теряет свое явное раздражающее действие, больше того - он превращается в тормозящий агент. Следовательно, пункт коры, им раздражаемый, теряет прежнюю возбудимость и приобретает другую. Так можно выражаться потому, что теперь этот тормозящий агент, при сохранении условий, его произведших, может обнаруживать свое действие, т. е. вызывать тормозное состояние прямо, сразу, совершенно так, как положительно действующий раздражитель вызывает процесс возбуждения и обусловливает торможение (внутреннее торможение, по нашей терминологии) разных степене, смотря по его продолжительности. Таким образом можно было бы условно говорить о положительной и отрицательной возбудимости. Мы давно уже находили основание употреблять выражения: положительные и отрицательные рефлексы (работа д-ра Г. В. Фольборта). Выгода такого формулирования фактов та, что все состояния нервного элемента под влиянием всех раздражений и при всех условиях представлялись бы сплошным непрерывным процессом, что в данном случае и отвечает фактическому положению дела. Так как условия, делающие известные пункты коры тормозящими, так же часты, как и условие для образования положительно действующих пунктов, то вся кора представляет собой грандиозный комплекс положительно и отрицательно возбудимых пунктов, тесно и пестро между собой перемешанных. На этой системе более или менее зафиксированных пунктов возникают изменения возбудимости при колебаниях внешней и внутренней среды животного в следующем разнообразном виде.
Простой и частый случай таков. Как только каким-нибудь другим раздражителем, внешним или внутренним, вызывается новая нервная деятельность, выражающаяся в той или другой работе рабочих органов, наш условный раздражитель теряет более или менее в его силе или даже становится совсем недействительным, т. е. под влиянием возникших новых очагов раздражения в коре в пункте нашего условного раздражителя понижается или даже сводится положительная возбудимость на нуль (так называемое у нас внешнее торможение - очевидный аналог подобных отношений и на низших отделах центральной нервной системы).
Это имеет место только при раздражениях средней силы. Если же раздражение очень сильно и сопровождается бурною реакцией со стороны животного, тогда наш специальный раздражитель не только не теряет в действии, а, наоборот, сильно приобретает, т. е. положительная возбудимость пункта, на который он действует, сильно повышается. Вот пример, сюда относящийся. У собаки выработан условный пищевой рефлекс, представляющий известную величину эффекта. У этой собаки вместе с тем оказался сильно выраженным сторожевой рефлекс. При лице, которое проделывает над ней в отдельной комнате эксперименты, она держится в станке совершенно покойно и позволяет этому лицу без малейшего сопротивления исполнять на ней все, что нужно при эксперименте. Если же экспериментатора в комнате заменяет другое лицо, то сейчас же обнаруживается сильнейшая агрессивная реакция животного. И в это время примененный новым лицом условный пищевой раздражитель дает резко увеличенный эффект. Но стоит только постороннему лицу сделаться совершенно неподвижным, причем агрессивная реакция прекращается и животное только упорно фиксирует его, - и тогда, наоборот, тот же условный раздражитель дает резко уменьшенный сравнительно с нормой рефлекс. Это может быть повторено несколько раз (опыты д-ра М. Я. Безбокой).
Если при таких сильных посторонних раздражителях экспериментатор испытывает условнотормозные пункты, то они теряют их тормозящее действие и превращаются в положительно действующие (так называемое у нас растормаживание).
При очень слабых посторонних раздражителях, когда положительно действующие пункты не подвергаются никакому заметному действию, одни тормозные пункты испытывают изменения: они начинают давать положительные эффекты (растормаживаются), т. е. их отрицательная возбудимость переходит в положительную в той или другой мере.
Только что описанные изменения возбудимости происходят сразу, никакой выработки их не требуется. Описываемые дальше выступают постепенно.
Переходя к ним, я преимущественностановлюсь на опытах с кожно-механическими условными раздражителями, так как на коже, как на очень большой и вполне и грубо доступной рецепторной поверхности, все нас интересующие явления становятся чрезвычайно отчетливыми. Сделав на многих местах кожи из однообразного механического воздействия условные раздражители и выровняв их в эффекте, мы располагаем на значительном районе коры легко контролируемой в отношении ее состояния областью. Если мы имеем вдоль тела животного ряд приборов для механического раздражения и сделаем из их действия условных раздражителей, а действие какого-нибудь крайнего из них затем дифференцируем, т. е., не сопровождая его безусловным раздражителем, сделаем из него тормозного раздражителя, тс торможение при каждом применении этого раздражителя из соответствующего пункта коры временно распространяется и на пункты положительного действия, проделывая движения туда и обратно, иррадиируя сперва и потом концентрируясь. Этот факт наблюдался уже давно и описан многими нашими авторами (д-ра Н. И. Красногорский, Б. А. Коган и Г. П. Анреп). Тогда же у одного из авторов (д-ра Когана) изолированно и не резко означилось еще следующее явление. Непосредственно по прекращении тормозящего раздражения, и именно на дальних от тормозного пунктах, констатируется повышение возбудимости, т. е. условный возбудитель дает больший эффект, чем давал до этого. В последнее время на это явление было обращено особенное внимание, и оно подверглось изучению со стороны нескольких наших авторов на различных случаях внутреннего, т. е. выработанного, торможения. Факт оказался и резким и постоянным. Остановимся прежде на торможении, которое развивается на дифференцируемом раздражителе. Чем более дифференцируемый агент повторяется без сопровождения безусловным раздражителем, тем тормозящее его действие наступает все скорее и становится все значительнее и является, наконец, чисто тормозящим, без малейшего положительного действия. Вместе с тем это торможение, сначала очень сильно иррадиировавшие, теперь все более и более концентрируется под влиянием раздражения пунктов с положительным действием. Тогда и выступает новое явление. Непосредственно и в ближайшее время - секунды и иногда даже минуты -- по прекращении действия тормозящего агента на соседних пунктах положительного действия наблюдается повышение возбудимости. На одних пунктах, ближайших к тормозимому, это явление выступает как фазовое, сменяясь затем понижением возбудимости и, наконец, возвратом к нормальному уровню. На других же пунктах, дальнейших, обнаруживается только повышение возбудимости, прямо переходящее в норму (опыты д-ра К. М. Быкова). На других же собаках повышение возбудимости сменяется обыкновенно наех наблюдаемых пунктах иррадиирующим торможением (д-р Д. С. Фурсиков, студент Е. М. Крепс). Эти вариации, очевидно, определяются степенью и быстротой как иррадиирования, так и концентрирования тормозного процесса и силой положительно действующих пунктов. По примеру Шеррингтона, мы применяем к описанному явлению термин «индукция». Это индуцирование возбуждения тормозным процессом в нашем случае проявляется не в том элементе, в котором было торможение, в соседних элементах. [2] Это - индукция на расстоянии.
Являлось интересным проследить состояние возбудимости на соседних и отдаленных пунктах в то время, как действует тормозящий раздражитель. Это было выполнено в опытах д-ра Н. А. Подкопаева, но на другом виде внутреннего торможения. Если положительный условный раздражитель, без сопровождения его безусловным, повторяется с небольшими промежутками (в несколько минут) несколько раз, то он быстро теряет свое раздражающее действие, условный рефлекс угасает до нуля, как мы говорим. И это вследствие развития в пункте раздражения тормозящего процесса. Этот процесс, как и торможение при диффетренировке, по прекращении раздражителя распространяется, иррадиирует. Д-р Подкопаев видел в своих опытах, что раздражение других мест кожи, когда на одном из них развито угасательное торможение до нуля и поддерживается продолжающимся раздражением, обнаруживается своеобразным образом. Раздражение всех других мест кожи, как близких, так и дальних, действует положительно, но с особенностями против нормального раздражения. Резко и постоянно укорачивается латентный период: вместо 4-5 секунд теперь 1-3 секунды, но общий эффект становился меньше сравнительно с нормой. Наиболее простое понимание факта представляется нам таким. Резкое уменьшение латентного периода указывает на повышение возбудимости раздражаемых пунктов, но так как одновременно на эффекторный центр падают как тормозящий импульс, так и положительный, то эффект является в размере алгебраической суммы.
Имеется основание принимать, что существует и обратное, именно, что и раздражительный процесс индуцирует, усиливает тормоз. И это тоже получается при основательной выработке обоих этих процессов. Это надо заключить из следующих наших опытов. Уже несколько лет тому назад д-р К. Н. Кржишковский видел, что при так называемом у нас условном тормозе (комбинация условного раздражителя с индифферентным агентом, не сопровождаемая безусловным раздражителем и потому заторможенная) разрушение его, т. е. превращение его в положительного раздражителя посредством сочетания его с безусловным раздражителем, идет различно, с различной скоростью, в зависимости от того, ведется ли разрушение сплошь одно ими правильно чередуется с применением одного положительного условного раздражителя, всякий раз сопровождаемого безусловным раздражителем. В первом случае разрушение наступает с первого, второго раза, во втором - оно долго не дает себя знать. Явление можно понять так, что положительный раздражитель индуцирует тормозной процесс и таким образом мешает его устранению. Опыт д-ра Кржышковского в недавнее время был повторен и более полно обследован д-ром Строгановым на дифференцировочном торможении. Одна частота ударов метрономом была сделана положительным условным раздражителем, а другая была отдифференцирована, т. е. являлась тормозящим агентом. Затем было приступлено к разрушению дифференцировки, т. е. и эта вторая частота так же сопровождалась безусловным раздражителем, как и первая. Когда это делалось строго поочередно, с применением раннего положительного раздражителя, транение тормозного процесса и образование положительного раздражителя из второй частоты происходило очень медленно, через десятки раз; при сплошном же разрушении результат достигается после первого, второго раза.
Таким образом мы имеем отрицательную фазу индукции: вызывание процессом возбуждения процесса торможения.
Явление индукции в нашем случае развивается под долговременным влиянием соответствующих раздражителей, а не существует само по себе прямо и сразу. Дело, следовательно, представляется в следующем виде: для образования изолированных в коре очагов раздражения и торможения сперва требуется наличность соответствующих раздражении, а когда сти очаги образовались, для их поддержки, их прочности выступает индукция как добавочный механизм.
B наших теперешних опытах над условными рефлексами индукция обнаруживается почти исключительно на соседних районах коры, а не на самом месте первичных процессов. Только совершенно в другой форме и при следующих наблюдениях нам приходилось видеть последнее. Считаю нелишним привести здесь самый резкий случай этого рода. Дело касается собаки с сильно развитым рефлексом покорности, рабства (собака подробно исследована и описана д-ром Ю. П. Фроловым). Собака имела изолированный желудочек для изучения работы пепсиновых желез. Поставленная в станок, она оставалась в совершенно бодром состоянии и вместе с тем становилась неподвижной, не переменяя даже положения ног. Но, когда после некоторого времени ее снимали со станка, уже во время освобождения ее от привязи она приходила в совершенно исключительное возбуждение: неистово кричала и сильно рвалась прочь. И теперь было невозможно ни окриком, ни побоями заставить ее вернуться в станок, вскочить на стул и стать в станов, как она всегда делала это, когда ее приводили из собачника в лабораторию для опытов. Но если ее вывести на двор на несколько минут и снова идти в лабораторию, она сама вбежит в лабораторную комнату и сама вскочит в станок. Механизм явления не трудно себе представить. Как у в высшей степени покорного животного, станок и привязь сильно условно тормозят его двигательную систему, как бы движение ни требовалось неловкостью положения и усталостью членов. И потому, когда начинается освобождение от этих тормозящих агентов, заторможенный долго двигательный отдел больших полушарий приходит по индукции в чрезмерное возбуждение. Явление в слабой степени наблюдается у многих наших собак, но у этой было выражено особенно резко.
Существование положительной и отрицательной фазы индукции, как сказано, способствует тонкости и точности разграничения друг от друга образуемых в коре, в течение индивидуального существования, положительно отрицательно возбудимых пунктов, а к этому в значительной своей части и сводится целесообразная, в интересах сохранения организма как отдельной системы в окружающей среде, постоянная деятельность органа тончайших связей животного с внешним миром - больших полу- чушарий.
Таковы фактические отношения. Что до их толкования, до представления их внутреннего механизма, то в этом отношении сейчас ничего определенного сказать нельзя, кроме того, что таковы свойства, общие и специальные, коры больших полушарий, даже не касаясь вопроса: каких именно ее элементов. Очевидно, необходимо собирание дальнейшего фактического материала. Пока все остается темным: и распространение тормозного процесса, и явления выработанной взаимной индукции, и многие другие из вышеописанных явлений, а больше всего переход положительной возбудимости в отрицательную и обратно.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ