ПЛАНЕТА СЕМИ МАСОК (рассказы)

Жерар Клейн
Самые уважаемые профессии Земли…

Воздух был чист и прозрачен, и небо сияло, как отполированный металл. Одиноко стоявший на лужайке дом с крашеными ставнями и настоящей черепицей казался нереальным и походил на декорацию для исторического фильма. Метро никак не мог им налюбоваться. Закрыв глаза и опустив голову, можно было забыть о тех отвратительных домах, которые его окружали, и заставить себя поверить, что он вернулся на целый век назад, когда на Земле жило всего каких-то пять миллиардов человек.
Метро пожал плечами и вздрогнул. Он тщательно взвесил тот риск, на который решился пойти. Но нагрузка на возникшие в его воображении весы была слишком тяжела. Кража со взломом уже считалась тяжким преступлением, и, если его схватят, ему грозят два года перевоспитания. А то, что он собирался совершить, было в тысячу раз отвратительнее. На языке юристов это называлось хищением информации. Грех пострашнее греха убийства и чуть меньший, чем изнасилование.
Конечно, он принял меры предосторожности. Он Следил за подходами к вилле несколько дней и изучил как свои пять пальцев все почти маниакальные привычки Варина. Двадцать лет назад этот безобидный старикан был одним из наиболее уважаемых социологов, и правительство до сих пор обращалось к нему за консультациями, хотя предпочитало доверяться своим электронным оракулам и полицейским рапортам. Но главным достоинством Варина в глазах Метро был неограниченный доступ к хранилищу Центрального Информатория.
Перед тем как преодолеть изгородь и стать нарушителем закона, Метро сунул руки в перчатках в карманы и проверил рабочий инструмент. Магнитофон размером с кусок сахара и камера не толще бумажника. Самые необходимые вещи. У него было право на владение и право на их использование. Но в определенных условиях.
Он знал лишь один способ обмануть недремлющие защитные механизмы дома. А именно: проползти в траве от ограды до самого окна. Скорее всего, глаза дома были настроены на подачу сигнала тревоги, если в саду окажется человек или животное определенного роста, чтобы не реагировать на появление бродячих собак, кошек или ежей. Труднее было проползти тридцать метров в сгущающихся сумерках так, чтобы не вызвать любопытства случайного прохожего.
К счастью, в это время прохожие были редки, и он мог надеяться на удачу, если все проделает быстро. Он опустился на карачки, подлез под изгородь, раздвинул кусты бересклета и протиснул свое крупное тело в образовавшуюся брешь. Его руки утонули в мокрой траве, пальцы тщательно обшаривали землю в поисках скрытых ловушек. Метро сомневался, что Варин позаботился о них, но уважал бдительность Информационной полиции. Он прополз несколько метров, улегся на землю и стал ждать. Лоб его покрылся бисеринками пота. Между двух травинок он видел впереди светлую стену одноэтажного дома. Варин жил в одиночестве. Это была столь редкая привилегия в век перенаселения, что Метро, которому приходилось делить свою комнатку с еще двумя соседями по норме «трое в восьми», зашипел от ярости. Его взгляд на мгновение затуманился, и он увидел вместо города жаркую пустыню. Если его схватят, придется отправиться именно туда, чтобы сажать салат в Сахаре или Калахари, поливая его своим потом. Хотя могли и сослать собирать водоросли на пятисотметровой глубине, в вечно черном безмолвии.
Шаркающие по бетону шаги с той стороны изгороди, от края дороги, заставили его вжаться в землю, превратиться в корень травы, распластаться, как опавший лист. Напрасные ухищрения. Метро спросил себя, каким предстанет в глазах прохожего, если тот случайно взглянет в сторону сада и увидит растянувшегося на земле человека — то ли спящего, то ли мертвого — удлиненное пятно, похожее на громадную личинку или чудовищного крота. Впрочем, он мог показаться и старым мешком, и садовым креслом, очертания которого расплывались в сумерках. Ему казалось, что свет стал слабее, и тьма накрывает его своим спасительным покрывалом. Шаги затихли. Метро наконец выдохнул, опасаясь, что воздух выйдет из легких, как из лопнувшего шарика. Он несколько раз повторил про себя: «Дурак, дурак…» Потом, дрожа, собрался с силами и снова пополз.
Он почти добежал до дома на карачках, выгнув спину и подняв зад выше головы, и внезапно замер в ужасе, чуть не наткнувшись на еле заметную проволочку, огораживающую газон. Он не решился перешагнуть через нее, а просто перерезал. Оказавшись на аллее, где ему уже не надо было приглядываться к препятствиям на земле, Метро выпрямился и отряхнул испачканные землей руки, но так и не решился глянуть в сторону улицы. Теперь прохожий или полицейский патруль наверняка примут его за Варина, хотя он и был покрупнее социолога.
Осмотрев стены дома, он не нашел ни одного глаза-наблюдателя и вдруг почувствовал себя обманутым.
Дальше все было совсем просто, и он ощутил пьянящую радость, когда дверь распахнулась от легкого толчка. Варин даже не запер ее на ключ. Быть может, входить через дверь было и неосторожно, но привычки Варина позволяли не опасаться ловушки. Он закрыл за собой входную дверь и двинулся вперед в полной темноте, считая шаги, пока не уткнулся в дверь библиотеки, и только распахнув ее, достал из кармана крохотный фонарь, хотя и не сразу зажег его. Метро дождался, пока колени перестали дрожать, а глаза привыкли к темноте — он тут же оценил теплую гостеприимную глубину комнаты. В ней остро пахло табаком и прошлым. Метро угадал высокие спинки двух огромных кресел; массивная тень превратилась в деревянный стол, заваленный бумагами, он погладил рукой столешницу, убеждаясь — та и вправду была из тяжелого мореного дуба. Он поднял глаза и различил длинные темные полосы, разделенные светлыми промежутками, — уставленные книгами полки на стене.
Торгуя, Метро приобрел кое-какие понятия о культуре. Одного взгляда ему хватило, чтобы понять — за кожаными или картонными переплетами прятались не только фотороманы, которыми разрешалось владеть по закону. Удивленно разинув рот, он принялся вертеть в пальцах тоненький цилиндрик фонаря. Книги… Такого количества книг он не видел с самого детства, и хотя ши выглядели спящими, а время склеило их страницы, книги, несомненно, были настоящими, а не обоями в виде корешков, какими отделывались все шикарные квартиры.
Было слишком темно, чтобы можно было разобрать названия, но на рынке любая книга стоила целое состояние. Быть может, он украдет одну или две книжки. И выручит достаточно денег, чтобы пожить в одиночестве несколько недель, а то и целый месяц. Но пока это не входило в его намерения. Он не мог рисковать и оставлять слишком явные следы. К тому же хотелось остаться честным по отношению к старику Варину. Книг не крадут. Как бы низко ни пал Метро, он все же придерживался определенных принципов.
Через минуту он успокоился, достал из кармана очки и включил фонарь. Его луч не был виден невооруженным глазом, но стекла очков превращали невидимый свет в видимый, и Метро высветил все углы библиотеки синеватыми сполохами.
Он быстро обнаружил диск с цифрами и экран. Сунув в рот пастилку, Метро тщательно разжевал ее. Потом уселся в кресло перед экраном, извлек из кармана камеру и магнитофон, постучал по ним ногтем и набрал номер на диске. Экран вспыхнул, на нем появилась эмблема Информации — женщина, дующая на одуванчик. Она повернулась к нему и глухим однотонным голосом спросила:
— Ваше имя?
Метро глубоко вздохнул.
— Варин. Социолог.
Голос его изменился. Теперь он звучал хрипло и надтреснуто, в точности как голос старика, в чье жилище он проник. Это было одним из последних изобретений подпольщиков.
— Я не могу разглядеть ваше лицо, — произнесла женщина. — Почему так мало света?
Метро ответил, как ему посоветовали:
— У меня плохое зрение. Резкий свет раздражает глаза. Вы хотите, чтобы я включил яркий свет?
И застыл в тоскливом ожидании, сердце его сильно билось.
Женщина равнодушно махнула рукой.
— Не стоит. Перечислите авторов и названия книг, которые вы намерены просмотреть.
Он на мгновение забыл, кем она была. Он откашлялся. И впервые ощутил страх. Ему. хотелось подмигнуть женщине, объясниться, оставить решение за ней и дождаться его. Но она не поймет, ведь это лишь электронный образ.
— «Рассуждение о методе…», — сказал он, — Декарт. Полное издание, без купюр.
Казалось, что сейчас она встанет, выйдет из экрана и отправится в бесконечные проходы лабиринта Центрального Информатория за нужной ему книгой. Он представил, как она водит пальцем по алфавиту, возится с каталогом, взбирается на хрупкие железные лесенки. Хотя знал, что это только игра воображения. Центральный Информаторий был полностью автоматизирован. Вся память мира пряталась в тесно свитых спиралях тысяч километров пленки с такой плотной записью, что она могла быть прочитана только сложнейшими приборами. Скорее всего, во всем Информатории не было ни одной настоящей книги.
Раздался далекий щелчок, и по экрану побежали световые волны. Он было подумал, что его разоблачили, что ручки кресла притиснут его к спинке и будут держать, пока не явится информационная полиция. Лоб его покрылся испариной в палящем мареве пустыни, а спина заледенела от холода бездны. Затем на экране возникло лицо старика со скептической усмешкой, похожей на засохший шип розы, проткнувший время. Неужели бывают такие старики? Парик, а может длинные волосы и мушка на подбородке так старили его? А может из-за морщин вокруг глаз глубже казались провалы у крыльев носа? Так ли выглядел Декарт после тридцати, сорока лет жизни, или состарился за века существования на титульном листе?
Метро нажал ногтем крохотную кнопку камеры и включил магнитофон. На экране появился текст, и хорошо поставленный механический голос начал читать: «Здравый смысл наилучшим образом распределен между всеми людьми: ибо каждый считает, что в достаточной мере наделен им…»
Простым жестом можно было перевернуть страницу там, вдалеке, в этом всепланетном арсенале, где хранились призраки всех книг. И вскоре его пальцы забегали по клавиатуре, и страницы замелькали так быстро, что его глаза видели только смутные тени, а голос превратился сначала в визг, а затем в пронзительный свист. Но магнитофон и камера успевали считать бегущую информацию. Ему захотелось достать из кармана сигарету, закрыть глаза, затянуться ею в ожидании, пока не кончится книгам но он был осторожен. Метро просто принялся мечтать о новой судьбе книги, которую сейчас воровал. Человек в просторном пальто и с накладной бородой без единого слова возьмет из его рук магнитофон и камеру, протянет ему обещанный чек и исчезнет. А затем где-то в лесу, в глубине шахты или в подвале дома с миллионами квартир, а может и на дне моря, книга будет воспроизведена — переписана от руки или отпечатана на ручном прессе, и ее начнут распространять.
Метро знал, что работает только из-за денег, чтобы добиться хоть каких-то преимуществ — чуть больше места, чуть больше еды. До сих пор он поставлял на тайный рынок в основном порнографические тексты. А другие? Зачем читать Декарта, Маркса или Сартра, если ты не философ или историк? Какое странное и смертельно опасное любопытство толкало этих людей на нарушение закона — добывание и чтение книг?
Книги были распахнутыми дверями в мифические, нереальные миры. Из богатого опыта распространения порнографии он уяснил, что торговля женщинами была предпочтительней, чем книгами, а потому и соглашался, что закон справедлив, хотя не слишком колебался, нарушая его. Закон громогласно объявлял, что книги служат рабочим инструментам и не должны опошляться. Закон силой утверждал уважение к книгам. Чтобы получить их, следовало быть достойным. Или, по крайней мере, считаться таковым. По этим правилам Метро не был достоин получать книги, за исключением фотороманов, доступных всем и служивших для широкого распространения культуры. Он не страдал от этого, хотя книги пробуждали в нем какие-то неясные движения души и смущение.
Последняя страница застыла на экране, он наклонился и прочел, убеждаясь в незначительности и бессмысленности напечатанных слов, а голос уже молчал, ожидая знака, который вернет его к жизни: «И я всегда более буду обязан тому, чья помощь даст мне наивысшее наслаждение собственным досугом, чем тому, кто предложит мне на выбор самые уважаемые профессии земли».
От столь долгого чтения у него закружилась голова. Метро бросил взгляд на часы и убедился, что оставалось еще достаточно времени на копирование тонкой книжки «Манифеста коммунистической партии» или «Республики» или эссе Монтескье. За любую он получит приличную сумму. По причинам, которые мало его интересовали, подпольные распространители в данный момент увлекались политикой.
Он протянул руку к экрану, как вдруг услышал за спиной шорох. Быстрым движением он сунул в карман магнитофон, фонарик и камеру. Бросил отчаянный взгляд на экран. Хриплый и глухой, чуть надтреснутый голос Варина разорвал тишину.
— Что вы здесь делаете, мой мальчик? Крадете книги?
Метро сжал кулаки. Он мог убить старика. Но лучше было бы его уговорить. Старик страстно любил книги, и это давало крохотный шанс на успех.
— Нет, — произнес Метро, — нет. Я хотел только…
— Вы даже использовали мой голос.
Внезапный свет ослепил Метро. Он инстинктивно вскинул руки, чтобы прикрыть глаза. По спине пробежала холодная дрожь. Старик держал его под прицелом громадного старинного оружия. Метро увидел себя пришпиленным к книгам медно-свинцовой пулей, которую с мучительным грохотом выплюнет древний револьвер.
— Полагаю, — прогундосил старик, — что у вас во рту есть кое-что, что позволяет вам подделать мой голос.
Метро кивнул и выплюнул пастилку на пол. Он сбросил последнюю маску, и ему вдруг захотелось выблевать свой собственный голос.
— Подойдите.
Метро повиновался.
— Сядьте в это кресло. Оставьте ваши руки на виду. Можете положить их на голову.
Старик уселся напротив, твердо держа пистолет в правой руке.
— Скажите, по крайней мере, что вы искали, грабитель.
На усталом лице мелькнула тень удовольствия.
Метро не поднимал глаз от пола.
— Мне хотелось получить доступ к Информаторию.
— Почему? У вас нет доступа?
Метро покачал головой и покраснел. Ему казалось, что он дважды дурак — и потому что позволил поймать себя, и потому что в свое время техник, лицо которого скрывала маска, подверг его тестированию, после чего отнял право на пользование Информаторием.
— И что вы хотите прочесть?
Метро покраснел до слез.
— Декарта.
Старик присвистнул сквозь зубы.
— Декарта! А я-то счел вас любителем легких приключений или насилия. Кто сейчас помнит о Декарте?
— Я, — прошевелил Метро сухими губами и глубоко вздохнул. — Аппарат еще работает. Можете прочесть последнюю страницу.
Старик встал и уставился на Метро, взгляд которого медленно сполз на грозное дуло оружия.
— Не двигайтесь.
Варин проскользнул к экрану, и его желтые как пергамент губы повторили последние слова книги: «Самые уважаемые профессии земли… Самые уважаемые профессии земли…»
Он вернулся, встал напротив Метро, сунул пистолет в карман и сел, потом наклонился к собеседнику и жадно впился в него серыми колючими глазами.
— Вы действительно умеете читать?
Метро кивнул.
— Проверим.
Старик поднялся, подошел к полкам, наугад достал из ряда книг одну и показал Метро обложку.
— Этимологический словарь, — прочел Метро.
— И это означает…
Метро осмелился выдержать его взгляд.
— В общем, это генеалогия слов.
Старик рассмеялся.
— А вы, мой друг, человек культурный. Сколько вам лет?
— Сорок два.
— Вы научились читать до Нового Возрождения?
— Между Войной и Возрождением, — ответил Метро.
— Можете опустить руки.
— Спасибо.
Метро перевел взгляд со словаря на лицо старика. Он уже видел возможность выкрутиться.
— У вас прекрасная библиотека…
— В наши дни, может быть. Итак, вы интересуетесь книгами. Вы сами?
Метро даже глазом не моргнул.
— Конечно сам!
Старик прикрыл веки.
— Вы лжете, но я понимаю почему. Скажем так, у вас есть друзья, которые, как и вы, ценят хорошие книги, но у которых, как и у вас, нет к ним доступа, а потому вас выбрали, чтобы некоторым способом завладеть…
Метро молча кивнул.
— …этой информацией… А почему вы просто не пришли и не попросили у меня книги?
Метро уставился на свои руки. Он угадывал ловушку, но в то же время испытывал симпатию к старику. Ему хотелось верить, что он выиграл партию и дальше все пойдет как по маслу.
— Это запрещено, — ответил он.
Старик улыбнулся какой-то плотоядной улыбкой, подошел к окну, задвинул шторы, потом, наклонившись к Метро, сообщил:
— Вы знаете, я обнаружил вас не случайно. Я обратил внимание на ваши маневры. И вернулся домой раньше, потому что хотел с вами встретиться, господин…
Метро перебрал в уме несколько имен. Из тех, что были вытиснены на обложках книг и которым печатные буквы сообщали особую реальность.
— Корнель. Пьер Корнель.
— Я с большой симпатией отношусь к любителям книг, господин Пьер Корнель.
Старик вздохнул и театральным жестом указал на полки, проследив взглядом за своей рукой и словно опасаясь, что та улетит и спрячется среди книг.
— Давным-давно я и сам писал книги в надежде, что у них будут читатели. Надежда не состоялась! Сколько их было, как вы считаете? Пять, десять, быть может, пятнадцать. Вы знаете, сколько человек на земле имеют право читать мои книги?
— Не знаю, — ответил Метро с искренним сожалением.
— Двадцать три и ни одним больше, а, может, одним меньше. Человеческая жизнь — вещь хрупкая. Хотите прочесть какую-нибудь из моих книг, господин Корнель?
Метро вздрогнул.
— Охотно, — выдавил он.
Он вдруг испугался внезапной сердечности старика. Глаза Варина закрылись, лицо разгладилось. Морщины исчезли. Тонкие губы налились кровью.
— В этом виноват закон. Мои книги не подрывают устоев. Они просто трудные. Но по закону сегодня это одно и то же.
Варин уже не говорил — поучал.
— Вы слышали, как появился закон?
— После Войны, — уклончиво ответил Метро.
Варин нетерпеливо поджал губы:
— Знаю. Знаю. После Войны люди договорились считать источником всех конфликтов идеи и носители информации — слова и книги. И поскольку люди не могли онеметь, они взялись за книга. Книга похожи на лекарства. Они убивают, если ими злоупотреблять.
— Так говорится в законе.
Варин открыл глаза и посмотрел на Метро.
— Можете курить, если хотите.
Метро достал из портсигара тонкую палочку диаметром в три миллиметра и принялся раскуривать ее. Табак с пропиткой был отвратителен на вкус, но сигарету удавалось выкурить не за каких-то две-три затяжки.
Варин молча глядел на табачный дым.
— В книгах нуждаются не меньше, чем в лекарствах. Поэтому вместо полного их запрета, употребление книг было регламентировано. Операция была легкой. Начали с создания Информаториев. Книга, магнитные ленты, микрофильмы были надлежащим образом классифицированы и переданы туда на хранение. Затем Информатории автоматизировали. Каждый к тому времени имел экран и мог получить на дом любые книга Земли, вернее, их электронное изображение. Послушать любую музыку Земли. Тогда властители сказали людям: отдайте нам ваши библиотеки или сожгите их, а пепел развейте по ветру. Они стали лишними, они насыщают пылью воздух, которым вы дышите…
Голос его стал торжественным. Он сделал паузу, и сухие пальцы схватили руку Метро.
— И тогда появилось понятие достоинства. Вы же не дадите ребенку скабрезную книжку? Или книгу, восхваляющую насилие? Потому что ребенок не в состоянии отличить добро от зла. Я хотел бы вас спросить, сколько взрослых после войны так и не вышли из детского возраста? Разве не будет оскорблением для книг, если дать их в руки, могущие запятнать, предать, изувечить? В каждой библиотеке есть свой закрытый фонд, каждое общество имеет свою цензуру. Но ничто не совершенно, кроме совершенства красоты закона. Центральный Информаторий… Вы набираете несколько цифр на диске и получаете на дом любую желаемую информацию. Если вы ее достойны. Если же нет, то невидимая пометка на магнитной ленте запрещает выдачу вам той или иной книги, той или иной категории книг. Если вы очень и очень недостойны, вам почти ничего не выдается. К тому же уверены ли вы, что вне сферы вашей деятельности нет хоть одной книги, из которой вы сделаете неверные выводы? Быть может, лучше защитить вас от неприятных ошибок в суждениях? Разве машина не лучше знает, что вам подходит? Разве она не знает о вас всего — вашего веса, вашего роста, ваших наклонностей, прочтенных вами книг и ваших способностей, того, что вас раздражает и что вас волнует? Какой воспитатель совести! И машина в своих трогательных заботах создала специально для вас совершенный личный Индекс. Вы даже не узнаете, что есть неизвестные вам книги, если только кто-то не нарушит закон молчания. И не права ли машина, определяя, каких книг вы достойны, какие книги вам нужны?..
— Конечно, права, — машинально повторил Метро.
Старик пронзительно рассмеялся и вытер слюну с губ.
— Но скажу вам одну вещь. Я не верю в понятие достоинства. Смысл тайн Центрального Информатория и сложной системы интердиктов представляется мне совершенно иным. Человек, читающий книгу, — человек замкнутый. Он не смотрит телевидения. Он слеп к пропаганде. Он глух к лозунгам. Он как бы отправился в путешествие. Он может быть прав или неправ. Он может поверить книге, которую читает, или посмеяться над ней. Неважно! Ведь книг так много. Они где-то противоречат одна другой, но за человеком остается право выбора. Это-то их и испугало.
— У вас хватает мужества высказать такое, — с уважением проговорил Метро.
Лицо Варина мелко задрожало. Оно вдруг поплыло, словно морщины у сухого гребня носа и неясная линия рта готовы были растаять.
— А чего мне бояться? Я старый человек. Я знаю, что однажды все книги обретут свободу. Я знаю, что вы ведете молчаливую и необходимую борьбу. Не в первый и не в последний раз возникает подпольное книгопечатание. Что мне остается ждать от жизни? Я готов вам помочь.
Метро поднялся и подошел к старику. Его подбородок трясся, он чувствовал, что вот — вот расплачется. Теперь он знал, почему любил книги. Он знал, что книги были сутью духа и соединяли века, что они связывали людей между собой, что они были основой любой свободы и что он, Метро, был достоин презрения, ибо кражей книг добывал деньга. Ему захотелось рухнуть на колени и исповедаться старику в своих прегрешениях, ибо те, другие, кто прятал книга на своем теле, и те, кто лил свинец, и те, кто с огромным трудом изготавливал бумагу, и те, кто медленно умирал в тюрьмах Информационной полиции или косил водоросли в глубинах моря, или выращивал салат в иссушающем зное пустыни, как и этот доверившийся ему старик, все работали на одну идею, готовили восстание и крах Нового Возрождения. А он, Метро, думал в это время только о деньгах и был в этом солидарен с Новым Возрождением, ибо извлекал доход из запрета. Но в то же время, подумал Метро, он был необходимым звеном подполья: без таких, как он, книги никогда не обретут запаха типографской краски, не увидят света.
— Вы нам поможете? — просто спросил он, еще не веря, — вы разрешите нам воспользоваться Информаторием, одолжите нам свои книги и, быть может, разрешите собираться у вас в доме?
— Это опасно?
— Опасно, — признался Метро.
— А как они организованы?
Метро с удивлением поглядел на него:
— Понятия не имею. Стараюсь знать как можно меньше. Я отдаю им свои… находки и больше ничем не занимаюсь.
— Сеть, — обронил старик.
Теперь он смотрел в пустоту. Метро показалось, что старик избегает его взгляда. Наконец Варин решился.
— Можете приходить столько, сколько хотите, — произнес он. — Можете переснимать любые издания. Я буду запрашивать их для вас. Я стану одним из вас.
Он повел подбородком в сторону Метро и вдруг стал подобием благородных старцев, что издревле вставали на защиту идеи.
— Свобода, — промолвил он.
Он смаковал это слово, как вишню в коньяке, и Метро показалось, что он даже выплюнет косточку.
— Свобода, — повторил старик. Его руки лепили в воздухе воображаемое чудо. — Свобода — вещь тяжкая. Каждая книга, каждая библиотека имеет свой собственный вес свободы. Каждый экран, каждая антенна, каждый провод, напротив, связывает вас и заковывает в цепи. Они, конечно, нужны. Но мы не должны от них зависеть.
Он почти рыдал.
— Знаете ли вы, господин Корнель, на что способны некоторые люди ради того, чтобы прочитать книгу? Терзал ли вас, господин Корнель, голод знания?
Плечи Метро ссутулились. Он проглотил слюну и глянул на часы.
— Мне пора, — смущенно сказал он.
Он помедлил, но встал.
— Благодарю вас. Я приду снова.
И бросил прощальный взгляд на книги.
— Вам лучше выйти через заднюю дверь, — предупредил старик.
Метро последовал за ним. Когда дверь распахнулась в ночь, он увидел, что ему надо пробежать двадцать шагов, чтобы укрыться в тени гигантских зданий. Каждое километр в длину, столько же в высоту, и столько же в ширину. Миллиард кубических метров. Миллион обитателей. Без единой книги, настоящей книги. Метро пожал протянутую руку и исчез в темноте.
Старик закрыл дверь и прислушался: шум шагов слабел и вскоре затих вовсе. Он запер дверь на двойной оборот ключа, потом вернулся в библиотеку. Он перестал волочить нога. Но запястья его дрожали. Дрожь усилилась, охватила руки, затем тело, потом пошла на убыль. Но запястья продолжали дрожать, пока он набирал номер.
— Алло, — сказал он.
На экране возник человек в форме. Лицо его было не выразительнее дна фарфоровой чашки.
— Он только что вышел, — пробормотал старик. — Он ни о чем не догадывается. У него есть камера и магнитофон. Он записал «Рассуждение о методе…» Декарта. И наверняка передаст книгу сегодня же вечером. Лучше его арестовать сразу.
Варин остановился, перевел дух.
— Браво, профессор, — сказал человек в форме. — Нет, мы не станем арестовывать его сегодня вечером. Теперь мы знаем, что он связан с сетью. Мы проследим за ним. И надеемся захватить всю банду разом. Быть может, даже…
— Что?
— Быть может, мы разрешим ему вернуться к вам?.. Быть может, окажется полезным и вам проникнуть в эту сеть? Вы сможете войти к ним в доверие. Если мы арестуем его сейчас, мы не узнаем ничего. Почти ничего…
— Я не смогу, — испуганно пролепетал старик. — Нет, нет, вы же мне сказали, всего один раз…
— Вы — прекрасный актер, профессор. Вам это не составит труда. А они так глупы… Вам ли не знать их. Тесты, которые вы разработали…
— Двадцать лет назад, — сказал Варин. — Это было после Войны… Я больше не смогу.
— Сможете, профессор. Вы же хотите прочесть книги, которые заказали?
— Утопистов XIX века, — хрипло пробормотал профессор Варин. — Анархистов… коммунистов… Информаторий по-прежнему отказывает мне в них.
Полицейский усмехнулся.
— Они сейчас классифицируются. Вы их получите. Попозже.
— Вы обещали!
Лицо полицейского посуровело.
— Я же сказал, вы их получите. Почему вы так хотите прочесть их?
— Я стар. Я не могу долго ждать. Я хочу знать, что они думали о будущем.
— И сделаете все возможное, чтобы получить их?
— Не знаю, — прорыдал Варин.
— Мы дадим их вам, — успокаивающим тоном произнес полицейский. — Мы дадим их вам. Но книги следует заслужить.
На пол брызнули осколки стекла. Сквозь окно ввалился Метро. Лицо его было багровым, в руке он сжимал крохотное смертоносное оружие. Он не сказал ни слова. Профессор повернулся к нему, вскинув руки — его глаза широко открылись, когда игла вошла в его плоть и принялась терзать сердце. Полицейский на экране закричал, но далекий механический голос уже ничем не мог помочь умирающему профессору.
Метро спокойно подошел к полкам и опрокинул их. Книги водопадом посыпались на пол, раскрылись, заскользили по паркету, теряя закладки, обложки, засушенные цветы; буквы, казалось, заплясали на страницах, и книжная лавина почти дотянулась до профессора. Метро вскочил на холм и принялся яростно топтать книги. В ночи взревели сирены, экран эхом отражал их вой, но Метро было наплевать. Он вырывал пачки страниц, бросал их в воздух, и они опадали, как мертвые листья странного осеннего дерева. Затем Метро выхватил из кармана магнитофон и камеру и бросил их на пол.
— Самые уважаемые профессии земли, — крикнул он, давя их каблуком, — самые уважаемые профессии земли!..
Он не перестал вопить, даже когда полицейские схватили его.
Жан-Поль Тэрэк
Завтрашний рассвет

С элегантной уверенностью вывела она машину из пригорода, ни один человек не справился бы лучше. Вильно любовался ее чистым профилем, гибкой, хрупкой на вид шеей, точными и грациозными движениями рук.
— Ты само совершенство, Аврора, — сказал он как бы самому себе, и ее прекрасное лицо повернулось к нему, одарив улыбкой. Зеленый свет глаз, колыхание темных волос, нежность рта, почти детская грация тела — все в ней отвечало самым потаенным его желаниям. Она входила в повороты, не снижая скорости, избегая заносов лишь благодаря своей исключительной реакции. Вильно любил смотреть, как она ведет машину, никогда не уставая, не нервничая, выжимая все что можно из изношенного двигателя этой устаревшей уже модели. Жаль, что он не смог купить новую машину, посовременнее и пороскошней, под стать ей, как дорогое белье, в которое он ее наряжал. Но Аврора и так стоила очень дорого, больше его годового заработка, а позволить себе две столь разорительные прихоти сразу он не мог.
Ему долго приходилось довольствоваться стандартными спутницами, серийно выпускаемыми моделями тех звезд экрана, которые ему особенно нравились. С ними было просто, они легко заменяли одна другую, но чувство, похожее на ревность, всякий раз рождалось в нем, когда навстречу шла такая же спутница, как его собственная, под руку с мужчиной, и этот мужчина заговорщицки подмигивал ему. Они никогда не принадлежали ему целиком, совершенство их красоты отвечало лишь вожделению его плоти, никогда не удовлетворяя полностью. А он носил в себе потребность пронзительной нежности и образ загадочной девочки, которую, казалось, уже любил когда-то давным-давно, в другой жизни. Это ощущение неодолимо влекло его и пугало одновременно, то была часть его самого, в которой ему претило разбираться, и потому она существовала в его сознании лишь как непростительное, но неодолимое влечение.
Сдержанность в разнообразных удовольствиях, которым предавались другие, создала ему репутацию нонконформиста, и это многих смущало. Потому никто не удивился, когда, избавившись от своей последней спутницы, от сделал заказ одной известной и очень дорогой фирме, о которой ходила дурная слава, хотя среди ее клиентов были весьма состоятельные люди. Говорили даже, что наиболее извращенные представители высших классов заказывали здесь оригинальные модели, способные удовлетворить самые разнузданные сексуальные наклонности.
— Она будет отзываться на имя Аврора, — сказал Вильно принимавшему его коммерческому директору, — потому что я хочу, чтобы она была как утренняя заря в облике женщины. Она представляется мне маленькой, чтобы можно было носить на руках, с большими бирюзовыми глазами, темноволосой, белокожей и чуть-чуть безалаберной. Сумма не имеет значения. И выбросьте, ради бота, из ее лексикона все эти несчастные банальности. Сделайте ее движения неповторимо грациозными и при этом почти неловкими. Пусть она будет одновременно очень чистой и абсолютно бесстыдной. Настройте ее на течение времени, лунные фазы, яркость и цвет освещения…
Директор слушал его с любезной улыбкой. Робот-секретарь делал пометки. Вильно продолжал:
— Я хочу, чтобы она была, как бы вам это объяснить… настоящей, понимаете?
Директор поднял брови. Робот затих. Вильно понял, что сказал нечто неуместное. Наконец директор прервал молчание:
— Настоящей?.. Ну, разумеется. Во всяком случае, я не думаю, что вам понадобилась… гм… абстрактная спутница… — он хохотнул. — Это не соответствовало бы вашему описанию. Достаточно взглянуть на вас, чтобы убедиться, что вы не из тех безмозглых юнцов, которые из снобизма или уж не знаю из какой извращенности совокупляются с нагромождением конусов и многогранников, а то и вовсе с компьютером!
Спустя три месяца Вильно получил Аврору. Первое время он был просто очарован. Ее реакции оказались совершенно нестандартными, чего он как раз и желал. Модуль неопределенности, встроенный в Аврору ее создателями, замечательным образом придавал ее словам, жестам и характеру видимость некой поэтической свободы. В отличие от других, ей подобных, Аврора не занималась хозяйством, не умела считать, по сути она вообще ничего не умела. Когда у нее спрашивали, который час, она мило ворковала в ответ: «Вы знаете, я не в ладах со временем». Но зато она читала наизусть давно уже всеми позабытые старинные стихи, а иногда могла даже заплакать.
Поначалу Вильно таскал ее с собой в рестораны и ночные бары, но ее странная красота и раскованные манеры повсюду вызывали возмущение публики. Все, что было в нем самом чистого, его вкус к фантазии, своеобразный юмор, постоянная готовность бросить вызов, умение смеяться до упаду, все, что Вильно скрывал даже от себя самого, Аврора демонстрировала с такой ослепительной силой, что скорее походила на свободных женщин, всегда появлявшихся в сопровождении элегантных андроидов, чем на своих искусственных сестер. Друзья Вильно сочли общество такой спутницы предосудительным, знакомые, которых он обычно посещал, тоже стали сторониться его, и в результате он очень скоро оказался один. Теперь Вильно выходил из дома только на работу, прежде уложив Аврору спать на широкой белой постели. По возвращении ему достаточно было тихо окликнуть ее и заключить в объятия, и она тут же, слегка постанывая, открывала глаза. Она говорила: «А ты мне снился» — и принималась одеваться, неловко, как маленькая девочка, напевая при этом старомодные песенки. К наслаждению, которое она ему доставляла, примешивалось какое-то более глубокое чувство, незнакомое ему прежде волнение. Оно приходило откуда-то издалека, подобное смутному воспоминанию о чем-то безвозвратно утерянном.
…Как только они проехали бесконечные гидропонные сады, окружавшие город, и миновали бронзовые ворота, за которыми открывались необъятные пространства заброшенных полей, Вильно сам сел за руль, а Аврора тотчас же томно расслабилась, как уставшая от чрезмерного прилежания школьница. Вместо металлопластикового шоссе перед ними теперь тянулась асфальтовая лента, сжатая с двух сторон мрачными стенами высоченных деревьев. Кое-где асфальт дороги был проломлен вырвавшимися из-под земли корнями. Ехать приходилось медленно, аккуратно, чтобы не врезаться за поворотом в выросшее прямо посреди дороги дерево, или не столкнуться с каким-нибудь зверем, который обычно не торопился уступать дорогу, а лениво скрывался в кустарнике.
Местами это была уже не дорога, а настоящий туннель, прорезающий лес, и нижние ветви зло, словно когти, царапали крышу машины.
До чего же это похоже на Диану, думал Вильно, удалиться в древний замок, который ей взбрело в голову купить в этих дебрях, покрывавших центр бывшей Франции, куда люди уже давным-давно не заезжали, чем и объяснялась запущенность дорог.
Он встретил Диану полгода назад, выходя как-то утром из астропорта, где провожал важного клиента, улетавшего на свою планету. Он узнал ее мгновенно по волосам цвета пламени, по величественной походке, по наряду, броскому и смелому, как и прежде, верному марсианской моде. Диана была одна, но никогда Вильно не осмелился бы подойти к ней первым — докучать приемной дочери одного из богатейших граждан Империи, владельца полудюжины планет-рудников, не стоило, даже если ты имел счастье несколько лет учиться с ней вместе в одном из самых старых университетов Европы, — но она сама с удивленными возгласами бросилась ему навстречу, рискуя нарушить тщательно продуманную гармонию своей алой прически. Она почти силой увлекла его к роскошному аэроглиссеру, задавая на ходу сто вопросов и не дожидаясь ответа на них, вспоминая истории из прошлого и громко хохоча, все такая же эксцентричная и сумасшедшая, как та богатая ослепительная студентка, с которой он был знаком несколько лет назад. Она подвезла его до дома, по дороге рассказывая о своих приключениях во время долгого круиза по Солнечной системе, откуда она как раз возвращалась. Сам Вильно никогда не покидал Земли и внимал ей с восторгом.
— А вы что, все так же предпочитаете одиночество и все такой же мечтатель? — спросила Диана, расставаясь с ним. — И по-прежнему занимаетесь древней литературой? Да нет, я над вами не смеюсь. Помните, как мы оба увлекались этнологией в старые добрые времена? Я привезла кое-какие древние документы, они вас наверняка заинтересуют. Заезжайте ко мне через пару дней, хорошо?
Они виделись несколько раз. Памятуя о дружбе, которая связывала их когда-то, Диана поведала Вильно о мучившей ее тоске пресыщенной женщины, о своих поисках новых ощущений, неизведанных миров, отличных от людей существ — и душ, отличных от человеческих. Иногда она вдруг замолкала и смотрела на него долгам печальным взглядом. «Вы чувствуете? — спрашивала она как-то странно, указывая на роскошных андроидов, всегда окружавших ее подобно придворным обожателям. — Вы видите, какая между нами разница?»
Однажды, явившись с визитом, как уже было заведено, он не застал Дианы. Ему передали, что накануне она переехала на свою новую виллу, километрах в ста к югу от столицы. Целый месяц он не получал никаких известий. Теперь Диана была от него так же далека, как если бы удалилась в один из своих дворцов на побережьях Венеры или в пустынях Марса. Он уже не знал, что думать об этом внезапном бегстве и последовавшем за ним молчании, когда получил от нее стандартное приглашение на прием, который она устраивала в новом замке. Всего одно слово было вписано туда от руки: «Приезжайте?». Он долго колебался, ехать ему или нет, понимая, что придется общаться с небольшой группкой снобов, составлявших обычно компанию молодой женщины. Эти-то, разумеется, будут рады возможности собраться в таком необычном месте. Всю дорогу он спрашивал себя, нужно ли ему было брать с собой Аврору. Он никогда не говорил о ней Диане, потому что обычай позволял мужчине вести подобные разговоры с женщиной лишь в исключительных случаях, а, может быть, еще потому, что воспитание удерживало его от признаний, вынудивших бы сказать больше, чем ему хотелось. Но теперь Вильно очень беспокоился, какое впечатление произведет на Диану та, которая была в каком-то смысле его созданием, частью его самого, воплощением его мечты.
Поездка оказалась более долгой, чем он предполагал. Несколько раз мимо него с пронзительным свистом проносились спортивные глиссеры, на бешеной скорости скользя в нескольких сантиметрах от земли: это съезжались гости, для которых вторжение в лес с его колдовскими чарами служило лишь удобным случаем поупражняться в смертельной акробатике.
Вырываясь из зарослей на простор, дорога изгибалась петлей, внутри которой высилось огромное полуразрушенное строение, стоящее на берегу реки с широкими песчаными отмелями. Если не считать правого крыла, наспех отреставрированного и имевшего более или менее обитаемый вид, замок являл собой развалины с выщербленными стенами и покосившимися башенками, сплошь увитыми плющом и ежевикой. Впрочем, человек, которому хватило бы воображения мысленно вернуться к лучшим временам замка, не мог не увидеть его красоты. У крыльца с двумя великолепно сохранившимися мраморными лестницами выстроились машины всех марок. Вильно припарковал свою, затем наклонился к Авроре и разбудил ее легким прикосновением руки. Они вышли из машины, поднялись по ступеням, и ожидавший у дверей робот-дворецкий проводил их в мраморный вестибюль. Здесь он оставил их, а сам удалился в анфиладу залов. Аврора выглядела какой-то подавленной. Впрочем, то, что Аврора с ее исключительной чувствительностью так отреагировала на холод древних камней и слабый свет, было вполне естественно. Она как потерянная сделала несколько шагов вперед и тут же вернулась на безопасное место, поближе к Вильно. В это время открылась боковая дверь и появилась Диана в тяжелом платье, сшитом по старинному образцу. Заметив Аврору, она остановилась, озадаченная. Потом спросила Вильно, даже не взглянув на него: «Это она? — и тут же отвернулась, словно стараясь отогнать замешательство. — Очень хорошенькая. Такие редко удаются. У вас великолепный вкус, Вильно… Ну ладно, я счастлива вас видеть. Надеюсь, вам понравятся мои друзья. Идемте».
Она провела их в просторную комнату с вызывающе яркими стенами, наскоро обставленную разнородной мебелью: здесь стояли рядом самые современные обслуживающие автоматы, антикварные древние земные кресла, безделушки с других планет, выбранные, казалось, исключительно за их диковинный вид; скажем, музыкальный автомат с пластинками, сверкающий тысячами огней, вполне мог бы украсить любую коллекцию примитивного искусства.
Общество было именно таким, как представлял себе Вильно: элегантные молодые бездельники, космолетчики, крупные промышленники, знаменитые артисты — весь цвет столицы — люди, которых объединяло лишь одно: принадлежность к так называемой «новой волне». Все смешалось здесь в шуме разговоров, розовом дыме сигарет, старой синкопической музыке, льющейся с драгоценных дисков; и с первого взгляда трудно было отличить людей от андроидов повышенной верности, которые как тени держались возле своих хозяев. Лишь по неопределенности во взгляде, некоторой чопорности поведения, нежности к хозяевам — но особенно по несравненной красоте — можно было распознать андроидов.
При появлении Авроры все взоры обратились к ней, и восторженный шепот пробежал по залу. Каждому хотелось познакомиться со счастливым обладателем этого чуда. Все столпились вокруг Вильно, пытаясь узнать, что за незнакомец появился в окружении Дианы.
— Это мой университетский товарищ, — сказала она просто, сразу предупредив все встроен.
Юноша с угловатыми чертами худого лица подошел ближе и откровенно разглядывал Аврору:
— Великолепна… — бросил он. Из любви ко всему архаичному юноша носил большие очки в черепаховой оправе. — Штучная работа, не так ли? Примите мои поздравления. Я Билл Кули, работаю на студии «Нова». Мы ищем модель для будущего фильма. Вы разрешите взять ее на кинопробы? — Вильно сухо ответил: «Нет».
— Ну что же… Если мы попросим разрешения сделать с нее копию, вы, я думаю, тем более откажете. Но это, в конце концов, ваше дело. Она запатентована, да?
Юноша фамильярно взял Вильно под руку и усадил его в ближайшее кресло.
— Похоже, вам все это чуждо, — усмехнулся он, обведя зал рукой. — Вы очень привязаны к Диане?
— Мы вместе учились, — ответил Вильно. — Потом потеряли друг друга из виду. А недавно я совершение случайно встретил ее снова.
— Уже после ее путешествия, наверное. Вам не кажется, что она изменилась? Какой она была раньше?
— Трудно сказать, — вздохнул Вильно, которого начинал раздражать такой поворот беседы. — Капризная, переменчивая, увлекающаяся, подверженная приступам депрессии. Собственно говоря, меня никогда не интересовал ее характер.
— Понятно. А что же тогда вас в ней интересовало?
— Видите ли, из всего курса только мы двое увлекались древней историей. Особенно тем периодом, который предшествовал Катастрофе.
— Ах, легендами, — пожал плечами его собеседник. — Не думал, что Диана питала пристрастие к такого рода древности. Ведь свидетельств той эпохи практически нет, верно?
— Есть, и немало. Только они никогда не попадают в руки дилетантов.
— Что же это такое?
— Книги. Их всего около сотни. В большинстве это примитивные труды по технике. Но мы с Дианой нашли во время раскопок одну книгу совершенно иного рода.
— И какую?
— Знаете, разговор об этом, я думаю, сейчас неуместен. В другой раз, хорошо? Извините, но моя спутница слишком чувствительна к обстановке. Похоже, она разладилась. Я должен ею заняться.
Вильно встал и направился к Авроре, подпиравшей стену в другом конце зала, куда ее постепенно оттеснила Диана.
Невысокий мужчина средних лет в облегающем черном костюме, до этого сидевший неподалеку, у прозрачного столика, поднялся ему навстречу.
— Прощу меня простить, но, должен признаться, я уловил несколько слов из вашей беседы, и они чрезвычайно меня заинтересовали. Я доктор Маллуа, психоаналитик мадемуазель Норвиль. Для меня крайне важны те сведения, которые вы могли бы мне сообщить о ней.
— Не думаю, — холодно ответил Вильно. Ему уже основательно надоели эти люди. — Мне нечего вам сообщить.
— Я убежден в обратном. Только что вы говорили о некоем произведении, которое находилось в ее руках. Если я правильно понял, вы специалист по древней истории. Что вы можете сказать об этой книге?
— Почти ничего, — оборвал его Вильно, даже не стараясь быть вежливым. — По моральным соображениям я не смог привести данные об этой находке в моей дипломной работе. С точки зрения науки это достойно сожаления, потому что позволило бы существенно изменить картину наших представлений о примитивных цивилизациях. Правда, примитивными цивилизациями сейчас мало кто интересуется. Больше мне нечего вам сказать. Позвольте, однако, узнать, доктор, почему вас так заботят познания мадемуазель Норвиль в области истории?
— Я хочу разобраться в этой женщине, — ответил доктор просто. — Она тревожит меня. А вам она не кажется странной? Взять хотя бы этот замок, где она собирается заточить себя на много лет. Думаю, ее сильно изменил этот межпланетный круиз. С тех пор, как она вернулась, у нее без конца меняется настроение: то ее охватывает безудержное веселье, то она проводит целый день в постели, воображая себя больной, или никак не может заснуть и отправляется бродить по лесу, рискуя наткнуться на дикое животное. Вдобавок она меняет спутников несколько раз в год, — продолжал доктор, доверительно понизив голос. — Кстати, только вчера она получила нового андроида, заказанного несколько месяцев назад. Она ведь трижды в неделю ездила наблюдать за его изготовлением, желая быть уверенной, что он точно соответствует ее вкусам. И вообще, зачем, удалившись из столицы в поисках уединения и покоя, устраивать этот шумный прием? Что-то толкает ее на странные выходки. Но что? Я встревожен, очень встревожен. И потому прошу вас сказать — строго между нами…
— Что вы хотите выспросить у Вильно, доктор? — перебила его подошедшая сзади Диана. Вид у нее был счастливый, глаза ярко блестели. Вильно не помнил ее такой. Доктор повернулся к ней:
— Ваш друг рассказывал мне, — сказал он, не обращая внимания на протесты Вильно, — о книге, которую вы будто бы откопали вместе. Я хотел бы побольше узнать о ней.
Диана посмотрела на Вильно. Внезапно она показалась ему очень усталой.
— Расскажите ему, Вильно. Так надо, — проговорила она совсем тихо — он даже подумал, что ослышался.
— Так вот, доктор, речь идет, по всей вероятности, о древнем аналоге наших аудиовизуальных пленок. Истории, сочиняемые для развлечения. Подобные произведения тогда существовали, очевидно, в огромном количестве. Те из них, которые не были уничтожены Катастрофой, превращались в пепел специальными командами пожарных в самом начале Эры Возрождения. «451 градус по Фаренгейту» помните?
— Эквивалент наших аудиовизуальных пленок? Эти небылицы, пользующиеся бешеным успехом у низших классов? Все эти путешествия во времени и пространстве, кораблекрушения на пустынных планетах, чудовища, соперничество за обладание планетами-рудниками. Что еще? Ну да, еще, конечно, верные роботы обоих полов. Ссоры героя со своим андроидом, в котором что-то разладилось. По-моему, эти пленки не представляют никакого интереса. Они создаются для того, чтобы могли выпустить пар люди низших классов, у которых нет возможности путешествовать в космосе, покупать роскошных андроидов и удел которых — отпуск в Южной Америке с моделью серии Б.
Однако я не пойму, как эти примитивные существа могли сочинять что — то подобное, не имея обо всем этом представления?
— Вы не совсем правильно его поняли, доктор, — бросила Диана с загадочной улыбкой. — Поставьте себя на место одного из создателей этих… романов, как они их называли. Все очень просто — приключения, о которых в них рассказывалось, происходили на Земле. В каком-то смысле у древних было даже больше возможностей разнообразить сюжет, чем у наших сценаристов. Дело в том, что их воображение питалось нежными чувствами и даже сексуальными отношениями, которые связывали в ту эпоху людей.
Доктор даже подскочил:
— Что вы хотите этим сказать? Невероятно! Да это просто злая шутка!
— Успокойтесь, доктор, — сказал Вильно. — Где же ваше хладнокровие? Я понимаю, такие вещи могут показаться абсурдными, если не сказать больше, но попробуйте спуститься до примитивного мышления. Представьте себе общество, где воспроизводство людей никак не связано с лабораторией. Вы же знаете об этом. Да, на эту тему неприлично говорить, даже думать об этом неприлично, но, в конце концов, всем же известно, что в третьем веке до нашей эры, когда произошла Катастрофа, человечество размножалось не экстра генетическим путем. Это уже после Катастрофы пережившие ее обнаружили, что дети, родившиеся в результате, как бы это сказать… естественного зачатия, оказываются жуткими уродами — порой в них просто ничего человеческого не оставалось — так что приходилось радоваться, что все они умерли еще детьми. Люди бросились в отчаянные поиски способов спасения человеческого рода, которому радиация долгие годы угрожала полным уничтожением.
Всего за одно поколение они вынуждены были разработать методику искусственного создания человека, защитив его от смертельной радиации. И, как вы, вероятно, догадываетесь, если бы им это не удалось, нас бы здесь не было. Разумеется, совокупление женщин и мужчин было безжалостно заклеймлено, а затем на него и вовсе был наложен строжайший запрет. И только гораздо позже, когда воспроизводство нашего рода было обеспечено, стали думать об удовлетворении сексуальных потребностей, никогда не умиравших в человеке. Сначала для этого изготовлялись грубые манекены, превратившиеся затем, благодаря достижениям электроники, в современных андроидов.
— Мне все это известно, — хмыкнул психоаналитик. — Только говорите тише, вас могут услышать. Чего я не в состоянии понять, так это почему для примитивного сознания совершение… осмелюсь сказать, полового акта, могло служить поводом для восхищения, для создания… как вы это назвали… литературы?
— Вы поистине дитя своего времени, доктор Маллуа, — вздохнула Диана. — В книге, которую нам с Вильно, несмотря на все трудности, удалось перевести, рассказывается история любви мужчины и женщины. Вы помните, Вильно? История любви, понимаете, доктор? Ее герои — своеобразные существа, очаровательные, страшно сложные. Любовь невозможно объяснить, в современном языке уже нет таких слов. Когда эти два создания встречаются, оказываются лицом к лицу, между ними происходит что-то немыслимое, невыразимое, сладкое, жуткое, это даже понять невозможно. Они достигали такого состояния, когда рядом оказывались прошлое и будущее, добро и зло, счастье и отчаяние. Мир преображался для них, обретал свое истинное значение, озарялся светом, ослеплявшим сильнее тысячи солнц. Но мы ничего этого никогда уже не узнаем, никогда! Вильно, вы помните те магические слова, которыми они иногда обменивались? Ты помнишь — я люблю тебя…
— Она бредит, — пробормотал перепуганный доктор. — Нужно заставить ее замолчать. Диана, дитя мое, что с вами?
Молодая женщина, казалось, обезумела. Глаза ее расширялись, подернулись туманом, губы приоткрылись, выбившиеся из прически пряди прилипли к влажному лбу. Вильно смотрел на нее со все возраставшим волнением. Он не мог отвести взгляда, завороженный ее повернутым к нему лицом — полностью отрешенным, сведенным мукой безнадежного ожидания, со слезами на глазах. Эти глаза особенно влекли его к себе. Широко распахнутые, мерцающие, они будто отражали сияние ослепительного света иных миров.
— Диана, о чем вы думаете? — произнес он как можно мягче. Ее губы дрогнули, она улыбнулась — нежно, с иронией, чуть высокомерно. По лицу медленно разлилась тень истомы, как будто его погладила невидимая рука. — Что можно ответить на такой вопрос?.. Ни о чем?.. О вас?..
И не обращая больше внимания на суетившегося возле нее маленького доктора, она повернулась и удалилась своей царственной походкой.
Остаток вечера Вильно был мрачен и задумчив. Он старался держаться в стороне от напускного оживления зала, наводившего на него тяжелую тоску. Аврора, неловкая и потерянная, долго искала его в толпе, снова и снова разделявшей их. Он ничего не сделал, чтобы ей помочь, не встал, не окликнул ее, а когда она наконец сама его нашла, усадил прямо на пол и стал рассеянно гладить по голове.
Гости начали расходиться поздно ночью. Одни возвращались на машинах домой, другие поднимались в приготовленные на верхних этажах спальни. Когда в зале осталась лишь небольшая компания полуночников, к Вильно подошла Диана, глядя ему прямо в глаза своими большими грустными глазами.
— До скорого свидания, Вильно… — прошептала она очень серьезно. И не прибавила больше ни слова, но потом обернулась и задумчиво посмотрела на него. На секунду их взгляды встретились. Она первой отвела взгляд и быстро ушла, словно убегала от кого-то.
Анфилада комнат была тиха и пустынна. Вильно решил, что уже пора отправляться в предназначенную ему спальню на верхнем этаже. Аврора хотела последовать за ним, но он оттолкнул ее и заставил улечься в кресле в углу комнаты. Он направился к парадной лестнице, поднялся по ступеням. Вступил в длинный темный коридор, куда выходили два ряда закрытых дверей. Попробовал было наугад открыть одну-две двери, но все они были заперты на ключ. Только последняя, в самой глубине коридора, подавшись, тихо распахнулась, и перед ним открылась погруженная во мрак комната, где лишь крохотный ночник освещал изголовье огромной старинной кровати с ниспадавшей на нее кисеей. В самом дальнем углу полоска света выдавала дверь, ведущую, очевидно, в туалетную комнату. Он сделал несколько шагов, и тогда только заметил разбросанное по ковру женское белье. Потом, когда его глаза привыкли к полумраку, он различил на белой постели очертания человеческой фигуры. Из любопытства он хотел приблизиться, разглядеть спящего, но страх, что его увидят, оказался сильней. Он повернул назад и уже взялся за ручку двери, чтобы выйти, когда из той самой комнаты, из-за двери в углу, раздался женский голос, заставивший его застыть на месте. Женщина напевала нежную и грустную мелодию. Он узнал приглушенные интонации голоса Дианы. Какое-то незнакомое волнение охватило его. Мысль, что он допускает одно из самых серьезных нарушений общепринятых правил поведения, находясь в одиночестве далеко за полночь так близко от женщины, не могла пересилить тревожного любопытства, и он крадучись приблизился к кисейной завесе, с тысячами предосторожностей отодвинул ее и увидел бледное лицо отключенного андроида. Он узнал эти скованные неестественным оцепенением черты с такой ужаснувшей его определенностью, как если бы увидел во сне свое зеркальное отражение. Это был он сам, лежащий в подобном смерти ожидании, ожидании, длящемся уже века, в ожидании женщины, которая вот-вот откроет дверь и подойдет к нему. Его охватила паника, холодок ужаса и какого-то непонятного удовольствия пробежал по спине. Он не смел шелохнуться, уверенный, что при малейшем его движении это знакомое и внушающее ему страх создание встанет перед ним, как оживший. труп. Жертвой каких чар он стал? Понадобилась неумолимая воля Дианы, вся сила ее чудовищного желания, чтобы заманить его сюда, к этой кровати, на свидание с самим собой, с безжалостным изображением его темного «я».
Вильно покорился безумию, которому больше не в силах был противиться, и то, что он делал потом, уже совершенно не владея собой, оставило в его памяти лишь смутный след. Вильно тихонько скатил андроида на пол, оттащил его по ковру в угол и спрятал там в ворохе мехов. Потом лег на его место в кровать и замер, неподвижно глядя перед собой. Он не чувствовал ничего, кроме чудесного трепета посвященного, напряженно ожидающего, когда приоткроется завеса тайны. Сколько раз с тех далеких дней Золотого Века торжествовала она, эта тайна, под покровом ночи, в панике и угрызениях совести, за пределами дозволенного?
Он слышал, как открылась дверь. Но головы не повернул. Он слышал, как идет к нему молодая женщина, ступая босыми ногами по ковру. Почувствовал, как прогнулась постель под опустившимся рядом с ним телом. И вот увидел лицо Дианы. Это лицо в обрамлении рассыпавшихся волос светилось над ним подобно драгоценной жемчужине в бархатном футляре. Внимательное, исступленное лицо, на котором жили только губы, тянущиеся к нему, как маленький зверек жадно тянется к зеркалу воды. Эти губы прижались к его губам, надолго погрузив его в сумрак, и он почувствовал ее дыхание, теплое, как летняя ночь. Она прошептала ему на ухо: «Ведь это ты, скажи, это ты?» — с такой силой, что ее едва различимый в тишине голос прогремел для него взрывом счастья. «Молчи, — сказала она, прижав палец к его губам, — не надо слов». Она мягко скатилась на бок, как откатывается волна во время отлива, и перевернулась. Вильно стал ласкать ее, сначала нежно, пока не почувствовал, что она совсем теряет рассудок, растворяясь в наслаждении, уходя в него полностью, до самоуничтожения, затем упорно, стиснув зубы, пока не понял с ужасающей ясностью, как далеко она от него уплывает, и он больше ничего не может для нее сделать, ибо вся она во власти могущественных сил, так неосторожно разбуженных им самим, и ему никогда ее не догнать. Ему страшно было видеть, как усиливаются с каждым мгновением ее муки, и сознавать, что он не в силах их облегчить. Он отодвинулся от Дианы, уже с ужасом, а она продолжала одна биться в своей страсти, как бьется язычок пламени, пожираемый мраком. Наконец Диана открыла глаза и в изумлении взглянула на него. Она приходила в себя, а он неподвижно и безмолвно наблюдал за ее мучительным возрождением. Внезапно она резко приподнялась и, рыдая, упала ему на грудь.
— Я знала, что это невозможно. Не нужно было даже начинать. Они это запрещают. Но что же с нами сделали, что они сделали с тобой, любовь моя? Не смотри на меня так. Прошу тебя. Знаешь, я тоже, наверное, не смогла бы дойти до конца. Мы уже ничего не можем. Я думала, что ты не такой, как другие, а сама оказалась такой же, как все…
— Уходи, — проговорила она хрипло. А когда он встал, добавила с недоброй улыбкой: — Куда вы его дели? — Усталым жестом он указал в угол комнаты. — Прежде, чем вы уйдете, я хочу сказать вам одну вещь. Ведь мы с вами больше не увидимся. — Она подошла к тому месту, куда он показал, наклонилась, и роскошный андроид тут же поднялся рядом с ней, в тысячу раз более живой, чем застывший мертвой статуей у дверей человек. Андроид улыбнулся, наклонился к женщине и обвил рукой ее талию, Она положила голову ему на плечо, с вызовом глядя в глаза Вильно. И крикнула: — Вы знаете, кто вы? Робот, изготовленный, так же, как этот. Вы слышите, изготовленный! — Потом бесцветно проговорила: — Теперь уходите, вы мне больше не нужны.
Он побрел вслепую через спящий дом. Бессильный, растерянный, уничтоженный, раздавленный непереносимой тяжестью, он испытывал такое чувство, будто только что избежал смертельной опасности. В одной из комнат первого этажа он заметил светлое пятно платья Авроры и направился к нему. Привычными движениями, доведенными до автоматизма ежедневной практикой, он разбудил Аврору, — она послушно последовала за ним к воротам замка. Лужайки за его стенами и близкий лес были ярко освещены луной. Вильно потащил Аврору в тень низко спускавшихся веток. Уложив ее на траву, он, ища забвения, приник к ее знакомому телу, словно погрузился в сон без сновидений. Он обнимал ее с таким исступлением, словно стоял на пороге смерти, а между тем безотказный механизм удовольствия уже заработал в их идеально подходивших друг другу телах.
Мишель Демют
Битва у Опикуса

«…она относится к области тех исторических фактов Первого Продвижения, которые со временем стали легендой. Битва у Опикуса была на самом деле цепью долгих сражений за контроль над звездными скоплениями в темной туманности S, где эскадры земных кораблей столкнулись с чужаками, чье происхождение по сию пору остается неизвестным. Эта битва словно застыла на целых два века, тогда как колонизация относительно близких миров продолжалась, а на Земле разразился ряд политических кризисов…»
1
«…она относится к области тех исторических фактов Первого Продвижения, которые со временем стали легендой. Битва у Опикуса была на самом деле цепью долгих сражений за контроль над звездными скоплениями в темной туманности S, где эскадры земных кораблей столкнулись с чужаками, чье происхождение по сию пору остается неизвестным. Эта битва словно застыла на целых два века, тогда как колонизация относительно близких миров продолжалась, а на Земле разразился ряд политических кризисов…»
«Рей-Гирун» вынырнул из подпространства у самых границ системы Тиеж в сорока световых годах от сектора пространства, ставшего ареной битвы. Когда люди прочли на экранах приборов, как далеко они оказались, они вздохнули с облегчением. Для них бегство от вражеских кораблей означало бегство из ада: за несколько месяцев до того «Рей-Гирун» потерял связь с шестьюдесятью крейсерами своей эскадры — либо погибшими, либо вернувшимися на тыловую базу, отступая под мощным натиском чужаков.
Их кораблю пришлось в одиночку искать убежища на затерянных мирах за пределами туманности S. И каждый раз приходилось скрываться от вражеских патрулей, находивших их повсюду — и в раскаленных песках, и в болотах, и в скоплениях тяжелого газа.
— Мы прошли через тридцать два боя, — сказал капитан Харгреб.
— Тридцать четыре, — поправил Свей, первый помощник. — Надо считать и две схватки с теми птицами на Ситилка-Риат. Мы пощипали им перья, но и они не остались в долгу… Там мы потеряли капитана Марворна и малыша Жилсона.
Харгреб кивнул. Ему не хотелось вспоминать об измотавшем их бое на Ситилка-Риат. Он был командиром корабля, и это давно его тяготило. Свей с горечью подумал, что вскоре командование придется принять ему. Такая перспектива Свею не улыбалась. Он гнал от себя мысли о том, как скверно ему пришлось много месяцев назад, когда они стартовали с базы. Тогда он был старшим офицером одной из палуб, а командовал Себаст Ульрих. После командиром был Марворн, за ним — Харгреб…
Три капитана за одну кампанию — слишком много для боевого корабля даже в битве у Опикуса. Три капитана, а вскоре будет и четвертый, если судить по рассеянным кивкам Харгреба и отсутствующему виду, с которым тот рассматривает звезды на экранах.
— Тиеж II, — задумчиво проговорил Свей, — здесь мы найдем все. Пищу, отдых, весну… женщин.
Бескровные губы Харгреба растянулись в вялую улыбку.
— Женщины, весна… Свей, вы словно начитались древних реклам Земли.
— Вовсе нет, капитан. Просто я говорю как мужчина, которому все осточертело. А на Земле я никогда не был.
Харгреб помолчал, потом вздохнул:
— А я вот был… Послушайте, Свей, спросите у наших умников, где на этой планете сейчас весна.
Помощник кивнул и отправился с мостика в рубку управления. Через четыре минуты по интерфону пришел ответ:
— Весна в южном полушарии, капитан. Греш говорит, что она особенно хороша вот на том большом острове посреди океана.
Харгреб хмыкнул. Он тоже видел остров на экране.
— Свей?
— Слушаю, капитан.
— Пожалуй, мы отправимся на рыбалку.
И обрадовался, что не услышал в ответ «слушаюсь». Свей рассмеялся, и Харгреб был благодарен ему за этот смех.
Через остров тянулись две горные цепи, с них сбегали речушки, и ему захотелось поскорее узнать, какая же там водится рыба. Были и леса с темными деревьями и равнины, подступавшие к самому берегу сверкающего океана.
— Капитан, корабль готов к посадке. Кстати, вы заметили деревушку на севере острова?
— Пока нет, но, думаю, мы отыскали очень милую планету!
Спрятавшись в кустарнике, она ждала до сумерек, но все-таки решилась подойти к кораблю.
В полдень вдруг подул горячий ветер, и волны на белом пляже стали выше обычного. Девочки и старухи вскинули головы и увидели огромный корабль, сияющий в лучах солнца. За кораблем тянулся белый след конденсата.
Сделав два круга над деревней, корабль сел у кромки воды, и самые высокие волны лизали его опоры.
Багровое солнце ушло за горизонт, окрасив океан и пляж кроваво-багряным, резче стали тени от колючих деревьев и опустевших домов.
Потом на темной броне корабля вспыхнули яркие световые квадраты, луч прожектора уперся в песок. Корабль как бы парил над сияющим островом света.
Девушка остановилась в нескольких шагах от корабля. Высыпавшие из него люди пока еще не заметили ее. Они разговаривали, глядя на океан, и ей нравились голоса мужчин — мужчин, которых так мало было в их деревне.
Она снова пошла вперед, удивляясь, почему так испугались ее подруги и несколько мужчин, убежавших в лес.
Быть может, они вспомнили о других стальных птицах, из которых выходили не люди, а кошмарные существа с далеких миров…
— Здравствуйте!
Девушка вздрогнула, пытаясь рассмотреть человека, скрытого глубокой тенью. Она услышала рядом дыхание, потом скрип песка под ногами.
— Здрав… здравствуйте! — пролепетала она.
Она волновалась, но очень хотела показать этому человеку и своим подругам, что принадлежит к той же расе и говорит на том же языке.
Ей хотелось, чтобы они поскорее узнали, что ее предки давным-давно прилетели сюда на почти таком же корабле.
— Вы говорите… вы говорите, как мы!
Девушка была счастлива — он понимал ее. Отступив, она вышла из тени и заставила показаться собеседника. Тот был высок и очень худ, но совсем не походил на мужчин из деревни. Длинные волосы спадали на лоб светлыми прядями. Ей не понравилась мрачная одежда человека — черный комбинезон, обтягивающий его от подбородка до щиколоток и заканчивающийся странными металлическими сандалиями.
На груди белел квадратик с именем.
— Вас зовут Рей-Гирун?
Мужчина рассмеялся. Она поняла, что ошиблась, и покраснела от стыда и обиды.
— Нет-нет, это название корабля.
— Звездолета?
Он снова засмеялся.
— Меня зовут Свей.
— Почему вы смеетесь, Свей?
— Как бы объяснить… Мне кажется, все люди узнают друг друга по этой особенности — они боятся, что их примут за туземцев.
— Да, это так… наверное.
На этот раз смех его показался не таким уж неприятным.
— Мы, — наконец сказал он, — друзья, сошедшие с неба в этой громадине. Мы несем мир…
Теперь она тоже расхохоталась.
— Итак, — раздался вдруг чей-то солидный бас, — мы уже налаживаем добрые отношения?
Свей обернулся.
— Капитан, это… Кстати, как ваше имя?
— Криилье.
— Это Криилье. Наследница первых поселенцев и свободная гражданка Тиежа II.
Капитан учтиво поклонился, и она едва удержалась, чтобы не фыркнуть, таким комичным показался ей этот поклон.
— Криилье, — сказал он, упирая на «и», — мне хотелось бы, чтоб вы успокоили своих насчет наших намерений. Если у вас есть старейшины, попросите у них гостеприимства для нас на несколько дней. Мы здесь пролетом и скоро отправимся своей дорогой… Очень скоро.
— Капитан, — обернулся к Харгребу Свей, — вы позволите мне сопровождать Криилье в качестве вашего представителя?
Уже опустилась ночная тьма, но Криилье заметила, как капитан улыбнулся.
— Представителя? Ну что ж, мы ведь тут в отпуске.
Свей и Криилье пошли прочь от корабля, направляясь в сторону деревни.
С утра зарядил дождь, но дождь на редкость ласковый, как это бывает в очень немногих мирах. Дождь был почти зеленым, как лужайки перед домами, и жемчужинами повисал на ветвях деревьев. Море словно лишилось голоса и шуршало в такт падающим каплям.
Экипаж «Рей-Гируна» разглядывал окрестности с порога дома, самого просторного и высокого в деревне. Дом был уютен и разделен на три десятка маленьких комнаток. По углам зала на первом этаже светились причудливые масляные лампы.
Харгреб на мгновение прикрыл глаза. Гримсоу и Сполетти дуэтом играли на крохотных флейтах, увезенных с какой-то забытой планетки. Гондри, потерявший в последнем бою трех приятелей, спал, уронив голову на столик из красного дерева.
«Славное место для отдыха, — подумал Харгреб, — наслаждаться бездельем, смотреть на дождь, зная, что ничего не упадет на твою голову с неба, чтобы сжечь все вокруг и заставить снова заняться войной…»
Он вспомнил о прошлой ночи и поправил себя — в этом мире тоже можно устать, но усталость будет приятной. Здесь можно выпить, потанцевать, поведать о своих несчастьях. И всегда найдется кто-то, кто выслушает тебя, кто-то с огромными нежными глазами и ласковой улыбкой…
— Вы спите, капитан?
Свей стоял перед ним весь мокрый — наверно он пришел из леса, — в волосах застряли травинки.
— Нет, Свей, я мечтал, — пробормотал Харгреб. — А вы никак вовсю наслаждаетесь жизнью?
Помощник улыбнулся, и капитан продолжил:
— Похоже, вы не страдаете от одиночества? Из всех нас вы стартовали наиболее удачно.
Лицо Свея вдруг стало серьезным.
— Вы правы, я гулял в лесу с Криилье. Мне хотелось бы сказать вам пару слов, капитан…
Они вышли из дома и двинулись по тропинке к пляжу. Дождь почти утих, последние капли приятно холодили кожу. Харгреб запрокинул голову и открыл рот.
— Что с вами, капитан?
— Детские воспоминания, Свей. Большую часть юности я провел на Эвдике, а там всегда такая сушь. Когда шел дождь, я… Кстати, что вы хотели мне сообщить?
Свей вздохнул.
— В лесу мы встретили мужчин. Они возвращаются.
— Не очень-то они спешат. Я было подумал, что женщины нам лгут и размножаются почкованием, или мужчины еще большие трусы, чем мы…
— Они не трусы.
Харгреб бросил на помощника изумленный взгляд.
— Я ничего такого не утверждал, Свей.
— Простите, капитан. Они произвели на меня удивительное впечатление. Это очень сильная и здоровая раса. Я удивился, как случилось, что здесь столь малочисленное население, и спросил их… — он остановился, подыскивая слова.
— Так что же, Свей?
— Просто у мужчин лучше память, чем у женщин, вот и все.
Харгреб нахмурился. Онй вышли на пляж. В стороне синел корабль.
— Мужчины помнят, во что им обошлось знакомство с прилетающими кораблями, — наконец продолжил Свей. — Похоже, здесь частенько высаживаются наши враги и увозят с собой мужчин. Последнее такое вторжение случилось с полгода назад. Завидев нас, мужчины из деревни поступили, как не могли не поступить…
— Значит, этот мир подвергается нападениям чужаков, если все эти рассказы правда.
— Мне кажется, они просто не умеют лгать.
— Дело не в том. Неужели здесь орудуют чужаки, с которыми мы сражаемся под Опикусом?
— Не исключено, капитан. Быть может…
— Не может быть! Мы более чем в сорока световых годах от театра военных действий.
— Но мы же сюда добрались. Капитан, вы слыхали о земных кораблях, которыми под надзором чужаков управляют пленные и которые пробираются к нашим тыловым базам, чтобы внезапно взорваться?
— Да, Свей, я знаю даже больше. Но не желаю, чтобы вы говорили об этом здесь и сейчас. Мы просто отдыхаем… Мы не станем превращаться в благородных защитников и дожидаться пиратов ради сомнительной победы! К сожалению, нас ждут более серьезные дела. И скорее всего мы больше никогда не вернемся на Тиеж II. Вы поняли, Свей?
— Не совсем, капитан.
Харгреб устало махнул рукой. Он уселся прямо на песок и принялся перебирать красные ракушки.
— Есть много миров вроде этого, старина. Далеких миров, которые обживают без всяких официальных разрешений. Они расположены во враждебных, если не запретных секторах. И неудивительно, что на них обрушиваются катастрофы. Прадеды этих колонистов сами сделали такую ставку. А потомкам остается только следовать тем же путем.
Первый помощник смотрел на корабль.
— Послушайте меня, Свей. Я готов вам кое-что предложить. До отлета осталось еще два или три дня. Ребята могут помочь местным жителям собрать пару лучевых пушек. Это даст им довольно неплохую защиту. Что вы об этом думаете?
— Думаю, что тиежцы не смогут обороняться.
Харгреб пожал плечами и вскочил на ноги.
— Свей, вы разбудите во мне зверя. Эту беспечную публику, потомков колонистов, мне не жаль. Если они к тому же не в состоянии поступать как мужчины!
— Они боятся, капитан. Как и мы, когда крутимся возле Опикуса.
— Но мы сражаемся, Свей. В этом вся разница.
Он пошел к деревне, оставив молодого человека на берегу океана. Однако, сделав несколько шагов, остановился.
— Свей?
— Да, капитан?
— Если вы… не хотите лететь… Если хотите остаться с этой девушкой… Я не буду возражать. Остальным как-нибудь объясню.
— У меня не было таких намерений, капитан.
— Ах вот как… Тогда забудем.
На следующее утро экипаж «Рей-Гируна» встретился с мужчинами деревни. И разговоры с ними длились куда дольше, чем с женщинами.
Харгреб узнал, что на остроте есть еще с десяток поселений и пять находятся на континенте.
— Им долго не продержаться, — сказал один из мужчин. — Их преследуют все беды сразу — холод, чужаки и зверье…
— Когда на эту планету сел первый корабль? — прервал его Харгреб.
— Лет полтораста назад.
— И раньше вас было больше?
— Примерно вдвое.
Харгреб хотел было спросить, сколько смогут продержаться колонисты, но так и не нашел в себе мужества задать этот вопрос.
Он поискал глазами Свея и заметил его посреди деревенских мужчин. Рядом с ним на траве сидела Криилье. И вдруг ему захотелось улететь отсюда, вернуться обратно в ад сражений. Дело привычки. Этот мир был слишком тих, слишком сильно напоминал Землю и другие планеты с их светлым небом и шуршащими волнами океана…
— Послушайте, — повернулся он к тиежцам, — мы пробудем у вас еще пару или тройку дней, но не больше. Если хотите, чтобы мы вам что-нибудь построили, скажите.
И удалился, оставив деревенских жителей с четырьмя техниками. Но он еще долго ощущал спиной их взгляды — и техников, и колонистов.
После полудня светило яркое и горячее солнце, а к вечеру над пляжем собрались морские птицы с перепончатыми лапами.
Харгреб лежал на песке в тени двух деревьев, усыпанных вместо листвы черными иглами. И ждал, когда на небе появятся два бледных серпа местных лун.
Со стороны корабля доносился скрежет, изредка сверкали вспышки — техники занимались ремонтом и проверяли вооружение. Вахтенные подсчитывали запасы медикаментов.
В деревне танцевали. В основном экипаж «Рей-Гируна» и местные женщины. Отношения сложились дружеские, и Харгреб мог быть доволен.
Услышав топот ног, он поднял голову.
— Капитан!
К нему, размахивая руками, бежал Сполетти. Харгреб вспомнил, что тот вечером дежурит в рубке.
— Что?
— Капитан! — Сполетти задыхался. — Мы только что засекли «квадрат»! Он направляется в сторону этой системы.
Харгреб не сразу вспомнил, что земляне называли «квадратом» любой вражеский корабль после одной странной истории, случившейся еще при первой схватке с чужаками.
Он вскочил на ноги и бросился вслед за Сполетти. Почти весь экипаж уже собрался на корабле.
— Свей!
Феккинс сделал шаг вперед,
— Отсутствует, капитан. Я решил, будет лучше побыстрее собрать ребят.
— Правильно сделали, Феккинс. Боевая готовность!
Люди бросились по отсекам. У Харгреба мелькнула мысль о Свее, но тот, по-видимому, оставался где-то в лесу или на пляже с девушкой…
— Феккинс! За мной на мостик! Замените первого помощника.
Ночью «квадрат» засиял в небе как звезда первой величины. Он кружил на орбите Тиежа, медленно и осторожно снижаясь. На экране прицела он занимал целых шесть клеточек.
— Здоровый, — пробормотал Феккинс.
Он занимался регулировкой приборов, не дожидаясь распоряжений Харгреба, и капитан был рад этому. В глубине души он ощущал что-то, мешавшее ему встряхнуться и взять себя в руки. «Ты неспособен, — подумал он, — командовать кораблем. Сражения и бегство сломали тебя…»
Но экипажу вовсе не обязательно было знать об этом, по крайней мере сейчас. И он принялся диктовать канонирам координаты предполагаемого спуска чужака.
— Феккинс, надо послать кого-нибудь в деревню и предупредить людей.
— Туда уже отправились…
Феккинс прикусил язык,
Харгреб сделал вид, что смотрит на экран.
— И Свей вызвался добровольцем?
— Да, капитан.
Харгреб спросил себя, почему так привязан к этому длинному нескладехе, который сейчас, наверное, успокаивает перепуганных колонистов.
— Феккинс… Пора взлетать. Сражение в воздухе безопасней. К бою!
— Слушаюсь.
«Рей-Гирун» задрожал и стремительно взмыл над пляжем. Он пошел вертикально вверх, устремившись в сторону врага, который после очередного витка снижался над океаном, приближаясь к острову.
— Вы правы, Феккинс, корабль не из маленьких..
На экране серебрился шар втрое больший, чем «Рей-Гирун». На его борту чернел странный символ.
— Ни разу не видел такого, — сказал Феккинс.
Харгреб заворчал. В душе была какая-то неуверенность: еще никогда перед сражением не ощущал он такой пустоты.
«Это не страх, — подумал он, — и не старость… Просто я готов бросить все».
Бой начался внезапно, и люди уже не могли отвечать за его исход. Впрочем, как и чужаки. Теперь в дело вступили компьютеры — все зависело от них.
Корабли сходились и расходились, рождая в океане бурю…
Харгребу казалось, что он провалился в воду, холодную и быструю, как горный поток. Потом вдруг вынырнул на поверхность и оказался на ложе из синих камней. Рядом хохотали трое приятелей. Четвертый, тот кто расталкивал его, выглядел несколько странно: грушевидная голова и пара крылышек за плечами. Не человек, но развлекался совсем как люди. Это было на Дорге, в системе Ван Маанена, на первом из чужих миров, где пришлось побывать.
Он повернулся на спину. Четверо ребятишек бегали по берегу. Дорганец шевелил крылышками, как ангел, и дико вращал огромными глазами. Харгреб рассмеялся и хлебнул воды. Смех превратился в гримасу боли,
— …Капитан!..
Харгреб поискал глазами дорганца, чтобы выругать его. Но глаза горели от воды.
— Капитан!..
Он очнулся. На мостике толпился почти весь экипаж, и над ним склонились сразу три головы. Харгреб пошевелился и застонал.
— Капитан, выпейте это!
Феккинс приподнял его, и он сделал большой глоток спиртного. Удивительно, как это ребятам удается прятать на борту запрещенные напитки… Надо будет проверять даже пушки.
— Что… что произошло, Феккинс?
— Мы схлопотали, капитан. «Квадрат» умудрился в последний момент влепить нам небольшой заряд.
Харгреб поднялся на ноги. В глазах просветлело.
— И что с нами, Феккинс?
— Сели.
— А «квадрат»?
— Мы поимели его на вираже. Рухнул в океан. Пока еще плавает… Хотите взглянуть?
Капитан махнул рукой.
— Нет. Пошлите Сполетти и еще четверых осмотреть эту штуку. Может, там найдется что-нибудь интересное.
— Уже сделано, — после секундной заминки ответил Феккинс.
— А я пойду в деревню.
— Кстати, капитан. Чужаки едва нас не прикончили.
— Каким образом?
— Мы засекли один корабль. А их оказалось два. Второй летел прямо над лесом. Он сел… К счастью, Свей был в деревне и с помощью колонистов открыл по чужакам огонь из наших лучевых пушек. Чужаки стартовали и смылись.
Харгреб пригладил волосы.
— Прекрасно. Свей справился с делом.
— Ну, разумеется.
Феккинс смотрел на него в упор. В глазах его не было сочувствия. И Харгреб вдруг разозлился на этого молодого добровольца, возненавидел его.
Он нашел Свея в большом доме, где они уже привыкли собираться, ибо то был дом мужчин: его помощник стоял у кровати, освещенной двумя громадными масляными лампами. Капитан разглядел лицо Криилье.
— Что случилось?
— Сильный ожог руки… Она побежала за нами, когда мы двинулись в лес, чтобы напасть на чужаков. Луч пушки слегка задел ее. К счастью, все обошлось. Она выкарабкается.
У дальней стены Харгреб заметил еще двух женщин и пятерых с корабля. Он обвел взглядом их лица. Люди поняли его без слов и молча вышли.
— Свей… Поздравляю вас с тем, как вы в одиночку выпутались из этой ситуации…
— Я был не один. Тиежцы помогли мне на все сто.
Молодой человек говорил, не отрывая глаз от девушки и протирая ей руку анестезирующей настойкой.
Харгреб в молчании переминался с ноги на ногу.
— Мы улетаем, — сказал Свей.
Он не спрашивал. Он говорил твердо, и Харгребу вдруг стало не по себе.
— Не знаю, — наконец выдохнул капитан, — может быть, через несколько дней. Не знаю… Феккинс говорит, что меня задело.
Свей пристально посмотрел на него.
— Вы не можете командовать «Рей-Гируном».
— Видите ли… Думаю, я…
— Феккинс вам солгал.
Харгреб прищурился.
— В чем?
— «Рей-Гирун» невредим. Чужаки его не достали. Но произошла небольшая авария двигателей…
Харгреб ждал продолжения, хотя уже все понял. Свей поставил флакон с настойкой, выпрямился и тихо произнес:
— Вы потеряли сознание раньше, — он помолчал, потом добавил: — А теперь разрешите мне закончить.
Капитан повернулся и вышел.
Вернувшись на борт, он ничего не сказал Феккинсу. Тихо отправился в свою каюту и лег. До самого утра он дремал, то проваливаясь в сон, то просыпаясь. В голове его роились странные образы. Утром Харгреб вернулся в деревню.
Криилье с помощью Свея уже пробовала ходить, вокруг них суетились женщины и мужчины и с хохотом давали бесполезные советы. Возле одного из домов были сложены останки чужаков — их обгоревшие гребни. Взгляд Харгреба скользнул по ним.
— Свей… можно вас на пару слов?
— Конечно, капитан.
Они отправились в лес по узкой тропинке, змеящейся вдоль ручейка, который дальше вливался в маленькое заболоченное озеро. Свей ткнул пальцем в сторону болотца.
— Здесь я обнаружил морскую соль и видел странных рыб. Надо было бы…
— Свей, я решил последовать вашему совету. С этой минуты я больше не командую «Рей-Гируном».
— Вы не вправе в одиночку решать такое.
— Команда соберется позже, если пожелает. Капитаном, мне кажется, выберут вас или Феккинса. Я бы предпочел, чтобы выбрали Феккинса. Не потому, что ценю его выше, но… мне хотелось, чтобы мы с вами остались здесь.
— Мы?
— Я остаюсь. И подумал, что если вы привязались к Криилье, то поступите так же.
— Я привязался к Криилье, капитан. Не знаю, много ли в вашей жизни было женщин… вы, наверно, понимаете меня.
— Понимаю.
Ему хотелось сказать: «Я люблю тебя, мой мальчик, как отец взрослого сына!», но слова застревали в горле, он знал, что никогда не произнесет их.
— Я улечу со всеми, — сказал Свей. — Я хочу командовать «Рей-Гируном»… Может быть позже, когда дела поправятся… может быть, я вернусь сюда, чтобы остаться.
— А относительность времени, Свей? Криилье умрет до того, как вы вернетесь. Когда вы в пространстве, времени доверять нельзя.
— Конечно, конечно…
Свей снова пошел вперед. Они шли через лес — высокотравье, колючий кустарник, цветы, и узловатые стволы — к почерневшей поляне, где ночью произошло сражение. Харгреб и Свей остановились на границе выжженного неровного круга.
— Дело продолжалось недолго, прямо как на охоте… Они не ожидали встретить здесь сопротивление, а потому разгромить их было легко.
— Отличная работа.
— Это получилось само собой, капитан. Вчера мне хотелось остаться в деревне. Корабль, экипаж, даже вы были мне отвратительны. А потом, после боя, я испытал странное чувство. Словно тоска… по родине. Неодолимое желание вернуться на корабль.
— Вы правы, тоска по родине… Если корабль — наша родина. Мы так давно находимся на борту, Свей, что я не уверен, сможем ли мы когда-нибудь окончательно спуститься на землю.
— Однако вы все же решились, капитан. И поверьте, я вам не завидую.
— А мне и не стоит завидовать, Свей. Остаюсь, хотя ничто не привязывает меня к этому месту, Я всегда с некоторым презрением относился к колонистам. Помните наш разговор о тех мирах, где люди обживаются, но не в силах их защищать?.. Это не красивые слова. Я никогда не стану здесь своим. Ведь так, Свей?
— Может вы и ошибаетесь, капитан. Думаю, женщина сделает вас самым обычным мужчиной.
Харгреб усмехнулся.
— Ну что ж, попытаюсь найти сразу нескольких. А теперь, Свей, возвращайтесь на корабль и выбирайте командира. Я еще поброжу по лесу: мне пора привыкать к новой жизни.
— Хорошо, капитан.
Свей вернулся в большой дом к вечеру. На горизонте собирались фиолетовые тучи, обещавшие скорый дождь. Харгреб ждал, присев возле Криилье на пороге и играя с двумя крохотными рыжими зверьками.
— Ну что?
— Выбрали меня. Первым помощником я взял Феккинса.
— Разумеется.
— Экипаж спрашивает, хотите ли вы действительно остаться здесь один? Есть желающие составить вам компанию.
— Сколько их?
— Шесть или восемь.
— Теперь это ваша забота, капитан, — улыбнулся Харгреб. — Но мне кажется, боевой корабль всегда должен иметь полный экипаж.
— Я согласен с вами… И сообщу им о вашем отказе.
— Моем отказе?
— По правде говоря, я не могу командовать кораблем, пока вы сами на появитесь на борту. Мне бы хотелось, чтобы вы проводили меня до корабля.
Свей уставился в землю. Криилье молчала.
— Думай, могу сходить и один… Когда вы стартуете?
— Ночью.
На глаза Криилье навернулись слезы. Харгреб с ворчанием вышел. Свей не знал, что ему делать.
Харгреб ушел с корабля поздно вечером и вернулся в деревню. Он принес с собой кожаный чемоданчик с нехитрыми пожитками. Небо было удивительно черным, и на нем еще ярче сияли звезды.
В зале дома мужчин по-прежнему горели лампы. Свей и Криилье спали. Харгреб потряс за плечо нового капитана.
— Время, сынок.
Ласковое слово само собой сорвалось с губ, и он повторил его с видимым удовольствием:
— Вставай, сынок. Ты ведь не остаешься.
Свей молча вскочил на ноги. Глаза его не отрывались от юной женщины. Она спала, сложив руки на груди, и лицо ее было светлым и спокойным. Но на смуглых щеках пролегли две мокрые дорожки.
Свей усмехнулся.
— Дитя природы. Я бы никогда не смог так заснуть, — он хлопнул Харгреба по плечу. — Оставайся, новый колонист. Я вернусь с остальными еще до того, как у тебя поседеет борода, а вокруг будет носиться дюжина ребятишек!
— Мне очень этого хочется, Свей.
Молодой человек пошел прочь, обернулся и крикнул:
— Счастливо… отец.
Доставив этим Харгребу огромное удовольствие.
Харгреб еще долго вглядывался в ночь, потом сел рядом с Криилье, и стал смотреть, как спокойно и ровно вздымается ее грудь.
…Пронесся горячий вихрь, хлопнул воздух. Темная масса на мгновение закрыла звезды. Затем со свистом исчезла.
Молодая женщина не проснулась, только вздохнула во сне.
Утром пошел проливной дождь, а после целых две недели светило солнце. Дождь пошел снова только в начале лета, вслед за ним прилетели морские птицы, плескавшиеся на воде с пронзительными криками.
Следующий год был жарким, а весна восхитительной.
Другие годы были такими же.
Причал уходил далеко в море, к маленькому скалистому островку, куда слетались, похоже, все птицы планеты.
Старик ловил рыбу, рядом с ним сидела девушка. По воде пробегали огненные отблески, иногда скрывая серебряный поплавок, покачивавшийся на волнах.
Начиналось лето, и оно обещало быть жарким.
Девушка вскочила на ноги. Ей давно наскучило сидеть на месте и вглядываться в горизонт и серые камни острова, как бы притягивающие птиц. Она медленно побрела к берегу, радуясь теплому дереву под босыми ступнями, и вдруг замерла — над океаном возник белый шлейф пара.
— Кресс! Кресс!
Она бегом вернулась к рыбаку.
Но когда тот наконец поднял голову, в воздухе осталась лишь тающая белая полоска.
— Честное слово, — воскликнула девушка, — это было похоже на волчок с дымом!
Старик снова забросил удочки и усмехнулся.
— Может, это был звездолет. Уже давно нас никто не навещал.
Он вдруг замолчал и уставился на девушку странным цепким взглядом. Потом встал, собрал удочки и уложил снасти в корзину. Солнце уходило за горизонт. Птицы на островке казались бело-розовой пеной.
И в этот момент у причала появился незнакомец. Девушка вздрогнула и схватила старика за руку.
— Кресс! Смотри!
На незнакомце был черный комбинезон. Только на груди белел квадратик с непонятными символами.
— Ты права, — пробормотал Кресс. — Он явился из далеких миров.
Старик с девушкой подошли ближе и остановились в нескольких шагах. Человек был еще молод, хотя в уголках рта лучились морщинки, а в волосах проглядывали седые пряди.
Человек поставил на землю небольшой чемоданчик и вымученно улыбнулся.
— Простите меня.
— За что? — удивился Кресс.
— Мне показалось, я знаю вас и эту девушку…
— Здесь нет ничего обидного.
Кресс собрался идти домой. Он взял девушку за руку — рука дрожала.
— Пойдемте с нами в город. Совет будет рад узнать о вашем прибытии.
Незнакомец покачал головой.
— Нет… Нет, я не могу остаться. Мне хотелось бы спросить… Вы когда-нибудь знали человека по имени Харгреб?
Кресс ждал. Он пытался заглянуть в глаза незнакомца, но тот старательно отводил взгляд, словно был чем-то опечален и измучен…
— А Криилье? Это имя вам ничего не говорит?
Кресс не ответил сразу. Он поставил корзинку на землю и спросил:
— Вы Свей?
— Да.
— Тот, кого звали Харгребом, умер.
— Умер? Почему?
— От старости. Я был совсем юным, когда вы улетели. Харгреб ждал вас… Он все время вспоминал битву у Опикуса, которую должны были выиграть люди… Ее выиграли?
На лице Свея мелькнуло удивление. Потом на нем осталась только печаль.
— Нет, там мало что изменилось, — пробормотал он. — У вас прошло много времени, а у нас… Мы едва успели отвоевать несколько миров.
Кресс опустил голову. Глаза человека его уже не интересовали.
— А Криилье… Что стало с Криилье?
— Она… тоже умерла.
— Правда? Вы не лжете мне?
— Нет. Зачем? Криилье погибла в тот день, когда чужаки сожгли деревню.
Свей молча кивнул. Теперь он смотрел на океан, на багровый закат. Потом его глаза остановились на девушке, и он улыбнулся.
Свей чего-то ждал, в нем бродило какое-то неясное желание. Старик больше ничего не говорил. Просто наклонился и поднял корзинку.
— Харгреб, наверно, часто приходил сюда?
— Зачем вам знать об этом? Зачем задавать вопросы после стольких лет?
В глазах старика сверкнул гнев. Свей даже отступил на шаг.
— Вы думаете, у вас есть какое-то право на этот мир?
Вам нравится возвращаться сюда, когда вы устаете от войны? Время для нас и для вас течет по-разному. Приходя, вы будете испытывать лишь печаль. Поверьте мне, юноша, и возвращайтесь к своим битвам.
Свей кивнул, протянул было руку, потом, не окончив жеста, повернулся и пошел прочь.
Кресс долго стоял, глядя ему вслед.
Он думал о стоящей рядом девушке, о том, что мог бы сказать гостю. Но он знал, что время быстро заглушит упреки совести.
— Пошли, — сказал он наконец. — Мы опоздаем домой.
Но девушка не двигалась. Она смотрела на небо, в котором таяла белая полоса.
— Он улетел, — добавил Кресс.
В сердце его осталась грусть. Он сам не знал, правильно ли поступил.
— Почему он спрашивал о матери?
Кресс положил руку на плечо девушки и промолчал. Неужели сомнение запало и ей в душу? Почувствовала ли она что-то, какую-то особую связь со звездолетчиком? Он нахмурился. Все давно умерло.
— Пошли.
И побрел в сторону города. Девушка постояла немного и побежала вслед за ним.
Жюлия Верланже
Пузыри

Сегодня я опять видела ту Другую. Она стояла под окном, размахивала своими длиннющими руками и говорила, говорила. Губы ее непрерывно двигались, но ничего не было слышно. Конечно, разве услышишь что-нибудь через окно? А потом она уперлась в стекло всеми своими руками и стала давить. Я испугалась, нажала кнопку, ставни захлопнулись. А ведь я знаю, что она все равно не сможет войти. Никто не сможет.
Отец рассказывал, что когда-то, давным-давно, стекла в окнах можно было разбить. Не могу в это поверить, но отцу лучше знать. Он говорил: нам очень повезло, что пузыри пришли сейчас, потому что появись они в прежние времена, все погибли бы. Дома тогда были совсем не такие, и не было слуг. Никому не удалось бы спастись от пузырей.
Это отец сказал мне, что я должна обо всем написать, когда вырасту большая. Он говорил: «Надо писать для тех, кто будет жить после нас». Ведь когда-нибудь люди найдут средство против пузырей, и все снова станет как прежде. Отец говорил мне: «Люди должны узнать, что было с нами, когда пришли пузыри. Поэтому ты должна обо всем написать, Моника, когда вырастешь большая, когда меня не станет». Наверное, отец не думал, что его не станет так рано. О, если бы только он не вышел на улицу, если бы не вышел!
Когда вырастешь большая, говорил он. Сегодня мне исполнилось шестнадцать — значит, я уже большая, и утром я начала эти записи.
Отец и сам много писал. Он рассказал, как пришли пузыри, и каким был мир прежде. Я-то ничего об этом не знала, только то, что рассказывал отец. Я родилась сразу после того, как появились пузыри.
Отец рассказывал, что много людей умерло в первые же дни, очень, очень много, пока наконец все не поняли, что бороться с пузырями невозможно, что если не хочешь умереть или стать Другим, то единственное спасение — не выходить на улицу.
Мой отец понял это сразу, поэтому мы все уцелели. Он говорил мне, что раньше это было бы невозможно — совсем не выходить из дому, люди умерли бы с голоду. Тогда мясо не росло в чанах, а овощи в бочках, и не было слуг, которые все делали. Оказывается, в прежние времена люди всем занимались сами, они сажали овощи в землю и выращивали животных, чтобы было мясо.
Вот смешно, а я даже не знала, что такое животные. Отец мне объяснил и показал картинки в старых книгах. Какие они чудные! Даже не верится, что такие бывают.
Сегодня утром я пошла в библиотеку, посмотреть старые книги, но теперь, когда отца больше нет и некому объяснять, многое мне непонятно.
Вот например, мне попалась картинка с женщиной, очень похожей на Другую, что приходила вчера под окно. У нее тоже много-много длинных, извивающихся рук. Под картинкой написано: «Богиня Кали». Значит, в те далекие времена уже были Другие? Но отец говорил, что люди становятся Другими из-за пузырей. А ведь раньше пузырей не было.
Не могу видеть Других. Меня начинает бить дрожь, особенно когда они подходят к окну, как та, вчера. Она часто сюда приходит. Вроде бы хочет мне что-то сказать: я вижу, как шевелятся ее губы.
«Странно, — говорил отец, — мы куда больше боимся Других, которые в общем-то не опасны, чем пузырей. Наверное, это оттого, что Другие вызывают у нас отвращение и ужас, а в пузырях есть почти совершенная красота». И правда, пузыри такие красивые. Я часто смотрю, как они летают над улицей. Они блестят и переливаются, совсем как мыльные пузыри, которые мне так нравилось выдувать, когда я была совсем маленькая. Только они гораздо больше и очень твердые, такие твердые, что их невозможно разбить.
Но они лопаются сами, столкнувшись с человеком, и тогда человек умирает.
Один раз я сама это видела, еще при отце. Какой-то мужчина бежал по улице. Он бежал изо всех сил, широко открыв рот. Наверное, кричал, но мне не было слышно. А за ним летел огромный пузырь. Быстро летел, очень быстро. Вот он догнал мужчину и лопнул, ударившись об его голову. Мужчину окутало пеной, отливающей всеми цветами радуги.
Я страшно закричала, примчался отец. Он прижал мою голову к своей груди и все повторял: «Не смотри, детка, не бойся». Он держал меня очень крепко, а когда отпустил, и я снова посмотрела в окно, там уже ничего не было, только большая лужа, такая же блестящая и переливающаяся, как пузыри. Отец сказал: «Он умер, бедняга, растворился в одно мгновение. Для него это лучше, чем стать Другим». Конечно, отец был прав, как всегда, но порой я думаю: неужели правда, лучше умереть, чем стать Другим — ведь мне совсем не хочется умирать.
Но Другие так ужасны!
Кормилица с утра не отстает от меня. Все спрашивает, не нужно ли мне чего-нибудь. Ох, как она меня иногда раздражает, просто бесит! Я послала ее в подвал за яблоками, а когда она вернулась, просто выгнала из комнаты.
Если бы здесь был отец! Вот уже три года я совсем одна. Я знаю, что прошло три года, потому что отмечаю на календаре, как раньше отец. Он иногда говорил: сам не знаю, зачем я все еще это делаю. И добавлял: наверное, потому, что всем нам так дорого прошлое. Но я-то не знаю прошлого. Я отмечаю дни, потому что так делал отец, и тогда мне кажется, что он все еще со мной.
Я знаю только такой мир — с пузырями, с пустыми улицами, по которым ходят только Другие.
Отец столько рассказывал мне о прежнем мире, и мне так хочется, чтобы все это вернулось. Чтобы можно было выходить на улицу и видеть людей, а не Других. И еще отец говорил, что там, где кончается город, растет зеленая трава, и деревья, и цветы, и где-то в заповедниках живут всякие животные.
Я видела все это на картинках в старых книгах и на экране у нас дома, но отец говорил: это совсем не то.
Знаешь, как чудесно, говорил он, когда солнце греет твою кожу или капли дождя падают на лицо. Я часто вижу, как дождь стучит в стекло. Интересно, неужели это так приятно, когда капли падают тебе на лицо? А еще, оказывается, где-то есть море, много-много воды, и вся она соленая. И люди плавают в ней, как я — в бассейне у нас в подвале. Наверное, мне понравилось бы плавать в море.
Отец верил, что я еще увижу прежний мир. Я сам, может быть, не доживу, говорил он, но ты — обязательно. Оказывается, много людей трудятся, ищут средство, чтобы уничтожить пузыри. Отец был уверен, что когда-нибудь они непременно найдут. Но я жду уже так долго, а вокруг все то же — на улице только пузыри да Другие, а я заперта в доме.
Мне так тоскливо, и так не хватает отца. Если бы он остался со мной! Есть слуги и кормилица, но иногда они так меня раздражают! Конечно, они ведь не люди. Отец называл их роботами. Какое смешное слово! Он рассказал мне, что раньше слуг не было. То есть слугами называли людей, которые работали на других.
Как это странно! Но отец все знал. Он прочел много старых книг и мог часами говорить о прежних временах. Я теперь тоже пытаюсь читать эти книги, но там много непонятного. Что, например, такое «влюблен» или «ехал в метро»? Был бы здесь отец, он бы мне объяснил.
Я была в маминой комнате. Открыла все шкафы, на меня повеяло слабым запахом духов. Сперва я не решилась ничего трогать. Мне все казалось, что мама стоит за моей спиной и смотрит пустыми глазами. Было так страшно. Но потом я набралась храбрости — взяла одно платье. Оно такое мягкое и приятное на ощупь, зеленое, как те бусы, что лежат в мамином ларце с украшениями.
Я надела его. Наверное, я очень выросла: оно мне оказалось впору. Посмотрелась в зеркало. Красиво… Зеленый цвет платья оттенял мои глаза, они блестели, совсем как мамины бусы.
Должно быть, я красивая, ведь я похожа на маму, а отец всегда говорил, что мама очень красивая. Еще он говорил, что наши волосы — как спелая пшеница под летним солнцем. Не знаю, что это такое — спелая пшеница под летним солнцем, но у отца был такой мечтательный вид, когда он это говорил, наверно что-то красивое.
Волосы у меня очень длинные, я могу закутаться в них, как в плащ. Оказывается, в прежние времена женщины иногда подстригали волосы коротко, выше ушей, совсем как отец. Вот смешные — хотели быть похожими на отца. Нет, мама все-таки была гораздо красивее. Но я больше любила отца, ох, как я любила его!
Мамы я всегда немножко боялась. Порой она так странно смотрела, словно не видела меня, взгляд был обращен куда-то внутрь. Мама никогда обо мне не заботилась, даже не разговаривала со мной. Иногда она принималась плакать и плакала часами, а потом вдруг вскакивала, колотила кулаками в дверь и кричала: «Я хочу выйти, хочу выйти, выпустите меня!» Тогда отец обнимал ее и ласково уговаривал: «Тише, успокойся, дорогая, потерпи немного, радость моя». Отец очень-очень любил маму, из-за нее он и вышел на улицу, Я знаю, что не должна так думать, отец рассердился бы на меня, но зачем он это сделал? Зачем он это сделал?!
Однажды я ужасно разозлилась. Отец успокаивал маму, а я закричала на него: «Да оставь ты ее! Она же ничего не соображает!» Он так грустно посмотрел на меня, а потом, когда мама успокоилась, долго со мной говорил. «Напрасно ты так злишься на маму, детка, — сказал он, — это не ее вина, что она такая. Да, знаю, она не заботится о тебе, ей ни до кого нет дела, но раньше, когда не было пузырей, она не была такой. Ее рассудок не выдержал того, что с нами случилось. Она живет в мире грез, отворачивается от реальности. Но она не виновата, не злись, Моника, лучше пожалей ее… Если со мной что-нибудь случится, тебе придется заботиться о ней так, будто это она маленькая девочка, а не ты. Видишь, как она иногда рвется на улицу, нельзя ее пускать, она сама не знает, что делает. Обещай мне, что будешь доброй и позаботишься о маме, когда меня не станет. Обещай мне это, Моника». У него были такие грустные глаза, и весь он был такой несчастный… Но мне не пришлось сдержать обещание.
Мама умерла, когда отец вышел на улицу.
Сегодня с утра идет дождь.
Я стояла у окна и смотрела, как капли барабанят о мостовую, и опять подумала: а как это бывает, когда они падают на лицо? Мне вдруг захотелось открыть окно. Но оно не открывается. Отец объяснил мне, что он заблокировал все двери и окна. Чтобы открыть их, надо спуститься в подвал, в самый низ, и там за чанами и бочками есть рычаг, который нужно повернуть.
Он показал мне, как это делается, на тот случай, если его уже не будет когда уничтожат пузыри. Он заблокировал двери и окна, чтобы не было соблазна открыть, вот как у меня сегодня утром, и чтобы мама не могла выйти — ведь она все время хотела на улицу. Но в тот день он повернул рычаг и вышел, а через несколько дней я сама спустилась в подвал и снова все заблокировала.
Я это сделала, потому что отец был, как всегда, прав, и лучше бы его совсем заклинило, этот рычаг, чтобы отцу не удалось выйти на улицу. Больше я к рычагу не подходила. Так лучше, ведь иногда, как сегодня утром, мне очень хочется открыть окно, но оно все равно не открывается. А пока я буду спускаться в подвал, непременно вспомню, что если открою, то могу умереть или стать Другой — не знаю, что страшнее.
Стоять у окна было скучно, и я спустилась в подвал — поплавать в бассейне. Окунувшись, я вспомнила, как отец говорил, что если бы пузыри пришли в прежние времена, то у нас не было бы ни воды, ни света, потому что, оказывается, тогда не было слуг, которые всем этим занимались. А слугам от пузырей ничего не делается, они такие прочные и живут очень-очень долго. Отец сказал, что даже если все люди умрут, слуги будут работать, и все в доме будет действовать еще много веков.
Вот, например, если я состарюсь и умру, кормилица останется со мной и будет ждать приказаний. Долго, целую вечность. Потому что кормилица запрограммирована на меня. Она меня оберегает и делает все, что я ни попрошу. Она должна защищать меня, что бы ни случилось. Вели пузыри проникнут в дом, она будет отгонять их от меня. Но у нее, бедняжки, ничего не получится — ведь пузырей так много, и они всегда добиваются своего — губят нас.
Странно, никто не знает, откуда взялись пузыри и почему от них умирают, а некоторые остаются жить, но становятся Другими.
Однажды по телевизору выступал какой-то старичок. Это было уже после того, как отец вышел на улицу.
Отец время от времени включал телевизор, но экран всегда оставался черным. Он и мне велел включать, когда его не станет. Отец был уверен, что остались еще люди и что кто-нибудь сейчас ищет средство, чтобы уничтожить пузыри. И говорил, что когда час освобождения будет близок, об этом объявят по телевизору.
Отец объяснил мне, что пока уничтожить пузыри невозможно. Даже из огнемета, хотя это очень мощное оружие. Оказывается, еще в первый год люди испробовали всё, что могли, но пузырям ничего не делалось. Только натолкнувшись на людей, они лопались, а люди умирали. Но если не умирали, было еще хуже: становились Другими.
Другие изменяются. Они не растворяются в пене от пузырей, встают и идут дальше, целые и невредимые. Но через несколько дней с ними начинает твориться такое! Например, вырастает множество рук, как у той женщины, что похожа на богиню из старой книги, или целый лес ног, или глаза по всему черепу, или вторая голова, или губы, губы, губы — на подбородке, на шее, на груди. Это ужасно!
Ну вот, старичок по телевизору как раз и говорил про пузыри и про Других. Много дней экран был черным и вдруг засветился. И появился этот самый старичок, он сидел за столом в большой комнате с белыми-белыми стенами и белым потолком. У него был такой усталый вид! В комнате было полно слуг, но не таких, как у нас дома, и они все так сложно устроены, с множеством кнопок и каких-то лампочек.
Мне понравился голос старичка, он был такой теплый, немного похож на голос отца. С ним мне даже стало не так одиноко.
Он сказал, что идет борьба не на жизнь, а на смерть, и что надо надеяться и ждать. И не терять мужества. Настанет день, когда мы победим пузыри. Он говорил долго, я не все поняла, было много трудных слов, но дослушала до конца. Он был очень славный, этот старичок, но такой усталый! И все-таки, когда он говорил: «мужайтесь», голос его звенел и казался молодым…
Старичок объяснил, что ждать придется очень долго, потому что никто не знает, откуда взялись пузыри и из чего они сделаны. И непонятно, каким образом они превращают людей в Других или убивают. Люди уже испробовали всё, все известные средства, но пока уничтожить пузыри не удается. Многие погибли в этой борьбе и кто знает, сколько еще погибнет. Даже некоторые из Других предложили свою помощь, потому что они сами в ужасе от того, что с ними случилось. Другие могут спокойно выходить на улицу, поэтому они часто оказываются прямо-таки незаменимыми. Мы должны быть им благодарны за то, что они борются вместе с нами.
Еще старичок сказал: многие ученые считают, что пузыри зародились очень давно, сто или двести лет назад, но появились только в наши дни. Может быть, говорил он, мы сейчас расплачиваемся за ошибки наших предков, которые экспериментировали так и эдак с ядерной энергией, неосторожно играли с силами, о которых знали так мало. Мы расплачиваемся за их глупость — ведь они хотели использовать атом только для того, чтобы убивать, а могли бы с его помощью обеспечить своим потомкам райскую жизнь. В те времена над нашей планетой скопилось слишком много радиации, и ученые думают, что именно она мало-помалу породила пузыри. И я тоже, добавил старичок, склоняюсь к этому мнению.
Но мы боремся, продолжал он, и поскольку все современные науки пока бессильны, мы хотим поднять архивы, покопаться в старых книгах, может, они подскажут нам какой-то выход.
Потом старичок сказал, что телепередачи требуют больших затрат времени и денег, которые так нужны для борьбы с пузырями, поэтому он будет говорить с нами редко, но постарается держать нас в курсе, если будут какие-то успехи. Еще раз повторил: мужайтесь.
Я часто думаю об этом старичке. С тех пор я его не слышала, да и никого другого. Телевизор больше не включается. Интересно, неужели он сказал правду и прежний мир еще вернется? Ох, как бы мне хотелось!
Та Другая опять приходила под окно. Странно, но теперь она уже не пугает меня. Не такая уж она и ужасная в конце концов, хоть у нее и много рук.
Сегодня мне было даже жаль ее: бедняжка так хотела мне что-то сказать. Одной рукой она держала маленького ребеночка, а другими все показывала на него. Она металась под окном, и ее длинные черные волосы так и плясали.
А потом она протянула мне своего малыша. Как будто хотела отдать его. Удивительно, но он совсем не был похож на Другого. Такой хорошенький, совсем как мои старые пупсы. Вдруг она сорвала с него пеленки и снова показала его мне. Я увидела, что у него нет никаких изменений, он совсем-совсем нормальный. Такой пухленький, весь в складочках. Он заболтал крошечными ножками, открыл рот, личико его сморщилось. Наверное, плакал. Конечно, ему вряд ли понравилось, что его вот так распеленали.
Мне не хотелось закрывать ставни, и я замахала на нее руками, но она не ушла. Я увидела, что она плачет. Слезы текли по ее лицу, и она все протягивала мне малыша. Неужели правда надеялась, что я возьму его? Сумасшедшая! Чтобы я открыла окно и впустила пузыри! Правда на улице как раз не было ни одного пузыря. Я опять замахала на нее руками, но она не двинулась с места, и тогда я отошла от окна.
Теперь я все думаю, думаю об этом. Она меня расстроила, эта Другая, у нее был совсем безумный вид. Но не могла же я взять у нее малыша и растить маленького Другого! Да я и не знаю, как с ним обращаться! Никогда не видела живых детей, только игрушечных пупсов, а отец говорил, что маленькие дети едят не так, как мы. Но может быть, кормилица знает? Да нет, с ума я сошла, что ли? Отец страшно рассердился бы, узнай он об этом. Открыть! Другой! И взять маленького Другого! Я не должна даже думать об этом.
Но почему же малыш с виду совсем нормальный? Может быть, он просто слишком мал? Но обычно люди становятся Другими так быстро, если они вышли на улицу и не умерли. Всего за несколько дней… Может быть, малышу и есть несколько дней? Но он очень похож на моих игрушечных пупсов, а отец говорил, что так выглядят дети в два года. Интересно, почему Другая хотела отдать его мне? А что если она уберегла малыша от пузырей и хотела спасти его, чтобы он не стал Другим? Но как убережешься от пузырей? Это еще никому не удавалось.
Я испугалась, очень-очень испугалась. У меня заболел живот, и я решила, что тоже умру, как мама. Я закричала, и кормилица примчалась на всех парах.
Она пощупала мне живот и сердито сказала: ничего страшного, ты просто объелась яблок. Я действительно ем много яблок, я их так люблю. Кормилица дала мне какую-то таблетку, и сразу все прошло. Она может вылечить меня почти от всех болезней.
Отец тоже всегда знал, какую таблетку надо принять, если что-нибудь болит. Но маме он не смог помочь. И кормилица не смогла.
Поэтому он и вышел на улицу — хотел найти врача. Звонить не было смысла — все равно никто не решился бы прийти. Отец взял огнемет и сказал, что приведет врача во что бы то ни стало.
Это было просто безумие, ведь там пузыри, но он все-таки пошел. Он не мог больше видеть, как мама держится за живот и кричит, кричит. Он так ее любил. Наверное, просто сошел с ума — ведь знал, что выходить бессмысленно.
Отец сделал маме укол и мне тоже, чтобы я уснула, и вышел на улицу. Знаю, я не должна так думать, но лучше бы он дал ей умереть — ведь он так и не вернулся, а она умерла все равно. Мне сказала об этом кормилица, когда я проснулась. Слуги уже успели убрать ее тело, а отца больше не было.
Я плакала и плакала, не могла остановиться, и кормилице приходилось силой заставлять меня есть. Лучше бы он дал ей умереть, да-да! Лучше бы! О чем он думал? Где нашел бы врача? Да если бы и нашел! Любой врач предпочел бы, чтобы его сожгли на месте, лишь бы не встретиться с пузырями.
Иногда я думаю, что сталось с отцом: растворился он или… А что если он там, на улице, и у него много-много рук или ног, или выпали все волосы и по всей голове вылезли глаза, или… Нет, я не хочу думать об этом. Не хочу! Лучше считать отца мертвым.
И все-таки… Если он вдруг придет под окно, как эта богиня Кали? Что я тогда сделаю? Ох, отец, отец, что же я сделаю?
Весь день звонил телефон, но я не подошла.
Когда еще был отец, он всегда подходил к телефону, а случалось, и сам звонил. Он говорил: нельзя жить, не общаясь с людьми, и все искал тех, кому удалось выжить. Но когда пришли пузыри, столько народу умерло в первые же дни, что Он почти никому не мог дозвониться. А во многих домах теперь жили Другие, целые семьи стали Другими, и кому бы отец ни позвонил, почти всегда Другие появлялись на экране. Они были такие злые, что приходилось вешать трубку.
А вот старичок по телевизору говорил, что некоторые из Других помогают нам бороться с пузырями. Удивительно: ведь отец уверял, что Другие ненавидят людей. Это потому, говорил он, что мы изолированы от них и потому, что мы нормальны.
Первое время, когда отец ушел, я еще подходила к телефону, но на экране всегда появлялись Другие, размахивая всеми своими руками или тараща множество глаз. Они говорили мне всякие гадости или предлагали выйти на улицу, прогуляться с ними. Я их ужасно боялась.
А потом однажды я увидела на экране нормального человека. Женщину.
Тогда я уже почти перестала подходить к телефону, но он звонил так долго, так упорно, что мне захотелось узнать, в чем дело.
Это была старая женщина с совершенно безумными глазами. Ее отвратительные грязно-серые волосы прядями свисали на лицо, она ломала руки, все сплетала и расплетала пальцы. Увидев меня, женщина быстро-быстро заговорила: «Умоляю вас, деточка, скажите, где мне найти врача? Очень вас прошу, мне непременно нужен врач. Я звоню всем подряд, звоню, звоню… Помогите мне, деточка, хоть кто-то должен мне помочь. Мой муж очень болен. Он умрет, умрет, я останусь совсем одна. Помогите, умоляю!»
Она заплакала. Потом отошла от экрана, и я увидела в глубине комнаты старика. Он лежал на диване. У него было красное, воспаленное лицо, и он прерывисто, с трудом дышал, будто ему не хватало воздуха.
Тут вернулась женщина.
«Видели? Он умирает, он умрет, умрет!»
Она уже кричала, все громче и громче. Не могла я этого вынести. Я повесила трубку.
И расплакалась. Чем я могла ей помочь, что сделать? Я все думала об отце — ему тоже так нужен был врач.
Больше я никогда не подходила к телефону.
Что-то произошло! Произошло наконец!
Я просто не нахожу себе места, все бегаю и бегаю от телевизора к окну, от окна к телевизору, мне не сидится.
Кормилица сердито выговаривает: успокойся, сядь, посиди, вредно так волноваться, но мне кажется, что ворчит она для проформы. У нее такой довольный вид. Может быть, она тоже понимает?
Вот уже несколько дней пузырей на улице стало гораздо меньше, и Других я почти не видела. Богиня Кали с малышом тоже больше не появлялась.
Но я и представить не могла, что это наконец произошло!
Скоро вернется прежний мир! Ура! Скоро вернется прежний мир!
Отец был прав, и тот старичок был прав! Мы победили!
Я включила телевизор, и вдруг экран, который последнее время всегда оставался черным, засветился. Я увидела ту же большую комнату, где когда-то был старичок, но на этот раз на его месте сидел молодой человек. И вид у него был совсем не усталый. Он говорил быстро, громко, звонким голосом, а глаза у него так блестели!
Сначала до меня даже не дошло, о чем он говорит. Это было настолько невероятно! Я слышала отдельные слова, но они как-то не складывались. Потом я вдруг поняла, что плачу. Неужели от счастья тоже плачут — ведь я была так счастлива, что казалось, сердце вот-вот разорвется на мелкие кусочки? Наверное плачут и от счастья — все лицо у меня было мокрое.
О, отец, отец, почему ты не можешь этого слышать? Мы победили! Мы уничтожим пузыри!
Молодой человек все говорил, говорил своим звонким голосом. У нас теперь есть оружие против пузырей, сказал он, и защитная одежда, в которой можно выходить на улицу. Уже сейчас команды добровольцев освобождают наш город от пузырей.
Потом он заговорил другим тоном: строго и настойчиво. Ни в коем случае нельзя пока выходить, сказал он. Еще рано. В городе осталось много пузырей. Наберитесь терпения. Вы ждали так долго, зачем же теперь губить себя излишней поспешностью? Это было бы просто глупо, правда? Наши добровольцы сами придут за вами с защитной одеждой. Сидите по домам и ждите. Осталось потерпеть совсем немного.
Потом показали команду добровольцев за работой. Я увидела на экране улицу, совсем как наша, и по ней шли человек десять. Они были одеты в какие-то черные мешки, твердые, будто сильно накрахмаленные, эти мешки закрывали их с головы до ног, только наверху было прозрачное окошко для глаз. На руках у них были такие же черные, твердые перчатки, и каждый держал большую трубку, очень похожую на отцовский огнемет, только гораздо толще и длиннее.
И вот появились пузыри, несколько больших пузырей быстро летели прямо на них. Они подняли свои трубки, прицелились, и вспыхнуло что-то голубое, такое блестящее, что у меня опять потекли слезы. И пузыри лопнули. Прямо на земле, людей даже не задело.
Вот здорово — лопнули проклятые пузыри! Я закричала: «Молодцы! Так их! Так их!»
Тут пришла кормилица и позвала меня обедать. Я ее прогнала — как можно думать о еде, когда тут такое творится, и я вот-вот увижу прежний мир!
Наконец-то! Сегодня я видела людей и говорила с ними!
Я просто сгорала от нетерпения! Целыми днями стояла у окна, но улица по-прежнему была пустой, только теперь почти не осталось пузырей, а Другие совсем не появлялись.
Несколько раз по телевизору говорил тот же молодой человек, но он все повторял одно и то же: «Наберитесь терпения, за вами придут». Мне это в конце концов надоело. Что, я мало терпела? Я злилась, гоняла кормилицу, та ворчала.
Но кормилица-то и позвала меня. Я опять смотрела телевизор и вдруг услышала за спиной: «Иди сюда, Моника, посмотри».
Я кинулась к окну. По нашей улице шли люди в этих страшных черных мешках!
Я закричала, совсем забыв, что меня все равно не услышат. Но я так размахивала руками, что в конце концов они меня заметили и подошли к окну, делая мне какие-то знаки.
Еще три дня назад я повернула рычаг в подвале, так мне не терпелось. Я рванулась к двери, распахнула ее настежь и они вошли!
Быстро захлопнули за собой дверь и сняли черные мешки. Их было двое.
Один высокий, другой маленький. У высокого были черные волосы, а его карие глаза искрились весельем. Когда он улыбался, лицо вдруг будто озарялось светом. Тот, что поменьше, был кругленький, с очень кудрявыми светлыми волосами и маленькими голубыми глазками на пухлом лице.
Высокий сказал:
«Что я вижу! Лорелея с длинными волосами! Зеленоглазая Ундина в золотом плаще!»
А маленький:
«Да заткнись ты! Еще испугаешь малышку своими шуточками, которых все равно никто не понимает».
И я действительно ничего не поняла, но ничуть не испугалась.
Потом они назвались. Высокий сказал: Фрэнк, маленький: Эрик. Моника, ответила я. Они пожали мне руку и заявили, что я должна их поцеловать.
«В конце концов, такое случается не каждый день», — сказал высокий.
И я поцеловала их, и это было так странно — ведь я никогда никого не целовала, кроме отца.
Фрэнк спросил:
«Вы что, совсем одна здесь, Моника? Где ваши родители?»
Я быстро ответила:
«Мама умерла, а отец… он вышел на улицу».
Глаза его погрустнели, он положил руку мне на плечо.
«Давно, Моника?»
«Три года уже».
Он вздохнул, потом сказал:
«Не надо больше думать об этом, теперь вы будете счастливы. А сколько вам лет?»
«Шестнадцать».
Они вдруг замолчали и переглянулись.
Фрэнк переспросил:
«Всего шестнадцать? Да, в самом деле, как я сразу не догадался, вы такая юная…»
А Эрик тут же перебил его:
«Давно вам исполнилось шестнадцать?»
«В прошлом месяце».
Они опять замолчали и посмотрели друг на друга. У них был такой смущенный вид. В чем дело? Ну и что же, что мне только шестнадцать? Они считают, что я слишком молода? Что я еще девчонка? Но они так смотрели, будто им было жаль меня, очень жаль.
Фрэнк погладил меня по щеке, а Эрик отвернулся.
И я вдруг тоже смутилась, мне стало не по себе и как-то грустно, не знаю, почему. Я хотела спросить их, что случилось, но у меня не хватило смелости.
Жду Фрэнка, он скоро придет за мной.
Я передвинула столик к окну, пишу и все время поглядываю. Вряд ли мне придется дальше вести дневник, ведь пузырей скоро не будет. Наверное, это последняя запись.
Подумать только, я выйду на улицу! Даже не верится. Я спросила Фрэнка:
«А вы покажете мне прежний мир?»
Он как будто чего-то испугался, а потом ответил: «Конечно, девочка, конечно, я все тебе покажу».
Но вид у него был совсем невеселый. Почему же? Может быть, прежний мир не так хорош, как я думала? Или теперь все стало по-другому?
Какая разница? Я все равно выйду на улицу, и это так чудесно! И все будет чудесно!
В общем, я была бы совершенно счастлива, вот только… Дело в том, что я наконец поняла, почему та Другая хотела отдать мне своего малыша. Ох, надо было мне его взять, ведь вчера я случайно услышала, о чем говорили Фрэнк и Эрик, а сегодня по телевизору видела своими глазами.
Я вчера на минутку отлучилась: мне так хотелось быть красивой, и я решила надеть мамино платье. Они сидели в библиотеке, кормилица подала им тот мутный напиток, который она всегда готовила отцу, а мне не давала.
Я вернулась на цыпочках, чтобы они увидели меня в дверях и удивились. И вот что услышала.
«Мы не должны этого делать, — говорил Фрэнк. — Это бесчеловечно! В конце концов, они тоже имеют право жить. Разве это их вина? Неужели нельзя как-нибудь по-другому, ну, поместить их в заповедники, что ли?»
«Как-нибудь по-другому нельзя, — ответил Эрик, — и ты это знаешь не хуже меня. Они неизлечимы, а может быть и заразны. Выхода нет. Это вынужденная мера».
Фрэнк воскликнул сердито:
«Не знаю, как ты, а я просто не могу палить в них! Не могу, и все тут. Это же чудовищно! Какой стыд!»
Тут Эрик быстро-быстро заговорил каким-то тонким голосом. Странно, он будто бы защищался. Совсем как я, когда кормилица меня бранит, и я знаю, что за дело, но все равно не хочу признать, что неправа.
«Закон есть закон, — сказал Эрик. — Ничего не попишешь. Иначе мы все заразимся».
Фрэнк перебил его:
«Мы ведь даже толком не знаем, действительно ли они опасны. И эти дети! Столько детей!»
«Нельзя рисковать. Дети Других с виду нормальны. Поди разберись, кто из них заражен! Это невозможно».
«А что если у них иммунитет? Никто ведь даже не пытался выяснить… А здесь-то вообще не может быть и речи…»
«Есть решение Совета, черт побери! Пузыри появились шестнадцать лет и два месяца назад. Цифры — упрямая вещь».
Что-то хрустнуло у меня под ногами, оба вздрогнули и замолчали.
«Заткнись! — прошипел Фрэнк. — Она может войти в любую минуту».
Тут я открыла дверь и сразу увидела, что понравилась им, но мне было не так радостно, как я предвкушала, потому что я начала понимать… А сегодня утром до меня дошло окончательно.
Я смотрела телевизор, опять показывали, как добровольцы освобождают город от пузырей. И вдруг я увидела еще кое-что.
По улице бежал Другой. Он не мог бежать быстро: у него было много ног, бедняга путался в них и все время спотыкался, но было видно, что он бежит из последних сил, пытаясь сласти свою жизнь. Человек в черном мешке поднял огнемет, прицелился — и от Другого осталась только маленькая черная кучка на мостовой.
Эта улица тут же исчезла, и стали показывать что-то еще. Наверное, они не хотели, чтобы мы видели такое. Но я уже все поняла — ведь я слышала вчера, о чем говорили Фрэнк и Эрик.
Всех Других убивают. Вот.
Ох! Фрэнк был прав, мне тоже кажется, что это нехорошо. Конечно, Другие ужасны, но все-таки…
Так вот почему богиня Кали так хотела отдать мне своего ребенка! Она, наверное, все знала. Неужели ее тоже сожгли? У меня бы рука не поднялась убить богиню Кали. А как же ее малыш? Он выглядел совсем нормальным!
Нет, это нехорошо, жестоко. Отцу бы тоже не понравилось.
Не надо больше об этом думать. Разве можно грустить сегодня — такой чудесный день, я жду Фрэнка и скоро выйду на улицу. Смотрю в окно и вот…
Вот он идет! Но нет… Это Эрик. Наверное, Фрэнк не смог прийти и попросил Эрика. Немножко обидно. Эрик тоже очень славный, но лучше бы пришел Фрэнк.
С ума сойти, до чего медленно он идет! Опустил голову… Странно, он не мог не видеть меня в окне, я помахала ему, а он не ответил. В чем дело?
В руке у него огнемет. Зачем? И почему он идет так медленно?
Подходит. Сейчас открою ему дверь.
Наконец-то я увижу прежний мир…
Клод Шейнисс
Самоубийство

Сероватый дневной свет, просачиваясь сквозь пыльные и потрескавшиеся стекла маленького окна, падал на деревянный стол, составлявший вместе с плетеным дачным креслом всю обстановку комнаты. На грязном полу были свалены в кучу хрупкие лабораторные сосуды и приборы, изготовленные еще до войны и добытые теперь ценой множества ухищрений. Парадный портрет императора Франца Фердинанда, висящий на стене, со скукой озирал вечный календарь, на котором стояло: Ноябрь, 8, 1934.
Донесся звук приближающейся английской ракеты — она долго выла, прежде чем взорваться где-то в долине. Профессор даже не поднял головы, чтобы проследить за ее полетом. Он не испытывал ни малейшего беспокойства — уже год после окончательного разрушения военных заводов последними бомбами никто из уцелевших противников не располагал больше атомными боеголовками. Оставшиеся ракеты, заряженные обычной взрывчаткой, — последнее усилие умирающей войны, — уже не могли напугать тех, кто знал, что такое настоящая Бомба.
В сущности, война могла продолжаться еще долго, как бы по привычке, — привычке 12-летней давности, — а, собственно, просто потому, что ни в одном враждующем лагере не осталось никого, кто был бы уполномочен подписать перемирие. Насколько было известно профессору, Империя больше не существовала.
Многочисленные армии распадались, и солдаты, забыв присягу, объединялись в шайки и большие банды, которые громили целые области, сея страх и разрушения и не щадя даже свою страну.
Несколько крупных соединений, которые еще держали в руках энергичные и до сих пор не расставшиеся с иллюзиями офицеры, — такие были в каждой армии, — стреляли последними снарядами, запускали последние ракеты как придется, не интересуясь, куда посылают смерть.
И не было ни победителей, ни побежденных в разрушенном мире, где последние островки цивилизации исчезали один за другим. Уже полгода профессор, один в своей затерянной в горах Тироля лаборатории, не мог восстановить связь с Инсбруком. О том, чтобы самому отправиться туда, не могло быть и речи: весь север, первым испытавший на себе атомные бомбардировки, превратился в мертвую пустыню. После Швейцарской Октябрьской революции радио Цюриха либо молчало, либо время от времени передавало бессвязные и противоречивые воззвания.
28 июня 1914 года в Сараеве эрцгерцог Франц Фердинанд не счел нужным скрывать от военного коменданта своего плохого настроения. Было от чего испортиться настроению: приехав удостовериться в окончательном объединении Боснии под скипетром его дяди, престарелого Франца Иосифа, он увидел враждебный город, провожавший кортеж глухим молчанием.
Даже солдаты местного боснийского полка, стоявшие вдоль улиц, всем своим видом и тем, как они держали оружие, давали понять, что предпочли бы другой визит — Петра Карагеоргиевича, короля Сербии. В открытой машине эрцгерцог и его супруга были великолепной мишенью: хоть Фердинанд и славился смелостью, он все время чувствовал озноб, пробегавший по спине.
Но ничего не произошло. Автомобиль прибыл на вокзал, где «Боже, храни императора» было исполнено остервенелой бандой, которая, должно быть, втайне разучивала гимн Сербии. Фердинанд помог герцогине подняться в вагон, обернулся, пожал без особого тепла вялую ладонь губернатора, поприветствовал в последний раз враждебную толпу и облегченно вздохнул, когда поезд тронулся…
Движение к гибели началось с 1910 года. Правители всех европейских стран рассчитывали — и не без оснований — на неизбежную мировую войну через 10–12 лет и вели приготовления к тому сроку, когда Австро-Венгерской империи удастся собрать свои разрозненные армии и объединить их боевую технику, а России превратить в боеспособное войско неорганизованную массу численностью в несколько миллионов человек. Что же касается Германии, план строительства боевых кораблей, представленный стариком Тирпицем, показался абсолютно безумным, и император Вильгельм II согласился с ним только потому, что был уверен в его неосуществимости: этот план должен был сделать немецкий флот вдвое сильнее английского и французского вместе взятых. Тем не менее в июне 1922 года старый адмирал торжественно доложил своему императору, что сотня дредноутов готова покинуть секретные верфи и водрузить над морями знамя Гогенцоллернов.
Но и Антанта не дремала: стремясь к реваншу в течение тридцати лет, Франция должна была принять на себя первый удар — или нанести его, — она готовилась по первому же сигналу перебросить на границу около ста дивизий. За ее надежной спиной англичане могли спокойно организовывать мобилизацию. И наконец к 1916 году двумя союзниками в большой тайне было разработано страшное оружие: бронированный автомобиль с мощной пушкой, способный двигаться по любой местности и преодолевать любые препятствия: вместо колес у него были гусеницы, как у трактора. Множество этих «танков» (название, принятое из соображений секретности) стояли наготове, а экипажи обучались в строжайшей тайне.
Со стороны их вечного противника было еще хуже, много хуже: с 1915 года немецкие химики работали над созданием удушающего газа, обещавшего блистательную победу — германская пехота могла продвинуться вперед с обычным оружием, используя фильтрующие маски и не встречая никаких препятствий, кроме множества трупов. Применение этих же газов мощными люфтваффе позволило бы добиться сокрушительного эффекта на всей вражеской территории: считалось, что паника уцелевших заставит правительство поспешно капитулировать. Результаты семилетних поисков превзошли все ожидания, и химики были полны оптимизма…
Но физики Антанты тоже трудились, не покладая рук. 11 мая 1919 года британский исследователь Резерфорд обратил внимание премьер-министра на фантастическую энергию, якобы содержащуюся в атомах, и пообещал высвободить ее, если ему будут предоставлены необходимые средства. Новый проект получил имя своего создателя, собрав лучших физиков двух держав Антанты в строго засекреченных лабораториях.
Между тем профессор Эйнштейн тоже кое о чем догадывался, и этих догадок оказалось достаточно, чтобы знаменитый теоретик, осыпанный милостями кайзера и глубоко преданный Германии, спрятал в карман свой пацифизм и стал руководить лабораторией, которая могла бы наконец создать Оружие с большой буквы. Все было готово.
Катастрофа разразилась в июле 1922 года из-за банального дипломатического инцидента. За три дня весь мир оказался втянутым в войну. Через месяц потери всех сторон составили 20 миллионов убитыми.
Первые же дни опровергли все прогнозы. Господству англичан на море был положен конец: экспедиционный британский корпус был отброшен вглубь Ла-Манша броненосцами Тирпица, а с ним и гордость лордов Адмиралтейства — Великий флот. Но французская армия уже двинулась к Ульму и Аугсбургу, ее танки сметали все на своем пути. Немцы сделали ставку на Газ, но прежде чем последний французский солдат перестал биться в удушье, на Рур упали первые Бомбы.
Сто миллионов погибших за полгода. Города Рура и Рейна превратились в застывшие кратеры. Север Франции к концу года стал свалкой разлагающихся трупов в клубах зеленого газа.
К концу первого года войны — двести миллионов трупов. Затем бойня приостановилась: противники окапывались, мирное население еще старалось выжить среди руин; кроме того требовалось время, чтобы пополнить арсеналы. Война затягивалась, без какого-либо перевеса одной из сторон, без больших побед и явных поражений. Даже те, кто еще сохранял нейтралитет, вынуждены были принять чью-либо сторону. Проиграла одна лишь Цивилизация. Не оставалось никакой надежды: потери были слишком огромными. Все крупные города, все большие заводы просто исчезли с лица земли. Транспорта не было. Тех, кого не доконали Бомбы и Газы, приканчивали Голод, Чума и Тиф.
Профессор обхватил голову руками, его одолевали сомнения, усталость и уныние. Консервы кончились, эпидемия тифа уже унесла всех его ассистентов. Если сейчас умрет и он, все будет потеряно, даже самая последняя, такая хрупкая надежда.
8 ноября 1934 года. Экономя продукты, он сможет продержаться до конца года: у него в запасе почти два месяца. Если бы только его друг Эйзенберг не отправился в Инсбрук еще раз, чтобы попытаться раздобыть конденсаторы…
В крайнем случае, при некоторой изобретательности, изменяя схему, можно было добиться хороших результатов в проекте «Последний шанс» и без конденсаторов. А без Эйзенберга, опираясь на несколько случайных записей, работать трудно. Невосполнимая потеря… Эйзенберг был основателем проекта. В ушах профессора еще звучали слова, которые он повторял год назад: «Да, история, какой мы ее знаем, вполне вероятна, но не достоверна. Это всего лишь наиболее вероятное Прошлое. Но мы можем, да, вполне можем вмешаться, чтобы заставить судьбу поверить в другую вероятность, и это наш последний шанс. Конечно, речь не идет о том, что мы сами окажемся в Прошлом, это невозможно, это нарушило бы закон Причинности. Но мы теперешние можем повлиять на нас самих в Прошлом. Заставить нас прежних сделать то, что надо — то, что будет надо… я хочу сказать: то, что надо было сделать, чтобы изменить будущее, их будущее. И мы сделаем это».
Профессор вздохнул, открыл ящик, бросил взгляд на старый пистолет, купленный двадцать лет назад. Он очень устал, велико было искушение покинуть этот гибнущий мир. Потом пожал плечами и закрыл ящик. Тогда как то, что он готовил…
Он великолепно изучил все подробности истории десяти лет, предшествовавших войне. Надо было действовать намного раньше: о том, чтобы погасить уже вспыхнувшую войну, не могло быть и речи. Оттянуть ее значило всего лишь усугубить последствия. Война должна была разразиться до того, как оружие достигает ужасающей разрушительной силы, до начала этой гонки за смертью, необходимо вскрыть нарыв прежде, чем он превратится в гангрену.
Чем раньше, тем лучше… Но он был ограничен своим возрастом. Вмешаться в августе 1911 года в дело Агадира было очень заманчиво: достаточно убить кайзера Вильгельма во время его визита в Танжер. Преступление могло быть приписано агенту французов, и, следовательно, началась бы штыковая война — без авиации, без автоматического оружия, без Газа, без Бомб… Она была бы короткой и не слишком кровавой. Но как осуществить это в такой отдаленной стране шестнадцатилетнему ученику Венской гимназии?
Ему было девятнадцать во время сербских событий в августе 1914-го. Это еще годится, но дальше откладывать нельзя: в следующем году немецкие химики запустят в производство Газ. Конечно, применят его в войне, но не успеют усовершенствовать. Поэтому можно надеяться, что война завершится хотя бы до 1919 года. А после нее в проекте Резерфорда не было бы смысла и появление Бомбы задержалось бы еще лет на двадцать.
Что ж, 1914-й… Война будет долгой и страшной, но не настолько, чтобы уничтожить цивилизацию…
Профессор Принцип поднял голову, посмотрел на портрет человека, которого собирался убить, и взялся за работу.
28 июня 1914 года В Сараеве эрцгерцог Франц Фердинанд не счел нужным скрывать от военного коменданта своего плохого настроения. Было от чего испортиться настроению: приехав удостовериться в окончательном объединении Боснии под скипетром его дяди, престарелого Франца-Иосифа, он увидел враждебный город, провожавший кортеж глухим молчанием.
Даже солдаты местного, боснийского полка, стоявшие вдоль улиц, всем своим видом и тем, как они держали оружие, давали понять, что предпочли бы другой визит — Петра Карагеоргиевича, короля Сербии. В открытой машине эрцгерцог и его супруга были великолепной мишенью: хоть Фердинанд и славился смелостью, он все время чувствовал озноб, пробегавший по спине.
Первые выстрелы почти не удивили эрцгерцога. Не торопясь, как в тире, студент Принцип несколько раз нажал на спуск браунинга. Эрцгерцогиня, пытавшаяся заслонить Франца-Фердинанда, упала. Принцип сделал последние выстрелы тщательно, прицеливаясь наверняка.
Он отказался отвечать на вопросы следователей, а во время процесса замкнулся в надменном молчании. Впрочем, процесс этот прошел почти незамеченным: уже бушевала война.
Он умер в 20 лет, так никому и не объяснив своего поступка.
Жерар Клейн
Чёрная магия

Они парили в рубке управления. Безмятежно плавали меж пультами, перемигивающимися огоньками, звездными картами, приборами. Вокруг них по прихотливым орбитам носились вещи.
Они парили так уже трое суток. Ели, спали, дышали, читали и подсчитывали, плавая по рубке.
Звездолет вышел из строя. Корабль, плод трехвековых усилий астронавтики, двух столетий космических исследований, испытаний и ошибок, миллионов исписанных и исчерченных листов бумаги, еще хранивший память о прикосновениях тысяч рабочих рук, заснул посреди бесконечного пространства.
Они не могли прийти в себя от досады. Их корабль, первый, который люди решились запустить за пределы орбиты Марса, в полный опасностей пояс астероидов, первый, покинувший спасительную гавань, очерченную эклиптикой, первый, созерцавший своими стеклянными очами звезды там, откуда их не видел никто другой, бесстрастно ждал ремонтного корабля, который не прилетит никогда. И было бессмысленно что-то ремонтировать самим: они могли угадать поломку и с первого раза и через тысячу лет.
Каждый час они пытались запустить двигатели, но безуспешно, хотя всякий раз с надеждой склонялись над приборной панелью, ожидая, что стрелки датчиков наконец дрогнут — но замершие стрелки даже не колебались. Когда двигатели начали глохнуть, едва удалось изменить курс и выйти на орбиту вокруг крохотного далекого Солнца.
С тех пор они ждали в тусклом свете аварийных ламп. Их переполняла ярость, но все трое избегали резких движений, опасаясь удариться о металлические переборки; они даже старались глубже дышать, чтобы меньше крутиться вокруг собственной оси.
— Ну и пессимист же ты, Бартелеми, — хмыкнул Андре.
— Земля далеко.
— Мы должны были улететь еще дальше;
— А затем вернуться.
— И мы вернемся, — примирительно сказал Гийом. — Мы снова возьмемся за работу и, может, найдем причину аварии.
— Почему бы не разыграть, какой блок испытать теперь?
Гийом бросил монетку. Та пролетела через всю рубку, ударилась в переборку, отскочила и принялась крутиться крошечной планеткой вокруг погасшей звезды.
— Судьба решила за нас: не чиним ничего. Играем в карты и ждем.
— Ремонтного грузовика?
Последовало молчание.
— Идиоты, — вдруг взорвался Бартелеми.
— Ты о ком?
— О тех, кто писал статейки, которые я читал перед отлетом. Они говорили, что человек впадает в безумие, увлекаясь скоростью, что бессмысленно возить пустые головы со скоростью света, что прогресс человека тут соответствует его тщеславию. Они говорили, что если хочешь узнать дорогу — лучше ходить пешком.
— Ну и что?
— Они ничего не поняли. Они считали себя бессмертными. Они думали, что могут прогуляться до Альдебарана и обратно в скафандре, бросая каждые десять километров по зернышку риса.
— Быть может, им просто не очень-то хотелось на Альдебаран.
— А потому вместо этих идиотов отравились мы. Чтобы через век — другой их потомки капали на мозги нашим: кому, мол, нужно завоевание звезд? Пределы человеку поставлены самой Солнечной системой. Зачем летать быстрее добрых старых звездолетов? Не лучше ли делать так, как делали всегда?..
— В тебе все еще говорит астронавт, Бартелеми. Успокойся. Ты не любишь прошлого?
— А за что мне его любить? Я его не знаю.
— Тогда послушай. Известно тебе, что делали на парусных судах во время штиля пять или шесть веков назад?
— Ругались.
— Вероятно. И ждали чуда. Нас отсюда может вытащить только чудо.
— А почему бы и нет? — хмыкнул Андре. — Чудо бы нам не помешало.
Он неосторожно дернул рукой и отлетел к переборке. Затем поплыл обратно к своим товарищам.
— Ты что, рехнулся, Андре, или шутишь?
— Пока не знаю. Но почему бы не попробовать? Это не затянется ни на век, ни на тысячелетие. А нашего положения не ухудшит.
Гийом и Бартелеми, огорченные, внимательно уставились на Андре.
— Мы же не в средневековье.
Андре скрестил руки на груди и уселся в метре от пола.
— А знаете, что я сейчас делаю? — спросил он.
— Корчишь осла, — ответили ему хором.
— Нет. Левитирую. Святые иногда занимались этим, и такое называлось чудом.
На лице Бартелеми изобразилась напряженная работа мысли.
— Почему бы не попробовать? — повторил Андре. — Давайте рассуждать по-научному. Представьте, что параллельно нашей Вселенной, которую мы знаем, расположена другая, которая соответствует… скажем, некоторым верованиям, сознательно отброшенным нами. Примите существование Бога как научный факт. Что логически из этого вытекает? Возможность чуда. Статистически вероятная реализация молитвы. Дайте мне веру, как выразился бы Архимед, и я переверну весь мир.
— Утилитарная точка зрения, — начал Гийом, — но…
— Точка зрения чокнутого, — фыркнул Бартелеми. Он попытался изменить позу и начал вращаться.
— А как испросить чуда? — поинтересовался Гийом.
— Точно не знаю. Я не неаполитанец.
— Когда-то я бывал в Неаполе, — скривился Бартелеми. — На редкость грязный город. Там до сих пор на улицах попадаются нищие. Какие рожи они строят!..
— Им случается донищенствоваться до чуда. Говорят, у них опасные методы, книга с заклинаниями и особые святые. А если они не получают удовлетворения, то ставят рядом с проштрафившимся святым доску с оскорбительными надписями и обращаются к другому.
— Бросим взгляд в будущее, — проворчал Бартелеми. — Отныне в звездолетах рядом с пилотом, штурманом и физиком будет сидеть неаполитанец на случай, если возникнет нужда в его услугах. Он получит право на провоз десяти килограммов свечей и пятисот святых образков. И кроме того, на библиотеку с душеспасительными произведениями.
— Неаполитанцы действительно читают только душеспасительные произведения, — вставил Гийом. — Еще в колледже я знавал одного неаполитанца…
— Не вижу ничего смешного в этой теории, Бартелеми, — отрезал Андре. — Опасаются же на звездолетах физиков. Чем не святотатство?
— Полагаю, вы намекаете на меня! — воскликнул Бартелеми, хватаясь за переборку, чтобы остановить вращение. Недовольный приятелями, он начинал обращаться к ним на «вы».
— Подведем итог, — сказал Андре, — и вернемся к нашим чудесам.
— Надо составить уравнение, — сострил Бартелеми.
Больше всего ему хотелось бы хлопнуть дверью, чтобы все раз и навсегда поняли, что он думает о подобных глупостях, но по ту сторону переборок кроме грузовых отсеков ничего не было, только космос и несколько далеких звезд, безглазые метеориты, да изредка — летящий по своим делам атом водорода.
Оставалось только негодующе отвернуться.
— Нам понадобятся, по крайней мере, одна свеча, несколько образков и текст молитвы. Может, сочиним ее сами?
— Свеча делается из воска, — буркнул Гийом. — Не думаю, что на борту звездолета найдется хоть капля воска. На худой конец сгодится электрическая лампочка.
— Возможно, — кивнул Андре, — но боюсь, этого недостаточно. Насколько мне известно, Бог не любит простых решений.
— Твой Бог — ретроград, — усмехнулся Гийом.
— А вдруг электрический ток помешает нашим молитвам добраться до него…
Они отыскали воск в запасном аккумуляторе, осторожно сняли его и расплавили восковую перемычку, изолировавшую выводы.
Пока они трудились, Бартелеми молчал, закрыв глаза. В аптечке они нашли кетгут, растопили воск на электроплитке и слили его в пробирку так, чтобы кетгут оказался в центре расплавленной массы. Когда смесь затвердела, они разбили пробирку и получили тонкий коричневатый цилиндрик.
— Теперь надо раздобыть образок, — напомнил Гийом.
— У нас есть микрофильм Библии. Может, этого хватит?
Они прогнали книгу по экрану. Вдруг Андре нажал кнопку. И прочел:
Упования на кощунство подобны семени, унесенному ветром, пене, сорванной бурей.
— Не слишком вдохновляет, — заметил Гийом.
Они выключили свет во всем звездолете, Андре после нескольких попыток зажег свечу. Та загорелась с треском и фырканьем, но вскоре пламя стало гаснуть. Андре удалось поддержать его, обмахивая листом бумаги. Затем они поместили позади висящей в воздухе свечи фотографию с текстом из Библии, приняли коленопреклоненную позу и в два голоса начали молиться. И хоть нелегко им было вспомнить слова, которых они не произносили долгие годы, молились оба вслух и с чувством. Перед их глазами стояла Земля, плывущая в пустоте, зеленый укутанный облаками шар; они спрашивали себя, где пределы Божьей власти, не дерзают ли они преступить их и не впадают ли в грех, переходя границы, положенные смертному Господом.
Бартелеми перестал вращаться: ему вдруг стала отвратительна его фантастическая, пляшущая на стене тень. Он начал молиться — сначала мысленно, потом едва слышным шепотом, затем его голос окреп и присоединился к голосам друзей. Бартелеми тоже молился вполне истово. У каждого из них было свое понимание Бога, впрочем, полной ясности в концепции божественного не имелось ни у кого. Но у них была одна родина, Земля, а в этом мире все люди, когда им угрожала опасность, обращали взоры к незримому властителю. Бартелеми не мог не помнить об этом. Быть может, дело и выгорит, — думал он, но было и другое. Молитва в дрейфующем звездолете с мертвыми приборами и неподвижными стрелками была делом мирным и чистым. Возможно, повторял он себе, иррациональное поведение вызовет реакцию иррационального мира: Бог даст физикам то, чего они ждут, верующим то, чего они страждут, лишь бы веровали они с надлежащим пылом.
С того момента, как заглохли двигатели, перестав сотрясать своим воем кабину звездолета, у них впервые не было страха. Правда, и особых надежд тоже. Они просто ждали. Андре продолжал обмахивать пламя свечи… Потом дунул на нее и погасил — было приятно и странно находиться здесь, висеть в воздухе, вдыхая запах горячего воска. Бартелеми включил свет, и некоторое время они молча смотрели друг на друга. Потом бросились к приборам. Стрелки с места не двинулись. Даже не вздрогнули. Они попытались запустить двигатели, но ничего не вышло. Они снова молча переглянулись. Затем привязались к койкам, опять погасили свет и долго лежали, устремив взгляд в черный потолок, едва подсвеченный красными контрольными огоньками.
— Спокойной ночи, — произнес Гийом.
— Может, это случится ночью, — добавил Бартелеми.
Впервые после аварии они спали без кошмаров.
Проснувшись, они выпили через соломинку горячего кофе, вымыли сферические чашки, поставили их на место и уселись в воздухе. Ни один не решался заговорить.
— Не сработало, — наконец выдавил Андре.
— Угу, — мрачно подтвердил Бартелеми.
— Мы постучались не в ту дверь, — сказал Андре.
— Быть может, лучше было превратиться в мусульман или буддистов…
— Буддисты не верят в чудеса, — наставительно заметил Бартелеми.
Снова воцарилась тишина.
— Быть может, наши молитвы взаимно уничтожились? В какой вере ты рожден, Гийом?
— Мои родители были протестантами. Кальвинистами.
— А твои, Бартелеми?
— Я — еврей.
— А я католик. Полагаю, нам следует перерезать друг другу глотки.
Они переглянулись и расхохотались.
— По правде говоря, мы были дураками, считая, что Господь вот так возьмет и поможет трем проходимцам вроде нас. Мы недостаточно сильно верим в чудеса.
— А теперь стали верить еще меньше.
— Ну что, снова за работу?
Они огляделись: множество табло, бесконечные цветные проводки, бегущие по стенам кабины, и экраны, — мутные, как глаза мертвых рыб. У них даже пальцы свело при одной мысли, что надо брать в руки отвертки и крутить несчетные винты.
— Поставьте себя на место Бога, — вдруг сказал Андре. — Я не теолог, но подозреваю, наши молитвы только привели его в раздражение. Нам хотелось всего-навсего попользоваться его безграничным могуществом.
— Это мы слыхали, — перебил его Гийом.
— Мы постучались не в ту дверь, а все от излишней гордыни. Мы думали ввести в машину молитву и пламя плохонькой свечи, чтобы получить на выходе добрую тягу, которая выведет нас на должный путь. Детский сад.
— По-моему, я это уже говорил, — пробурчал Бартелеми.
— Попытка не пытка, — продолжал Андре. — Теперь представьте, что Бог готов помочь нам, но обходным путем, так, чтобы об этом не особенно знали, как если бы тягу вместо него создал кто-то другой. Короче, нам надо постучать в другую дверь. В ту, что напротив. Почему бы не попробовать магию?
— Колдовство, — хмыкнул Гийом. — Ересь.
— Нет, если намерения наши чисты.
— Теперь иезуитство, — простонал Бартелеми.
— Бартелеми, кое-кто из ваших рабби занимался магией. Вспомните о раввине Лебе. А сколько умнейших и выдающихся священнослужителей занималось алхимией и белой магией? Что касается протестантов…
— Они жгли колдуний в Салеме, прости нас Господи.
— Один — ноль в пользу Андре, — провозгласил Бартелеми. — Почему бы и впрямь не попробовать? Я знал одного теоретика, специалиста по асимметричным полям, который верил в силу крови рыжей курицы, разбрызганной в полночь на поле с волчьими зубами.
— Он пробовал сделать это? — поинтересовался Гийом.
— Насколько я знаю, нет. Боялся все-таки…
Андре нахмурился.
— Плохо, что в библиотеке звездолета не бог весть сколько магических заклинаний.
— Может, попробуем что-нибудь изобрести? — с надеждой предложил Бартелеми. Его черные глаза сверкнули любопытством.
— И аксессуаров маловато. Еде мы возьмем волчьи зубы?
Они размышляли в полной тишине целых три часа.
Потом Бартелеми проплыл в направлении пола, открыл люк и в нем исчез.
— Куда это он? — спросил Гийом.
— Надо думать, на прогулку, — усмехнулся Андре.
Им пришлось ждать долго. Трюмы были весьма невелики, но там ждало своего часа множество самых разных вещей — инструментов, оснастки, консервов, книг, фильмов, государственных флагов, предназначенных трепыхаться в водородной атмосфере ледяных планет, лекарств, оружия, горелок (вот только где найти сейфы для вскрытия?), комбинезонов и игральных карт.
Бартелеми возвратился с внушительным фолиантом в руках, дюжиной банок консервов и еще с тюбиками и флаконами, изъятыми из аптечки. Обложка книги была разодрана, а сам Бартелеми скалился во весь рот.
— Ну и что? — вопросил Гийом.
— Честное слово, везуха, что вспомнил об этой книженции. Старинное издание «Улисса», которое я всегда таскаю с собой. Ее переплел мой приятель. Обложка растрепалась, и угадайте, что он налепил на обороте? Страницу из «Альберта Великого».
— А что это такое? — невинным голосом спросил Андре.
— Своего рода сборник магических заклинаний. Между прочим, до известных времен пользовался грандиозным успехом.
— Ладно, — заметил Гийом, — вопрос в том, подходит ли нам данный отрывок.
— Не знаю, — честно признался Бартелеми. — Надо осторожно отклеить этот лист и выяснить, что позади.
Они проделали это с помощью водяного пара, который собрался непроницаемым облаком в центре кабины. Чтобы избавиться от него, пришлось понизить температуру. Облако выпало мелким дождиком и промочило их до костей. Отчаянно ругаясь, они поместили хрупкий листок бумаги на стекло, словно драгоценный образец исчезнувшей флоры. На обороте листка ничего не было. Только белизна. Наверно, им кончалась глава. На лицевой стороне едва читались неясные рекомендации, призывы к осторожности и несколько ужасающих по форме и непонятных по содержанию предупреждений.
Они кружком уселись в воздухе. В полном отчаянии.
— Сожалею, — сказал Бартелеми.
— Ну это зря, — ободрил его Гийом.
— Подождите, — воскликнул Андре. — В трюме есть и другие книги. Может, поработаем со всеми?
Бартелеми усмехнулся.
— Почему бы и нет? — сказал Гийом. — Хоть время убьем.
Андре бросился в трюм. Двое оставшихся прислушались к глухим ударам. Впечатление было такое, что за переборкой сталкивались миры, возникали и гибли вселенные.
Наконец Андре кометой вылетел из трюма, толкая перед собой ворох бумага, картона, чернил и клея.
Они принялись за работу. Они многое узнали об обложках и искусстве переплета, и вскоре научились отличать хорошую книгу от дешевки. Вторые им нравились больше, их было легче потрошить. Под обложками обнаружилась чистая бумага, обрывки газет, таблица логарифмов и другие куски альманаха, который особо привлек их внимание.
Вдруг Андре издал торжествующий клич.
— Смотрите! — вскричал он.
Это был отрывок статьи. Бумага давно пожелтела, а шрифт выглядел достаточно старинным. В статье говорилось о черной магии и о способе вызывать высших и низших демонов, о заклинаниях и пентаграммах. Меловой круг, дверь в иной мир, запретная черта.
— У нас нет мела, — сказал Гийом.
— Изготовим! — рявкнул Бартелеми. Он схватил флаконы и тюбики с лекарствами. — Мы можем получить карбонат кальция. А может, нам вовсе и не нужен мел.
Андре расхохотался.
— Ты что, собираешься рисовать магический круг шариковой ручкой?
Они изготовили мел. Это оказалось детской забавой, лаборатория корабля была прекрасно оборудована. Под конец они держали в руках белую палочку очень тонкого состава.
— Осмелюсь предположить, — засмеялся Андре, — что наш мел превосходит натуральный.
Троица освободила центр кабины и заспорила, кому читать заклинание.
— Моя идея, — заявил Бартелеми.
— Зато я нашел заклинание, — возразил Андре.
В конце концов стали тянуть жребий.
Читать досталось Андре.
Остальные отплыли в стороны, уступая ему место. Андре опустился на колени и медленно начертал неровный круг. Затем с усердием скопировал с пожелтевшего листка несколько фигур, разместив их по диаметру.
— Гасите свет, — приказал он и зажег свечу.
Он тихонько дул на огонек, чтобы тот не угас, и одновременно пересохшим горлом бормотал странные слова, путаясь в жутком нагромождении гласных и согласных, спрашивая себя, имеют ли значение ударения и достаточна ли его вера в то, что он делает. Пламя свечи съежилось. Во мраке едва различались еще две фигуры, которые едва дыша таращились на него, изредка шумно сглатывая. В круге что-то было. Он чувствовал это спинным мозгом. Возможно ли, подумал он, чтобы империя низших демонов простиралась так далеко в пространстве и во времени; разве их не смело дыхание звездолетов, не стерло мерцание осциллографов, не разогнали математические символы?..
— Выслушайте меня, — произнес он, — тот, который в круге по моей воле. Выслушайте меня, хотя я не верю в ваше существование. Мы трое людей с Земли. Мы заблудились в пространстве. Мы просим вас о помощи, подтолкните нас, чтобы мы могли добраться до родной планеты. Мы готовы отдать вам в обмен все, чем владеем.
Ожидаемого хихиканья не последовало.
В его голове пронесся табун сумасшедших мыслей. А вдруг демон явился из иного мира, а вовсе не с Земли, а вдруг он утащит их в свои владения, в ледяной мир, обращающийся вокруг Сатурна, ще им уж точно конец? Везде ли одинаковы ад и Небо?
А вдруг существо, ждущее в меловом круге, потребует их души в уплату за возвращение на Землю? Согласятся ли они на такую жертву? У кого хватит на нее духу? Кто знает… Можно ли обмануть демона? Вечная проблема.
— Вашей помощи, — повторил он, — вашей помощи…
Его терзал ужас. Ужас абсолютный и безграничный, ужас оказавшегося в темноте ребенка, прислушивающегося к шорохам. Он ничего не услышал — ни смеха, ни отклика, не увидел ни проблеска света — только шевелились тени Гийома и Бартелеми, да доносилось их чуть слышное дыхание, будто падали листья на осенней Земле, на прекрасной рыжухе Земле, на которой было так приятно лежать. Эта мысль посетила одновременно всех троих. Они ничего не чувствовали. И вдруг корабль вздрогнул. Вначале они ощутили едва заметную вибрацию. Вернулись на законные места верх и низ. Снова появился вес, но они еще были перышками, тючками бумаги, пушинками одуванчика…
Они стали медленно дрейфовать — к переборке… к полу… снова к переборке… Движение было удивительно медленным — казалось, до далеких металлических континентов придется плыть века. Потом движение ускорилось.
Сомнений больше не было. Корабль двигался. Двигался все быстрее.
— Мы победили! — вскричали они хором.
Они принялись прыгать. Они чувствовали — к ним, как старая привычка, возвращается вес. Они снова могли играть мускулами. Они сделали несколько неуверенных шагов. Они с хохотом шаркали ногами по полу.
— Куда мы движемся? — спросили все трое.
Штурман Гийом бросился к своему креслу и ласково погладил полированную поверхность мурлыкающего компьютера. Набрал вопрос и получил ответ.
— К Земле, — сообщила машина.
Троица переглянулась.
— Немыслимо, — пробормотал Гийом.
Повисла нехорошая тишина.
— Помолчи, — шепнул Андре. — Он может нас услышать и обидеться.
— Как его зовут?
— Понятия не имею. Впрочем, какая разница. Он выручил нас.
— Еще нет, — возразил Гийом. — Я не могу в это поверить. Не могу поверить, что люди средневековья были правы. Не могу поверить, что мы сами как в средневековье, что все это было забыто, и мы вновь открываем забытое.
…День ото дня Земля росла на их экранах: булавочная головка, шарик, золотистый или темно-синий плод, весь в пестрых бликах. Потом они увидели Луну. Траектория их движения была математически безупречной. Они мечтали, как однажды огромная невидимая рука усадит их на зеленый луг. Или, вдруг оробев, оставит на подходе к Земле, а они вызовут оттуда базу, и когда за ними прилетят, поведают спасителям свою историю.
Но иногда сомневались, стоит ли ею делиться. Они обсуждали этот вопрос очень долго, но к согласию не пришли. Они часто меняли мнение и бросались защищать ту точку зрения, которую разносили часом раньше. Отыскивались все новые «за» и «против».
— Это очень важно, — горячился Андре. — Мы не имеем права умалчивать об этом.
— Нам не поверят, — возражал Гийом. — Кстати, может он и не хочет вовсе, чтобы о нем упоминали.
Запутавшись в предположениях насчет могущества заклинания, они сделали попытку провести анализ качеств мелового круга, и незаметно для себя оказались в небе Земли.
Тут Гийом заметил кое-какие странности.
— Небо пустое, — сообщил он. — Никаких ракет. Никаких спутников.
Трое склонились над экранами. В небе было чисто. Но планета была несомненно Землей. Они узнали очертания континентов и облака — лицо и маску планеты, — внутренние моря, сверкающие, как глаза среди гор-век. Корабль тормозил. Они тихо опускались вниз.
— Ничего не узнаю, — сказал Гийом. — Америка. Должны же быть видны города!..
Спустя несколько часов они проплыли над Европой. Они летели совсем низко, за обшивкой свистел воздух.
— И я ничего не узнаю, — странным голосом проблеял Андре.
Стрелка альтиметра была почти на нуле. Они уже различали леса, пашни, непривычные постройки. Потом увидели город. И поняли, что именно он был их целью. Город под ними выглядел невероятно. Низенькие дома лепились друг к другу так, что невозможно было различать улочки. Они спустились еще ниже и увидели толпы странно одетых людей, горбатые крыши зданий их поразили. Над городом возвышались башни из резного камня, вокруг вились крепостные стены, и им показалось, что они поняли.
Они уже не сомневались, что поняли, когда увидели оживление в городе и костры на главной площади, принятые ими поначалу за прожекторы. Корабль был достаточно низко, чтобы рассеялись последние сомнения. Они почти слышали рев толпы, звон колоколов и лязг оружия, ударявшегося о стены.
Они плыли над самой землей. Корабль опускался медленно, словно воздушный шар.
— Время, — прохрипел Гийом. — Не только пространство, но и время. Он приволок нас к себе.
— Как они нас примут? — сипло спросил Бартелеми.
Остальные пожали плечами. Дым костров заволок экраны.
В это мгновение из почти стершегося под их ногами мелового круга донесся гнусный, издевательский смешок.
Марсель Баттен, Мишель Эрвен
Море, время и звёзды

Старый Хари поспешно вскакивает с кресла-качалки. Он остался один на беленой известью террасе. Клацая вставной челюстью, он отпускает в адрес внука пару крепких ругательств — тот забыл разбудить деда после сиесты, и Хари едва не пропустил старт корабля.
Несмотря на хромоту, он может ходить довольно быстро. Бесформенная линялая шляпа натянута на лысый череп до самых бровей. Полы распахнутой жилетки трепыхаются от горячего дыхания южного ветра. Ворот его желтовато-зеленой рубашки тоже расстегнут, и из него торчит морщинистая, как у кондора, шея.
Он идет, загребая больной ногой, по залитой ослепительным полуденным солнцем улице. Позади него лениво трусит длинноногий рыжий пес. Монотонно-прямая улица с домами, дающими скудную тень, безлюдна. Бетон раскален, и токи горячего воздуха от него размывают далекие контуры строений. Весь городок уже давно собрался на площади и на набережной, откуда открывается вид на песчаные просторы мыса Кап Канаверал.
Ему остается пройти всего несколько сотен метров до угла, чтобы свернуть на площадь и влиться в любопытствующую толпу, когда до его слуха доносится неровный чихающий шум двигателя.
Мальчишкой Хари любил мастерить планеры — он приклеивал к тоненьким палочкам из бальзы бумагу, которая, подсохнув, звенела, как барабан. Планеры взмывали вверх на восходящих потоках воздуха и парили в небесах, иногда на довольно большой высоте, но жизнь этих хрупких конструкций была эфемерна. Когда он подрос, то увлекся более совершенными авиамоделями с жужжащими, как шершни, микромоторчиками. Сколько часов он провел, закинув голову до боли в шее, гоняя свои самолетики по кругу с помощью корда. Он был одинок в своей страсти — пришли времена, когда реактивные лайнеры вытеснили со всех пассажирских линий самолеты с поршневым двигателем, и те стали частными воздушными автомобилями, удобными и относительно быстрыми, хотя безбожно устарели.
Он бросил строить модели с полсотни лет назад — исчезли спиртовые микродвигатели. А вот сегодня, именно в этот день, до его ушей донесся знакомый, восхитительно кашляющий звук.
Хари прикрывает рукой глаза — искусственный хрусталик плохо работает при слишком ярком свете — и задирает голову. Справа от него в небе возникает летательный аппарат. Он, покачиваясь, летит в каких-нибудь нескольких футах над дорогой. Затем «железка» садится на шоссе и останавливается. Винт делает последний оборот, и рокот двигателя стихает.
Наконец-то под колесами твердая земля, и сразу отступает все, что казалось им дурным сном, кошмаром, который вдруг привиделся обоим. Даже полное отсутствие штилевой зоны вдоль экватора, которую они обязательно должны были встретить, не слишком обеспокоило их. Как впрочем и необъяснимо резкое падение в какой-то ватный океан, а затем неожиданное появление в безбрежно-спокойном лазурном кебе. Береговая полоса впереди просто не могла быть ничем иным, как территорией Соединенных Штатов Америки.
Они надолго застыли на своих неудобных сидениях, один позади другого, и не веря собственным глазам рассматривали залитый солнцем крохотный городок на берегу сверкающего океана, из-за которого они прилетели.
Далеко не сразу их лица осветили улыбки, и они принялись поздравлять друг друга, хохоча, как безумные.
Успокоившись, они выпрыгнули на землю. Им уже жарко в неудобных толстых комбинезонах. Они стянули с головы шлемы и очки. Пилот со шрамом через всю щеку извлек бутылку коньяка. Они уселись на землю и привалились спинами к колесу. Пилот откупорил бутылку и, протянув штурману, сказал:
— Кажется, мы победили, старина.
Даже шерифу маленького флоридского городка ничто человеческое не чуждо. И по-человечески понятно, что ты занял свое место среди сограждан, собравшихся, чтобы хоть издали посмотреть старт первого корабля, улетающего к звездам. Но когда на твоих глазах на шоссе для реактивных машин садится самолет, следует вспомнить о возможности переизбрания и навести порядок.
Тем более, что все твои сограждане, как один человек, повернулись спиной к Кап Канавералу и высматривают, откуда идет непривычный шум в небе и на дороге. У них глаза едва не вылезли из орбит, коща они увидели совершенно невероятное зрелище. Все они как один пробормотали: «Во дают!» и переглянулись с соседями, призывая их в свидетели.
А раз так, то шерифу остается лишь сдвинуть шляпу вперед и чуть набекрень, взглядом проверить, на месте ли символ власти — звезда, протереть ее обшлагом рукава, да незаметно пощупать, легко ли скользит оружие в кобуре — времена ведь такие, — и уверенным шагом отправиться на место происшествия. Надо посмотреть все самому…
Хари, волоча ногу и предвкушая необычное, тащится за шерифом. Ему кажется, что воспоминания детства обрели вторую жизнь. Шериф и все остальные понимают, что этот самолетик не должен находиться здесь, поскольку самолету не место на автостраде: он не должен быть здесь, потому что… Все это трудно выразить словами и даже представить мысленно. Похожие машины он видел разве что на старинных гравюрах. Таких самолетов давно уже не делают. Техника, давшая им жизнь, безнадежно устарела. Какие умельцы соорудили это допотопное чудище? Старое сердце Хари бьется чаще при мысли о межзвездных путешествиях, а эти люди — несомненно молодежь — продолжают жить страстью, которая некогда поглощала его самого, и даже добились большего, ведь он так и не пошел дальше крохотных моделей, они же… С ними надо поговорить, обязательно договорить. Кто знает, может быть однажды они возьмут его с собой… У него впереди еще немало лет, и он знает, их можно использовать на дело, надо лишь поговорить с этими людьми.
Шериф застыл перед блаженствующей парочкой и смачно выругался. Его брань сопровождалась широким жестом, как бы говорящим: «мотайте-ка отсюда и немедленно освободите дорогу». Они нервно рассмеялись, все казалось им таким странным. Они забыли про заготовленную речь, собрали остатки английского и забормотали, что они из Франции, from France. Aoh yeah! From France or not from France.[8] Главное — очистить дорогу, не то он им покажет, заявил шериф, поднося к уху часы, настроенные на Кап Канаверал — до часа Ч оставалось всего десять минут, ten minutes.[9] Ему не хотелось пропустить старт, и он жаждал вернуться на свое место, а потом, после старта, прийти сюда, но разве можно подумать о таком, когда посреди дороги торчит эта нелепая машина! А побелевшие лица его избирателей?.. «From France», повторяли эти двое и назвали свои имена, но шериф не разобрал их. Тогда они достали из внутренних карманов своих кожаных панцирей потертые раздувшиеся бумажники и извлекли из них документы. ДОКУМЕНТЫ! Они выглядели вполне официально и были новенькими, словно их выдали вчера. В одном из них с печатью американского посольства говорилось, что некто Нюнжесер, пилот, и некто Коли, штурман… Ну и что! Факт был налицо, и его очевидность в глазах Джереми Карпентера, шерифа, и всего населения городка была неоспорима — эта дурацкая машина приземлилась вопреки всем городским, федеральным, международным и межпланетным законам (правда, уверенности в нарушении последних у него не было) на дороге, на автостраде, a highway, d’yee und’stand, men?[10] И почему эти идиоты притворяются, что не знают английского? Известно, что молодые любят make believe,[11] но не до такой же степени! Да и не такие уж они молодые. Шутники, что ли? А документы? Что ему документы? Им больше ста лет, если даты верны. Черт подери, если они хотят поиздеваться над ним, над шерифом, он им покажет… Эй, Хари, bloody curious,[12] куда ты лезешь?..
Хари стоит у самого самолета, и его старые шершавые ладони ласково гладят обшивку и заклепки. Он трогает полированное дерево винта, обжигает пальцы, коснувшись выхлопных трубок мотора. Запах перегретого железа пьянит его. Не веря самому себе, он медленно повторяет два слова, коряво выведенные на борту рядом с сиденьем пилота: «Уазо Бланк» — «Белая Птица».
Нет, думает Хари, это невозможно. Я вижу сон. Это невозможно. Будь это возможно…
По толпе пробегает шум, и все разом оборачиваются. Десять минут истекли. «Пять, четыре, три, два, один, ноль». Все прижимают к уху часы. И в то же мгновение видят двойную молнию, вертикально взмывающую вверх. Белую стрелу полированного металла толкает вперед медно-красное пламя стартовых ракет, отрывающих от Земли громадный корабль, чей ионный двигатель заработает лишь в космической пустоте. Долго, целых полминуты, он не исчезает из виду, и Хари, вполголоса и старательно произнося каждый слог, разъясняет авиаторам, что после того, как вся солнечная система исследована и «завоевана», надо двигаться дальше, к другим солнцам, что ушедший в небо корабль строился долгие годы всеми землянами. Понимают ли они это? Едва ли. Его слова не имеют для них никакого смысла, ведь они явились из иных времен, из времен, когда люди усаживались в нелепейшие конструкции из металла, дерева и ткани и пускались в сотни раз более безумные предприятия, чем пилоты сегодняшнего звездолета. Кроме этих двоих, сколько их было — братья Райт, Блерио, Фербер, Фарман, Лэтам, Гаррос, Мермоз, Линдберг, Костес — всех не упомнить. И у каждого были свои достоинства и свои недостатки, все они имели обычные человеческие нервы, испытывали обычные человеческие страхи и все же без долгих лет подготовки садились на свои утлые летательные устройства с нежными именами — «Девушка», «Радуга», «Антуанетта», «Знак вопроса», «Дух Святого Луи» — и улетали дальше и дальше, хотя все управление состояло из веревок и самой обычной ручки, «ручки от метлы», как ее называли, крылья были хрупки, как у насекомого, а двигатель едва тянул. Первые авиаторы не успели утратить своей человеческой сути и стать бесстрастными и невозмутимыми подобиями холодных механизмов. Они были просто Людьми, живыми существами из крови и плоти, способными любить и страдать, нервничать и злиться, петь песни и напиваться…
«Их острые лица и острые носы рассекали воздух, ведь они сидели чуть ли не впереди своих машин».[13]
Двое мужчин молчат. Может, они понимают или смутно догадываются, что движет экипажем звездолета, но им невдомек — и Хари надеется, что они так и не узнают о том, что отвага звездолетчиков подогревается фантастическим вознаграждением за их труды. Эти двое думают об опасностях, хотя не подозревают, как далека цель путешествия. Хари не хочется их разочаровывать — путешествие будет долгам, но не столь трудным, какими были полеты первых космических кораблей, почти все известно, рассчитано, предусмотрено, и рискуют они меньше, чем пилоты, едва поднимавшиеся над самой травой. Они слушают, но, кажется, ничего не слышат.
Звездолет скрылся из виду, толпа зашевелилась и медленно потекла к ним. Шериф повернулся к французам. Те вместе с Хари уже оттащили самолет на обочину.
Хари берет французов за руки и ведет в город. Люди смотрят на них с любопытством, удивляются их одежде, необычному виду самолета. Они толпятся вокруг и почти тут же идут дальше — зрелище быстро надоедает им. Шериф ворчит, что следовало бы отправиться в его кабинет, но скоро, пожав плечами, тоже уходит. А Хари тащит за собой пилотов, похожих на медведей в своих мохнатых унтах.
«Из другого времени», — эта мысль еще тогда мелькнула у него. И только теперь, шагая вдоль улицы, он понимает всю невероятность ситуации, которую предчувствует только он и которую надо объяснить этим двум. Тем более, что вот этот со шрамом, Нюнжесер? Коли? спрашивает глухим голосом, какой идет год. Хари отвечает и повторяет, чеканя каждый слог: twenty — twenty — one, две тысячи двадцать первый. Они молчат, пытаясь осмыслить его слова, и, удивляясь, продолжают идти рядом. Он неторопливо и заботливо расспрашивает их, словно заболевших детишек. Как прошло их путешествие? Не заметили ли они чего-нибудь необычного, не произошло ли какого — то непривычного события, способного объяснить этот временной сдвиг, этот скачок, этот поворот во времени, который остался позади, как и многие километры? И тогда они делятся с ним своими наблюдениями — они не встретили штилевой зоны, затем тонули в каком-то ватном океане, удивлялись бешеной пляске немногих бортовых приборов, ощущению небытия, охватившему их на какую — то долю секунды, и состоянию, похожему на кому, от которого они очнулись, увидев вокруг лазурное небо…
Хари медленно, чтобы они вникли в каждое слово, говорит об ученых, которые давно предполагали, что многие необъяснимые явления поддаются расшифровке, если допустить изменчивость времени, его кривизну, его слоистость и взаимопроникновение слоев, невероятное растяжение и сужение времени и даже его остановку. Вот почему можно подняться в воздух в одном веке, а приземлиться в другом, соскользнув с той временной линии, на которой вам суждено жить с самого рождения. Уйти в небо, когда оно еще не было завоевано, а вернуться после его покорения, корда потомки, подхватив эстафету, устремляются к звездам. Они победили, но победа обернулась поражением. Они кивают головами, они соглашаются, — победа пришла слишком поздно, перестала быть нужной, установленный ими рекорд давно устарел. Они оказались живыми и бесполезными, ощутили это каждой клеточкой тела. Они не поняли всего, что им сказал Хари — разум человека не в силах за час преодолеть отставание на целый век, как не может человек научиться читать за один день. Но им стало ясно — в 2021 году делать нечего.
И тогда они задали Хари один вопрос — всего один, который не могли не задать — можно ли достать газолин. Бензин. И Хари радостно ответил, что да. У Слима его полно. Слим — это его приятель. Он брюзжит, когда продует в железку, но он — приятель. И он даст бензин. Вот уже долгие годы он хранит запас бензина, хотя сам не знает, зачем. Из обихода слово «бензин» давно исчезло. «Стариковская причуда», — снисходительно усмехается Хари. Слим — приятель. Он даст бензин. Наверняка!
«Белая Птица» пляшет на дороге, носом к востоку. Крылья подрагивают, как у бабочки. Двигатель чихает, затем начинает ровно гудеть. Самолетик медленно отрывается от земли и тяжело тянет вверх. Он покачивает крыльями, и Хари понимает — ему послали прощальный привет. Стоя посреди дороги, он глядит вслед самолету. Он перенес весь свой вес на здоровую ногу, заложил руки за спину и до боли сжимает пальцы…
«Слои времени», — сказал старик. Нюнжесер улыбается, и шрам на его лице белеет. По дороге сюда они скользнули в иное время. Может, на обратном пути им повезет?..
Ветер свистит в растяжках. Позади напевает Коли.
А там, откуда они явились и где их больше никто не увидит, наступает 20 мая. 20 мая 1927 года. Они исчезли одиннадцать дней назад.
Их пока еще не забыли. Их забудут завтра.
Завтра — 21 мая. И на первых полосах газет напечатают новое имя — Чарльз Линдберг.
«Взлетев с аэродрома Бурже 8 мая 1927 года на борту «Белой Птицы», Нюнжесер и Коли навсегда исчезли над Атлантикой, Не удалось отыскать ни малейшего обломка их самолета, и точное место катастрофы осталось неизвестным. Исчезновение их окружено непроницаемой тайной».
Жерар Клейн
Планета семи масок

Спокойным шагом вошел он в белые, сияющие перламутром ворота, и день внезапно сменился ночью, расцвеченной бесчисленными праздничными огнями. Легкий, почти неуловимый аромат витал в воздухе. Сбегающие вниз улочки рассекали ряды причудливых зданий, похожих на нагромождения скал, эти улочки чужого города манили его, хотелось окунуться в оживленную, хотя и не шумную толпу, вслушаться в приглушенный гул незнакомых голосов. Но он чуть было не обернулся, превозмогая искушение еще раз увидеть за своей спиной пустыню, протянувшуюся до самого горизонта.
Оттуда он пришел; он преодолел этот океан песка, а раньше ему пришлось преодолеть другую, еще более безжизненную и равнодушную пустыню — космос. Ибо он был одним из тех странно устроенных существ, что не чувствуют себя дома нигде во Вселенной, а меньше всего там, где родились — он был человеком. И сейчас его матово-бледное лицо походило цветом на тучи белого песка, что окутывают порой странный город, окруженный стеной с семью воротами. Много лет назад впервые услышал он о планете Семи Масок и проделал почти бесконечный путь, чтобы увидеть этот, не похожий ни на какой другой чудесный мир, где, как ему говорили, царит вечный праздник. Свой одинокий корабль он оставил в пустыне, далеко от города, зная, что хрупкие строения рухнули бы, не выдержав потоков энергии, рвущихся из двигателей. И потом день за днем шел он через пространства белого песка, потеряв счет расстояниям, когда не было вокруг ничего, кроме пустыни и медленных песчаных рек, что стекают со склонов далеких белых гор, возвышающихся на севере, и вливаются далеко на западе в огромную впадину иссохшего века назад океана.
Нетерпение, давно ставшее привычным, все гнало и гнало его вперед, и усталость и жажда не имели для него значения. Он много раз слышал, что планета Семи Масок — удивительный и загадочный мир, где не знают ни вражды, ни войн, ни мук, ни страданий, и где цивилизация навсегда застыла, достигнув всего, к чему стремилась. Правда, слишком далек был этот мир от Земли, и те, кто знал о нем, считали, что он давно и неизбежно клонится к закату. Но тем сильней было любопытство Стелло, который всю жизнь искал совершенства и знал, что отыскать его можно лишь там, где люди не стремятся, как мотыльки, на призрачный огонь, безжалостно опаляющий крылья, и где холодный блеск триумфов меркнет, уступая место спокойному и ясному сиянию праздничных огней в ночи; да и может ли закат быть столь долгим, спрашивал себя Стелло, может ли конец цивилизации тянуться до бесконечности — ведь невообразимо древние хроники говорили, что планета Семи Масок уже была такой задолго до того, как на Земле появились первые люди…
И вот, когда он шагнул в одну из семи арок, свод которой сверкал и переливался под солнечными лучами, словно драгоценная раковина из глубины океана — а прежде чем войти, медленно обошел город вокруг и любовался его удивительной стеной, мерцающей, подобно чешуе из блесток, и, зная ответ, все равно сосчитал ворота, но не смог понять начертанные на них загадочные знаки, — тогда что-то давно забытое за годы странствий по чужим и холодным мирам, что-то, о чем он и не думал больше, привыкнув созерцать лишь безучастные огоньки пульта управления и бесконечно сменяющие друг друга цифры на экране бортового компьютера, — что-то вдруг снова шевельнулось в нем.
Как будто подошвы его тяжелых башмаков впервые коснулись булыжной мостовой древнего земного города, родного и незнакомого одновременно, как будто он впервые переступил порог чужого дома, хотя ему смутно помнилось, что именно в этом доме, в этом городе прошло его детство… И тогда он шагнул под арку со смешанным чувством любопытства, удивления, узнавания и тревоги.
В этой части города было безлюдно, лишь поблескивающие стены домов чуть трепетали, словно пламя на ветру, хотя не было вокруг ветра. Ему вспомнились другие дома, виденные им на других планетах — все они были основательные, прочные, надежные, эти же — сама хрупкость и эфемерность, словно стен этих и не было вовсе, а существовало лишь их отражение в его глазах.
И снова возник перед ним вопрос, неотступно преследовавший его все долгие дни в пустыне под пылающим, но холодным светилом. Кто живет на планете Семи Масок? Люди? В библиотеках Земли он прочитал всю литературу, что смог найти. Но ни одна из этих толстых книг не смогла удовлетворить Стелло. Есть ведь и было всегда нечто такое, чего не описать словами и не передать самыми точными цифрами; а внешность — что ж? — всего лишь оболочка, маска, скрывающая истину…
Да, загадочное и древнее предание говорило, что обитатели этой планеты, над которой светят семь лун, всегда прячут лица под масками; а странный мир их, утверждали легенды, — вечный праздник, карнавал туманных символов или какой-то нескончаемый ритуал; но может статься, это и была сама их жизнь, и жить иначе они просто не могут, не перестав быть собой? Что если этим существам необходима преграда между их внутренним миром и всем тем, что за его пределами? Или же маски таят под собой угрозу, как порой под улыбкой скрывается жестокий оскал, или наоборот, их вечная безмятежность пугает, как все слишком неизменное и потому непостижимое?..
Семь масок, семь городских ворот, семь лун на небосклоне — и семь гласных в Древнем Языке, семь чистых поющих звуков, гулким эхом разносящихся по запутанному лабиринту таинственных слов, изначальных, как сам этот невообразимо старый мир… Семь масок, передающих семь чувств, ешь состояний души — и незачем приходить в движение застывшим чертам лица, да и кто здесь помнит, что под масками остались когда-то лица? Городские ворота — для каждой из семи масок, и для каждых ворот — по луне. И, наверное, для каждой луны — по поющему звуку. На этом языке шептал ему холодный свет звезд в черноте и на нем же говорили стены сияющего города, неведомо когда возникшего посреди безжизненной пустыни, и маски его обитателей. Но как постичь истину, ускользающую из туманных образов этого древнейшего языка Вселенной?
От треугольного проема в мерцающей стене отделилась какая-то тень и скользнула к нему. Очертания фигуры скрывал наброшенный на плечи плащ, перешивающийся всеми цветами радуги. Это мог быть и человек. Его маска выделялась багряным пятном на черном фоне высокого треугольного воротника. Незнакомец заговорил тихим низким голосом; Стелло услышал и понял слова Древнего Языка, — никто не знал, откуда он произошел, так глубоко уходили его корни, но на нем говорили в этой галактике все разумные существа, даже те, что не имели губ.
— Откуда вы? — спокойно, без любопытства, без раздражения спросила тень.
— С Земли, — ответил Стелло.
— И вы вошли в перламутровые ворота?..
Полы радужного плаща затрепетали — словно легкий вихрь взметнул их изнутри. Стелло сделал еще шаг; теперь он отчетливее видел пурпурную маску. Овал из гладкого блестящего металла и в центре, словно единственный глаз, сверкал голубой камень. Под ним прорезь, окруженная чеканным рисунком. Губы? Но таких не могло быть у человека: огромные, в пол-лица губы, чуть насмешливые, но насмешливые беззлобно, сжатые, но без суровости, словно хранят они последнее, окончательное Слово Истины — и никогда не откроют его, ибо оно непроизносимо.
— Вы вошли в перламутровые ворота, — повторил голос. — И на вас была белая маска. С Земли, говорите вы?
Стелло пожал плечами. Непонятный разговор начал его раздражать. Он вошел в перламутровые ворота просто потому, что возле них никого не было. Ему не хотелось пробираться сквозь перешептывающиеся группки, которые толпились вокруг остальных шести ворот. Лишь перламутровые были пусты.
— На мне нет никакой маски, — медленно выговаривая слова произнес Стелло.
Из неподвижных пурпурных губ вырвался едва различимый смешок.
— Что ж, пусть так, — ответил голос почти ласково. Его звуки почему-то напомнили Стелло о блестящих камешках, отшлифованных за сотни лет песками и ветром, таких прохладных и гладких на ощупь, и о чистых холодных кристаллах, что вечно скользят по дну высохшего океана. Да и сами слова Древнего Языка напоминали камешки, обкатанные за безвременье множеством голосов; они годились для выражения самых разных чувств — ярости и гордыни, нежности и ревности, но могли передать и вот это неизменное спокойствие древнего народа.
Незнакомец умолк, полы его плаща по-прежнему трепетали. «Чего он хочет от меня? — подумал Стелло. — Или я случайно нарушил какой-то закон этой планеты, неизвестный на Земле? И меня уже считают здесь преступником? Может быть, перламутровые ворота у них под запретом?»
— Вам, наверное, есть куда пойти, чужестранец? — снова заговорил его собеседник, повернувшись к улочке, убегающей вглубь города. — И, должно быть, хоть один друг найдется здесь у вас?
— Я слишком издалека, — уклончиво ответил Стелло. В нем уже закипал гнев. — Я проголодался, хочу пить и очень устал. У меня с собой кое-какие вещи, которые очень ценятся на моей планете. Я смогу здесь получить за них деньги?
Луч света скользнул по пурпурной маске, и голубой камень сверкнул ослепительным пламенем. На мгновение Стелло показалось, что неподвижные губы чуть улыбаются.
— Мне известны ваши обычаи, чужестранец, — последовал ответ. — Но здесь они не в ходу. Деньги вам не понадобятся. Вы вошли в город Семи Ворот, так неужели вы вообще ничего не знаете? Для каждой луны — свои ворота, для каждых ворот — своя маска, а каждая маска о чем-то просит свою луну. Вы обретете здесь то, к чему стремитесь.
— Вы не могли бы проводить меня в город? — вздохнул Стелло. — Мне нужно где-нибудь остановиться… — Он говорил глухо, с трудом перекатывая языком истертые слова Древнего Языка.
Радужные краски плаща почему-то вдруг поблекли, потускнел и сиявший в центре маски голубой камень.
— Разве вы не видите, какого цвета на мне маска? — спросил незнакомец мягко и, как показалось Стелло, с легкой грустью в голосе.
— Простите… — пробормотал Стелло.
— Ничего, — спокойно сказал незнакомец. — Обратитесь к первому же встречному. Вам обязательно помогут и проводят, куда вы захотите. Мне очень жаль, что сам я не могу этого сделать. Но я ношу пурпурную маску.
— Прощайте, — ответил Стелло и направился к центру города.
— Постойте, — окликнула его тень. — С какой планеты, говорите, вы?..
— С Земли.
— С Земли… Что ж. Быть может, вы выбрали себе маску, не подумав. У вас есть еще время. Прощайте.
Стелло снова остался один. Он брел вперед, терзаемый сомнениями. Что имел в виду незнакомец, говоря о маске? Кажется, он благополучно миновал все острые углы… Но не забывай, говорил он себе, ты в чужом городе, в чужом мире, обитатели которого могут вкладывать в слова Древнего Языка совсем иной смысл, нежели ты, землянин, у них другой строй мыслей, другие обычаи, своя, неведомая тебе история, и ты ничего еще не знаешь о них, а они — о тебе. Не забывай, усмехнулся он, что имя твоей планеты — Земля — для них пустой звук, что их мир для тебя пока всего лишь красочное зрелище, а сами они видятся тебе пестрыми мотыльками, танцующими в лучах своих разноцветных лун, тогда как ты им представляешься варваром, дикарем, явившимся из своих джунглей на их покрытую песками планету… Да, может статься, у него нет совсем ничего общего с теми, кто живет в городе Семи Ворот. Он не был рожден подобно им за мерцающей стеной с семью разноцветными воротами, открывающимися прямо в бесконечную пустыню, где струятся реки песка, а далеко на западе едва виднеется в мареве горячего тумана высохшее море, — огромная впадина, полная тончайшей пыли, по которой вечно скользят, гонимые ветром, сверкающие на солнце кристаллы.
Что ж, он родился и вырос в другом мире — не столь совершенном и более суровом. Он сознавал, что мощь его корабля, его оружие и даже сила его кулаков неуместны здесь, что он — дикарь, варвар — чужд этому городу, словно угловатая каменная глыба, не знающая изящества мраморной статуэтки, стремительный горный поток, не ведающий, как прозрачны воды тихого озера. Да и кто он, собственно говоря, такой? Ничтожная песчинка, влекомая ветром, бродяга с Земли, нигде не находящий себе пристанища, вечный перекати-поле…
Но все эти годы такая жизнь нравилась ему. Хорошо было странствовать в сверкающей скорлупке с планеты на планету, бродить по незнакомым мирам, окруженным туманным ореолом будоражащих воображение легенд, легким взмахом руки приветствовать чужие города, безразлично-красивые или уродливые, нигде не задерживаясь надолго; хорошо было даже тогда, когда он застрял на Тарре, когда провел в тоскливом одиночестве под нависшим серым небом много дней, созерцая огромное болото, в которое превратился космопорт — да, даже тогда было здорово! А здесь — нет.
Здесь что-то стояло между ним и этим миром с его безмятежным спокойствием, что-то неуловимое, чему он не мог подобрать названия, мешало ему, тончайшей пеленой заволакивая глаза.
Он поднял голову и увидел в небе все семь лун — сияющую диадему из драгоценных камней, повисшую над планетой. Семь цветов — как семь чистейших нот, у каждой луны — своя, и каждая лила ясный, холодный свет на свои ворота: вот рубиновая луна, вот серебряная, золотая, изумрудная, перламутровая…
Перламутровая… Молочно-белый диск с радужным отливом, белое пятно в ночи, зловещее око, прикрытое до времени матовым веком.
Стелло опустил глаза и принялся разглядывать причудливые здания вокруг. Потом неуверенно двинулся вперед, и вдруг стены окружили его со всех сторон, нависли над ним, словно скалы, смыкаясь сводами над головой, стены ожили, трепетали, волнами набегали друг на друга, тянулись к нему, с хлюпаньем разлетались пенными брызгами — что же это за стены, — непрочные, как оболочка мыльного пузыря, что лопается от легчайшего дуновения?
Он бродил по аллеям, уже не понимая, окружают его деревья или башенки сказочных крепостей, но стоило поднять голову — и снова он видел сквозь призрачные своды семь неподвижных лун на темных небесах. В окнах мелькали поблескивающие маски, трепетали, словно листья на ветру, радужные плащи кружили невесомым хороводом, взбираясь по винтовым лесенкам, собираясь в стайки и вновь разлетаясь, заполняя стеклянный лабиринт города — мотыльки — однодневки, эфемерные, бескровные существа…
Бескровные! Вот оно, верное слово. Бескровна эта ночь. Бескровна планета, и небо, и семь лун на нем, и семь ворот в мерцающей стене, и семь хрустальных звонов гласных Древнего Языка, бескровен перламутр, словно застывшая окаменелая плоть, не подверженная тлену… Но ведь он, человек, безнадежно затерявшийся в этом мире — живой! В его висках бьется кровь, а мышцы послушно играют под теплой кожей! Он поднял руки и дотронулся до своего лица, когда-то обветренного и опаленного солнцами многих миров, но побледневшего за долгие месяцы у пультов и экранов корабля, провел ладонями по щекам, по подбородку, ощутил покалывание отросшей щетины, и, казалось, даже почувствовал, как эти короткие, почти незаметные волоски продолжают расти под его пальцами — значит, жизнь не замерла в нем!
А что прячут эти создания под масками и плащами?
Нечто совершенное и потому холодное и отстраненное? Кто они? Фигурки, слепленные из песка и пыли, фигурки, в которые когда — то по ошибке вдохнули подобие жизни, — и готовые рассыпаться от случайного взгляда? Или вместо плоти у них поблескивающий металл и бесчисленное множество зубчатых колесиков и винтиков, заученно цепляющихся друг за друга?
А может, под маской скрывается лишь другая маска, а под ней — еще одна, и еще, и еще, до бесконечности, и никогда не добраться за ними до истинного лица? Кош они обманывают? Друг друга? Себя? Плутают в безвыходном лабиринте собственных душ? Возможно, маска здесь была когда-то просто украшением, но странным образом за века и тысячелетия стала частью их существа?
«Но ведь лицо может быть и безобразным, — подумал он. — И непроницаемым. А то, что кажется непонятным здесь, станет очевидным на далекой Земле… Лицо должно отражать чувства. Так может, и у масок свой язык?»
Чем дальше он углублялся в лабиринты улочек, приближаясь к центру города, но еще не зная, что ожидает его впереди, тем чаще ему встречались фигуры в переливающихся плащах и неизменных масках. Маски из золота и из серебра, опаловые и черные, как смоль. Попадались и пурпурные маски — всегда в одиночестве. Да, маски должны что-то означать — и, возможно, это всего лишь знаки, символы, соответствующие определенному социальному положению или касте. Может быть, те, что носят пурпур — неприкасаемые? Нет, не похоже, подумал Стелло, вздрогнув от свежего ветерка.
Вдруг перед ним раскинулась площадь — а он даже не заметил, когда успел выйти из очередной узкой улочки. Повсюду танцевали разноцветные огоньки. Но тут же ему стало ясно, что это огромная толпа — яркие отблески масок и радужные переливы плащей показались ему сначала праздничной иллюминацией. Площадь не была вымощена, просто покрыта песком, но Стелло никогда не видел такого песка — мельчайшие, почти неразличимые для глаза песчинки, хотя и не пыль. Казалось, чистая, мягкая скатерть покрывает площадь. Нет, скорее это было похоже на морское дно, если смотреть на него сквозь толщу воды — неподвижное, раскинувшееся на огромном пространстве и в то же время сжатое в эту странную площадь. Почему — то он чувствовал, что никому из живых не дано пересечь ее.
Он не стал и пытаться. Толпа вокруг казалась притихшей, словно задумавшейся о чем-то, но молчание не угнетало, — то была умиротворенная, спокойная тишина, нарушаемая лишь шелестом плащей, словно легкие волны с тихим плеском касались песчаного берега.
Вдруг одна из фигур отделилась от остальных. Вздулась парусом алая накидка, прыжок — и будто огненно-красный цветок распустился на самой середине песчаной площади. Стелло услышал рядом одобрительный шепоток — по крайней мере, так ему показалось — всего несколько коротких, едва различимых слов на Древнем Языке. И в тот же миг что-то полыхнуло перед его глазами. Взметнулся огненный вихрь — и зазвучала незнакомая музыка, заплясали разноцветные огни. Ему пришло в голову, что песок отражает свет — иначе откуда бы им взяться? Но вскоре до него дошло, что огни эти рождались и жили сами по себе, как и звуки, казалось, возникавшие в воздухе над площадью, хотя там не было ничего, похожего на музыкальный инструмент.
Существо в алой накидке, несомненно, было из этого города — Стелло ясно видел маску из серебра, узкую, блестящую, совершенно гладкую, и все же говорившую о чем-то, потому что, даже не понимая немого языка масок, он ощутил незнакомое волнение, какого не вызывало в нем раньше ни одно великое творение искусства на Земле, да и на всех других планетах, ни одно живое существо, не вызывало ничто и никогда. По телу его пробежала дрожь — но не от страха и не от холода, хотя ветер, бьющий в толпу, становился все сильнее, а от ощущения полного одиночества, затерянности, чуждости этому миру, и он снова подумал: «Я ведь дикарь, варвар, каким звездным ветром и зачем занесло меня в этот совершенный мир?..»
Кто-то коснулся его руки, но он не смог обернуться.
Песок казался исключительно плотным: ни малейшего облачка пыли не клубилось у ног танцующего. Да, подумал Стелло, наверное он танцует, но какое же это бледное, невыразительное слово! Ведь танец никогда не был любимым искусством землян… Он скорее назвал бы это зрелище «звездной игрой», хотя и такое сочетание ему самому показалось неподходящим даже в коротких, выразительных словах Древнего Языка. Это было что-то, чего не опишешь никакими словами, не нарисуешь кистью, не вылепишь из самой податливой глины, это была непостижимая тайна, на краткий миг приоткрыла она свой покров, отдавшись звездной игре, и через такое же мгновение снова исчезнет в песках…
Стелло подался вперед, силуэты в плащах расступились, пропуская его, и он шагнул на площадь, оставляя в песке четкие, глубокие следы и не замечая этого: взгляд его был прикован к туманному, непрестанно менявшему очертания алому пятну. Под развевающейся накидкой Стелло надеялся все же разглядеть силуэт — человеческий или иной. Он смотрел и смотрел, но все было тщетно. Ему виделся лишь язык пламени, легкая кисть, танцующая на полотне древних песков, нанося на него тончайшие мазки.
Мазки складывались в картину. Движения превращались в слова. Стелло понял это, подняв глаза и вновь увидев семь лун в туманном небе, по которому проносились отблески мерцающих на песке огней. Это был язык движений, жестов, движения сливались в песню, в поэму, — в заклинание, быть может. И все вокруг замерли в ожидании. Чего они ждали? Что подмигнет одна из их лун, или захлопнутся ворота, или упадет маска, или прямо из песка выбросит темные ветви чудовищное дерево, какое только и может вырасти в этом бескровном, безжизненном, кристаллическом мире, на планете песков и разноцветных негреющих огней?
И вдруг он увидел и понял, что говорит ему танец, увидел струение прозрачной воды, ручеек, водопад, широкую полноводную реку и наконец — океан. Потом он ощутил холод, океан затянуло ледяной коркой, вода застыла в оцепенении, похожем на смерть — никогда уже не пробежит волна по ее безжизненной зеркально-гладкой поверхности…
Ибо движения танца замирали, погружаясь в неподвижность. «Неподвижность — это и есть смерть», — подумал Стелло. И тут он снова увидел серебряную маску — в тот миг, когда ему показалось, что серебристая оболочка отделилась от лица, словно шелуха, и упала с легким шорохом — так на Земле облетают с деревьев осенние листья. Но серебристый лист, не долетев до песка, словно растаял в воздухе, оставив лишь мерцающие блики, которые тоже погасли, не успев опуститься, и вдруг по песку разлился бледный молочно-белый свет. На танцующем была перламутровая маска.
Стелло вздрогнул. Так значит у них и вправду множество масок, одна под другой? Нет лица, одни только личины? И их сбрасывают, как листья, а под ними вырастают новые?
И снова кто-то коснулся его руки.
— Вы тоже будете танцевать, чужестранец? — услышал он тихий и удивительно нежный голос.
— Нет, — ответил Стелло, и его собственный голос прозвучал хрипло и тускло. Он резко обернулся.
На него смотрела маска из золота, ничем не украшенная, гладкая и блестящая, подобная какому-то сказочному камню, познавшему долгие ласки воды и ветра.
Плащ затрепетал, казалось, он сейчас взлетит. До Стелло донесся странный звук — словно маска подавила рыдание.
— О, не танцуйте, чужестранец, не надо. Не теперь. Еще не время. Одумайтесь. Ваша маска…
— Нет у меня никакой маски! — вырвалось у Стелло, но он вовремя прикусил губу, чтобы не выдать голосом поднимавшийся в нем гнев.
«Они что, сговорились тут все? — мелькнуло у него. — Насмехаясь, сбивают меня с толку? И почему, в конце концов, тот, что танцевал, не встает? Почему лежит так неподвижно? И отчего это вдруг стало так тихо?» Он не решался взглянуть вниз, на свою руку, по-прежнему ощущая легкое прикосновение: пола плаща легла на его запястье.
Стелло отвел наконец глаза от золотой маски и увидел, как брызнул луч из луны, бледный луч из матово-белой перламутровой луны — или это ему только почудилось? — но нет, луч пошарил по песку, тишина и неподвижность стали уже невыносимыми, словно в немыслимой глубины морской бездне, и… что это?., не может быть! — алая накидка и белая маска высыхали, съеживались, уходили в песок, как вода… Стелло на мгновение зажмурился, а когда открыл глаза, увидел лишь голую песчаную площадку.
Ему стало страшно. Правая рука привычным жестом скользнула к бедру — он забыл, что пришел в город без оружия. Да и будь у него пистолет — что бы это изменило? Он пытался постичь смысл увиденного. Был ли это какой-то обряд? Жертвоприношение? Неужели существо в алой накидке погибло у него на глазах?..
— Вы не могли бы проводить меня? — обернулся он к золотой маске. Голос снова стал глухим, пересохшие губы плохо повиновались ему. — Я нездешний, не знаю ваших обычаев. Я прибыл издалека. Мне хочется есть и пить. Я здесь один. Но народ мой силен, и повсюду, куда ни направите взгляд, во всех мирах с радостью принимают землян. Моя планета молода, но могущественна, и мы умеем помнить добро!..
…Истертые, как разменные монеты, слова Древнего Языка, принятые в подобных случаях, вдруг наполнились для него новым смыслом. Он повторял их сотни раз, в других обстоятельствах, на других планетах, но сейчас они показались ему незнакомыми, будто впервые слетели с его губ и никто никогда не произносил их до него.
Он ожидал любого ответа, но не того, что услышал. Золотая маска склонилась к нему, и словно легкий ветерок донес до него слова:
— Разве вы не видите, какого цвета на мне маска?
Стелло вздрогнул. Голос был такой нежный и так походил на голос женщины…
— Зачем вам куда-то идти, чужестранец? Наши луны здесь, и маски тоже. Сбросьте же вашу маску, пока не поздно!
Стелло вдруг нестерпимо захотелось расхохотаться.
— Не знаю, что значат для вас ваши маски, — сказал он, — но это — мое лицо. В этой маске я родился, в ней и умру. И весь мой народ…
— Вы не шутите, чужестранец? — в голосе зазвучало недоверие и почти неуловимая нотка грусти — или ему показалось?
— Уйдем отсюда, — попросил Стелло. — Пожалуйста. Не знаю почему, но это место мне неприятно.
— Что ж, идемте.
Они пошли вдвоем по тихим пустынным улочкам, и свет становился то золотистым, то молочно-белым — словно две луны спорили за право светить им.
— Простите меня, если я вас чем-то обидел, — неуверенно начал Стелло, — но я действительно ничего не знаю о вашей планете. Не умею читать по маскам. Я даже не знаю, что это — признак касты, просто маскарадный костюм, или ваши настоящие лица?
— Вы не шутите, чужестранец? — повторил голос. — Вы, должно быть, и вправду издалека. Ваш народ еще очень молод, ведь правда? Насколько я знаю, эти маски старше нас самих, даже старше Древнего Языка, на котором вы так забавно говорите.
— Я учился ему на Земле, — сказал Стелло. — Мне пришлось говорить на нем повсюду — от Альтаира до Веги, я объяснялся на нем с приятелями-пилотами, ругался во всех космопортах галактики, употреблял эти слова в давно забытых значениях, я мешал их как хотел с сотней других языков. Быть может, вас это удивляет, но мой народ вообще тяготеет к разнообразию, и мы, рожденные на Земле, хоть и молоды, но уже давно странствуем по дорогам космоса, нас заносит в такие дали, куда рискнет отправиться не всякий, — и везде мы хотим быть не рабами, но повелителями, и повсюду стремимся к могуществу и власти… Но хватит, не стоит об этом, что для вас слава какого-то далекого мира?
Плащ снова затрепетал.
— Я не понимаю вас, чужестранец. В ваших речах столько горечи. Забудьте все… Вы на планете Семи Лун, в городе Семи Ворот, здесь живет народ Семи Масок. Но возможно ли, что все ваши собратья с самого рождения носят белые маски?
— Поверьте, так оно и есть, — кивнул Стелло. — Вам это не нравится? Или белый цвет означает для вас что-то недоброе?
Ему вдруг пришло в голову, что и на Земле существуют разные расы, есть люди с золотисто-желтой кожей, с кожей, черной как смоль; давным-давно на Земле Стелло заметил, что они все чем-то неуловимо отличаются от него, что в них чуть больше веселья, или, скорее, меньше грусти. Но к старости, вспомнил он, их кожа постепенно светлеет, становится сероватой или матово-бледной, и какой бы ярко-желтой, какой бы угольно-черной она ни была в юности — к старости они становятся похожи на белых.
Но об этом он предпочел промолчать.
— Нет, нет, — поспешно произнес голос, отвечая на его вопрос. — Не думайте так. Я вижу, вы совсем ничего не знаете. Но почему, почему тоща вы выбрали перламутровую маску?
У Стелло вновь вырвался смешок.
— Ее выбрали за меня до моего рождения.
— Разве так бывает? — голос стал задумчивым. — Возможно ли, чтобы целый народ предпочел смерть? Не потому ли все вы так неистовы в сражениях, не потому ли очертя голову бросаетесь из одной бездны в другую?
— Я вас не понимаю.
— Что же тут непонятного? Неужели до вас еще не дошло? Или это танец так поразил вас, что вы потеряли рассудок? Разве вы не слышите, что шепчет вам ветер? «Сбрось свое лицо… Сбрось свое лицо…»
Стелло содрогнулся. Что такое говорит ему маска? Его лицо! Как оно, оказывается, много для него значит. Как удобно спрятаться за этим живым покровом. На нем мог быть написан страх или радость, боль или восторг, но никогда, даже в кошмарном сне, не пришла бы ему мысль лишиться лица. А что же это за существа без лиц, целый народ, добровольно сбросивший маски из плоти и прячущий пустоту за этими — бескровными — масками, что за загадочные создания, которых больше ничто, даже собственная кожа, не отделяет друг от друга?
Теперь он ощутил настоящий ужас. Поднес руки к лицу и коснулся живого, теплого лба, щек, упруго прогнувшихся под его пальцами. Ладони скользнули вдоль носа вниз, к губам, к подбородку.
«Лицо… — подумал он. — Мое лицо. Маска… Нет!»
— Не знаю, — произнес он наконец. — Наверное, есть какая-то великая тайна, — может быть, для того, чтобы разгадать ее, я и явился сюда. Но я совсем запутался. Я чувствую, что должна быть какая — то связь между лунами, воротами и масками, но нить эта слишком тонка, и я не могу ее найти.
Маска негромко рассмеялась. Мелодичный смех походил на звук флейты.
— Хочется вам верить, но не знаю, что и думать. Мой путь лежал через золотые ворота, я ношу золотую маску, танец мой был обращен к золотой луне, и вот она послала мне странного спутника…
— Простите меня, — пробормотал Отелло.
— Вам не за что просить прощения. Но скажите, неужели эта маска вам так дорога?
Отелло помедлил с ответом.
— Не знаю. Я не понимаю вас, — выдавил он наконец.
— Вы не знаете, почему носите ее? Не задумывались об этом?
В голосе было искреннее удивление. И грусть.
«Это женщина!», — вдруг решил Отелло. Прежде им двигало только любопытство, но теперь пришло что-то другое. Он побывал на множестве планет, общался с самими удивительными существами и нигде не отказывал себе в удовольствиях, задерживался на десятках миров, чтобы познать женщин каждого из них, если только близость с земным человеком ничем не грозила им — встречались ведь и такие бесплотные создания из дальних уголков Вселенной, для которых подобное приключение могло оказаться гибельным. Женщины с планет Альтаира были красивы, несмотря на непривычный холод, исходивший от их влажной, полупрозрачной кожи. Тех, что обитали на планетах Алголя, едва ли вообще можно было назвать женщинами, однако Стелло не пренебрег и ими, — и каждый раз, держа очередную из них в объятиях, он спрашивал себя: а есть ли абсолютная, высшая красота, красота для всех миров и на все времена, способная вызвать благоговейный трепет у любого разумного существа, или же красота — это лишь изменчивые образы, запечатленные в наших глазах, в нашем мозгу? И не находил ответа, несмотря на рассуждения философов и выкладки психологов, ибо красота, думал он, — это всегда случайность, она рождается случайно, и мы открываем ее волею случая, а случай не может быть абсолютным, абсолютно лишь его порождение, но как можно утверждать, будто что-то предрешено заранее, если не тебе дано писать Великую Книгу Судеб?
«Неужели это женщина?» — думал Стелло. Голос волновал его, а плащ и маска все сильнее влекли к себе. Есть ли там, под складками плаща, плечи, которые он мог бы обнять, есть ли под маской губы, которые он бы поцеловал, раздвигая их своим языком? Впрочем, что значат для него губы, плечи, тело? Зачем срывать покровы, если сама тайна волнует его куда сильней, чем ее разгадка?
— Семь лун глядят на нас, — продолжал голос, — семь лун дают нам все, о чем мы просим их, по древнему закону, начертанному на воротах города и запечатленному в звуках Древнего Языка. Нужно только носить маску и танцевать танец для своей луны.
— Понимаю, — задумчиво произнес Стелло, чувствуя, как тяжелеет пола плаща на его руке.
…Женщина? Или, по крайней мере, существо женского пола? Как определить это, какими словами выразить, в чем она — женственность? Всегда, на всех планетах он сталкивался с этой загадкой, и каждый раз приходилось разгадывать ее по-новому. Но здесь была не только загадка. Тупик. Вопрос без ответа.
— Каждая маска — это просьба, — услышал он. — Пурпурная маска просит одиночества и покоя. Изумрудная — знания. Золотая — любви. А перламутровая…
Голос произносил слова медленно, раздельно, словно учитель давал маленькому ребенку первый в его жизни урок. Да так оно на самом деле и было.
— Замолчи! — испуганно крикнул Стелло. Он начинал постигать. Но может ли он освободиться от своей маски, стать таким, как они, может ли оказаться по ту сторону, приблизиться, наконец, к этой тени, приподнять непроницаемую маску и прочесть недосказанные слова на незнакомом лице?
— Сбрось ее!.. — шептал ему голос. — Сбрось, пока еще есть время!
«Как объяснить ей?» — думал Стелло, слыша в голосе щемящую боль и неподдельное страдание.
Семь лун по-прежнему светили в темном небе, легкие башенки сказочных дворцов подрагивали в мерцании огней. Они пошли дальше. Впереди была крохотная площадь, в центре которой шелестел фонтан, словно цветок из колышущихся водяных струй, пульсирующий, трепещущий, как свет уже погасшей звезды.
— Какое странное древнее проклятье тяготеет над тобой? — спрашивал голос. — Сбрось маску. Сбрось ее.
Стелло покачал головой. Ему вдруг показалось, что бледная перламутровая луна растет, приближается, заслоняет собой все небо. Она склонилась над ним, и он разглядел на бледном лике тонкие, хищные губы, готовые схватить и пожрать его; он кинулся бежать по пустынным улицам, но ноги не слушались, и бледный перламутровый свет затопил все, не давая вздохнуть, — но подняв глаза к небу, он вновь увидел там неподвижную луну.
Странное спокойствие разлилось в нем, но плащ вдруг тревожно заколыхался.
— Нет, — выдохнул голос. — Нет! — и сейчас прозвучало в нем такое отчаянье, что Стелло понял, почему этот голос с самого начала показался ему женским.
Он закрыл глаза. Под сомкнутыми веками все еще плясали в темноте капли воды, окрашенные цветами семи лун. Он услышал тихое шуршание шелка и ощутил прикосновение плаща. И чего-то еще.
Быть может, рук.
Они легли на его лицо.
— Так надо, — тихо и ласково произнес голос и повторил: — Так надо.
Руки легко касались его, словно что-то искали, и вдруг он вскрикнул, а это что — то отделилось от его лица, скользнуло по щекам, по носу, по лбу и глазам и упало с легким шорохом и хрустнуло, словно наступили ногой на сухой лист; и тогда он вновь ощутил ночную прохладу.
Он знал, что фонтан окружен небольшим бассейном и что в тихую воду у его края можно посмотреться, как в зеркало.
Но еще не решался открыть глаза.
Франсис Карсак
Первая империя

На поляне неровным полукругом поднимались смахивающие на бараки строения из синтетических материалов: справа энергогенератор, потом помещение для роботов, склады, жилые модули, лаборатория, ангар для винтолетов. Еще дальше на фоне зарослей темнели развалины безымянного города. Камни громоздились друг на друга, образуя причудливые пирамиды, на вершинах которых росли деревья с узловатыми корнями, вцепившиеся в стены подобно осьминогам. Со времен гибели Города протекло столько веков, столько дождей отбарабанило по камню стен, по провалившимся крышам, зияющим окнам, столько нанесло мертвых листьев, медленно превращавшихся в перегной, что лишь изредка то тут, то там, удивляя правильными геометрическими формами, возникал силуэт еще не обрушившегося здания.
Поляна появилась тут недавно. На дальней от города стороне, вперемешку, разбросанные гигантскими челюстями машин, валялись огромные стволы столетних деревьев. Тихо шелестела на ветру их чуть пожелтелая листва.
В большом котловане, заваленном грудами камней, работали другие машины — куда менее грубые, чем те, что корчевали деревья. Длинные гибкие щупальца проникали под обломки, осторожно приподнимали их и укладывали в небольшие вагонетки. Скоро и эти роботы окажутся недостаточно тонкими, тогда их заменят люди, археологи. Здесь идут раскопки.
В лаборатории, за столом, заваленным бумагами и кусками ржавого железа, сидели трое: Ян Дюпон, археолог и глава экспедиции, лингвист Уилл Льюис и Стан Ковальски, инженер, который, легко касаясь клавиш пульта, управлял механизмами, расчищающими котлован. Не отрывая глаз от экрана, он спросил:
— Ну как?
— В седьмом секторе по-прежнему пусто. Я только что связывался с Астуриасом. Ничего для нас интересного. Как и прежде, лишь хроники жизни отдельных личностей: история какого-то там Доминика на французском языке. Нам это ни к чему. Она явно написана в догалактическую эпоху, там нет даже намека на самые простенькие межпланетные перелеты. Потом отрывки из истории, довольно грязной, об одной женщине по фамилии Бовари, тоже на французском. Ума не приложу, что предки находили в подобных хрониках. Мы-то, разумеется, можем получить из них какое-то представление о тогдашней жизни, но для самих предков это была современность. Я не настолько самонадеян, чтобы думать, будто они писали для будущих археологов. Представьте себе только, хроника жизни женщины по имени Скарлетт с невыносимым характером была обнаружена во фрагментах при раскопках в семидесяти одном месте и не меньше чем на семи языках — это очень помогло для расшифровки некоторых из них — и в результате за вычетом нескольких еще не найденных эпизодов мы сегодня знаем все об этом догалактическом существе. К счастью, хронист временами вводил сведения о тогдашней цивилизации и войне, о которой мы бы ничего иначе не узнали.
Лингвист недоуменно пожал плечами и продолжил:
— Однако ничего из того, что нас действительно интересует. Ничего со времени находки Ориса. Ты ведь помнишь, чуть больше века назад в развалинах Чикаго были обнаружены первые следы существования галактической империи — еще задолго до Адской Войны; тогда был найден фрагмент хроники о колонизации планет Бетельгейзе, всего три странички. Потом мы иногда натыкались и на другую информацию: обнаружили, например, ценнейшие фрагменты из трудов историка Азимова — вероятно, французского происхождения, так как он порой подписывался «Поль Француз», — упоминавшие о гибели планеты Флорина в результате космического катаклизма. Описание самой катастрофы, правда, отсутствует. В других фрагментах книги того же историка приводятся сведения о некоей Транторской империи. Еще один, по-видимому, более ранний историк, чье имя до нас не дошло, частично сохранил фольклор первых астронавтов и прежде всего прекрасную поэму о зеленых холмах Земли. Потом, с тех пор прошло уже тридцать лет, Орис при раскопках Фриско отыскал сто двадцать шесть фрагментов — и, к сожалению, ни одного полного текста, — которые неопровержимо доказывали, что человек достиг многих звезд и заселил все пригодные для жизни планеты. Один из этих отрывков рассказывал о начале Адской Войны, именно из него мы знаем, что в нее были вовлечены все миры, покоренные человеком. Если разрушения везде были такими катастрофическими, как здесь, неудивительно, что к нам никто не прилетал. Нам даже неизвестно, сколько веков прошло со времен войны. Веков… или скорее тысячелетий. Изотопный метод дал для разных образцов несовпадающие результаты: от двух до семнадцати тысяч лет. Иногда, глядя вечером на звезды, я думаю о наших утраченных братьях, замкнутых на далеких мирах — ведь должен же был кто-то выжить — думаю о том, почему наши находки не помогли нам выйти в космос: попадаются одни лишь невнятные намеки, которые наши ведущие физики считают сущей нелепицей, — и меня одолевают досада и сожаление, едва только вспомню о нашем потерянном достоянии, промотанном Предками из-за их страсти к убийству. Да, я понимаю, это почти богохульство, но мы, археологи, знакомые с их хрониками, судим более строго. Подумать только! Вся мощь, которая могла послужить добру, дать победу над природой, сведена на нет, растрачена понапрасну. Представь себе, Стан, межзвездный космический корабль! А мы еще не добрались даже до Марса! Восемнадцать веков, с тех пор как возобновился ход времен, мы с трудом взбираемся по ступенькам, уже высеченным нашими предками, и все еще далеки, ох как далеки от вершин, которых они достигли!..
— Твоя правда, — отозвался Уилл, — технически мы пока не стишком сильны, а вот в социальном отношении мы их превзошли: единый мир вместо древних наций, единый язык и ни следа столь труднообъяснимых для нас умственных отклонений, которыми переполнены их хроники. Эй, Стан!
Резким движением инженер ударил по клавише. Роботы замерли. В конце траншеи, под металлической стеной зияла дыра.
— Теперь наша очередь, Уилл. Хорошо бы Ван вернулся. Ты, Стан, останешься здесь и, если что, постарайся нас поскорее вызволить.
В касках, с инструментами в руках они направились к дыре. При свете фонарей дыра оказалась входом в полуразрушенную, перерезанную корнями деревьев галерею.
— Стан, медведку, — сказал в микрофон Ян.
Механизм приблизился. Шесть коротких металлических ножек — передняя пара для рытья почвы — поддерживали выпуклый панцирь. Медведка вползла в галерею, и сзади из множества отверстий ударили струи клейкой жидкости, которая тут же высыхала, образуя на сводах тонкую прочную корку. Следом осторожно двинулись люди. Через сотню метров галерея повернула, и они уперлись в металлическую дверь.
— В древности здесь была поверхность земли, — сказал Уилл.
— Да, но все же как глубоко! А дверь надо открыть.
Работа эта оказалась долгой и нелегкой. Дверь давно, в незапамятные времена, заперли и приварили к металлической раме. Ее удалось вскрыть только с помощью газового резака. Изнутри так пахнуло затхлостью, что археологи чуть не задохнулись. Дальше пришлось идти в респираторах.
Они ступили в прямоугольный зал со стенами из нержавеющего металла, свод которого поддерживали огромные каменные столбы. В центре стоял большой стол, тут же было несколько кресел, шкафы, а в углу на просторном диване покоились два человеческих скелета. Вошедшие инстинктивно поздоровались.
Ян, разбиравшийся в антропологии, осмотрел черепа.
— Раса белая. Молодые, должно быть, им не было и двадцати. Вероятно, в начале войны это помещение служило убежищем. Их завалило, когда обрушились дома, и они погибли от голода или недостатка воздуха. Галерея, по которой мы сюда пришли, скорее всего, запасной выход, но почему тогда его заперли? Увы, мы никогда этого не узнаем. Никак тут еще одна дверь!
Эта дверь вела в комнату поменьше. Луч фонаря выхватывал из небытия предмет за предметом. Вдруг Уилл вскрикнул: впереди до самого потолка громоздились полки с книгами. Он бросился к ним.
— Не трогай, несчастный! Они рассыплются! Тут без Вана не обойтись.
— Знаю. Но погляди! Тут их больше тысячи! О чем они нам расскажут? Может, о тайне межзвездного пути?
Осторожно, чтобы не создавать потоков воздуха, они подошли к полкам. На некоторых сохранившихся корешках были видны названия.
— Трактат по палеонтологии, — прочел Уилл. — На французском. Руководство по… Конца нет. На английском. Этот язык, по-видимому, был самым распространенным. Третье название стерлось, никак не разберу, но, судя по скоплению согласных, это какой-нибудь из славянских языков. Ах, черт!
Рукавом он задел тонкий журнал, лежавший плашмя на полке, и тот рассыпался в прах.
— Пойдем, Уилл, это не для нас. А то еще уничтожим самое замечательное археологическое открытие всех времен и народов. Когда Ван закрепит все эти книги, тебе на несколько лет будет развлечение их переводить.
— Да, ты прав, но, как я понял, это библиотека геолога или палеонтолога. Мы нашли первую научную библиотеку. И если нам удастся отыскать следы Великой Тайны, то только здесь. Думаю, тогдашние ученые, как и наши, не слишком замыкались в своей специальности!..
Когда они выбрались из галереи, уже темнело. Машины прекратили работу и стояли теперь в ангарах. Увидев своих коллег, Стан порывисто поднялся.
— Я уже начал волноваться. Прошло два часа, а от вас ни одного сообщения. Я трижды вызывал вас по радио и, хотя приборы не отметили ничего необычного, ходил вас искать.
— Мы были в металлическом зале, в древнем убежище, поэтому радио и молчало. Надо срочно вызвать Вана.
— Но его конгресс кончится только через два дня, ты же сам его отпустил…
— Вызови Вана немедленно! Я что, непонятно говорю? Мы нашли библиотеку.
— Мне сообщить в Центр?
— Не торопись. Я не уверен, что нам удастся спасти книги. Если не получится, пусть лучше об этом узнают только через месяц, когда мы уже получим кредиты.
Рано утром явился Ван — маленький желтый человечек, который управлял винтолетом с изяществом, с каким мастер выполняет тончайшую работу. Выбравшись из кабины, он сразу взялся за дело. Дело было весьма скрупулезное, а Ван, должно быть для солидности, еще и преувеличивал его неспешность и скрупулезность. Ван долго колебался, применять или нет новый, только что разработанный способ консервации, которому был посвящен конгресс, но, в конце концов, учитывая уникальность находки, остановился на старых способах, менее эффектных, зато проверенных. Одна за другой книги осторожно пропитывались консервантом, из хрупкого скопления молекул, рассыпающегося от малейшего толчка, они превращались в твердую массу. О том, чтобы их листать, речи пока не было, но, сохранив обложку, можно, по крайней мере, прочесть заглавие. Тут оказалось множество книг по геологии и палеонтологии, несколько трудов по истории — самый поздний 1998 года древней эры (а значит напечатанный гораздо раньше Адской Войны, отметил про себя Ян), одна или две книги по элементарной математике и, наконец, огромное количество хроник. Эти были в мягких переплетах и почти все без обложек.
Разочарование Яна росло по мере того как обработанные книги укладывались в стопки на столе лаборатории в ожидании вторичной обработки, после которой их можно будет открыть. Там, казалось, было достаточно всего, что могло долгие годы питать споры историков, но не нашлось ничего, приближавшего их цивилизацию ко времени, когда человек, устремившись по следам Предков, отыщет в межзвездных пространствах остатки своей Первой Империи.
Когда последняя книга увенчала груду на столе, Ван заявил, что завтра займется второй стадией реставрации.
Восторг, который вызвала у Яна находка, полностью улетучился. Непонятный атавизм сделал их цивилизацию такой мечтательной, такой неудовлетворенной… На этой скучной планете, которую обыкновенный самолет облетал всего за десять часов, человек мечтал о бесконечных пространствах за опостылевшими земными пределами, о радости открытий. Ах, порыться бы не в этих — в чужих развалинах, увидеть, как над незнакомым миром поднимается солнце — другое солнце! Узнать, какой человеческая цивилизация стала в иных мирах!.. Иногда он подолгу смотрел на далекие, недоступные пока звезды, мерцавшие в небе. А ведь когда-то человек преодолел эти бездны! Должна же среди затерянных обломков Империи найтись хотя бы одна планета не таких суровых правил, настроенная не так непримиримо, как Земля! Предки… Они были так велики, так ничтожны, так слабы! Земля, разоренная последней войной, едва могла прокормить несколько сотен миллионов своего населения. Еще вчера вечером радио объявило о новых мерах по ограничению рождаемости. Безуспешные поиски следов Первой Империи объяснялись не одной только научной любознательностью. Вынужденно мальтузианский мир и Вселенная с ее неограниченными возможностями так мало походили друг на друга. Чего же не хватало современным людям, чтобы разгадать Великую Тайну? Какое качество, которым некогда обладали Древние, утеряно? Может, безрассудство, неистовая вера в будущее человечества, которую подорвала последняя война?..
Ян вздохнул. Если он хотел сохранить за собой руководство раскопками и избежать обвинения в неосуществимости своих планов — наихудшего из всех возможных — ему не следовало высказывать подобных суждений.
Обработка была закончена. Книги открыли. Здесь нашлось и бесценное сокровище — большой английский словарь. Однако ни одна из книг не указывала человечеству дорогу к звездам.
Раскопки продолжались. Рапорт о находке составили и отослали в Центр. Вновь всех поглотила рутина. Новости по радио передавали невеселые. После мутации в зараженной радиацией зоне какая-то разновидность сорняка, которую ничем невозможно было вывести, заполонила все возделанные земли в Северной Америке. Следовало еще больше сократить рождаемость. Двадцать лет назад, после того как великий математик Тавернир доказал существование гиперпространства, подтвердив таким образом данные галактических хроник, Совет в порыве энтузиазма допустил на планете слишком интенсивное размножение. Однако с тех пор, напоминалось в правительственном сообщении, дела в этой области не продвинулись ни на шаг.
В тот день у археологов гостил Нильсон, друг детства Вана, молодой физик из команды Тавернира.
— Не понимаю, — хмыкнул Ян, — как это вам, физикам, не удается подобрать ключ к пространству. Если верить хроникам, — а нет никаких оснований им не верить, не станут же люди писать заведомую неправду! — свои межзвездные путешествия предки совершали сразу несколькими способами: через искривление пространства, с использованием ускоряющей передачи, через С-максимум. Разумеется, это могли быть разные названия одного и того же, но мне так не кажется. Во всяком случае, наша, хотя и скудная информация говорит об обратном. А все эти способы должны основываться на гиперпространстве.
— Да, мы знаем, что гиперпространство существует, и мой учитель, профессор Тавернир, это доказал. Но мы не представляем себе, как подступиться к этой проблеме. Я мог бы возразить, что не понимаю, почему это вам, археологам, не удается найти ни единой хроники, где были бы приведены технические подробности!
— Когда вы летите на своем винтолете, вы всякий раз думаете о принципе Уилсона — Сухигары, по которому работает двигатель?
— Так-то оно так… Но вернемся к гиперпространству. Я только что сказал, что мы понятия не имеем, как подступиться к проблеме, и немного слукавил. Недавно у нас с Альваресом появилась одна идея, слишком сложная с технической точки зрения, чтобы вам ее излагать…
— Премного благодарен.
— Да к тому же и времени не хватит. Мы задумали один очень важный эксперимент. И провели его три дня назад.
— Ну и что?
— Да ничего. Не получилось. Металлический брусок, который должен был исчезнуть, не исчез. Нельзя, правда, сказать, что неудача полная, мы обнаружили совершенно новое явление — ничего общего с ожидаемым. Так что кто знает…
Когда физик уехал, Ян направился к месту раскопок. Он обследовал, без особой надежды, один из разрушенных домов. Руины ушли глубоко под землю, дерево сгнило, железо обратилось в ржавчину. Однако когда уже начинало темнеть, он наткнулся на металлическую дверь. Вскрыв ее газовым резаком, он оказался в убежище, точно таком же, как первое. Книг в этот раз было мало, но на самом видном месте, на столе из нержавеющей стали лежал том, раскрытый на странице с картинкой, где человек в шлеме, сжимая в руке диковинный пистолет, отбивался от тучей наседавших на него чудовищ. Другие тома валялись в беспорядке на полу. На первой же обложке Ян смог разобрать: «As...Science...on». Несомненно, это был формат и эмблема одной из самых известных серийных хроник времен Первой Империи, которую редактировал историк Кемпбелл. Может, хотя и маловероятно, в этой груде найдется несколько полных и, может, хоть на этот раз хроникер не умолчал о технических деталях.
Ван с воодушевлением принялся за работу, не дожидаясь, когда рассветет. Первая книга сразу после реставрации перешла к Уиллу, который заперся ото всех и взялся за перевод.
Однако Уилл не пробыл взаперти и десяти минут!
Он вышел бледный, с так и не раскрытым томом в руке. Над рисунком, изображавшим астронавта в веретенообразном скафандре, стояло полное название на английском языке: «Блестящие образцы научной фантастики». Лингвист швырнул книгу на стол.
— Осторожно! Попортишь!
— Попорчу! Невелика беда! Ты знаешь, что такое фантастика?
— Вроде бы. На двух — трех мертвых языках, на английском и французском, например, фантастика означает «хроника». Помню фразу в одной из старых книг: «Освоение космоса, описанное в фантастических произведениях».
— Так вот, в первой партии книг был словарь и в нем я нашел настоящее значение слова «фантастика»: вымысел, придуманные истории!
Повисла тишина.
— Но тогда…
— Да, Ян. Мало того, что Предки разорили Землю, они еще и были лгунами! Лгунами, понимаешь? Не было Первой Империи, никогда не было, и люди никогда не покидали своей планеты!
— А как же следы на Луне?
— На Луне, ну может, на Марсе, но ведь это мертвые миры, на что они нам? — И Уилл с чувством подытожил: — Сволочи!
Ян бродил по лесу. Открытие не укладывалось в голове: целая цивилизация, построенная на лжи! Тем не менее, сомневаться не приходилось. Все эти хроники, как земные, так и галактические — сплошные выдумки и ложь. Как теперь полагаться хоть на что-то, связанное с Предками? На их историю, науки? Нет уж! Цивилизация, способная на такую ложь, вообще не заслуживала доверия. Цивилизация, прогнившая до мозга костей. Ничего удивительного, что Предки кончили кровавой оргией! Он вспомнил Первое Наставление, которое дети заучивают наизусть, едва достигнув сознательного возраста: «Есть вещь хуже воровства, хуже убийства — это ложь. Все, что не соответствует действительности, — ложь. Ложь — источник всякого зла. Мечтать дозволено, но нельзя выдавать свои мечты за реальность! Обстоятельная ложь, для правдоподобия напичканная подробностями, ложь без малейшего намека на то, что это — ложь, намека, который напомнил бы рассеянному читателю, что речь идет о вымысле («о фантастике» — пронеслось в его голове). Какая развращенность! Теперь и его собственные мечты и надежды человечества — все пошло коту под хвост. Столько труда, столько поисков, столько надежд — и только для того, чтобы добраться до простой истины: Предки, те самые, которыми они так восхищались, которым прощали разорение планеты, — всего лишь жалкие лгуны! Вероятно, правительство, — или правительства, раз книга выходили на нескольких языках, — безжалостные и тиранические, заставляли печатать эти лживые хроники, чтобы отвлечь своих подданных, влачивших жизнь в рабстве, от их бед. Должно быть, даже устраивались инсценировки запуска космических кораблей — под ликование обманутой толпы! У Яна мороз по коже прошел при мысли, какое впечатление это открытие произведет на других. Нет, нельзя допустить, чтобы все стало известно, надо скрыть правду, солгать. Солгать? Но ведь все зло происходит от лжи. Выхода не было.
Быстро опускалась ночь. На востоке у горизонта уже мерцали звезды. Ян бросил на них отчаянный взгляд. Прощайте, утраченные братья, братья, которых никогда не было! Завтра ему придется доложить правду на Высшем Совете Планеты…
Ужин прошел в мрачном молчании, только как обычно долдонило радио. Никто его не слушал. Снаружи веяло холодом. Луна, до смешного близкая, бесполезно торчала в небе, заливая желтым светом поляну. Вдруг по радио прозвучала барабанная дробь, всегда предварявшая важные новости. Ван машинально прибавил звук.
— Люди, сегодня великий день! Сегодня стали известны две новости первостепенной важности. Во-первых, экспедиция профессора Яна Дюпона обнаружила при раскопках полное собрание галактических хроник в хорошем состоянии…
В воздухе повисло молчание. Глава экспедиции обвел всех разгневанным взглядом. Стан опустил глаза и сдавленно произнес:
— Я решил, что надо сообщить…
Ян устало махнул рукой. Радио меж тем продолжало:
— Вторая новость, еще более важная, пришла к нам из Гандии, из лаборатории профессора Тавернира…
Все так и застыли.
— Сегодня утром в десять часов тридцать минут двум ученикам профессора Тавернира, докторам Альваресу и Нильсону, удалось переместить металлический куб в гиперпространство, а затем вернуть его обратно. Первый шаг по пути Предков сделан!
Было уже поздно. Поляну озаряло яркое пламя костра. Завернувшись в одеяла, четверо коллег-археологов глядели на небо. В ночи, прозрачной как хрусталь, совсем близко мерцали звезды; казалось, до них можно дотронуться рукой. Ян подумал вдруг, что надо быть снисходительнее к Предкам. Может, его предположение о жестоких правительствах, обманывающих народ, неверно? Может, эти хроники на самом деле отражали мечту? Мечту человечества, которое постоянно в пути… И он уставился на огонь; такой же огонь освещал лесную поляну перед входом в пещеры в те далекие времена, когда еще только Земля была той Вселенной, которую предстояло завоевать. Ян задумчиво прошептал:
— В конце концов, так даже лучше. Первой империей будем мы.
Мишель Демют
Ноктюрн для демонов

I
— Может, вы хотите вознаграждение? — глухо спросил Человек в Красном.
Материальные соображения, которым отдавали дань его подчиненные, казалось, были ему безразличны. Во всяком случае Лига Ночи не желала, чтобы ее руководителям что-нибудь мешало заниматься их основной обязанностью: отдачей высочайших распоряжений и вербовкой.
Сидя на краешке стола, Арглиде усталым взглядом обводил комнату. Подвальное помещение находилось в бедном квартале на севере города, где кишмя кишели иммигранты. Почему Лига, считавшаяся такой богатой, в некоторых случаях отказывалась брать на себя дополнительные расходы? Скромность тому причиной или денежные затруднения?
Человек в Красном, казалось, угадал его мысли.
— Вы вольны не отвечать на мои вопросы… но вознаграждение для новобранцев, как правило, вопрос важный. И не думайте, глядя на это жалкое обиталище, что Лига скупится. Она распоряжается большей частью состояний в этом мире и получает деньги из стран столь далеких, что мы не можем их себе представить.
Арглиде улыбнулся. Даже такие высокие начальники, как Человек в Красном, проявляют некоторое простодушие, пускаясь в восхваление несравненных достоинств своей Лиги. За их блестящими масками угадывались былые новобранцы, такие, как он сейчас. Люди, готовые убивать. Как он…
Но действительно ли он готов убивать?
— Так как насчет вознаграждения? — снова спросил Человек в Красном.
— Я достаточно богат, чтобы не утруждать себя работой ради денег, — тихо сказал Арглиде. — И вообще, я думаю, в Лигу вступают не для того, чтобы решать свои финансовые проблемы. Тогда уж лучше наняться убийцей к самому Всемогущему.
— Ну что ж, приятно слышать. Мало кто из новичков позволяет себе подобные рассуждения. Обычно боятся задеть нас, нарушить некое табу. Но разве основа Лиги — не свобода во всех ее проявлениях?
Как раз в этом Арглиде несколько сомневался. Однако довод, более чем убедительно подтверждающий справедливость его сомнений, он решил попридержать, потому что табу действительно существовало, что бы там ни говорил Человек в Красном.
— Возьмите. И никогда с ним не расставайтесь.
Арглиде поднял голову. Он долго ждал этой минуты и был теперь слегка удивлен тем, как неожиданно, почти застав его врасплох, это случилось.
Человек в Красном протягивал ему оружие — черный как смоль пистолет с необычно длинным стволом. Цветом он напоминал базальт, минерал, который добывали на местном секретном руднике.
Спусковой крючок был двойной, и Человек в Красном принялся бесцветным голосом объяснять, как тот действует. Наконец Арглиде засунул оружие в карман кителя, успев почувствовать, как пистолет холоден и тяжел.
— Документы, визы…
Арглиде взял все не глядя и твердо произнес:
— И что теперь?
Он надеялся, что Человек в Красном не примет ею за пустого хвастуна. Арглиде боялся лишь одного — уронить себя в глазах руководителей Лиги. Он отчаянно в них нуждался, нуждался слишком сильно, чтобы рисковать.
Человек в Красном прошелся взад-вперед по комнате. Арглиде сделал вид, что рассматривает карту городских подземелий, сверкавшую перед ним на стене.
Серый свет проникал сквозь узкое окно, выходившее, по всей вероятности, в какой-то лаз. За окном виднелись паутина, нечистоты и кучи отбросов. Отверстие в подземный мир, в глубокую ночь, где дремали демоны.
— Прежде всего мы ждем от вас доказательств, что вам можно доверять, — процедил Человек в Красном.
Арглтиде услышал стук собственного сердца. Он клял про себя медлительность, с которой Человек в Красном излагал ему вещи, обещавшие много интересного.
— Демон, — неожиданно бросил Человек в Красном. И обернулся.
Его глаза за маской безжалостно пронзали собеседника, который лишь два — три часа назад впервые соприкоснулся с Лигой.
Подумав было, что тот шутит, Арглиде улыбнулся, но тут же понял свою ошибку и пожал плечами.
— Демон? — повторил он. — Почему демон?
Человек в Красном усмехнулся.
— Демонов нужно убивать, Арглиде, это знали во все времена, не так ли?
Арглиде согласно кивнул.
— Вы должны будете, — продолжал Человек в Красном, — отыскать демона, убить его и объявить об этом во всеуслышание.
Арглиде покачал головой.
— Боитесь? — спросил Человек в Красном. Голос его посуровел.
— Я боюсь не самого поручения, а того, что за ним последует. Что станет со мной, когда я объявлю, что убил демона? Никто не имеет права делать это самочинно. Кроме того, убийство демона предполагает, что у убийцы, или пусть даже у героя, есть оружие. А Всемогущий запретил владеть оружием на всей территории…
Человек в Красном махнул рукой с драгоценными кольцами на длинных пальцах.
— Детские сказки, Арглиде. Лига Ночи никогда не допускала подобных шуток над своими членами и исполнителями. Теперь мы связаны друг с другом душой и телом. Выполнив поручение, вы поселитесь в покоях Лиги, и мы обговорим следующее задание. Всемогущий для нас ничто… Чем скорее вы это усвоите, тем лучше!
Арглиде пожал плечами.
— Я прожил под его властью двадцать лет, — сказал он, — и даже здесь, у вас, я все равно под его властью. Вам не кажется, что вы требуете от меня слишком много?
Человек в Красном не удостоил его ответом. Он повернулся к стене, увешанной древними медными блюдами и щипцами непонятного предназначения. Повелительный жест — и дверь открылась. Старик в неимоверно засаленном халате поклонился с каменным выражением на лице.
— Морена, выведешь его наружу. Если удастся, то поближе к Замку.
— Постойте, — сказал Арглиде, — а где же я найду демона?
— Там их тысячи.
— Вы хотите сказать, в Замке?
— Да, рядом со Всемогущим и его ненаглядной дочкой. Там ключ к разгадке всей нашей борьбы. Иди, Бенжад Арглиде, и не сомневайся ни в чем. Ты избран для исключительной миссии, ибо ты сам личность исключительная.
Несмотря на все усилия сохранить невозмутимость, Арглиде содрогнулся. Несколько театрально Человек в Красном протянул ему руку.
Арглиде повернулся и последовал за стариком по имени Морена через бесконечный ряд мрачных комнатушек. Демоны, казалось, обитали уже здесь.
II
В этом бедном квартале никогда не было Окна, и ютившимся там людям приходилось каждое утро преодолевать большое расстояние от своего рынка до одного из условленных мест, где они могли прикупить замечательные товары, поступавшие через чужие Окна. Морена непонятно зачем посадил Арглиде в странного вида лифт, пропахший съестным, который доставил его на поверхность довольно далеко от Замка.
Арглиде решил поначалу, что пожалуется Человеку в Красном, но потом вспомнил, как тот, давая старику распоряжения, добавил «если удастся». Арглиде теперь ничего не оставалось, как пробираться между рядами разноцветных повозок, на которых привозили товары.
Без своего Окна квартал обрекался на темноту, ночь неведения, бедности, нужды, далекую от чудес и открытий.
Всемогущий тщательно поддерживал такое положение вещей. Он позволял разрастаться этим сорнякам, устраивал свалку, куда низвергал потом тех, кого боялся, ненавидел или презирал. Вероятно, так поступали все диктаторы во все времена. Как бы то ни было, именно здесь, в бедных кварталах Города, медленно умирали его враги, могущественные и безвестные.
Под страхом смерти они не могли выйти отсюда. За пределами этих джунглей их поджидали несущие гибель псы Всемогущего, а то и милые приятели его доченьки…
Квартал без Окна освещался только местным солнцем, сюда не проникало сияние других миров. Квартал, где не было ни утра, ни сумерек, где вечно праздные существа давно потеряли свои лица, ничем по сути не отличаясь друг от друга.
Выбравшись из лабиринта повозок, Арглиде спустился по узкой улочке. Высоко над его головой смыкались крыши. Причудливые изваяния демонов служили либо водостоками, либо подставками для сушки белья. Бесчисленные лавочки теснились в мрачных нишах — изредка с освещенной комнатой, откуда доносились крики предназначенных для продажи зверей, чьи души, без сомнения, были не так черны, как души их хозяев.
И никакой стражи на улочках, ни единого солдата.
Здесь были женщины, сидевшие на деревянных фаллосах, изрезанных непристойными надписями, ужасно грязные дети, со злобными воплями гонявшиеся друг за другом, юноши с вкрадчивыми манерами, вшивые и чувствительные, с лакейской угодливостью и певучими интонациями в голосе.
Улочка тем временем вывела его, судя по всему, к центральному шоссе. Квартал бедных тут заканчивался — сюда забредали лишь те, кто чувствовал в себе достаточно смелости, или те, кого Всемогущий оставил своей ненавистью, хотя такого почти никогда не случалось.
В лавках здесь царила не ночь, но сумерки, и женщины с молодыми, без единой морщинки лицами, выглядели опрятно. Здесь можно было увидеть серебристые шлемы, а у некоторых за спиной на ремне — даже оружие.
Два-три раза за день тут проезжали правительственные автомобили с опущенными занавесками, и в настороженной тишине долго потом слышалось шуршание их колес.
Выйдя на шоссе, Арглиде поднял голову, чтобы взглянуть наконец на открывшееся небо, и в этот самый момент появилась машина. Водитель в серебристо-белой ливрее — цвета́ Всемогущего — дал газу и тяжелый лимузин стремительно рванулся к Арглиде.
Сзади вскрикнула женщина. Он обернулся и едва успел отскочить. Машина с оглушительным ревом пронеслась мимо и, не сбавляя скорости, умчалась прочь.
Арглиде поднялся, не в силах опомниться от страха и удивления, хотя и чувствовал успокаивающую тяжесть оружия, врученного ему от имени Лиги.
Машина просто не способна совершить аварию. Водитель в ней лишь для торжественности. На самом деле его дублирует электронная система управления, настоящее чудо техники.
Невозможно, чтобы сама машина задумала его задавить. Если только водитель, прибавив скорость, отключил автоматику…
Арглиде вернулся на тротуар. Мысли его путались.
Тут он заметил крикнувшую женщину. Она глядела, как он приближается, все еще бледная, с приоткрытым от страха ртом. На ней было черное с белым узором кимоно, каких не носят женщины бедных кварталов. Конечно же, она пришла из того мира, который начинался по другую сторону шоссе.
— Спасибо, — сказал Арглиде, — если бы не вы, он бы меня задавил.
— Ведь он нарочно? Он сознательно пытался вас убить?
Женщина все не могла унять дрожь. Ее голос дрожал.
Пестрая толпа вокруг них разочарованно расползлась. Рядом с длинным пьяным парнем, катавшимся по тротуару, плакал ребенок.
— Не знаю, как вас благодарить, — сказал Арглиде.
Ему было неловко. Девушка, по-видимому, приняла случившееся слишком близко к сердцу, а он не желал ничьей помощи. Уж очень многое ему надо было сделать и обдумать, чтобы разобраться в этой истории.
— Благодарить не надо, я лишь хочу вам помочь. Ведь вы из Лиги Ночи?
Он коснулся ее плеча. После ледяного ужаса оно показалось Арглиде мягким и нежным.
— Как бы вас ни звали и кем бы вы ни были, — произнес он, — я ничего не скажу вам об этом. Или вам хочется, чтобы машина переехала вас?
Девушка улыбнулась.
— Я не столь важная персона, чтобы Всемогущий так скоро и с такой жестокостью переключился на меня. Вы же, думаю, лицо влиятельное, раз он воспользовался экипажем Эскорта Дам.
— Послушайте, — сказал Арглиде, нахмурившись, — вы случайно не знаете, где бы мы могли побеседовать более обстоятельно? Мне сдается, вы в курсе многих вещей, которые мне неизвестны…
Она вдруг ласково, но твердо взяла его за руку. Улыбка не сходила с ее губ.
— Здесь рядом лавка Макхонта, человека, который торгует снами возле Окон…
Имя и странное занятие хозяина лавки ничего не говорили Арглиде. Все еще сомневаясь, он последовал за девушкой. Внезапно его осенило: ведь она сможет без дальних слов провести его к Замку. А там он отыщет демона.
Снаружи вся лавка вспыхивала и переливалась, как облако разноцветных огней, и, входя, Арглиде отметил про себя, что в ней ужасно жарко, душно и сыро. Он обвел взглядом пространство между белыми колоннами, ожидая увидеть папоротники и ядовитые грибы, однако увидел лишь тяжелый ярко-красный ковер, скрадывавший звук шагов. В лавке царила тишина.
— Добро пожаловать… здравствуйте, мадемуазель Тома́.
Сутулый массивный человек протягивал ему пухлую, блестящую от пота ладонь. Имя спутницы поразило Арглиде. Тома были влиятельным семейством и поговаривали, будто Всемогущий доверил его главе немало тайн.
— Я действительно Иоль Тома, — прошептала девушка ему на ухо.
Притупившееся было недоверие Арглиде тут же вспыхнуло снова. Девушка обаятельна, но ее происхождение заставляло держаться настороже.
Он лишь склонил голову.
— Тогда не понимаю, мадемуазель, что побудило вас заинтересоваться моей скромной персоной.
Ноль рассмеялась беззвучно и нервно.
— Пойдемте за Макхонтом, я вам все объясню. Как бы то ни было, в его лавке много любопытного.
Они прошли за полупрозрачные портьеры — два мерцающих силовых поля — и очутились в гораздо более просторном зале. Потолок, к которому Арглиде поднял глаза, был неестественно высок. Ему пришло в голову, что дело тут в каком-то оптическом ухищрении, ведь само здание, как и все вокруг, выглядело приземистым.
— Окна там, сзади, — протянула нежную руку Поль.
Арглиде сперва не обратил на них внимания. Теперь, однако, он различал очертания прибора. Почти невидимый за тяжелыми занавесями, прихотливо изукрашенный, он позволял лишь догадываться о своих магических свойствах, но этого было достаточно, чтобы соблазнить возможного покупателя.
Макхонт обернулся, с лукавой усмешкой следя за Арглиде.
— Вы удивлены? Вы в первый раз слышите, что Окна можно использовать не только для доставки товаров? — Пройдя чуть вперед, он продолжил: — Я торгую снами, по крайней мере, так их называют мои покупатели, но вам, как и мне, известно, что Окна, изобретенные при Халифате три столетия назад, сообщаются с другими мирами благодаря искривлению пространства…
Арглиде неопределенно пожал плечами.
— Ну так вот, я лишь отправляю покупателя в эти миры, предварительно должным образом его защитив и подготовив… Попробовать не желаете?
Арглиде помрачнел. Он все больше и больше ожесточался.
— Нет, благодарю вас, я пока предпочитаю реальность. Реальность Замка, например…
Макхонт молча поклонился.
— Не могли бы вы оставить нас одних? — попросила Иоль Тома.
Макхонт так же молча вышел, однако от Арглиде не ускользнуло, с каким почтением обратилась к нему девушка. Не говорило ли это о тайном могуществе торговца снами?
У него было много вопросов, но все они, кажется, не имели никакого отношения к поискам демона.
— А теперь ответьте, — услышал он голос мадемуазель Тома, — какое поручение дала вам Лига Ночи.
От неожиданности он отступил на пару шагов, спрашивая себя, уж не шутит ли девушка.
— Это невозможно! Это касается только меня и…
— Забудьте, что мое семейство близко к Всемогущему. Я уже говорила, что знаю много такого, что может сослужить вам хорошую службу. Например, машина, которая собиралась вас задавить, принадлежит Эскорту Дам. Ее водитель, некто…
Он ждал, что девушка назовет имя, но та замолчала и улыбнулась.
— Вы хотите, чтобы я вот так взяла и рассказала вам все, ни о чем с вами прежде не договорившись?
Он пожал плечами и сделал вид, что уходит.
— Постойте! Куда вы?
— Пойду выполнять свою работу, мадемуазель.
— По наивности вы и не догадываетесь, что отправляя своих агентов на подобную авантюру, Лига Ночи посылает их на верную гибель. Ума не приложу, зачем она это делает, но это так. Ни разу еще Лига Ночи не достигала своей цели, ни разу!
— А почему я должен вам верить? Может, вас нанял Всемогущий?
— Будь это так, Бенжад Арглиде, я бы давно вас уничтожила.
Иоль говорила медленно, ледяным тоном. Он обернулся. Откуда ей известно его имя? Как далеко простирается ее власть?
— И только потому, что вы знаете, кто я и что мне угрожает опасность, вы находите возможным претендовать на мою откровенность?
Она наклонила очаровательную головку.
— А вы полагаете, этого недостаточно?
— Недостаточно! Я хочу знать, кто вы такая, Иоль Тома, и чего добиваетесь, вмешиваясь в мои дела.
— Ладно, я скажу…
В этот момент из соседнего зала донесся звук шагов. Девушка побледнела.
— Скорей, — вскрикнула она. — Они уже тут!
— Кто они?
— Ваши враги… Вы не такая важная птица, чтобы их знать, а я…
Но было уже поздно. Внезапно вынырнувший из-за портьеры Макхонт рухнул, поверженный ударом кулака. Пятеро стражников в серебристых мундирах с оружием в руках вошли в комнату.
Арглиде успел выхватить свой необычный пистолет, полученный им от Лиги, и, несколько раз выстрелив, бросился к Окну. Кто-то из стражников, выронив оружие, упал.
Оставался один-единственный выход, и Арглиде им воспользовался. Прыгая в самое жерло ада, он еще услышал голос Иоль Тома:
— К замку, Бенжад!..
III
«К Замку!.. — звучало в его мозгу. — К Замку!..» Но звучало как бы помимо его сознания, звучало как приказ, но все глуше и глуше.
Теперь не осталось никаких точек отсчета. Исчез Город, растаяли стражники Всемогущего. Единственной реальностью расстилающегося перед ним, такого близкого мира была багряная тишина.
И жара, как в оранжерее. Арглиде скользил взглядом по сторонам, щурясь от слепящих бликов. Что же до солнца, висевшего в зените, Арглиде и не пытался всматриваться в его оттенки. Во всяком случае, оно казалось огромным.
Скалы причудливо-алого цвета, напоминавшие груды застывшего мяса, вздымались из розово-оранжевой саванны.
Вскоре, однако, Арглиде засомневался, действительно ли под его ногами трава: стебли были слишком жесткие, слишком блестящие, выпрямляясь, они звенели, и звон отзывался эхом.
— Вот я и добрался до тех краев, которые Колзид упомянул в одной из своих баллад, — сказал себе Арглиде.
Это открытие потрясло его. Выходит, Колзид искал вдохновения для своего чудесного искусства в таких местах, как лавка Макхонта!
Колышется луг железный,
И память об облаках
На пастбищах музыкальных
Живее в моих стихах
Он сделал еще несколько шагов, и стебли зазвенели, запели — единственный звук в мире, словно устланном розовой ватой. Железный луг, музыкальные пастбища…
Куда теперь идти? Он спасся от стражников Всемогущего, воспользовавшись единственным путем к бегству, но город и Лига Ночи теперь так далеки, что возвращение кажется невозможным.
Однако Ноль Тома прокричала: «К Замку!»
Значит, ему предстоит разобраться в окружающей местности, исходя из мясистых скал и музыкальной саванны.
К Замку ведут большие Окна, приносящие Всемогущему неисчислимые богатства. Должно же это как-то соотноситься с миром, в котором он оказался. Ему нужно только идти, не останавливаясь, и не поддаваться сомнениям. Рано или поздно он окажется у Замка и тогда его уже ничто не остановит.
Арглиде оглянулся. Окно, через которое он проник в багряный мир, было теперь едва различимо, но за ним на громадном расстоянии отсюда Арглиде поджидали стражники. Если только они не решили отправиться за ним вдогонку. Арглиде покачал головой: нет, они всего лишь наемники и вряд ли горят желанием рисковать своей шкурой.
Арглиде начал осторожно, никуда не сворачивая, удаляться от места, где, как он предполагал, проходила линия разлома пространства.
Скоро он перестал обращать внимание на позвякивание стеблей. Земля под его ногами была сухая и твердая. Он подошел к одной из розовых скал, протянул руку. Скала оказалась теплой и… Арглиде отшатнулся. Скала не была твердой — и, похоже, была вовсе не скалой.
Что там у Колзида после музыкальных пастбищ? Арглиде напряг память. Наверняка Колзид что-то говорил по этому поводу. Так что там дальше?
Какая-то перемена в небе прервала его размышления. Почти мгновенно стемнело. Нависли сумерки. Арглиде поднес к глазам ладонь, чтобы лучше видеть. Одна или две луны проплывали перед солнцем, и наползавшая тьма была их тенью. Затмение не должно продолжаться долго.
Почва под ним затряслась. Чтобы удержаться на ногах, Арглиде ухватился было за алую скалу, но скала исчезла, и он растянулся во весь рост. Но тут же с бьющимся сердцем вскочил на ноги. Земля ли удалилась от странной красной скалы? Или скала двигалась… сама по себе?
Когда новый толчок потряс землю, Арглиде бросился бежать. Краем глаза он смутно различил еще один скалистый островок, который… Но это могло ему померещиться, ведь он сам бежал что было сил.
Снова вспыхнул яркий свет, но Арглиде остановился только когда все успокоилось и земля перестала вздрагивать.
И только тут он заметил человеческие силуэты. Трое в коричневых комбинезонах рабочих Замка старательно укладывали какие-то ящики на странную платформу из белого металла.
Арглиде присел. Прошло немного времени, и платформа сама собой исчезла, словно растворилась в воздухе.
Рабочие остались. Казалось, они дожидались, когда можно будет продолжить работу, и не обращали ни малейшего внимания на странности вокруг.
«Пока они не уберутся, — решил Арглиде, — я не двинусь с места».
Это Окно должно было выходить к окрестностям Замка. А, может, и в сам Замок. Нужно будет действовать быстро, не мешкая, раз уж он здесь очутился.
Внезапно Арглиде понял — уже одно его появление в багряном мире означало, что он вовлечен в опасную цепь событий. Прежде всего будущих.
Он улегся среди музыкальных стеблей и закрыл глаза.
Человек в Красном приказал ему убить демона. Давал ли он раньше подобное задание хоть одному новобранцу Лиги?
И как демоны могли оказаться в Замке? Как Всемогущий, тщательно оберегаемый от всякой опасности, терпел такое соседство, самое худшее из всех?
Арглиде вспомнил о девушке. Ноль была из знатной семьи, близкой к Всемогущему, и, по-видимому, знала немало интересного, — например, что все поползновения Лиги заканчивались неудачей…
«Невозможно, — думал он. — Никак невозможно! Лига Ночи — единственная организация, которой когда-либо удавалось внушить ужас Всемогущему и заставить его действовать. Но зачем тогда отдавать приказ убрать человека, у которого нет никаких шансов выполнить задание?»
Может, именно потому, что он должен убить демона? Может, Всемогущий покровительствует демонам?
«Нет, Создатели Душ не были благодетелями, — подумал Арглиде. — Создав демонов, они отобрали у человечества искру, что привело к худшей из тираний».
Арглиде внезапно осознал, что все вокруг стало другим. Багровое небо угрожающе нависло над ним, будто придавливая к земле. Арглиде казалось, что его захлестывают волны черноты, а красные пятна напоминали сгустки крови. Мало того, ветер, такой холодный, клонил стебли, заставляя приглушенно звенеть всю саванну.
Он поднялся. Рабочих в коричневых комбинезонах уже не было. Осталась лишь платформа, тревожной тенью выделявшаяся в чужом сумеречном мире.
Оглядевшись по сторонам, Арглиде попытался определить, почему его вдруг охватила такая тревога. Разумеется, пейзаж, необычный и днем, с появлением тени, темно-красных призрачных огней, все больше напоминал ночной кошмар. Но разве только этим можно было объяснить… скажем, внезапное исчезновение людей, наполнявших ящики для Замка чем-то таинственным? Они бросили работу. Почему?
Дни и ночи в этом мире и на Земле не очень-то совпадали друг с другом. В Городе еще должно быть светло.
Арглиде осторожно подошел к платформе. Он остановился лишь когда решил, что находится метрах в трех от невидимого Окна. Невидимого? Но на земле отпечатки следов пропадали в каком — то метре перед ним.
Он наклонился, поднял черный камушек и бросил. Камень тут же исчез, канув в пространственный разлом.
«Теперь моя очередь», — подумал Арглиде и шагнул было вперед, но тут же упал навзничь, потому что землю снова затрясло, как во время затмения солнца.
В этот раз все, казалось, было серьезней. Арглиде попытался двигаться ползком. Во что бы то ни стало следовало убраться из этого опасного места. Даже перспектива вновь оказаться перед стражниками не представлялась ему сейчас такой ужасной.
Глубоко под ним ухнул настоящий взрыв. Саванна, в которую Арглиде угодил из лавки Макхонта, казалось, судорожно сжалась и вскинулась к мрачному небу, потянувшись, словно ласкающееся животное.
«Вот оно, то самое», — подумал Арглиде. И неожиданно вспомнил продолжение поэмы Колзида:
На пастбищах музыкальных
Под дикими небесами
Поющее нежно руно
Страшнейшего из зверей
Которого мир кровавый
Не видел прекрасней и злей
Прекрасный зверь Колзида явно подрос за это время. Может, он был теперь столь велик, что Арглиде по сию пору находился на нем?
Эта мысль так его поразила, так ужаснула, что он опрометью кинулся к Окну.
От мгновенного головокружения его затошнило.
Он очнулся лежащим на теплой скрипучей поверхности. И сразу ее узнал: внушительная скирда травы, которую он видел в саванне. Или, скорее, — шерсти гигантского зверя, обитавшего в багряном мире.
Арглиде резко вскочил и нырнул во тьму.
Он вернулся в Город и, похоже, попал на склад, где рабочие в коричневой одежде хранили дневной урожай.
Но какая польза от музыкальных стеблей?
Впрочем, куда более важным для Арглиде было то, что он добрался, пусть с некоторым опозданием, до внутренних помещений Замка.
Человек в Красном не разочаруется в нем.
IV
Как Арглиде и предполагал, солнце еще стояло над Городом. В углу странного склада со стенами из холодного камня виднелось стрельчатое окно, похожее на окна Замка. Арглиде на секунду выглянул наружу. Бесконечные ряды гладких крыш, отражавших прозрачное, с прожилками желтизны небо, оказывали почти гипнотическое действие.
Довольно далеко он увидел шоссе, огибавшее бедный квартал. Где-то там осталась лавка Макхонта. Арглиде решил, что в багряном мире он не мог проделать такого длинного пути. Ничего удивительного, если расстояния в двух мирах совпадают не больше, чем течение времени.
Отойдя от окна, Арглиде заметил щит со множеством переключателей. Никаких указаний, как им пользоваться, не было, но он рискнул попробовать. После второй попытки щит с глухим скрежетом съехал в сторону. Коридор за ним, освещенный голубым светом, уводил вглубь Замка.
Поначалу Арглиде не понял, действительно ли он слышит музыку, или так отзывается в его мозгу далекий уличный гул, шум и крики толпы.
Ему казалось, он идет целую вечность. И хотя Арглиде, как любой житель Города, знал, сколь огромен Замок, ему стало не по себе. Впрочем, на пути так никто и не встретился. Иногда, правда, Арглиде прятался, заслышав чей-то голос за стеной или за дверью. Но где роботы-слуги Всемогущего и где стражники, которые должны тут кишмя кишеть?
И потом… эта музыка. Пока еще далекая, порой как бы подернутая дымкой. Напоминавшая мерцание звезд, — она то катилась волнами, то вдруг рассыпалась искрами.
Арглиде шел по узкому коридору, пол которого был устлан черным и белым мехом. Выступавшие из стен металлические статуи держали в руках факелы, сиявшие ослепительным светом.
«Куда же я иду? — подумал он. — И что буду делать, если наткнусь на кого-нибудь? Наткнусь прямо сейчас? Разве можно отыскать демона среди этой роскоши, где нет места страданию?»
Словно отвечая его мыслям, музыка, зовущая и нежная, звучала все громче. Никогда он не слышал ничего подобного. Музыка влекла к себе душу, как женщина влечет к себе мужчину.
Вдруг справа Арглиде увидел неплотно прикрытую дверь, из-за которой просачивался мягкий золотистый свет, не такой яркий, как в коридоре. Рассеянным движением проверив, на месте ли оружие, Арглиде осторожно толкнул дверь. Та бесшумно поддалась, открывая его взору удивительное зрелище.
Бледная девушка с ярко-рыжими волосами сидела за невысоким музыкальным инструментом, где вместо клавишей и струн были стебли травы из багряного мира — руно диковинного гигантского зверя.
Девушка повернулась к Арглиде, и музыка смолкла. Но он только тихо вошел и остановился на пороге, затаив дыхание и сожалея, что она перестала касаться пальцами хрустальных стеблей.
— Вам нравится эта музыка? — спросила она.
Губы у нее были бледные, бледные и пухлые, вопрос же больше походил на утверждение.
Арглиде кивнул. В глубине души он растерялся, но в нем снова заговорил дух противоречия. Он никак не должен оставаться здесь, в сердце Замка, где в любую минуту может появиться стража…
— Вы первый, — вздохнула девушка.
Арглиде не понял, что она хотела сказать, и шагнул вперед. К нему вдруг вернулось спокойствие. «Не лучше ли сунуть под нос этому нежному созданию оружие, прежде чем оно поднимет на ноги весь замок?» — спросил себя Арглиде. Хотя, может, он уже опоздал.
— Как… как называется эта музыка? — вымолвил он и сам удивился, что задает такой вопрос в таком месте.
— Первый ноктюрн для демонов… Я его сочинила год назад.
Слово «демоны» тут же вернуло Арглиде к действительности. Однако, как ни странно, длинноствольный пистолет не произвел никакого впечатления на юную музыкантшу.
— Знали бы вы, кто я такой, — тихо сказал Арглиде, — Впрочем, мне ни к чему больше скрываться.
— Я знаю, кто вы, а вот вы, мне кажется, заблуждаетесь на свой счет. Или я не права?
Он покачал головой.
— Вы хотите меня перехитрить, мадемуазель, а это нехорошо. Поиграйте еще…
Чуть помедлив, она тронула стебли, которые, задрожав, испустили несколько пронзительных нот. Эта новая мелодия ничем не напоминала те странные звуки, которые влекли сюда Арглиде.
— Мне очень жаль, — решился он, — но мне придется вас обезвредить… на некоторое время.
Она словно не расслышала и продолжала глядеть на него с улыбкой. Белизной прекрасного лица она напоминала древнюю статую.
Арглиде снял пистолет с предохранителя и медленно поднял.
— Знаете, я и сама боюсь, что сюда кто-нибудь придет…
Он опустил оружие.
— Меня ведь наказали, как маленькую. Со своими отец так же суров, как со всеми остальными.
Слова девушки не сразу дошли до него.
— Что? — переспросил он.
— Мой отец — Марвич Всемогущий. Вы разве не знали?
Арглиде покачал головой.
— …А мне здесь еще два дня коротать. Но когда меня простят, я про вас никому не скажу. Впрочем, вас все равно к тому времени убьют…
Тошнота подступила к горлу, его охватила злоба и, отшатнувшись к двери, он выкрикнул:
— С меня хватит. Слышите, с меня хватит!
Девушка снова заиграла, теперь какую-то легкую пьеску.
«Хорошо, что не ту… другую», — с облегчением подумал Арглиде.
Он буквально выскочил за дверь и бросился прочь по коридору, по густому меху, в котором тонул звук его шагов.
Нет, нельзя оставаться в этой части Замка. Демоны, если они и правда обитают по соседству с Всемогущим, должны быть не здесь. Скорее уж где-нибудь внизу, в самом аду.
Роскошные лестницы с черными мраморными ступенями и кабины лифтов с инкрустированными цифрами, казалось, поджидали его. Цифры соответствуют разным этажам, сразу догадался Арглиде.
Он выбрал кабину с номером 185. Спуск длился целую вечность. Кабина лифта проплывала мимо этажей, по-своему расцвечиваясь на каждом. Крепко сжимая золоченые прутья, Арглиде думал, что нарушает сейчас уйму всяких запретов. Перед ним мелькали комнаты для свиданий, помещения дворцового гарема, совершенно унылого вида зал суда, зал казней. В какой-то миг ему вроде привиделась высокая фигура в одеянии всех цветов радуги… Но Замок слыл шкатулкой миражей, и Всемогущий обожал выставлять повсюду собственные изображения. Кажущаяся вездесущность создавала у него иллюзию неуязвимости.
Арглиде спустился много ниже уровня земли. На одних этажах царило явное запустение, на других до потолка громоздились архивы, куда не отказались бы заглянуть многочисленные недруги Всемогущего.
Лига Ночи, однако, интересовалась не архивами.
Кабина остановилась, и Арглиде вышел в холодный коридор, где из стен сочилась вода. Даже свет здесь был тусклым. В этом огромном здании жизнь, похоже, поддерживалась лишь местами; проходило время, и его обитатели перебирались в другие комнаты.
Здесь Всемогущий вполне мог устроить тюрьмы и засадить туда тех своих приближенных, кого считал недостаточно правоверными. Но, дойдя до конца коридора, Арглиде вдруг обнаружил, что в этом подземелье, в этой преисподней кто-то есть.
Он едва успел броситься наземь, заметив отсвет выстрела на влажной стене. Перекатившись по полу, он два раза выстрелил не целясь. Его противник рухнул вниз. Подойдя к нему, Арглиде увидел, что оба выстрела угодили человеку в грудь и почти сожгли его.
— Оставьте… Вообще-то он был негодяем…
Арглиде вздрогнул и обернулся, ожидая увидеть нового врага, но перед ним стоял безоружный старик, который только задумчиво качал головой, глядя на скрюченное тело.
— Но почему он в меня выстрелил? — спросил Арглиде.
— Просто заметил незнакомого… Гледор всегда был убийцей.
— А вы… кто вы?
— Я Колзид.
Арглиде так и подскочил, но старик жестом остановил его.
— Нет, не думайте, я не тот великий Колзид, что был поэтом. Я его сын, всего-навсего сын. Но послушайте, могу ли и я кое о чем вас спросить?
Отступив на шаг, Арглиде прислонился к стене.
— Я готов убить любого, кто помешает мне выполнить задание, — проворчал он, — Меня не остановит даже ваш возраст, Колзид.
Старик успокаивающе поднял ладонь.
— У всех у нас одно задание, — сказал он, — по крайней мере, было одно.
— Что вы хотите сказать?
Рука старика легла Арглиде на плечо.
— Пойдемте со мною и успокойтесь. Сейчас вам откроются вещи, которые едва ли оставят вас равнодушным.
Заинтригованный, но по-прежнему настороженный, Арглиде двинулся за стариком.
Что же на самом деле творилось в недрах Замка? Что означал этот лабиринт сырых коридоров, где вас подстерегают с единственным желанием убить? А демоны, о которых говорил Человек в Красном? Где они затаились?
Арглиде не успел додумать — его провожатый вышел из коридора, и они оказались под переливающимися сводами. Сверху или из ниоткуда проникали разноцветные полосы света, которые терялись в странном красно-буром пятне, отливающем золотом.
— Постойте, — вскричал Арглиде. — Что это?
— Идемте, идемте. Это всего лишь силовое поле — вам ли не знать?
Голос Колзида звучал теперь властно и строго, и его длинная сальная рука вцепилась в Арглиде. Тот нехотя вступил в круг света и не почувствовал ничего особенного, разве что стало чуть теплее — это было даже приятно. Дальше открывалась зала — просторная, с необычайно низким потолком, заставленная одними креслами. Десятками и десятками кресел самой разной формы. И в креслах, почти во всех — мужчины и женщины — неподвижно, молча взиравшие на вошедших. Арглиде забеспокоился и потянулся за оружием.
— Спокойней, — шепнул ему прямо в ухо Колзид. — Это такие же люди, как и вы, — ваши будущие братья, помогающие созидать мир.
Только теперь с легким смущением — ведь ему понадобилось так много времени, чтобы прийти к верному выводу, — Арглиде подумал, что его заманили в ловушку. И захотел убежать. Однако их взгляды, направленные на него, а теперь и в него, навсегда пригвоздили его к месту. И Арглиде медленно провалится в ночь.
V
— Бенжад Арглиде! Бенжад Арглиде!
Он вынырнул из сумрачного небытия, рядом с которым ночь была ничем, — из небытия, где не испытал ни боли, ни радости, но теперь он чувствовал себя отдохнувшим, готовым к самому худшему: к крушению всего, что знал и помнил и что оказалось теперь лишь внушенной ему иллюзией…
— Бенжад Арглиде! Бенжад Арглиде! — вновь донеслось до него.
То был голос Колзида, сына великого поэта, воспевшего багряный мир и гигантского зверя, который…
— Бенжад Арглиде, отвечай на мои вопросы!
Арглиде не знал, на что решиться. У края черной бездны — это была не смерть, а что-то более нежное, намного более нежное — он изо всех сил старался снова зацепиться за жизнь.
Они, наверное, поняли, что он пришел в себя, потому что тут же последовал первый вопрос:
— Что представляет собой Лига Ночи?
Трудно было не поддаться желанию ответить сразу, а осторожно подобрать нужные слова, зато так получилось более выразительно:
— Организация, цель которой лишить Всемогущего власти.
— Что вы ставите Всемогущему в вину?
— Он единолично властвует над страной и присваивает себе все, что только ни пожелает.
— Но разве это не свойственно всем правителям?
Надо было вспомнить, вспомнить точные факты…
— Нет. Прежде существовали формы правления, основанные на обоюдной выгоде.
— Что такое обоюдная выгода?
— Это когда правительство отдает распоряжения, руководствуясь глубинными интересами народа.
— Можно ли определить основные интересы народа, состоящего из нескольких миллионов различных существ?
— Не знаю. Думаю, можно.
— Нет, Бенжад Арглиде, нельзя. Еще один вопрос — известно ли вам, кто такие Создатели Душ и что они на самом деле создали?
Снова нужно напрячь память, обратиться к фактам…
— Первые Создатели Душ были психотехниками и… оккультистами. Они появились после первых манихейских крестовых походов как противовес Всеобщей Лихорадке, направленной против… Зла.
— А что в те времена считалось Злом?
— Знание, принесшее с собой разрушения, ненависть, насилие, страсти.
— Что еще?
Эти два слова задели его за живое. Внутри у Арглиде все сжалось, но он тем не менее ответил:
— Странные существа из иных миров.
— Что же предприняли Создатели Душ?
— Они нашли средство заключить зло, страсти в известные пределы, сосредоточить их в немногих специально отобранных существах. Например, в колдунах, обладавших способностью насылать страдания…
— А как назвали этих носителей Зла, от которого таким образом избавилось остальное человечество?
— Демонами, демонами, но…
— Что же в результате стало с людьми?
— Они успокоились, смуты прекратились. И тоща первый Всемогущий захватил власть. Создатели Душ не исцелили человечество, они только поработили его…
— Достаточно! Зачем вы, Бенжад Арглиде, вошли в контакт с Лигой Ночи?
— Чтобы бороться со Всемогущим.
— Какое вам дали задание?
— Убить демона… убить демона.
Теперь он испытывал настоящие муки. Ему хотелось вырваться отсюда, кануть обратно в ту ночь…
— Как же, по-вашему, выглядят демоны?
— Это существа из других миров, чудовища, уроды, которые, как принято считать, бродят ночью по городским предместьям. Создателям Душ никогда бы не достало жестокости заключить Зло в людей! Никогда!
— И тем не менее они это сделали!
С его губ сорвалось «Неужели?» или что-то вроде этого. Во всяком случае, он хотел показать, что не верит. Ночь вокруг рассеивалась, как если бы его напряжение передавалось внешнему миру. Он снова увидел лица мужчин и женщин, сидящих в креслах. Их глаза сверкали, жгли. И о чем-то напоминали Арглиде.
— Никакой Лиги Ночи нет, — медленно проговорил Колзид, — по крайней мере, в том виде, в каком вы ее себе представляете. Лига Ночи — особая полиция Всемогущего, в сущности, самая важная, а Человек в Красном, который ее возглавляет, и есть Всемогущий собственной персоной.
— Не может быть!
— Лига — организация избранных. Согласитесь, Арглиде, ведь необходимо нести в себе достаточно Зла и злой воли, чтобы предстать в качестве кандидата…
Арглиде не ответил. Его единственным желанием было отринуть все сказанное Колзидом.
— Но куда больше злой воли требуется, чтобы подобраться к Замку, пройти через багряный мир, угрожать дочери Всемогущего…
«Откуда он все знает? — подумал Арглиде. — Этот человек управляется со мной, как с простой куклой на веревочке».
— Согласитесь также, что было бы неосмотрительно оставлять свободным доступ к Замку, особенно если за теми, кто выбрал этот путь, Всемогущий не может проследить.
Да, об этом Арглиде не подумал. Но должно же быть объяснение, другое объяснение…
Вдруг он увидел лицо, женское лицо, которое так хорошо ему запомнилось. Он думал, что обязан этой женщине жизнью, а на самом деле оказался обязан ей лишь тем адом, который был ему уготован.
Ноль Тома смотрела на него так же пристально, как все остальные. Братья и сестры.
— Цель у Лиги одна, — вновь зазвучал голос Колзида, — распознать среди людей тех, кто блуждает в одиночестве, неся свой крест. По правде сказать, Создатели Душ поступили недальновидно. Развитие человечества невозможно без насилия, ненависти, агрессивности. Половой акт — уже борьба. В свое будущее человечество пробивается силой, берет его с боем. Поэтому сегодня главный демон в этом мире — сам Всемогущий. И ему в подручные требуются другие демоны. В нас есть Зло, мы подвержены страстям, способны на безумные поступки. И, прежде всего, в нас жив инстинкт самообороны. Да и в самом деле, разве не было когда — то сказано, что волки будут пасти овец?
— Нет! — воскликнул Арглиде. — Все это ложь. Я на такое не способен.
Он потянулся к оружию. Если все эти мужчины и женщины — демоны, тогда он выполнит свое задание с блеском, на что Человек в Красном, возможно, и не рассчитывал.
— Я вас ненавижу, — заорал он, — всех ненавижу!
Арглиде увидел на их лицах улыбки и понял, что представил им самое блистательное из доказательств их правоты.
Он был свободен. Его выпустили. Выпустит и из зала с бесконечными рядами кресел, выпустили из ада.
«Меня нарочно загнали туда», — подумал Арглиде. Но было так приятно идти по освещенному сиянием факелов коридору, говоря себе, что в нем хватит ненависти, чтобы ударить любого, кто подвернется под руку, и бросить ему в физиономию, что…
— Я не из их шайки, — повторял он про себя, — и никогда в их шайке не буду.
И при этом знал совершенно точно, какой ответ эхом отзывается в его душе. Там была только пустота, и словно обвалилось, рухнуло здание, составлявшее его прежний мир.
И при этом ему открывалась его собственная природа, к которой он лишь начинал привыкать.
И при этом он уже понимал, куда идет.
Туда, где играла музыка.
Над стенами Замка, над Городом и половиной мира стояла ночь. Здесь же, внизу, не было ни дня, ни ночи, лишь настойчиво звучала музыка, прекрасная, плавная и каждое мгновение новая.
Он вошел в комнату и увидел девушку по-прежнему за инструментом, ее пальцы все так же нежно и вдохновенно ласкали гибкие стебли.
Она играла ту самую мелодию, первый ноктюрн для демонов, неодолимо привлекавший их к себе, ведь они одни лишь понимали, сколь он прекрасен.
— Добрый вечер, сестра, — сказал Бенжад Арглиде и опустился у ее ног. Девушка ответила ему улыбкой.

I
— Может, вы хотите вознаграждение? — глухо спросил Человек в Красном.
Материальные соображения, которым отдавали дань его подчиненные, казалось, были ему безразличны. Во всяком случае Лига Ночи не желала, чтобы ее руководителям что-нибудь мешало заниматься их основной обязанностью: отдачей высочайших распоряжений и вербовкой.
Сидя на краешке стола, Арглиде усталым взглядом обводил комнату. Подвальное помещение находилось в бедном квартале на севере города, где кишмя кишели иммигранты. Почему Лига, считавшаяся такой богатой, в некоторых случаях отказывалась брать на себя дополнительные расходы? Скромность тому причиной или денежные затруднения?
Человек в Красном, казалось, угадал его мысли.
— Вы вольны не отвечать на мои вопросы… но вознаграждение для новобранцев, как правило, вопрос важный. И не думайте, глядя на это жалкое обиталище, что Лига скупится. Она распоряжается большей частью состояний в этом мире и получает деньги из стран столь далеких, что мы не можем их себе представить.
Арглиде улыбнулся. Даже такие высокие начальники, как Человек в Красном, проявляют некоторое простодушие, пускаясь в восхваление несравненных достоинств своей Лиги. За их блестящими масками угадывались былые новобранцы, такие, как он сейчас. Люди, готовые убивать. Как он…
Но действительно ли он готов убивать?
— Так как насчет вознаграждения? — снова спросил Человек в Красном.
— Я достаточно богат, чтобы не утруждать себя работой ради денег, — тихо сказал Арглиде. — И вообще, я думаю, в Лигу вступают не для того, чтобы решать свои финансовые проблемы. Тогда уж лучше наняться убийцей к самому Всемогущему.
— Ну что ж, приятно слышать. Мало кто из новичков позволяет себе подобные рассуждения. Обычно боятся задеть нас, нарушить некое табу. Но разве основа Лиги — не свобода во всех ее проявлениях?
Как раз в этом Арглиде несколько сомневался. Однако довод, более чем убедительно подтверждающий справедливость его сомнений, он решил попридержать, потому что табу действительно существовало, что бы там ни говорил Человек в Красном.
— Возьмите. И никогда с ним не расставайтесь.
Арглиде поднял голову. Он долго ждал этой минуты и был теперь слегка удивлен тем, как неожиданно, почти застав его врасплох, это случилось.
Человек в Красном протягивал ему оружие — черный как смоль пистолет с необычно длинным стволом. Цветом он напоминал базальт, минерал, который добывали на местном секретном руднике.
Спусковой крючок был двойной, и Человек в Красном принялся бесцветным голосом объяснять, как тот действует. Наконец Арглиде засунул оружие в карман кителя, успев почувствовать, как пистолет холоден и тяжел.
— Документы, визы…
Арглиде взял все не глядя и твердо произнес:
— И что теперь?
Он надеялся, что Человек в Красном не примет ею за пустого хвастуна. Арглиде боялся лишь одного — уронить себя в глазах руководителей Лиги. Он отчаянно в них нуждался, нуждался слишком сильно, чтобы рисковать.
Человек в Красном прошелся взад-вперед по комнате. Арглиде сделал вид, что рассматривает карту городских подземелий, сверкавшую перед ним на стене.
Серый свет проникал сквозь узкое окно, выходившее, по всей вероятности, в какой-то лаз. За окном виднелись паутина, нечистоты и кучи отбросов. Отверстие в подземный мир, в глубокую ночь, где дремали демоны.
— Прежде всего мы ждем от вас доказательств, что вам можно доверять, — процедил Человек в Красном.
Арглтиде услышал стук собственного сердца. Он клял про себя медлительность, с которой Человек в Красном излагал ему вещи, обещавшие много интересного.
— Демон, — неожиданно бросил Человек в Красном. И обернулся.
Его глаза за маской безжалостно пронзали собеседника, который лишь два — три часа назад впервые соприкоснулся с Лигой.
Подумав было, что тот шутит, Арглиде улыбнулся, но тут же понял свою ошибку и пожал плечами.
— Демон? — повторил он. — Почему демон?
Человек в Красном усмехнулся.
— Демонов нужно убивать, Арглиде, это знали во все времена, не так ли?
Арглиде согласно кивнул.
— Вы должны будете, — продолжал Человек в Красном, — отыскать демона, убить его и объявить об этом во всеуслышание.
Арглиде покачал головой.
— Боитесь? — спросил Человек в Красном. Голос его посуровел.
— Я боюсь не самого поручения, а того, что за ним последует. Что станет со мной, когда я объявлю, что убил демона? Никто не имеет права делать это самочинно. Кроме того, убийство демона предполагает, что у убийцы, или пусть даже у героя, есть оружие. А Всемогущий запретил владеть оружием на всей территории…
Человек в Красном махнул рукой с драгоценными кольцами на длинных пальцах.
— Детские сказки, Арглиде. Лига Ночи никогда не допускала подобных шуток над своими членами и исполнителями. Теперь мы связаны друг с другом душой и телом. Выполнив поручение, вы поселитесь в покоях Лиги, и мы обговорим следующее задание. Всемогущий для нас ничто… Чем скорее вы это усвоите, тем лучше!
Арглиде пожал плечами.
— Я прожил под его властью двадцать лет, — сказал он, — и даже здесь, у вас, я все равно под его властью. Вам не кажется, что вы требуете от меня слишком много?
Человек в Красном не удостоил его ответом. Он повернулся к стене, увешанной древними медными блюдами и щипцами непонятного предназначения. Повелительный жест — и дверь открылась. Старик в неимоверно засаленном халате поклонился с каменным выражением на лице.
— Морена, выведешь его наружу. Если удастся, то поближе к Замку.
— Постойте, — сказал Арглиде, — а где же я найду демона?
— Там их тысячи.
— Вы хотите сказать, в Замке?
— Да, рядом со Всемогущим и его ненаглядной дочкой. Там ключ к разгадке всей нашей борьбы. Иди, Бенжад Арглиде, и не сомневайся ни в чем. Ты избран для исключительной миссии, ибо ты сам личность исключительная.
Несмотря на все усилия сохранить невозмутимость, Арглиде содрогнулся. Несколько театрально Человек в Красном протянул ему руку.
Арглиде повернулся и последовал за стариком по имени Морена через бесконечный ряд мрачных комнатушек. Демоны, казалось, обитали уже здесь.
II
В этом бедном квартале никогда не было Окна, и ютившимся там людям приходилось каждое утро преодолевать большое расстояние от своего рынка до одного из условленных мест, где они могли прикупить замечательные товары, поступавшие через чужие Окна. Морена непонятно зачем посадил Арглиде в странного вида лифт, пропахший съестным, который доставил его на поверхность довольно далеко от Замка.
Арглиде решил поначалу, что пожалуется Человеку в Красном, но потом вспомнил, как тот, давая старику распоряжения, добавил «если удастся». Арглиде теперь ничего не оставалось, как пробираться между рядами разноцветных повозок, на которых привозили товары.
Без своего Окна квартал обрекался на темноту, ночь неведения, бедности, нужды, далекую от чудес и открытий.
Всемогущий тщательно поддерживал такое положение вещей. Он позволял разрастаться этим сорнякам, устраивал свалку, куда низвергал потом тех, кого боялся, ненавидел или презирал. Вероятно, так поступали все диктаторы во все времена. Как бы то ни было, именно здесь, в бедных кварталах Города, медленно умирали его враги, могущественные и безвестные.
Под страхом смерти они не могли выйти отсюда. За пределами этих джунглей их поджидали несущие гибель псы Всемогущего, а то и милые приятели его доченьки…
Квартал без Окна освещался только местным солнцем, сюда не проникало сияние других миров. Квартал, где не было ни утра, ни сумерек, где вечно праздные существа давно потеряли свои лица, ничем по сути не отличаясь друг от друга.
Выбравшись из лабиринта повозок, Арглиде спустился по узкой улочке. Высоко над его головой смыкались крыши. Причудливые изваяния демонов служили либо водостоками, либо подставками для сушки белья. Бесчисленные лавочки теснились в мрачных нишах — изредка с освещенной комнатой, откуда доносились крики предназначенных для продажи зверей, чьи души, без сомнения, были не так черны, как души их хозяев.
И никакой стражи на улочках, ни единого солдата.
Здесь были женщины, сидевшие на деревянных фаллосах, изрезанных непристойными надписями, ужасно грязные дети, со злобными воплями гонявшиеся друг за другом, юноши с вкрадчивыми манерами, вшивые и чувствительные, с лакейской угодливостью и певучими интонациями в голосе.
Улочка тем временем вывела его, судя по всему, к центральному шоссе. Квартал бедных тут заканчивался — сюда забредали лишь те, кто чувствовал в себе достаточно смелости, или те, кого Всемогущий оставил своей ненавистью, хотя такого почти никогда не случалось.
В лавках здесь царила не ночь, но сумерки, и женщины с молодыми, без единой морщинки лицами, выглядели опрятно. Здесь можно было увидеть серебристые шлемы, а у некоторых за спиной на ремне — даже оружие.
Два-три раза за день тут проезжали правительственные автомобили с опущенными занавесками, и в настороженной тишине долго потом слышалось шуршание их колес.
Выйдя на шоссе, Арглиде поднял голову, чтобы взглянуть наконец на открывшееся небо, и в этот самый момент появилась машина. Водитель в серебристо-белой ливрее — цвета́ Всемогущего — дал газу и тяжелый лимузин стремительно рванулся к Арглиде.
Сзади вскрикнула женщина. Он обернулся и едва успел отскочить. Машина с оглушительным ревом пронеслась мимо и, не сбавляя скорости, умчалась прочь.
Арглиде поднялся, не в силах опомниться от страха и удивления, хотя и чувствовал успокаивающую тяжесть оружия, врученного ему от имени Лиги.
Машина просто не способна совершить аварию. Водитель в ней лишь для торжественности. На самом деле его дублирует электронная система управления, настоящее чудо техники.
Невозможно, чтобы сама машина задумала его задавить. Если только водитель, прибавив скорость, отключил автоматику…
Арглиде вернулся на тротуар. Мысли его путались.
Тут он заметил крикнувшую женщину. Она глядела, как он приближается, все еще бледная, с приоткрытым от страха ртом. На ней было черное с белым узором кимоно, каких не носят женщины бедных кварталов. Конечно же, она пришла из того мира, который начинался по другую сторону шоссе.
— Спасибо, — сказал Арглиде, — если бы не вы, он бы меня задавил.
— Ведь он нарочно? Он сознательно пытался вас убить?
Женщина все не могла унять дрожь. Ее голос дрожал.
Пестрая толпа вокруг них разочарованно расползлась. Рядом с длинным пьяным парнем, катавшимся по тротуару, плакал ребенок.
— Не знаю, как вас благодарить, — сказал Арглиде.
Ему было неловко. Девушка, по-видимому, приняла случившееся слишком близко к сердцу, а он не желал ничьей помощи. Уж очень многое ему надо было сделать и обдумать, чтобы разобраться в этой истории.
— Благодарить не надо, я лишь хочу вам помочь. Ведь вы из Лиги Ночи?
Он коснулся ее плеча. После ледяного ужаса оно показалось Арглиде мягким и нежным.
— Как бы вас ни звали и кем бы вы ни были, — произнес он, — я ничего не скажу вам об этом. Или вам хочется, чтобы машина переехала вас?
Девушка улыбнулась.
— Я не столь важная персона, чтобы Всемогущий так скоро и с такой жестокостью переключился на меня. Вы же, думаю, лицо влиятельное, раз он воспользовался экипажем Эскорта Дам.
— Послушайте, — сказал Арглиде, нахмурившись, — вы случайно не знаете, где бы мы могли побеседовать более обстоятельно? Мне сдается, вы в курсе многих вещей, которые мне неизвестны…
Она вдруг ласково, но твердо взяла его за руку. Улыбка не сходила с ее губ.
— Здесь рядом лавка Макхонта, человека, который торгует снами возле Окон…
Имя и странное занятие хозяина лавки ничего не говорили Арглиде. Все еще сомневаясь, он последовал за девушкой. Внезапно его осенило: ведь она сможет без дальних слов провести его к Замку. А там он отыщет демона.
Снаружи вся лавка вспыхивала и переливалась, как облако разноцветных огней, и, входя, Арглиде отметил про себя, что в ней ужасно жарко, душно и сыро. Он обвел взглядом пространство между белыми колоннами, ожидая увидеть папоротники и ядовитые грибы, однако увидел лишь тяжелый ярко-красный ковер, скрадывавший звук шагов. В лавке царила тишина.
— Добро пожаловать… здравствуйте, мадемуазель Тома́.
Сутулый массивный человек протягивал ему пухлую, блестящую от пота ладонь. Имя спутницы поразило Арглиде. Тома были влиятельным семейством и поговаривали, будто Всемогущий доверил его главе немало тайн.
— Я действительно Иоль Тома, — прошептала девушка ему на ухо.
Притупившееся было недоверие Арглиде тут же вспыхнуло снова. Девушка обаятельна, но ее происхождение заставляло держаться настороже.
Он лишь склонил голову.
— Тогда не понимаю, мадемуазель, что побудило вас заинтересоваться моей скромной персоной.
Ноль рассмеялась беззвучно и нервно.
— Пойдемте за Макхонтом, я вам все объясню. Как бы то ни было, в его лавке много любопытного.
Они прошли за полупрозрачные портьеры — два мерцающих силовых поля — и очутились в гораздо более просторном зале. Потолок, к которому Арглиде поднял глаза, был неестественно высок. Ему пришло в голову, что дело тут в каком-то оптическом ухищрении, ведь само здание, как и все вокруг, выглядело приземистым.
— Окна там, сзади, — протянула нежную руку Поль.
Арглиде сперва не обратил на них внимания. Теперь, однако, он различал очертания прибора. Почти невидимый за тяжелыми занавесями, прихотливо изукрашенный, он позволял лишь догадываться о своих магических свойствах, но этого было достаточно, чтобы соблазнить возможного покупателя.
Макхонт обернулся, с лукавой усмешкой следя за Арглиде.
— Вы удивлены? Вы в первый раз слышите, что Окна можно использовать не только для доставки товаров? — Пройдя чуть вперед, он продолжил: — Я торгую снами, по крайней мере, так их называют мои покупатели, но вам, как и мне, известно, что Окна, изобретенные при Халифате три столетия назад, сообщаются с другими мирами благодаря искривлению пространства…
Арглиде неопределенно пожал плечами.
— Ну так вот, я лишь отправляю покупателя в эти миры, предварительно должным образом его защитив и подготовив… Попробовать не желаете?
Арглиде помрачнел. Он все больше и больше ожесточался.
— Нет, благодарю вас, я пока предпочитаю реальность. Реальность Замка, например…
Макхонт молча поклонился.
— Не могли бы вы оставить нас одних? — попросила Иоль Тома.
Макхонт так же молча вышел, однако от Арглиде не ускользнуло, с каким почтением обратилась к нему девушка. Не говорило ли это о тайном могуществе торговца снами?
У него было много вопросов, но все они, кажется, не имели никакого отношения к поискам демона.
— А теперь ответьте, — услышал он голос мадемуазель Тома, — какое поручение дала вам Лига Ночи.
От неожиданности он отступил на пару шагов, спрашивая себя, уж не шутит ли девушка.
— Это невозможно! Это касается только меня и…
— Забудьте, что мое семейство близко к Всемогущему. Я уже говорила, что знаю много такого, что может сослужить вам хорошую службу. Например, машина, которая собиралась вас задавить, принадлежит Эскорту Дам. Ее водитель, некто…
Он ждал, что девушка назовет имя, но та замолчала и улыбнулась.
— Вы хотите, чтобы я вот так взяла и рассказала вам все, ни о чем с вами прежде не договорившись?
Он пожал плечами и сделал вид, что уходит.
— Постойте! Куда вы?
— Пойду выполнять свою работу, мадемуазель.
— По наивности вы и не догадываетесь, что отправляя своих агентов на подобную авантюру, Лига Ночи посылает их на верную гибель. Ума не приложу, зачем она это делает, но это так. Ни разу еще Лига Ночи не достигала своей цели, ни разу!
— А почему я должен вам верить? Может, вас нанял Всемогущий?
— Будь это так, Бенжад Арглиде, я бы давно вас уничтожила.
Иоль говорила медленно, ледяным тоном. Он обернулся. Откуда ей известно его имя? Как далеко простирается ее власть?
— И только потому, что вы знаете, кто я и что мне угрожает опасность, вы находите возможным претендовать на мою откровенность?
Она наклонила очаровательную головку.
— А вы полагаете, этого недостаточно?
— Недостаточно! Я хочу знать, кто вы такая, Иоль Тома, и чего добиваетесь, вмешиваясь в мои дела.
— Ладно, я скажу…
В этот момент из соседнего зала донесся звук шагов. Девушка побледнела.
— Скорей, — вскрикнула она. — Они уже тут!
— Кто они?
— Ваши враги… Вы не такая важная птица, чтобы их знать, а я…
Но было уже поздно. Внезапно вынырнувший из-за портьеры Макхонт рухнул, поверженный ударом кулака. Пятеро стражников в серебристых мундирах с оружием в руках вошли в комнату.
Арглиде успел выхватить свой необычный пистолет, полученный им от Лиги, и, несколько раз выстрелив, бросился к Окну. Кто-то из стражников, выронив оружие, упал.
Оставался один-единственный выход, и Арглиде им воспользовался. Прыгая в самое жерло ада, он еще услышал голос Иоль Тома:
— К замку, Бенжад!..
III
«К Замку!.. — звучало в его мозгу. — К Замку!..» Но звучало как бы помимо его сознания, звучало как приказ, но все глуше и глуше.
Теперь не осталось никаких точек отсчета. Исчез Город, растаяли стражники Всемогущего. Единственной реальностью расстилающегося перед ним, такого близкого мира была багряная тишина.
И жара, как в оранжерее. Арглиде скользил взглядом по сторонам, щурясь от слепящих бликов. Что же до солнца, висевшего в зените, Арглиде и не пытался всматриваться в его оттенки. Во всяком случае, оно казалось огромным.
Скалы причудливо-алого цвета, напоминавшие груды застывшего мяса, вздымались из розово-оранжевой саванны.
Вскоре, однако, Арглиде засомневался, действительно ли под его ногами трава: стебли были слишком жесткие, слишком блестящие, выпрямляясь, они звенели, и звон отзывался эхом.
— Вот я и добрался до тех краев, которые Колзид упомянул в одной из своих баллад, — сказал себе Арглиде.
Это открытие потрясло его. Выходит, Колзид искал вдохновения для своего чудесного искусства в таких местах, как лавка Макхонта!
Колышется луг железный,
И память об облаках
На пастбищах музыкальных
Живее в моих стихах
Он сделал еще несколько шагов, и стебли зазвенели, запели — единственный звук в мире, словно устланном розовой ватой. Железный луг, музыкальные пастбища…
Куда теперь идти? Он спасся от стражников Всемогущего, воспользовавшись единственным путем к бегству, но город и Лига Ночи теперь так далеки, что возвращение кажется невозможным.
Однако Ноль Тома прокричала: «К Замку!»
Значит, ему предстоит разобраться в окружающей местности, исходя из мясистых скал и музыкальной саванны.
К Замку ведут большие Окна, приносящие Всемогущему неисчислимые богатства. Должно же это как-то соотноситься с миром, в котором он оказался. Ему нужно только идти, не останавливаясь, и не поддаваться сомнениям. Рано или поздно он окажется у Замка и тогда его уже ничто не остановит.
Арглиде оглянулся. Окно, через которое он проник в багряный мир, было теперь едва различимо, но за ним на громадном расстоянии отсюда Арглиде поджидали стражники. Если только они не решили отправиться за ним вдогонку. Арглиде покачал головой: нет, они всего лишь наемники и вряд ли горят желанием рисковать своей шкурой.
Арглиде начал осторожно, никуда не сворачивая, удаляться от места, где, как он предполагал, проходила линия разлома пространства.
Скоро он перестал обращать внимание на позвякивание стеблей. Земля под его ногами была сухая и твердая. Он подошел к одной из розовых скал, протянул руку. Скала оказалась теплой и… Арглиде отшатнулся. Скала не была твердой — и, похоже, была вовсе не скалой.
Что там у Колзида после музыкальных пастбищ? Арглиде напряг память. Наверняка Колзид что-то говорил по этому поводу. Так что там дальше?
Какая-то перемена в небе прервала его размышления. Почти мгновенно стемнело. Нависли сумерки. Арглиде поднес к глазам ладонь, чтобы лучше видеть. Одна или две луны проплывали перед солнцем, и наползавшая тьма была их тенью. Затмение не должно продолжаться долго.
Почва под ним затряслась. Чтобы удержаться на ногах, Арглиде ухватился было за алую скалу, но скала исчезла, и он растянулся во весь рост. Но тут же с бьющимся сердцем вскочил на ноги. Земля ли удалилась от странной красной скалы? Или скала двигалась… сама по себе?
Когда новый толчок потряс землю, Арглиде бросился бежать. Краем глаза он смутно различил еще один скалистый островок, который… Но это могло ему померещиться, ведь он сам бежал что было сил.
Снова вспыхнул яркий свет, но Арглиде остановился только когда все успокоилось и земля перестала вздрагивать.
И только тут он заметил человеческие силуэты. Трое в коричневых комбинезонах рабочих Замка старательно укладывали какие-то ящики на странную платформу из белого металла.
Арглиде присел. Прошло немного времени, и платформа сама собой исчезла, словно растворилась в воздухе.
Рабочие остались. Казалось, они дожидались, когда можно будет продолжить работу, и не обращали ни малейшего внимания на странности вокруг.
«Пока они не уберутся, — решил Арглиде, — я не двинусь с места».
Это Окно должно было выходить к окрестностям Замка. А, может, и в сам Замок. Нужно будет действовать быстро, не мешкая, раз уж он здесь очутился.
Внезапно Арглиде понял — уже одно его появление в багряном мире означало, что он вовлечен в опасную цепь событий. Прежде всего будущих.
Он улегся среди музыкальных стеблей и закрыл глаза.
Человек в Красном приказал ему убить демона. Давал ли он раньше подобное задание хоть одному новобранцу Лиги?
И как демоны могли оказаться в Замке? Как Всемогущий, тщательно оберегаемый от всякой опасности, терпел такое соседство, самое худшее из всех?
Арглиде вспомнил о девушке. Ноль была из знатной семьи, близкой к Всемогущему, и, по-видимому, знала немало интересного, — например, что все поползновения Лиги заканчивались неудачей…
«Невозможно, — думал он. — Никак невозможно! Лига Ночи — единственная организация, которой когда-либо удавалось внушить ужас Всемогущему и заставить его действовать. Но зачем тогда отдавать приказ убрать человека, у которого нет никаких шансов выполнить задание?»
Может, именно потому, что он должен убить демона? Может, Всемогущий покровительствует демонам?
«Нет, Создатели Душ не были благодетелями, — подумал Арглиде. — Создав демонов, они отобрали у человечества искру, что привело к худшей из тираний».
Арглиде внезапно осознал, что все вокруг стало другим. Багровое небо угрожающе нависло над ним, будто придавливая к земле. Арглиде казалось, что его захлестывают волны черноты, а красные пятна напоминали сгустки крови. Мало того, ветер, такой холодный, клонил стебли, заставляя приглушенно звенеть всю саванну.
Он поднялся. Рабочих в коричневых комбинезонах уже не было. Осталась лишь платформа, тревожной тенью выделявшаяся в чужом сумеречном мире.
Оглядевшись по сторонам, Арглиде попытался определить, почему его вдруг охватила такая тревога. Разумеется, пейзаж, необычный и днем, с появлением тени, темно-красных призрачных огней, все больше напоминал ночной кошмар. Но разве только этим можно было объяснить… скажем, внезапное исчезновение людей, наполнявших ящики для Замка чем-то таинственным? Они бросили работу. Почему?
Дни и ночи в этом мире и на Земле не очень-то совпадали друг с другом. В Городе еще должно быть светло.
Арглиде осторожно подошел к платформе. Он остановился лишь когда решил, что находится метрах в трех от невидимого Окна. Невидимого? Но на земле отпечатки следов пропадали в каком — то метре перед ним.
Он наклонился, поднял черный камушек и бросил. Камень тут же исчез, канув в пространственный разлом.
«Теперь моя очередь», — подумал Арглиде и шагнул было вперед, но тут же упал навзничь, потому что землю снова затрясло, как во время затмения солнца.
В этот раз все, казалось, было серьезней. Арглиде попытался двигаться ползком. Во что бы то ни стало следовало убраться из этого опасного места. Даже перспектива вновь оказаться перед стражниками не представлялась ему сейчас такой ужасной.
Глубоко под ним ухнул настоящий взрыв. Саванна, в которую Арглиде угодил из лавки Макхонта, казалось, судорожно сжалась и вскинулась к мрачному небу, потянувшись, словно ласкающееся животное.
«Вот оно, то самое», — подумал Арглиде. И неожиданно вспомнил продолжение поэмы Колзида:
На пастбищах музыкальных
Под дикими небесами
Поющее нежно руно
Страшнейшего из зверей
Которого мир кровавый
Не видел прекрасней и злей
Прекрасный зверь Колзида явно подрос за это время. Может, он был теперь столь велик, что Арглиде по сию пору находился на нем?
Эта мысль так его поразила, так ужаснула, что он опрометью кинулся к Окну.
От мгновенного головокружения его затошнило.
Он очнулся лежащим на теплой скрипучей поверхности. И сразу ее узнал: внушительная скирда травы, которую он видел в саванне. Или, скорее, — шерсти гигантского зверя, обитавшего в багряном мире.
Арглиде резко вскочил и нырнул во тьму.
Он вернулся в Город и, похоже, попал на склад, где рабочие в коричневой одежде хранили дневной урожай.
Но какая польза от музыкальных стеблей?
Впрочем, куда более важным для Арглиде было то, что он добрался, пусть с некоторым опозданием, до внутренних помещений Замка.
Человек в Красном не разочаруется в нем.
IV
Как Арглиде и предполагал, солнце еще стояло над Городом. В углу странного склада со стенами из холодного камня виднелось стрельчатое окно, похожее на окна Замка. Арглиде на секунду выглянул наружу. Бесконечные ряды гладких крыш, отражавших прозрачное, с прожилками желтизны небо, оказывали почти гипнотическое действие.
Довольно далеко он увидел шоссе, огибавшее бедный квартал. Где-то там осталась лавка Макхонта. Арглиде решил, что в багряном мире он не мог проделать такого длинного пути. Ничего удивительного, если расстояния в двух мирах совпадают не больше, чем течение времени.
Отойдя от окна, Арглиде заметил щит со множеством переключателей. Никаких указаний, как им пользоваться, не было, но он рискнул попробовать. После второй попытки щит с глухим скрежетом съехал в сторону. Коридор за ним, освещенный голубым светом, уводил вглубь Замка.
Поначалу Арглиде не понял, действительно ли он слышит музыку, или так отзывается в его мозгу далекий уличный гул, шум и крики толпы.
Ему казалось, он идет целую вечность. И хотя Арглиде, как любой житель Города, знал, сколь огромен Замок, ему стало не по себе. Впрочем, на пути так никто и не встретился. Иногда, правда, Арглиде прятался, заслышав чей-то голос за стеной или за дверью. Но где роботы-слуги Всемогущего и где стражники, которые должны тут кишмя кишеть?
И потом… эта музыка. Пока еще далекая, порой как бы подернутая дымкой. Напоминавшая мерцание звезд, — она то катилась волнами, то вдруг рассыпалась искрами.
Арглиде шел по узкому коридору, пол которого был устлан черным и белым мехом. Выступавшие из стен металлические статуи держали в руках факелы, сиявшие ослепительным светом.
«Куда же я иду? — подумал он. — И что буду делать, если наткнусь на кого-нибудь? Наткнусь прямо сейчас? Разве можно отыскать демона среди этой роскоши, где нет места страданию?»
Словно отвечая его мыслям, музыка, зовущая и нежная, звучала все громче. Никогда он не слышал ничего подобного. Музыка влекла к себе душу, как женщина влечет к себе мужчину.
Вдруг справа Арглиде увидел неплотно прикрытую дверь, из-за которой просачивался мягкий золотистый свет, не такой яркий, как в коридоре. Рассеянным движением проверив, на месте ли оружие, Арглиде осторожно толкнул дверь. Та бесшумно поддалась, открывая его взору удивительное зрелище.
Бледная девушка с ярко-рыжими волосами сидела за невысоким музыкальным инструментом, где вместо клавишей и струн были стебли травы из багряного мира — руно диковинного гигантского зверя.
Девушка повернулась к Арглиде, и музыка смолкла. Но он только тихо вошел и остановился на пороге, затаив дыхание и сожалея, что она перестала касаться пальцами хрустальных стеблей.
— Вам нравится эта музыка? — спросила она.
Губы у нее были бледные, бледные и пухлые, вопрос же больше походил на утверждение.
Арглиде кивнул. В глубине души он растерялся, но в нем снова заговорил дух противоречия. Он никак не должен оставаться здесь, в сердце Замка, где в любую минуту может появиться стража…
— Вы первый, — вздохнула девушка.
Арглиде не понял, что она хотела сказать, и шагнул вперед. К нему вдруг вернулось спокойствие. «Не лучше ли сунуть под нос этому нежному созданию оружие, прежде чем оно поднимет на ноги весь замок?» — спросил себя Арглиде. Хотя, может, он уже опоздал.
— Как… как называется эта музыка? — вымолвил он и сам удивился, что задает такой вопрос в таком месте.
— Первый ноктюрн для демонов… Я его сочинила год назад.
Слово «демоны» тут же вернуло Арглиде к действительности. Однако, как ни странно, длинноствольный пистолет не произвел никакого впечатления на юную музыкантшу.
— Знали бы вы, кто я такой, — тихо сказал Арглиде, — Впрочем, мне ни к чему больше скрываться.
— Я знаю, кто вы, а вот вы, мне кажется, заблуждаетесь на свой счет. Или я не права?
Он покачал головой.
— Вы хотите меня перехитрить, мадемуазель, а это нехорошо. Поиграйте еще…
Чуть помедлив, она тронула стебли, которые, задрожав, испустили несколько пронзительных нот. Эта новая мелодия ничем не напоминала те странные звуки, которые влекли сюда Арглиде.
— Мне очень жаль, — решился он, — но мне придется вас обезвредить… на некоторое время.
Она словно не расслышала и продолжала глядеть на него с улыбкой. Белизной прекрасного лица она напоминала древнюю статую.
Арглиде снял пистолет с предохранителя и медленно поднял.
— Знаете, я и сама боюсь, что сюда кто-нибудь придет…
Он опустил оружие.
— Меня ведь наказали, как маленькую. Со своими отец так же суров, как со всеми остальными.
Слова девушки не сразу дошли до него.
— Что? — переспросил он.
— Мой отец — Марвич Всемогущий. Вы разве не знали?
Арглиде покачал головой.
— …А мне здесь еще два дня коротать. Но когда меня простят, я про вас никому не скажу. Впрочем, вас все равно к тому времени убьют…
Тошнота подступила к горлу, его охватила злоба и, отшатнувшись к двери, он выкрикнул:
— С меня хватит. Слышите, с меня хватит!
Девушка снова заиграла, теперь какую-то легкую пьеску.
«Хорошо, что не ту… другую», — с облегчением подумал Арглиде.
Он буквально выскочил за дверь и бросился прочь по коридору, по густому меху, в котором тонул звук его шагов.
Нет, нельзя оставаться в этой части Замка. Демоны, если они и правда обитают по соседству с Всемогущим, должны быть не здесь. Скорее уж где-нибудь внизу, в самом аду.
Роскошные лестницы с черными мраморными ступенями и кабины лифтов с инкрустированными цифрами, казалось, поджидали его. Цифры соответствуют разным этажам, сразу догадался Арглиде.
Он выбрал кабину с номером 185. Спуск длился целую вечность. Кабина лифта проплывала мимо этажей, по-своему расцвечиваясь на каждом. Крепко сжимая золоченые прутья, Арглиде думал, что нарушает сейчас уйму всяких запретов. Перед ним мелькали комнаты для свиданий, помещения дворцового гарема, совершенно унылого вида зал суда, зал казней. В какой-то миг ему вроде привиделась высокая фигура в одеянии всех цветов радуги… Но Замок слыл шкатулкой миражей, и Всемогущий обожал выставлять повсюду собственные изображения. Кажущаяся вездесущность создавала у него иллюзию неуязвимости.
Арглиде спустился много ниже уровня земли. На одних этажах царило явное запустение, на других до потолка громоздились архивы, куда не отказались бы заглянуть многочисленные недруги Всемогущего.
Лига Ночи, однако, интересовалась не архивами.
Кабина остановилась, и Арглиде вышел в холодный коридор, где из стен сочилась вода. Даже свет здесь был тусклым. В этом огромном здании жизнь, похоже, поддерживалась лишь местами; проходило время, и его обитатели перебирались в другие комнаты.
Здесь Всемогущий вполне мог устроить тюрьмы и засадить туда тех своих приближенных, кого считал недостаточно правоверными. Но, дойдя до конца коридора, Арглиде вдруг обнаружил, что в этом подземелье, в этой преисподней кто-то есть.
Он едва успел броситься наземь, заметив отсвет выстрела на влажной стене. Перекатившись по полу, он два раза выстрелил не целясь. Его противник рухнул вниз. Подойдя к нему, Арглиде увидел, что оба выстрела угодили человеку в грудь и почти сожгли его.
— Оставьте… Вообще-то он был негодяем…
Арглиде вздрогнул и обернулся, ожидая увидеть нового врага, но перед ним стоял безоружный старик, который только задумчиво качал головой, глядя на скрюченное тело.
— Но почему он в меня выстрелил? — спросил Арглиде.
— Просто заметил незнакомого… Гледор всегда был убийцей.
— А вы… кто вы?
— Я Колзид.
Арглиде так и подскочил, но старик жестом остановил его.
— Нет, не думайте, я не тот великий Колзид, что был поэтом. Я его сын, всего-навсего сын. Но послушайте, могу ли и я кое о чем вас спросить?
Отступив на шаг, Арглиде прислонился к стене.
— Я готов убить любого, кто помешает мне выполнить задание, — проворчал он, — Меня не остановит даже ваш возраст, Колзид.
Старик успокаивающе поднял ладонь.
— У всех у нас одно задание, — сказал он, — по крайней мере, было одно.
— Что вы хотите сказать?
Рука старика легла Арглиде на плечо.
— Пойдемте со мною и успокойтесь. Сейчас вам откроются вещи, которые едва ли оставят вас равнодушным.
Заинтригованный, но по-прежнему настороженный, Арглиде двинулся за стариком.
Что же на самом деле творилось в недрах Замка? Что означал этот лабиринт сырых коридоров, где вас подстерегают с единственным желанием убить? А демоны, о которых говорил Человек в Красном? Где они затаились?
Арглиде не успел додумать — его провожатый вышел из коридора, и они оказались под переливающимися сводами. Сверху или из ниоткуда проникали разноцветные полосы света, которые терялись в странном красно-буром пятне, отливающем золотом.
— Постойте, — вскричал Арглиде. — Что это?
— Идемте, идемте. Это всего лишь силовое поле — вам ли не знать?
Голос Колзида звучал теперь властно и строго, и его длинная сальная рука вцепилась в Арглиде. Тот нехотя вступил в круг света и не почувствовал ничего особенного, разве что стало чуть теплее — это было даже приятно. Дальше открывалась зала — просторная, с необычайно низким потолком, заставленная одними креслами. Десятками и десятками кресел самой разной формы. И в креслах, почти во всех — мужчины и женщины — неподвижно, молча взиравшие на вошедших. Арглиде забеспокоился и потянулся за оружием.
— Спокойней, — шепнул ему прямо в ухо Колзид. — Это такие же люди, как и вы, — ваши будущие братья, помогающие созидать мир.
Только теперь с легким смущением — ведь ему понадобилось так много времени, чтобы прийти к верному выводу, — Арглиде подумал, что его заманили в ловушку. И захотел убежать. Однако их взгляды, направленные на него, а теперь и в него, навсегда пригвоздили его к месту. И Арглиде медленно провалится в ночь.
V
— Бенжад Арглиде! Бенжад Арглиде!
Он вынырнул из сумрачного небытия, рядом с которым ночь была ничем, — из небытия, где не испытал ни боли, ни радости, но теперь он чувствовал себя отдохнувшим, готовым к самому худшему: к крушению всего, что знал и помнил и что оказалось теперь лишь внушенной ему иллюзией…
— Бенжад Арглиде! Бенжад Арглиде! — вновь донеслось до него.
То был голос Колзида, сына великого поэта, воспевшего багряный мир и гигантского зверя, который…
— Бенжад Арглиде, отвечай на мои вопросы!
Арглиде не знал, на что решиться. У края черной бездны — это была не смерть, а что-то более нежное, намного более нежное — он изо всех сил старался снова зацепиться за жизнь.
Они, наверное, поняли, что он пришел в себя, потому что тут же последовал первый вопрос:
— Что представляет собой Лига Ночи?
Трудно было не поддаться желанию ответить сразу, а осторожно подобрать нужные слова, зато так получилось более выразительно:
— Организация, цель которой лишить Всемогущего власти.
— Что вы ставите Всемогущему в вину?
— Он единолично властвует над страной и присваивает себе все, что только ни пожелает.
— Но разве это не свойственно всем правителям?
Надо было вспомнить, вспомнить точные факты…
— Нет. Прежде существовали формы правления, основанные на обоюдной выгоде.
— Что такое обоюдная выгода?
— Это когда правительство отдает распоряжения, руководствуясь глубинными интересами народа.
— Можно ли определить основные интересы народа, состоящего из нескольких миллионов различных существ?
— Не знаю. Думаю, можно.
— Нет, Бенжад Арглиде, нельзя. Еще один вопрос — известно ли вам, кто такие Создатели Душ и что они на самом деле создали?
Снова нужно напрячь память, обратиться к фактам…
— Первые Создатели Душ были психотехниками и… оккультистами. Они появились после первых манихейских крестовых походов как противовес Всеобщей Лихорадке, направленной против… Зла.
— А что в те времена считалось Злом?
— Знание, принесшее с собой разрушения, ненависть, насилие, страсти.
— Что еще?
Эти два слова задели его за живое. Внутри у Арглиде все сжалось, но он тем не менее ответил:
— Странные существа из иных миров.
— Что же предприняли Создатели Душ?
— Они нашли средство заключить зло, страсти в известные пределы, сосредоточить их в немногих специально отобранных существах. Например, в колдунах, обладавших способностью насылать страдания…
— А как назвали этих носителей Зла, от которого таким образом избавилось остальное человечество?
— Демонами, демонами, но…
— Что же в результате стало с людьми?
— Они успокоились, смуты прекратились. И тоща первый Всемогущий захватил власть. Создатели Душ не исцелили человечество, они только поработили его…
— Достаточно! Зачем вы, Бенжад Арглиде, вошли в контакт с Лигой Ночи?
— Чтобы бороться со Всемогущим.
— Какое вам дали задание?
— Убить демона… убить демона.
Теперь он испытывал настоящие муки. Ему хотелось вырваться отсюда, кануть обратно в ту ночь…
— Как же, по-вашему, выглядят демоны?
— Это существа из других миров, чудовища, уроды, которые, как принято считать, бродят ночью по городским предместьям. Создателям Душ никогда бы не достало жестокости заключить Зло в людей! Никогда!
— И тем не менее они это сделали!
С его губ сорвалось «Неужели?» или что-то вроде этого. Во всяком случае, он хотел показать, что не верит. Ночь вокруг рассеивалась, как если бы его напряжение передавалось внешнему миру. Он снова увидел лица мужчин и женщин, сидящих в креслах. Их глаза сверкали, жгли. И о чем-то напоминали Арглиде.
— Никакой Лиги Ночи нет, — медленно проговорил Колзид, — по крайней мере, в том виде, в каком вы ее себе представляете. Лига Ночи — особая полиция Всемогущего, в сущности, самая важная, а Человек в Красном, который ее возглавляет, и есть Всемогущий собственной персоной.
— Не может быть!
— Лига — организация избранных. Согласитесь, Арглиде, ведь необходимо нести в себе достаточно Зла и злой воли, чтобы предстать в качестве кандидата…
Арглиде не ответил. Его единственным желанием было отринуть все сказанное Колзидом.
— Но куда больше злой воли требуется, чтобы подобраться к Замку, пройти через багряный мир, угрожать дочери Всемогущего…
«Откуда он все знает? — подумал Арглиде. — Этот человек управляется со мной, как с простой куклой на веревочке».
— Согласитесь также, что было бы неосмотрительно оставлять свободным доступ к Замку, особенно если за теми, кто выбрал этот путь, Всемогущий не может проследить.
Да, об этом Арглиде не подумал. Но должно же быть объяснение, другое объяснение…
Вдруг он увидел лицо, женское лицо, которое так хорошо ему запомнилось. Он думал, что обязан этой женщине жизнью, а на самом деле оказался обязан ей лишь тем адом, который был ему уготован.
Ноль Тома смотрела на него так же пристально, как все остальные. Братья и сестры.
— Цель у Лиги одна, — вновь зазвучал голос Колзида, — распознать среди людей тех, кто блуждает в одиночестве, неся свой крест. По правде сказать, Создатели Душ поступили недальновидно. Развитие человечества невозможно без насилия, ненависти, агрессивности. Половой акт — уже борьба. В свое будущее человечество пробивается силой, берет его с боем. Поэтому сегодня главный демон в этом мире — сам Всемогущий. И ему в подручные требуются другие демоны. В нас есть Зло, мы подвержены страстям, способны на безумные поступки. И, прежде всего, в нас жив инстинкт самообороны. Да и в самом деле, разве не было когда — то сказано, что волки будут пасти овец?
— Нет! — воскликнул Арглиде. — Все это ложь. Я на такое не способен.
Он потянулся к оружию. Если все эти мужчины и женщины — демоны, тогда он выполнит свое задание с блеском, на что Человек в Красном, возможно, и не рассчитывал.
— Я вас ненавижу, — заорал он, — всех ненавижу!
Арглиде увидел на их лицах улыбки и понял, что представил им самое блистательное из доказательств их правоты.
Он был свободен. Его выпустили. Выпустит и из зала с бесконечными рядами кресел, выпустили из ада.
«Меня нарочно загнали туда», — подумал Арглиде. Но было так приятно идти по освещенному сиянием факелов коридору, говоря себе, что в нем хватит ненависти, чтобы ударить любого, кто подвернется под руку, и бросить ему в физиономию, что…
— Я не из их шайки, — повторял он про себя, — и никогда в их шайке не буду.
И при этом знал совершенно точно, какой ответ эхом отзывается в его душе. Там была только пустота, и словно обвалилось, рухнуло здание, составлявшее его прежний мир.
И при этом ему открывалась его собственная природа, к которой он лишь начинал привыкать.
И при этом он уже понимал, куда идет.
Туда, где играла музыка.
Над стенами Замка, над Городом и половиной мира стояла ночь. Здесь же, внизу, не было ни дня, ни ночи, лишь настойчиво звучала музыка, прекрасная, плавная и каждое мгновение новая.
Он вошел в комнату и увидел девушку по-прежнему за инструментом, ее пальцы все так же нежно и вдохновенно ласкали гибкие стебли.
Она играла ту самую мелодию, первый ноктюрн для демонов, неодолимо привлекавший их к себе, ведь они одни лишь понимали, сколь он прекрасен.
— Добрый вечер, сестра, — сказал Бенжад Арглиде и опустился у ее ног. Девушка ответила ему улыбкой.
Шарль Хеннеберг, Натали Хеннеберг
«У слепого пилота»

Досье Департамента трансгалактических сообщений.
Составлено на основании свидетельских показаний.
Потолок был низкий, и в магазине царил полумрак — самое подходящее место для того, кто больше не отличает день от ночи. Пахло ароматической смолой, курениями, к ним примешивался аромат какого-то экзотического дерева и высушенных в тени лепестков розы. Магазинчик помещался в подвале одного из старинных зданий той части города, что когда-то сильно пострадала от радиации: спустившись на несколько ступенек, вы оказывались перед точеной решеткой из венерианского сандала. Конический кристалл из древних руин Марса мерцающими бликами освещал вывеску: «У слепого пилота».
В то утро в магазин вошел высокий мужчина, за которым следовал робот-носильщик с каким-то ящиком. С первого взгляда было ясно, что это старый космический бродяга, уже наполовину свихнувшийся — участь многих, опаленных холодным огнем небесных светил. Прибыл этот человек из туманности Аселли — а может быть, с далекого Южного Креста: лицо его было желтоватым, словно воск — осунувшееся, изможденное лицо пилота, слишком подолгу жившего в кабине своего корабля, непроницаемого для ультрафиолетовых лучей, и слишком долго странствовавшего по джунглям космоса. Ящик был вырезан из сердцевины дерева, крепкого, как сталь, и в нем зачем-то просверлили несколько отверстий. Мужчина поставил ящик на пол, и его стенки едва приметно задрожали — словно внутри билось огромное насекомое.
— Вот, — хрипло произнес посетитель, хлопнув ладонью по крышке, — не продал бы это и за миллиард кредиток, но сейчас я на мели и надо продержаться, пока не получу свои наградные. Мне говорили, что ты хоть и кровопийца, но честный ростовщик. Так что возьми это в залог, я заберу через шесть дней. Сколько ты мне дашь?
Юноша, сидевший в углу в старинном кресле, обитом узорчатой парчой, поднял голову. Он напоминал грандов с картин Веласкеса, благородных кавалеров с обманчиво-изящными, железными руками, не стесняющихся своей красоты. Но верхнюю часть его лица закрывала черная повязка.
— Я не кровопийца, — ответил молодой человек ледяным тоном, — и я никогда не беру в залог животных.
— Слепой… Так вы слепой?! — пробормотал посетитель.
— Разве вы не видели вывеску?
— Авария?
— В секторе Плеяд.
— Прости меня, брат, — воскликнул путешественник. Но тут же хитро подмигнул: — А с чего ты взял, что это животное?
— Я слепой, но не глухой.
Действительно, из ящика раздавался едва слышный, почти неуловимый звон, но внезапно все стихло. Путешественник смахнул со лба крупные капли пота.
— Брат, — сказал он. — Это не животное. Ну… не совсем животное. И оно мне очень дорого. Я не могу продать его кому попало. А если до вечера я не раздобуду денег — мне каюк, понимаешь? Не видать больше полетов, как своих ушей. Отберут лицензию.
— Понятно, — негромко произнес хозяин. — Сколько?
— Ты правда дашь под него?..
— Нет, я никому ничего не даю просто так, а твой сверчок в клетке мне не нужен, я уже говорил это. Но я могу одолжить тебе пять тысяч кредиток — и не больше, а в залог оставишь свои пилотские документы. Через шесть дней заберешь их и вернешь мне на пятьсот кредиток больше. Я все сказал.
— Да ты и впрямь кровопийца, хуже любого жида!
— Нет, но я слепой, — отрезал юноша и добавил: — Этим я обязан одному ротозею, который не поставил оружие на предохранитель. Ненавижу ротозеев.
Но как, — поинтересовался старый пройдоха, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу, — как тогда ты проверишь, мои ли это документы?
— На это есть мой брат. Джеки, поди сюда.
Донесся тоненький смешок. Между метеоритом на подставке и почерневшим от ветхости покрывалом, где некогда истекал кровью земной мученик, с которого заживо содрали кожу, что-то зашевелилось, и из темноты выехал маленький уродец в коляске. Ног у него не было вовсе, а вместо рук — короткие обрубки, оканчивающиеся крючками, с помощью которых калека мог управлять своей коляской. Сморщенный ехидный старичок двенадцати лет от роду.
— Радиация, — лаконично пояснил слепой. — Но он вполне освоился с протезами. Джеки, бумаги в порядке?
— О да, Норт. Только они у него грязные, как половая тряпка.
— Ну что ж, это значит только, что они долго прослужили своему владельцу. Дай ему пять тысяч кредиток.
Слепой нажал на кнопку. Раздвинулись дверцы стенного шкафа. На верхней полке стоял небольшой обитый железом ящичек, а внизу лежала, свернувшись клубком, химера с Форамены — самое кровожадное существо во Вселенной, полукошка-полуфурия. Посетитель вздрогнул и отскочил подальше. Калека, ловко орудуя крючками, дотащился до шкафа, подцепил из ящика пачку кредиток и почесал чудовищное создание за ухом. Химера замурлыкала.
— Как видите, наши деньги под надежной охраной, — обронил Норт.
— Можно мне все-таки оставить у вас ящик? — с неожиданной робостью пробормотал посетитель.
И ящик остался. Калека на грузовом лифте поднял его в квартирку братьев под самой крышей дома. Хозяин сказал, что «не совсем животное» сейчас в спячке и кормить его не надо, а дырки в стенках ящика пропускают достаточно воздуха. «Только поставьте его в темное место, — попросил он. — Они живут в темноте и не переносят дневного света».
Дом был очень старый, с множеством лифтов, нежилых помещений и встроенных шкафов. Искалеченных радиацией и получивших увечья в последней войне, которые снимали в нем квартиры по дешевке, это вполне устраивало. Норт втащил ящик в темную комнату рядом со своей мастерской. В этот вечер в частном стереотеатре несколькими этажами ниже крутили ленту о покорении Плеяд — очень старую, даже без сенсорных эффектов, но Джеки заявил, что хочет ее посмотреть. Перед тем, как отправиться, он спросил брата:
— А она там не замерзнет, эта зверюга?
— Замерзнет, жди! Тот тип сказал, что она в спячке.
— К тому же, — язвительно добавил Джеки, — мы с тобой не нанимались ее греть.
Сеанс кончился около полуночи, и когда Джеки выбрался на улицу, вовсю светила луна. Потом мальчик признался, что в ту ночь был взбудоражен чем-то непонятным… Дом заливал яркий белый свет, и Джеки увидел, что застекленная дверь «чердака» — так он называл мастерскую брата в мансарде — затянута изнутри черной занавеской.
— Чего это Норт, испугался, как бы свет не повредил зверюге? — фыркнул мальчик.
Цепляясь крючками за перила, он быстро оказался у двери и постучал. Никого. Ключа в замке не было. Джеки тогда подумал, что брат спустился в бар, и он решил подняться на крышу — подождать там. Ночь была теплая, а воздух на такой высоте не уступал кондиционированному и отфильтрованному. Серебряная луна неподвижно висела в черном небе.
— Что-то в этом есть, — сонно размышлял Джеки, — этот свет точно так же лился еще в незапамятные времена, и сколько видела луна королей, поэтов и всяких там влюбленных!.. Вот кошки чувствуют притяжение луны: разорались в темноте, да и собаки тоже… Впрочем, в кварталах для бедных роль собак исполняли роботы. А Джеки давно мечтал иметь живую собаку — ему ведь было всего двенадцать лет! Но закон запрещал радиационным мутантам держать животных.
И тут…
(Показания свидетеля записывались на пленку, и есть основания предполагать, что здесь свидетелю не хватило дыхания. Запись была приостановлена. Следующая запись начинается со слов: «Большое спасибо за кофе. Было очень горько».)
Он различил какой-то тихий шорох — словно плеск далеких волн, когда прижимаешь к уху морскую раковину. Этот шорох становился все ближе, ближе… И тут он увидел — но не смог бы объяснить, как… Он видел жемчужно-серое небо, прозрачно-зеленую воду, отливающие серебром гребни волн. Джеки не очень удивился — он ведь только что посмотрел стереофильм. Скорей всего, кто-нибудь в доме напротив включил сенсорный проектор и его образы как-то достигли крыши.
Но гул все нарастал, и мальчик почувствовал, что погружается в зеленую воду. Запахло водорослями, морским прибоем. Увлекаемый течением, он двигался легко и свободно, забыв о своих увечьях. Под ним проплывали песчаные отмели, островки трепещущих водорослей и голубых, отливающих перламутром актиний. Поднявшись из океанских глубин, светились синеватым фосфоресцирующим огнем загадочные рыбы, проносились огненно-красные морские звезды. Прозрачная медуза задела его руку, и Джеки почувствовал ожог. Акула-молот спугнула стайку серебристых рыбок, и они взмыли вверх мерцающим облаком. А внизу сгущалась темнота, непроницаемая, таинственная: там чернел загадочный лес кораллов. Из трещины в скале высунулись щупальца осьминога, и Джеки вздрогнул.
Он наткнулся на торчащий из песка нос корабля. Маленькая черно-золотая сирена, увешанная ожерельями из ракушек, улыбнулась ему, и он, сам того не желая, опустился на дно и увидел пробоину в борту корабля, из которой выглядывал угол старинного сундука, полного драгоценностей — то были сокровища пиратов. В глубине трюма смутно белела груда костей, и оскаленный череп смотрел пустыми глазницами. «Любительский фильм, — запоздало подумал Джеки, — слишком уж все по-настоящему». Он рванулся вверх, изо всех сил оттолкнувшись крючками, вынырнул на поверхность — и чуть не закричал от ужаса.
Небо над ним — это было не земное небо! Норт не раз рассказывал, как выглядит темный безбрежный океан, открывшийся сейчас его взгляду — одни называют его космосом, другие — эфиром… Звезды, ставшие вдруг близкими, ослепили его. Вспыхивали и гасли, исчезая во тьме, метеориты. Джеки видел, как вращаются совсем рядом планеты и, казалось, мог дотронуться до них — красный шар, оранжевый, небесно-голубой, а вот и Сатурн кружит в своем кольце…
Они были так близко, что Джеки попытался отстранить эти сияющие шары, сделал неловкое движение, упал и покатился вниз по ступенькам. Спустя какое-то мгновение открылась дверь — он не долетел еще до середины первого пролета — и снова его захлестнул океан, только на этот раз он погружался не один — вода стала вдруг красной, и это было очень страшно, а рядом с ним, покачиваясь, медленно опускалось на дно человеческое тело. Джеки увидел желтовато-бледное, иссеченное морщинами лицо.
Он поднял голову. В дверях стоял Норт, белый, как те старинные статуэтки из слоновой кости, что стояли на полках в магазине: черная повязка перечеркивала его лицо, словно деля надвое.
— Кто здесь? — истерически выкрикнул он. — Отвечай, не то я вызову полицию!
Грубый, злобный окрик. А ведь Норт всегда говорил с младшим братом так ласково…
— Это я, — дрожащим голосом пролепетал мальчик. — Я добирался домой и поскользнулся на лестнице.
(«Я ему соврал», — скажет потом Джеки допрашивавшим его офицерам Департамента. И взглянет на них откровенно вызывающе: «Ну да, соврал. Потому что иначе, я знаю, он бы прибил меня».)
На следующее утро не было ни кровавых следов, ни трупа на лестничной площадке, но едва заметно пахло водорослями…
Джеки в задней комнате магазинчика разливал кофе. В стереовизоре менялись полосы утренних газет. Одна из них сообщала скороговоркой, что возле порта прибило к берегу труп неизвестного мужчины. На экране появилась фотография, и в это время вошел слепой.
— Эй, Норт! — ухмыльнулся Джеки. — Слушай, плакали твои пять тысяч!
— Что ты мелешь? — оборвал его брат, привычным жестом взяв чашечку из китайского фарфора и бутерброд.
— Тот тип, что притащил зверюгу, как его там? А-а, да, Жоас Ду Гуаште — ну и имечко, язык свернешь — так вот, его сегодня как раз выудили в порту. Кстати, они даже не знают, кто он такой — бумажник-то свистнули!
— Чистый убыток, — хмуро кивнул старший брат. — А ты уверен, что это он?
— Ну да, вот же его показывают. Не очень-то приятное зрелище.
По тонкому лицу Норта пробежала легкая судорога.
«У него вроде камень с души свалился», — подумал Джеки, но вслух спросил лишь:
— А что будем делать с его зверюгой?
— Она тебе мешает? — спросил Норт — на взгляд Джеки, как-то уж слишком легкомысленно.
— По мне, старина, — пробасил мальчик, подражая известному толстяку-комику, — лишь бы в брюхе не урчало! А откуда он явился, этот Жоас?
— Болтал что-то про Аселли, — ответил Норт, с ловкостью фокусника ухватив второй бутерброд. — Ты чем сегодня занимаешься?
— Дел по горло! Отослать заказ Смитсону. Получить партию «лунных колокольчиков». Да еще надо в центр переподготовки инвалидов.
— Вот и отлично. Прихвати заодно мне кассету с новостями за неделю.
Но в то утро Джеки не пошел ни в центр переподготовки, ни к заказчикам. Пристроившись со своей коляской на краешке движущегося тротуара, он отправился в Астроцентр. Это был небоскреб — один из сотен небоскребов города. Джеки с трудом добрался до лифта под смех и шуточки окружающих. «Никак этот малый собрался управлять звездолетом? — хохотали одни. — Вот будет высший пилотаж!» «Ты, обрубок! — кричали другие. — Дальше Луны все равно не улетишь!» Впрочем, Джеки давно привык к шуткам, приходилось слышать и не такое.
Мальчику было обидно, но не за себя — за Норта. Никогда больше Норт не войдет сюда, в эти залы, увешанные звездными картами, где вдоль стен тянутся полки с микрофильмами и стеклянные стеллажи с моделями кораблей от древних многоступенчатых ракет и спутников до гигантских ядерных звездолетов. Запыхавшись, Джеки подкатил к справочному компьютеру и, чуть подумав, задал вопрос.
— Аселли, — раздался бесстрастный голос. — Что именно вас интересует? Северный Анон? Южный Анон? Гамма Рака? Дельта Рака?
— А больше там ничего нет?
— Альфар, долгота 26°19′. Его называют также Альфой Гидры.
— Гидра? Такое морское чудовище? Значит на этой планете есть моря? Прочтите о ней все.
— Системных данных нет, — засвистел компьютер. — Планета практически не исследована. Поверхность целиком покрыта океаном. Постоянных связей с Землей не поддерживается.
— А животные и растения?
— Фауна и флора типичная для океанов, ничего другого пока не обнаружено.
— Разумная жизнь?
Компьютер помедлил долю секунды.
— Также пока не обнаружена. Считается, что разумные обитатели отсутствуют. Из млекопитающих — только ламантины.
— Что это такое? — у Джеки вдруг тревожно сжалось сердце.
— Семейство водных млекопитающих отряда сирен. Травоядные. На Земле обитают у берегов Африки и Америки. Могут достигать трех метров в длину. Иногда заплывают в устья рек.
— Си… сирен?
— Отряд водных млекопитающих, близок к китообразным. Включает дюгоней и ламантинов.
Джеки заткнул уши и закричал:
— Да нет, нет, это я знаю, я спрашиваю, что такое сирены!
— Сирены, — проскрипел голос. — Мифические существа, наполовину женщины, наполовину птицы или рыбы. Согласно легендам, своим сладостным пением завлекают мореплавателей на рифы…
— Где?
— Да на Земле же, — компьютер, казалось, обиделся, что его перебили так неуважительно. — Между островом Капри и побережьем Италии. Похоже, молодой человек, вы сами не знаете, чего хотите.
Но Джеки как раз знал…
Когда он вернулся, все было, как он и ожидал: магазин заперт, к двери приколота записка: «Пилот вышел». Порывшись в карманах, Джеки отыскал ключ и скользнул внутрь. Тишина и порядок, как всегда, вот только запах… Запах теперь ощущался так явственно, словно у моря, на берегу тихой бухты, жарким летом: запах водорослей, ракушек, морского прибоя. И еще смолы — чуть-чуть. Джеки стал накрывать на стол, потом приготовил славный обед: салат из омаров и спагетти. Скрытный, замкнутый мальчик, ни на что не годный, кроме самых простых дел, он в глубине души любил заниматься домашним хозяйством. Наконец все было готово: в вазах стояли свежие цветы, спагетти дымились в тарелках, а в бокалах с коктейлем медленно таяли кубики льда. Джеки трижды нажал кнопку звонка — это был условный сигнал. Братья, каждый со своим увечьем, очень привязались друг к другу, и между ними давно выработался лишь им двоим понятный язык — первый звонок означал: «Обед готов, ваша светлость, пожалуйте к столу», второй: «Хочу есть», а третий: «Хочу есть, есть, есть, черт подери!» Четвертый звонок мог бы значить примерно следующее: «Что случилось? Пожар?» С минуту поколебавшись, Джеки нажал кнопку еще раз. Тишина. Среди застывших диковинных растений и тускло поблескивающих камней с других планет Джеки стало страшно. Неужели Норт и вправду куда-то ушел? Мальчик добрался до грузового лифта и поднялся на верхний этаж.
Там он услышал новые запахи: повеяло чем-то пряным, незнакомым, дурманящим — откуда Джеки было знать, что это сказочные ароматы из прошлого: амбра, алоэ, росный ладан, горьковатый фимиам Балкиды Савской и крепкий мускус Клеопатры…
И музыка — отчетливая, почти осязаемая, словно сияющий столб света вздымался перед ним. «Как это на других этажах ничего не слышат», — растерянно подумал Джеки.
Норт Эллис тщательно закрыл за собой дверь, запер ее на ключ и на задвижку. Сильные и ловкие руки слепого действовали с точностью хорошо отлаженного механизма, движения были привычными, только сердце колотилось, дыхание стало прерывистым, и вдобавок Норт чуть не оступился на лестнице, так он спешил. Но все-таки осторожничал. Джеки… «Может, отослать мальчишку в Европу?» — подумал он, в изнеможении приваливаясь к двери. Тетка, сестра их матери, живет где-то за океаном, в маленьком городке с певучим названием. Нет, Норт не станет снимать с себя ответственность за судьбу Джеки…
Но он отбросил все эти заботы, отмел их, как сухие листья, и вошел в темную комнату, где стоял ящик под черным покрывалом. Пальцы его судорожно сжали крышку, и ладони тут же пропитались незнакомым ароматом дерева.
— Ты здесь? — прошептал он охрипшим от нежности голосом. — Ты ждала меня, да?
Та, к кому он обращался, притаившись в темноте, ответила не сразу, но волны музыки уже разбегались по комнате. И слепой пилот, упавший с небес на землю, словно птица с перебитыми крыльями, человек, которого не ждали больше ни давно умершая мать, ни рыжеволосая девушка с лицом нежным, как первоцвет, которая когда-то смеялась, запрокинув голову и разметав бронзовые кудри по белому платью, — этот человек не чувствовал себя больше обделенным и несчастным.
— Ты красивая, правда? Самая красивая… Твой голос…
— Что еще ты хочешь знать? — прошелестела волна, накрывая его. — У тебя нет глаз, у меня нет лица. Еще вчера, когда ты пришел ко мне, я сказала тебе: все, что поет и струится — это я. Водопад, окутанный облаком брызг, горный поток, волна с пенным гребнем, лунный отблеск на глади океана. И океан — это я. Войди в мои волны…
— Вчера ты заставила меня убить человека.
— Что такое человек? Я пою тебе о безднах, об убаюкивающих волнах, о черных глубинах и мерцающем свете, об океане — прародителе всего живого, а ты говоришь о смерти какого-то матроса. Этот ничтожный получил по заслугам: он поймал меня и запер в ящик, и он вернулся бы сюда, чтобы разлучить нас с тобой!
— Разлучить нас… — прошептал Норт. — Разве такое возможно?
— Нет, никогда, если ты пойдешь за мной.
Мелодия нарастала, стала пронзительной. Словно стрела, вонзившаяся в грудь, словно мост, перекинутый через безбрежный океан. Все, что скрывалось в подсознании, вырвавшись, устремилось навстречу этим звукам. Раскрылась пучина, водоворот, полный мерцающего тумана и искрящихся огней…
Норта закружило и понесло.
…Как странно узнавать здесь, за пределами человеческих представлений о времени и пространстве, звезды и созвездия, которые видел когда-то своими глазами — вот лучится холодным светом Полярная звезда, вот рассыпанные жемчужины Пояса Ориона… А он парит один в бездонном мраке, без корабля, без скафандра — как чудесно!.. Нити света оплели его сетью и покачивают в пустоте, или у него выросли крылья? Чердак, населенный калеками дом в радиоактивном квартале, Земля… Как все это до смешного далеко сейчас! Среди звезд он разглядел светящийся изгиб Дракона. Пересек бездну, полную мерцающих темных огней Волосы Вероники, оцарапал руку о сияющий голубой сапфир — Вегу в созвездии Лиры… Нет, он не был один — живая музыка окутывала его и несла все дальше и дальше. Мелодия складывалась в слова.
— Ты думал, что познал бесконечность? — пела она. — Жалкие создания, вы считаете себя всеведущими и всесильными. Вы построили грубые машины, которые нарушают гармонию звезд, а потом вспыхивают и падают, сгорая, и с ними сгорают хрупкие души людей… Иди за мной, я покажу тебе, что видим и знаем мы во мраке, в глубинах океана — ведь снизу можно увидеть то же, что наверху…
Созвездия стремительно надвигались — и музыка звучала все громче. Норт смотрел во все глаза на то, чего ни один пилот никогда не увидел бы и на самом лучшем стереоэкране: словно россыпи рубинов и изумрудов множество разноцветных солнц, спирали созвездий, подобные огненным змеям… Дождь метеоритов пронизывал неподвижные скопления звезд. Сверхновые неслись ему навстречу, взрываясь, разлетаясь на мельчайшие осколки, пляшущие в звездных вихрях, гиганты и карлики низвергались огненным водопадом. Пространство и время стали пылающим кратером вулкана.
— Выше! Быстрей! — пел голос.
Это было уже не просто головокружение, не просто пьянящий полет. Норт словно сбросил свое тело, растворился, смешался со звездной пылью, сам стал песчинкой, затерянной в бесконечности…
— Выше! Быстрей!
Когда же он ощутил это? Быть может, в этот самый миг оттуда, из-за звездных аркад, из бездны, из таких глубин, о каких и помыслить не может человек, повеяло на него ледяным дыханием и он почувствовал, как его сковывает ужас. Нет, нечто большее, чем ужас. Он провалился на самое дно пучины, он преодолел бесконечность — и там кончился полет. Там начиналась пустота, небытие. Норт лежал на дне глубокого колодца, в кромешной тьме и ощущал вкус крови во рту. Стены колодца то и дело содрогались от ритмичных ударов. Он попытался подняться и почувствовал, что опирается руками на шероховатую деревянную поверхность. Детский голос звал его откуда-то издалека:
— Норт! Норт! Ты что, не слышишь? Открой дверь! Открой же!
Норт медленно приходил в себя. Его трясла дрожь, он был так слаб, будто вся кровь только что вышла из него. На миг Норту показалось, что его корабль снова потерпел крушение в Плеядах. Приподнявшись на локтях, он пополз к выходу. Ему еще хватило сил, чтобы отодвинуть засов и толкнуть дверь, и тут же, на пороге, он потерял сознание.
— Понимаете, это были такие путешествия… — Джеки поднял голову и посмотрел на сидевших перед ним офицеров Департамента космической полиции. Они оказались совсем не злыми. Дали ему сэндвич и теплый плед. Но разве эти люди смогут понять?
— Я и не знал, что Норту было так плохо, — продолжал он. — Я-то никогда не путешествовал, раз только был у моря. А Норт… С тех пор как он ослеп, он всегда казался таким спокойным! Я думал, он теперь стал, как я. Мне всегда было хорошо возле него, и никуда не тянуло. Чтобы походить на него, я даже иногда завязывал глаза, мне было интересно, как можно воспринимать мир только в звуках. Правда, уборщица и ночной сторож (не робот, а настоящий сторож) не раз говорили нам: не годится так жить двум парням. Но ведь Норт слепой, а я калека. Кому мы нужны?
Нет, подумал начальник Департамента, мальчик ошибается, Норт кому-то очень нужен. Но вслух ничего не сказал, и Джеки продолжил свой рассказ.
На следующий день было пасмурно. Норт зачем-то вытащил из груды хлама свой старый скафандр и, посвистывая, принялся начищать металлические части.
«Хочу поставить его у входа в магазин», — объяснил он Джеки.
Около полудня зазвонил телефон. Сняв трубку, Джеки услышал, что руководство известного на всю страну детского приюта не решается принять ребенка со столь сильными увечьями. Мальчик выслушал казенные извинения и молча положил трубку. Итак, речь шла о нем. Значит, Норт хочет от него избавиться?.. С ума он сошел, что ли? Ведь для него это все равно, что еще раз ослепнуть! За завтраком, когда ни один из братьев не проронил ни слова, Джеки пришло в голову перерезать телефонный провод — наконец-то тогда все оставят их в покое. Однако сначала он решил позвонить доктору Эверсу, их лечащему врачу. Но телефон молчал. Джеки понял — Норт опередил его.
Тогда он постарался стать маленьким и незаметным, забившись со своим креслом в уголок за сундуками, а потом вскарабкался на книжную полку. Эта полка давно стала его привычным убежищем, его тайником. Наверху лежало несколько древних фолиантов в переплетах из золотистой кожи, пахнувшей то ли ладаном, то ли сигарами, с пожелтевшими страницами и чудным шрифтом, которым пользовались в XX веке. В них были странные картинки — не мультипликация, как теперь, просто неподвижные. Открыв наугад одну из книг, Джеки сразу наткнулся на увлекательный рассказ о капитане, который плыл на своем корабле все вперед и вперед по свинцово-синему морю. Паруса корабля были из алого шелка, а сам корабль — из драгоценного сандала. С берега доносилось сладостное пение, песня лилась и звала моряков к неизведанному… Перед кораблем вздымались рифы в облаках брызг, словно осыпанные жемчужинами, луна озаряла скалы, а Улисс привязывал своих матросов к реям и заливал им уши воском. И лишь он один услышал пение сирен…
— Норт, — спросил вдруг мальчик, забыв о всякой осторожности, — скажи, а сирены бывают?
— Как? — переспросил слепой, вздрогнув.
— Ну, моряки в старые времена рассказывали…
— Глупости, — ответил Норт. — Эти моряки слишком подолгу бывали в открытом море, а от этого можно тронуться рассудком. Представляешь, они добирались от Крита до островка под названием Итака дольше, чем мы теперь до Юпитера. Иногда у них кончалось продовольствие, и они голодали, а их корабли были не прочнее ореховой скорлупки. Но главное — много месяцев они не видели ни одной живой души, кроме друг друга, и все были одинаково грязные, заросшие и слегка чокнутые. Ну и, сам понимаешь, рассудок у них мутился, так что любая девка с пиратской шхуны могла показаться им Цирцеей или Калипсо, а за сирену они принимали первого встречного кита или дельфина.
— Или ламантина, — сказал Джеки.
— Ну да, ламантина. А ты сам-то их видел?
— Нет.
— Конечно, вряд ли они есть в зоопарке. Возьми-ка четвертый том энциклопедии, он слева, на полке. Где написано «Естественные науки». Открой страницу 792. Нашел?
Между пожелтевших страниц Джеки увидел совсем новенькую закладку — значит, Норт уже листал этот том, хоть и не мог его прочесть. На картинке было изображено крупное животное вроде моржа с большой круглой головой, пышными усами и маслянисто поблескивающей кожей. Рядом такая же самка кормила детеныша. У всех троих был очень серьезный вид. Джеки стало смешно, — не сдержавшись, он захихикал.
— Забавно, да? — спросил Норт. Мальчик никогда не слышал, чтобы брат говорил таким глухим, будто надтреснутым голосом. — Подумать только, сколько людей бросалось, очертя голову, в волны из-за этих тварей. Точно, они все были чокнутые!
Но ближе к вечеру Норт предложил Джеки билет в планетарий и спросил, не хочет ли тот покататься на аттракционах в луна-парке. — Спасибо, — ответил мальчик, — что-то не хочется. — Ему действительно не хотелось выползать из своего угла, на полке было так уютно. Он снова открыл толстый том в золотистом переплете, осознавая впервые, что мир полон тайн, и что судьба может принимать самые разные обличья. Перед его глазами сменяли друг друга названия сказочных островов, легендарные герои отправлялись на поиски золотого руна или вызволяли своих возлюбленных из царства Аида. Или, взлетев к самому солнцу, обжигали крылья и падали с небес…
Норт бродил по магазину, закрывал окна и переставлял безделушки на полках. Он ушел бесшумно, Джеки и не заметил: только когда мальчик собрался спросить еще о парусных кораблях, он понял, что брата нет. Охваченный внезапным страхом, Джеки слез с полки и обнаружил, что его кресло на колесах тоже исчезло. Цепляясь за что попало, он стал выбираться из-за сундуков и тут, среди сваленного в углу хлама наткнулся на что-то мокрое, липкое и очень страшное: это был бумажник Жоаса Ду Гуаште. А в нем — пять тысяч кредиток…
Страх Джеки перерос в ужас. Почти ничего уже не соображая, он пополз к двери, но та была заперта. Добрался до шкафа-лифта — он тоже не открывался. Внутри отчаянно мяукала химера с Форамены.
— Плохи наши дела, старушка, — прошептал Джеки, прижавшись губами к щели. — Заперли нас с тобой. — Он до боли закусил губу, слизнул кровь, выступившую в уголках рта и глубоко задумался. Надо было что-то делать, и быстро. Колотить в дверь бесполезно: уже поздний вечер, на улицах никого, все нормальные люди сейчас дома перед стереовизорами; и стучать в стены нет смысла — в полуподвале, где находится магазин, никто не живет, в подвале тоже. Телефон отключен. Джеки поступил так, как повел бы себя любой мальчишка, запертый в пустой комнате, только в отличие от других, для него это потребовало почти нечеловеческих усилий: он вскарабкался по шторе на подоконник, крючком ухитрился открыть окно и спрыгнул вниз. Упал на спину и больно ударился о камни мостовой.
«Вот проклятый мальчишка, — подумал Норт, отпирая дверь мансарды. — Сирены ему понадобились!..»
У него дрожали руки. Волна знакомых, ставших уже привычными ароматов нахлынула и окутала его — таким воздухом дышал он когда-то на далеких планетах. Норт понял, чего от него хотят и, не сопротивляясь более, поплыл по этому океану, увлекаемый водоворотом звуков и запахов. Его искалеченное тело, ненужное больше, ставшее обузой, осталось лежать где-то, покачиваясь на волнах…
— Вот и я, — пела музыка. — Я с тобой, я в тебе, а ты теперь — это я. Тебя хотят удержать на Земле, но все, что связывает тебя с Землей — чепуха. Ты не землянин больше, ибо мы с тобой — одно. Вчера я показала тебе глубины, которые знаю я, теперь покажи мне звезды, которые знаешь ты. Расскажи, какие планеты ты видел, пусть твои воспоминания одно за другим станут моими. Быть может, так мы с тобой найдем наш мир, который ждет и зовет нас. Идем. Я выберу тебе планету, как драгоценнейшую жемчужину в россыпях жемчуга…
И тут он увидел их все.
Вот Альфа Спики из созвездия Девы, ледяной шар, чья атмосфера так насыщена водяными парами, что корабль, едва снизившись, весь покрывается инеем. Эта планета мерцает, словно тысячегранный бриллиант в лучах далекого зеленого солнца: она покрыта льдом почти до самого экватора. Если спуститься, тебя со всех сторон опутают разноцветные радуги, ослепит северное сияние и снег, а снег там пахнет ладаном — всем пилотам знаком его дурманящий аромат. Любой случайно задержавшийся на этой планете астронавт уже через несколько часов терял рассудок.
Норта неодолимо влекло прочь, подальше от этого мира, и следующая планета, которую он узнал, был Фос из созвездия Лебедя, планета-магнит, планета-могила. Отсюда он тоже всегда предпочитал держаться подальше: по орбите этой планеты кружили тысячи погибших кораблей, которые она затянула в ловушку. Самые отчаянные астронавты навеки остались здесь в своих блестящих стальных гробах: этот шар, размером не больше Луны, целиком состоял из чистейшей магнитной руды.
Они вихрем промчались мимо капли раскаленного кипящего хрусталя — это был Альтаир. Еще одна западня подстерегала их в созвездии Ориона, в центре которого сверкал огромный бриллиант — Бетельгейзе; вокруг в пустоте вставали миражи, целый лес миражей, пронизываемый ослепительными молниями. Планета, притаившаяся там, не имела в атласах даже названия, а сами астронавты называли ее Солнечной Росой. Космические лоцманы боялись этого места, как преисподней.
— Выше, — пел голос, и тысячи звездных отголосков подхватывали его песню. — Выше! Дальше!
Но тут Норт попытался освободиться. Он понял, куда его влечет, и знал, что на этом пути его ждет нечто худшее, чем преисподняя. Ибо ему уже пришлось пережить это однажды. Там, в самом центре таинственного созвездия Рака, была удивительная планета с низким, серебристо-лиловым небом. Прекраснейшая из всех, которые он видел, та единственная, которую он полюбил, как женщину, потому что два ее океана напомнили ему пару зеленых глаз, Корона из десяти мерцающих лун венчала Альфу Гидры, — планету, которую первые астронавты называли Альфаром. Оксаны ее были бездонны, пенистые гребни вздымались на них, и царил здесь запах моря, соли, водорослей и амбры. Она была окутана музыкой ультразвуковых волн, которая делала невозможной связь с этим миром и сбивала с пути звездолеты. Кислорода в се атмосфере было так много, что самый воздух ее опьянял и убивал все живое. Корабли, которым удавалось оторваться от коварного Альфара, уносили на борту мертвецов с застывшей на лицах счастливой улыбкой.
И вот однажды, пытаясь выбраться из этой манящей западни, корабль, управляемый Нортом, устремился к созвездию Плеяд и там вспыхнул, столкнувшись с астероидом…
Кровь неистово забилась в висках бывшего астронавта. Над горизонтом взмыло огромное светило — Поллукс, оно задрожало и взорвалось — будто что-то взорвалось в голове Норта, за ним так же вспыхнули Процион и Сириус, и весь Млечный путь зашелся в судорогах. Человек, затерянный в этом огненном океане, бессильное существо, отчаянно барахтаясь, погружался во мрак. Крошечный атом среди гигантов, да нет, не атом — всего лишь отзвук, эхо далекого звука посреди звездной симфонии…
— Здесь, — сказал Джеки, утирая ладонью кровь с прокушенной губы. — Клянусь вам, инспектор, что это здесь. Вот из этого окна я выпрыгнул.
Да, вот оно, окно, и осколки стекла, которое он разбил, падая, но Джеки молчал о том, как ему было больно. Он сильно порезался и некоторое время висел на своих крючках, а свалившись вниз, потерял сознание. Когда, наконец, мелкий дождик заставил его очнуться, он пополз. «Я все полз и полз…» — говорил он потом в полиции. Мимо проносились машины, люди в некоторых даже притормаживали, заметив на дороге непонятное существо, похожее на раздавленную гусеницу: «Ой, Мэрилин, смотри какой забавный уродец!» «Не останавливайся, Гейл, это же мутант». «О, звезды! Они ведь, кажется, заразные!..» Джеки только крепче стискивал зубы. Наконец рядом с ним остановился небольшой грузовичок. Это был мусоровоз. Два робота-мусорщика подняли мальчика. Он отчаянно закричал, представив себе, как его везут на свалку и швыряют в кучу отбросов. На его счастье за рулем сидел человек, который услышал крики и отвез Джеки в полицейский участок…
— Я ничего не слышу, — сказал инспектор после минутной паузы.
— Никто во всем здании ничего не слышит, — задыхаясь, проговорил Джеки. — Наверное, это дано только очень несчастным, или уж не знаю… предрасположенным, что ли? Может быть, это ультразвук? Смотрите, ваши собаки беспокоятся!
И правда, красавцы-доги, собаки спецслужбы, дрожали, топтались на месте и тихонько поскуливали.
«Ну и дельце мне опять досталось, — подумал инспектор Морель. — Везет, как утопленнику: обрубок-мутант, свихнувшийся астронавт, какая-то сирена… А коллегам в Управлении дай только повод поржать…»
Но Джеки плакал и колотил крючками в дверь, и инспектор, подумав, кивнул своим людям: «Ломайте!» Мальчик тут же пополз к лифту; один из полицейских собрался было пристрелить химеру, которая, злобно урча, выскочила из шкафа.
— Не надо! — выкрикнул Джеки. — Это только большая кошка с Форамены. Вы поднимитесь, пожалуйста, поднимитесь наверх, а я доберусь на лифте!
«Сумасшедший дом, — тоскливо поморщился инспектор. — В жизни такого не видел». Куда ни глянь, везде стояли и лежали странные предметы — не то роботы, не то идолы, один с тремя головами, другой с семью руками. Повсюду валялись говорящие раковины. Один из полицейских взвыл от ужаса, почувствовав, как его ногу обвила живая лиана. И чего только таможня космопорта пропускает такие штуки? Давно бы пора запретить. «Да, — заключил инспектор, — неудивительно, что тот парень спятил…»
Когда полицейские поднялись на крышу, Джеки лежал перед запертой дверью мансарды, тщетно пытаясь открыть се своими крючками. Был ли это ультразвук или что-то другое, но взрослые сильные мужчины в форме побледнели. Неземная музыка, заполнившая чердак, была теперь слышна и почти осязаема. Инспектор решительно постучал в дверь и гаркнул: «Открывай!» Но никто не отозвался.
— Он умер, да? — прорыдал Джеки.
Но чувствовалось, что там, внутри, притаилось что-то живое. И недоброе.
Морель велел полицейским встать по двое с каждой стороны двери. Специалист по замкам, коротышка с плутоватой физиономией, принялся за работу. Полицейские должны были, как только он закончит, распахнуть обе створки и ворваться внутрь, сам же инспектор с лучевым пистолетом прикрыл бы их в случае внезапного нападения. Но в мансарде царила непроглядная тьма: надо было, чтобы кто-нибудь посветил мощным фонарем.
— Давайте я! — сказал Джеки. Он весь дрожал, лицо его было мертвенно бледно. — Инспектор, если там лежит мой брат, вы не можете мне не позволить… В конце концов, чем я рискую? Вы ведь пойдете впереди. И клянусь, я не выпущу из рук фонарь. Ни за что!
Инспектор смерил взглядом это жалкое подобие человека.
— Ты можешь попасть под удар, — хмыкнул он. — Никогда не знаешь, какое оружие применят эти инопланетные твари. Нам не понять, что они там себе думают и чего хотят… Может быть для этой зверюги петь, как для нас дышать!
— Знаю, — ответил Джеки.
А про себя добавил: «Потому-то я и попросил дать мне фонарь. Я должен решить с ней все один на один».
Инспектор протянул ему фонарь. Мальчик так и вцепился в него. И тонкий белый луч лезвием ножа проник в замочную скважину.
Все почувствовали, как ослабло нечеловеческое напряжение. Словно бы порвался туго натянутый канат. Собаки тут же успокоились и легли на пол, — с их языков еще капала пена. И тут вдруг за дверью что-то рухнуло с оглушительным грохотом, глухо ударившись об пол…
Чердак наполнился отвратительным запахом паленого мяса. Далеко внизу, на улице, как муравьи, забегали и закричали люди. Дом горел. На крышу будто упал с неба огромный пылающий факел…
Полицейские вышибли дверь, и Морель, переступив порог, наткнулся на страшное обгоревшее тело, вернее груду обугленной плоти — даже лица у Норта не было. Так мог выглядеть человек, выброшенный из космического корабля и долго падавший среди звезд, как метеорит… Человек, оказавшийся в космосе без скафандра… Сломанная марионетка… Норт Эллис, слепой пилот, потерпел свое последнее крушение.
Полицейские отшатнулись, не в силах справиться с тошнотой. Но Джеки не двинулся с места. Крепко держа фонарь, он поворачивал его в разные стороны, прощупывая темноту. Музыка, которую слышал он один, стихала, постепенно превращаясь в какофонию. Вот невидимое существо испустило последний предсмертный вопль (тут во всех окнах со звоном вылетели стекла, а на стенах домов погасли светильники).
И наступила тишина.
Джеки уселся на пол и снова облизал окровавленные губы. Полицейские уже срывали черные занавески, расшвыривали мебель. Один из них крикнул:
— Шеф! Тут ничего нет!
Джеки выронил фонарь и приподнялся на своих культях.
— Посмотрите в ящике! — закричал он. — Там, рядом, в темной комнате!
— Там тоже ничего. И ящик пуст.
— Смотри-ка, — заметил самый молодой из полицейских, — тут что-то валяется…
Когда «что-то» вынесли на площадку, Джеки сразу узнал круглую голову, которая теперь раскачивалась, как маятник, блестящую черную кожу, плавники… Должно быть, существо умерло от первого же луча света, но и мертвое его тело еще продолжало испускать волны ультразвука. Ультразвуковой излучатель? Нет. Из двух красных щелок на голове существа капали кровавые слезы. Они совсем не переносят света, эти сирены с Альфа Гидры…
Жильбер Мишель
Как раненая птица

Он падал бесконечно долго, это видели все. В своем полупрозрачном одеянии он походил на раненую птицу, возвращающуюся в гнездо. Кое-кто утверждал, что у купален сладострастия или, может, чуть ниже он закричал, однако знавшие его лучше отказывались этому верить.
Его звали Арго — подходящее имя для того, кому суждено погибнуть в полете. Нет, он не закричал. Он умер как герой, должно быть, и в вечности сохранив свою улыбку… язвительную прорезь на пергаментном лице.
Никто не полез на дно котловины искать труп, боялись заплутать в лабиринте с его галереями, туннелями и узкими проходами. Там было слишком сумрачно, и слишком многие силы проявляли там свои причудливые свойства. Тех, кто был мало-мальски наделен воображением, преследовало видение: исковерканное тело, соскальзывающее с плоской площадки в проход…
В компании об Арго говорили редко. Он умер как настоящий художник, приняв на себя во время падения полную ответственность за ту дополнительную толику страха, которой себя обрек.
Эзион не одобрял его жеста, находя в нем некое несовершенство. «Отсрочка, которую предоставляет слишком долгое падение, — говорил он, — разрушает изящество самого поступка. — И добавлял: — Результат нечеток. У падающего с Вершин Града слишком много времени, чтобы разбить твердый кристалл совершенного деяния. Отсутствие зрителей ничего не меняет: поступок должен быть безукоризнен именно потому, что вынашивается он в одиночестве».
Эзион славился строгостью взглядов.
Юмо, по-видимому, склонялся к сходной точке зрения.
— Самоубийство, — цедил он сквозь зубы, — следует задумывать как поэму. Не надо останавливаться перед повторением древнейших образцов ритмических композиций. Первые строфы — психические, — которыми вводится идея, должны по важности не уступать итогу, который в гармоническом виде получают, уравновешивая колебания, вполне естественные на настоящей стадии нашего развития при условии, однако, что на заднем плане сознания филигранью проступает развязка.
Лаго считал, что смерть должна быть мгновенной. «Как фиолетовая молния при ущербной луне». И объяснял:
— Потрясение от деяния надрезает ткань действия с усилием, которое я бы назвал… эстетическим (в компании Лаго находили несколько поверхностным). Мелодическая линия, определяющая мелкие события последних часов жизни, должна замыкаться на себя и ослабевать как раз в то мгновенье, когда художник кончает счеты с жизнью.
— Но разве тем самым не обманывают ожиданий, связанных с самим поступком? — спрашивали у Лаго.
— Ни в коей мере. Мгновенная смерть своей насыщенностью уравновешивает долгие периоды мысленной и физической подготовки, энергетический потенциал которой, согласитесь, ниже.
Он высказывался за мощное оружие, нейтронный взрыв тела, например, дополняющий преходящее изящество замысла изысканным разложением плоти на мельчайшие элементы.
Иногда он заявлял:
— Свой выбор я сделал. Устройство уже есть, и я приступил к подготовке. Действовать буду как подобает, официально дам знать о своих намерениях на предстоящих ораторских состязаниях. Там я вызову у себя поэтический транс, который должен привести к озарению. Вы не раскаетесь, что дали готовиться мне так долго…
Никто в этом и не сомневался.
Самоубийства Лаго ждали с известным любопытством.
«Симфония, в высшей степени соразмерная, чудесная по широте охвата… Вершина… Наслаждение…»
Дни проходили за днями. Заметных событий случалось немного. Бирюзовые кометы, появляющиеся каждый год во время катаклизма, озаряли пространство над самыми высокими башнями.
Лаго осуществил свой план: он взорвался точно в предсказанное им время, и смерть его можно было бы отнести к настоящим шедеврам, сумей он правильно рассчитать дозу нейтронного излучения. Вместе с его хрупким телом в единый миг исчезли обитатели Дворца Славы, среди которых он имел привилегию пребывать, три тысячи жителей Высот, собравшихся, чтобы присутствовать на церемонии, и два сановника, прибывшие с Верхних Сфер, дабы проследить за аппаратурой. Все были неприятно поражены, ведь некоторые из этих людей ранее уведомили о своем решении тщательно подготовить собственное самоубийство — выходит, Лаю лишил их наивысшего наслаждения.
Произведение искусства оказалось омрачено недопустимыми последствиями. Вердикт всей компании был суров: самонадеянность, отягощенная техническим невежеством.
В начале тридцатого тысячелетия два этих порока считались отвратительными.
Из своего сферического обиталища на Вершинах Властелин Высот повелел собраться всем обычным и сверхмагам. Подобное случалось крайне редко.
Со времени последнего собрания в прошлом столетии Властелин Высот почти не изменился. Высокий, худой, сгорбленный (по странной прихоти он не соглашался на замену скелета, принятую в четырехсотлетием возрасте), он осторожно скользил по круглой площадке, служившей местом собраний. Длинное металлическое одеяние окутывало его, словно саван. Всем бросалось в глаза крайнее его изнеможение: Властелин полностью отдавал себя служению планете.
Одна за другой зажглись сферы: вокруг Властелина Высот на равном удалении от него расположились Мудрецы.
Странное сходство объединяло двенадцать советников Высшего Зодиака: одинаковые холодные взоры, лишенные выражения, одинаковые черты лиц, едва различимых в своем единообразии, свидетельствовавшие о полном самоконтроле, одинаковая печать сдержанной силы… или отрешенности… или неорганической вечной жизни.
Мысль облекшаяся в плоть.
Звуковой сигнал обозначил начало связи. Все сразу почувствовали, что ритуал изменится, но никто из Мудрецов не выказал ни малейшего удивления: долгие века постоянных раздумий, психических экспериментов, насилия над собственной плотью, постепенной адаптации к самым различным сторонам человеческой жизни приучили их уходить от любой неуместной реакции.
Даже тень любопытства не тронула их черт.
Ожидание… и потоки мысли, проносящиеся по экранам.
У Мудрецов не было никаких личных забот. Принимая в себя всевозможные проявления агрессивности, они очень рано разрушали свой собственный внутренний строй. Может, они не всё знали, но готовы были ко всему. Многие века им представляли любое неотложное дело как увлекательную задачу, требующую разрешения, и они вгрызались в нее со всей настойчивостью. В этот день они предчувствовали самое худшее. Еле заметные странности в поведении Властелина Высот насторожили их.
Мудрецы ждали.
Наконец в них потекли слова, и Мудрецы поняли, что беседа началась.
Поплыли образы: Град, Высоты Града, застывшие фигуры, длинные одеяния…
Они видели Эстетов Вершин, которые беседовали, воспаряя среди своих сияющих эфемерных творений на шелковых подушечках… или собирались вокруг распростертых тел.
Задача.
Завернутые в светящуюся ткань тела, которые изломала, иссушила и искромсала смерть.
Тела, которым несть числа.
Мудрецы старались более точно определить свои ощущения. Очертания образов расплывались, и ритм мысленного сообщения менялся. Мысли облекались в слова. Речь шла о смерти.
— Эстеты, которым наскучило их пустое существование, их творения, чересчур изощренные утехи, чересчур сложные взаимоотношения, выдумали себе новую страсть: самоубийство. Все началось с бравады (Мудрецы это помнили): отдать жизнь в обмен на краткий миг истинного переживания. В их глазах такой поступок тем более ценен, что они давно расстались с верой в воздаяние или продолжение жизни в мифическом потустороннем мире. Напомню, первый из них покончил с собой, бросившись в кислоту бассейна — орхидеи. Второй захотел отличиться еще больше: сочинить и предложить публике искусно выполненную поэму о своих ощущениях в последние мгновения перед смертью. Он определил свой стиль как букет эмоций… однако подспудная примесь безумия, вызванного лепестками пурпурной лилии с Бетельгейзе, отравила ему последние минуты. Другие делали упор скорее на жестокость. В результате самоубийство стало сначала страстью, а потом и искусством.
Мудрецы все это знали. В большинстве своем они осуждали давнюю причуду Властелина знакомить с обстоятельствами дела. Уже в незапамятные времена человек отказался от логических структур сознания. Он мыслил модуляциями, переплетая фразы и потоки представлений, ориентируясь по ритму или цвету… А ритм как раз менялся. Голос обретал властные нотки. Понятно становилось примерно следующее:
— Мы должны вмешаться. Эстеты бесполезны лишь на первый взгляд. В какой-то степени они служат чувствительными элементами, совершенным зеркалом, отражающим жизнь внизу. Они дают понятие о явлениях, происходящих во всех слоях населения Города. И вот добрая половина их погибла в результате разного рода покушений на свою, жизнь. Всего за одни сезон. Пришла пора действовать. Поэтому я вас и собрал. Жду ваших предложений.
Молчание (мысленное) вскоре было нарушено. Потекли предложения.
— Мы не можем запретить им убивать себя.
— Это их еще больше распалит.
— Самоубийство станет для них еще притягательнее, ведь мы являем собой последние остатки власти.
— Может, образумить их?
— Что значит образумить?
— Убедить, что они нужны для новых миров. Потребность в них…
— Их внутренние потребности более настоятельны.
— Внутренние?
— Потребность не обращать внимания на окружающую реальность. Эволюция человека отдаляет его от мира.
— Таков один из их этических законов.
— Почему бы не обратить Эстетов к новым приключениям, новым завоеваниям? Этих проклятых миров, ждущих колонизации, предостаточно.
— Они с тем же успехом будут умирать и на отдаленных мирах.
— Разделим их, создадим несколько противоборствующих групп.
— Они пойдут стенка на стенку и перебьют друг друга.
— Надо вновь подчинить их власти, уподобить всем остальным.
— Невозможно, поэзия сделала Эстетов неуязвимыми.
— А если, к примеру, запереть их в камерах?
— Почему бы не попытаться?
— Средство допотопное… но, без сомнения, эффективное.
— Изложите вкратце, в чем его преимущества.
— Мне кажется… мне кажется, что вынужденное бездействие, новая обстановка, которая будет давить на них своей пошлостью, в конце концов сведут на нет прежние побуждения. Однако склонность к саморазрушению обратится в агрессивность по отношению к порядку, установленному свыше.
— То есть по отношению к нам!
— Это мы переживем.
— А потом?
— Потом? Потом мы их выпустим. В их психике появится новый противодействующий фактор, а так как они создания хрупкие…
— Может, тогда у них появится новая страсть… менее обременительная.
С наступлением ночного цикла три миллиона Эстетов оказались запертыми в регенерационных камерах. При пробуждении их сознание, еще затуманенное, как обычно, галлюциногенами, сразу обрушило град вопросов. Некоторые решили, что это шутка; они позволяли себе иногда подобные шутки, воссоздавая с помощью старинных обрядов и песнопений обстановку доисторических времен. Другие испугались за свой разум: привычный мир, казалось, рушился на глазах. Никогда прежде камеры не запирались. Враждебным этим поступком Власти сразу себя выдали.
Многие умерли от интеллектуального удушья, мучительной боли, придающей своим жертвам малопривлекательный вид. Умирающие, хрипя, призывали зрителей, но угасали в полном одиночестве, ибо Власти в своей жестокости исключили возможность всякого сношения с обитателями соседних камер. В ночь и безмолвие канули самые прекрасные поэмы. И разве не самая невероятная из эпопей развертывалась в ячейках Квартала Эстетов? Миллион утонченнейших существ навсегда увял за поблескивающими металлическими дверями, с мольбами о помощи, воплями, криками наконец-то действительно пережитой ими ненависти!
Потом все вернулось на круги своя. Тяжелые металлические панели скользнули обратно в стены. Толпа оставшихся в живых Эстетов запуганными тенями робко выползала из камер в магнитные коридоры. Видно было, как они мучаются, как опустошены. Для них была непереносима сама мысль, что после такого унижения они остались целы и невредимы. Мало кто из них коснулся потом этой темы в разговорах, словно молчание могло помочь нелепой ране зарубцеваться. Однако очень скоро тяжелый маховик привычек завертелся снова. Возобновились бесконечные беседы, кружащие вокруг да около запретной темы. Балет тог и венчиков вновь начал выписывать свои причудливые узоры над платформами верхних Уровней, а раскаты смеха и крики радости растапливали в сердцах айсберги галантной любви. Жизнь вошла в свою колею, соразмерно распределяя задачи, распоряжаясь судьбами. Вверху — хрупкие существа, чье сознание бурлит мыслями, на Горизонтали — те, кто попрочнее и занят монотонным трудом, борьбой с суровой материей. В эмпиреях же, в рассеянном свете Вершин бодрствовали Мудрецы, прикидывавшие, удалась ли их затея.
Ждать пришлось недолго. В первый же день счетчики испарений живой материи зарегистрировали два десятка самоубийств, назавтра — уже сто тридцать, потом триста и, наконец, по окончании первого периода отсчета — тысячу.
Властелин Высот вновь созвал Мудрецов.
Было не до рассуждений о неудаче привычных мер предосторожности, и Властелин Высот сразу приступил к сути:
— Они упрямо поступают по-своему! Полюбуйтесь на цифры!
Никогда раньше Властелин Высот не находил нужным Волноваться. Ход событий в Граде не предоставлял случая нарушить установленные законы… но теперь начиналась новая эра.
— Следует признать, что мы допустили просчет.
— Наше бездействие скоро приведет к катастрофе — мы теряем лучших.
— Лучшие, убивающие себя — разве это лучшие?
— Думаю, так было всегда, и тем не менее мы уцелели.
— Это еще вопрос, уцелели или нет, то есть уцелели ли в действительности.
— По-вашему, мы призраки?
— Кто знает… нельзя же взвесить наших предков, чтобы убедиться в их материальности.
— Не следует вновь поддаваться панике. Идет нормальная эволюция. В наших архивах есть ярчайшие примеры. Исчезали целые виды. Животные. И люди… То же самое происходит сейчас.
— Так Эстеты животные… или люди?
— Ни то ни другое. Они не принадлежат полностью ни одному из видов.
— Пусть так, но это не решает нашей проблемы.
Пауза. Струйки мыслей старательно избегали соприкосновения во все вбирающей в себя атмосфере средоточия мысли.
Тишину нарушил Властелин Высот.
— Вид или социальная категория, постоянно живущая под колпаком, обречена погибнуть. Что-то вроде удушья в результате блокировки всех интеллектуальных и даже психических процессов в самых чувствительных точках. Тотальное усложнение всего поведения. Мы эту стадию уже миновали. Придя в норму, мы ограничиваем напряжение и создаем…
— Что же мы создаем, кроме теперешнего хаоса?
— Нам надо создать новый хаос, который разрушил бы старый.
— Вернемся к сказанному: некоторые Эстеты создают превосходные формы.
— Именно это меня и беспокоит: они создают формы.
— Согласен, и мало того, они больше не обновляют того, что им дано изначально, до бесконечности пережевывая одни и те же мотивы. Поэтому, мне кажется, им будет непросто изобрести новые забавы. Думаю, от них можно ожидать бесконечных вариаций на тему самоубийства. Нам следовало бы направить их энергию…
— На что?
— Все мы поражены одним недугом: планета — замкнутый мир и она перенаселена, что чревато…
Эта короткая фраза породила длинный ряд болезненных образов. Безумная череда башен, платформ, галерей, под оглушительный грохот изливающих непрерывным потоком миллиарды своих обитателей — выдох планеты, сбивающий существа в чудовищную пену…
Вдруг в вихрях мысленного спора заискрилась новая идея. Ее можно было бы выразить следующим образом:
— А что если обратиться к чудаку, именуемому философом, который во всей этой допотопной тарабарщине чувствует себя как рыба в воде? Может, он как-то разбирается в странных эпидемиях, которым подвержен человек.
— Вы про Макиавелли?
— Да, про него. Он ведь единственный в своем роде, и с ним мы постоянно обсуждаем вероятность полного распада.
— Но это невозможно. Этот тип обходится без животворных цепей. Ни к чему не примыкая, что само по себе возмутительно, он бесцельно бродит сверху вниз по планетному Граду. Представляете себе? Сверху вниз!
— Лишний повод к нему обратиться. Он поведает нам, что делается внизу… где, может, и ждет нас ответ.
Властелин Высот не вмешивался. Под покровом мысленных образов агрессивного характера угадывалась спокойная уверенность непроницаемого монолита. Потом обозначилось что-то вроде улыбки. Мысленный гомон утих, все застыли в напряженном ожидании. Властелин Высот заговорил:
— Я за это предложение. Макиавелли, вероятно, лучше большинства из вас разбирается в подспудных процессах, определяющих человеческое поведение. Архивы постоянно поставляют мне подробнейшие сведения о его скандальных заимствованиях. Он «заимствует» даже эту заумь, изложенную на листах бумаги… что называют «книгами». Он владеет множеством разрозненных сведений, в частности, о людях, живших в незапамятные времена. Искусство управлять находилось тогда в зачаточном состоянии. Общая стратегия не просматривалась. Власти предавались безжалостным экспериментам.
Предоставим ему свободу действий, и он, без сомнения, отыщет решение, которое должно корениться в самой человеческой психике…
Любопытная вещь — Макиавелли отыскали немедленно. Он блуждал у окраинных зон, лишний раз подтверждая легенду о своей способности предвидеть события… если только точное определение исходных данных…
Макиавелли появился — или воплотился материально, — и все сразу поняли, что решение у него уже готово: он был столь изыскан, что просто не мог притворяться несведущим.
Знакомство с древними трудами придало ему своего рода бесстрастную мудрость, которая покорила бы Эстетов. Они обожали смелые поступки, а этот был как раз таким: Макиавелли величественно отказывался следовать ритуалу, установленному на Высотах.
Макиавелли вошел, едва не столкнувшись с Властелином Высот (тот, не удержавшись, слегка отпрянул) и заговорил.
Его речь вызвала непривычное стрекотанье в мыслительных цепях Мудрецов. Все почувствовали облегчение, когда он согласился играть роль управляемого передатчика. В его словах угадывалось следующее:
— Ваши попытки обречены на неудачу, потому что Эстеты обрели новый инстинкт, инстинкт «уважения», перекрывающий пресловутый инстинкт самосохранения. В замкнутом мире, где вы принуждаете их к растительному существованию, несмотря на кажущиеся благополучие и роскошь, они постоянно сталкиваются со злейшим врагом человека: чрезмерной зависимостью от чужого мнения. Им надо показать себя или умереть. Подумайте только, у них есть все: материальные блага, достаток, безопасность. Им недостает, уж вы мне поверьте, лишь счастья самовыражения. Они ни во что не верят, сражаются лишь с самими собой в образе себе подобных, они исследовали и использовали все уголки своего сознания и, надо сказать, устали расходовать себя в бесплодных битвах. Теперь им остается только концентрировать свои таланты на единственном положительном способе самовыражения — вы знаете каком.
— Они самоутверждаются, умирая.
— Право на смерть — единственное, что вы им оставляете в вашем чересчур совершенном мире.
Воцарилось полнейшее безмолвие. Макиавелли продолжил:
— Существовал приемлемый выход: подвигнуть их на великие деяния за пределами планеты. Однако вы поручаете эту работу профессиональным воинам, набранным на Нижних Уровнях.
Смена ритма предполагала скорое окончание речи. Мыслил Макиавелли чеканными фразами:
— Нужно соперничество… нужно создать некое противоборство. Несмотря на то, что Эстеты постоянно утверждают обратное, они хотят быть выше средних обитателей планеты. Их беспрестанные заявления о милой непосредственности, чистоте, простоте других обитателей Града — всего лишь с трудом возводимое заграждение против их естественной склонности считать себя выше других. Я долго размышлял и понял, что есть нечто такое, чего они не вынесут: если окажется, что толпами с Нижних Уровней движут те же безумства, что и ими.
Ткань ответных мыслей заколыхались. Некоторые из них могли свидетельствовать о заинтересованности.
— Вот что я предлагаю: используя хорошо известные вам способы… да, да… мы вызовем эпидемию самоубийств на Нижних Уровнях. Нам следует найти новые формы: это не может быть результатом эстетических воззрений. Представим себе скорее что-то вроде игрища дикарей, жертвенной оргии… в которой люди примитивные будут сотнями сводить счеты с жизнью. Как вы думаете, что произойдет в Верхних Сферах? Что будет твориться в сверхсложном сознании Эстетов? По-вашему, они согласятся почитать тех же богов, каких почитают внизу? Утверждаю со всей уверенностью: они просто-напросто бросят это занятие и тут же начнут замышлять какую-нибудь новую пакость, но у нас всегда будет время ее предупредить.
В первый раз с начала его длинной речи один из Мудрецов перебил Макиавелли:
— Но как мы поступим с населением Нижних Уровней?
Макиавелли не ответил. Он испустил светящийся мысленный образ, полный жгучей язвительности, который, казалось, содержал в себе вполне определенную идею. Выразить ее можно было примерно так:
— У обитателей Нижних Уровней реакции элементарные: их будет нетрудно проконтролировать и… обезвредить.
Смутное чувство ужаса реяло над Мудрецами.
Все произошло очень быстро. Вверху стало известно, что в глубине подземных галерей собирались целые толпы для совершения кровавых самоубийств. Уровнем ближе случались дуэли. Люди в кричащего цвета камзолах с оружием в руках преследовали друг друга по черным металлическим рвам, окружавшим платформы.
Всеми на Вершинах овладело отвращение, когда там узнали о первых «жертвоприношениях». Начались бесконечные словопрения во мраке, расцвеченном ореолами отдохновения. Изысканно облокотившись о светящиеся перила, Эстеты с болью вглядывались в бездонную пропасть, откуда доносился шум оргии. Затем они собрались вверху, в жилых зонах Града, чтобы обсудить, что же им делать дальше.
Властелин Высот подал знак, и заседание началось. На экранах Мудрецы выглядели бесстрастными, но воздух, казалось, вибрировал. Все молчали, так как слова грозили разорвать тонкое кружево согласованных мыслей. Все были безусловно счастливы, как и полагается после внезапного разрешения давней проблемы. К уверенности примешивалось некоторое самолюбование, одно другое усиливало и оправдывало. По предложению самого старого из Мудрецов они приступили к длительной процедуре всеобщего очищения, когда Мудрецы все глубже и глубже погружались в атмосферу гармонии и удовлетворенности… Продолжалось это до тех пор, пока мглу их нирваны не рассеяла весть о первом убийстве — преступлении, прежде неслыханном среди утонченных Эстетов.
Жаклин Остерра
Календарь

Холодный неоновый свет струился по пирамидам консервных банок, пластмассовых коробок и бутылок на прилавках универсама. Фрейлейн Бернауэр бродила по магазину с металлической корзинкой в руках, хотя вовсе не собиралась запасаться продуктами. Хозяйка не любила, чтобы жильцы стряпали в комнатах.
Неожиданно ей преградила дорогу группка женщин, толпившихся вокруг демонстрационного столика.
Фрейлейн Бернауэр, утомленная после долгого рабочего дня, хотела было обойти женщин, но те вдруг задвигались и втянули ее в самый центр, к столику, на котором сверкала громадная кофеварка. У столика стояла девушка в белом халатике — брюнетка с угольно-черными глазами — и угощала всех кофе.
— Подходите ближе! Отведайте наш новый сорт! Кофе «Минос», поджаренный в специальных жаровнях! Вам непременно понравится!
Фрейлейн Бернауэр взяла чашечку. Кофе и правда был великолепным, а стоил столько же, сколько и тот, что она покупала из соображений экономии. Она купила пачку, и продавщица вручила ей премию — ноябрь был на исходе — рождественский календарь. Фрейлейн Бернауэр стала было отказываться.
— Что вы, у меня нет детей, и некому подарить.
Продавщица улыбнулась.
— Возьмите… Поверьте, он принесет вам не одну минуту радости.
Альвина Бернауэр с величайшими предосторожностями повернула ключ в замочной скважине. Но, идя по коридору, поняла, что предосторожности были тщетными — на стеклянной двери, ведущей в кухню — гостиную, дрогнула занавеска.
Недреманное око фрау Гуггенбюхлер следило, кто и с кем вошел в квартиру.
Альвина со вздохом затворила дверь своей комнаты и потянулась к выключателю. Тусклый свет лампочки, укрытой фарфоровым абажуром, показался ей печальным, даже мрачным, словно за окном опустились сумерки и пошел дождь.
На подоконнике, в горшочке, стояли нераспустившиеся африканские фиалки — и ей, старой деве, захотелось вдруг, чтобы ее жизнь перестала быть скучной, а серая бесцветная комнатушка заиграла фейерверком распускающихся бутонов.
Она повесила в шкаф пальто и тщательно расставила на полочке свои покупки. Календарь еле умещался в сумке — в магазине он ей не показался столь большим. И зачем она взяла его; придется снова спускаться вниз, чтобы выбросить в мусорный ящик — фрау Гуггенбюхлер терпеть не могла опорожнять корзины для бумаг в комнатах жильцов.
Альвина скользнула взглядом по календарю и вдруг заинтересовалась.
С виду это был простенький детский календарь с обычным, присыпанным блестками зимним пейзажем. Лист календаря был разбит на двадцать четыре клетки с крохотными ставеньками в каждой. Эти ставеньки можно было поднимать по одной весь декабрь — позади была нарисована какая-нибудь игрушка и сценка из волшебной сказки. Самая большая ставенька, приходившаяся на двадцать четвертое декабря, обычно закрывала рождественскую люльку.
Альвина взяла в руки календарь, отпечатанный на чудесной, похожей на пергамент бумаге, плотной и гибкой, и стала внимательно разглядывать традиционный, залитый солнцем пейзаж, столь тщательно отделанный в деталях и сверкающий красками, что он казался средневековой миниатюрой. На переднем плане было выписано замерзшее озеро и люди на коньках, толпящиеся вокруг саней в виде лебедя. В санях восседала улыбающаяся знатная дама, прекрасная, как Юдифь Кранаха — бархатное платье с прорезными рукавами по моде немецкого Возрождения, прическу украшают перья, а шею — золотое ожерелье. С далеких гор сбегает речка и змеится по заснеженной долине. Большую часть картины занимал старинный город с крепостными стенами. Над городом высился замок, на воротах которого, позади решетки, чернели готические цифры — 24.
Альвину охватило ребячливое любопытство, желание открыть все клетки зараз; но расставаться с этим красивым календарем уже расхотелось, и она решила сыграть по-честному, открывая по ставеньке в день.
Наступило первое декабря.
Фрейлейн Бернауэр, как обычно, целый день перепечатывала с диктофона отчеты и деловые письма, но сегодня, в обеденный перерыв, ее больше, чем всегда, раздражала болтовня молодых машинисток.
«Почему, — думала она, — у меня такое дурное настроение?» И честно признавалась: «Да я ведь жду не дождусь вечера — сегодня начну играть в календарь. Это простительно тому, кто лишен больших радостей, — на его долю остаются только маленькие».
И вот настал желанный миг.
Она осторожно приподняла ставеньку с цифрой 1. В окошечке показался букет цветов, нарисованный с такой тщательностью, что ей почудился их аромат. Почудился? Да нет же, она вдыхала его на самом деле! Цветы заполнили всю комнату, преобразив ее: они стояли в горшочках, серебряных и хрустальных вазах, гирляндами и венками вились по убогой уродливой мебели, раскрашенной под дорогое дерево.
Альвина в растерянности огляделась — в ее душе боролись удивление, ужас, восторг; восторг оказался сильнее, и Альвина из предосторожности закрыла дверь на щеколду, а замочную скважину заткнула. Фрау Гуггенбюхлер не потерпела бы чуда, случившегося в ее квартире.
Красота цветов так захватила Альвину, что она даже забыла про печеночный паштет, купленный к ужину. Захмелев от красок и ароматов, она уснула.
А наутро ее комната снова была печальной и убогой.
Старая дева соскочила с кровати и бросилась к календарю. Но вторая ставенька не уступала нетерпеливым пальцам, словно приклеенная. Альвина побежала на работу — табельные часы опозданий не прощали.
В этот день образцовая машинистка фрейлейн Бернауэр была на редкость рассеянна.
«Что со мной случилось? — думала она. — Уж не привиделось ли мне все это?»
Ей было чего бояться.
Едва закончился рабочий день, как Альвина исчезла за дверью, даже не расслышав, что девушки злословят по ее адресу. А те, подхихикивая, шептали друг другу, что фрейлейн Бернауэр спешит на свидание с любимым.
Но разве у нее никогда не было любимого? Был. Его звали Клаус. Они собирались пожениться. Но шла война, и его отправили на восток, куда-то под Великие Луки. Стратегический узел и конечная точка его жизни. Клаус не вернулся.
Альвина быстро прошла мимо универсама: вчерашней девушки там не было. Фрейлейн Бернауэр было приостановилась, раздумывая, стоит ли зайти за половиной жареного цыпленка и бутылкой мозельского: хороший ужин (она не часто позволяла себе подобную роскошь) — именно то, что могло вознаградить за утреннее разочарование. Но потом пошла дальше — где-то в глубине ее души теплилась надежда на чудо.
Календарь висел на стене и казался полотном старых мастеров, выдержанным в приглушенных тонах. На этот раз ставенька открылась с легкостью — позади нее стоял роскошно накрытый стол, словно только что вышедший из-под кисти какого-то фламандца.
В этот вечер Альвина насладилась отличной кухней: она ела чудесно приготовленное мясо, запивая его великолепным вином.
На следующий день в календаре оказалось кресло эпохи Людовика XV, и ее комнатушка превратилась в сказочные покои с роскошной мебелью и кроватью под золоченым балдахином, к которой вели три ступеньки.
Фрейлейн Бернауэр перестала удивляться ежевечернему волшебству, но ей было горько признаваться себе, что она опустошает свой ларец изобилия без особой пользы. Она не блистала красотой и раньше; у нее не было ничего, кроме свежести и юности, — теперь не осталось и этого.
Следующая клетка оказалась зеркалом. И Альвине вдруг стало тесным ее старое серое платье, ей показалось, что оно вот-вот лопнет по швам. Она сбросила его и не узнала своего тела — оно стало другим: висящие по всем стенам зеркала отразили ее новый образ — длинные ноги, тонкую талию, высокую грудь. В новой Альвине сохранилось что-то от прежней юной Альвины, но теперь она походила и еще на кого-то другого, словно наложились друг на друга две фотографии. И она вспомнила недавно виденный фильм о трагической любви Аньес Бернауэр, которую утопили в Дунае как ведьму. В главной роли снималась модная кинозвезда — и Альвина, захваченная фильмом, словно стала его героиней, тем более и звали ее почти так же… Всю ночь, переходя от зеркала к зеркалу, она любовалась своим обнаженным телом, прикрытым лишь длинными золотистыми волосами.
На следующий день ей захотелось платьев и драгоценностей.
Днем, на работе, она забывала о ночных радостях. Она с легкостью переходила от одного измерения к другому: сидящая за машинкой фрейлейн Бернауэр ничего не знала о досуге Альвины.
Наступила суббота, бюро закрылось в полдень. И до вечера было еще далеко — она ужен поняла, что ставеньки открывались только вечером.
Она бродила по улицам и встречала Дедов Морозов в мохнатых шапках и с посохами — они величественно возвышались над толпами торопливых озабоченных ребятишек.
«Шестое декабря, — подумала она. — Николин день».
Николас! Что-то всколыхнуло ее память: она уже давно не вспоминала о Клаусе… Альвина остановилась. Клаус! Хотелось ли ей снова встретиться с ним? Можно ли тревожить покой мертвеца?
Альвина отбросила эти мысли. Она решила, что мудрее будет полностью довериться календарю — разве до сих пор он не исполнял всех ее желаний, даже самых неосознанных?
Она вернулась домой, сразу же юркнула в комнату и закрыла за собой дверь, не желая болтать с фрау Гуггенбюхлер, чья массивная фигура застыла на пороге кухни. Воздух в комнате был странный, туманный, в нем будто плавали неясные образы. Она видела, как действительность преображалась в мираж. «Почему именно в этот час?» — подумалось ей, и она глянула на часы. Четверть пятого. Может, это был час захода солнца? Она решила заглянуть при случае в астрономический календарь; пока же ее ждали дела.
На шестой картинке нежная рука держала сорванную маргаритку.
Альвина не раздумывала — она надела свой лучший наряд: черное облегающее платье, шитое стеклярусом, и, набросив на плечи шиншилловую накидку, решительно вышла из комнаты. Она была уверена, что хозяйка ее не заметит. На лестнице она тоже никого не повстречала. Перед домом стоял длинный приземистый автомобиль с сиденьями, обитыми красной кожей. Какой-то человек учтиво распахнул перед ней дверцу.
— О, грациознейшая, не окажете ли вы мне честь?..
Она только и ждала этого приглашения.
Незнакомец сел за руль и тронул машину с места; Альвина исподтишка бросала быстрые взгляды на его профиль. Он чем-то напоминал ей того Клауса, чьи черты жили в ее воспоминаниях, но то же лицо напоминало ей и много других лиц — лиц соблазнителей с экрана и из жизни. Ну и что? Он мало походил на живого человека, скорее был воплощением Любовника, о котором мечтают все женщины.
Этот вечер Альвина прожила как в кино: рестораны, ночные клубы, шампанское, приглушенный свет. Хмельная и согласная на все («это ведь только сон» — оправдывала она собственную смелость) она поехала к нему и всю ночь провела в его объятиях.
Но когда фрейлейн Бернауэр проснулась, она лежала на простынях из пожелтевшего хлопка, а не из розового льна. Вспомнила все и залилась краской стыда — как могла она решиться на такое?
Воскресенье тянулось бесконечно долго до того, как Альвина открыла новое окошечко. Она перенеслась в горы и долго бродила, любуясь заснеженными пиками, водопадами и глубокими долинами. Она охапками рвала горечавку и эдельвейсы…
Первозданная чистота горных вершин вернула ей добродетель, но в глубине души осталось легкое сожаление о той ночи. А потому ее испугала и обрадовала Эйфелева башня, нарисованная в следующем окошечке.
— Ну что, милашка, двинем?
У парня в кожаной куртке с поднятым воротником, который заговорил с ней, были светлые лохматые волосы. И, не дожидаясь согласия, он взял ее за руку и повел от погребка к погребку по джунглям Сен-Жермен-де-Пре.
Захмелев от красного вина и мяуканья джаза, Альвина пыталась призвать на помощь последние остатки морали, в душе побаиваясь своего гида.
«Пусть эта ночь кончится, — уговаривала она себя, — но без…»
Ночь кончилась. Остаток ее они простояли в какой-то подворотне на улице Драгунов, обнимаясь и целуясь.
После этого Альвина забыла о своих высочайших моральных принципах: она любила красавца рыбака на одном из пляжей Капри, плавала в голубой лагуне и танцевала хулу-хулу, пересекала Атлантику на борту «Бремена», принимала ухаживания боцмана американского военного флота, с которым познакомилась в ресторанчике где-то в Сан-Паулу.
Вскоре она заметила, что магическому календарю не мешали ни эпохи, ни расстояния. Она побывала в зеленом Веймаре и встретилась с великим Гете в похожем на античный храме любви, а у подножия минарета Хиральда, что в Севилье, у нее было свидание с самим доном Жуаном де Мараньо.
Теперь ей нравилось все, что будило воображение, ибо позволяло отправляться по ночам навстречу новым приключениям.
Однажды на работе она заметила, что одна из машинисток с многозначительной улыбкой прячет в ящик стола книжонку в красочной обложке.
— Мне приходится читать ее здесь, — объяснила владелица книга. — Если отец найдет ее среди моих вещей, он мне устроит такую баню…
Она показала фрейлейн Бернауэр название — «Похождения Императрицы».
«Ну нет! — подумала Альвина. — Нет, нет и нет! Так далеко заходить нельзя».
…И в тот же вечер шлялась вместе с Мессалиной по трансеверинским притонам…
Так день за днем тратила Альвина клеточки своего календаря.
И однажды утром, вернувшись из сказочной, нереальной Венеции, тонувшей в золотом тумане Ренессанса, где провела ночь в объятиях покрытого шрамами кондотьера, она вдруг почувствовала себя безмерно усталой.
Наступило двадцать третье декабря. Альвина не работала. Впереди была пустота ожидания, и она успела прийти в себя.
Жизнь не удалась — серость и сплошные разочарования. А потом вдруг, за несколько недель, она вкусила всех радостей бытия. Так откуда же эти пустота и неудовлетворенность?
Она задумалась, и вдруг ей все стало ясно.
Ожаднев от легких удовольствий, она брала любовников подряд, одного за другим, но любила ли она хоть одного из них?..
Она глянула на календарь: осталось только две клеточки — одна под ветвями огромной заснеженной ели и вторая — хранившая тайну дверь замка.
Фрейлейн Бернауэр после долгих поисков нашла наконец истину и подняла ставеньку: там были нарисованы сердца, обвитые гирляндой роз.
Тот, кто пришел на свидание, не был похож на других. Они были одни — он и она. Взявшись за руки, они гуляли среди цветущих кустов майской сирени, прохаживались по парку Нимфенбурга, кормили хлебом лебедей, сидели на скамейке, прижавшись друг к другу, счастливые лишь от того, что были вместе. Они даже ни разу не поцеловались, ибо чувствовали себя совсем-совсем близкими, как чувствуют себя старые супруги или обрученные, уверенные в своей любви, а потому целомудренные. Потом он проводил ее домой, но порога ее жилища не переступил.
— Я еще увижу тебя? — спросила она.
— Если захочешь.
И вот настал рождественский вечер.
На календаре осталась только одна закрытая ставенька — ворота замка. Альвина открыла ее.
Три дня спустя фрау Гуггенбюхлер засыпала ненужными подробностями полицейского, который без особых волнений осматривал комнату.
— Ничего не понимаю. Я уверена, что она не выходила; я бы обязательно заметила ее. Поэтому я и не волновалась. Потом ее молчание показалось мне подозрительным. Я заглянула в комнату — она была пуста! Я подождала, думая, что ошиблась (правда, это невозможно), и она все-таки вышла. Но куда, ведь Рождество — семейный праздник. Она не возвращалась, и я предупредила вас. Она заплатила мне по тридцать первое декабря. Если она и взаправду исчезла, я хочу получить свою комнату назад.
Полицейский кивал головой.
— Ну что ж, мы начнем следствие. У нее были родственники?
— Насколько мне известно, нет.
— Где ее личные бумага?
— Она хранила их вон там, в ящике на столе.
Полицейский прошел к столу — мимо аляповато раскрашенного рождественского календаря, одного из тех, что раздают ради рекламы; ставенька над каждой клеткой была приподнята, и виднелись наивные грубые рисунки. Полицейский машинально оглядел календарь.
— Хм, — сказал он, — любопытно. Двадцать четвертого рисунка нет.
И на самом деле, позади распахнутых ворот ничего не было — там зияла дыра.
Жан-Мишель Ферре
Чудо летней ночи

Он не помнил в своей жизни другой такой ночи. Луна, казалось, взошла раньше времени, и теперь раздувшийся золотой шар висел над самым горизонтом, освещая скалы и поблескивая в лужах, оставшихся после отлива.
Он ждал очень давно, а сегодня, сам не зная почему, был уверен, что это наконец произойдет.
Волны словно застыли. И с тихим шелестом накатились на узенькую полоску песка, похожего на снежную пыль.
Она была там — тень в ночи, окутанная кружевами голубоватого света. Почти человек, обнаженная женщина, чудо летней ночи. Но то, что плескалось возле самого берега, не было человеком. При каждом ее движении вспыхивали чешуйки на теле — она, похоже, была удивлена, что оказалась здесь.
Он впервые увидел перед собой это фантастическое существо. Хотя, если быть точным, предыдущие три раза он просто опаздывал: ее уносили волны. Он знал, что сегодня должен торопиться, очень торопиться.
Прыжок. Холодное прикосновение мокрого песка. Еще более холодное прикосновение испуганного тела. Бег под луной вверх по обрыву.
Позади него на берег с яростным ревом обрушился пенный вал. В спину ударили соленые брызги.
Сегодня ему повезло. Он уложил ее на мягкие травы меж двух колючих кустов.
— На этот раз, — сказала она ему, — я твоя, по-настоящему твоя!
Он улыбнулся в ответ. Сердце его отчаянно забилось. Но это могло быть и от бега, от бегства… Ему не хотелось говорить. Потом он снова улыбнулся и, протянув руку, коснулся ее круглого полного плеча.
— Ты права, — прошептал он. — По-настоящему моя. Как долго я ждал этого мгновения…
Она залилась серебристым смехом, который шел, казалось, из немыслимых зеленых глубин. Потом тряхнула головой, и ее волосы рассыпались по плечам сверкающими прядями. Их настиг лунный блик и сказочно изменил все вокруг.
— Пошли, — сказал он, — нам еще добираться до места.
Он протянул руку и сообразил, что она не могла последовать за ним.
Боже, подумал он, не могу же я принимать за настоящую женщину…
Он поднял ее на руки, и она прошептала ему на ухо:
— Почему ты меня желаешь? Какое удовольствие могу я тебе доставить?
Он ощущал ее грудь, настоящую женскую грудь, и холодную, тяжелую и мясистую нижнюю часть тела.
Он еще крепче обнял ее.
— Скажи, — повторила она, — какое удовольствие могу я тебе доставить?
Она засмеялась, и смех ее был зовущим и легкомысленным.
— Ну конечно… Ты столько ждал меня. И, конечно, ради кое-чего…
Он спросил себя, а не примется ли она расписывать свои любовные таланты. У нее явно разыгралось воображение.
Но это не важно, подумал он. Нет, важно вот что…
И он представил, что ждет их в хижине.
Они спрятались от лунного мерцания под сенью пробковых дубов. Вокруг свиристели насекомые.
Когда они оказались возле хижины, он снова уложил ее на траву.
— Подожди минутку, — нежно прошептал он.
— Конечно… Иди и приготовь все к моему появлению…
Он кивнул и, толкнув дверь, быстро захлопнул ее за собой.
Он отсутствовал долго, но когда появился, на его губах плавала довольная улыбка. Внутри горели факелы, теплые отсветы ласкали стены.
Он поднял прекрасную сирену, и она засмеялась.
Ногой он распахнул дверь. Она разом перестала смеяться.
В глубине комнаты стояла печь, где потрескивали смолистые поленья. А на печи чернел огромный котел, в котором шкворчало масло.
Ив Дермез
Письмо переводчика-инопланетянина фантасту-французу

Уважаемый Мэтр!
Приобретя у ваш почтенейший издатель правы на перевод ваш роман «Машина наоборот», вышедшего по ваш псевдоним Кисс Сингер, я ударился о некоторые затрудности.
Во время повторяемости наш встречи на Сигме Бетельгейзе, вы любезно согласился с низу сойти, чтобы направить меня в моя неблагодарная деятельность. Я благодарю вам наперед.
Я спотыкнулся о первый фраза первая глава, и перед тем как двигаться дальше, хотел бы наперед осведомиться ваш просвященное мнение.
Вы написал: «Утром обещала наладиться хорошая погода». Очень ритмичный фраза. Но смысль от меня ускользит. Излагаю большие сомнения моя неуверенность.
1. «Обещала наладиться». Здесь есть два возможности толкований.
— Либо речь говорится про внеземлянка, на пример, про альтаирка. Если так, я бы перевесть: «Утром обещала наладить хорошую погоду». Ведомо ведь вам, альтаирцы сподобились способность менять метеорологических предсказаний.
— Либо речь говорится про землянка. Тогда я бы написать: «Утром обещала нарядиться при хорошей погоде».
2. Мне волнительно выражение «хорошая погода». У вас, землян, этот слова иметь другой смысль, чем для рептилия, какую вы называть ящерица, или для ракообразный по имени улитка. (Кроме того, я много изучать земной политика, но ее не понять такой простой ум, какие есть у нас.) «Хорошая погода» в СССР вовсе не один и тот же в США.
Или это простой игра слов на принципе английский выражение «Хорошая погода» (я также перевесть и Агата Кристи, а она часто упоминать о голубизна текучей в жиле кровь).
3. Мне не удаеться затиснуть в альтаирский бейзик слово «утро». Мы иметь три солнце, а потому три утро. Какой выбирать — синий, розовый или желтый?
Надеясь на ответ ответный почта, прошу Вас, Мэтр, принять весь глубина мой почтение.
Р.S. Меня глодать нетерпение. Хочу поскорее схватить в охапка второй фраза ваш шедевр.
Ответ французского автора
Мой милый друг!
Вы верно подметили, что я пишу весьма запутанным слогом, который не всегда понятен Читающей Публике. Мои произведения обращены к Избранным. Однако я верю — и передо мной распахнутся врата Академии. Ваша дотошность достойна похвалы. Но советую вам первую фразу моего романа выбросить. Это некий порыв к идеалу красоты, ничего не значащий для непосвященных. Более того, выбрасывайте по ходу романа все, что вам кажется лишним. У французских издателей есть нудное требование представлять книгу объемом в 250 страниц, и нам приходится заполнять пустоты. Главное в том, что на Земле будут знать, что «Машина наоборот» переведена на альтаирский бейзик.
Кроме того, авторский гонорар мне уже выплатили.
С наилучшими пожеланиями.
Письмо переводчика, полученное несколько лет спустя
Уважаемый Мэтр,
Прилагаю приклееный к письмо экземпляр «Машина наоборот» на альтаирский бейзик. Как вы мне делали совет, я устраниль все лишний. Вы позволили съекономить груда бумага, ведь роман уклался в 8 страницей in-quarto.
Примите и т. д.
Р.S. Кроме того, мне, как и вы, наплатили с лихвой и наперед. А как говорят на Дижель: «Зачем ломать черепушка?» Вы знаком этот выражение?
Телеграмма автора
Знакомо. Я давно им пользуюсь.
Ролан Топор
Игра

— Спускайтесь быстрее, пока тосты с конфитюром еще горячие, — донесся снизу голос мисс Ноузвуд.
— Начинайте без меня, — ответил Робер, даже не шелохнувшись. — Сейчас приду.
Ему вовсе не хотелось спускаться. Сидеть на корточках было неудобно, и ногу сводила судорога, но он уже вытаскивал из тайника на чердаке долгожданную шкатулку. В воздухе пчелиным роем кружилась пыль. Здесь, конечно, не очень чисто, но Робер только посмеивался — ему было все равно. Шкатулка! Он наконец отыскал шкатулку! Робер и правда был самым везучим из ребят. Когда-то он знал паренька по имени Бридж, который тоже, кажется, отыскал шкатулку. Ух, как его потом уважали! Но он-то, Робер, точно знал про ту шкатулку — она была всего-навсего коробкой, ящиком для овощей! Он сказал об этом ребятам, когда Бридж взял да и исчез.
Шкатулка выглядела очень старой. Робер понял это с первого взгляда.
— Ну и древность! Ей, наверно, лет двадцать.
Он взял шкатулку и перенес к свету. Небо было в тучах, и света явно не хватало, но все же здесь было лучше, чем в тени.
Надо взломать замок, решил Робер.
Он не надеялся найти в ней сокровище. Не такой он дурак. Сокровищ не бывает, тем более, что один кладоискатель говорил по радио, что сокровище никогда не покрывало расходов на его поиски. Что же собирался найти юный Робер в этой кожаной коробке, густо припорошенной пылью?
Что угодно, только не то, что нашел.
Внутри лежали деревянные фигурки, кости, игральные карты. Игры? Несомненно. Робер внимательно рассмотрел содержимое шкатулки, но знакомых игр не было. Шкатулка оказалась древнее, чем он думал.
«Может, ей целых сто лет».
Порывшись основательней, Робер обнаружил листок розовой бумаги, исписанный мелким почерком. Некоторые слова были подчеркнуты. Он передвинул бумажку под луч внезапно выглянувшего солнца. В самом верху листка было написано: ПРАВИЛА ИГРЫ.
Ниже следовали инструкции:
В эту игру играет один человек. Мошенничать запрещается. Конец партии означает проигрыш.
Робер покачал головой — во всем этом что-то было.
«Посмотрим дальше».
Взять большую фигуру, дать ей свое имя, поставить на дорожку.
Робер без труда нашел большую фигуру. Поискал дорожку и тут же увидел ее: та была нарисована на большом картонном поле с невероятно запутанным переплетением разноцветных клеток, линий и кружков. В центре поля оказались часы.
Их стрелки могли двигаться. Робер сообразил, что эти стрелки полагалось перемещать, бросив кости. Проверил в правилах — все было верно. Он поставил Робера на первую попавшуюся клетку и заглянул в листок — что следует делать дальше.
Поставить всех животных, все растения, камни и адмиралов на соответствующие клетки.
— Что за соответствующие клетки? — спросил себя Робер. Но он был хитрецом. И уже заметил, что на некоторых клетках был рисунок. А рисунок изображал либо животное, либо растение, либо камень, либо адмирала.
Остальные пешки являются окружением большой фигуры. Это люди, которых знает большая фигура Поставить их на красные клетки.
Робер назвал одну пешку «мисс Ноузвуд», другую — Нестором Газолином, а остальные окрестил именами Хака, Тома, Сталки, Джима, Реми и Матиаса.
Бросить кости и передвинуть стрелки часов. Все фигуры должны передвигаться в том же направлении, что и стрелки, но с разной скоростью. Животные на шесть клеток, растения на две, камни — на одну. Адмиралы не двигаются. Люди, которых знает большая фигура, передвигаются на три клетки каждые четверть часа. Большая фигура может устанавливать время на часах, но не вправе замедлять их бег. В полдень и в полночь фигуры имеют право перемещаться в любом направлении.
Пешку можно заменить картой. С этого момента она перестает двигаться. Когда две пешки встречаются на одной клетке, они должны быть взаимно вежливы.
Было еще много других правил. Робер принялся играть. Игра оказалась действительно увлекательной. Дважды или трижды он слышал голос мисс Ноузвуд (настоящей, а не игрушечной), приглашающий его поесть уже остывшие тосты с конфитюром, но сделал вид, что не слышит.
После долгих приключений он, два раза подряд выбросив двенадцать, попал на зеленую клетку. И тут часы прозвонили. Партия была закончена, а значит проиграна.
— Спущусь и съем свои тосты, — решил Робер. — Надеюсь, мисс Ноузвуд не будет ругаться!
Но он никуда не спустился. Не смог шевельнуть даже мизинцем.
Он захотел крикнуть, но не сумел выдавить из себя ни звука. Робер был фигуркой, вытесанной из дерева. Это было ужасно неудобно. На самом верху лестницы показалась мисс Ноузвуд. И тут же в открытую дверь увидела доску и рассыпанные на полу фигурки.
— Уф! — облегченно вздохнула она, собирая игру в шкатулку. — Успела. Этот мальчишка уже стал обходиться мне слишком дорого. Теперь можно, пожалуй, брать нового пансионера. Но не чересчур ли хорошо спрятана игра? Положу-ка я ее просто в шкаф.
Мисс Ноузвуд довольно потерла руки. Для нее партия продолжалась. Быть может, она все же проживет свои десять тысяч лет.
Жерар Клейн
Ад есть ад
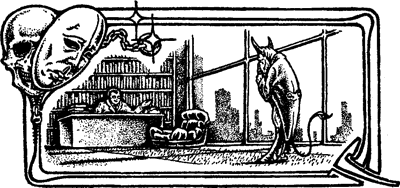
Когда показатели адского производства поползли вниз и дьяволу пришлось уволить несколько бригад демонов второстепенных секторов, погасить несколько печей и отказаться от части дивидендов, положенных ему по Великому Контракту, хозяин подземной гостиницы забеспокоился. Ему сообщили, что за последние годы было немало кризисов, что кривые беспорядочно прыгали то вверх, то вниз, а периоды упадка сменялись периодами такого притока сырья, что приходилось нанимать либо демонов с сомнительной репутацией, либо старых, либо пенсионеров, а то и членов профсоюза — и все это ради удовлетворения требований клиентуры, жаждущей искупления грехов. Дьявол возразил, что на этот раз кризис вызван причинами организационного порядка, что пора проявить изобретательность, иначе придется закрыть одно из самых процветающих предприятий во Вселенной со дня творения.
Весь ад содрогнулся. Были составлены отчеты — в основном они носили обнадеживающий характер. Количество осужденных на вечные муки оставалось еще довольно высоким, но предусмотрительный дьявол думал о будущем своего предприятия и с горечью отмечал, что количество усопших, которых Харон подвозил к вратам ада, постоянно уменьшалось. Он долго раздумывал над этой проблемой, но так и не разобрался в ней, пока однажды, прогуливаясь по улицам большого города, не украл из чьего-то портфеля экономический журнал и не узнал, что с подобными трудностями сталкивался не он один. Автор статьи подробно разбирал судьбу ремесленных мастерских и семейных предприятий, которые с момента своего основания росли, не меняясь по существу, и постепенно превратились в огромные фирмы, страдающие от устаревшей структуры и устава.
Дьяволу не хватило мужества реорганизовать подземную гостиницу. Надо было проводить децентрализацию (так утверждал экономист), а Люцифер предпочитал править единолично. К тому же дьявол мало смыслил в принципах организации крупных современных фирм. Статья повергла его в тоску, однако не заставила применить для реформы ада принципы тейлоризма.
Все бы так и осталось без изменений, ибо дьявол в ярости разодрал когтями злополучный журнал, но в последний момент его взгляд упал на страницу рекламы. «Ваша клиентура редеет, — взывало объявление, — значит пора звонить нам!»
Дьявол прочел предыдущую страницу и выяснил, что можно получить приличный доход, потратившись на научный анализ нерентабельности своего предприятия. Серьезный журнал не мог публиковать несерьезных вещей. Окончательное решение он принял, прочтя два или три письма Президенту — Генеральному Директору фирмы «Феникс и Кº», где в довольно плоских выражениях выражалась благодарность за полезные услуги. Одно из писем было подписано известным дельцом в области гостиничного дела. В нем Люцифер увидел собрата, а не конкурента, поскольку тот сдавал номера на день, на неделю, на месяц, но не на вечность.
Вначале дьявол не счел необходимым звонить. Он решил, что размеры его предприятия и неброская слава вполне говорят сами за себя. Стоит заметить, что в последние четыре или пять веков дьявол несколько отошел от дел, сочтя бесполезным самому заниматься теми областями, за которые отвечали весьма компетентные специалисты, а потому не очень разбирался в современных обычаях.
Он запомнил адрес и тут же материализовался в приемной шефа «Феникса и Кº» прямо перед хорошенькой секретаршей последнего с намерением слегка напугать ее.
Хотя в момент его появления грянул гром, вспыхнули молнии, а сам он предстал в черном облегающем одеянии с пурпурным капюшоном (по флорентийской моде), не забыв о рогах и копытах, юная машинистка едва подняла голову.
Увидев его, она состроила гримаску, тут же сменившуюся профессиональной улыбкой.
— Здравствуйте, месье, — сказала она. — Я не заметила, как вы вошли. Ах, вижу. Вы иностранец. Чем, могу быть полезна?
Дьявол откашлялся, чтобы прочистить горло, что-то пробормотал, ибо рассчитывал, что встреча произойдет по-иному, и наконец объяснил, что желает видеть директора.
Он чувствовал себя не в своей тарелке, поскольку кондиционеры быстро разогнали запах серы, а холодный свет флуоресцентных ламп слепил глаза. Он мог с наслаждением окунуться в жидкую платину, но эти белые холодные факелы раздражали его.
— Боюсь, прямо сейчас это будет невозможно, — ответила блондинка-секретарша. — Господин Феникс очень занят. В данный момент он проводит совещание. Могу назначить вам время, но порекомендовала бы для начала обратиться в нашу коммерческую службу.
— Я всегда обращаюсь только к верхам, — сухо возразил дьявол. — Не в моих правилах общаться с подчиненными. Думаю, вот это поможет устроить наши дела?
Он извлек из воздуха и небрежно бросил на стол секретарши кошелек, сплетенный из металлических нитей и наполненный новенькими дукатами. Кошелек был еще горячим, ибо только что вышел из адских печей, а потому выжег нестираемое пятно на деревянной столешнице. Дьявол надеялся на психологический эффект — некую смесь ужаса и алчности.
— Вы что-то уронили, — воскликнула блондинка. Она протянула руку, схватила кошелек и ловко протянула дьяволу. — Возьмите.
— Оставьте себе, — небрежно процедил дьявол.
— О! Здесь старинные монеты. У меня есть приятель, который собирает коллекцию. Спасибо, месье.
Дьяволу даже не захотелось произносить заклинание, которое по традиции обратило бы эти монеты в прах через несколько часов.
— Итак, что с нашим рандеву? — с надеждой спросил он.
— Вы заполнили формуляр?
Он отрицательно покачал головой.
— Не понимаю, чем занята служба приема, — секретарша поджала тщательно накрашенные губки: по последней моде они были очень бледными.
Она протянула ему розовый бланк с мелким шрифтом.
— Заполните, пожалуйста.
— Это так необходимо?
— Просто обязательно.
Дьявол не стал спорить. В конце концов, он нуждался в этих людях, а не они в нем. Он уселся за столик и подробно ответил на вопросы. Ему пришлось приложить немало усилий, чтобы не солгать, понимая, что специалистам следует предоставить точные данные — вопреки общепринятому мнению надо заметить, что дьявол далеко не глуп.
Вначале все было просто. Потом пошли затруднительные вопросы. К примеру: «Численность вашего персонала?» Персонал ада весьма велик, но дьявол не знал, как сказать об этом. Поэтому начертал над пунктирной линией знак алефа, надеясь, что в «Фениксе и Кº» знают о работах Кантора. На вопрос: «Род деятельности?» он написал ответ своим странным почерком, похожим на зубцы пламени: «Искупление грехов всех видов». Затем поспешно стер запись и написал: «Лечение моральных отклонений методом различных наказаний». Такая формулировка выглядела более научной.
Он пропустил вопросы, где требовалось дать краткий анализ последних балансов. Не уточнил и своего банковского положения.
Дьявол долго раздумывал над строкой, где следовало зачеркнуть ненужные оценки:
«Каково положение вашей фирмы — среднее, трудное, тяжелое, отчаянное?»
Он долго боролся с гордыней и наконец выбрал одну оценку — отчаянное.
Прямо под подписью оставалось пустое место. Дьявол осведомился у секретарши, для чего оно.
— Для специальных пометок… У вас срочное дело?
Дьявол кивнул.
— Так и напишите. Тогда шеф примет вас недели через три.
— Очень срочное.
— Две недели.
— Исключительно срочное.
— Так и напишите.
Тут ему на помощь пришло дьявольское вдохновение.
— Послушайте, дело жизни и смерти.
— Все говорят так.
— Но это правда!
— Посмотрю, что можно для вас сделать, — устало произнесла секретарша. Она нажала несколько клавиш на аппарате, стоявшем перед ней. Из зарешеченного отверстия донесся низкий величественный голос.
— Среда, — сообщила она дьяволу после непонятных переговоров. — Одиннадцать часов.
— Хорошо, — дьявол поклонился с подобострастной ужимкой.
— Но встреча с господином Фениксом состоится только в том случае, если ваша просьба будет принята к рассмотрению после изучения существа вашего дела.
— Понятно.
— Не опаздывайте.
— Я являюсь в тот час, когда меня зовут, — удовлетворенно осклабился дьявол.
Он осторожно прикрыл за собой дверь и дошел по коридору до лифта.
— Подвал, — приказал он удивленному лифтеру.
Когда они спустились в подвал, дьявол щелкнул пальцами, и лифт начал настоящий спуск.
В среду, ровно в одиннадцать часов, дьявол материализовался прямо перед второй дверью, обтянутой кожей и украшенной позолоченными гвоздями, которая отделяла его от святая святых. «Оставь надежду всяк сюда входящий», — весело насвистывал он модную в аду мелодию. Дьявол тихо постучал в дверь.
— Войдите, — дьявол уже слышал этот низкий голос.
Он толкнул дверь и сделал несколько шагов. Его раздвоенные копыта утонули в толстом ковре из чистой шерсти.
Кабинет был громадным. На затянутых белым шелком стенах висели ценнейшие, со вкусом подобранные гравюры. Если не считать нескольких шкафов, вся обстановка состояла из гигантского полированного стола, на котором покоились три телефона — белый, черный и красный, лежала пара книг в кожаных переплетах конца XVIII века и стопка финансовых журналов под медной лампой с матовым абажуром. Остальные предметы — коробка резного серебра с сигарами, тяжелая зажигалка такой же работы, стопка бумаги, записная книжка в потрепанной кожаной обложке, юридический справочник, бронзовое пресс-папье в виде обнаженной женщины, распростершейся среди роз, шариковая ручка из чистого золота — как бы терялись в безбрежной пустыне темной лакированной столешницы. За столом в кресле модерн восседал сам господин Феникс. Это был человек весьма приятной наружности с загорелым лицом, чуть отвисшими губами, обширной лысиной и орлиным носом. Только глаза его были жесткими и колючими. Одет господин Феникс был изысканно. От него веяло спокойной уверенностью и почти отеческой снисходительностью.
Позади него на полках стояли книги с закладками.
Дьявол рухнул в низкое кресло возле самого стола и тут же ощутил неприятное чувство униженности. Квалифицированные психологи не один месяц выбирали высоту этого кресла.
— Вы знаете, кто я? — напрямик спросил дьявол.
— Разумеется, — ответил его собеседник.
Дьявол выпятил грудь, но бизнесмен продолжил:
— Я знаю, что вы руководите предприятием, попавшим в затруднительное положение. Знаю, что вы перестали спать. Успокойтесь. Феникс займется вами. Мы скажем, что именно у вас не ладится и что следует делать. Как вам известно, главной целью маркетинга является изучение и экономическая оценка клиентуры, которой имеет смысл предлагать товар, чтобы его купили, или тщательный анализ сопротивления, которое оказывает покупатель введению на рынок товара или услуги, и устранение причин этого сопротивления. Работы наших предшественников позволили нам достичь такого уровня совершенства, что…
— Я говорил не совсем об этом, — перебил его дьявол. — У меня совершенно иная проблема.
— Мне нравятся ваши слова, месье. Нет двух одинаковых предприятий. Нет двух схожих проблем. Я всегда повторяю: нам нужно новое и самое новое. Феникс не боится трудностей.
— Конечно, — согласился дьявол. — Перейдем к делу. Что от меня требуется?
— Прежде всего надо составить контракт с вашей службой жалоб.
— У меня нет службы жалоб. Я имею огромный опыт в составлении контрактов. И занимаюсь этим сам.
Собеседник откинулся на спинку кресла.
— Дорогой мой, вы говорите всерьез?
— Всерьез. У меня совершенно отсутствует чувство юмора.
— Ладно. Это мы обсудим попозже. Перейдем к вашей проблеме.
— Как вы понимаете, это должно остаться между нами…
— Разумеется.
— Итак по некоторым признакам вы поняли, что я дьявол.
— Моя профессия требует проницательности.
— И это вас не удивляет? — дьявол был оскорблен.
— Нам случается видеть здесь тех, кто, по вашему мнению, никогда и не должны были бы появляться у нас. С виду солидные состояния, отличные репутации…
— Неужели и мой…
— Простите?
— Мой хозяин, — закончил дьявол. Он совсем забыл о нем.
Господин Феникс порылся в памяти.
— Нет, нет. По крайней мере, в ближайшем прошлом его здесь не было. Но мы часто имеем дело с его представителями.
— Вот и отлично, — с облегчением вздохнул дьявол, узнав, что находится в приличной компании.
— Угощайтесь, — предложил господин Феникс, открывая серебряную коробку с сигарами.
— Очень любезно с вашей стороны, — усмехнулся дьявол, беря гаванскую сигару и раскуривая ее щелчком пальцев, — В мои обязанности входит управление адом. Поверьте, особого удовольствия мое дело мне не доставляет, хотя эта сторона дела меня не слишком волнует. Но сейчас, особенно после последней мировой войны, поток клиентов упал невероятно. Я даже сказал бы — катастрофически упал. Словно мой спектакль больше никого не интересует. Словно люди как-то разом стали в массе своей добродетельными. Но я-то знаю, что это не так. Поэтому я и явился к вам, чтобы вы исследовали отношение людей к аду и сказали мне, в каком направлении я должен приложить усилия, дабы добиться лучших результатов. В случае неуспеха мой Контракт может быть пересмотрен, и я некоторым образом окажусь без работы…
— Гм… гм, — задумчиво протянул господин Феникс. — Полагаю, вам нужно исследование по проблемам Зла и Искушения в мировом масштабе.
— Вот именно, — подтвердил дьявол. — Кризис стал всеобщим. Естественно, извечно католические страны вроде Италии и Канады не доставляют особых хлопот. Но это еще не причина, чтобы забывать о них.
— Понятно, понятно, — господин Феникс потер руки. — Думаю, мы в состоянии организовать это. А не могли бы вы сформулировать вашу проблему поточнее? Смею предположить, что пока делом не занялся Феникс, вы человек… кхе… кхе… наиболее информированный в этой области.
— Я много думал об этом, — хмыкнул дьявол. — Похоже, мои трудности проистекают от того, что ослабело чувство ответственности. Несколько миллионов лет назад в Великом Контракте был заложен принцип разделения полномочий Неба и Ада. Там указан и критерий отбора в каждое из ведомств. В ад могут отправляться только те люди, которые сознают свои преступления и несут за них ответственность. Таких все меньше и меньше. Осмелюсь даже заметить, что вновь прибывающие не вполне здоровы душевно.
Такое положение дел происходит от множества причин. Во-первых, падение добрых моральных устоев, которые были издревле установлены при моем участии. В прошлом люди совершенно точно знали, когда совершают грех, а поскольку не могли противиться падению, то автоматически переходили в разряд моей клиентуры. Сейчас они не изменили своего образа жизни, но поскольку разучились отличать зло от добра, они проскальзывают у меня меж пальцев.
Кроме того, они стали больше путешествовать. Никогда не удастся установить, сколько вреда принес технический прогресс таким институтам, как ад. Я, конечно, придумал различные виды морали для различных уголков Земли. А из-за путешествий люди выяснили — по недомыслию они лишены релятивизма мышления, — что эти виды морали исключают друг друга, а иногда и просто противоречат одни другим. Из этого они сделали выводы, при мысли о которых у меня на глаза слезы навертываются…
Дьявол извлек огромный асбестовый платок и шумно высморкался.
— Но самым серьезным, самым трагическим является вмешательство психологов. Ох, как мне хотелось бы заполучить в свои руки и Фрейда, и Ренка, и Адлера, и Юнга. Это они показали людям, что такое человек в своей сути. Они поставили людей лицом друг к другу, объяснили им, что, скорее всего, они просто больны, что им, быть может, следует полечиться, но что они ни в коей мере не виноваты, что древний комплекс вины, который веками с любовной заботой взращивался в адских теплицах, был худшей из лихорадок, лихорадкой скрытой, заразной, злокачественной, но все же излечимой. Они сделали людям прививку против чувства вины и теперь жалеют преступников, окружают их вниманием и предупредительностью, казнят их почти тайно, если считают, что это все-таки надо сделать, и вдобавок испытывают по этому поводу угрызения совести. Будь это гласом нечистой совести, я мог бы кое-что подсказать судьям и палачам — у меня накопился приличный опыт, — но нет, в их поступках нет ни грана совести.
А теперь еще пришел черед социологов. Они уже давно норовят возложить на все общество ответственность за дурное поведение каждого отдельного человека. И им верят. Это просто ужасно. Естественно, у меня появилась надежда заполучить в ад целые народы. Но тут на первое место выволокли роль истории и экономики. Увы, мы живем в печальную эпоху. Неужели я зря гнул спину в Изначальные Времена, вдалбливая основополагающие принципы в головы молодежи?
Господин Феникс кивнул с сочувственным видом.
— Итак, я вижу, чем предстоит заняться. Мы проведем исследования, чтобы выявить различные виды поведения, которые люди считают отвратительными, предосудительными, одним словом, дурными. Наши специалисты подготовят вопросник, переведут его на дюжину-другую языков и выявят слои населения, которым эти вопросы следует задать. Мы составим масштабные графики Линдсея, заполним карты, выведем нимбограммы. Мы используем Науку. И начнем с нескольких расширенных тестов. О, это будет великолепное исследование. Я счастлив, что вы обратились именно к нашей фирме.
Поток технических терминов обескуражил дьявола.
— Безусловно, — продолжал господин Феникс, — я не могу гарантировать, что мы что-нибудь обнаружим. Мы проведем научную работу и только тогда сможем судить о результате. С другой стороны, выводы фирмы могут и не дать вам направления, позволяющего вернуть ваше предприятие на верный путь. Такое бывает, редко, но бывает. Однако в любом случае вы лучше узнаете свою клиентуру, и не только через окошечко кассы, а как бы в срезе ее реальности (в голосе господина Феникса звучали нотки вдохновенного пророка). Вы прозондируете почки и сердца, все земные царства будут у ваших ног, вам откроются мотивы всех поступков. Из прошлого вы извлечете урок на будущее.
— Мне нужно вовсе не это, — запротестовал дьявол.
Господин Феникс взбил воздух холеными мягкими ручками и торжественно произнес:
— Начиная с сегодняшнего дня спите спокойно. Что касается вознаграждения, мы представим счет на две трети суммы. Остальное вы заплатите нам наличными. Сами понимаете, налоги.
Дьявол двусмысленно ухмыльнулся.
— Полагаю, работа по моему заказу является подсудным деянием, господин Феникс. Буду счастлив видеть вас среди моих клиентов.
— Об этом не может быть и речи! — вскричал господин Феникс. — Юриспруденция в этом отношении категорична. Наши взаимоотношения строятся только на деловой основе. Они ни в коей мере не требуют от меня сообщничества. С другой стороны, ваша деятельность общепризнана и определена рамками регламентирующих ее законов. Поверьте, я не забыл об этой стороне дела. Я даже заручился поддержкой иезуита в качестве технического советника.
Дьявол посерел.
— Ну что ж, полагаю, придется пройти и через это.
Господин Феникс профессионально улыбнулся.
— Мы предоставим вам вопросник, как только наши службы составят его. Нам, наверно, придется встретиться с некоторыми из ваших подчиненных и уточнить детали…
— Велю Мефистофелю и Вельзевулу созвониться с вами, — покорно кивнул дьявол.
Вопросник был в своем роде вершиной подобных документов. Таким же образцом могли послужить тесты, предшествовавшие его составлению. По жребию было отобрано некое количество обычных людей, которым был задан вопрос, что те считают самым предосудительным. Какое-то время они размышляли, почесывая в затылке и заставив работать воображение. Ответы были рассортированы, проанализированы, классифицированы. Наиболее абстрактные были отброшены, поскольку относились к надуманным и не соответствовали глубоким убеждениям. Осталось немногое. Больше всего ответов касалось дурного обращения с животными, по отношению к людям снисходительности было куда меньше. Было также отмечено, что опрошенные стремились обелить себя и охотно взваливали ответственность за наихудшие преступления на себе подобных.
Опрошенные в большинстве отвечали без особых возражений. Как правило, они оказывались многословными, надиктовывали целые страницы текста по вопросам, где ответ в принципе сводился к зачеркиванию ненужных вариантов. Надо заметить, что опрашивающие представлялись не в качестве посланцев ада, а демонстрировали красивые визитные карточки «Лиги За Моральный Прогресс» или называли себя приверженцами придуманных специально для данного случая религий — кстати, некоторые из них начали действительно распространяться в обществе, и кое-кто из опрашивающих отказался от роли служителя науки, чтобы заняться более доходным ремеслом пророка. Все это было опубликовано в двенадцати огромных томах, изданных Фондом Феникс. Эти тома, несмотря на их стоимость и малопривлекательные математические выкладки, до сих пор являются бестселлером.
Стоит также напомнить молодым поколениям, что этот опрос решительно продвинул развитие наук о человеке и позволил заложить основу того, что позже получило название Принципа Фундаментальной Безответственности. Когда правительства поняли, какую пользу можно извлечь из результатов Операции Очищения (так ее называли в газетах), они превратили «Феникс» в международную фирму и поместили ее под контроль ООН. Дьявол потребовал разрыва контракта, но Международный суд в Гааге отверг его притязания во имя высших интересов сообщества. Но это уже иная история.
Когда дьявол вернулся в назначенный день, господин Феникс сиял. Он протянул своему заказчику переплетенный том, где содержались заключения психологов. Дьявол схватил его и принялся читать. Он проскочил главы, посвященные методологии, проигнорировал расчеты, не обратил внимания на общие рассуждения и исключения, но вчитался в рекомендации. И скривился. Рекомендации практически отсутствовали. Огромный отчет всего-навсего констатировал отсутствие какого-либо чувства ответственности почти у всего населения Земли, а то, что еще сохранилось в некоторых людях, рассматривал как «патологию, развившуюся вследствие тяжелых травм, полученных в раннем возрасте».
Дьяволу впору было прийти в ярость. Черты его начали уже искажаться, но именно в этот момент господин Феникс умело раскрыл контракт и показал ему маленькую статью, где говорилось, что «Феникс и Кº» не несет ответственности в случае неуспеха. Дьявол спорить не стал. Он помнил об этой статье, ведь он разбирался в контрактах. Более того, жест господина Феникса, подсунувшего ему контракт в самый нужный момент, показался до странности знакомым, хотя он не знал почему.
— Надеюсь, наши услуги вас удовлетворяют? — осведомился господин Феникс.
Дьявол даже прослезился от эдакой подлости.
— Что же мне делать? — наконец пробормотал он. — Где обещанные рекомендации?
— Ну что же, мы провели исследования. Заключение фирмы состоит в следующем — ваша деятельность в настоящих обстоятельствах не имеет шансов на успех. Большего мы сказать не можем, и поверьте, весьма сожалеем об этом.
— Что мне делать? — умоляюще повторил дьявол.
— Смените род деятельности, — цинично улыбнулся господин Феникс. — Производите что-нибудь другое. В наши дни никто не верит в ад. А успех в деле суть результат воздействия на покупателя.
— Я не могу сменить род деятельности, — простонал дьявол. — Мой Контракт в данной области предельно категоричен.
— Разорвите его.
— Придется платить неустойку. У меня безжалостный хозяин.
— Контракт ограничен сроком?
— Боюсь, что нет.
— Тогда я вижу лишь один выход.
— Какой? — нетерпеливо спросил дьявол.
— Обратиться в наш специализированный филиал, занимающийся реорганизацией фирм, находящихся в затруднительном положении.
— Сколько это будет стоить?
— У них особые контракты. Стоимость работы индексируется по увеличению годового оборота.
— Ах так? — дьявол осклабился. — А вы представляете себе мой годовой оборот?
— Должно быть, он велик, — осторожно предположил господин Феникс.
— Я говорил не об этом, а о принятой у нас денежной единице. Боюсь, вы не сможете ею воспользоваться.
— Это не ваша забота. Всегда есть возможность обмена. Например, со странами Востока…
— Во сколько вы бы оценили совесть, господин Феникс, душу?
— По-разному, — не моргнув глазом ответил бизнесмен. — Конечно, совесть епископа или министра идет не по тому курсу, по какому идет совесть мелкого служащего или актрисы. Кроме того, есть значительный индивидуальный разброс. Некоторые души очень быстро обесцениваются.
— Это моя единственная денежная единица, — заявил дьявол.
— Нас это не смущает. Мы разработаем обменный курс. Такова наша профессия.
— Будь по-вашему, — дьявол устало махнул рукой.
— Итак, договорились.
Кабинет по своим размерам ни в чем не уступал кабинету, где дьявол встретился е господином Фениксом. И мебель в нем была такой же, правда с единственным исключением, на столе валялась древняя логарифмическая линейка. Хозяин кабинета был высок и сухощав, с желтым лицом, тонкими губами и проницательными колючими глазами под тонким пергаментом полуприкрытых век.
— Я — инженер, — отрывисто сказал он. Жесты его были быстры и резки. И тем же тоном добавил: — Я организатор.
Дьявол сразу почувствовал — с этим человеком спорить бесполезно.
— У меня не самая простая проблема.
— Изложите ее.
— Мне надо улучшить методы управления адом, модернизировать их. Полагаю, моя просьба вас удивляет, но я готов на все; Я действительно в затруднительном положении.
— К таким делам я привык. Кстати, меня зовут Дедал.
В его голосе не было ни единой насмешливой нотки. И весь его облик свидетельствовал о полном отсутствии чувства юмора. На нем был строгий серый костюм, белая рубашка, серо-синий галстук.
— Думаю, мы кое-что сделаем для вас, — медленно процедил он. — Но обещать конкретный результат не мету.
— Знаю, — в голосе дьявола послышалась горечь.
— Придется откомандировать к вам специалистов. Они должны иметь доступ ко всему.
— Вы считаете это необходимым?
— А как же иначе?
— Дело в том, что ад весьма своеобразное предприятие. Мы очень щепетильны по части наших тайн. И…
— Месье, — резко прервал его Дедал, — наше умение хранить тайны известно всем.
Дьявол смутился.
— Ладно. Тем более другого выхода все равно нет.
— Разумеется, нет. Мы изучим ваши бухгалтерские книги и ваши методы, вашу систему оплаты и найма на работу. Реорганизуем те административные и производственные службы, деятельность которых покажется нам неудовлетворительной. И потребуем от ваших подчиненных безоговорочного сотрудничества.
Дьявол поморщился.
— Не все они отличаются предупредительностью.
— Так растолкуйте им, — по голосу Дедала чувствовалось, что он не примет никаких возражений.
Дьявол спросил себя, а не встретил ли он наконец своего хозяина.
— Кроме того, наше сотрудничество должно завершиться письмом от вашей фирмы с выражением признательности.
— Мы рассмотрим вашу просьбу. Скажу Вельзевулу или Мефистофелю…
И ему пришлось ее рассмотреть. Но много позже.
Тем временем ад прошел реорганизацию. Психологи, инженеры, бухгалтеры, экономисты и сопровождающая их туча секретарш, машинисток, расчетчиков, помощников, поверенных в делах, стажеров и прочей шушеры наводнили мрачные аллеи адского подземелья. Их многое удивляло. В преисподней методы работы не менялись веками. Одних поражало полное отсутствие служб прогнозирования, другие возмутились состоянием бухгалтерии и потребовали установки самого современного компьютера, хотя им неоднократно напоминали, что в графе «Приход» цифры были весьма солидными, а в графе «Расход» стояли сплошные нули. Работа в аду была значительно упрощена. Организаторы предложили новую систему классификации падших душ и даже подготовили шкалу градуировки страданий, намного более эффективную, чем прежде. Они намекнули на использование атомной энергии для подогрева адских печей, но особо не настаивали, ибо эта область была едва известна им самим.
Наконец Дедал потребовал встречи с Люцифером.
— Мы сделали в преисподней все, что было необходимо с человеческой точки зрения, — голос его звучал мрачно. — Ваши помощники, господа Вельзевул и Мефистофель, были удивительно любезны в выражении своей признательности. Однако, боюсь, это не улучшит вашего положения.
— Значит, мой случай безнадежен? — спросил дьявол. — Неужели ничего нельзя сделать?
— Я этого не сказал, — возразил Дедал. — Я знаю, что надо делать. На Земле у вас нет службы общественных связей. Чего-то такого, что могло бы наставить вашу клиентуру на путь истинный. Я знаю, что вы в принципе откликаетесь на любой призыв, но признайте, до вас трудно добраться. Пора менять это.
— Покончено с магическим кругом, — простонал дьявол, — покончено с заклинаниями, покончено с кровью рыжей курицы…
— Все это кануло в Лету.
— Служба общественных связей, — сказал дьявол, и его лицо осветилось, словно раздули костер. — Гениальная идея. И как это я сам до нее не додумался?
— Даже простейшие открытия требуют применения особой методики, месье, — инженер был безжалостен. — Вот план кампании, которую я вам предлагаю. Надо вернуть людям осознание совершаемых ими преступлений. Надо основать религию.
— Браво, — воскликнул дьявол. — Мне уже надоели черные мессы, жертвы животных, а то и детей или взрослых. В наше печальное время нужно нечто иное. Времена станут веселей и живее!
— Боюсь, вы неправильно меня поняли. Нам надо создать совершенно новую религию, пробудить к жизни новое пуританство, дать людям правила, которые можно нарушать, литургию, которую они могут поносить и проклинать. Их души следует наполнить страхом.
— Хм, — промычал дьявол, — их надо обмануть, надуть, ввести их в заблуждение… Отлично.
— Ни в коей мере, — Дедал был неумолим. — Нужна подлинная религия. Социологи единодушны в своем мнении.
Дьявол нахмурился, лапы его подрагивали, зубы стучали.
— Боюсь, я не очень вас понимаю, — голос его изменился. — Я ненавижу религии. Я… я всегда боролся с ними.
Реорганизатор хохотнул.
— И вы еще удивляетесь, что дошли до жизни такой. Вы сами на себя накликали несчастье. Вы убили курицу, несущую золотые яйца.
— Вы думаете?
— Цифры не лгут.
— Основать религию? Неужели так надо? Не уверен, что смогу ее основать… — Его тошнило при одной мысли об этом.
— Мы берем на себя все. Конечно, дело не совсем обычное, но мы еще никогда не оставляли клиента без помощи.
— Не знаю, должен ли вас слушать, — дьявол дрожал всем телом.
— Я не держу вас. Некоторые наши конкуренты с удовольствием предложат вам менее тернистый путь. Я понимаю вашу сдержанность. Но поверьте, для столь запущенного дела, как ваше, нет легких путей оздоровления.
— Ох! — выдохнул дьявол. И с испугом добавил: — Прошу вас. Приступайте. Мои возражения не имеют под собой научной почвы. Простите меня.
— Прекрасно, — ледяным тоном промолвил реорганизатор, — мы выполним ваши приказания.
И дело было сделано. Несколько месяцев спустя дьявол инкогнито проник в одно из бетонно-стеклянно-керамических зданий, которые выросли почти по всей Земле словно по мановению волшебной палочки. Плотные перекрытия прятали от взгляда Небес верующих, вступавших под своды пирамид, отполированных, как жемчужины, и открывающих взору незапятнанную белизну земли, прошедшей обработку огнем в необъятных печах преисподней. Новая Церковь имела мгновенный и безусловный успех, переманив к себе почитателей столь разных культов как католицизм, вуду, секта Страшного суда, нексиализм, мумбо-джумбо, неоизизм, а также нанеся урон атеистам. Она получила огромные пожертвования, имела в своем активе несколько чудес, а в пассиве несколько крестовых походов. Она была чиста, требовательна, нетерпима.
Итак, дьявол миновал лабиринт, отделявший святая святых от внешнего мира — хитро закрученную спираль, предназначенную отсечь греховное от священного, заглушить шумы внешнего мира и даже воспоминания о нем, подготовить недостойного обитателя Земли к таинствам, которые будут ему открыты. И в этот миг к горлу дьявола подступила мощная волна того тошнотворного состояния, которое было ему хорошо знакомо; она стала почти невыносимой, когда он услышал песнопения и почуял запах дорогих благовоний. «Нужно ли это?» — подумал он. Дьявол с трудом переставлял копыта, боясь идти дальше, а когда увидел обширный многоугольный неф и замершую в религиозном экстазе толпу, распевавшую псалмы, его охватили тоска и ужас и обожгли его изнутри — на него обрушилось невероятное, нереальное одиночество. Даже отсюда его извергли, но стоило потерпеть, ибо все они придут к нему. Он поднял голову и широко раскрыл глаза, всё вдруг стало для него окончательно невыносимым. Дух его исполнился редкостным отвращением, глубочайшим сожалением, что он способствовал этому, что почти своими руками создал это, и он проклял советников, желая превратиться в змия, но вдруг им завладело то, что создатели этого храма тщательно рассчитали. Он едва не рухнул на колени и не начал страстно бормотать со слезами на глазах выверенно двусмысленные фразы.
Дух его яростно сопротивлялся. Наконец он бежал с поля битвы. Да, постановка была умелой. Слишком умелой.
И пока он бродил по улицам делового квартала, он сказал себе, что в мире этом невозможно будет жить, ибо не сомневался, что «Феникс, Дедал и Кº» создали самую могущественную религию в истории. Его уже не волновало, что адские погреба начнут быстро наполняться. Ибо это тоже было невыносимо.
«Цель не оправдывает средства,» — сказал он себе с болью в душе. Он увидел на прилавке журнал, где прочитал злосчастную рекламу, с которой началось его падение. Он с яростью вырвал ее и принялся методично раздирать в клочки, когда его взгляд упал на еще одно объявление.
Он хорошо его знал. Это была реклама «Феникса, Дедала и Кº». Но внизу страницы было письмо со знакомой подписью.
Месье, горячо благодарю вас от имени нашего директора за вашу успешную деятельность в нашем предприятии. До вашего появления условия работы у нас были невыносимы. Понимание наших проблем, проявленное вашими специалистами, позволило решительно улучшить работу нашего административно-технического аппарата. Работа отныне протекает в более комфортных условиях, и я выполняю ее с той радостью, которую полагал навсегда утраченной. Наша клиентура, похоже, тоже довольна улучшениями, проведенными по вашим рекомендациям. Прошу вас, месье, принять и прочая и прочая.
Дьявол страдальчески взревел и поднял глаза к облачному небу, призывая его в свидетели своего несчастья. И в это мгновение кто-то похлопал его по плечу. Он обернулся и увидел приятной наружности человека с загорелым лицом, чуть отвисшими губами, обширной лысиной, орлиным носом, но с жесткими и колючими глазами. Одет он был изысканно.
— Я вижу, вас интересуют проблемы организации и исследования мотивов поведения, — сказал он участливым тоном. — Но только не обращайтесь к Фениксу и Дедалу. Мошенники. Обращайтесь лучше к нам.
И воткнул меж когтей дьявола визитную карточку.
Дьявол уронил журнал, когти его разжались, карточка выпала и кружась полетела к далекому ненасытному костру, а дьявол все стоял неподвижно — ноги у него подкашивались, а нижняя губа нервно дрожала.

 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ