IV. УБИЙЦЫ БУРЖУАЗНОГО ВЕКА (XIX в.)
1. Граф Монте-Кристо
К эпохе Реставрации во Франции (1815–1830) относится действие одного из наиболее известных романов А.Дюма «Граф Монте-Кристо», сюжет которого большинству читателей хорошо знаком с детских лет. Однако далеко не всем известно, что главные линии сюжета знаменитый французский романист позаимствовал из исторической работы некоего Пеше, основанной на архиве парижской полиции. Дюма отнес начало романа к 1814–1815 гг. — ко времени первой Реставрации. Юный моряк Эдмон Дантес, выполняя последнюю волю своего умершего капитана, привозит во Францию письмо, не подозревая, что в нем содержатся инструкции тайной бонапартистской организации, подготовлявшей возвращение Наполеона с острова Эльба. Данглар, завидовавший сослуживцу, который теперь стал капитаном корабля, и Фернан, мечтавший отнять у него невесту Мерседес, пишут донос на Дантеса. Следователь Вильфор приказывает без суда заточить Дантеса в замок Иф. Таким путем этот судейский чиновник, сделавший карьеру при Бурбонах, надеется скрыть, что Дантес привез письмо к отцу Вильфора — руководителю бонапартистского подполья.
В жизни все было иначе, хотя тоже самым непосредственным образом было связано с происходившей тогда ожесточенной тайной войной. Прототипом Дантеса являлся бедный парижский сапожник Франсуа Пико родом из Нима. Однажды он зашел к своему земляку трактирщику Матье Дупиану и с торжеством сообщил радостную новость — в следующий вторник он женится на богатой и красивой девушке Маргарите Вигору. Завистливый кабатчик был уязвлен в самое сердце. Когда Пико ушел, Лупиан предложил трем своим приятелям, тоже уроженцам Нима, наказать хвастуна Пико. Сказано — сделано. Несмотря на робкие возражения одного из друзей — Антуана Аллю, был состряпан донос полицейскому комиссару, а тот поспешил переправить его начальнику одной из наполеоновских полиций Савари. В доносе утверждалось, будто Пико — агент английской разведки, дворянин из Лангедока, обеспечивающий связь с роялистами в южных и восточных департаментах Франции. По приказу Савари Пико был схвачен и брошен в темницу. Тшет-но родители и невеста пытались наводить справки — арестованный исчез без следа.
Семь лет просидел Пико в мрачном каземате. Другой заключенный — прелат из Милана, также, очевидно, жертва тайной войны, завешал ему свое наследственное имение, капиталы, положенные в иностранные банки, рассказал о тайнике, где им было спрятано много золота и драгоценных камней. После падения Наполеона, в 1814 г., Пико вышел из тюрьмы и отправился в Италию, потом в Амстердам и вступил в права наследства.
Трудно было поверить, что этому сгорбленному от страданий человеку всего 34 года, невозможно было узнать в нем прежнего жизнерадостного и веселого малого, завоевавшего любовь красавицы Маргариты. Однако бедный ремесленник вышел из тюрьмы миллионером.
Во время Ста дней Пико притворялся больным. После вторичного воцарения Бурбонов от стал наводить справки о причинах своего ареста. Он узнал, что его невеста Маргарита Вигору два года ждала пропавшего жениха, а потом приняла предложение кабатчика Лупиана. Под именем аббата Бальдини Пико приехал в Рим, где жил Антуан Аллю. Итальянский священник рассказал Аллю, что во время владычества Наполеона его, Бальдини, держали в суровом заключении в Неаполе, в замке Окуф. В тюрьме Бальдини познакомился с Пико. Тот перед своей кончиной просил прелата выполнить одну его просьбу. Он, Пико, получил от другого заключенного — англичанина в наследство алмаз стоимостью в 50 тыс. франков. Пусть Бальдини съездит в Рим к Антуану Аллю и расспросит того, не известна ли кому причина ареста Пико. Если Аллю согласится рассказать об этом, Бальдини должен передать ему в подарок алмаз, а сам вернуться в Неаполь и начертать имена людей, погубивших Пико, на его могильной плите. После некоторых колебаний Аллю назвал имена Лупиана и двух его сообщников. Получив алмаз, Аллю продал его ювелиру за шестьдесят с лишним тысяч франков. Однако вскоре Аллю узнал, что драгоценный камень был перепродан ювелиром какому-то турецкому купцу за сумму, вдвое большую. Подстрекаемый женой, Аллю убил ювелира и похитил его деньги, после чего преступная чета скрылась из Франции.
А Пико приступил к осуществлению своего плана мести. Он добыл отличные рекомендации и нанялся официантом в ресторан, который содержал разбогатевший Лупиан. Его жене показалось знакомым лицо нового слуги по фамилии Просперо, но и она не узнала его. Двое соучастников Лупиана по-прежнему часто бывали у земляка. Вскоре одного из них нашли на мосту, заколотого кинжалом, на ручке которого были вырезаны слова: «номер первый». Прошло немного времени, и был отравлен другой сообщник; к черному сукну, которым был обтянут его гроб, кто-то прикрепил записку: «номер второй». Еще до этого на семью Лупиана обрушились тяжкие несчастья. Его дочь была обесчещена каким-то богатым маркизом. Он, правда, неожиданно согласился жениться на обольщенной им девушке, но во время свадебного бала выяснилось, что мнимый маркиз — беглый каторжник, который снова скрылся от преследовавшей его полиции. А еще через несколько дней сгорел дом, где помешался ресторан Лупиана. Прошло немного времени, и юного сына Лупиана втянули в воровскую компанию, его арестовали и приговорили к двадцати годам тюрьмы. Жена Лупиана умерла от горя, а дочь стала любовницей Просперо, который обещал уплатить долги ее отца.
Поздно вечером в темной аллее парка Тюильри Лупиан встретил человека в маске. Это был Пико, который рассказал Лупиану о своей мести и поразил его кинжалом, на котором было написано «номер три». Однако, когда Пико покидал место преступления, на него набросился какой-то незнакомец, заткнул рот, связал веревками руки и ноги. Пико пришел в себя в темном подвале. Незнакомец — Аллен Аллю, который наконец догадался, кто погубил Лупиана и его друзей. Несколько дней Аллю издевался над теперь беззащитным Пико, морил его голодом и жаждой, требуя за каждый кусок хлеба и глоток воды по 25 тысяч франков. Пико, которого богатство сделало скупым, отказывался платить до тех пор, пока голод и страх не лишили его рассудка. Надежды Аллю овладеть миллионами Пико были разрушены. Аллю в ярости убил своего пленника и бежал в Англию. В 1828 г., перед кончиной, он признался во всем католическому священнику, который под диктовку умирающего записал страшный рассказ о целой цепи преступлений. Скрепленный подписью Аллю, этот документ поступил в архив парижской полиции, был изложен в работе Пеше и стал после этого материалом для лучшего романа Дюма.
Конечно, под пером художника мрачная история Пико преобразилась. Кровожадный убийца превратился в мстителя, воплощавшего справедливость и правосудие. Неизвестно, чем руководствовался Дюма, отнеся арест своего героя ко времени не империи, а Реставрации. Возможно, здесь сыграло роль стремление приблизить годы, когда в «Графе Монте-Кристо» развертываются сцены мшения, ко времени написания романа (таковым было пожелание издателя).
Е. Черняк. Пять столетий тайной войны. Д., 1995.
2. Библиофил-убийца
Историю этого одержимого страстью библиофила-убийцы рассказывает Иштван Рат-Вег в «Комедии книги».
Благородный дон Винсенте жил в Барселоне в первой половине XIX века. Он попал в столицу Испании, бежав из таррагонского монастыря во время разграбления и закрытия монастырей. В Барселоне он прижился, открыл книжную лавку, стал известным в городе букинистом. Правда, он не был любителем чтения — книги интересовали его только с точки зрения антикварной редкости. За инкунабулы он готов был продать душу. Беда была в том. что если ему попадала в руки инкунабула или иной раритет, то дон Винсенте едва мог найти в себе силы расстаться с ней. Он назначал огромные цены, но даже если находился покупатель, с трудом решался на их продажу. А продавать книги было необходимо: во-первых, деньги были нужны для еды и крова, а во-вторых, для оборота книг.
Однажды на аукционе продавали очень редкую книгу — первое издание указника, выпушенное типографией Пальмарта в 1482 г. Несмотря на все старания, дон Винсенте не смог купить эту книгу, она досталась другому букинисту — сеньору Патсоту. А спустя 2 недели в книжном магазинчике Патсота произошел пожар. Магазин сгорел полностью, на пепелище был обнаружен труп хозяина. По версии полиции, хозяин курил, лежа в постели, затем уснул, а от непотушенной сигары вспыхнул соломенный матрац.
Спустя некоторое время на окраине Барселоны нашли священника, заколотого кинжалом. Прошло три дня — и еще один труп. На сей раз жертвой стал молодой немецкий ученый. Он тоже был заколот кинжалом. Удивительным было то, что убитые не были ограблены — деньги остались в их кошельках. Но зато все убитые были людьми учеными. Горожане было решили, что это — проделки святой инквизиции, которая, после того, как ей было запрещено жечь людей на кострах, решила расправляться с грешниками таким путем.
Следствие, перебирая разные версии, пришло к мысли, что тайным агентом инквизиции мог быть монах-расстрига из таррагонского монастыря. В доме дона Винсенте произвели обыск, во время которого комиссар полиции обнаружил на полке книгу Эмерика де Жирона «Руководство для воинов инквизиции». Кажется, подозрения подтверждались. Но когда с полки стали брать эту книгу, рядом обнаружили то самое редкое издание 1482 г., за которым охотился дон Винсенте, но которое досталось погибшему Патсоту. Зацепившись за это подозрительное обстоятельство, комиссар полиции постепенно обнаружил и другие улики. Дон Винсенте был арестован и, в конце концов, сознался в целом ряде убийств, совершенных им из библиофильской страсти.
Патсота он удушил, чтобы похитить пальмартовское издание, а затем поджег его магазинчик.
Священника он убил потому, что тот приобрел у него уникальную книгу. Дон Винсенте назначил за нее огромную иену, но священник все равно купил ее. Это и стало причиной его гибели. Когда священник ушел с покупкой, дон Винсенте не выдержал и побежал вслед за ним. По дороге он долго уговаривал священника продать ему книгу назад — причем за цену большую, чем при покупке. Но священник отказывался. И тогда в пустынном месте дон Винсенте выхватил кинжал и заколол своего покупателя.
Затем букинист-убийца разработал свою систему. При продаже книг он заманивал покупателей в комнату за стенкой в своей лавке, убивал несчастных кинжалом, а ночью, завернув труп, выбрасывал его в канаву на окраине города.
Когда на суде дона Винсенте спросили, что побудило его к таким чудовищным поступкам, он спокойно ответил:
— Люди смертны. Рано или поздно Господь призовет к себе всех. А хорошие книги бессмертны и заботиться нужно только о них.
Когда шло судебное разбирательство, адвокат, пытаясь спасти дона Винсенте, стал говорить, что его подзащитному не было нужды убивать Патсота, поскольку экземпляр указника, выпущенного типографией Пальмарта в 1482 г., не уникален. Еще одна такая книга появилась в каталоге одного букинистического магазина в Париже. Это известие потрясло дона Винсенте намного больше, чем само судебное разбирательство. Он с отчаянием повторял:
— Я — жертва чудовищной ошибки: мой экземпляр не уникум!
Решением суда дон Винсенте был приговорен к мучительной смерти. От исповеди он отказался.
А.П. Лаврин. 1001 смерть. — М.: Ретекс, 1991.
3. Исчезновение доктора Паркмана
Доктор Паркман шел своей обычной быстрой походкой по улицам Бостона — у него была назначена встреча.
На нем были черный сюртук и брюки, пурпурного цвета шелковый жилет, черный шарф и высокая шляпа. Тошая фигура делала его заметным, но в особенности привлекало внимание своеобразное выражение его лица. Мальчишки показывали на него пальцами: — Вот идет доктор Паркман!
Женщины, встретив его на улице, говорили, вернувшись домой, что они видели «Челюсть». У доктора была выдающаяся вперед нижняя челюсть с заметными искусственными зубами. Эта челюсть говорила о многом: он был целеустремленным человеком, готовым преодолеть любое препятствие и решить любую задачу. Эта челюсть могла принести неприятности кому угодно…
Доктор Паркман всегда торопился, но сегодня он торопился сильнее обычного. О нем говорили, что он настолько нетерпеливый человек, что при езде верхом он иногда соскакивает с лошади и бежит впереди. В это утро он успел побывать в Коммерческом банке на Стейт-стрит и еще в нескольких местах. Он купил зелени для своей тяжелобольной дочери, сложил ее в сумку, которую оставил в овощном магазине «Голландс» на углу Блоссом-стрит и Вайн-стрит и сказал, что скоро вернется. Потом он отправился на свою встречу, назначенную на половину второго в Медицинском колледже. Он должен был справиться с делами и вернуться к обеду в половине третьего — ведь это был 1849 год, и джентльмены обедали в середине дня! Доктор Паркман надеялся, что сегодня профессор Вебстер рассчитается, наконец, со своим проклятым долгом и прекратит водить его за нос своими отговорками, извинениями и увертками…
Профессор Вебстер! От одного этого имени доктор Паркман начинал рычать. Это был человек, занимавший пост лекторa в Медицинском колледже, построенном на участке земли, предоставленном доктором Паркманом. Должность заведующего кафедрой астрономии, которую занимал Оливер Вендели Холмс, была названа в честь доктора Паркмана в знак признательности за подарок. Здесь же работал Вебстер, дважды профессор, так как он еще был профессором кафедры химии и минералогии Гарвардского университета, тогда как доктор Паркман был всего-навсего бесславным доктором! Доктор Паркман высказал ему все это прямо в лицо, а чтобы профессор Вебстер не сомневался в этом, послал ему письмо по тому же поводу.
У доктора Паркмана были причины для возмущения. Профессор Вебстер, быстро растративший отцовское наследство, любил хорошо пожить и повеселиться с друзьями. Даже в те времена в Кембридже это было нелегко (при этом еще приходилось содержать жену и трех дочерей), имея от университета всего 1200 долларов годового дохода с небольшой добавкой от продажи билетов на лекции в Медицинском колледже. За семь лет до этого доктор Паркман занял Вебстеру 400 долларов под залог части его личного имущества, что было заверено распиской. В 1847 году долг был возвращен, а доктор Паркман и еще несколько человек дали профессору в долг уже большую сумму, 2432 доллара, взяв с него расписку о залоге всего личного имущества Вебстера, включая его домашнюю мебель и коллекцию минералов. На следующий год профессор Вебстер, все еще страдая от нехватки денег, пришел к брату жены доктора Паркмана, Роберту Гоулду Шоу, рассказал ему красивую сказку о шерифах и арестах, и заставил этого джентльмена купить свою коллекцию минералов за 1200 долларов. При этом он не упомянул, что эта коллекция уже была заложена доктору Паркману. В разговоре между родственниками сделка выплыла наружу, и доктор Паркман пришел в ярость.
— Эти минералы ему не принадлежат, он не может их продавать! — кричал он. — У меня закладная на них, я могу ее показать!
Доктор был исполнительным, пунктуальным и требовал того же от других. Он начал преследовать профессора и требоват возвращения долга. Не знаю, правда ли это, но говорят, что он приходил на лекцию Вебстера, садился в первом ряду, уставившись на несчастного, и смущал лектора видом своей выдающейся челюсти и сверкающих зубов. На протяжении нескольких месяцев Вебстер настойчиво представлял Паркмана как жестокого преследователя бедного ученого, и эта мысль, возможно, была его утешением. Он создал для себя великое множество утешительных подробностей, они были для него тем же, что описание казни Нанки Пу для Пуха Баха. Но доктор Паркман посягнул на другой источник доходов Вебстера — продажу билетов на лекции, а когда его в очередной раз надули, то пригрозил отторгнуть эти доходы в судебном порядке. В понедельник вечером на этой неделе он зашел в Медицинский колледж Массачуссетса. Там разыгралась сцена, которую мы представляем здесь в описании Литтлфилда, сторожа:
— «Это было в личной задней комнате доктора Вебстера… Я помогал доктору Вебстеру, у него были зажжены три-четыре свечи. Локтор стоял у стола, читая какую-то книгу по химии и повернувшись спиной к двери. Я стоял у печи, взбалтывая воду, в которой нужно было приготовить раствор. Я не услышал шагов, но сразу увидел заходящего в комнату доктора Паркмана… Локтор Вебстер оглянулся и, похоже, удивился, что тот вошел так неожиданно. Первыми его словами были: „Локтор Вебстер, сегодня вечером вы готовы?“
Доктор Паркман говорил быстро и громко. Доктор Вебстер ответил:
— Нет, доктор, сегодня вечером я не готов.
Доктор Паркман сказал еще что-то… Он или обвинил доктора Вебстера в продаже заложенного имущества… или что-то вроде этого. Он достал из кармана бумаги и сказал:
— Это так, и вы это знаете!
Доктор Вебстер ответил:
— Встретимся завтра, доктор.
Доктор Паркман стал у дверей. Подняв руку, он сказал: — Доктор, завтра нужно что-то решить… Затем он вышел, и больше в этом здании я его не видел». Тем не менее, на следующий день ничего не было сделано, чтобы уладить конфликт между двумя докторами, и теперь, четыре дня спустя, в пятницу 23-го ноября, за неделю до Лня благодарения, был несчастливый день для них обоих. Профессор Вебстер вдруг ни с того ни с сего позвонил домой доктору Паркману до девяти утра и назначил встречу со своим кредитором в половине второго в колледже. Какой договоренности можно было достичь в колледже рядом с анатомическим театром, среди «мрачных осколков смерти» (как впоследствии описывал это место Диккенс)? А почему не в доме самого Паркмана? Оба они наверняка думали об этом, и теперь доктор Паркман торопился на встречу. В четверть второго его видели недалеко от колледжа — у самого входа. Вошел он вовнутрь или нет — неизвестно, но больше его никто не видел…
Такой человек, как доктор Паркман, не мог случайно исчезнуть на улицах Бостона, не вызвав всеобщего волнения. Он был слишком выдающейся фигурой. Похоже, он не занимался врачебной практикой (хотя и получил степень доктора медицины в университете Абердина). Вместо этого он с энтузиазмом посвятил себя бизнесу и финансам. Он хотел продвинуться в жизни с помощью денег, и не упускал возможности заполучить должника, затягивающего выплату. Его братом был преподобный доктор Паркман. Но его племянник, в то время молодой человек, недавно окончивший колледж, стал впоследствии наиболее знаменитым среди них — известным историком Фрэнсисом Паркманом. Он обладал целеустремленностью, присущей его родне, и она привела к наиболее благородным результатам… Доктор Паркман жил в массивном и мрачном доме, который по сей день стоит на улице Волнат-стрит, 8. Когда днем в пятницу он не вернулся домой к обеду, его родные забеспокоились.
К следующему дню семья была в полном смятении. В газеты были помещены объявления о розыске с назначенным вознаграждением. Обследовали реку, пустые дома и подвалы…
В воскресенье днем профессор Вебстер нанес внезапный визит в дом преподобного Паркмана и поразил всех своими резкими манерами. Профессор признал, что говорил с пропавшим в пятницу днем. По его словам, окончив разговор, они разошлись. Другим же людям из колледжа профессор сказал, что встретился с доктором, как было назначено, уплатил ему 483 доллара, и доктор вышел с деньгами в руке. Из этого следовала популярная гипотеза о том, что доктора Паркмана где-то подстерегли, ограбили и убили.
Действия профессора Вебстера были странными и до, и после исчезновения доктора Паркмана, и, наконец, он совершенно поразил сторожа, когда во вторник заказал ему индейку на День благодарения. Это был первый подарок, который он сделал Литтлфилду за семь лет знакомства… В конце концов, Литтлфилду надоело постоянно слышать на улицах, что доктора Паркмана найдут в колледже, и он решил самостоятельно обследовать подвал под личными апартаментами профессора Вебстера. В поисках, проводившихся по всему Бостону и Кембриджу, колледж осматривали лишь поверхностно. Но сторож, вооружившись ломом и зубилом, постарался за два-три дня пробиться через кирпичную стену, чтобы исследовать содержимое подвала. Его жена стояла на страже, чтобы вовремя предупредить о появлении Вебстера. День благодарения, несмотря на индейку профессора Вебстера, был для него невеселым днем, так как все утро он расчищал свой собственный подвал и целый день долбил прочные слои кирпича. Он немного расслабился вечером, когда пошел на бал к «Сыновьям Темперанса», где оставался до четырех утра и протанцевал восемнадцать танцев из двадцати. О, что за сторожа были в то время!
В пятницу, через неделю после исчезновения доктора Паркмана, Литтлфилд пробился сквозь стенку и заглянул в подвал.
— Я держал фонарь впереди, — говорил он, — и первое, что я увидел — это рука человека и две части ноги. Вода стекала на эти останки из раковины. Я знал, что здесь не место для подобных вещей…
Сразу известили начальство колледжа и городского судебного исполнителя. В Кембридж направили трех полицейских, которые арестовали доктора Вебстера и привезли его в Бостон.
Когда полицейские зашли к профессору домой, они сказали ему, что в колледже нужно провести дополнительный обыск, и его присутствие там желательно. Он пошел довольно охотно, мило беседовал с ними, пока не обнаружил, что они едут не в колледж, а в тюрьму. Тогда он спросил:
— Что это значит?
На это полицейский ответил:
— Мы уже нашли доктора Паркмана, и теперь вы арестованы за его убийство.
Он был шокирован, попросил воды, а потом стал задавать массу вопросов:
— Доктора Паркмана нашли? Где его нашли? Нашли все гело полностью? Как заподозрили меня? О! Мои дети, что они будут делать? Боже, что они обо мне подумают!
В ответ полицейский сказал ему, что он не должен задавать вопросы, на которые сейчас не время отвечать, а затем спросил у профессора Вебстера, имел ли кто-нибудь доступ в его частные апартаменты в колледже.
— Никто, — отозвался он, — кроме швейцара, который разводит огонь…
Он помолчал минуту, а потом воскликнул:
— Какой ужас! Я погиб!
Некоторое время он ходил взад-вперед, затем сел, достал что-то из кармана сюртука и положил в рот. За этим последовала судорога и обморок. Подъехали к зданию тюрьмы. Полицейские помогли ему подняться и проводили в камеру, где он лег. Тело его сотрясали сильные судороги, но примерно через час он был в состоянии в сопровождении полицейских проехать в колледж, где он присутствовал при дальнейшем обыске. Позже профессор Вебстер сказал, что перед тем как сойти с экипажа, он принял заранее заготовленную дозу стрихнина. Он думает, что из-за его нервнвго состояния действие яда ослабилось, хотя, по его мнению, доза была большой…
Когда в Бостоне узнали, что профессор Вебстер арестован, там поднялось сильное волнение. Говорят, что были собраны две группы милиции, не знаю только, зачем.
Список академических отличий Джона Уайта Вебстера был довольно длинным. Он окончил колледж в 1811 году. Он был магистром искусств и доктором медицины в Гарварде; членом Американской академии искусства и науки, Лондонского геологического общества и других научных организаций. Он написал и издал несколько книг по химии, и еще — об одном из Азорских островов, где осела его дочь после замужества. Сенатор Хоур после посещения его лекции отметил, что он «добрый и суетливый человек», но его лекции — самые скучные из всех, которые он когда-либо слышал. Благодаря тому, что он настоял на проведении фейерверка по поводу инаугурации президента Эверетта, студенты называли его «Ракета-Джек».
Однажды на его лекции по химии взорвался медный сосуд. Часть его полетела в аудиторию, и лишь благодаря тому, что на пути металлического осколка в рядах студентов оказалось пустое место, никто из слушателей не был убит. Профессор сухо прокомментировал этот случай:
— Президент вызвал меня и сказал, что я должен быть более аккуратным. Он сказал, что ему было бы очень не по себе, убей я кого-нибудь из студентов. Так оно и есть…
Профессор Эндрю Пибоди через много лет после суда писал:
«Я не могу сказать о профессоре Вебстере недоброе слово. Я никогда не считал его великим человеком. Он не был интересным преподавателем и не слишком успевал в своих химических экспериментах. Но он создавал исключительно хорошую атмосферу в аудитории. Во время моей учебы меня часто приглашали в его гостеприимный дом, где я познакомился с его очаровательной семьей».
Когда в марте его привезли на суд, многие считали его невиновным. Другие думали, что обвинение против него провалится, так как нельзя было доказать, что останки принадлежали доктору Паркману. Некоторые из его друзей просили заняться его защитой Руфуса Чоата, этого великого адвоката. Но тот отказался, услышав об уликах, сказал, что возьмется за дело, если только профессор признается в убийстве, а он попытается доказать присяжным, что убийство было непредумышленным. Но это Вебстера не устраивало. Верившие в невинность профессора, такие как Чарльз Самнер, наверняка не сознавали всю силу улик.
Процесс, который вел верховный судья Шоу, стал одной из вех истории уголовного права Массачусетса. Все были под впечатлением от серьезности дела, и слушания проходили очень величественно. Присяжных не превзошла бы своей серьезностью и религиозностью даже палата Епископов. Чтобы справиться с наплывом людей, желавших присутствовать на суде, в партер были допущены лишь привилегированные зрители. Простую публику пустили на галерку, и, что поразительно, аудитория галерки сменялась каждые десять минут с помощью полиции! «За исключением двух отдельных случаев сумятицы», соблюдался порядок и спокойствие. Бросить взгляд на судебное заседание смогли от 55 до 60 тысяч человек! Суд длился одиннадцать дней, и нью-йоркская «Геральд», состоявшая из четырех страниц, стала первой газетой, сообщавшей о событиях ежедневно в трех-четырех колонках на первой странице.
Самыми важными были свидетельские показания Литтлфилда. Его допрашивали часами. Он описал беседу двух докторов, а потом сказал, что в тот же день профессор Вебстер справился у него о состоянии подвала, куда складывались останки из препараторской. В четверг, за день до исчезновения доктора Паркмана, профессор Вебстер послал свидетеля в Общую больницу Массачусетса за банкой крови, которой там не оказалось. Литтлфилд видел, что в пятницу доктор Паркман шел по направлению к колледжу, но не видел, как тот вошел вовнутрь. В течение последующих нескольких дней профессор запирался в своих апартаментах в необычные для этого часы. В камине горел какой-то странный огоньки было слышно, как в раковину стекает вода. После того, как начались поиски доктора Паркмана, Вебстер сказал Литтлфилду, что он уплатил доктору Паркману 483 доллара и несколько центов и тот поспешил уйти с деньгами.
Обвинение предъявило улики в том, что подсудимый провел серию махинаций с чеками и векселями. Защита не смогла это отвести. Профессор Вебстер заявил ранее, что они «все уладили» с Паркманом — так оно и было на самом деле, но не в том смысле, как предполагалось. В камине нашли кусочки вставных зубов, и такие же кусочки обнаружились в ящике, заполненном дубильной корой. А Вебстер получил дубильную кору из Кембриджа за неделю до этого. Ее доставил посыльный Савин — это имя известно нескольким поколениям студентов Гарвардского университета.
В то время подсудимым не разрешалось давать свидетельские показания, но защита профессора Вебстера от его имени все отрицала. Зашита подвергла сомнению, что части человеческого тела принадлежали доктору Паркману и предположила, что даже если это так, то их мог подбросить другой человек, неизвестный профессору Вебстеру, с целью навлечь на него подозрения. Похоже, защита хотела предположить возможную вину Литтлфилда. При помощи других свидетелей они пытались продемонстрировать, что доктора Паркмана видели в других частях города в ту же пятницу, уже после встречи с Вебстером. Появились два-три свидетеля, но некоторые из них ошиблись в дате, а другие — во внешности, приняв другого человека за доктора Паркмана.
Несмотря на густую сеть косвенных улик, сомкнувшихся вокруг профессора Вебстера, обвинение уперлось в идентификацию останков, и окончательные выводы могли быть основаны на результатах анализа искусственных зубов. И здесь показания дал доктор Натан Кип, бывший другом и обвиняемому, и убитому. Он сам делал зубы доктору Паркману. В доказательство он предъявил форму для отливки и показал, что найденные зубы к ней подходят. При этом он расплакался, так как понимал, что эта улика означает смерть для подсудимого.
Потом выступали соседи, друзья и коллеги профессора Вебстера и рассказывали о его добром характере. Ему было уже почти шестьдесят, все его уважали, если и не очень любили, и присяжным было слишком трудно поверить в его виновность.
Среди тех, кто его характеризовал, был Джералд Спаркс, президент Гарвардского университета. Оливер Венделли Холмс свидетельствовал в пользу обвинения. Он читал лекцию по анатомии над комнатой профессора Вебстера во время встречи последнего с доктором Паркманом. Профессору Вебстеру разрешили сделать заявление для присяжных, и он неосмотрительно принял это предложение. Он говорил примерно пятнадцать минут, упрекая собственную защиту и обращаясь к деталям обвинения. Обращение верховного судьи Шоу к присяжным стало потом знаменитым. Его часто цитируют в современных судах, особенно если дело касается характера и значения косвенных улик. Ведь никто не видел их вместе во время убийства!
На одиннадцатый день процесса, к вечеру, присяжные покинули зал заседаний и через три часа вернулись с вердиктом «виновен». Профессора Вебстера приговорили к смерти, но по его поводу делались обычные апелляции. Когда заявление об ошибочном приговоре было отклонено, профессор обратился к губернатору и в Верховный суд и в самых официальных выражениях заявил о своей невиновности. Там были подобные замечательные фразы: «К тому, кто скрывается от наших глаз и перед кем я уже давно мог предстать, я обращаю свои правдивые слова…» и «Официально и с абсолютной уверенностью, с полной ответственностью человека и христианина, я заявляю о своей невиновности, и Властитель всех сердец мне свидетель…».
Через несколько недель его протест отклонили, и несчастный написал длинное заявление, признавшись в убийстве, но утверждая, что оно было неумышленным. Профессор Вебстер описал свой телефонный звонок к Паркману в пятницу утром и их последующую встречу в колледже. Он писал:
«Как мы и договаривались, он пришел между половиной второго и двумя. Он вошел через дверь лекционной комнаты. Я занимался тем, что переносил сосуды со стола в моей лекционной комнате в заднюю комнату, называемую лабораторией. Он быстро спустился по лестнице и вошел в лабораторию вслед за мной. Он сразу же обратился ко мне:
— Вы готовы, сэр? У вас есть деньги?
— Нет, доктор Паркман, — отозвался я, потом я начал описывать ему свое тяжелое положение. Он назвал меня „мерзавцем“ и „лжецом“, осыпая меня массой оскорблений и непристойных эпитетов. Не замолкая, он извлек из кармана пригоршню бумаг и вытащил из них две моих долговых расписки и старое письмо доктора Госака, написанное много лет назад, в котором тот поздравлял доктора Паркмана с тем, что он добился моего назначения на должность профессора химии.
— Вот, — сказал он, — я устроил вас на работу, и я же вас ее лишу!
Он сложил все бумаги в карман, кроме письма и долговых обязательств. Не могу сказать, сколько продолжались ругательства и угрозы. Но я могу припомнить сейчас лишь небольшую часть…
Вначале я пытался его успокоить, чтобы свести разговор к теме, из-за которой я пригласил его на встречу. Но я не мог остановить его, и вскоре уже сам был вне себя. Я забыл обо всем! Я не слышал ничего, кроме его жалящих слов. Я был страшно возбужден. И когда он ударил кулаком, в котором было зажато письмо, мне в лицо, то я схватил первое, что мне попалось под руку — деревянную палку — и изо всех сил ударил его. Я не знал и не думал, меня не интересовало, куда я его ударил, с какой силой, и к чему этот удар может привести. Удар пришелся по виску, и ничто не могло ослабить его силу. Он сразу упал на пол. Второго удара не было. Он не двигался, я наклонился над ним — он не подавал признаков жизни. Из его рта текла кровь, я взял губку и вытер ее. Я взял немного нашатыря и приложил к его носу — эффекта не было.
Наверное, я провел десять минут, пытаясь привести его в чувство. Но оказалось, что он мертв. Я в ужасе побежал к дверям и закрыл их на шеколду — двери лекционной комнаты и лаборатории внизу. Что мне было делать потом?
Мне пришло в голову выйти наружу, заявить о содеянном и просить помоши. Я видел лишь один выход: во-первых, убрать и спрятать тело и, во-вторых, сжечь и уничтожить его. Как только я принял решение, то перетащил тело в соседнюю комнату. Там я снял с него одежду и побросал ее в огонь, горевший в верхней лаборатории. В тот день все было полностью сожжено — вместе с бумагами, записной книжкой и всем, что там могло оказаться. Я не обследовал карманы и ничего не вытаскивал, кроме часов. Я увидел цепочку, забрал часы и по пути в Кембридж бросил их в реку с моста.
Потом мне нужно было уложить труп в раковину, стоявшую в личной комнатке. Я прислонил его к углу, сам стал в раковину, а потом затащил его. Там я его полностью расчленил. Я сделал это очень быстро, так как это диктовалось ужасной необходимостью. Единственным моим инструментом был нож, который полицейские нашли в яшике для чайных принадлежностей — я открывал им пробки. Я не пользовался турецким ножом, как утверждалось на суде…
Когда я расчленил труп, в раковину стекала струя воды и смывала кровь в трубу, проходящую через нижнюю лабораторию. Должно быть, труба протекала, так как на потолке внизу сразу показались пятна…»
Профессор Вебстер обратился с пространным заявлением о замене наказания. Оно основывалось не только на простом утверждении, что удар был нанесен при мгновенной вспышке ярости — он заявил, что все его действия говорят об отсутствии умысла. Было безумием, говорил он, звонить утром доктору Паркману и назначать встречу, если он планировал убийство заранее…
Но ни губернатор, ни его священник, ни его друзья не посчитали возможным ему поверить. Профессор Вебстер был повешен в последнюю пятницу августа 1850 года. Он был спокоен и, очевидно, смирился со своей участью. Он робко извинился перед Литтлфилдом за попытки перевести на него подозрения, написал полное раскаяния письмо преподобному доктору Паркману, прося перед смертью прощения у этой семьи.
Было ли это трезво спланированное убийство или все же его следует рассматривать как убийство непредумышленное (спровоцированное и совершенное в состоянии аффекта)? Детали с подвалом, попыткой избавиться от крови и, возможно, встреча с Паркманом в колледже указывают на план. С другой стороны, он дал более-менее приемлемые объяснения всем этим вещам, а абсурдность попытки скрыть такого человека, как доктор Паркман, и утаить преступление настолько очевидна, что вызывает сомнения в предумышленности убийства. Мне кажется, на этот вопрос ответить невозможно.
Это убийство ясно демонстрирует три веши. Первое, что весьма уважаемый человек может совершить преступление такого рода. Второе, что он может торжественно лгать, прикрываясь именем Бога, чтобы избежать наказания. И третье, что приговор может быть основан и на косвенных уликах. Даже после суда многие не поверили в вину профессора. А.Оуки Холл, впоследствии мэр Нью-Йорка, был одним из тех, кто писал памфлеты, протестуя против приговора. Мистер Холл очень резко говорил о том, что он называл «пуританским фанатизмом» и «бостонским фанатизмом», но его позиция после признания осужденного до сих пор неизвестна.
Дело Вебстера-Паркмана можно назвать одним из самых известных преступлений Америки, о котором написано множество воспоминаний. Убийство упоминали многие писатели того времени. Наверное, наиболее примечательный анекдот на ту же тему был рассказан Лонгфелло во время обеда, который он давал в честь приехавшего к нему в 1869 г. Чарльза Диккенса. (Днем Диккенс осматривал место преступления вместе с доктором Холмсом). За два года до убийства Лонгфелло был среди гостей на мужской вечеринке у профессора Вебстера, где чествовали иностранного гостя, интересующегося химией. К концу вечера профессор погасил свет в комнате, и слуга внес сосуд с каким-то горящим химическим составом, озарявшим мертвенно-бледным светом лица мужчин, собравшихся за столом. Профессор Вебстер встал, вынул из кармана веревку и обмотал ее вокруг шеи наподобие петли. Потом, при свете дьявольского огня, он склонил голову набок и высунул язык, будто повешенный! И это за два года до суда!
Говорят, что после казни семейство Вебстеров переехало в Фаял, где жила замужняя дочь профессора. Спустя несколько лет, за обедом, один говорливый гость упомянул каких-то Вебстеров, приехавших из Бостона. Упомянутые Вебстеры сидели тут же, за столом. Не зная этого, он вдруг заметил:
— Да, кстати, а что стало с тем профессором Вебстером, который убил доктора Паркмана? Его повесили?
Очерк Э. Пирсона «Исчезновение доктора Паркмана» из сборника «Убийства, потрясшие мир» — Харьков: Харьковская штаб-квартира советской ассоциации эстетического и политического романа (СА ДПР), 1992.
4. Сад старика Бендера
В газетах Канзаса 18-го июня 1873 года появилось следующее объявление:
«Профессор Кейт Бендер из Форт-Скотта лечит многие болезни, а также лечит также слепоту и глухоту в 19 милях к востоку от Индепенденса, Осадж-Мишн.»
За этим стоит история, заставляющая дрожать даже крестьян в отдаленных уголках Европы, когда они собираются у огня. Фольклорные истории о ведьмах, каннибалах, злодеях и оборотнях уже успели потускнеть за века. История Бендера сравнительно нова, ее подробности не стерлись при пересказах, а зафиксированы в беспристрастных полицейских протоколах.
Кейт Бендер была угловатой краснолицей женщиной двадцати четырех лет. Ее отец — старик Бендер и брат были «крупными мужчинами с грубой наружностью». Ее мать, мужеподобное, дикое существо, несмотря на свои шестьдесят лет, могла выполнять работу лошади. Они относились к недоразвитым людям Севера, где не было места порядку, закону и цивилизации, принадлежа к тому веку, когда человек еще пользовался правом на убийство.
Они жили на краю проторенной дороги, в 18 милях от границы штата Канзас, в ветхом доме, с полуакром сада позади него. Перед домом было помещение, где готовилась еда для проезжих. Вся семья была связана с призраками и духами, и соседи, подыскивая новое слово для древнего дела, которым занимались Бендеры, называли их «спиритуалистами». Мисс Кейт была самой молодой и при этом была лидером в семье. Естественно, они были непопулярны, и никто из всей округи не рисковал остаться на ночь в таверне Бендеров. Те, кто проходил по вечерам мимо их дома, рассказывали о доносившихся оттуда зловещих звуках. Но это место было далеко от накатанной дороги, поэтому подобные слухи о Бендерах рассказывались нечасто. Тогда у людей в Канзасе хватало забот, чтобы не беспокоиться особо о связанной с призраками семье Бендеров.
Опубликованное в газете объявление не привлекало к себе жителей города. Дорога была долгой и трудной, так что немногие появлялись здесь, чтобы испытать на себе чудодейственную силу профессора Кейт. Иногда редкие проезжие останавливались здесь поесть. Потом они говорили о неважных манерах этой семьи, их привычке подглядывать за ними, об их мрачном виде.
Весной 1873 года доктор Вильям Йорк выехал верхом из Форт-Скотта, возвращаясь к себе домой в Индепенденс, штат Канзас — и исчез. Он был богат и возглавлял маленькую общину, в которой жил. Его семья и сограждане, зная его жизнерадостный характер, исключали возможность самоубийства и заподозрили темное дело. Поисковые отряды безрезультатно прочесали всю округу. Его брат оказался сенатором, не пожалевшем денег на детективов, которые обыскали всю страну. Во время поисков сыщики появились в окрестностях городка Черривейл, в пяти милях от таверны Бендеров, где они кое-что узнали о докторе.
В Черривейле все утверждали, что доктор столкнулся на границе с бандитами. На Бендеров не упало ни тени подозрения. Группа всадников навестила таверну лишь для того, чтобы спросить, не видели ли они доктора. Ко всеобщему удивлению, они не нашли здесь признаков жизни. Похоже, Бендеры уехали, ставни были наглухо закрыты. Эта группа ускакала прочь, но другая группа через несколько дней оказалась настолько любопытной, что объехала дом Бендеров вокруг. Им открылся неожиданный и странный вид. В небольшом загоне с тыльной стороны дома лежали мертвые туши телят и свиней, погибших от жажды и голода. Раз Бендеры допустили это, случилось действительно что-то странное. Трудно объяснить городским людям отношение крестьян к своему имуществу — это одновременно их капитал и средство существования. У Бендеров была не просто веская причина уехать, а причина жизненно важная! Нет, они покидали дом в невообразимой спешке, не успев даже открыть калитку, чтобы выпустить животных!
Следующая партия продолжила расследование, но все еще не решаясь выбить дверь или окно и войти в заброшенный дом.
Шел сильный дождь. В маленьком саду они заметили место, где земля явно была потревожена, а холмик по форме напоминал могилу. Они приступили к работе и выкопали сильно разложившееся тело доктора Йорка. Его череп был разбит, а горло перерезано в своеобразной манере. Потом выяснилось, что в некоторых ритуалах так убивали жертвенных животных.
Перед наступлением ночи было эксгумировано еще семь трупов, некоторые из них опознаны. Вот кто это был: торговец лошадьми, адвокат, бродяга и иммигрант с маленькой дочерью. У каждого был разбит череп, а горло перерезано от уха до уха. На теле маленькой девочки не было видно следов насилия. Похоже, ее бросили живой в могилу отца.
На следующий день обнаружили тело еще одной девочки, с длинными светлыми волосами. На вид ей было около восьми лет. Ее убили с исключительной жестокостью, почти все ее кости были переломаны. Потом выкопали еще тела, но их невозможно было опознать.
Полицейские взломали дверь и вошли в дом. Их встретило невероятное зловоние. Стало ясно, как совершались преступления. Перегородка из ткани отгораживала небольшое помещение, в котором стояли скамья и грубый стол. Здесь путники принимали пищу. Стол был поставлен так близко к перегородке, что гостю приходилось прислоняться к ней головой — в результате ее положение было хорошо видно сзади. Тогда отец или брат подкрадывался сзади с молотком каменотеса (его тоже нашли в доме) и обрушивал удар. Посередине комнаты в полу был люк, из ямы под которым и доносился запах. Его открыли. Яма оказалась пропитанной запекшейся кровью. Когда жертве перерезали горло, ее бросали в эту яму. Для каких целей — об этом могли сказать лишь сами Бендеры.
Но их судьба загадочна. Фургон, на котором они бежали, был найден в неосвоенных землях пустым. Он был изрешечен пулями, повсюду виднелись следы крови, но не было и следа семьи. Пока детективы разыскивали их, толпа в Черривейле в ярости творила непристойные вещи. Был схвачен мистер Брокманн, бывший одно время помощником старика Бендера. Оба они были немцами, когда-то крепко дружили. Толпа повела его в лес. Они пытались заставить его рассказать, где находится ужасная семья. Он не знал. Во всяком случае, его трижды вешали и приводили в чувство, а потом отпустили. Говорят, в конце концов он пришел в себя.
Несколько лет назад в Сан-Франциско уголовному следователю пришло письмо, проливающее свет на судьбу этой семьи. Вот оно:
«Черривейл, Канзас, 1910
Глубокоуважаемый сэр,
Я получил Ваше письмо. Случилось так, что ферма моего тестя соседствовала с фермой Бендеров, а он сам помогал обнаружить тела жертв. Я часто пытался узнать у него, что стало с Бендерами, но он лишь бросал на меня многозначительный взгляд, говоря, что они уже никого не побеспокоят. Чтобы найти Бендеров, тогда организовали комитет бдительности, а вскоре после этого фургон старика Бендера нашли у дороги, пробитым пулями. Об остальном Вы догадаетесь сами,
С уважением,
Их смерть все еще остается в тайне. Ее легче понять, чем их поспешное бегство. На них не падало подозрение, а с их предосторожностями следы жертв невозможно было найти.
Почему они убивали? Иногда из-за денег. Но не всегда, так как одна-две жертвы были бродягами, у которых ничего нельзя было взять. Странные разрезы на горле, видимо, служили удовлетворением жестокости. Может, это призраки заставили Бендеров бежать и привели к их разоблачению? Семья фанатично верила в свою способность вызывать духи умерших. В этом одиноком доме, с этим запахом, воспоминаниями о том, что лежит в саду, даже нервы Бендеров могли не выдержать. Загадочные, беспокойные, примитивные люди — напоминания об оргиях, ведьмах и ловушках для беспечных путешественников — еще живут на земле.
Очерк В. Болито «Сад старика Бендера» из сборника «Убийства, потрясшие мир». — Харьков: САДПР, 1992.
5. Таинственное убийство австрийского военного агента
Это было почти в начале моей деятельности в качестве первого начальника управления сыскной полиции, утвержденного при петроградском обер-полицмейстере, потом градоначальнике, в 1866 году.[16]
25 апреля 1871 года, часу в девятом утра, в управлении сыскной полиции мне было дано знать, что австрийский военный агент князь Людвиг фон Аренсберг найден камердинером мертвым в своей постели.
Князь жил на Миллионной улице в доме, принадлежавшем ранее князю Голицыну, близ Зимнего дворца, как раз против помещения первого батальона Преображенского полка.
Военный агент занимал весь нижний этаж дома, окнами на улицу. Квартира имела два хода: парадный, с подъездом на Миллионную, и черный. Парадные комнаты сообщались с людскими довольно длинным коридором, оканчивавшимся небольшими сенями. Верхний этаж дома был не занят.
У князя было шесть человек прислуги: камердинер, повар, кухонный мужик, берейтор и два кучера. Но из всех них лишь один кухонный мужик находился безотлучно при квартире, ночуя в людской. Камердинер и повар на ночь уходили к своим семьям, жившим отдельно, берейтор тоже постоянно куда-то отлучался, кучера же жили во дворе в отдельном помещении.
Князь был человек еще не старый, лет под 60, холостой и прекрасно сохранившийся. Он мало бывал дома. Днем разъезжал по делам и с визитами, обедал обыкновенно у своих многочисленных знакомых и заезжал домой только часов около восьми вечера. Здесь час, много два, отдыхал и вечер проводил в яхт-клубе, возвращаясь домой с рассветом.
Не желая, вероятно, иметь свидетелей своего позднего возвращения, а может быть, руководясь иными соображениями, но швейцара при парадной входной двери князь держать не захотел и настоял на том, чтобы домовладелец отказал бывшему прежде швейцару. Ключ от парадной двери для ночных возвращений он держал при себе. Когда князь бывал дома, парадная дверь днем оставалась открытой.
Получив известие о смерти князя фон Аренсберга, я, конечно, не теряя ни минуты, направив к квартире князя нескольких своих агентов, прибыл туда сам. Вскоре за мной явился туда же прокурор окружного суда, а вслед за ним — масса высокопоставленных лиц, в том числе тогдашний австрийский посол при нашем дворе граф Хотек.
Дело всполошило и взволновало весь Петроград. Государь повелел ежечасно докладывать ему о результатах следствия. Надо сознаться, что при таких обстоятельствах, в присутствии такого числа и таких высоких лиц было не только труднее работать и соображать, но даже, как мне казалось, было поставлено на карту существование самой сыскной полиции, не говоря уже о моей карьере.
«Отыщи или погибни!..» — говорили, казалось мне, глаза всех. Но надо было действовать…
Предварительный осмотр дал только следующее.
Никаких взломов дверей или окон не замечалось. Злоумышленник или злоумышленники вошли в квартиру, очевидно, открыв дверь готовым ключом.
Из показаний прислуги выяснилось, что около шести-семи часов утра камердинер князя вместе с поваром возвратились на Миллионную, проведя всю ночь в гостях.
В половине девятого часа камердинер бесшумно вошел в спальню, чтобы разбудить князя. Но при виде царившего в комнате беспорядка остановился как вкопанный, затем круто повернул назад и бросился в людскую.
— Петрович, с князем несчастье!.. — задыхаясь, сказал он повару, и они оба со всех ног бросились в спальню, где глазам их представилась такая картина: опрокинутые ширмы, лежавшая на полу лампа, разлитый керосин, сбитая кровать и одеяло на полу. Голые ноги князя торчали у изголовья, а голова была в ногах кровати.
«Оставайся здесь, а я пошлю дворника за полицией», — сказал повар.
Накануне же этого несчастного дня, т. е. 24 апреля 1871 года, князь, по обыкновению, в 9 ч. 15 м. вечера вышел из квартиры и приказал камердинеру разбудить себя в 8 ч. 30 м. утра. У подъезда он взял извозчика и поехал в яхт-клуб. Камердинер затворил на ключ парадную дверь, поднялся в квартиру и, подойдя к столику в передней, положил туда ключ от парадной.
Камердинер убрал спальню, приготовил постель, спустил шторы, вышел из комнат, запер их на ключ и через дверь, которая соединяла коридор с сенями, отправился в людскую, где его поджидал повар; четверть часа спустя камердинер с поваром сели на извозчика и уехали. Вот и все, что удалось узнать от прислуги.
В комнате-спальне князя царил хаос. Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что князь был задушен после отчаянного с его стороны сопротивления.
Лицо убитого было закрыто подушкой, и когда по распоряжению прокурора подушка была снята, то присутствующие увидели труп, лежащий ногами к изголовью. Руки его были сложены на груди и завернуты в конец простыни, а затем перевязаны оторванным от оконной шторы шнурком. Ноги были тоже завязаны выше колен собственной рубашкой убитого, около щиколоток же они были перевязаны обрывком бечевки. Когда труп приподняли, то под ним нашли фуражку.
Одеяло и подушки валялись на полу, залитом керосином из разбитой и валявшейся тут же лампы. На белье видны были следы крови, вероятно, от рук убийц, так как на теле князя никаких ран не было.
По словам камердинера, похищены были разные вещи, лежавшие в столике около кровати: золотые французские монеты, золотые часы, два иностранных ордена, 9 бритв, серебряная мыльница, три револьвера и принадлежавшая покойному пуховая шляпа-цилиндр.
В комнате рядом со спальней мебель была перевернута. На крышке несгораемого сундука, где хранились деньги князя и дипломатические документы, были заметны повреждения и следы крови. Видимо, злоумышленники потратили много сил, чтобы открыть сундук или оторвать его от пола, но толстые цепи, которыми он был прикреплен к полу, не поддались. Около окна валялся поясной ремень, а на окне стояла маленькая пустая «косушка» и лежал кусочек чухонского масла, завернутый в бумагу.
Вот и все, с чем предстояло начать поиски.
Чтобы иметь еще какие-нибудь улики, я начал внимательно всматриваться в убитого и заметил, что труп князя лежал головой в сторону, противоположную изголовью кровати.
Это положение трупа не случайно, подумал я. Злодеи во время борьбы прежде всего постарались отдалить князя от сонетки, висевшей как раз над изголовьем, за которую князь неминуемо должен был ухватиться рукою, если бы злодеи на первых же порах не позаботились переместить его тело так, чтобы он не мог уже достать сонетки и, стало быть, позвать к себе на помошь спавшего на кухне кухонного мужика.
Но так поступить, очевидно, мог только человек домашний, знавший хорошо привычки князя и расположение комнат.
Вот первое заключение, сложившееся у меня в те несколько минут, которые я провел у кровати покойного. Само собой разумеется, что этих предположений я не сообщал покуда ни прокурору, ни всему блестящему обществу, присутствовавшему в квартире князя при осмотре.
Я принялся опять за расспросы камердинера, кучеров, конюха, дворника и кухонного мужика.
Не надо было много труда, чтобы убедиться, что между ними убийцы нет. Ни смущения, ни сомнительных ответов, ни вообще каких-нибудь данных, внушающих хотя бы тень подозрения на домашнюю прислугу князя, не обнаружилось. С этой стороны вопрос, как говорится, был исчерпан… И все-таки я не отказывался от мысли, что убийца князя — близкий к дому человек.
Тогда я вновь принялся за расспросы прислуги, питая надежду, что между знакомыми последней найдутся подозрительные лица.
Надо сказать, что прислуга покойного князя, получая крупное жалованье и пользуясь при этом большой свободой, весьма дорожила своим местом и жила у князя по несколько лет, — исключение в этом случае составлял кухонный мужик, который поступил к князю не более трех месяцев тому назад.
Прекрасная аттестация о нем графа Б., у которого он служил десять лет до отъезда последнего за границу, все собранные о нем сведения и правдивые ответы о том, как он провел последнюю ночь, внушали полную уверенность в его неприкосновенности к этому делу.
Я хотел уже кончить допрос, как вдруг у меня явилась мысль спросить кухонного мужика, кто жил у князя до его поступления.
— Я поступил к князю, когда уже был рассчитан прежде меня служивший кухонный мужик, и потому я его не видал и не знаю.
Стоявший тут дворник при последних словах кухонного мужика сказал:
— Да он вчера был здесь.
— Кто это «он»? — спросил я у дворника.
— Да Гурий Шишков, прежний кухонный мужик, служивший у князя!.. — последовал ответ.
После расспросов прислуги и дворников оказалось, что служивший месяца три тому назад у князя кухонным мужиком крестьянин Гурий Шишков, только что отсидевший в тюрьме свой срок по приговору на стороне, заходил за день до убийства во двор этого дома, чтобы получить расчет за прежнюю службу, но, не дождавшись князя, ушел, сказавши, что зайдет другой раз.
Предчувствие или опыт подсказали мне, что эта личность может послужить ключом к разгадке тайны.
Но где же проживает Шишков? У кого он служит или служил раньше?
На все эти вопросы, задаваемые мной прислуге князя, последняя ничего не могла ответить. Никто ничего не знал.
Немедленно я послал агента в адресный стол узнать адрес Шишкова. Прошел томительный час, пока агент не явился обратно.
«На жительстве, по сведениям адресного стола, Гурий Шишков в Петрограде не значится». Вот ответ, который принес агент.
Между тем узнать местожительство Гурия Шишкова для успеха дела было весьма важно. Но как это сделать? Подумав, я решил пригласить полицейского надзирателя Б., велел ему немедля ехать в тюрьму, в которой сидел Шишков, и постараться получить сведения о крестьянине Гурии Шишкове, выпушенном на свободу несколько дней тому назад. Сведения эти он должен был получить от сидевших с Шишковым и отбывавших еще срок наказания арестантов. Полицейский чиновник поехал исполнять мои приказания.
Я был уверен, что этот прием даст желаемые результаты. Быть не может, думал я, чтобы во время трехмесячного сидения в тюрьме Шишков не рассказал о себе или о своих родных тому, с кем он вел дружбу. Весь вопрос в том, сумеет ли выведать Б. то, что нужно.
Через три часа я уже знал, что Шишкова во время его заключения навещали знакомые и его жена, жившая, как указал товарищ Шишкова по заключению, на Васильевском острове у кого-то в кормилицах.
Приметы Шишкова следующие: высокого роста, плечистый, с тупым лицом и маленькими глазами, на лице слабая растительность… Смотрит исподлобья.
— Прекрасно, поезжайте теперь к его жене, — сказал я Б., передавшему мне эти сведения, — и если Шишков там, то арестуйте его и немедленно доставьте ко мне.
— А если Шишкова у жены нет, то арестовать прикажете его жену? — спросил меня Б.
— Но не сразу… Оденьтесь на всякий случай попроше, чтобы походить на лакея, полотера, — вообще на прислугу. В этом виде вы явитесь к мамке, конечно, через черный ход, вызовите ее на минуту в кухню и, назвавшись приятелем ее мужа, скажите, что вам надо повидать Гурия. Если же она вам на это заявит, что его здесь нет, то, как бы собираясь уходить, вы с сожалением в голосе скажете: «Жаль, что не знаю, где найти Гурия, а место для него у графа В. было бы подходящее… Шутка сказать. 15 рублей жалованья в месяц на всем готовом. За этим я и приходил… Ну, прощайте, пойду искать другого земляка, время не терпит. Хотел поставить Гурия, да делать нечего». Если же и после этого жена вам не укажет адреса знакомых или родных, где, по ее мнению, можно найти Гурия, то вам надо будет, взяв дворника, арестовать ее и доставить ко мне, сделав обыск в ее вещах.
Между 4 и 5 часами вечера к воротам дома по Н-й линии Васильевского острова подошел какой-то субъект в стареньком пальто, высоких сапогах, с шарфом вокруг шеи. Это был переодетый Б. Он вошел в дворницкую и, узнав там номер квартиры, в которой жила г-жа К-ва, пошел с черного хода и позвонил Дверь отворила кухарка.
— Повидать бы мне надо на пару слов мамку, — произнес Б. просительно.
Кухарка вышла и через минуту воротилась с мамкой. С первых же слов Б. увидел, что мужа ее в квартире нет. Когда он довольно подробно объяснил цель своего прихода и сделал вид, что собирается уходить, мамка его остановила.
— Ты бы, родимый, повидался с дядей Гурьяна… Он всегда пристает у него на квартире, когда без места, а у меня он больше трех месяцев не был, хоть срок ему уже вышел Неласковый какой-то он стал! — с грустью заключила баба.
Кроме адреса дяди, мамка сказала еще два адреса земляков, где, по ее мнению, можно было встретить мужа. Когда Б. передал мне весь свой разговор с женой Шишкова, я решил сделать одновременно обыск у дяди Шишкова, крестьянина Василия Федорова, проживавшего по Сергиевской улице кухонным мужиком у греческого консула Р-ки, и еще в двух местах по указанным адресам, где можно было бы рассчитывать застать Шишкова.
Обыск у крестьянина Федорова был поручен тому же Б., которому были известны приметы Гурия, а в помощь ему были командированы два агента…
Несмотря на приближение ночи — был уже девятый час в исходе. — Б. с двумя агентами и околоточным надзирателем подъехали на извозчиках к дому по Сергиевской улице. Тотчас звонком в ворота были вызваны дворники.
Из соседнего дома также по звонку явились два дворника, а по свистку околоточного надзирателя — два городовых.
Все выходы в доме тотчас были заняты караулом, после чего полицейский чиновник Б. вместе с агентами, околоточным надзирателем и старшим дворником стали взбираться по черной лестнице во второй этаж. Чтобы застать врасплох и отнять возможность сопротивления или сокрытия вещей, Б. распорядился действием своего отряда так: старший дворник должен был позвонить у черных дверей, и когда войдет в кухню, то спросить у Василия Федорова, нет ли у него Шишкова, за которым прислала его жена с Васильевского острова.
Вслед за дворником у черных дверей, которые дворник не должен был наглухо затворять, чтобы можно было с лестницы слышать все, что происходит в кухне, и сообразно этому действовать, должны были находиться чиновник Б. и околоточный надзиратель. Агент же должен был занять нижнюю площадку лестницы и по свистку явиться в квартиру.
Старший дворник дал звонок. Дверь тотчас отворила какая-то женщина. Появление в кухне дворника никого не встревожило, и все продолжали делать свое дело. Дворник, окинув взглядом кухню, прямо направился к невзрачному человеку, чистившему на прилавке ножи.
— Послушай, Василий, мне бы Гурия повидать, там какая-то баба от жены его прислана.
— Да он тут валяется — должно быть, выпивши! — и Василий крикнул:
— Гурьяша, подь-ка сюда! Тут к тебе есть надобность!
Из соседней с кухней комнаты с заспанным лицом и мутным взглядом вышел плечистый малый и буркнул:
— Чего я тут понадобился?..
Но не успел он докончить фразы, как его схватили.
— Где ты эту ночь ночевал? — обратился к Шишкову чиновник Б.
— У дяди, — последовал ответ.
— Василий Федоров, правду говорит племянник?
— Нет, ваше высокородие, это не так. Гурий вышел из квартиры вчерашнего числа около 6 часов вечера, а возвратился только сегодня в 7-м часу утра.
Остальная прислуга подтвердила показания дяди об отсутствии племянника в ночь, когда было совершено преступление.
При осмотре у Шишкова было найдено в жилетном кармане 21 рубль кредитными бумажками, из которых одна трехрублевая бумажка носила следы крови. Больше ничего подозрительного не было найдено ни у Шишкова, ни у его дяди.
Когда обыск был закончен, чиновник Б. приказал развязать Гурия, предупредив последнего, что при малейшей попытке к бегству он будет вновь скручен веревками. Затем его посадили в карету и повезли в сопровождении чиновника Б. и околоточного надзирателя.
Во время дороги Шишков хранил молчание, исподлобья посматривая на полицейских чинов.
Спустя полчаса карета подкатила к воротам дома управления сыскной полиции, помещавшегося в то время на одной из самых аристократических улиц города.
Итак, к вечеру того же дня, когда было обнаружено убийство, был задержан один из подозреваемых.
Между тем все подробности обстановки происшествия — как то: вид задушенной жертвы, которая нещадным образом была перевязана или, вернее сказать, скручена веревками, время, которое надо было иметь, чтобы оторвать эту веревку от шторы, не выпуская жертвы из рук, так как веревка, очевидно, потребовалась уже после задушения для безопасности, чтобы не вскочил придушенный, и, наконец, довольно значительные следы крови к полу, — все эти признаки, вместе взятые, убеждали меня, что тут работал не один человек, а несколько, друг другу помогавших, и потому ограничиваться арестом одного из подозреваемых в убийстве — значило не выполнить всей задачи раскрытия преступления.
Но как обнаружить сообщников преступления? Сознание Шишкова и указание на сообщников несомненно бы облегчили поиски преступников. Поэтому тотчас по доставлении Шишкова в сыскное отделение я дал знать судебным властям.
По экстраординарности ли преступления, или, быть может, потому что быстрота поимки преступника возбуждала у лиц судебной власти некоторое сомнение насчет того, не захватила ли полиция, по излишнему усердию, кого ни попало — Шишкова не потребовали на Литейную для допроса, как это делалось обыкновенно, а, напротив, все высокопоставленное общество, находившееся в квартире убитого: и судебные чины, и зрители — все без исключения пожаловали в управление сыскной полиции.
Прокурор и следователи принялись с некоторым недоверием за допрос Шишкова. Последний упорно отрицал свою виновность. Судебной власти предстояло повозиться с ним немало, но моя роль по отношению к нему была окончена.
Несмотря на несознание Шишкова, я был глубоко убежден, что он, несомненно, один из виновников преступления. Я решил искать соучастников Шишкова среди преступников, отбывавших наказание в тюрьме вместе с ним, и с этой целью отправил в тюрьму опять-таки чиновника Б.
Из беседы его с двумя арестантами, которым, как старым своим знакомым, не раз побывавшим в сыскном отделении, он свез чаю, сахару и калачей, Б. узнал, что Шишков, вообще не любимый арестантами за свою злобность и необщительность, дружил с одним лишь арестантом — Гребенниковым, окончившим свой срок заключения несколькими днями раньше Шишкова. Те же арестанты в обших чертах сообщили Б. приметы Гребенникова.
Но всякие следы о местопребывании Гребенникова отсутствовали. Ни родных, ни знакомых обнаружить не удалось.
Узнав от Б. эти подробности, я велел дежурному полицейскому надзирателю, чтобы к 10 часам вечера весь наличный состав сыскного отделения был в сборе и ждал моих дальнейших распоряжений.
Около полуночи я собрал агентов и дал им инструкцию обойти все трактиры и притоны, в которых собирались подонки столицы для раздела добычи и разгула. Целью этого обхода было собрать сведения о молодом человеке 25–28 лет, высокого роста, с маленькими черными усиками и такою же бородкою, кутившем в одном из этих заведений в течение сегодняшнего дня. Возможно, что лицо это при расплате давало менять французские золотые монеты.
— Человек, которого нам нужно найти, — сказал я агентам, — сегодня утром был, вероятно, в сером цилиндре с трауром. Если вы найдете такого господина, не упускайте его из виду и — в крайнем случае — арестуйте и доставьте ко мне.
— Вам же, — обратился я к полицейскому Б. и двум агентам, — как я уже сказал, поручаю особенно тщательно и прежде всего осмотреть трактирные заведения и постоялые дворы, расположенные по Знаменской улице, а именно трактиры: «Три великана», «Рыбинск», «Калач», «Избушка», «Старый друг» и «Лакомый кусочек»; в этих заведениях, если вы не встретите самого Петра Гребенникова, которого тотчас арестуйте, то, наверное, от буфетчиков, половых, маркеров и завсегдатаев получите, конечно, при некоторой ловкости, сведения о местопребывании Гребенникова; старайтесь разузнать, нет ли у Гребенникова любовницы; особенное внимание обратите на проституток.
Полчаса спустя один из агентов, юркий еврей М., входил на грязную половину трактира «Избушка». Здесь стоял дым коромыслом: из бильярдной слышался стук шаров и пьяные возгласы. Агент протолкался в бильярдную и, сев за столик, спросил бутылку пива. Публика, если можно так назвать сброд, наполнявший трактир, — все прибывала и прибывала. Агент, севший в тени, чтобы не обратить на себя внимания, зорко вглядывался в каждого входившего и прислушивался к разговору. Убедившись, наконец, что в бильярдной Гребенникова нет, М. сел в общем зале, недалеко от буфета. Здесь почти все столики были заняты. Две проститутки были уже сильно навеселе, и около них увивались «кавалеры», среди которых агент без труда узнал многих известных полиции карманных воров и других рыцарей «воровского ордена».
Часы пробили половину двенадцатого — оставалось мало времени до закрытия заведения. М. перестал надеяться получить какие-либо сведения о Гребенникове. Вдруг его внимание приковал донесшийся до него разговор:
— Выпил, братец ты мой, он три рюмки водки, закусил балыком и кидает мне на выручку золотой: «получите», говорит, «что следует»…
Взял я это в руки золотой, да больно уж маленький он мне показался, поглядел — вижу, что не по-нашенски на нем написано. Припасай, говорю, шляпа, другую монету, а эта у нас не ходит. «Сейчас видно. — говорит он мне, — что ты человек необразованный: во французском золоте ничего не смыслите!» Золотой-то назад взял и канареечную мне сунул, ну, я ему сорок копеек с нее и сдал. А самому-то за эти слова обидно стало и говорю ему: «Давно ли, Петр Петрович, форсить в цилиндре стали? По вашей роже и картуз впору, видно, у факельщика взяли, да траур снять позабыли!..» Это я про черную ленту на шляпе. Ну, а он: «серая необразованность», говорит, да и стречка дал — конфузно, видно, стало!.. — заключил буфетчик, обращаясь к стоявшему у прилавка испитому человеку в фуражке с чиновничьей кокардой, как видно, своему доброму приятелю.
М. выждал до закрытия трактира и, когда трактир опустел, подошел к буфетчику и, объявив ему, кто он, расспросил о приметах человека в цилиндре.
По всем приметам агент убедился, что утренний посетитель был не кто иной, как Гребенников. От того же буфетчика агент узнал, что утром в трактире была любовница Гребенникова, Мария Кислова.
Заручившись адресом этой Кисловой и объявив буфетчику, что в случае прихода Гребенникова он должен быть немедленно арестован как подозреваемый в убийстве, М. отправился к Кисловой, но застал дома только ее подругу, которая сообщила ему, что Кислова не являлась домой с 8 часов вечера — был уже второй час ночи. Сделав распоряжение о немедленном аресте Гребенникова и Кисловой, если они явятся сюда ночевать, М. оставил квартиру под наблюдением двух опытных агентов и отправился на поиски Гребенникова в публичные дома.
В течение целой ночи агенты докладывали мне о своих безрезультатных поисках. Три лица, задержанные благодаря сходству с Гребенниковым, были отпущены. Явился и агент М. Выслушивая его доклад, я все более и более убеждался, что сегодня же Гребенников будет в наших руках.
М-у вместе с несколькими другими агентами я приказал наблюдать за трактиром «Избушка»; другим агентам — караулить квартиру любовницы Гребенникова, а двенадцати агентам поручил следить за всеми трактирами по Знаменской улице, почему и можно было ожидать, что, получив деньги, он явится в один из тех трактиров, где был завсегдатаем.
Около семи часов утра, когда открываются трактиры, агент Б. и два его товарища явились на Знаменскую улицу. Пойти прямо в «Избушку» и ждать там прихода Гребенникова или его любовницы Б. не решался из опасения, чтобы кто-либо из знакомых Гребенникова, узнав Б., не предупредил бы его, что в трактире его ждут. Б. решился наблюдать за «Избушкой» из окон находившейся напротив портерной лавки. Портерная, однако, еще не открывалась. Агенты стали прогуливаться в отдалении, не выпуская из глаз «Избушки». Когда портерная открылась. Б., поместившись у окна и делая вид, что читает газету, не спускал глаз с трактира. У другого окна поместился еще один агент. Прошел час, другой, третий…
Приказчик начал недоверчиво посматривать на этих двух немых посетителей. В исходе второго часа в портерную вошел М. и немного спустя — другой агент, явившиеся на смену первым двум, которые тотчас удалились. Их место заняли вновь прибывшие. Это дежурство посменно продолжалось до вечера. На колокольне Знаменской церкви ударили ко всенощной…
Вдруг, со вторым ударом колокола, один из дежуривших вскочил, как ужаленный, и бросился к выходу… К «Избушке» медленно подходил высокий мужчина в сером цилиндре с трауром; только что он занес ногу на первую ступень лестницы, как нежданно-негаданно получил сильный толчок в спину, заставивший его схватиться за перила.
Озадаченный толчком, Гребенников — это был он — в первый момент как бы растерялся. Этим воспользовался Б. и обхватил его. Но Гребенников, увидя опасность, сильно рванулся и освободился от сжимавших его рук. Почувствовав себя на свободе, он бросился вперед, но сейчас же попал в руки Ю-ва. Б. и Ю. схватили Гребенникова за руки. Видя, что сопротивление невозможно, Гребенников покорился своей участи, произнеся с угрозой:
— Какое вы имеете право нападать на честного человека средь бела дня, точно на какого-нибудь убийцу или вора? Прошу немедленно возвратить мне свободу, иначе я тотчас буду жаловаться прокурору!.. Не на такого напали, чтобы вам прошло это даром. Вы ошиблись, приняли, вероятно, меня за кого-либо другого. Покажите бумагу, разрешающую вам меня арестовать.
— Причину ареста сейчас узнаешь в сыскном отделении! — проговорил в ответ Б., не переставая вместе с агентом крепко держать за руки Гребенникова.
Затем все трое сели в проезжавшую мимо карету и привезли его в сыскное отделение.
Гребенников всю дорогу выражал негодование за свой арест и угрожал жаловаться самому министру на своевольные действия полиции.
В сыскном отделении Гребенников был обыскан. У него оказались золотые часы покойного князя Аренсберга и несколько французских золотых монет.
По происхождению Гребенников был купеческий сын и отлично владел грамотой.
Таким образом, к вечеру второго дня после обнаружения преступления оба подозреваемых были уже в руках правосудия.
Дальнейший ход дела уже не зависел от сыскной полиции, но тем не менее допросы происходили в моей квартире.
Обвиняемые в задушении князя Аренсберга Шишков и Гребенников не сознавались в преступлении, и это обстоятельство причиняло большую досаду всем присутствовавшим властям.
Прокурор, бесплодно пробившийся с Шишковым битых три часа, заявил мне, что ни ему, ни следователю ни один из преступников не сознается.
— Хотя для обвинения имеются уже веские улики, — сказал он в заключение, — но было бы весьма желательно, чтобы преступники сами рассказали подробности совершенного ими убийства.
Моя задача, как я думал, была окончена с честью, а между тем я же должен был, как оказывалось, во что бы то ни стало добиться сознания. Это было необходимо для того, чтобы дать австрийскому послу уверенность, что арестованные были настоящие преступники, о чем посол торопился дать знать в Вену.
Убежденный, что общее мнение присутствовавших не оскорбит меня подозрением в способности употребить насилие для вынуждения сознания у обвиняемых, и получив массу уверений, что успех, если он будет достигнут, будет отнесен к искусству моему и навыку в допросах, я решил приступить к окончательному допросу.
По воспитанию и по характеру эти два преступника совершенно не походили друг на друга.
Гурий Шишков, крестьянин по происхождению, совсем не отличался от общего типа преступников из простолюдинов. Мужик по виду и по манерам, он был чрезвычайно угрюм и несловоохотлив. Сердце этого человека, как характеризовали его потом его же родственники, не имело понятия о сострадании.
Товарищ его, Петр Гребенников, происходил из купеческой семьи; при жизни отца он жил в довольстве и даже получил дома некоторое образование. Живя с отцом, он занимался торговлею лесом. Он показался мне более развитым, чем его товарищ Шишков, и более способным к решительному порыву, если задеть его самолюбие — эту слабую струнку даже закоренелых преступников.
Я решил быть с ним крайне осторожным в выражениях, главное — не быть гневным и устрашающим чиновником, а самым обыденным человеком.
— Гребенников, вы вот не сознаетесь в преступлении, хотя против вас налицо много веских улик, но это — дело следствия, — так начал я свой допрос.
— Теперь скажите мне, неужели вы, который отлично, кажется, понимает судебные порядки, неужели вы до сих пор не отдали себе отчета и не уяснили себе, по какому случаю эта торжественная, из ряда вон выходящая обстановка, при которой производят о вас следствие? Неужели вы объясняете их присутствие простым любопытством? Ведь вы знаете, что если бы это было простое любопытство, оно могло быть удовлетворено на суде. Собрались же они тут потому, что вас поведено судить военным судом, с применением полевых законов. А вы знаете, чем это пахнет?.. — не спуская глаз с лица Гребенникова, с ударением произнес я.
— Таких законов нет, чтобы за простое убийство судить военным судом; да я и не виновен, значит меня не за что ни вешать, ни расстреливать… — ответил Гребенников.
На этом допрос пока кончился. Осязательного результата не было, но я видел, что страх запал в его душу.
На следующий день, в шестом часу утра, я был разбужен дежурным чиновником, который доложил мне, что Гребенников желает меня видеть. Я велел привести его.
— Позвольте вас спросить, когда же будет этот суд, чтобы успеть, по крайней мере, распорядиться кое-чем. Все-таки есть ведь близкие люди! — проговорил Гребенников. И по голосу его я сразу понял, что не для распоряжений ему это нужно знать, а для того, чтобы узнать от меня еще подробности.
— Суд назначен на завтра, а сегодня идут приготовления на Конной площади для исполнения казни… Вы знаете какие… На это уйдет целый день…
— Ну, так, значит, тут уж ничем не поможешь. За что же это, Господи, так быстро? — с нескрываемым волнением проговорил Гребенников.
Я поспешил успокоить его, сказал, что отдалить день суда и даже, может быть, изменить его на гражданский зависит от него самого.
— Как так? — с дрожью в голосе проговорил Гребенников.
— Да очень просто! Сознайтесь, расскажите все подробно, и я немедленно дам знать, кому следует, о приостановке суда. А там, если откроется, что убийство князя было не с политической целью, а лишь ради ограбления, то дело перейдет в гражданский суд, и за ваше искреннее сознание присяжные смягчат наказание. Все это очень хорошо сообразил ваш товарищ Шишков. Он еще третьего дня во всем сознался, только уверяет, что он-то тут почти ни при чем, а все преступление совершили вы. Вы его завлекли, поставили стоять на улице в виде стражи, а сами душили и грабили без его участия… — закончил я равнодушнейшим тоном.
Эффект моего заявления превысил ожидания.
Гребенников то краснел, то бледнел.
— Позвольте подумать, — вдруг сказал он. — нельзя ли водки или коньяку?
— Отчего же, выпейте, если хотите подкрепиться, только не теряйте времени, мне некогда.
Я велел подать коньяку.
— А вы остановите распоряжение о суде? — снова переспросил Гребенников.
— Конечно, — ответил я.
Выпив, Гребенников, как бы собравшись с духом, произнес:
— Я, извольте, расскажу. Только уж этого подлеца Шишкова щадить не буду. Виноваты мы, действительно. Вот как было дело.
Накануне преступления Шишков, служивший раньше у князя Аренсберга, зашел в дом, где жил князь, в дворницкую.
— Здравствуй, Гурий, как можешь? — проговорил дворник, здороваясь с вошедшим.
— Князя бы увидать, — как-то нерешительно произнес Гурий, глядя в сторону.
— В это время их не бывает дома, заходи утром. А на что тебе князя? — спросил дворник.
— Расчетец бы надо получить, — ответил парень. — Ну, да другой раз зайду. Прошай, Петрович! — и с этими словами пришедший отворил дверь дворницкой, не оборачиваясь, вышел со двора на улицу и скорыми шагами пошел по направлению к Невскому.
Дойдя до церкви Знаменья, Гурий Шишков повернул на Знаменскую улицу, остановился у окон фруктового магазина и начал оглядываться по сторонам, как бы поджидая кого-то. Ждать пришлось недолго. К нему подошел товарищ — это был Гребенников, и они пошли вместе по Знаменской.
— Ну, как?
— Все по-старому; там же проживает и дома не обедает, — проговорил Гурий Шишков.
— Так завтра, как мы распланировали; на том же месте, где сегодня…
— Не замешкайся; как к вечерне зазвонят, ты будь тут, — проговорил тихим голосом Шишков. Затем, не сказав более ни слова друг другу, они разошлись.
На другой день под вечер, когда парадная дверь была еще отперта, Гурий пробрался в нее и спрятался вверху, под лестницей незанятой квартиры.
Князь, как мы уже знаем, ушел вечером из дома. Камердинер приготовил ему постель и тоже ушел с поваром, затворив парадную дверь на ключ и спрятав ключ в известном месте.
В квартире князя воцарилась гробовая тишина.
Не прошло и часа, как на парадной лестнице послышался шорох. Гурий Шишков спустился с лестницы и, дойдя до дверей квартиры, на мгновенье остановился. Здесь он отворил входную дверь в квартиру и, очутившись в передней, прямо направился к столику, из которого и взял ключ, положенный камердинером. Осторожными шагами, крадучись, Гурий спустился вниз и отпер взятым ключом парадную дверь.
Затем он снова вернулся наверх и начал ждать…
Уже около 11 часов ночи парадная дверь слегка скрипнула. Кто-то с улицы ее осторожно приотворил и тотчас же закрыл, бесшумно повернув ключ в замке. Затем все смолкло. Это был Гребенников. Немного погодя, он внизу кашлянул, наверху послышалось ответное кашлянье. После этого условленного знака Гребенников стал подниматься по лестнице.
— Какого черта не шел так долго?! — грубо крикнул Шишков на товарища.
— Попробуй сунься-ка в подъезд, когда у ворот дворник пялит глаза, — произнес вошедший, подойдя к Шишкову. Оба отправились в квартиру князя, где вошли в спальню.
Это была большая квадратная комната с тремя окнами на улицу. У стены, за ширмами, стояла кровать, около нее помещался ночной столик, на котором лежала немецкая газета и стояла лампа под синим абажуром, свеча и спички. От опущенных на окнах штор в комнате было совершенно темно.
Гурий чиркнул спичкой, подойдя к ночному столику, зажег свечку и направился из спальни в соседнюю с ней комнату, служившую для князя уборной.
Гребенников шел за ним. В уборной, между громадным мраморным умывальником и трюмо, стоял на полу, у стены, солидных размеров железный сундук, прикрепленный к полу четырьмя цепями. Шишков подошел к сундуку и стал ощупывать его руками. Гребенников светил ему. Наконец, Шишков нащупал кнопку, придавил ее пальцем, пластинка с треском отскочила вверх, открыв замочную скважину.
— Давай-ка дернем крышку, — проговорил Гребенников. Оба нагнулись и изо всей силы дернули за выступающий конец крышки сундука; результата никакого. Попробовав еще несколько раз оторвать крышку и не видя от этого никакого толку, Шишков плюнул.
— Нет, тут без ключей не отворишь…
— Вот, топора с собой нет, — с сожалением проговорил Гребенников.
— Без ключей ничего не сделать, а ключи он при себе носит.
— А ты не врешь, что князь в бумажнике держит десять тысяч?
— Камердинер хвастал, что у князя всегда в бумажнике не меньше и весь сундук, говорил, набит деньжищами! — отрывисто проговорил Шишков.
Оба товарища продолжали стоять у сундука.
— Ну, брат, — прервал молчание Шишков, — есть хочется!
Гребенников вынул из кармана пальто трехкопеечный пеклеванник, кусок масла в газетной бумаге и все это молча передал Шишкову.
На часах в гостиной пробило двенадцать.
Тогда Шишков и Гребенников опять перешли в спальню и сели на подоконники за спущенные драпри, которые их совершенно закрывали.
— С улицы бы не увидали, — проговорил робко Гребенников.
— Не видишь, что ли, что шторы спущены… Рано, брат, робеть начал! — насмешливо проговорил Шишков, закусывая хлебом.
Четвертый час утра… На Миллионной улице почти совсем прекратилось движение. Но вот издали послышался дребезжащий звук извозчичьей пролетки, остановившейся у подъезда.
Князь, расплатившись с извозчиком, не спеша вынул из кармана пальто большой ключ и отпер парадную дверь. Затем он, как всегда, запер дверь и оставил ключ в замке. Войдя в переднюю, зажег свечку и пошел в спальню.
Подойдя к кровати, князь с усталым видом начал медленно раздеваться. Выдвинув ящик у ночного столика, он положил туда бумажник, затем зажег вторую свечу и лег в постель, взяв со столика немецкую газету. Но через несколько времени положил ее обратно, задул свечи и повернулся набок, лицом к стене.
Прошло полчаса. Раздался легкий храп. Князь, видимо, заснул. Тогда у одного из окон портьеры показался Шишков. Он сделал шаг вперед и отделился от окна. В это же время заколебалась портьера у второго окна, и из-за нее показался Гребенников.
Затаив дыхание и осторожно ступая, Шишков поминутно останавливался и прислушивался к храпу князя.
Наконец Шишков у столика. Надо открыть ящик. Руки его тряслись, на лбу выступил пот… Еще мгновение, и он протянул вперед руку, ощупывая ручку яшика. Зашуршала газета, за которую он зацепил рукой… Гурий замер. Звук этот, однако, не разбудил князя. Тогда Шишков стал действовать смелее. Он выдвинул наполовину яшик, стал шарить в нем, иша ключи; ощупав их, он начал медленно вытаскивать их из ящика, но вдруг один из ключей, бывших на связке, задел за мраморную доску тумбочки; послышался слабый звон… Храп прекратился. Шишков затаил дыхание.
— Кто там? — явственно произнес князь, поворачиваясь.
За этим вопросом послышалось падение чего-то тяжелого на кровать — это Шишков бросился на полусонного князя. Гребенников, не колеблясь ни минуты, с руками, вытянутыми вперед, тоже бросился к кровати, где происходила борьба Шишкова с князем. В первый момент Гурий не встретил сопротивления, его руки скользнули по подушке, и он натолкнулся в темноте на руки князя, которые тот инстинктивно протянул вперед, защищаясь. Еще момент — и Гурий всем своим телом налег на князя. Последний с усилием высвободил свою руку и потянулся к сонетке, висевшей над изголовьем. Шишков уловил это движение и, хорошо сознавая, что звонок князя может разбудить кухонного мужика, обеими руками схватил князя за горло, и уже нельзя было достать сонетки.
Князь стал хрипеть, тогда Шишков, или из опасения, чтобы эти звуки не были услышаны, или из желания скорее покончить с ним, схватил попавшуюся ему под руку подушку и ею продолжал душить князя. Когда князь перестал хрипеть, Шишков с остервенением сорвал с него рубашку и обмотал ею горло князя.
Гребенников, как только услышал, что Гурий бросился вперед к месту, где стояла кровать, не теряя времени, бросился на помощь. Задев в темноте столик и опрокинув стоявшую на нем лампу, он, не зная и не видя ничего, очутился около кровати, на которой уже происходила борьба князя с Шишковым, и начал тоже душить князя. Но вдруг он почувствовал, что руки его, душившие князя, начинают неметь. Ощутив боль и не имея возможности владеть руками, Гребенников ударил головою в грудь наклонившегося над ним Шишкова, опьяневшего от борьбы.
— Что ты со мной, скотина, делаешь?! Пусти мои руки!..
Придя в себя от удара и слов Гребенникова, Шишков перестал сдавливать горло князя и вместе с этим и руки Гребенникова, обвившиеся вокруг шеи последнего. Давил он рубашкой князя, которую сорвал с него во время борьбы. Освободив руки Гребенникова, Гурий вновь рубашкой перекрутил горло князя, не подававшего уже никаких признаков жизни.
Оба злоумышленника молча стояли около своей жертвы, как бы находясь в нерешительности, с чего же им теперь начать. Первым очнулся Шишков.
— Есть у тебя веревка?
Гребенников, пошарив в кармане, ответил отрицательно.
— Оторви шнурок от занавесей да зажги огонь, — проговорил Шишков.
Когда шнурок был принесен, Гурий связал им ноги задушенного князя из боязни, что князь, очнувшись, может встать с постели.
После этого товарищи принялись за грабеж. Из столика они вынули: бумажник, несколько иностранных золотых монет, три револьвера, бритвы в серебряной оправе и золотые часы с цепочкой.
Из спальни, с ключами, вынутыми из яшика стола. Шишков с Гребенниковым направились в соседнюю комнату и приступили к железному сундуку.
Но все их усилия отпереть сундук не привели ни к чему. Ни один из ключей не подходил к замку. Тогда они еще раз попробовали оторвать крышку, но все напрасно — сундук не поддавался.
Со связкой ключей в руке Шишков подошел к письменному столу и начал подбирать ключ к среднему яшику. Гребенников ему светил.
Но вот Гурий прервал свое занятие и начал прислушиваться: до него явственно донесся шум от проезжающего экипажа. Гребенников бросился к окну, стараясь разглядеть, что происходило на улице.
— Рядом остановился господин… Пошел в соседний дом, — проговорил почему-то шепотом Гребенников.
Вдали послышался шум ехавшей еще пролетки. На лицах Шишкова и Гребенникова выразилось беспокойство.
— Надо уходить… скоро дворники начнут панели мести, и тогда… крышка! — проговорил Гурий, отходя от письменного стола.
Оба были бледны и дрожали, хотя в комнате было тепло. Шишков вышел в переднюю. Взглянув случайно на товарища, он заметил, что на том не было фуражки.
— Ты оставил фуражку там… у постели, — сказал он товарищу. — Пойди скорей за ней, а я тебя обожду на лестнице.
Увидя страх, отразившийся на лице Гребенникова, Шишков повернулся, чтобы пойти самому в спальню за фуражкой, но тут взгляд его случайно упал на пуховую шляпу князя, лежавшую на столе в передней. Недолго думая, он нахлобучил ее на голову Гребенникова, и они осторожно начали спускаться по лестнице. Открыв ключом парадную дверь, они очутились на улице и пошли по направлению к Невскому.
Проходя мимо часовни, у Гостиного двора, они благоговейно сняли шапки и перекрестились широким крестом. Шишков, чтобы утолить мучившую его жажду, напился святой воды из стоявшей чаши, а Гребенников купил у монаха за гривенник свечу, поставил ее перед образом Спасителя, преклонив перед иконою колени…
Затем они расстались, условившись встретиться вечером в трактире на Знаменской. При прощании Шишков передал Гребенникову золотые часы, несколько золотых иностранных монет и около сорока рублей денег, вынутых им из туго набитого бумажника покойного князя.
Так выяснилось и объяснилось дело.
После сознания преступников дело пошло обычным порядком. Вскоре состоялся суд. Убийцы были осуждены в каторжные работы на 17 лет каждый.
Из книги «40 лет среди убийц и грабителей» (Записки начальника петроградской сыскной полиции И.Д. Путилина). — К.: СП «Свенас», 1992.
6. Дело кровавой красавицы (Записки И. Д. Путилина)
Гусев переулок, коротенький, соединяющий Лиговку со Знаменской улицей, в то время не был застроен пятиэтажными домами и казался огороженным с двух сторон заборами.
За заборами раскидывались широкие дворы с садами, а в середине дворов стояли, обыкновенно, одноэтажные деревянные домики, невдалеке от которых размещались конюшни, сараи, ледник, прачечная и дворницкая избушка.
Дом, в котором произошло это страшное убийство, находился на месте ныне стоящего под № 2.
В самом доме, в нижнем этаже, жил майор Ашморенков с женою и сыном кадетом, приходящим домой на праздники, и двумя прислугами.
В июне месяце 1867 года, рано утром, в Духов день, на кухню квартиры Ашморенкова постучался водовоз, привезший воду, но ему дверей не отворили.
Он постучался еще два раза, не достучался и, слив воду в прачечную и домохозяину, поехал снова к водокачке, на пути заметив дворнику, что прислуга у майора заспалась.
Дворник небрежно махнул рукой, словно хотел сказать: «А ну их»…
Спустя полчаса в двери и окна, которые были закрыты ставнями, стучался булочник, потом молочник, потом опять водовоз — и никто не мог достучаться, а дворник на все расспросы только говорил:
— Чаво пристали. Проснутся и отопрут. Не терпится тоже!..
Наконец, на эти беспрерывные стуки обратил внимание разбуженный домохозяин, коллежский советник Степанов.
Раздраженный, в халате, он высунулся из окошка и, окликнув дворника, спросил, что за шум.
— Да вот! — сердито ответил дворник, — господа и прислуга у майора спят, а эти черти ломятся. Времени им, вишь, нету!
Стоявшие тут же водовоз, прачка, булочник загалдели в один голос:
— Завсегда Прасковья рано встает, а тут на! Восемь часов!.. И господа встают рано!.. В восемь часов майор окно открывает!.. Неладно тут!.. Надо бы квартального!..
Коллежскому советнику Степанову это безмолвие в квартире майора тоже показалось странным.
Он знал майора уже 10 лет. Старый служака, тот всегда просыпался рано и уходил в казармы. Когда вышел в отставку, у него сохранились те же привычки. Степанов накануне играл с ним в шашки до 9 часов, после чего ушел, оставив всех здоровыми и довольными.
И вдруг… такой сон!..
— Беги в квартал, — приказал он дворнику, — а я сойду.
Дворник бросился со двора, и всех охватило какое-то жуткое чувство.
Люди инстинктом чувствуют несчастье.
Хозяин поспешно сошел вниз, как был — в халате и туфлях, и по очереди расспросил каждого: долго ли, в какие двери и окна стучались. Потом сам стал стучаться в обе двери и во все окна.
То же безмолвие…
Теперь уже всех охватил ужас, и все стали говорить шепотом, а закрытые ставнями окна и безмолвие за ними приняли зловещий вид.
У майора была квартира из пяти комнат, сеней и кухни. Красивое крылечко с парадной дверью вело в просторные сени, за ними была кухня, слева были столовая, гостиная и спальня майорши, а справа — кабинет и спальня майора, и все восемь окон с красивыми деревянными узорами, теперь закрытые зелеными ставнями с прорезями в виде сердец, выходили на передний двор, а окно кухни — на задний.
Дверь же в кухню выходила на общую лестницу, по которой можно было попасть во второй этаж, где в мезонине жил сам домохозяин, одинокий холостяк, со старой прислугой.
Минут через двадцать вернулся дворник, с которым пришли квартальный и помощник пристава.
— Что тут у вас? — спросил помощник.
— Да вот, — ответил Степанов и передал все происшедшее — Избави Бог, не беда ли, — окончил он.
— А вот узнаем! Может быть, двери отперты!.. Эй, дворник, попробуй! — приказал помощник дворнику.
Тот побежал к крылечку и подергал дверь. Она оказалась запертой.
Услужливые водовоз и булочник стали дергать дверь в кухню.
Заперта тоже.
— Тогда ломать! — решил помощник. — Как они запираются?
— Передняя — на ключ, — объяснил дворник, — а в кухню — на крюк.
— Ну, тогда легче переднюю! Неси топор!.. Надо составить акт!..
Квартальный составил акт, дворник принес топор, засунул лезвие между дверей у замка и одним нажимом открыл замок.
Помощник отворил дверь и двинулся вперед, за ним шли квартальный и домохозяин. Дворник остался в дверях.
И едва они скрылись за дверью, как раздался крик ужаса, и домохозяин выскочил на двор с криком: «Убиты!», после чего опять вбежал в квартиру.
Собравшаяся уже изрядная толпа хлынула к дверям, когда показался квартальный и, вбежав на улицу, стал неистово свистать.
Созвав будочников, он погнал их на двор для сохранения порядка, а сам помчался за мной…
Было 10 часов утра. Я[17] только что приехал с дачи в своей одноколке, когда квартальный ввалился ко мне, задыхавшийся, и почти прокричал:
— Страшное убийство! Двое, трое, четверо!
— Где?
— В Гусевом переулке.
— Едем!
Я захватил с собой одного из агентов, ловкого Юдзелевича, сел в одноколку и поехал, приказав оповестить судебные власти.
У ворот и на дворе уже толпились зеваки; будочники отгоняли их, переругиваясь и крича до хрипоты.
У крыльца меня встретили бледные пристав и помощник.
Я прошел за ними в квартиру майора, и то, что увидел, оставило во мне и до сих пор неизгладимое впечатление ужаса.
Я вошел не с крыльца, а через кухню, дверь в которую приказал отворить пристав.
Ставни уже были открыты, и ясный летний день весело сверкал в чистеньких комнатах, оскверненных ужасным преступлением.
В просторной, чистой и светлой кухне ничто не указывало на преступление, но едва я дошел до порога внутренней двери, как наткнулся на первую жертву преступления.
Молодая девушка в одной сорочке лежала навзничь, раскинув руки, на самом пороге.
Вокруг ее головы стояла огромная лужа почерневшей крови, в которой комом свалялись белокурые волосы.
Застывшее лицо ее выражало ужас.
Я спросил, кто это, и мне объяснили, что эта девушка — Прасковья Хмырова, служившая у Ашморенковых в горничных второй год.
Я прошел дальше и из просторных сеней направился направо.
Комната, вероятно, была кабинетом майора, судя по письменному столу и куче «Сына Отечества», но в чернильнице не было чернил, и, видимо, эта комната служила местом сладких отдохновений майора, судя по массе трубок и довольно помятому кожаному дивану.
Я прошел в следующую комнату, спальню майора. На постели, залитой кровью, лежал огромный, полный мужчина.
Смерть застала его врасплох. Из проломленного черепа брызнувшая фонтаном кровь, перемешанная с мозгами, запятнала всю стену.
— Экий ударише! — проговорил пристав. — Какая сила!
Мы вернулись назад, перешли сени и вошли в гостиную.
Солнце ярко ударяло в окна, глупая канарейка заливалась во весь голос, и от этого картина показалась мне еще ужаснее.
Посреди пола, в одной рубашонке, раскинув руки, лежал мальчик лет тринадцати, тоже с проломленной головой.
На диване была постлана ему постель, преддиванный стол был отодвинут, на кресле лежала его одежда с форменным кадетским мундирчиком.
Удар застал его спящим, потому что подушка и белье были смочены кровью.
Но потом, вероятно, он соскочил с постели, а второй и третий удары настигли его, когда он был посредине гостиной.
Он упал и в предсмертной агонии вертелся волчком на полу, отчего вокруг него на далеком расстоянии, словно кругом, по циркулю, были разбросаны кровь и мозги…, но лицо мальчика было покойно.
Наконец, мы вошли в спальню жены майора и там нашли мирно лежавшую, как и сам майор, маленькую, полную женщину.
Вся кровать, весь пол были залиты кровью. Голова ее была также проломлена.
Мой Юдзелевич тут же, в гостиной, на стуле, нашел и орудие преступления.
Это был обыкновенный гладильный утюг, снятый с полки, весом фунта в четыре.
Острый конец его был покрыт толстым слоем запекшейся крови и целым пучком налипших волос…
Убийство, несомненно, произведено было с целью грабежа.
Ящики стола в кабинете — майора были выдвинуты и перерыты, яшики комода у жены майора — тоже, буфет в столовой, горка в гостиной и, наконец, сундук и гардероб — все было раскрыто настежь и носило следы расхищения.
Картина убийства выяснилась. Сперва был убит сам, тем более, что он находился в стороне; за ним — сама, кадет и, наконец, горничная.
Но одно обстоятельство меня приводило в недоумение.
Судя по утюгу, убийца должен был быть один, но как он мог решиться один на убийство четверых? Мне казалось это невозможным, и я решил, что действовали непременно два-три человека.
Как вошли и как скрылись преступники?
Двери в кухню оказались запертыми на крючок, парадная дверь — на ключ, но когда я стал искать этот ключ, его не оказалось.
И мне опять представилось, что убийцы, как люди свои, вошли в квартиру, а когда совершили убийство, то ушли через парадную дверь, заперев ее на ключ, который унесли с собой.
Осматривая кухню вторично, я в углу, за плитой, нашел следы тщательного омовения. Грязная, кровавая вода была слита в ведро; тут же валялась скатерть, которой убийцы потом вытирались; в тазу была мыльная вода, уже без крови.
Тем временем приехали судебные власти. Мы повторили осмотр, доктор занялся трупами, а мы начали снимать тут же допросы. Юдзелевич втерся в толпу и толкался то на дворе, то на улице, прислушиваясь к разговорам и пересудам.
На основании показаний домохозяина, прачки и отчасти дворника, жизнь майора воспроизводилась с полной подробностью.
Он был в отставке шестой год. Три года, как их сын учился в корпусе и приходил домой накануне праздников, а уходил или вечером в праздник, или на другой день рано утром. Пять лет, как дочь их вышла замуж и живет в Ковно.
Майор с женою вели жизнь замкнутую и совершенно покойную.
Они вставали в 7–8 часов и пили чай. Потом она хлопотала по хозяйству, а он читал газету и шел гулять, в два часа они обедали; после обеда спали; потом пили чай, она занималась вязаньем, шитьем, штопаньем, он же курил трубку и раскладывал пасьянс. В 9 часов они ужинали и расходились спать.
В гости к ним почти никто не ходил, они тоже, и домохозяин доставлял майору большое удовольствие, когда спускался к нему поиграть в шашки и послушать его рассказы о Севастополе.
Жили они бережливо, но не скупо, имели всего вдоволь, и домохозяин, указав на опустошенную горку, сказал, что в ней стояли чарки и стопы, лежало столовое серебро, много золотых иностранных монет, ордена и три пары золотых часов.
Держали они двух прислуг, но в последние дни рассчитали кухарку Анфису за ее грубость.
А кухарка Анфиса была женой раньше служившего в этом доме в дворниках крестьянина Петрова.
Водовоз показал, что поставлял воду в течение пяти лет — всегда к 6 часам, и никогда не было, чтобы в это время прислуга спала. Булочник показал то же, молочник — то же.
Что касается прачки, она объяснила, что, пользуясь праздником, хотела узнать у барыни, когда она накажет ей прийти на стирку.
Дворник произвел на меня почему-то сразу неприятное впечатление. Рябой, скуластый, с вострыми, прищуренными глазами, с ленивыми движениями и глуповатым лицом, он показался мне продувной бестией.
Служил он у Степанова второй год.
Я прежде всего стал спрашивать о домовых порядках.
— Порядки обыкновенные, — отвечал он, — зимой в 8 часов, а летом в 10 запираю ворота, калитку и все. Когда назначают, дежурю.
— В эту ночь ты был дежурным?
Он замялся, а потом нехотя ответил:
— Был.
— И калитку запер в 10 часов?
— Так точно…
— И никто тебя не беспокоил, и никого ты не видал?
— Никого…
— Днем уходил куда-нибудь?
— Никуда.
— И у майора никого не было?
— Никого…
— Другого выхода со двора, кроме ворот, нет?
— Нет, кругом забор.
На этом и окончился первый допрос.
К этому времени доктор составил акт осмотра.
Все жертвы, несомненно, были убиты одним и тем же орудием. Вернее всего, найденным утюгом.
Майору нанесены два удара, жене его тоже два, мальчику — три, а горничной девушке — пять, из которых каждый был смертелен.
Впечатление в городе от этого преступления было ужасное. Куда ни обернешься, к каким речам ни прислушаешься, везде только и слышишь об «убийстве в Гусевом переулке».
Гусев переулок опустел. Это факт. Все, жившие в нем, в каком-то паническом страхе поспешили оставить свои дома и квартиры.
Сам Степанов тотчас же съехал в меблированные комнаты, повесив у себя на воротах доску с надписью: «Сие место продается».
А потом многие годы петроградцы избегали Гусева переулка, как проклятого места, и только после того, как он застроился каменными громадами, память об этом преступлении начала мало-помалу сглаживаться.
Так сильно было впечатление, произведенное этим выдающимся злодейством.
Я вернулся домой, весь погруженный в размышления о преступлении. Картина убийства, как мне казалось, представлялась мне ясно.
Их было несколько. Убивал, быть может, один, а может, и двое, и трое, но грабил, несомненно, не один.
Ушли они через дверь из сеней, но куда они девались потом? Как скрылись с узлами — было неведомо, потому что калитка была на запоре, и выхода другого не было.
Очевидно, их выпустил кто-то… Но кто? И мне показалось самым прямым думать о дворнике. Плутоватая рожа, какая-то деланная ленивость, неохотные, уклончивые ответы и потом, очень странное равнодушие в ответ на беспокойные расспросы водовода, булочника, молочника, прачки…
С этими мыслями я не мог разделаться.
Часа через два мне доложили, что вернулся Юдзелевич, и я тотчас велел позвать его к себе.
С острым, красненьким носом, рыжей бородкой клином, с плутовскими глазами и рябым лицом, маленький, юркий, пронырливый, наглый, он, вероятно, был бы первостепенным мошенником, если бы судьба не толкнула его на сыскное дело, в котором он нашел свое призвание.
— Ну, что, — спросил я его, едва он притворил двери, — нашел что-нибудь?..
— «Что-нибудь» есть, — ответил он, — и, может быть, даже и «кое-что».
— Ну, что же? Говори.
— Собственно, немного, — пожал он плечами, — узнал, что у майора была Анфиса, и потом она была у дворника, и потом они ходили в портерную, и там был ее сын, и они пили…
— Анфиса? Это та, что была у них в кухарках?
— Она самая…
— Разве у нее есть сын?
— Есть сын, и зовут его Агафоном. Ему семнадцать лет, и он совсем разбойник. Учится в слесарях и пьет вместе с матерью…
— Так… Откуда же ты узнал это?
— Я узнал и то, что сам дворник Семен рано утром входил в ворота… и был, как пьяный…
Я чуть не захлопал в ладоши. Да ведь это преступники сразу налицо.
— Откуда узнал ты это?
— Откуда? Я ходил на улицу и слушал.
Одна баба говорит: это Анфиска из злости, что ее прогнали; она грозилась убить самое. А тут ввязалась другая баба: я, говорит, ее вчерась видела ввечеру пьяную. Тут мужчина какой-то: я ее, говорит, с дворником видел в портерной. А портерных — две только поблизости. Одна — насупротив, другая — на Лиговке. Я туда, прямо на Лиговку. А там только и разговору, что об убийстве. Я спросил себе пиво… и только слушаю. Тут все и узнал.
Не прошло и четырех часов, как мы напали уже на след.
— Ну, вот что, — сказал я ему, — делать дело, так уж сразу. Прежде всего разыщи эту Анфису с Агафоном и узнай о них все в квартале, а потом бери их — и сюда. А затем надо забрать и дворника. Как их сюда доставишь, опять назад по их квартирам и обыск у них произведи! Пока я их допрошу, ты отыщи, что надо. Главное, по горячему следу!..
Он поклонился мне и моментально скрылся. Теперь я уже был покоен за исход дела. Завтра, много послезавтра, я передам преступников следователю, так как ни одной минуты не сомневался, что убийцы и грабители уже в моих руках.
Юдзелевич быстро и ловко взялся за дело.
Прежде всего, заехав в квартал и захватив с собой полицейских, он арестовал дворника Семена Остапова и опечатал его помещение.
Дворника препроводил ко мне, а сам пустился на поиски Анфисы с сыном. Фамилия их была Петровы.
Муж Анфисы служил раньше дворником в злополучном доме Степанова, потом уехал один в деревню и там остался, а Анфиса сначала работала поденно, потом поступила кухаркой к убитым, а потом снова пошла на поденную работу.
Юдзелевич зашел сперва в мелочную лавку, эту лучшую справочную контору, а затем в портерную, и узнал адрес Анфисы и ее сына. Они, оказывается, жили на Песках, на Болотной улице.
Он отправился в квартал.
Узнав про обстоятельства дела, в участке сообщили приставу.
— Убили?! — воскликнул пристав, когда Юдзелевич обратился к нему с просьбой о помощи. — Вполне возможно! Такие канальи!..
И он тотчас дал ему на помощь двух квартальных.
Анфису Юдзелевич арестовал в прачечной на Шестилавочной (теперь Надеждинской) улице, за стиркой, а Агафошку — в слесарной мастерской Спиридонова, на третьей улице Песков.
Через четыре-пять часов они все были у меня. Я велел рассадить их по разным помещениям и ждал вечера.
Я ждал Юдзелевича.
Уже поздно, часов в 11 вечера, Юдзелевич вернулся ко мне с узелком и подробным отчетом, часть которого я уже передал выше.
Что же он нашел при обыске?
Прежде всего, у дворника Семена Остапова, обыскав все помещение со свойственным ему чутьем, он нашел на печке окровавленную на подоле рубаху…
Больше ничего, но это было немало.
Кровавые пятна, видимо, были свежи…
У тех же он нашел тонкие платки, две дорогие наволочки, а затем связку отмычек.
Я рассмотрел платки и наволочки. На них были совсем другие метки.
Белье Ашморенковых было все перемечено очень красивыми, крупными метками, которые я приказал снять, и временно, для образца, взял платок из раскрытого комода.
На найденных Юдзелевичем вещах были метки и А., и 3., и В., видимо, краденные из белья разных господ.
Но и из этих вещей при умении можно было извлечь некоторую пользу.
— Но где же все вещи?
Юдзелевич пожал плечами.
— Они имели время от каких-нибудь двух часов ночи. Может, все продали. Я буду искать.
— Тогда где деньги?
— Деньги можно зарыть в землю. Разве их найдешь так скоро? Действительно, это все бывало, и бывало часто.
— Ну, будем их допрашивать, — сказал я, — веди мне первым этого Агафошку!
Юдзелевич вышел, а я приготовился к допросу.
В кабинет ввели Агафошку.
Я остался с глазу на глаз с одним из предполагаемых убийц, обагрившим свои руки кровью четырех жертв.
Я впился в него взором. Передо мной стоял почти юноша, высокий, худощавый, в засаленной куртке-блузе мастерового. Несмотря на столь молодой возраст, лицо его уже носило отпечаток бурно проведенного времени.
— Скажи, Агафон, ты уже судился за кражу?
— Судиться судился, а только я невиновен был в той покраже. Зря, обычно на меня взвели. Меня оправдали.
— Так. Ну, а зачем ты вмешался в дело убийства в Гусевом переулке? — быстро спросил я, желая поймать его врасплох, огорошить неожиданным вопросом.
— Напрасно это говорить изволите, — спокойно ответил он. — В убийстве этом я ни сном ни духом не повинен.
— Но если ты и не убивал, так зато ты наверное должен знать, кто именно убил.
— А откуда я это знать могу? — с дерзкой улыбкой ответил он.
— Разве ты живешь отдельно от матери? Ведь вы вместе пьянствуете.
— А она тут при чем? — спросил он, глядя мне прямо в глаза.
— Как при чем? Да ведь она уже созналась в том, что убийство в Гусевом переулке произошло при ее участии, — быстро выпалил я.
Агафон побледнел. Я подметил, как в его глазах вспыхнул злобный огонек.
— Вы… вы вот что, ваше превосходительство… — начал он прерывистым голосом. — Вы… того… пытать пытайте, а только сказочки да басни напрасно сочиняете. Этим вы меня не подденете, потому правого человека в убийцу не обратите. Как же это она могла вам сказать, что она убивала, когда она не убивала? Она, хошь и пьяница, а только не душегубка.
Он закашлялся. Я, признаюсь, чувствовал себя не совсем ловко. Этот взрыв сыновнего негодования за честь своей матери, которую он в то же время называет чуть не позорным именем, меня поразил.
— Твоя зашита матери очень похвальна, Агафон!.. — начал я после паузы. — Но ты вот что скажи, где ты находился в ночь убийства в Гусевом переулке? Ведь ты не станешь отрицать, что тебя этой ночью дома не было?
— Действительно, я не ночевал дома.
— Где же ты был?
— У Маньки, моей полюбовницы. Всю ночь у ней провел…
Я нажал звонок.
— Позовите Юдзелевича! — приказал я надзирателю. Через секунду явился юркий Юдзелевич.
— Где же живет твоя Манька? — спросил я Агафона. Он дал подробный адрес.
— Немедленно поезжайте к ней, — тихо обратился я к агенту, — и узнайте, правда ли, что Агафон в ночь убийства ночевал у нее. Словом, все выспросите.
Я отпустил Агафошку, приказав строго следить за тем, чтобы он не мог ни на секунду видеться с другими задержанными.
— Приведите Анфису Петрову!
Это была юркая, бойкая баба с отталкивающей наружностью. Резкие движения, грубый, визгливый голос, — типичная представительница пьяниц-поденщиц.
Она, войдя, истово перекрестилась и уставилась на меня круглыми, воспаленными глазами.
— Ну, Анфиса, ты свое обещание, стало быть, исполнила? — мягко обратился я к ней.
— Какое такое обещание? — визгливо спросила она, даже заколыхавшись вся.
— Будто не знаешь? А вот барыню, майоршу, убила за то, что она тебе 60 копеек недодала. Только вы заодно, должно быть, и еще трех человек уложили, да и вещей награбили…
Анфиса задрожала, затряслась и быстро-быстро заговорила, вернее заголосила чисто по-бабьи, точно деревенская плакальщица:
— Вот те Бог, господин енерал, не виновна я. Не убивала я их, душенек ангельских, не убивала. Зря, я ведь только в сердцах тогда говорила: «У-у, сквалыга, убить бы тебя надо, потому не отнимай от бедного человека грошей его трудовых». Зла уж я больно была на госпожу майоршу. Обсчитала она меня, горемычную.
Тонко, со всевозможными уловками, я стал «пытать» ее о страшном убийстве в Гусевом переулке. Я задавал ей массу вопросов, которыми, как я был убежден, я должен был припереть ее к стене.
Был второй час в начале.
Долгим, упорным допросом была утомлена Анфиса, был утомлен и я.
Увы! Как я ни бился, мне не удалось сбить эту бабу. Она упорно, с полнейшим спокойствием отвечала на все мои вопросы.
— Я сейчас покажу тебе одну игрушку, — сказал я ей.
И, быстро встав и взяв утюг, которым были убиты жертвы, я подошел к ней вплотную, протянув к ее лицу утюг.
— Смотри… видишь — запекшаяся кровь… Он весь в крови… Видишь эти волосы, прилипшие к утюгу?
Однако и это не произвело желаемого эффекта. Анфиса при виде страшного утюга только всплеснула руками и сказала:
— Ах, изверги, чем кровь христианскую пролили!
Я велел увести Анфису. Вернувшийся Юдзелевич сообщил, что указанную Агафошкой Маньку он разыскал, что она — полушвейка, полупроститутка и что она показала, что Агафошка у нее действительно ночевал. Он ушел от нее около 9 ч. утра.
Последним я допросил дворника, Семена Остапова.
Он и на допросе, стоя передо мной в этот ночной час, не изменил своих ленивых движений, своего пассивно-равнодушного вида.
Он, подобно Анфисе и Агафону, упорно отрицал какое-либо участие в этой мрачной, кровавой трагедии. Он говорил то же, что и на предварительном опросе: что в эту ночь убийства он был дежурным, никакого подозрительного шума, криков или чего подобного не слыхал, никого из подозрительных субъектов в ворота дома не впускал и не выпускал.
— А куда ты сам выходил поутру? — спросил я его.
— По дворницким обязанностям… Осмотрел, все ли в порядке перед домом…
— А больше нигде не был?
— Был-с… В портерную заходил… Только я скоро вернулся обратно…
Как я ни сбивал его — ничего не выходило.
— А это что? — быстро спросил я, протягивая ему рубаху, найденную у него Юдзелевичем, на подоле которой были заметны следы крови.
— Это-с? Рубаха моя, — невозмутимо ответил он.
— Твоя?.. Отлично. Ну, а кровь-то почему на подоле ее?
— Я палец днем обрезал. Топором дверь в дворницкой поправлял, им и хватил по пальцу. Кровь с пальца о рубаху вытер, а потом рубаху скинул, чистую надел.
— Покажи руку.
Он протянул мне свою заскорузлую, мозолистую руку. На указательном пальце левой руки виделся действительно глубокий порез.
Я впился в него глазами… Не даст ли хоть он ключ к разгадке мрачной трагедии? Увы, нет. Если бы орудием убийства был топор, нож, даже острая стамеска, порез этот был бы подозрителен. Но ведь семья майора и горничная убиты утюгом, о который нельзя обрезаться. Это и не следы укуса, возможного в состоянии самообороны со стороны какой-либо из жертв страшного убийства. К таким никчемным результатам привел меня допрос трех арестованных лиц.
Прошел день, два, три, неделя. Успехи самого тщательного следствия не подвигались ни на шаг. Таинственная завеса над кровавой драмой не поднималась. Я терял голову.
Подозреваемые в убийстве Анфиса, ее сын и дворник Остапов содержались в одиночных камерах дома предварительного заключения.
Я допрашивал их поодиночке и вместе чуть не ежедневно; я устраивал между ними очные ставки — все напрасно! Ни малейшего несогласия в показаниях их. И вместе, и порознь, и на очных ставках они говорили одно и то же…
Прошло около года. Шутка сказать: целый год со дня кровавой ночи в Гусевом переулке! Дом Степанова еще не был им продан, все так же красовалась вывеска «Сие место продается», но он стоял никем теперь не обитаемый, грустный, тоскливый, мрачный. И квартира несчастного майора, в которой разыгралась душу леденящая трагедия, глядела своими потемневшими, запыленными окнами на пустынный двор. Кровь, пролитая в этом доме, казалось, наложила на него какую-то неизгладимо-страшную печать.
Ночью обитатели этого района избегали проходить по Гусеву переулку. Суеверный страх гнал их оттуда.
Анфиса, Агафоша, сын ее и дворник Остапов были преданы суду. Суд, однако, в силу слишком шатких улик признал их невиновными, и все они были освобождены.
Убийца или убийцы, следовательно, гуляли на свободе.
Это дело не давало мне покоя. Я поклялся, что разыщу их во что бы то ни стало. Прошел, как я уже сказал, год. И вот, вскоре по прошествии его, случилось нечто весьма важное, наведшее меня на след таинственного злодея.
Однажды тот же юркий Юдзелевич вбежал ко мне сильно взволнованный и прерывистым голосом прокричал:
— Нашел! Почти нашел!..
— Кого? О чем, о ком ты? — спросил я, раздосадованный.
— Убийцу… в Гусевом переулке, — бормотал он.
— Ты рехнулся или всерьез говоришь?
— Как нельзя серьезнее.
И он, торопясь, давясь словами, рассказал мне следующее: утром он находился в одном из грязных трактиров, выслеживая кого-то. Неподалеку от его столика уселась компания парней, один из которых начал рассказывать о необыкновенном счастье, которое привалило его односельчанке, крестьянке-солдатке Новгородской губернии Дарье Соколовой.
«Слышь, братцы, год тому назад вернулась из Питера к нам в деревню эта самая Дарья. Спервоначала служила она горничной у какого-то майора, а потом, родив от своего мужа-солдата ребенка, пошла в мамки к полковнику. Отошедши, значит, от него, когда сыночка евойного выкормила, и припожаловала к нам в деревню. Дарья привезла много добра. Только сначала все хоронила его, не показывала. А тут вдруг, с месяц назад, смотрим, у мужа ее часы золотые появились. Слышь, братец, золотые! Стали мы его поздравлять, а он смеется да и говорит: „Полковник ее за выкормку сына важно наградил“».
— Ну, ну, что дальше? — быстро спросил я Юдзелевича.
— А дальше я подсел к сей компании, спросил полдюжины пива, стал угошать их и выспросил у рассказчика-парня все об этой Дарье: кто она, где живет, теперь и т. д. Тот все мне как на ладошке выложил. Вот-с, не угодно ли: я все записал.
— Ну, на этот раз — ты и впрямь молодец! — радостно сказал я ему. — Теперь вот что: ты и Козлов отправляйтесь немедленно туда, в деревню Халынью Новгородской губернии, и арестуйте эту красавицу Дашеньку и еще кого, если нужно, и доставьте сюда.
Приехав поздно ночью в деревню, они переночевали на местном постоялом дворе; утром, чуть свет, бросились к становому приставу, представились ему, рассказали, в чем дело, и попросили его, чтобы урядник, сотский и десятский были, на всякий случай, наготове. Затем обратно вернулись в Халынью и направились к дому, где жила Дарья Соколова.
От урядника и сотского было узнано, что мужа ее нет, что он в Новгороде, в казармах.
Агентов встретила сама Дарья — красивая, молодая женщина с холодным, бесстрастным лицом. Полная, рослая, сильная. Красивая, большая, упругая грудь. Широкие бедра, смелая, уверенная походка.
Юдзелевич любезно поклонился деревенской красавице. Та улыбнулась, оскаля белые, ровные зубы.
— Позвольте, красавица, к вам в гости зайти? — начал он.
— А чего вам надобно от меня? — не без кокетства спросила она.
— Поклон мы вам из Питера привезли.
— Поклон? Скажи, пожалуйста, от кого это?
Юдзелевич свистнул. Из-за соседних изб появились сотский, десятский и урядник.
— От кого? От майора Ашморенкова с женой и с сыном… и от горничной их, Паши! — быстро сказал агент.
Дарья Соколова вскрикнула, смертельно побледнела и схватилась обеими руками за сердце.
Непередаваемый ужас засветился в ее широко раскрытых глазах. На минуту на нее нашел как бы столбняк. Потом вдруг сразу она опрометью бросилась в избу.
Они, тоже бегом, устремились за ней.
Она стояла у печи, порывисто дыша и отирая руками крупные капли холодного пота. Губы ее шевелились, точно она читала молитву или хотела что-то сказать страшным «гостям».
— Арестуйте ее! — приказал сельским властям агент.
Она взвизгнула и, когда те пошли к ней с полотенцами в руках, чтобы связать, стала отчаянно бороться, схватив с окна большой нож.
Необычайная, совсем неженская сила сказалась в этой борьбе. Она отшвырнула от себя сотского, высокого, ражего детину, точно ребенка.
— Эх, здоровая баба! — воскликнул тот, сконфуженный. Наконец она была связана.
Как раз в эту минуту в избу вошел становой пристав.
Начался допрос и обыск. Первый не привел ни к чему: лихая «кормилица» упорно запиралась. Зато обыск дал блестящие результаты: в сундуке были найдены деньги, несколько процентных билетов, двое золотых часов, масса серебряных вещей.
В тот же вечер она, сопровождаемая агентами и полицейским офицером местной жандармерии, была отправлена в Петроград.
Когда Дарья предстала передо мной, она была понура, бледна.
— Ну, Дарья, теперь уже нечего запираться… У тебя найдены почти все вещи убитых в Гусевом переулке. Предупреждаю тебя: если ты будешь откровенна, это смягчит твою участь. Ты убила? — сразу огорошил я ее.
— Я.
— Кто же еще тебе помогал в этом страшном деле?
— Никто. Убила их я одна.
— Одна? Ты лжешь. Неужто ты одна решилась на убийство четырех человек?
— Так ведь они спали… — пробормотала она.
И когда она сказала это «они спали»… — у меня встала с поразительной ясностью ужасная картина убийства. Эти разбитые утюгом головы, это море крови, куски мозга, этот страшный круг из крови и мозга, образовавшийся от верчения бедного мальчика по полу в мучительной, смертельной агонии.
И вспомнились мне слова доктора при виде разбитой головы майора: «Экий ударище! Какая сила!»
А этот, действительно, ударише… нанесла женшина.
— Расскажи же, как ты убила, как все это произошло.
Она несколько минут помолчала, точно собираясь с духом, потом решительно тряхнула головой и начала:
— Отошедши от полковника, потому ребеночка его уже выкормила, порешила я ехать на родину, в Новгородскую губернию. Тут зашла я к господам Ашморенковым, у которых прежде служила горничной. Это было с Троицына на Духов день. Господа приняли меня ласково, в особенности майорша. Они позволили мне переночевать.
— Скажи, — перебил я ее, — зачем ты просилась у них ночевать? Ты уже в то время решилась их убить и ограбить?
— Нет, спервоначала я этого не думала. Ночевать просилась потому, что от них до вокзала недалеко, а я решила ехать поездом рано утром. Часов в 11 вечера улеглись все спать. Легла и я. Только не спится мне… И вдруг словно что-то меня толкнуло… А что, думаю, если взять их да и ограбить? Добра у них, как я знала, немало было… В одном шкапчике сколько серебра и золота было! Стала меня мозжить мысль: ограбь да ограбь, все тогда твое будет. А как ограбить? Сейчас догадаются, кто это сделал, схватятся, погоню устроят. Куда я схоронюсь? Везде разыщут, схватят меня. И поняла я, что без того, чтобы их всех убить, дело мое не выйдет. Коли убью всех их, кто покажет на меня? Никто, окромя их, не видел, что я у них нахожусь… А я заберу добро, утром незаметно выйду из ворот и прямо на вокзал. И как только я это решила, встала я сейчас и тихонько, босая, пошла в комнаты посмотреть, спят ли они. Заглянула к майору… Прислушиваюсь… Сладко храпит! Крепко! Шмыгнула в спальню барыни… Спит и она… И барчонок спит, а во сне чему-то улыбается…
Убедившись, что все они крепко спят, вернулась я в кухню и стала думать, чем бы мне с ними порешить. Топора в кухне не оказалось, ножом боялась, потому что такого большого ножа, чтоб сразу зарезать, не находилось. Вдруг заприметила я на полке утюг чугунный… хороший такой, тяжелый. Взяла я его и, перекрестившись, пошла в комнаты. Прежде всего прокралась в комнату майора. Подошла к его изголовью, взмахнула высоко утюгом да как тресну его по голове! Охнул он только, а кровь ручьем как хлынет из головы! Батюшки! Аж лицо все кровью залило! Дрыгнул он несколько раз руками-ногами и, захрипев, вытянулся. Готов, значит. После этого вошла я в спальню майорши. Та тихо почивает, покойно. Хватила я и ее утюгом по голове, проломила голову. Кончилась и она. Тогда подошла я к барчонку. Жалко мне его убивать было, а только без этого нельзя обойтись: пропаду тогда я. Рука моя что ли затряслась, или что иное, а только ударила я его по голове не так, должно, сильно. Вскочил он, вскрикнул, кровь из головы хлешет, а он вокруг одного места так и вьется, так и вьется. Вижу: плохо дело, как бы от стона его девушка Паша не проснулась. Подбежала к нему и давай его по голове утюгом колотить. Ну, тут уж он угомонился. Преставился. Последней убила я Пашу. Та также после первого удара вскочила и бросилась бежать в комнаты. Настигла я ее у порога кухни и вторым ударом уложила на месте. После того и принялась за грабеж…
Суд приговорил убийцу-красавицу к 15 годам каторжной работы.
Из книги «40 лет среди убийц и грабителей» (Записки начальника петроградской сыскной полиции И.Д. Путилина). — К.: СП «Свенас», 1992.
7. Трагедия в Морском корпусе
Как и всегда, ровно в 4 часа дня паспортист здания Морского корпуса титулярный советник Шнейферов явился обедать в свою квартиру, находящуюся в том же здании.
Пройдя кухню, Шнейферов вошел в первую комнату. Вошел — и в ту же секунду выбежал вон, оглашая здание страшным криком:
— Убили! Зарезали!
Этот крик услышал сосед. Со всех сторон раздалось хлопанье дверей, стали появляться испуганные, недоумевающие лица.
— Кого убили? Кого зарезали? — раздалось отовсюду.
Но Шнейферову было не до того, чтобы отвечать на расспросы.
Он несся что было силы по двору к канцелярии и, вбежав туда, столкнувшись нос к носу со смотрителем здания, заговорил прерывистым от волнения голосом:
— Ради Бога… Скорей сообщите в полицию. У меня в квартире несчастье…
— Что такое? Какое несчастье?
— Сейчас вхожу… и вижу… в комнате, на полу, лежит в огромной луже крови прислуга моя, Настасья Сергеева, с воткнутым в горло ножом.
Эта роковая весть как громом поразила всех служащих Морского корпуса. Началась паника. Не растерялся только один смотритель здания. Он тотчас же помчался в полицию.
Это было 7 сентября 1887 года.
Когда мы приехали в Морской корпус, судебных властей еще не было.
— Что у вас тут случилось? — спросил я, следуя к квартире Шнейферова.
— Зверское убийство… Загадочное…
— Ого! Загадочное? Посмотрим, посмотрим.
У дверей квартиры паспортиста уже стоял городовой и виднелась кучка любопытных.
Мы вошли в кухню. В ней было все чисто прибрано, в полнейшем порядке. На плите стояли кастрюли с готовившимся кушаньем. В следующей за кухней комнате, убранной небогато, но с претензиями на комфорт, на полу лежала молодая, миловидная женщина. Голова ее была запрокинута назад, шея представляла из себя широкую алую ленту, посредине которой был воткнут большой кухонный нож.
Кровь, которая и теперь продолжала еще сочиться из огромной зиявшей раны, образовала широкую большую лужу.
Прибывший доктор стал производить наружный осмотр трупа, а мой агент Виноградов беседовал с растерянным титулярным советником-паспортистом.
— Ну-с, доктор? — начали мы.
— Убийство совершено несколько часов тому назад, приблизительно часа два, — заявил доктор. — Убийца нанес всего один удар, но зато по силе и меткости это был смертельный удар! Глубоко вонзившись, нож перерезал дыхательное горло, захватив на своем пути все важнейшие артерии, и смерть наступила мгновенно.
— Заметны следы борьбы?
— Ни малейших. Все говорит за то, что никакой борьбы между жертвой не происходило; если бы происходила борьба, такого определенно меткого удара убийце не удалось бы нанести.
Покончив с осмотром трупа, мы приступили прежде всего к опросу Шнейферова.
— Прежде всего скажите, все ли ваши веши целы?
— Нет, господа… Меня ограбили.
— Что из ваших вешей пропало?
— Во-первых — пальто, сюртук, бритвы, потом ордена Станислава и Анны 3-й степени и двести рублей наличными деньгами.
— Где находились эти веши?
— Пальто и сюртук — в спальне, там же и бритвы, а ордена и деньги — в верхнем ящике комода.
Действительно, верхний ящик комода был взломан и все вещи, находившиеся там, перерыты.
— Что вы знаете о покойной? — спросил следователь.
— Служила она у меня около году, я был очень ею доволен. Тихая, скромная, непьющая, старательная, Настасья производила отличное впечатление…
— Скажите, г. Шнейферов, убитая была — девица?
— По паспорту так значилось, а что там дальше — не знаю-с! — отрезал злополучный титулярный советник.
В эту минуту меня отозвал в сторону мой помощник Виноградов.
— А ведь мы, ваше превосходительство, убитую-то отлично знаем, — начал он тихо.
— Как так? — удивился я.
— Очень просто. Я вспомнил, что убитая Настасья Ильина Сергеева судилась дважды за кражу и была, между прочим, замешана в последний раз в деле об офаблении Квашнина-Самарина. Помните это дело? Тогда еще виновником оказался сын титулярного советника и лишенный прав Николай Митрофанов.
— Да-да, помню.
И оказалось, что этот Митрофанов находился в любовной связи с Настасьей Сергеевой.
— Голубчик, да ведь это — ценнейшие указания! — воскликнул я, обрадованный.
Подойдя к прокурору и следователю, я сказал:
— Думаю, господа, что скоро представлю вам убийцу.
— Как? Вы уж успели, через два часа после обнаружения преступления, напасть на след злодея?
Я улыбнулся.
— Скажите, г. Шнейферов, — начал я, — бывал ли кто-нибудь у убитой?
— Никого. Только за два дня до этого убийства, возвратясь со службы, я увидел у ней на кухне какого-то молодого, прилично одетого человека. На мой вопрос: кто это, она ответила, что это — ее брат.
— Отлично. Ну, а вы бы узнали по фотографической карточке этого неизвестного молодого человека?
— Наверное. Я пристально в него вгляделся, ибо, признаюсь, меня удивило его появление у убитой.
— Есть у нас, в нашем альбоме, портрет Митрофанова? — спросил я тихо Виноградова.
— Конечно.
— Так вот что, голубчик, поезжайте и сейчас же привезите его карточку.
Пока мы производили опросы и осмотры, Виноградов уже вернулся с карточкой Митрофанова.
— Ну-с, г. Шнейферов, — обратился я к нему, — взгляните на эту карточку внимательно и скажите, не этого ли человека видели вы третьего дня у убитой Насти?
Шнейферов впился глазами в карточку и почти сейчас же воскликнул:
— Да, да… Это — он, тот человек… брат.
— Увы, г. Шнеферов, не брат, а любовник, и ваша «девица по паспорту», горемычная Настасья — воровка и соучастница многих темных дел.
Бедный титулярный советник побледнел, как полотно, и с дрожью в голосе пробормотал:
— Вот-с, не ожидал… И подумать только, что они и меня убить, как барана, могли. Я ведь один…
И, истово перекрестившись, Шнейферов добавил:
— Благодарю тебя, Боже, что спас меня от руки злодеев.
Начались энергичные розыски Митрофанова.
Это был ловкий, смелый преступник, лишенный прав. Несмотря на молодость, бывший «сын титулярного советника» прошел блестящую и разнообразную воровскую школу.
Откомандированный моим помощником Винофадовым для розыска Митрофанова агент Жеребцов донес, что ему удалось напасть на след преступника.
— Каким образом?
— От некоторых лиц, знавших Митрофанова, мне удалось выведать, что у Митрофанова есть любовница, крестьянка Ксения Петровна Михайлова, которая посещает сестру свою Устинью Михайлову.
— Вы узнали, где проживает любовница Митрофанова?
— Нет, этого пока мне не удалось, но зато я узнал местожительство сестры ее Устиньи. Она живет по Малой Итальянской улице в доме N 63.
— Отлично. Это очень важно.
Когда Виноградов сообщил мне это, я призвал к себе Жеребцова.
— Вы сделайте вот что: отправляйтесь немедленно к этой Устинье и узнайте от нее адрес сестры ее Ксении. Самую Устинью пока не арестовывайте, но распорядитесь о том, чтобы над нею был учинен строгий негласный надзор. Арестовывать ее не надо потому, что важно проследить, кто будет к ней являться. Результат вашего визита к Устинье сообщите мне немедленно.
Было около двух часов дня, когда Жеребцов вместе с другим агентом сыскной полиции Проскурилом и с околоточным местного участка подошли к дому N 63 по Малой Итальянской улице.
Это был большой каменный дом, несколько мрачного вида, с множеством подъездов и большими воротами во дворе.
Жеребцов позвонил к дворнику.
Околоточный надзиратель и другой агент спрятались за выступом подъезда.
Через минуту появился дворник.
— Чего вам? — флегматично обратился он к Жеребцову, не подозревая, конечно, в нем агента.
— Скажи, любезный, живет у вас в доме Устинья Михайлова?
— Живет. В квартире N 16, у господ Ивановых, в кухарках.
— А где эта квартира?
— Да вот, во дворе, прямо. Во втором этаже.
Только что Жеребцов повернулся к тротуару, чтобы предупредить другого агента и околоточного о том, что он сейчас отправится к Устинье Михайловой, как увидел, что к воротам дома, где он стоял, подъехала извозчичья пролетка. В ней сидели мужчина и женшина.
Машинально взглянув на них, Жеребцов вдруг вздрогнул и остановился, пораженный.
Что это? Видение?
Ведь этот слезавший с пролетки мужчина — не кто иной, как Митрофанов!
В груди Жеребцова забушевала буря радости.
Жеребцов, делая вид, что читает объявление, привешенное к воротам дома, искоса, одним глазом стал следить за приехавшей парочкой.
Сунув в руку извозчика какую-то мелочь, Митрофанов вошел во двор первым. За ним последовала его спутница, молодая, красивая женщина, одетая прилично, с шелковым белым платком на голове.
Через минуту они скрылись в подъезде.
— Стой здесь на месте. Не делай ни шагу! Я — чиновник сыскной полиции! — приказал дворнику Жеребцов.
Тот вытянул руки по швам.
— Ну, господа, — сказал Жеребцов, подходя к Проскурину и оклоточному, — случилось нечто весьма примечательное: сейчас сюда приехал со своей любовницей Митрофанов.
— Да неужели? — воскликнули они оба.
— Да. Судьба нам улыбнулась. Мы сейчас сцапаем этого молодчика.
Жеребцов с лихорадочной поспешностью начал отдавать приказания.
— Этот дом не проходной? — обратился он к дворнику.
— Никак нет-с!
— Стало быть, только один вход и выход?
— Так точно!
— Ну так слушай: ты видел сейчас человека, приехавшего с женщиной на извозчике?
— Видел-с.
— Так вот, ты встанешь у подъезда, в который они вошли, и лишь только он появится, немедленно бросайся на него и сгребай его в охапку. На помошь тебе подоспеет городовой, околоточный — словом, все мы, которые будем находиться у ворот. Дожидай моего свистка: как только свистну, бросайся на этого человека.
— Слушаюсь, — браво ответил дворник.
Затем, поставив у ворот городового, околоточного и агента Проскурило, Жеребцов сам перешел на другую сторону улицы, как раз против ворот этого дома, и занял такую удобную «позицию», с которой ему было отлично видно всех, выходящих из подъезда внутри двора.
Западня была устроена. Оставалось только ждать.
Прошло минут семь-восемь.
Из подъезда вышла в сером большом платке женщина.
«Ага! Та самая красотка, которая приехала с Митрофановым, — пронеслось в голове Жеребцова. — Куда это она направляется?»
И Жеребиов впился в нее взором. Он увидел, как она, быстро пройдя двором и выйдя из ворот дома, вдруг вздрогнула и даже сделала несколько шагов назад, точно собираясь вернуться обратно.
«Городового увидела… Ну, конечно, так и есть… Побледнела… смутилась… не знает, что ей делать… Вернется? Ага, нет… оглядывается по сторонам… идет в лавочку мелочную…» — шептал про себя Жеребцов.
«Интересно, однако, знать, что он теперь предпримет? Без сомнения, она сообщит ему о присутствии полиции».
Женщина вышла из лавки, держа в руках коробку с папиросами. Она, как и сначала, стала тревожно оглядываться по сторонам.
«Учуяли, голубчики!» — продолжал свои размышления Жеребцов.
Женщина быстро-быстро вошла в ворота и почти бегом бросилась к подъезду.
«А схватка, пожалуй, выйдет жаркой. Митрофанов не такой человек, кажется, чтобы легко отдался в руки полиции. Надо держать ухо востро… Но интересно знать, как он вывернется из засады?»
Потянулись минуты, казавшиеся часами.
Жеребцов не сводил глаз с подъезда, около которого застыл в выжидательной позе бравый дворник. У ворот, тихо переговариваясь, стояли агент и околоточный. Городовой переминался с ноги на ногу.
И вдруг в подъезде опять появилась та же женшина, но на этот раз уж не в платке, а в той же драповой кофточке и в том же белом шелковом платке, в котором приехала сюда.
«Ну-ну, посмотрим, что дальше будет, что они надумали», — шептал Жеребцов, следя за таинственной женщиной.
А она шла, низко опустив голову, точно боялась глядеть по сторонам. Выйдя из ворот, повернула направо и пошла скорым шагом.
Околоточный и агент сделали Жеребцову знак, как бы спрашивая, не надо ли догнать, остановить уходившую женщину. Жеребцов отрицательно покачал головой.
Минут через двадцать к воротам дома подъехала невзрачная карета.
Кучер осадил лошадей. Распахнулась каретная дверца, и из кареты быстро выскочила та же самая таинственная незнакомка.
«Вот как! Теперь уж в карете красотка пожаловала… Гм… Положительно это начинает становиться интересным».
Лишь только женшина скрылась в подъезде, Жеребцов в одну минуту подбежал к карете и быстро спросил кучера:
— Куда нанят?
— В барачную больницу, отвезти больную женщиу, — ответил кучер.
— Господа, будьте наготове! — тихо шепнул Жеребцов. Затем, сделав знак рукой дворнику, на что тот молодцевато выпрямился, он сам встал около кареты.
Кучер невозмутимо восседал на козлах.
Прошло несколько томительных минут ожидания.
Вдруг Жеребцов вздрогнул и выпрямился.
Двери подъезда распахнулись, и в нем появились… две женщины. Одна из них была та, которая приехала с Митрофановым, другая — очень высокого роста, одетая в черное платье, бурнус и укутанная черным платком.
Лица высокой «черной» женщины не было видно.
На лицах всех участников облавы выразилось сильнейшее недоумение. Они ожидали выхода Митрофанова с любовницей, а тут вдруг две женщины.
Агент Проскурило и околоточный надзиратель быстро взглянули на Жеребцова, спрашивая взором, что же теперь им делать.
Взглянули… и поразились еще более. Искренняя радость залила лицо Жеребцова. Момент — и он, подав условленный знак дворнику, устремился сам к вышедшим женщинам.
Дворник, получивший от Жеребцова приказ схватить мужчину, теперь, при виде женщин, по-видимому, совсем растерялся. Он пропустил их спокойно мимо себя.
Тогда Жеребцов, заметив недоумение и замешательство своих помощников, первый подскочил к высокой черной женщине, схватил ее за горло и крикнул:
— Хватайте ее! Хватайте Митрофанова!
Быстрее молнии дворник и околоточный надзиратель схватили сзади, почти в охапку, мрачную черную фигуру.
Та резким движением и со страшной силой успела выдернуть правую руку, которую быстро опустила за пазуху и стала что-то там шарить.
— Врешь… не дам… не вывернешься… — вылетало у бравого лворника, боровшегося с черной фигурой.
И когда руки были скручены, вопль разъяренного бешенства огласил двор:
— Э-эх, попался!!
— Ну, Митрофанов, — начал Жеребцов, — довольно маскарада! Вы видите, что, несмотря на ваше чудесное превращение в женщину, вы узнаны. Поэтому бросьте сопротивление. Оно вас не спасет.
Любовница Митрофанова от испуга и волнения едва держалась на ногах и близка была к обмороку.
Через пять минут они уже ехали в управление сыскной полиции в той же карете, которую наняли сами.
Я беседовал с моим помощником Виноградовым, когда вошедший Жеребцов сообщил нам радостно и ликующе: «Митрофанов здесь!»
— Ловко! — вырвалось у меня.
— Здравствуйте, Митрофанов, — начал Виноградов, подходя к тому. — Мы ведь с вами старые знакомые.

— Действительно, — послышался спокойный, ровный голос Митрофанова, — я имел несчастье здесь бывать. Но тогда я знал, за что и почему меня брали и привозили сюда. А теперь — я недоумеваю. Я не совершил никакого преступления.
— В самом деле? — насмешливо обратился я к нему. — Значит, вы не сознаетесь, что убили Настасью Сергееву и обокрали ее хозяина Шнейферова?
— Я не могу сознаться в том, чего не совершил.
— Так-так… Ну, а зачем же на тебе, голубчик, это странное, не свойственное твоему полу одеяние? Зачем ты в бабу перерядился? Кажись, теперь не масленица, не святки.
— Так, просто… Подурачиться хотелось…
— Уведите его! — приказал я.
Когда он ушел, я сказал Виноградову:
— Мне кажется, что нам выгоднее прежде допросить его любовницу… Так как их схватили почти врасплох, они не имели возможности подробно сговориться друг с другом.
— Совершенно верно.
— Введите женшину! — приказал я.
— Знакома ты с Митрофановым?
— Знакома, — ответила арестованная Ксения Михайлова.
— Ты с ним находишься в любовной связи?
— Да, — тихо проронила она.
— Ну, рассказывай, как ты познакомилась с ним, и потом все вообще, что тебе известно о нем.
Рассказ ее сводился к следующему.
Около 12 лет тому назад, будучи еще девочкою, она более полугода жила в качестве прислуги у родителей Митрофанова, затем, уйдя от них, потеряла Митрофанова из виду. В прошлом году, арестованная в Литейной части по обвинению в краже вещей у гг. Гончаровых, в конторе смотрителя встретилась с доставленным для содержания в Литейную часть Николаем Митрофановым. Встреча была радостная и трогательная: вор и воровка умильно вспоминали о заре туманной юности.
Содержась в той же части около двух месяцев, она часто встречалась с Митрофановым.
Но вот ее оттуда перевели в тюрьму; окончив 19 марта срок заключения, она была выпушена и оставлена на жительство в Петрограде.
«Вышла я из тюрьмы и сильно стала тосковать по Митрофанове… Узнала я, что он все еще в Литейной части содержится. Вскоре получила я от него открытку, в которой он просил меня навещать его раза четыре в месяц. Обрадовалась я, поспешила к своему ненаглядному. Стал он мне тут говорить, что скоро вышлют его из столицы. „Тяжко, — говорит он, — с тобой мне разлучиться, Ксюша. Люблю я тебя, вот как!“ Заплакала я да и говорю: „А зачем нам разлучаться? Куда тебя гонят, туда и я пойду за тобой. И мне без тебя жизнь не в жизнь“».
Наступил конец августа. Отбыв срок заключения, Митрофанов, приговоренный к административной высылке, был отправлен этапным порядком в Лодейное Поле Олонецкой губернии.
Оставив своей сестре Устинье Михайловой свой сундук и чемодан Митрофанова с его вещами, она 27 августа отправилась вслед за Митрофановым в Лодейное Поле, но, не доезжая этого места, на станции Сермус встретила Митрофанова, уже возвращавшегося в Петроград.
«Приехав в столицу, — продолжала свой рассказ Михайлова, — мы направились на Петроградскую сторону, в какую-то гостиницу, где пробыли три или четыре ночи, из этой гостиницы перебрались в другую, где пробыли до утра 7 сентября. Там мы только ночевали, а день проводили в прогулках и посещениях знакомых Митрофанова, которых я не знала. В понедельник, 7 сентября, я условилась с ним, что в этот день мы переедем в комнату к знакомой Пелагее Федоровой, содержащей на Песках квартиру.
В 7 ч вечера переехала я с нашими вещами туда и стала поджидать своего возлюбленного. Он, однако, явился только утром на следующий день.
— Где ты был? — спросила я его.
— У знакомых, — ответил он».
Далее Михайлова рассказала, что в этот же день они поехали в Шлиссельбург, где, по словам Митрофанова, ему надо было повидать свою бабушку, чтобы перехватить у ней денег. Однако никакой бабушки он не видел; гуляли, угощались, ночевали в гостинице, а утром, возвратившись в Петроград, прямо с вокзала поехали к Устинье Михайловой, где и были схвачены.
— Скажи, — спросил я, — отчего Митрофанов оказался переодетым?
— Я пошла покупать ему папиросы. Только что вышла из ворот, глядь — городовой, околоточный. Меня точно кольнуло что. Уже не за ним ли, думаю? Пришла я, а он сидит и мирно пьет кофе, которым угощала моя сестра. Так и так, говорю ему тихо, полиция стоит у ворот. Он побледнел и говорит мне: а ведь это меня выслеживают, потому что я убежал с этапа. Что делать? Стал он думать и придумал переодеться и под видом женщины проскользнуть мимо полиции. Одела я его в платье сестры моей, обещаясь ей вернуть ее вещи в тот же день, и побежала за каретой. Ну, а дальше вы и без меня знаете! — почти зло выкрикнула Михайлова.
И сейчас же заплакала.
Перед нами стояла женщина, безумно, по-видимому, любящая этого закоренелого злодея.
— Скажи, Михайлова, были у него деньги, видела ты их?..
— Были… Но нельзя сказать, чтоб большие… где три, где два рубля платил он… Но деньгами не швырялся…
Отпустив Михайлову, я вечером позвал Жеребцова.
— Ну, что, узнали что-нибудь?
— Я сейчас производил обыск у Устиньи Михайловой. Буквально ничего подозрительного! Она показала, что Митрофанова видела у себя впервые, что ее сестра, арестованная Ксения, представила его ей как жениха.
— Ну-с, а дальше где вы были?
— У Пелагеи Федоровой, квартирной хозяйки, у которой Михайлова сняла комнату. Муж ее сообщил, что на другой день по обнаружении убийства в Морском корпусе явился Митрофанов к своей любовнице, Михайловой, поселившейся у них утром, часов в 11. Вскоре он ушел, а вернулся уже в новом пальто, костюме, хвалился своими обновками; потом Митрофанов и Михайлова уехали, и с тех пор он, Федоров, больше их уже не видел.
— Вы говорите: Федоров? — спросил вошедший Виноградов. — Позвольте, это тоже наш знакомый: он судился один раз за кражу и находится в тесной дружбе с Митрофановым.
— Вы произвели обыск вещей Михайловой и квартирной хозяйки?
— Как же… Среди массы малоподозрительных вешей я обратил внимание на жилетку, принадлежащую Митрофанову. На ней, с правой стороны, между первой и второй пуговицами, ясно бросается в глаза небольшое кровяное пятно. Все вещи я распорядился доставить сюда.
Теперь мне предстояло самое главное: допрос Митрофанова. Я знал, что это будет труднейший из допросов.
Сын хотя и незначительного, но все же чиновника, он получил кой-какое образование, дополнив его верхушками разных знаний, схватывать которые он был великим мастером. Не сбейся он с пути, из него выработался бы дельный, умный службист.
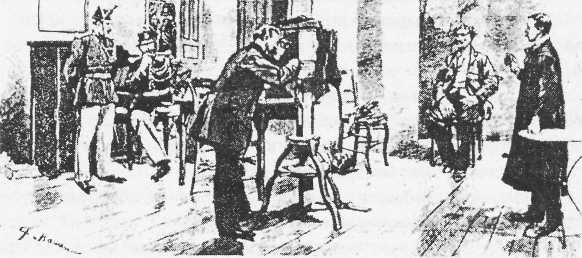
И вот один, в тиши своего кабинета, я принялся обдумывать план допроса.
Наконец я остановился на одном плане. Я позвонил и приказал привести Митрофанова.
На этот раз Митрофанов предстал предо мною уже не женщиной атлетического роста, а высоким, широкоплечим, красивым мужчиной, одетым чисто, почти франтовато. Он вежливо поклонился.
— Ну, Митрофанов, — начал я после продолжительной паузы, — что и как мы будем с вами говорить?
— А, право, не знаю, ваше превосходительство, это зависит от вас, — ответил он.
Я подметил в его глазах вдруг вспыхнувший огонек насмешки.
— Нет, Митрофанов, не от одного меня это зависит, а также и от вас.
— Как так?
— Очень просто. О чем говорить… Ну, разумеется, мы будем говорить об убийстве Сергеевой. Теперь другой вопрос: как говорить. Вот это-то и зависит от вас.
— А именно?
— Мы можем говорить и очень кратко, и очень долго, продолжительно. Во втором случае — вы отнимете и от себя, и от меня несколько часов сна, в первом случае — все будет окончено в несколько минут.
Я рассмеялся. Улыбнулся и он.
— Что же вы выбираете?
— Конечно, последнее. Я очень устал. Всю эту ночь я не спал.
— Отлично Итак, в двух-трех словах расскажите, как вы убили Сергееву и ограбили несчастного титулярного советника Шнейферова? — быстро задал я ему вопрос.
Ни один мускул не дрогнул на его лице.
— Это… это слишком уж скоропалительно даже и для вас, — ответил он, улыбаясь углами губ.
— Вот что… Значит, вы не убивали? Не ограбили? Ах, это скучно, Митрофанов…
— Покорнейше благодарю… Вам скучно, что я не убивал никого и не ограбил, и для того, чтобы вам было… веселее, я должен убить Сергееву и ограбить ее хозяина Шнейферова?..
— Слушайте, Митрофанов, бросьте вы бесполезное запирательство. Вы сами понимаете, вам не отвертеться. Против вас — тьма явных, неоспоримых улик. За два дня до совершения убийства вы приходили к убитой Сергеевой, вашей бывшей любовнице, с которой вы вместе фигурировали в деле Квашнина. Сергеева вас представила своему хозяину, Шнейферову, как брата. Стало быть, факт налицо: вы были в квартире, где совершено преступление. Затем, на другой день после убийства Сергеевой и ограбления ее хозяина, у вас вдруг, неизвестно откуда, появились деньги. Вы покупаете новый костюм, пальто, часы, тратитесь на прогулки с вашей любовницей. Наконец, когда вы узнаете о присутствии полиции у ворот дома, вы устраиваете чисто маскарадное переодевание. Если к этим уликам добавить ваш «послужной список», в котором значится судимость за три кражи, то, вы понимаете сами, спасения вам нет.
Митрофанов молчал, опустив голову, видимо, что-то обдумывая.
— Итак, я вас обвиняю в убийстве Сергеевой с целью ограбления титулярного советника Шнейферова.
Едва я это сказал, как Митрофанов порывисто выпрямился. Руки тряслись. Лицо смертельно побледнело. Глаза расширились, и в них засветилось выражение гнева, тоски и отчаяния.
— Только не с целью ограбления! Только не с целью ограбления! — почти прокричал он. — Да, я убил мою бывшую любовницу Настасью Ильину Сергееву.
— И ограбили…
— Да нет же, нет, не ограбил, а взял потом, убив ее, веши и деньги этого… чиновника…
— Не все ли это равно, Митрофанов?
— Нет-нет, вы меня не понимаете… — бессвязно вылетело из его побелевших губ. — Я убил Сергееву в состоянии запальчивости и раздражения. Понимаете? Так и пишите.
Я понимал: он, как умный и искушенный в криминальных делах и вопросах, отлично знал квалификацию преступлений. Он сообразил, что убийство в состоянии запальчивости и раздражения наказуется несравненно мягче, нежели убийство с целью ограбления.
— Ну, успокойтесь, Митрофанов!.. Если это действительно было так, суд примет это во внимание… Вы расскажите мне, как это случилось.
— С ней… с убитой мною Сергеевой познакомился я в апреле. Скоро мы и сошлись с нею. Полюбился ли я ей сильно — не знаю. А она мне действительно очень пришлась по сердцу. Недолго, однако, ворковали да любились мы: попался я в деле Квашнина-Самарина, да и она тоже. На дознании она все старания употребляла, чтобы выпутаться, даже меня не шадила, оговаривала. Это я, конечно, понимал. Страшило ее заключение, позор… Что же, всякий человек сам себя больше любит. Забрали меня, посадили. Она выпуталась. До 5 сентября не видался я с ней, хотя несколько раз писал ей, как из дома предварительного заключения, так и из части, где отбывал наказание. В этих письмах, — может, вы в ее вещах их и найдете — я умолял ее навестить меня, вспомнить меня, вспоминал наше прошлое, нашу любовь, наши ночи, полные страсти, поцелуев, объятий. Во имя хотя бы этого прошлого я звал ее к себе. Но ни на одно письмо я не получил от нее ответа, и она сама ни разу не пришла ко мне. Потянулись дни, скучные, унылые. В один из таких дней встретился я в части с Ксенией Михайловой и сошелся с ней. Когда самовольно вернулся из Лодейного Поля, запала мне в голову мысль повидать Сергееву. И так эта мысль меня охватила, что никак не мог я ее от себя отогнать. Хотелось мне ее повидать, главным образом для того, чтобы от нее самой узнать, справедливы ли слухи, доходившие до меня, будто у ней от меня родился ребенок. Потом хотел ей сказать, что она может явиться за получением вещей по делу Квашнина-Самарина, признанных судом подлежащими возврату ей.
Явился я к ней 5 сентября. Это первое наше свидание было довольно дружелюбное. Она встретила меня приветливо, почти ласково.
Стал я ее стыдить, что она ни разу меня не навестила; она сначала говорила, что ей это было неудобно, а потом заметила: «На что я тебе там нужна была? У тебя ведь там новая подружка нашлась. С ней, небось, миловался…» Я ей резко ответил, что это случилось позже и случилось только именно потому, что она бросила меня в такую тяжелую минуту жизни. Разговор об этом мы прекратили. Она угостила меня, а затем, когда пришел ее хозяин, представила меня за брата. На прощанье она мне шепнула: «Что ж, приходи во вторник…»! Вместо вторника я пошел к ней в понедельник. Это было 7 сентября. Сначала разговорились мы мирно. Потом мало-помалу Сергеева начала придираться ко мне. «Шел бы, — говорит, — к своей потаскухе» Как услышал я это, вскочил и говорю ей: «Как ты смеешь так называть ее!» — «А как же ее величать прикажешь, коли она — публичная девка?» — «А ты — кто? Ты — честная! — закричал я. — Она, эта „публичная девка“, во сто раз чище и лучше тебя. Она меня полюбила там, в тюрьме, она всем для меня жертвовала, она не покидала меня, как покинула ты — честная, чистая негодяйка! Когда меня выслали, она добровольно решилась последовать за мною. И ты осмеливаешься так ее поносить?..»
Кричу и чувствую, злоба к сердцу подкатывает. Все-все вспомнил я в эту минуту, ненависть проснулась во мне к этой женщине, которая так равнодушно отнеслась к отцу своего ребенка. «Молчи, — кричу я ей, — а не то вот этим ножом тебя зарежу!» Схватил я нож с плиты и показываю его ей. Смотрю, подходит она ко мне, побледнела от злобы, усмехается криво и насмешливо говорит: «Что, зарезать меня хочешь? Ха-ха-ха! Ой, не боюсь: не зарежешь, Коленька, не зарежешь! Зарезать потруднее будет, чем красть или с острожными шкурами путаться… А ты вот что: если орать желаешь, так ступай из кухни в комнаты. Там ори на здоровье, сколько хочешь, а здесь этого нельзя, здесь, голубчик, жильцы другие услышат».
И пошла первая в комнаты. Пошел за ней и я. «Молчи, — говорю, — Настя, лучше молчи! Не вводи в грех меня, потому добром это у нас не кончится, боюсь я себя, крови своей боюсь, зальет она мне глаза, а тогда зверем буду. Слышишь?»
А она, точно назло, еще пуще на Ксению нападать стала. Чувствую я, зверь во мне просыпается, чувствую, к сердцу что-то горячее приливает, горло сжимает. «Вот ты какой рыцарь появился! За всякую потаскуху заступаешься? — продолжает она. — Трогать ее, принцессу, нельзя? Бить меня за нее собираешься? Резать? Видно, сильно полюбилась тебе она? Да? Что ж, на, на, бей, подлец, режь меня, режь за эту панельную красотку!»
И она почти вплотную придвинулась ко мне, протягивая свою грудь, свою шею. Потемнело сразу в глазах у меня. Взмахнул я ножом да как ахну ее в горло! Вскрикнула она. всплеснула руками, захрипела, зашаталась и навзничь грохнулась на пол. Нагнулся я… смотрю… не дышит уж… мертва…
Митрофанов, рассказывая это, бывал положительно страшен. Бледный, трясущийся, с широко открытыми глазами.
— Ну, а потом… потом махнул я рукой. Теперь уж все равно. Взял я вещи чиновника этого и бросился из квартиры.
Митрофанов действительно убил Сергееву в состоянии запальчивости и раздражения. Суд дал ему снисхождение, и он был приговорен на кратчайший срок к каторжным работам.
Из книги «40 лет среди убийц и грабителей» (Записки начальника петроградской сыскной полиции И.Д. Путилина). — К.: СП «Свенас», 1992.
8. Кровавый миллион (Записки И.Д.Путилина)
30 октября 1884 г. в 12 час. ночи мне в сыскную полицию было дано знать о совершении зверского убийства в доме N 5, кв. 2 по Рузовской ул.
Убитыми оказались: потомственный почетный гражданин Василий Федорович Костырев и старая нянька его, мешанка Александра Федорова, 71 года.
Место и обстановка убийства представлялись в таком виде: убитая нянька-старуха лежала с раздробленной головой недалеко от входных дверей, ведущих на черную лестницу. В ее открытых глазах застыло выражение ужаса, боли и страдания. Пряди седых волос, слипшихся от сгустков крови, падали на лицо, почти сплошь залитое кровью. Ближе к дверям, ведущим в первую комнату, головою от входа в кухню, по правой стене, лежал распростертый труп богача Костырева. Голова его тоже была разбита, очевидно, тем же тупым орудием, которым раздробили голову убитой старухи.
В передней находился взломанный железный сундук. В третьей от передней комнате, прямо против лежанки, стоял деревянный шкафчик. В нем все было перерыто, веши и безделушки находились в страшном беспорядке. Около шкафа, на полу, валялась маленькая деревянная копилка, тоже взломанная. В одной из печей квартиры убитых была обнаружена груда золы, характерная для сожженной бумаги.
Вот приблизительно все, что представилось взорам судебных властей.
— Скажите, — обратился следователь к врачу, осмотревшему трупы, — сколько времени, по-вашему, могло пройти с момента совершения убийства?
— Более суток: кровяные пятна и пятна трупные на теле убитых показывают, что прошло порядочное количество времени.
— Убитые боролись, защищались?
— На Костыреве не видно никаких следов борьбы, самообороны. По-видимому, он был убит врасплох, не ожидая нападения. Что касается старухи Федоровой, тут картина изменяется. На обеих щеках, около рта, заметны синяки, кровоподтеки. Можно предполагать, что старухе с большой силой зажимали рот. Эти синяки напоминают следы пальцев.
— Ее, очевидно, душили?
— Нет, ей просто, по-видимому, закрывали рукой рот, чтобы она не кричала.
В то время как следователь беседовал с врачом, агенты нашей полиции внимательно осматривали обстановку убийства, стараясь отыскать хоть малейший след, оставленный убийцами.
Тут, однако, самый тщательный осмотр не дал никаких положительных результатов.
Между тем начался допрос дворника дома, Николаева.
— Почему ты дал знать в участок о несчастии в этой квартире спустя чуть не двое суток? — спросил следователь.
— Раньше не знал об этом.
— А как же ты узнал, что несчастие совершилось? — впивался глазами в Николаева следователь.
— Я стал звонить в квартиру, звонил, звонил, смотрю — не отпирают. Я испугался и побежал в часть заявить.
— А почему же ты испугался? Разве ты наверное знал, что Костырев и Федорова должны быть дома?
Дворник замялся.
— Нет, конечно, где же знать…
Таковы были данные первоначального допроса. Косвенное подозрение на дворника стало закрадываться.
Следствие закипело. Прежде всего, стали собирать сведения о том, что делал дворник Николаев в эти дни, когда в квартире N 2 лежало уже два трупа. Оказалось, что почти все это время он пьянствовал, кутил, то и дело отлучался из дому, посещая своего приятеля Семенова, тоже дворника дома N 98 по реке Фонтанке; что они вместе куда-то все ездили, посещая квартиры и портерные. Кроме того, было установлено, что к Николаеву в эти дни приходили и заявляли, что в квартире Костырева, несмотря на звонки, дверей не отпирают. На основании этих улик Николаев и Семенов были арестованы по подозрению в убийстве с целью грабежа. К тому и другому нагрянули с обыском, но ничего подозрительного в их вещах не было найдено. Как ни вески и значительны были улики, собранные сыскною полицией против Николаева и Семенова, они, однако, не давали нам не только юридического, но и нравственного права считать этих лиц непременными убийцами Костырева и Федоровой. Поэтому мы постарались всеми силами поднять завесу над личностью самого убитого, собрать сведения о лицах, его знающих и посещающих, словом, всесторонне осветить это мрачное и темное дело.
И вот мало-помалу перед нами вырисовался образ убитого.
Это была чрезвычайно странная, загадочная натура.
Унаследовав после смерти своего отца, Федора Костырева, огромное состояние, большей частью в недвижимости и наличных кредитных билетах, убитый поспешил прежде всего обратить все деньги в процентные бумаги, которые и внес вкладом в Государственный банк на сумму более 300 тысяч. Казалось бы, обладая состоянием и молодостью, убитый Костырев мог бы вести привольную, интересную жизнь, а между тем этот человек совершенно уединился от света, поселился со своей старухой-нянькой и зажил жизнью не то отшельника, не то то фанатика-схимника. Он почти никуда не ездил, почти никого не принимал. Ужасная, чисто легендарная скупость, вернее, алчность, овладела им. О его скупости ходили анекдоты, баснословные рассказы, оказавшиеся, однако, по проверке их, фактами.
Первой из знавших Костырева и Федорову была допрошена жена кассира губернского казначейства Морозова. Она рассказывала, что покойника часто навещал меняла Шилов. На этого Шилова всегда плакалась убитая старуха-нянька Федорова, говорившая, что «пустит этот подлец Шилов моего Васеньку по миру, ей-ей пустит». Оказалось, что Шилов отобрал от Костырева купонные листы от всех процентных бумаг вперед на 10 лет, выдав взамен их пустую расписку.
Расписка была такова: «Я, нижеподписавшийся, даю сию расписку в том, что от билетов городского кредитного общества, принадлежащих Василию Костыреву, получил купоны за 10 лет и обязуюсь уплачивать ему с 1885 года полугодно по 8500 руб. Шилов».
Почти то же показала и тетка убитого.
Без сомнения, все эти допросы и показания пролили очень мало света на мрачное двойное убийство. Они были ценны только в том отношении, что давали кое-какие сведения об имущественном положении трагически убитого Костырева.
Таким образом, в руках сыскной полиции находились только два лица: Николаев и Семенов, подозреваемые в убийстве. Прямых улик в их преступлении не было, ибо обыск их имущества и жилья не обнаружил ничего существенного.
И вот настал памятный и знаменательный для нас день -7 ноября.
К нам доставили из места предварительного ареста для допроса дворника Семенова, запасного унтер-офицера. В начале допроса он отрицал какое бы то ни было участие в этом страшном деле.
Но вдруг среди допроса он побледнел, схватился руками за лицо, точно стараясь закрыть глаза от каких-то видений, и голосом, полным ужаса, тоски, страдания, тихо прошептал:
— Не могу… не могу больше… силушки моей нет!..
— Что с тобой? — спросили его.
— Вот опять… опять стоят передо мной, — продолжал возбужденно Семенов, теперь уже широко раскрытыми глазами смотря с ужасом перед собой. — Вот она извивается… вот я ей рот закрываю.
И вдруг он затрясся, повалился на пол и мучительным стоном вырвалось из его побелевших губ:
— Мой грех… Берите меня, судите меня! Это я убил Костырева и старуху!
Когда он немного успокоился, то принес чистосердечную исповедь в совершении им вместе с Николаевым этого зверского двойного убийства.
— Эх, погубил меня Никита Николаев, — начал Семенов. — А ведь мы с ним не только давнюю дружбу водили, а близкими земляками жили. Оба мы Новгородской губернии Новгородского уезда. 28 октября жена у меня именины справляла. Пришел ко мне Николаев и между прочим спрашивает: «Хочешь. — говорит, — Федор, разбогатеть?» Как, говорю, не хотеть, толь ко каким же это манером из бедного богачом сделаться? «А вот каким, — отвечает Николаев, — живет в нашем доме страшный богач Костырев с нянькой-старухой Федоровой. Деньжищ у него, бают, видимо-невидимо. Миллионы. Помоги мне убить их. Деньги заберем, вот и разбогатеем. Мне с женой с ними не справиться. Что же, согласен?» Нет, говорю, друг сердечный, за такое разбогатение дорожка одна: на каторгу. Бог с ними, с деньгами, коли за них кровь христианскую проливать надобно да ноги под кандалы подставлять.
Этот отказ Семенова не обескуражил Николаева. Как злой демон-искуситель, он не отходил от Семенова, возвращаясь все к тому же разговору об убийстве богача и старухи. Он рисовал ему картины будущего привольного житья, старался всеми силами и уловками склонить Семенова на сообщничество, он, положительно, гипнотизировал его. Однако Семенов не сдавался. Настал следующий день, роковое 29 октября. Под предлогом осмотра лошадей Николаев пригласил к себе Семенова и тут, у себя в дворницкой, опять стал упрашивать его помочь ему убить и ограбить Костырева. Отсюда он пригласил Семенова в трактир. Придя туда, они потребовали водки, чаю. Выпили по 3 стаканчика водки. Семенов малость охмелел. Пробыв в трактире около часу, они вернулись в дом Николаева.
— Вот что, Федя, — начал Николаев, — ты иди из ворот налево в угол и встань в подвальное помещение против квартиры N 2, а я приду в ту квартиру. Надобно мне…
Семенов послушно, как автомат, направился к указанному месту.
Николаев же быстро вошел в дворницкую, переоделся, остался в одной фуфайке красного цвета и жилете, без передника («чтоб кровью не залить его»).
— Ну, Федор, слушай, как только я крикну оттуда тебе, — беги ко мне.
Николаев подошел к квартире Костырева с черного хода, где лестница не была еще освещена. Он позвонил. Прошло несколько секунд тишины, потом послышался старческий, шамкающий голос:
— Кто там?
— Дворник, насчет водопровода, — ответил бесстрастным тоном убийца, Дверь открылась. Николаев быстро скрылся за нею, оставив дверь открытой настежь.
В эту секунду до Семенова донеслись испуганные возгласы старухи: «Что тебе… что тебе надо?..» — и ответ Николаева:
— Души ваши дьявольские и деньги ваши!
Минута — и Николаев с высоко поднятым молотком ринулся на фигуру мужчины, стоящего позади старухи в дверях между кухней и первой комнатой. Этот мужчина был несчастный Костырев. От первого удара молотком по голове он только пошатнулся. Тогда Николаев нанес с большой силой второй удар, после которого Костырев, даже не вскрикнув, грузно упал мертвым на пол.
Обезумевшая от ужаса старуха Федорова бросилась к двери. Зажженная свечка выпала из ее рук и потухла.
— Спасите… убивают! — вылетело из ее горла, перехваченного, очевидно, судорогой.
Крики были слабые, тихие и походили скорее на стоны.
— Черт! Дьявол! — раздался злобный крик Николаева. — Чего же ты стоишь, иди на помошь!
Семенов услышал еще какое-то отвратительное ругательство и опрометью бросился в квартиру. В дверях он наскочил на старуху, схватил ее, зажав ей рот рукой. Последовала короткая борьба. Обезумевшая старуха мычала, хрипела, извивалась, делая нечеловеческие усилия вырваться из рук убийцы. Страх, очевидно, придал силы этой мумии. Вдруг Семенов вскрикнул: старуха впилась зубами в ладонь руки убийцы и укусила два пальца. В эту секунду подбежал Николаев и тем же молотком ударил старуху. Она упала, но была еще жива, хрипела, стонала. Добил ее вторым ударом Семенов.
Убедившись, что Костырев и старуха мертвы, Николаев зажег свечку, и вместе с Семеновым они вошли в комнату налево от кухни. Там у стены стоял железный сундук, в котором и должны были, по словам Николаева, находиться несметные сокровища богача Костырева. С жадностью бросился Николаев к сундуку, собираясь его взломать, но, испугавшись, как бы со двора не увидели их «работающими» со свечкой в квартире Костырева, он, с помощью Семенова, перенес железный сундук в переднюю и сейчас же запер квартиру изнутри на ключ.
Теперь ничто не могло помешать убийцам заняться ограблением костыревских «миллионов». Но наступил тот психологический момент, который овладевает, обыкновенно, грабителями: они не знали, за что им раньше приняться, оставляли одно, бросались на другое. Пролитая ими кровь, должно быть, туманила их рассудок. Так, вместо того чтобы сейчас же наброситься на сундук, взломать его и схватить «миллионы», они побежали в заднюю комнату и устремились к шкафчику, который был не заперт. С лихорадочной поспешностью стали они шарить в шкафчике. Вот копилка. С помощью лома и стамески Николаев взломал шкатулку и стал горстями класть в карман серебряную монету. В это время Семенов тоже нашел в открытой шкатулке пачку кредитных билетов и стопку медной монеты — всего на сумму 53 р. 75 коп. После того Николаев у того же шкафчика погасил свечку. «Идем», — сказал он Семенову. Но идти трудно. Тьма окутывала квартиру, не было видно ни зги Боясь наткнуться на трупы, упасть на них, они снова зажгли свечки и направились к выходу.
Колеблющийся свет свечи падал на два страшных трупа с разбитыми головами, плавающих в огромных лужах крови.
Спокойно, бестрепетно прошли мимо них убийцы. Николаев поднял с полу орудие убийства — молоток и, оставив лом у железного сундука, потушил свечку. После этого они вышли из квартиры. Убийцы разошлись. Семенов бросился к себе домой, Николаев пошел в свою дворницкую. На другой день они, однако, свиделись. Почти весь день они разъезжали по городу, посещая то чайные, то трактиры, то портерные. Николаев все упрашивал Семенова, чтобы он пришел к нему в 12 ч. ночи.
— Мы с тобой тогда пойдем к ним и взломаем сундук. Надо же отгула миллионы выцарапать, — говорил он ему.
Семенов, однако, колебался и обещания прийти не дал. И вот тогда-то, глухой ночью, разыгрался эпизод, действительно достойный самых страшных страниц любого уголовного романа.
Николаев не мог заснуть… В его разгоряченном мозгу встают ослепительные картины сказочных сокровищ. Таинственный желтый сундук ему мнится наполненным золотом, блестящими камнями… С каким мучительно-страстным нетерпением ожидает он прихода Семенова! Вот он пришел бы… они вместе отправились бы, где покоятся мертвым сном две жертвы… взломали бы сундук… Но Семенов не приходит. Тогда он будит жену, которой раньше поведал о совершенном убийстве.
— Пойдем со мной… вместе… Ты поможешь мне… — просит он ее.
— Нет-нет, ни за что! — в ужасе твердит женщина, со страхом и отвращением отшатываясь от мужа. — Я не пойду с тобой, проклятый убийца…
Ночь идет… Николаева мозжит неотступная мысль о железном сундуке. Теряется самое дорогое, удобное время для взлома сундука. Глухая ночь… весь дом спит… никто не услышит, как будет жалобно стонать и хрипеть железный сундук, разворачиваемый ломом.
«Так я один пойду», - проносится в голове убийцы.
Он поспешно встает, выходит, безмолвный, глядя черными впадинами своих глаз-окон. Тихо, осторожно крадучись, подходит он к квартире убитых. Сердце бьется тревожно в груди, словно выскочить хочет оттуда. Он берется за ручку двери… Дверь медленно отворяется. Холодный ужас овладевает им. Что он сделал! Ведь он после убийства забыл запереть дверь… А к ним звонили. Он это хорошо знает, так как ему заявляли, что, несмотря на звонки, Костырев и Федорова двери не открывают. Ну, а вдруг кто-нибудь, звоня, попробовал бы нажать дверную ручку? Дверь бы отворилась, в квартиру вошли бы, заметили бы преступление и — все, все буквально пропало бы… Не видать бы ему никогда сокровищ железного сундука. А ведь ради него он и пошел-то на страшное убийство…
И вдруг радость, огромная животная радость, что этого не случилось, охватила его. Слава Богу! Сундук тут… Все, все спасено!
Эта радость так велика, что она заглушила последние признаки страха, колебания. Николаев спокойно вошел в квартиру, запер за собою дверь, зажег свечку и принялся взламывать сундук. Страшное соседство трупов его, по-видимому, мало теперь волновало. Он находился как бы в состоянии гипноза, причем в роли гипнотизера являлся железный сундук. Взломав, он с жадностью начал выгружать его. Целые груды процентных бумаг. Красные, синие, желтые листы, на них — огромные цифры: десять тысяч, пять тысяч… Николаев приступил к сортировке. Все процентные бумаги он отложил в сторону, а в другую бросал документы и разные иные бумаги. «Надо это сжечь, чтобы не оставалось следов, какие именно деньги были у Костырева», — мелькнуло у него в голове.
И он бросил, действительно, все документы и прочие бумаги в печку, зажег их и уничтожил. После этого схватил груду процентных и кредитных билетов, вышел с ними во двор и около мусорной ямы зарыл свои желанные сокровища.
На другой день он об этом поведал Семенову, обещая поделиться с ним. Но этого ему не пришлось.
Так окончилось это страшное дело о двойном убийстве.
Из книги «40 лет среди убийц и грабителей» (Записки начальника петроградской сыскной полиции И.Д. Путилина). — К.: СП «Свенас»,1992.
9. Николай Оберемок (Записки судебного следователя[18])
Рассказ о Николае Оберемке относится к 1914 году. Я был назначен Товарищем Прокурора С-го Окружного Суда, но еще не сдал своих дел по должности судебного следователя. 27-го апреля я получил от полиции уведомление о том, что в трех верстах от м. Златополя, где я проживал по обязанностям своей службы, на одном из хуторов совершено убийство — убита молодая, красивая женщина, жена запасного военного фельдшера, находящегося в г. Львове, и ее двоюродная сестра -11-летняя девочка, исполнявшая роль няни при двух малолетних детях. Отправившись в тот же день к месту преступления, я увидел следующую картину: окно дома, где было совершено убийство, оказалось вырванным вместе с рамой. Убитые лежали на полу между «полатями» и печкой и названным окном, через которое, по-видимому, проникли убийцы. Одна из убитых, — жена фельдшера, лежала лицом вниз, и была лишена жизни путем удушения при посредстве красного шерстяного пояса, который носят обыкновенно крестьянки; другая же лежала на трупе первой, лицом вверх, причем на лице покойной зияло несколько ран, происхождение которых могло определить лишь судебно-медицинское вскрытие. Из опроса свидетелей на месте я выяснил, что убийство было совершено с целью грабежа под влиянием слухов о том, что покойная в последнее время сказочно разбогатела, получая от своего мужа, находящегося в Галиции, очень много денег и ценных вещей. Действительно, обстановка дома, где проживала покойная, не была похожа на обстановку обыкновенной, хотя бы зажиточной, крестьянской семьи — стены были украшены прекрасными картинами и дорогими коврами, на комоде оказалось несколько изящных фарфоровых статуэток, которые как бы говорили, что попали сюда по недоразумению, будучи занесены из богатых австрийских домов вихрем алчности, разнузданности и неуважения к чужой собственности, порожденным кровавым кошмаром насилия, именуемого войной, поднявшегося в «завоеванных местах» и пронесшегося затем позже в России свирепым ураганом под лозунгом «грабь награбленное».
Никаких вещественных доказательств, которые могли бы хоть немного приподнять таинственную завесу над только что разыгравшейся драмой, обнаружено не было. Перечитывая старые письма, оказавшиеся в одном из ящиков в доме покойной, я натолкнулся на письмо, полученное покойной от мужа из Львова и датированное 7-м апреля, которое остановило мое внимание и очень заинтересовало. В этом письме корреспондент жаловался на душевную тяжесть и постоянный гнет и тревогу под влиянием виденного им сна. Ему снилось, что во дворе его дома стоят два фоба, а в саду, где его брат копал колодец, находился третий гроб. В первом фобу лежала его жена, а во втором ее двоюродная сестра. Очертания третьего фоба ему долго не были ясны. Лишь только тогда, когда брат его вырыл колодец, и «потекла чистая, светлая вода», перед ним с ясностью выяснились очертания третьего фоба. Гроб этот был черного цвета в противоположность первым двум белым фобам. В гробу этом лежал молодой человек, ему совершенно незнакомый.
Прочтя это письмо, я был поражен. Как мог присниться такой страшный, такой вещий сон за 20 дней до убийства? Где разгадка этому? Скажу вперед, разгадки этой я не нашел и впоследствии. Сон с поразительной точностью предсказал первую часть драмы — смерть двух покоившихся в белых гробах. Кто же тот, кому готовила судьба «вечное упокоение» в черном гробу? Фантазия моя подсказывала мне, что третий гроб, черный гроб должен принадлежать тому, на руках кого кровь погибших. Внутренний голос шептал мне, что убийца будет найден, и так как дела об убийствах, ввиду войны в той местности, где происходило описываемое, подсудны были военным судам, то преступник будет казнен и таким образом исполнится предсказание сна и по поводу финала этой драмы. Действительно, сон исполнится и во второй части, но несколько иначе, чем я предполагал, иначе, чем диктовала мне моя «логика», если, конечно, допустимо вообще говорить о логике в подобных вещах. Однако не буду забегать вперед.
Прошло дня три. Следствие не подвинулось ни на йоту. Убийца оставался необнаруженным. Все попытки мои напасть на след преступника оказывались тщетными. Он не оставил никакого следа. Пробовал я допрашивать одного из свидетелей убийства — 3-летнего сына покойной (другому ее ребенку было всего лишь несколько месяцев), но из этого ничего не вышло. Испуганный мальчик, к тому же плохо развитый, едва говорил, и я ничего от него не добился.
Наконец, на третий день после убийства у меня мелькнула надежда. Мне доложили, что на полицейском дознании, при допросе по моему распоряжению урядником одного из арестантов, работавших на казенных работах в имении графа Бобринского, вблизи которого находились названные хутора, где было совершено убийство, арестант этот показал, что дня за два до убийства к нему приходил его знакомый, местный парень, Николай Оберемок, работавший на кирпичном заводе, и выражался так: «Ах, жаль, брат Ванька, что ты в тюрьме, а то мы наделали б с тобою хороших дел». Оберемок был взят сейчас же под негласный надзор полиции и вскоре было замечено, что он несколько раз заходил в казармы, где помещались арестанты, и о чем-то разговаривал с Ванькой. Будучи спрошен по поводу этих посещений, Ванька сознался, что Оберемок приходил к нему и спрашивал совета, как бы ему «спастись от собаки-ищейки», о прибытии которой носился в деревне слух, причем Ванька, прося вознагаждение в сумме 25 рублей, обещал вывести Оберемка «на свежую воду». Получив обещание об вознаграждении, Ванька заявил, что в три часа дня у него будет совещание с Оберемком в экономической бане. В назначенное время урядник с двумя понятыми, пробравшись в баню и спрятавшись под полками, стали ожидать Оберемка и Ваньку. Действительно, вскоре после этого в баню явился сначала Ванька, а за ним Оберемок, и между ними произошел такой разговор: «Ну, что, принес то, что обещал?», — спросил Оберемок. «Да, — ответил Ванька, — но я боюсь, что это для тебя будет очень дорого, стоит- 1 руб. 20 коп.» «Ничего, — ответил первый, — я готов заплатить и 3 руб., лишь бы помогло против этой проклятой собаки, а то пропадешь.» — «Ну, хорошо, рассказывай, как и с кем ты убивал, а я буду тебя мазать. Эта мазь, ежели ею вымазаться, отбивает нюх у собаки». После этих слов Оберемок, совершенно успокоившись, нисколько не стесняясь, нарисовал своему «другу» полную картину убийства, назвав своих двух соучастников.
На вопрос же Ваньки, где его одежда, в которой он совершил убийство, Оберемок сказал, что таковая находится в доме его матери.
После того, как Оберемок и Ванька покинули баню, последний был немедленно арестован. При производстве обыска в доме его матери была найдена его одежда со следами крови.
Однако Оберемок, не допуская мысли, что он может быть предан своим приятелем, ни за что не хотел сознаваться, ломался, и, приняв вызывающий тон, стал кричать и браниться. Смирился же он лишь только тогда, когда ему задали вопрос, почему у него вся одежда и даже тело покрыты большими жирными пятнами. По-видимому, он догадался, что мазь «против собаки», изобретенная Ванькой — есть средство, к которому тот прибег, передавая его в руки полиции.
Когда Оберемок был приведен ко мне, я задал ему вопрос о виновности, но он ответил, что невиновен и арестован «фараонами» (так назвал он полицию) «безвинно», причем он выразил уверенность, что я, как «гуманная судейская власть», разберу его дело и немедленно освобожу его из-под стражи, так как для него, как для человека, собирающегося вступить добровольцем в ряды войск, «борющихся за мир всего мира», самая мысль о том, что он может обвиняться в убийстве беззащитных женщин и притом с целью грабежа, прямо таки оскорбительна. Оберемок говорил таким убедительным, искренним, спокойным тоном, так ясно и открыто смотрел мне в глаза, что если бы я не знал обстоятельств дела, то, пожалуй, поверил бы в его невинность.
Видя, что его красноречие на меня не действует, он вдруг замолчал и опустил голову, затем быстро ее поднял, и, видимо, решившись, произнес со злобой: «А, вот как, крови моей захотели, нате, пейте ее. Развяжите мне руки. Я буду говорить». Когда по моему приказанию ему развязали руки, он быстро направился к столу, за которым сидел я с приставом, и подойдя к последнему, произнес: «Рубите мне голову, я убил ее». Затем Оберемок сознался во всем, подробно нарисовал мне картину убийства, сказал, что убийство он совершил вместе с Иваном Пьяных и Николаем Гулей, жителями соседнего села Б… Говоря, Оберемок все время посмеивался и с таким цинизмом расписывал мучения, которым он подвергал своих жертв, что мне просто стало противно, и к концу допроса я его возненавидел. Вспоминая теперь иногда громадную фигуру Оберемка, его медвежьи лапы, его цинизм и смех, я начинаю понимать, откуда берутся у Дзержинского кадры его палачей. Очевидно, убийство — это их потребность.
По его словам, дело было так. Сговорившись на преступление, он вместе с Иваном Пьяных и Николаем Гулей отправился ночью в указанное время к дому покойной. Ночь была ветреная, темная, глухая. Дишь жалобно скрипели деревья в саду от ветра. Подойдя к хате, соучастники заколебались. Кто первый войдет в хату? Тогда Оберемок, чтобы пресечь нерешительность своих товарищей, ударил находившейся у него в руках железной палкой в стекла окна, разбил его и, быстро захватив рукояткой этой палки перекладину рамы, вырвал с места, а затем так же быстро вскочил в хату. За ним последовали его соучастники. Несмотря на поднятый ими шум, звон разбитого стекла и треск попавших под ноги молочных кувшинов, стоявших у окна, в хате оставалось все спокойно. Очевидно, люди, находившиеся в хате, потеряли от страха способность кричать и даже встать со своего места. Женщина спала на печке, а девочка на полатях. Подойдя к первой и заставя ее встать, преступники, обвязав ей шею ее же красным поясом, стали водить свою жертву по хате, состоявшей из двух комнат, требуя, чтобы она показала спрятанные ею ценности и деньги. Женщина повиновалась, но, славно окаменев, молчала, тупо наблюдала за происшедшим. Не добившись от нее ничего, несмотря на причиняемые побои, преступники, озлобленные «ее упрямством», повалили ее на пол, и Оберемок стал топтать ее пальцы своими ногами, обутыми в подкованные железом сапоги. Не выдержав этой картины, Гуля вылез из хаты, сказав товарищам, что он будет стеречь у окна. В то время, когда Оберемок мучил женщину, она тихо сказала: «Коля, тебе не стыдно?». Эти слова решили ее участь. Преступники поняли, что женщина знает их, а потому тут же решили «покончить с ней». Пьяных взял один конец пояса, завязанного на шее их жертвы, а Оберемок другой, и, потянув их, они без труда задушили ее. Все это происходило при свете, так как преступники, разыскивая деньги, зажгли лампу, на глазах 11-летней девочки, которая, взяв на руки грудного ребенка и закутав его, смотрела на все происходящее широкими, полными ужаса глазами. «Любопытно было видеть, как эта девчонка смотрела на нас, глаза у ней стали, как у совы, круглые, прямо смех», — говорил Оберемок. Когда была убита женщина, Оберемок подошел к девочке. Он приказал ей положить ребенка и снять платок, и когда она все это покорно исполнила, Оберемок схватил ее руками за шею и стал душить. «Да разве ее задушишь», — говорил Оберемок, смеясь, — «шея у нее тоненькая, как у цыпленка. Тогда я взял ее за ноги и ударил о пол головой. Я думал, ну, теперь конец. Однако, между прочим, можете себе представить, Ваше Благородие, девчонка-то не сдохла — она шевелилась. И померла лишь только тогда, когда я стал топтать ее голову ногами…»
Все было кончено. Оставаться в хате не было нужды. Нужно было уходить. И вот, когда убийцы собрались вылезти в окно, они заметили, что на печке, где спала покойная, что-то шевелится. Оказалось, что это 3-летний сын покойной поднял голову и смотрит. Очевидно, несчастный мальчик видел все. Оберемок предложил убить и ребенка, но Пьяных, проявляя почему-то великодушие, сказал: «Черт с ним». После этого убийцы, выйдя через окно, скрылись в ночной темноте. Когда они подходили к своей деревне, Пьяных заметил, что Оберемок несет взятые в хате убитых ножницы и топорик. Он велел ему бросить эти вещи, а также и железную его палку в озеро. Впоследствии, при дальнейшем ведении предварительного следствия, вода из озера была выпущена, и вещи эти были оттуда извлечены и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.
При судебно-медицинском вскрытии трупов оказалось, что все лицо убитой девочки изрешетено каким-то острым орудием — были пробиты хряши носа, выколоты глаза и т. д.
Допрошенный по этому поводу Оберемок объяснил, что он «для смеха» после смерти девочки «долбил» ее лицо своей железной палкой.
Допросив Оберемка и препроводив его в тюрьму, я отправился в деревню Б… с целью ареста Пьяных и Гули и для производства в их домах обысков. Пьяных дома не оказалось, он отправился вместе со своей сожительницей в церковь. Произведенный в его доме обыск не дал никакого результата. В то время, когда я производил в доме Пьяных обыск, туда привели задержанного Гулю.
Сначала Гуля отрицал свое участие в убийстве и утверждал, что в ночь убийства он был у своей знакомой «девки». Когда же я приказал пригласить эту «девку», Гуля страшно заволновался, стал просить не беспокоить ее и все обешал рассказать. Очевидно, ему было стыдно смотреть в глаза своей невесте. После этого Гуля не стал больше запираться и чистосердечно рассказал все о своем участии в убийстве, причем, рассказ его вполне совпадал с рассказом Оберемка. Гуля держался скромно и спокойно. Окончив свое показание, которое, по-видимому, самого его очень волновало, Гуля, как бы в изнеможении, опустился на землю и поник головой в тяжелом раздумьи, с полной покорностью своей судьбе. После допроса Гули все случайные слушатели его рассказа разошлись, и возле хаты Пьяных остался я, полицейский пристав, переодетый стражник Шумило и почтенный старик с лицом святого — местный староста. Я сидел за столом возле хаты и записывал показание Гули. Вдруг у меня явился вопрос, который я выпустил из виду при допросе, вопрос о деньгах, взятых у убитой. Я задал этот вопрос Гуле. Он ответил, что денег они не нашли. И когда я высказал предположение, что деньги, может быть, спрятаны у «девки» и выразил намерение пригласить ее для допроса, Гуля снова заволновался и, вскочив на ноги, бросился бежать по свежевспаханному огороду к улице с очевидным намерением скрыться. В этот момент что-то словно застлало мое сознание, я забыл, что я следователь, что не моя обязанность ловить преступников. Единственное чувство, владевшее мною в тот миг, это упорное желание не упустить преступника. Мало отдавая себе отчет в том, что я делаю, я бросился вместе с приставом и стражником Шумило в погоню за убегавшим. Я бежал в середине и видел, что пристав, с бледным лицом, на ходу сбрасывает свое пальто, мешавшее его бегу, в то время как Шумило тшетно старается выташить из кармана своих брюк запутавшийся в шнуре «наган». Почти не сознавая, что я делаю, я выхватил находившийся у меня в кармане «браунинг» и произвел в убегавшего выстрел. Судя по поднявшейся пыли, пуля ударила в землю впереди бегущего. Я выстрелил снова и промахнулся вторично. После второго выстрела Гуля вдруг остановился, повернулся и бегом направился нам навстречу. Мы остановились в напряженно-тревожном ожидании, не зная намерения преступника. Хотел ли он сопротивляться или решил прорвать нашу цепь, чтобы скрыться в садах, мы не знали. Пробежав несколько шагов, Гуля совершенно неожиданно бросился в сторону и, добежав в несколько шагов до колодца, которого мы раньше не заметили, вскочил на его сруб и прыгнул в воду. Это было так неожиданно, что в первую минуту мы остолбенели, но вслед за этим бросились искать багры и веревки. Попытки наши спасти Гулю не увенчались успехом, несмотря даже на выдающуюся храбрость Шумило, который, обвязав себя веревкой, спустился вслед за Гулей и пытался зацепить за его рубаху багром; эти попытки ни к чему не привели, так как Гуля отрывал руками крючок багра от своей рубахи и снова погружался в воду. Минут через десять его, однако, вытащили, но вытащили уже труп. Сон исполнился и во второй части. Третий фоб, черный фоб был фоб преступника.
В тот момент, когда вытащили труп Гули, к колодцу, пробираясь через густую толпу собравшихся в одну минуту сельчан, подбежал со страшным криком его отец. Увидя мертвого сына, он сначала бросился к его трупу, а затем ко мне и приставу. «Разве так можно, господа начальство, — кричал он, — запугали ни в чем не повинное дитя, вот он и утопился от страха. Кто теперь мне за него заплатит». Появление старика, его безумный вид, его отчаяние, его неистовые крики ударили по нервам толпы. Она была на стороне Гули-отца. Я слышал в толпе негодующие возгласы, я видел суровые лица, со злобой смотревшие на нас. Кольцо народа, в котором мы очутились, все более и более сжималось. Наше положение с каждой секундой становилось страшней и опасней. Пристав, обыкновенно очень хвастливый, властный крикун и «мордобой», стоял весь бледный, опустив глаза. Тогда я как-то неожиданно очутился спасителем положения. Нервы мои были приподняты донельзя, я был зол на убийц, меня возмущала толпа — как может она так быстро забыть злодеяние, неужели она идейно с убийцами, в ней даже нет чувства самосохранения и полное равнодушие к погибшим. Разнообразие всех этих мыслей и чувств заставило меня действовать, сознаюсь, почти бессознательно. Я закричал во всю силу своих легких: «Молчать! Староста, иди сюда. Скажи им, — сказал я как можно громче, — ты ведь был свидетелем того, как сознавался Гуля.» Староста вышел медленно из толпы и, спокойно поглаживая свою седую бороду, обратился к старику Гуле: «Нет, Корнеич, ты это напрасно. Греха нечего таить, сынка твоего никто не пугал. Он сам все рассказал чистосердечно». И староста, не торопясь, стал передавать содержание показания Гули, рисуя своим корявым языком картину убийства и страдания погибших. Его спокойный тон, которым велся рассказ, его речь, столь понятная толпе, слушавшей с напряженным вниманием, сразу повернула ее настроение. Как только он смолк, толпа загудела, послышались возгласы: «Ну, и люди пошли, звери. Женшин убивает, а ты им и слова не скажи. Собаке собачья смерть. Да что вы молчите, кидайте и батьку в колодец. Яблоко от яблони не далеко падает».
Я победил. Путь был свободен. Теперь толпа почтительно расступалась перед нами. Я прошел на улицу к своему экипажу. Там меня ждала радость: привезли третьего и последнего виновника преступления — Пьяных.
Следствие было поставлено на рельсы. Главное было сделано. Оставались лишь детали.
Заканчивая свой рассказ, я скажу несколько слов о Пьяных. Пьяных, единственный из трех преступников, уже судился ранее и был лишен за разбой прав состояния. Отбыв наказание за разбой и судившись ранее несколько раз за кражи, он, сойдясь с теперешней своей сожительницей, жил в течение 5 лет как честный человек, был очень трудолюбив и пользовался среди своих односельчан хорошей репутацией.
Любопытно, что этот человек, совершивший столь жестокое убийство, при расставании со своей сожительницей, когда его отправляли в тюрьму, проявил такие трогательные чувства привязанности и глубокой любви, которые предполагать в нем было никак нельзя. Он плакал навзрыд, как ребенок, целовал любимую женщину, и его с трудом оторвали от нее. Все время он просил у нее прошение за то, что заставляет ее страдать и благодаря своему преступлению оставляет ее одну.
Странная судьба и этой женщины: отец ее и два первых мужа были судимы и сосланы в каторжные работы за убийство.
Воспоминания Н.Плешко из сборника «Архив русской революции».
Т. 9. Берлин, 1923.
10. Люди петли[19]
Секта тугов существовала в Индии несколько веков и только в 1810 году была, наконец, открыта. Сектанты знали друг друга под именем Фансигаров, то есть «людей петли» Название «туг», говорят, происходит от «тага» — обманывать, так как туги овладевали своею жертвой, заманив ее ложной безопасностью. Общий способ заманивать молодых людей, имеющих при себе значительные ценности, это — поставить у дороги молодую и красивую женщину, по-видимому, в глубоком горе; рассказом о мнимом несчастье она завлекает его в заросли, где туги сидят в засаде, и при его появлении мгновенно душат его Шайки тугов бывают от десяти и до пятидесяти человек; они сопровождают или следят за предполагаемою жертвой по целым дням и ни за что не сделают попытки убийства, пока не представится случай со всякой возможностью на успех. После каждого убийства они совершают религиозный обряд, называемый иагми, и раздел добычи определяется давно учрежденными законами — кто бросил платок, тот получает большую долю; кто держал за руки, следующую по размеру и так далее. В некоторых шайках имущество нераздельно. Злодеяния совершаются в честь Кали, ненавидящей человеческий род, которой смерть человека — приятное жертвоприношение.
Кали, или Бовани, — она одинаково известна под тем и другим именем, — родилась, по индийской легенде, от горящего глаза на лбу у Шивы, одного из лиц браминской троицы; Кали вышла из этого глаза, как греческая Минерва из черепа Юпитера, взрослым и совершенным существом. Она олицетворяет злых духов, наслаждается видом человеческой крови, преобладает над мировыми язвами и чумой, направляет бури и ураганы и всегда стремится к разрушению. Она представлена в самом страшном образе, какой могла создать индийская фантазия: лицо у нее лазоревого цвета с желтыми полосами, взгляд свиреп, распущенные, склоченные и щетинистые волосы стоят, как павлиний хвост, и переплетаются зелеными змеями. Багровые губы ее как будто изливают потоки крови; у нее восемь или десять рук, и каждая держит какое-нибудь смертоносное оружие, а порой человеческую голову, с которой сочится запекшаяся кровь. Одной ногой она стоит на человеческом трупе. У нее есть свой храм, где люди приносят ей в жертву петухов и бычков; но ее настоящие жрецы — туги, «Сыны Смерти», утоляющие нескончаемую жажду божественного вампира.
Подобно всем таким сектам, у тугов есть свои предания. Согласно им, Кали сначала решилась истребить весь человеческий род, за исключением, разумеется, своих верных последователей и поклонников. Наученные ею, они убивали всех людей, попадавших в их власть. Жертвы сперва закалывались мечом, и так велико было истребление, производимое поклонниками Клли, что человеческий род пресекся бы совсем, если бы не вмешался Вишну, Охранитель, заставляя пролитую кровь воспроизводить новые живые существа и, таким образом, противодействуя истреблению Кали. Тогда-то эта богиня, чтобы уничтожить доброе намерение Вишну, запретила своим последователям закалывать, но велела душить людей. Собственными руками она слепила человеческую фигуру из глины, своим дыханием вдохнула в нее жизнь и научила поклонявшихся ей убивать, не проливая крови. Она также обешала им, что всегда схоронит тело их жертв и уничтожит всякий след. Далее она наделила своих последователей высшей неустрашимостью и хитростью, дабы победа оставалась за ними при каждом нападении. Она и сдержала свое слово. Но с течением времени вкрались извращенные нравы даже между тугами. Один из них полюбопытствовал узнать, что делает Кали с мертвыми телами, и подстерег ее, когда она только что собиралась унести тело убитого им путешественника. Богинь подкарауливать тайком, однако, нельзя. Бовани увидела любопытного, подошла к нему и сказала: «Ты видел теперь страшное лицо богини, которого никто созерцать не может, оставаясь в живых. Но я пощажу твою жизнь, хотя в наказание за твой проступок не стану более охранять тебя, как до сих пор, и наказание это распространится на всех твоих братьев. Тела убитых вами уже не будут схоронены и сокрыты мною; вы сами должны принять необходимые для того меры, и не всегда успех будет на вашей стороне, порой и вы сделаетесь жертвой нечестивых законов света, что и должно быть вашей вечной карой. У вас ничего не останется, кроме дарованных мной знаний и высшего ума; управлять же вами я буду отныне только через предзнаменования, которые изучайте тщательно». Отсюда происходит суеверное значение, придаваемое предвещаниям. Туги усматривают их в полете птиц, в шакалах; они бросают топор, и как он упадет, так и направляют путь. Если какое-нибудь животное перебежит им дорогу с левой стороны на правую при самом выходе, это считается дурным предзнаменованием, и экспедицию откладывают на тот день.
Странно, что в искаженных преданиях тугов, убийц и грабителей, мы встречаем сперва древнюю идею о самопроизвольном рождении добра и зла; далее встречаем прототип прекрасной басни о Купидоне и Психее, и Моисеев отчет о грехопадении, и, наконец, в-третьих, выражение невозможности обнять, — так как «созерцать» имеет в легенде этот смысл, — Всемирный Разум.
Для приема в эту ужасную секту требовался продолжительный и строгий искус, во время которого ученик должен был дать самые убедительные доказательства в том, что соответствует всем условиям. Когда решен был этот вопрос, поручитель вел кандидата к мистическому крещению, облаченного в белую одежду с венком из цветов на голове. По окончании приготовленного обряда поручитель приводил его к гуру, или духовному главе секты, который, в свою очередь, вел его в комнату, назначенную для подобных церемоний, где его ждали гиемадеры, или начальники разных шаек. На вопрос, хотят ли принять в общину новичка, они отвечали утвердительно, и затем его и гуру выводили на открытый воздух, начальники становились около них в круг, и все преклоняли колени для молитвы. Вскоре опять поднимался гуру и, воздев руки к небу, произносил: «О, Бовани! Мать мира (очень неподходящее название, когда она уничтожает его), которую мы обожаем, прими этого нового слугу, даруй ему свое покровительство, а нам знак, по которому мы удостоверимся в твоем согласии». Они оставались неподвижны, пока не пролетит птица или не промчится четвероногое животное, или даже просто не пронесется облачко, чтобы удостоверить их в согласии богини: тогда же они возвращались в комнату, где неофита приглашали участвовать в банкете, уже накрытом ддя этого случая; им и кончался обряд. Вновь принятый член секты назывался тогда Сагиб-Зада. Он начинал свое позорное поприще как люггах, или могильщик, не то как белхал, или исследователь мест, наиболее подходящих для совершения замышляемых убийств, или бхиль. В этой должности он оставался много лет, пока не даст бесчисленные доказательства в своем искусстве и рвении. Тут его повышали в степень бхуттотаха, или душителя; но это повышение сопряжено с новыми формальностями и обрядами. Вдень, назначенный для церемонии, гуру вводил кандидата в круг, начерченный на песке и окруженный таинственными иероглифами, где они молились своему божеству. Этот обряд должен длиться четыре дня. во время которых кандидат питается одним молоком. Он упражняется в заклании жертв, привязанных к кресту, вкопанному в землю. На пятый день жрец вручает ему роковую петлю, омытую в святой воде и смазанную маслом, после чего совершаются еще несколько религиозных обрядов и кандидата объявляют совершенным бхугтотахом. Он обязывается страшной клятвой хранить молчание на счет всего, что касается общества, и трудиться неустанно над истреблением человеческого рода. Он жертвоприноситель, и то лицо, которое встретится ему, поставленное на его пути богиней Бовани, делается жертвой. Но есть лица, которые не подвергаются нападениям ту-гов. Иерофант (жрец), посвяшая кандидата, говорит ему: «Ты избрал, мой сын, самую древнюю профессию, самую угодную божеству. Ты поклялся умертвить каждое человеческое существо, которое судьба приведет в твои руки; есть, однако, лица, которые не подвергаются нашему закону, и смерть которых не будет приятна нашему божеству». Эти лица принадлежат к некоторым особенным племенам и кастам, которые затем перечисляются иерофантом; исключены косые, хромые и вообще уроды; также прачки, но почему, трудно определить; и так как Кали предполагалось в сообщничестве с убийцами, то женщины были ограждены от них, но только тогда, когда путешествовали одни без мужчины-покровителя; правоверные туги производят вырождение тугизма от первого убийства женщины некоторыми членами общества, после которого это вошло в обыкновение.
У тугов были свои святые и мученики; Тора и Кудулль, самые знаменитые из них, призываются в молитвах последователями Бовани. Как поклонники божества, наслаждающегося кровью, приговоренные к смерти английским законом приносят богине в жертву свою собственную жизнь с такою же готовностью, с какой они отнимали ее у других. Они идут к смерти с равнодушием, вернее, с восторгом, твердо веруя, что попадут прямо в рай. Они просят об одной милости — чтобы их задушили или повесили, они питают глубокий ужас к мечу и пролитию крови; как они убивали веревкой, так и желают умереть через нее.
Когда общество было впервые открыто, многие верить не хотели его существованию; однако с течением времени доказательства сделались так явны, что нельзя было долее закрывать глаза, и английское правительство приняло решительные меры для уничтожения тугов. Преступления, совершенные некоторыми, превосходили всякое вероятие. Один туг, повешенный в Лукнове в 1825 году, был уличен законом в удушении шестисот человек. Другой туг, восьмидесятилетний старей, сознался в девятистах девяноста девяти убийствах и заявил, что одно уважение к профессии не допустило его довести их до полной тысячи, так как круглое число считается между ними отчасти пошлым. Несмотря на энергичные меры со стороны Великобритании, общество не могли уничтожить вполне; это — религиозная секта и в силу того более живуча, чем всякое другое политическое или просто преступное товарищество. Она существовала еще немного лет назад и, без сомнения, имеет своих последователей и в настоящее время. Она всегда пользовалась покровительством некоторых туземных правителей, деливших с нею добычу, что и теперь может быть. Секта имеет храм в Мирзапуре на Ганге.
Туг, во время индийского возмущения[20] сделавшийся доносчиком, сознался в удушении трех женщин и приблизительно ста мужчин. Между тем, это был человек очень приятной наружности и любезного обращения; только когда он говорил о своих кровавых деяних, то приходил в восторг старого воина, вспоминающего свои геройские подвиги, и все инстинкты тигра как будто пробуждались в нем заново. Несмотря на все это, он, однако, выдал правительству около двухсот старых товарищей, которые и были повешены.
Ч.В. Гекертон. Тайные общества всех веков и всех стран. В 2-хч. СПб., 1876.
11. Ритуальные убийства в Европе и России в XVII — XIX в.в
Важное значение крови для жизни было несомненно известно человеку уже в самые древние времена: слишком часто и достаточно убедительно говорили ему об этом явления, наблюдаемые на охоте и при убое. Да и сам человек испытывает слабость при большой потере крови, а в случае еще более обильного кровотечения наступает смерть.
Это сознание важного значения крови привело, во-первых, к кровавым жертвам (наиболее угодная жертва — живое существо), в частности — к человеческим жертвоприношениям; во-вторых — к некоторым символическим действиям; в-третьих, — к убеждению, что кровь животного, в особенности же человеческая, обладает способностью оказывать исключительное действие. В связи с этим убеждением находится другое: человеческое тело, даже мертвое, и в отдельных частях его, особенно тело умершего насильственной смертью, т. е. убитого и самоубийцы, далее — тело безгрешного существа, т. е. тело маленького, пребывающего в утробе матери, ребенка, и тело девушки обладают чудодейственной силой. В дальнейшем чудесные свойства переносятся на орудия смерти — на кинжал и меч, особенно, если они обагрены кровью.
До каких выводов, грубо противоречащих и здравому рассудку, и нашему чувству приличия, доводили такие воззрения, можно судить, ознакомившись с трудами историков и данными судебных разбирательств трех прошедших столетий.
В XVII веке венгерская графиня Елизавета (Батори) (ум. в 1614 г.), чтобы нравиться своему супругу, необычайно наряжалась и полдня проводила за своим туалетом. «Однажды, — рассказывает венгерский историк Туроци, — одна из камеристок, причесывая голову своей госпожи, в чем-то провинилась и за свою ошибку получила такую сильную пощечину, что кровь брызнула в лицо повелительницы. Когда графиня вытерла кровь со своего лица, ей показалось, что кожа на этом месте стала гораздо красивее, белее и тоньше. Она тотчас решила мыть лицо, да и все тело, в человеческой крови, чтобы увеличить свою красоту и привлекательность. О своем ужасном предприятии она сообщила двум старухам, которые ее вполне одобрили и обещали помогать ей в этом жестоком деле. В эту кровожадную компанию был включен и некий Фицко, воспитанник графини. Этот негодяй убивал несчастных жертв, а старухи собирали кровь в корыто, в котором обычно в четыре часа утра купалась их госпожа. После ванны она всегда казалась себе похорошевшей. Поэтому она продолжала свое ужасное занятие и после смерти мужа, умершего в 1604 году, чтобы привлекать новых поклонников и любовников. Несчастных девушек, которых старухи завлекали в дом Елизаветы под предлогом найма, тем или другим способом заманивали в погреб. Здесь их хватали и били до тех пор, пока тело не вспухало. Елизавета часто мучила несчастных сама, нередко она меняла пропитанное кровью платье и снова принималась за жестокое дело. Вспухшее тело несчастной девушки затем вскрывалось бритвой. Нередко чудовищная женщина приказывала сначала жечь девушек, а потом снимать с них кожу; большинство же забивалось до смерти. Тех из своих пособников, которые не хотели ей помогать при избиениях, она била самих; наоборот, она богато награждала тех женшин, которые приводили ей девушек и оказывались деятельными помощницами при совершаемых ею жестокостях. Она занималась и колдовством и имела собственное волшебное зеркало в виде кренделя, перед которым часами молилась. В конце концов, ее жестокость дошла до того, что она щипала и колола иголками своих слуг, например, девушек, ехавших с нею в экипаже. Одну из своих служанок она приказала раздеть и вымазать медом, чтобы ее заели мухи. Когда она заболела и не могла предаваться своим обычным жестокостям, она велела одному лицу подойти к своей кровати и начала его кусать, как дикий зверь. Описанным выше способом она умертвила до 650 девушек частью в Чеите, Неутраунского округа, где у нее был специально приспособленный для этого погреб, частью в других местах, потому что убийства и пролитие крови сдедались для нее потребностью. Наконец, стало казаться подозрительным, что исчезло столько девушек из окрестных местностей, попадая в замок, куда их приглашали для услужения или для продолжения образования; родители на свои расспросы никогда не получали удовлетворительных ответов; от них отделывались двусмысленными отговорками. Наконец, подкупив дворню, удалось установить, что пропавшие девушки входили здоровыми в погреб, но оттуда уже никогда не возвращались. Об этом деле донесли и двору, и тогдашнему палатину Турцо. Палатин велел захватить замок, произвести самое тщательное расследование, которое и раскрыло ужасные убийства. Чудовише за свои злодеяния было приговорено к вечному заключению, а ее соучастники казнены».
Сюда же можно отнести также известный рассказ Е.Т.Хоффмана (1822 г.), в основе которого лежит случай из судебной практики, достоверность которого подтверждается документально. В Неаполе жил старик-доктор, имевший от нескольких жен детей, которых он с особенными приготовлениями и особенною торжественностью безжалостно убивал, вскрывая грудь и вынимая сердце, из крови которого приготовляет великолепные, исцеляющие все болезни капли.
У Нургалия Ахметова из дер. Старый Салман Казанской губ. после удара отнялась правая рука и стала постоянно дрожать голова. Так как он слышал, что выздоровеет, если съест человеческое сердце, то с помощью отца он убил шестилетнюю девочку, вырезал ее сердце и съел его.
В 1861 г. был казнен некий Белленот из Бернской Юры за убийство женщины, известной под названием докторши, так как она продавала лекарственные травы своего сбора; на допросе он сознался, что убил ее, чтобы выпить ее крови и таким образом вылечиться от болезни (эпилепсии), которой страдал.

До нашего времени сохранились свидетельства о ритуальных убийствах при поисках кладов. Так, в 1783 г. шайка мошенников, состоявшая из альтонского еврея Мейера Зюдгейма, некоего Фрейдентейля, одноглазого малого, которого звали патером Флюгге, и некоего Монфорта или Музуперта, орудием которому служила одураченная ими 65-летняя Людерс, выманила у необразованной и взбалмошной тридцатипятилетней Нейманн значительные суммы под предлогом, что деньги нужны на розыски закопанного в Оттензене клада графа Шаумбурга. Несколько раз Нейманн передавала деньги непосредственно; затем она находила у себя в квартире таинственным путем попадавшие туда записки, в которых требовалось, чтобы она к точно назначенному часу приготовила в комнате определенные суммы денег, иногда также кушанья; все заготовленное ею исчезало самым загадочным образом. Когда она раз из любопытства захотела подкараулить своих таинственных посетителей, то получила такую пощечину, что упала без сознания. Несколько раз в записках выставлялось требование: «чтобы в жертву кладу была принесена девушка — еврейская или еще лучше католическая; потому что, если это не будет сделано, 15 человек погибнут на этом деле, а старая Людерс и мастер (Борхерс) будут разнесены в куски». Попытка убить католическую девушку Марию Иоганну Сардах не удалась. Тогда появилась новая записка с указанием, «что клада нельзя добыть иначе, как кровью, потому что он запечатан кровью. Также необходимо убить молодого еврея, при котором было бы ценных вещей на 83 марки, и эти 83 марки надо принести в жертву». Вследствие этого Иоганн Юрген Борхерс, которому незадолго перед этим было сообщено о зарытом сокровище, задушил 13 окт. 1783 г. вместе со своей падчерицей и Людерс молодого еврея, разносчика Реннера, которого Людерс зазвала к Борхерсу. Из 110 марок, полученных под залог вещей убитого, 83 марки, по распоряжению, переданному запиской, были положены на крыльцо перед квартирой и исчезли, как и прежние приношения. Несколько дней после убийства новая записка потребовала, во-первых, платье убитого еврея, а во-вторых, чтобы нагрудник (так называемое малое молитвенное покрывало, или малый таллес), который евреи носят прямо на теле, был сожжен в виде жертвы. И это приказание было исполнено. Сейчас же после своего ареста Борхерс перерезал себе горло и умер; обе же женщины, из которых Людерс, несомненно, принадлежала главная роль, были колесованы сверху вниз, и их головы выставлены на кольях. Для негодяев, конечно, важны были только деньги и ценные вещи. Подговорить свои жертвы к убийству только ради грабежа им вряд ли удалось бы. Поэтому они построили свои планы на уже испытанной слабости Нейманн к суевериям. Нейманн была протестанткой, поэтому кровь еврея не могла считать особенною жидкостью, а тем более кровь католика, которых в Гамбурге тогда было очень мало.
Утром 14 апреля 1892 года недалеко от крепостного вала Семендрии на Дунае был найден труп артиллерийского унтер-офицера Ильи Константиновича. Он лежал совершенно обнаженный на одеяле с вырезанной глоткой, с вырванным из груди сердцем. Вскоре убийца сам заявил о себе властям; он оказался артиллеристом Василием Радуловичем, приятелем убитого. Он показал, что Илья пришел к нему ночью и рассказал, что уже пять ночей ему снится, что в определенном месте за крепостной стеной зарыт большой клад, но, чтобы добыть его, он должен пожертвовать на короткий срок своей жизнью. Илья попросил его пойти вместе с ним, взял с собой одеяло, и когда они пришли в назначенное место, он попросил своего приятеля убить его ударом ножа, вырезать ему глотку, вынуть сердце из груди и затем окропить кровью этих частей тела место, которое он ему укажет; затем Василий должен поспешно раскопать это место, и там он найдет железную палочку и бутылку водки — палочкой он должен дважды провести по мертвому телу, вставить вновь глотку и сердце и раненные места полить водкой; тогда он, Илья, опять оживет и будет иметь власть достать клад, который сделает их богатейшими людьми на земле. Отдав эти распоряжения, Илья разделся и лег на одеяло. После некоторого колебания Василий убил Илью ударом ножа в горло, причем тот не защищался, а только скрежетал от боли зубами. Затем Василий с трудом вырезал горло и сердце Ильи; убийца копал до рассвета, но ни палочки, ни бутылки не нашлось. Когда он отчаялся добиться результатов, он вставил убитому горло и сердце и тайком, никем не замеченный, вернулся в казармы. Следствие выяснило, что Василий говорил правду. Илья рассказывал нескольким товарищам о своем сне и о намерении достать клад, принеся себя в жертву, а на трупе не было найдено никаких следов сопротивления.

Жертва Ильи являлась как бы искупительной и очистительной жертвой духу земли, хранителю кладов.
В XVII–XIX веках в своих ночных похождениях воры, по поверью, добивались необычайных успехов при помощи сердца новорожденного или невинного ребенка или его крови, или же посредством вырезанных из материнской утробы детей. Это суеверие было причиной нескольких убийств невинных детей или женщин, готовящихся стать матерями. Следующие факты, выбранные из следственных актов, могут служить для освещения и объяснения суеверия, до сих пор еще живущего в народе… Когда после Тридцатилетней войны люди одичали, на Нижнем Рейне бродило много воровских шаек. 7 октября 1645 г. Генрих Еркеленц, бедный крестьянин, женатый меньше года, шел из своего одиноко стоявшего жилья в Ангермунд, чтобы купить там масла и еще кое-какие мелочи. В лесу на него напали два разбойника. «Я беден, — сказал он, — моя жена скоро родит, и я должен купить для нее самое необходимое». Разбойники… сказали: «Ты получишь обратно свои деньги и еще 100 гульденов, но за это ты должен привести нам свою жену…» После некоторого колебания одичалый крестьянин соглашается на сделку. Он рассказывает жене, что он продал свой домишко за 100 гульденов и, когда она начинает упрекать его за это, заманивает ее в лес под предлогом, что он там откажется от продажи. Женщине делается страшно, но она идет с ним, тайно попросив своего брата следовать за ней. Еркеленц с одним разбойником подходит к ней, а другой стоит, прислонившись к дереву. Разбойник подает тяжелый кошелек; ее муж хватает его и отбегает с ним в сторону, а несчастную жертву увлекают сильные руки разбойника. Она кричит, она вырывается, но всякое сопротивление тщетно. Ее привязывают к дереву, предварительно заткнув рот, раздевают ее, и старший разбойник вытаскивает большой острый нож, чтобы вскрыть ей живот. Вдруг раздается выстрел, и один из разбойников, которому пуля попала прямо в сердце, падает, обливаясь кровью. Другого разбойника брат женщины валит на землю, связывает и отводит в Ангермунд. По судебному приговору 12 октября разбойнику сперва рвали тело раскаленными щипцами, а потом заживо колесовали снизу вверх перед Ритингерскими воротами в Дюссельдорфе. Еркеленш повесили. Разбойник был присужден к такому тяжелому наказанию, потому что он сознался, что они с товарищем, кроме других преступлений, вырезали из утробы матери двух младенцев и вырвали у них сердечки. Если бы им удалось добыть еще третье сердечко, то они владели бы таким волшебным средством, которому никто не мог бы противостоять; они могли бы по желанию тогда делаться невидимыми и совершать другие дьявольские преступления.

Уже новое время дает нам ужасный пример веры в магическую силу неродившихся еще детей. В середине XVIII столетия в Байрейте был казнен седельщик, который был уверен, что человек сможет летать, если он съест девять экземпляров сердца неродившихся детей. Для этой цели он успел убить восемь беременных женщин, вырезать и съесть еще трепещущие, теплые сердца. Так же печальны и сообщения из Нюрнберга[21] от 1577 и 1601 гг.
У воров и разбойников предохранительным средством считались сердца неродившихся еще детей, сырые, только что вырезанные из утробы матери и тела ребенка; их разрезали на столько кусков, сколько было участников, и каждый из них съедал по куску. Кто таким образом отведал 9 экземпляров сердца, тот мог быть уверенным, что его не поймают, какое бы воровство или другое преступление он ни совершил, а если, вследствие какой-нибудь случайности, он и попал бы в руки своих противников, то мог сделаться невидимым и таким образом снова спастись. Но дети должны были быть мужского пола, девочки не годились для этого. В середине XVII столетия весь Эрмеланд держала в страхе шайка атамана — короля Даниила, как его звали свои, и Кира-дьявола из ада, как его прозвали в народе. Когда разбойники были, наконец, переловлены, они сознались, что уже убили для этой цели 14 беременных женщин, но только в меньшинстве находили детей мужского пола. Существовали не только средства, спасавшие от земного правосудия, но и такие, которые успокаивали совесть. Если кто-нибудь убивал другого, то он должен был только отрезать кусок мяса своей жертвы, поджарить и съесть; тогда он уже никогда не вспоминал о своем преступлении.
В Гольвеге за Вилисгофом у Зюхтельна (Германия) стоит среди густого кустарника крест с надписью: «14 марта 1791 г. здесь от разбойничьей руки погибла жестокой смертью Анна-Маргарита Терпортен в возрасте от 9 до 10 лет». Крест напоминает об убийстве одной маленькой девочки из Зюхтельна, совершенном в конце прошлого столетия. Убийца совершил свое преступление потому, что ему сказали, что всякий, у кого есть сердце невинного ребенка, может безнаказанно красть. Вскоре после того, как нашли труп, преступника изобличили, отрубили ему голову в Юлихе, а его труп подвергли колесованию. Говорят, что ребенка видели в лесу с незнакомым евреем, и так как было вырезано сердце, то решили, что это ритуальное убийство… Три месяца преследовали евреев во всех окрестных местностях, пока нашли настоящего виновника. Один из детей убийцы стал носить шпильку и колечко убитой девочки. Таким образом выяснилось, что убийца — каменщик, работавший поденно обыкновенно в Анрате, но довольно часто работал также и здесь, в Зюхтельне… Он сознался, что совершил убийство по собственному почину, потому что думал, что если у него будет сердце невинного ребенка, то он сможет безнаказанно воровать.
12 декабря 1815 г. на лобном месте в Гейде, в Нордердиткаршском округе, был казнен Клаус Дау за то, что убил троих детей и съел их сердца. Он думал, что, съев сердца семи детей, сделается невидимым.
В ночь под новый год 1864 г. в Эллервальде близ Эльбига была убита Елизавета Церникель… Из ее живота был вырезан кусок мяса 9 дюймов ширины и такой же длины. Долго не находилось никакого следа преступника, пока вечером 16 февраля 1865 г. не был арестован рабочий Готфрид Даллиан из Нейкирха при попытке совершить кражу; при нем нашли странную свечу, состоявшую из довольно жирной массы, с фитилем в середине и заключенной в жестяную трубку. При допросе разбойник во всем откровенно сознался. 31 декабря он задумал только воровство; но громкие крики Церникель о помощи заставили его приглушить ее ударами дубинки… После того, как он все уложил, он вырезал из трупа кусок мяса, который дома поджарил. Из вытопленного человеческого жира, с прибавлением говяжьего сала, он сделал воровскую свечу; оставшиеся же выжарки он съел. 23 июня 1865 г. суд присяжных в Эльбинге приговорил его к смерти. Подвинуло Даллиана на преступление известное ему по рассказам поверье, что приготовленная из жира убитого свеча или лампочка не гаснет ни от какого сквозняка; ее можно погасить только молоком; кто имеет ее при себе, делается невидимым, тогда как все живое кругом погружается в глубокий сон. Таким образом, она охраняет вора во время его работы. А если убийца вырежет кусок мяса из тела своей жертвы, изжарит и съест его, то совесть его будет спокойна, и он никогда не будет вспоминать о своем злодеянии.
Германская пресса сообщает следующее по делу об убийстве, которое совершил рабочий Блифернихт из Заги, представший пред судом присяжных весною 1888 г. в Ольденбурге: «По показанию двух свидетелей Блифернихт был убежден, что тот, кто поест мяса невинной девушки, может делать все, что угодно, и никто не сможет привлечь его к ответственности. Он убил двух девочек шести и семи лет; у одного из трупов было совершенно перерезано горло, вскрыт живот, так что вывалились кишки, легкие и печень. Большой кусок мяса был вырезан из седалищной области, и его нигде нельзя было найти, — оказалось, что изувер съел его».
В России преступники также не отступали и перед убийствами, лишь бы добыть воровские свечи. В апреле 1869 г. Кирилл Джус убил в Вуйковичском лесу Владимир-Волынского уезда мальчика и содрал у него кожу с живота; но шелест листьев тревожил его, и он убежал из леса. В 1881 г. два парня 18–19 лет убили для той же цели крестьянина в Чембарском уезде Пензенской губ. В 1887 г. Ефим Землянин в Белгородском уезде Курской губ. задушил девушку в лесу и приготовил из ее жира свечу: перед этим он и двое его товарищей три раза покушались на такое же преступление, но неудачно. Убийца был обнаружен только семь месяцев спустя; по подозрению в воровстве у него был сделан обыск и найден узел с вареным мясом; платок, в котором оно было завернуто, принадлежал убитой девушке. В 1896 г. двое крестьян Коротоякского уезда Воронежской губ. убили двенадцатилетнего мальчика, чтобы вылить свечу из его жира.
Несколько смягченную форму этого суеверия мы находим в Нижегородской губернии: кто хочет сделаться колдуном, тот должен отрезать палец от левой ноги замужней женщины. Так поступил в начале 80-х годов XIX в. крестьянин Фокин.
Часто очень трудно, а иногда и невозможно установить границу между суеверием и помешательством, тем более, что и то и другое мы встречаем иногда одновременно у одного и того же лица. Но, в общем, можно сказать, что у отдельных лиц суеверные представления возникают под влиянием воспитания, окружающей среды, чтения и только изредка являются уже выводами из действительно случившегося; причиной же безумия, напротив, бывает или наследственное предрасположение или сильное потрясение тела или души (телесные потрясения — падение, поранение, невоздержанная жизнь; душевные — следующие одно за другим несчастия). Живое религиозное чувство, без всякой нечистой примеси, выявляет нам человека как образ и подобие Божие; но, с другой стороны, — а эта сторона для нас здесь только и важна, — когда к нему примешивается суеверие или помешательство, оно может вызвать ужасающие поступки.
Приведем здесь несколько фактов, которые можно охарактеризовать частью как «суеверие у помешанных», частью — как «религиозное помешательство».
В 80-е г. XIX в. один приказчик, 27 лет, страдавший манией преследования, был помещен в больницу для душевнобольных в Кадильяке (Франция), где он успокоился и начал работать. Однажды он, встретив в коридоре слабого, больного старика, раскроил ему железной палкой череп, вынул мозг, часть его съел тотчас же, а остаток спрятал в своей комнате. На расспросы сознался, что это сделал он, и заявил, что не отказывается от своего намерения съесть остальное. Затем пять лет он прожил спокойно; но потом, находясь однажды вместе с врачами в анатомическом театре учреждения и воспользовавшись моментом, когда за ним не наблюдали, он схватил мозг и стал с жадностью пожирать его. Его снова перевели в отделение «буйных» и часто его заставали за тем, что он поедал мозг птиц, которых ловил на дворе. Мания преследования перешла у него в другую манию. Поняв, что он душевнобольной, он решил, что можно вылечиться и обновить свой мозг, съедая мозг других.
Родившаяся в 1794 году дочь крестьянина из Вильдисбуха, Маргарита Петер, с детства склонная к болезненно-религиозной мечтательности, окончательно была сбита с толку мистиком Яковом Ганцем; и 13 марта 1823 г. она вместе со всей своей семьей так усердно сражалась топорами, ломами, косами с сатаной, что в нескольких местах провалился пол. 15 марта она объявила: «Чтобы победил Христос, а сатана был окончательно побежден, должна быть пролита кровь!» Затем она схватила железный кол, силой привлекла к себе своего брата Каспара, и со словами: «вот видишь, Каспар, злой враг хочет твоей души» — нанесла ему несколько ударов в грудь и в голову, так что полилась кровь. Каспара уводит отец, удаляется и еще кое-кто. Оставшимся она сказала: «Должна быть пролита кровь. Я вижу дух моей матери, которая приказывает мне отдать жизнь за Христа. А вы хотите ли принести свою жизнь в жертву за Христа?» «Да», — ответили все. Ее сестра Елизавета кричит: «Я с радостью умру для спасения души моего отца и моего брата. Убейте меня, убейте меня!» — и бьет себя по голове деревянной колотушкой. Маргарита колотит железным молотком свою сестру, ранит шурина Иоганна Мозера и приятельницу Урсулу Кюндиг и приказывает присутствующим добить Елизавету. Елизавета умирает без единого стона со словами: «Я отдаю свою жизнь за Христа!». Затем Маргарита говорит: «Должна быть пролита еще кровь. В моем лице Христос пору шлея своему Отцу за много тысяч душ. Я должна умереть. Вы должны меня распять». Молотком она ударила себя в левый висок, так что потекла кровь. Иоганн и Урсула наносят ей еще удары, делают бритвой крестообразный надрез на шее и на лбу. «Теперь я хочу, чтобы вы пригвоздили меня к кресту, и ты, Урсула, должна это сделать. Поди ты, Цези (сестра Сузанна), и принеси гвоздей, а вы пока приготовьте крест.» Руки и ноги жертвы пригвождаются к кресту. Силы опять изменяют распинающей.
«Дальше! Дальше! Пусть Господь укрепит твои руки! Я воскрешу Елизавету и сама на третий день воскресну.» Снова раздаются удары молотка: в обе груди жертвы вколачиваются гвозди, также в левый локоть, затем Сузанна приколачивает и правый. «Я не чувствую никакой боли. Будьте только вы сильны, чтобы победил Христос». Твердым голосом приказывает она пробить ей гвоздь или вонзить нож через голову в сердце. В диком отчаянии бросаются на нее Урсула и Конрад Мозер и разбивают ей — первая молотком, второй долотом — голову. В воскресенье, 23 марта, приверженцы Маргариты пришли на богомолье в Вильдисбух. Один соскреб кровь с постели, выломал кусочек штукатурки, запятнанной кровью, из стены комнаты и старательно завернул эти реликвии.
Воспроизведено точно по сохранившимся в Цюрихе документам. К сожалению, автор много повредил своей книге богохульными нападками на Библию, особенно на Ветхий Завет, и на христианскую религию.
«Святые мужи» в Хемнице, в Саксонии, общество которых было учреждено религиозно настроенным сапожником Фойгтом (дело происходило в 1865 г.) были настолько жестоко-благочестивы, что они уговорили двух матерей из своей секты убить своих больных детей, потому что они были «одержимы дьяволом».
Вот факты, которые приводит в своей книге знаменитый Ламброзо.
Две сестры в Бриансоне, одна 45, другая 47 лет, были богаты, у них не было другого дела, кроме посещения церкви. Однажды утром старшая сестра объявила младшей, что Бог явился ей во сне, чтобы в знак своей любви к нему она принесла себя в жертву. Сестра находит это совершенно правильным, соглашается принести себя в жертву Богу, дает себе отрезать бритвой руки и ноги и умирает, восклицая: «Иисус, Мария!» Сестра собирает ее кровь как реликвию, заботливо убирает и украшает тело убитой, потом идет к нотариусу, которому рассказывает о своем сне, об убийстве сестры и составляет завещание, по которому все ее ценные бумаги должны быть сожжены.
Некий Курзин, очень религиозный человек…убил своего семилетнего мальчика в уверенности, что приносит угодную Богу жертву… «Мысль, что весь род людской должен погибнуть, так мучила меня, что я не мог спать. Я встал, зажег лампаду перед иконой Христа и стал молить Бога спасти меня и мою семью. Тогда мною овладела мысль спасти моего самого красивого и лучшего сына от вечного проклятия». Так рассказывает он о своем преступлении. Заключенный в тюрьму (после того, как он убил ребенка), он отказался от пиши и умер голодною смертью.
Поразительно сходные с этими факты сообщают о русских сектах. Русские старообрядцы распадаются на две большие группы — поповцев и беспоповцев. Последние верят, что конец мира близок, что царство антихриста уже настало. В связи с этим некоторые считали священной обязанностью отправлять на небо невинные души новорожденных; другие выказывали свою любовь к друзьям и родственникам, избавляя их от естественной смерти. Нередко случалось, что целые семьи, даже целые деревни принимали решение принести себя живыми в жертву Богу. Крестьянин Ходкин (при Александре II) уговорил около 20 человек умереть вместе с ним голодною смертью в пермских лесах. В XVIII ст. некоторые предпочитали крещение огнем — самосожжение. Даже в XIX столетии совершались такие ужасы… Так, сжег себя сам в 1883 году, при пении псалмов, крестьянин Жуков. Ещечаше, может быть, встречается… кровавое крещение; обычно родители таким путем пытаются охранить своих детей от искушений князя тьмы. Так, в 1847 г. один крестьянин Пермской губ. решил открыть врата небес сразу всей своей семье; но топор выпал у него из рук раньше, чем ужасное дело было сделано; и крестьянин сам явился с сознанием к властям.
Другой крестьянин Владимирской губернии, привлеченный к суду за убийство своих двух сыновей, показал, что он хотел охранить их таким образом от греха; в тюрьме он отказывался от пищи, чтобы последовать за своими жертвами… В 1870 году один крестьянин задумал повторить принесение в жертву Исаака. Он привязал своего семилетнего сына к скамье и вскрыл ему живот; затем он стал на молитву перед иконами. «Прощаешь ли ты меня?» — спросил он умирающего ребенка. «Я прощаю тебя, и Господь отпустит тебе», — отвечала жертва, заранее наученная такому ответу. Одесский суд за один только 1879 год рассматривал дела о самоистязании, распятии, самосожжении и увечье — все по религиозным побуждениям.
Мистические, близко стоящие друг к другу, секты хлыстов и скопцов не принадлежат, собственно, к раскольникам. Радения хлыстов, или, как их еще называли, «людей божиих», с внешней стороны очень похожи на собрания «пляшущих дервишей» в Каире и Стамбуле. Большинство хлыстов причащалось только водой и черным хлебом; однако, согласно целому ряду свидетельств, некоторые употребляли мясо и кровь новорожденного, а именно первого мальчика, рожденного избранной в «Богородицу» «святой девой» после экстатически-непристойного празднества, следующего за ее избранием. Если от такой «Богородицы» родится девочка, то она в свою очередь предназначается в «непорочные девы», но если родится мальчик, «Христосик», то в восьмой день после рождения он приносился в жертву. Из сердца и крови, смешанных с мукой и медом, приготовлялся хлеб для причастия, и это называлось «причаститься кровью агнца».
Немецкий ученый Гакстгаузен в 1847 г. сообщал еще о другом способе, каким скопцы и хлысты добывают нужное им для своего причастия. У 15-летней девушки, которую к этому склоняют всевозможными обещаниями, отрезают левую грудь; девушка сидит в это время в ванне с теплой водой. «Отрезанная грудь разрезается на блюде на мелкие куски, которые съедаются присутствующими членами общины. После этого ванна с девушкой ставится на близ стоящий алтарь и вся община дико пляшет вокруг нее и поет… Вышеупомянутое мною лицо знало нескольких таких девушек, которых почитают как святых, и говорит, что в 19–20 лет они выглядели 50-60-летними старухами; обыкновенно они умирают до 30 лет. Впрочем, говорят, одна их них была замужем и имела двоих детей».[22]
Но неужели христианская религия ответственна за подобные мерзости?
Следующие факты можно рассматривать как возврат к язычеству или как пережитки языческих времен. Приблизительно в 200 верстах от Казани лежит село Старый Мултан, жители которого считаются православными, в селе церковь и священник. В 1892 г., вследствие неурожая, начался голод и тиф, явились опасения холеры. Мултанцы стали сомневаться в истинности своей веры и решили умилостивить неземные силы жертвами. Принесенные в жертву животные не помогли. Тогда местный ведун получил откровение, что требуется «двуногая» жертва (курбан), т. е. человеческая. В селе жил человек из другой округи, у которого не было тут ни друзей, ни родных. 4 мая 1892 г. несчастного приташили на съезжую; там его раздели, привесили за ноги к потолку и пятнадцать человек принялись колоть обнаженное тело ножами. Кровь, вытекавшую из ран, заботливо собрали, прокипятили, и ее выпили приносившие жертву. Легкие и сердце также были съедены. В жертвоприношении участвовали сельский и церковный старосты и местный урядник (полицейский). Крестьяне настолько были уверены в правомерности своего поступка, что и не старались скрыть убийство, и власти скоро узнали о нем. Через полтора года судебный процесс был закончен, и участники ритуального убийства были присуждены к долгосрочной каторге.
В Минской губ., в Новогрудском уезде, во время холерной эпидемии крестьяне хотели заживо похоронить священника; он спасся только тем, что вымолил у своих прихожан отсрочку, чтобы приготовиться к смерти.
В августе 1855 г. крестьяне дер. Окоповичи во время такой же эпидемии бросили, по совету фельдшера Казаковича, старуху, Люцию Манькову, живою в могилу, в которую опущены были уже трупы умерших, и заживо закопали свою жертву. В августе 1871 г. в дер. Торкачи той же участи чуть было не подверглась больная баба. Муж и зять подоспели вовремя и спасли ее, но есть предположение, что вместо нее принесена была в жертву другая больная и одинокая женщина. Все деревенское начальство разделяло общую уверенность, что избавиться от холеры можно, похоронив живого человека. В Туруханском крае Енисейской губ. в 1861 г. крестьянин П., русский по происхождению, похоронил заживо девушку, свою родственницу; он был уверен, что этой жертвой спасет себя и свою семью от господствовавшей эпидемии. Самоед Ефрем Пирерка на Новой Земле задушил зимой 1881 г. во время голодовки девушку Саваней, чтобы, как он откровенно признался, принести жертву черту, потому что бог, в которого он верит, не помог ему, когда он голодал. Потом он сделал деревянного идола и хотел принести ему в жертву своего товарища по юрте Андрея Табарса; он уже набросил ему петлю на шею и только заступничество жены Пирерки спасло Андрея.
Пережитком того же суеверия является погребение живыми животных, как это имело место в Новогрудском уезде во время холеры и в Грязовецком уезде Вологодской губ., по случаю падежа скота, причем здесь раньше бабы опахали деревню. Впрочем, здесь во время опахиванья принесены были также, как полагали, человеческие жертвы.
Г.Л.Штрак[23]. Кровь в верованиях и суевериях человечества. — СПб.: София, 1995.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ