Луи де Ружемон Приключения Ружемона Новый Робинзон XIX века
Рассказ, который мы здесь приводим, может поистине считаться историей самых удивительных приключений, когда-либо пережитых человеком. В летописях географии существует только один случай, напоминающий отчасти приключения г. Ружемона; но там человек возвратился в цивилизованный мир беспомощным идиотом, потерявшим рассудок среди ужасных обстоятельств (Вильям Бакли, беглый каторжник, информация не вполне соответствует действительности); между тем как г. Ружемон, пробыв тридцать лет вождем в племени людоедов в пустынях неисследованной части Австралии, сделал своим рассказом, независимо от всемирного интереса, возбуждаемого им, без сомнения, драгоценный вклад в науку. Записки его уже рассматривались такими знаменитыми географами, как д-р Ж. Скот-Кельти и д-р Гюго Р. Милль; они проверили их при помощи своих богатейших коллекций, новейших отчетов, карт и географических сочинений и единогласно признали, что рассказ г. де Ружемона не только совершенно соответствует действительным фактам, но и имеет еще громадное научное значение.
В последнее время подлинность рассказа де Ружемона стала подвергаться некоторому сомнению, но если это и так, то все же, по живости и увлекательности изложения, по верности описаний природы и нравов туземцев, этот труд является, бесспорно, замечательным и может быть с пользою и интересом прочтен каждым.
Я родился в Париже в 1844 году. Отец мой был оптовым торговцем обувью и прекрасно вел свои дела. Когда мне было лет около десяти, мать моя, вследствие некоторых семейных несогласий, оставила отца и, взяв меня с собою, переселилась в Швейцарию, где я и воспитывался.
Мальчики вообще рано начинают обнаруживать свои наклонности; я в этом отношении не отличался от других, но у меня они были, — странно сказать, — геологического направления: я постоянно приносил домой кусочки камней, минералов и расспрашивал об их происхождении, истории. Моя дорогая мать всегда поощряла меня в этом, и позднее я часто ездил в Фрейбург, в Шварцвальд, чтобы практически ознакомиться со способами плавления руды. Когда мне исполнилось 19 лет, я получил от отца письмо с предложением вернуться во Францию и поступить рекрутом. Но мать решительно воспротивилась этому. Мне кажется, что отец желал, чтобы я избрал военную службу своей карьерой, но я уступил желанию матери и остался еще несколько времени с нею в Швейцарии. Мы много говорили о моей будущности, и она советовала мне предпринять поездку на Восток, просто чтобы посмотреть, какое влияние окажет на меня путешествие: какого-нибудь определенного плана у нас не было. Действительно, вскоре она вручила мне 7000 франков, и я отправился в Каир, намереваясь посетить затем некоторые французские владения на Дальнем Востоке и, если представится возможность, составить себе там какую-нибудь карьеру. В чудной столице Египта я пробыл только несколько дней; ее космополитизм, шум, давка, а также некоторые соображения вызвали во мне желание поскорее оставить этот город, и я отправился в Сингапур. Через несколько дней по приезде туда я случайно познакомился с голландцем Петером Янсеном, который занимался добычей жемчуга. Это было в 1863 году. Мы скоро подружились с ним, и он сообщил мне, что имеет в Батавии небольшую шхуну в 40 тонн, называемую «Вейелланд», на которой обыкновенно он отправляется в свои экспедиции за жемчугом.
«И теперь, — сказал он, — я собираюсь съездить в некоторые местности около южной части Новой Гвинеи, очень богатые жемчугом; но у меня нет достаточного капитала на предварительные издержки».
Я понял этот намек и предложил присоединиться к нему. Тот сразу согласился, и мы немедленно приступили к необходимым приготовлениям. Тогда желающий нанять людей для добывания жемчуга должен был сначала внести голландскому правительству известную сумму денег за каждого нанятого человека в обеспечение того, что рабочие получат следуемое им жалованье. Поэтому я отдал все свои деньги в распоряжение капитана Янсена с тем, что он даст мне долю в выгодах предприятия, к которому мы готовились. «Не будем заключать контракта здесь, — сказал он, — мы все сделаем в Батавии». И действительно, мы тотчас же поехали туда, заключили там условие по всем правилам и снарядили судно для плавания. Затем мы наняли на островах голландского архипелага сорок опытных малайцев, которые должны были сопутствовать нам. Янсен выбирал людей с большой осторожностью и требовал, чтобы каждый выказал на деле свою способность. Один из них был назначен как бы начальником, надсмотрщиком над остальными; ему позволили взять с собою жену и ее служанку.
Заниматься добыванием жемчуга — дело, вообще говоря, очень трудное и, пожалуй, не под силу европейцам, организм которых редко выдерживает продолжительное пребывание под водой, как требуется от ловцов жемчуга. Поэтому Янсен и остановился на малайцах. Этот народ исстари занимается добыванием жемчуга и, живя на берегу моря, привык к воде. Некоторые представители этого племени достигли в искусстве ныряния замечательного совершенства и могут пробыть под водой столько времени, что европеец, на их месте, давно захлебнулся бы. Однако и на их сильную, выносливую натуру опасное ремесло оказывает гибельное влияние, — и ловцы жемчуга редко-редко доживают до старости; в большинстве же случаев они настолько расстраивают нырянием свой организм, что умирают, едва достигнув средних лет. Вот почему, отправляясь в далекую экспедицию, Янсен тщательно выбирал ловцов.
Но возвращаюсь к своему рассказу.
Наконец все было готово, и мы двинулись в путь. Нас было на шхуне всего 44 человека и, кроме того, еще прекрасная собака, принадлежавшая капитану. Эта собака, игравшая такую важную, — нет, больше, — такую спасительную роль в моей странной жизни, была подарена Янсену в Батавии.
Мое знание морского дела было, как и следовало ожидать, очень-очень ограниченно. Но друг мой, капитан Янсен, так усердно занимался мною, что я очень скоро приобрел много необходимых и полезных сведений. Мы проезжали мимо многих прелестных тропических островов, около одного из них даже останавливались, чтобы запастись свежей провизией, — плодами, птицей и пр. Затем мы направились к берегам Новой Гвинеи. Это путешествие мы совершили без малейших препятствий; наши малайцы проводили большую часть времени, подобно детям, в играх, пении и были вообще в прекрасном настроении. Наше небольшое судно погружалось в воду только на семь или восемь футов, так что рисковало подходить очень близко к берегу, когда это было нам необходимо. Наконец, приблизительно через месяц после отъезда, мы подошли к месту, где, по предположению капитана, можно было найти драгоценные раковины; мы бросили якорь, и малайцы немедленно принялись за работу. Надо заметить, что мы везли с собой большой вельбот и около полудюжины маленьких, легких лодочек для надобностей нашего экипажа.
Ежедневные поездки на ловлю и возвращение домой зависели, понятно, от состояния погоды и времени прилива и отлива. Впереди всех выезжал всегда сам капитан на вельботе, высматривая драгоценные раковины на дне кристально-чистого моря. Вода была удивительно прозрачна, и Янсен, склонившись через борт, тщательно всматривался в свой морской телескоп, который представлял собою просто металлический цилиндр с двояковыпуклыми стеклами на конце. За большим вельботом на известном расстоянии следовала флотилия маленьких лодочек, в каждой из которых помещалось от четырех до шести малайцев. Когда Янсен усматривал через свой оригинальный телескоп подходящее место, он делал знак остановиться, и в ту же секунду малайцы бросались из своих лодочек в воду и точно каким-то волшебством мгновенно опускались на самое дно прозрачного моря. По установленному правилу один человек всегда должен был оставаться на поверхности для надзора за лодками в то время, когда все остальные опускались на дно. Эти малайцы не носили никакой особенной одежды и вообще не пользовались решительно никакими средствами, которые могли бы помочь им в их работе. Единственное, что они имели при себе, это маленький нож в ножнах, который висел у пояса на шнурке. Глубина воды обыкновенно не превышала двух-трех саженей, но иногда достигала и восьми саженей, т. е. самой большой глубины, на которую когда-либо опускались люди. Опустившись на дно, малаец ощупью искал там раковины и, как только находил пару их, возвращался на поверхность воды; добычу он держал всегда в левой руке, прижав их к груди, а правая рука оставалась свободной и направляла движения его при плавании. Обыкновенно малаец оставался под водою не более минуты и, возвратившись на поверхность, отдыхал с четверть часа.
Каждый малаец складывал найденные им раковины в отдельную кучу в лодке; эти трофеи строго уважались всеми, и каждый без труда мог всегда указать, кому принадлежит та или другая из них. Дно моря, в местах, где производилась ловля жемчуга, обыкновенно коралловое и усеяно бесчисленными впадинами различной глубины и размеров. В этих-то углублениях и находят, большею частью, лучшие раковины.
Растительность на дне этих морей в высшей степени роскошна; здесь встречаются величественные деревья, покачивающиеся взад и вперед, точно под влиянием легкого ветерка, высокие травы и бесчисленные цветы самых разнообразных форм и окрасок. Наконец, тут можно увидеть коралловые скалы самых ярких оттенков, — желтые, голубые, красные, белые. Но странно, как только поднимешь кусочек подобной скалы на поверхность, прекрасный цвет, которым он обладал под водой, тотчас же начинает блекнуть.
Иллюзия подводного леса усиливалась еще более множеством ярко окрашенных рыб, быстро мелькавших туда и сюда между ветвями.
На ловлю отправлялись обыкновенно во время отлива и возвращались на корабль с приливом. Иногда ловцы заходили в своих поисках довольно далеко от корабля, один раз даже на 10 миль от него. Если море начинало бушевать и малайцы не в состоянии были возвращаться на корабль в своих яликах, они направлялись к вельботу и вскарабкивались на него, а свои ялики тащили за кормой. Но, может, вы спросите, что же делал я все это время? На мне лежала важная обязанность принимать раковины от малайцев и для каждого из них вести отдельный счет поставляемого им товара. Я почти всегда оставался на корабле, один с собакой Янсена, потому что даже обе женщины, бывшие с нами, отправлялись на ловлю; им платили за работу совершенно так же, как и мужчинам. Между прочим, эти малайцы были замечательно добродушны; они, казалось, нисколько не заботились о ценности сокровищ, доставаемых ими со дна моря, и считали свой труд прекрасно оплаченным, если получали вдоволь рису, рыбы, черепашьих яиц и птицы, не говоря уже о такой роскоши, как различные пряности, кофе и пр. Каждая такая вылазка длилась приблизительно часов шесть, и по возвращении обыкновенно каждый малаец вручал мне от 20 до 40 раковин. Я раскладывал их длинными рядами на палубе и оставлял так на всю ночь. На следующий день я очищал их, соскабливал с них остатки коралла и затем открывал их обыкновенным столовым ножом. Не в каждой раковине, понятно, я находил жемчуг; мне случалось иногда открывать сотню раковин, одну за другою, не найдя ни одной жемчужины. Жемчуг обыкновенно скрывается в мясистой части устрицы и извлекается нажиманием ее большим пальцем. Пустые раковины сбрасывались в кучу и потом прятались, так как они сами по себе имеют значительную ценность; в то время (1864 г.) по крайней мере за тонну их платили от 200 до 250 фунтов стерлингов. Все жемчужины я прятал в ящики из орехового дерева, размерами в 14 дюймов длины, 8 ширины и 6 дюймов высоты. Стоимость наших сокровищ, увеличиваясь со дня на день, достигла уже многих тысяч фунтов; но об этом после. Я тогда не имел никакого представления о ценности жемчуга, да и откуда было мне знать это, если я никогда раньше не занимался этим делом. Но капитан Янсен уверял меня к концу сезона ловли, что мы имеем чистого жемчуга на 50 тысяч фунтов, не считая стоимости раковин, которых у нас набралось около 30 тонн. Сами устрицы жемчужных раковин показались нам очень невкусными, и никто на судне не ел их. Некоторые устрицы заключали в себе жемчужину, другие две, три и даже четыре. Попадались экземпляры, заключавшие не менее дюжины прекрасных жемчужин; но это были очень редкие случаи. Самая крупная жемчужина, найденная мною, имела форму кубика, более дюйма величиною. Но она была плохого качества, так что стоила сравнительно немного. Лучший же образчик был величиною с голубиное яйцо, превосходного цвета и вида. Некоторые жемчужины были прекрасного розового цвета, другие — желтого, но большей частью попадались чисто белые.
Величайший враг, которого должны были остерегаться малайцы в тех водах, был чудовищный осьминог, появление которого наводило гораздо больший ужас, чем вид простой акулы. Эти отвратительные чудовища иногда появлялись, забрасывали свои громадные щупальца над лодками, в которых малайцы работали, захватывали ими людей, бывших под водой, и держали их там до тех пор, пока те не умирали. Один из наших малайцев чуть было не сделался жертвой подобного чудовища. Каждый вечер, возвратившись с работы, малайцы связывали канатами все свои ялики вместе и привязывали их к корме шхуны. Однажды ночью поднялся сильный ветер, пошел страшный дождь, так что на следующее утро все ялики оказались в той или иной степени наполненными водой, и капитан приказал малайцам вычерпать ее. Во время этой работы один из них заметил в море какой-то странный черный предмет, который до того возбудил его любопытство, что он бросился в воду, чтобы рассмотреть, что это такое. Не успел малаец нырнуть, как перед ним очутился громадный осьминог и сразу бросился к испуганному человеку. Но тот мгновенно понял угрожавшую ему опасность и с большим присутствием духа быстро поднялся на поверхность воды и вскарабкался в лодку. Страшное чудовище погналось за ним и, к ужасу всех зрителей, вытянуло свои громадные, гибкие щупальца, охватило ими и лодку, и человека и потащило все это вниз, под воду. Перепуганные товарищи малайца бросились ему на помощь и сделали попытку убить осьминога гарпуном, но не имели успеха. Тогда некоторые, более находчивые, бросились в воду с толстой сетью из канатов, растянули ее непосредственно под осьминогом и спутали ею чудовище и его еще живую добычу. Затем втащили его, вместе с человеком, на вельбот, и только там уже несчастный, полумертвый малаец был с чрезвычайными усилиями вытащен за ноги из ужасных объятий чудовища. Впрочем, мы скоро привели его в чувство, опустив его в такую горячую ванну, что все тело его покрылось пузырями. В высшей степени замечательно, что он не задохся совсем, хотя осьминог удерживал его под водою более двух минут. Впрочем, этот малаец, подобно всем своим товарищам, носил при себе нож, которым успел очень хорошо воспользоваться в первую же минуту, когда чудовище потащило его вниз: он нанес им несколько ран осьминогу, и эти раны заставили животное качаться почти на поверхности воды, так что несчастный человек имел возможность вдыхать время от времени свежий воздух; иначе он неминуемо должен был задохнуться.

Туловище осьминога имело овальную форму и было снабжено некоторым числом щупальцев: шестью громадными и несколькими меньшими, различной величины. Это было отвратительное на вид создание, с гладким, слизистым телом желтовато-белого цвета, с черными пятнами и отвратительным отверстием для рта, без зубов. Ужаснее всего в этом животном его щупальца, обладающие громадной силой.
После этого случая малайцы всегда брали с собою во время поездок топоры, чтобы иметь возможность обрубить щупальца осьминога, если бы он бросился на них. Да и вообще мы видели много очень странных созданий во время нашего крейсерства. Я сам однажды был страшно перепуган во время купания.
Мы бросили якорь на глубине около пяти саженей; я часто плавал поблизости судна. Однажды я отплыл от него довольно далеко, как вдруг громадный, чудовищный зверь, футов в 20 длины, с огромной, покрытой волосами головой и свирепыми, фантастическими усами, вынырнул из воды и поднялся высоко на воздух. Я должен сознаться, что при виде этого чудовища почувствовал полное онемение всех членов, и когда оно, повернувшись ко мне, открыло свой громадный рот, счел себя окончательно погибшим. Впрочем, оно не сделало мне никакого вреда, и я благополучно вернулся на шхуну, но долго не мог оправиться от страшного испуга.
Иногда нас беспокоили акулы; впрочем, малайцы, по-видимому, не особенно боялись их. Напротив, они даже гонялись за ними. Их способ захватывать акул может даже показаться невероятным по своей простоте и смелости. Когда появлялось стадо акул, трое или четверо из наших малайцев выходили на лодке и устремлялись к нему. Подъехав близко, самый сильный из малайцев нагибался через край лодки и старался быстро пронзить первую попавшуюся акулу копьем, захваченным с этой целью. Как только это удавалось ему, все остальные, бывшие в лодке, поднимали страшный крик, визг и били веслами по воде, чтобы этим шумом испугать акул и заставить их уйти. Это им всегда удавалось; но странно, раненая акула непременно возвращается через несколько минут одна, чтобы узнать, кто или что ее ранило. Как только малайцы заметят, что она приближается к лодке, то один из них быстро бросается в воду, вооруженный только маленьким ножом и короткой палкой из твердого дерева, около пяти дюймов длины, заостренной с обоих концов. Человек держится неподвижно на поверхности воды, и акула, понятно, направляется к нему. Как только она откроет рот, чтобы схватить его, хитрый малаец несколькими ловкими ударами левой руки быстро отбрасывается в сторону, а правой рукой в то же время осторожно вставляет заостренную палку в вертикальном положении в рот выжидающей акулы. Результат этого действия прост, но удивителен: акула не может закрыть рта, вода вливается ей в горло, и она погибает. Конечно, такой способ охоты требует громадного хладнокровия и силы; но малайцы видят в нем необычное развлечение и возбуждающий спорт. Когда акула уже мертва, малаец проворно взбирается ей на спину, усаживается верхом и вонзает свой нож ей в голову, пользуясь им как опорой и вместе с тем средством сохранить равновесие, затем, действуя собственными ногами как веслами, направляет труп назад к лодке…
Между тем наши запасы пищи и воды стали истощаться. Это вынудило капитана Янсена направиться к берегам Новой Гвинеи, чтобы вновь наполнить свои кладовые. Скоро мы достигли удобного места на берегу и достали у туземцев все, что нам было нужно, посредством обмена. Мы давали им топоры, ножи, железные кольца, бусы, черепах, яркие цветные материи и пр. Скоро наши отношения сделались так дружелюбны, что некоторые из наших малайцев часто отправлялись на берег и принимали участие в различных играх и развлечениях папуасов. Их начальник или глава особенно заинтересовался мною; он постоянно разговаривал со мною- и показывал мне все достопримечательности своей страны. Он указал нам известную границу, которую советовал не переступать, так как племя, жившее по другую ее сторону, не подчинялось его власти. Но однажды компания наших малайцев, в том числе и я, неблагоразумно решились проникнуть в заповеданную страну. Скоро мы подошли к деревеньке и остановились около нее. Жители ее сразу отнеслись к нам подозрительно, а когда один из малайцев по неосторожности оскорбил туземца, то половина деревни поднялась против нас, и мы должны были бегством спасать свою жизнь. Изо всех сил старались мы поскорее добраться до берега, где дружественно расположенный к нам начальник выступил посредником между нами и раздраженным племенем, и ему удалось успокоить их. Когда мы возвратились на корабль, Янсен с неудовольствием рассказал мне, что он был почти осажден множеством туземцев, которые настойчиво рвались на судно с плодами и овощами для обмена; он говорил, что был совершенно расстроен видом этой толпы, сновавшей взад и вперед по шхуне, точно они имели на это полное право.
«Мне это не нравится, — прибавил он, — и я постараюсь этого не допустить». Когда на следующее утро появился обычный ряд туземных лодок, мы решили не впускать на корабль ни одного человека и объявили им это. Тогда прибыл сам начальник племени в сопровождении полудюжины самых знатных лиц, большую часть которых я знал: все они были полны достоинства и уверенности в успехе. Но капитан Янсен остался неумолим и не позволил войти ни одному из них. Они уехали в страшном негодовании, и непосредственно за ними последовали все остальные лодки с туземцами. Когда они скрылись из виду, распространилась странная тишина над кораблем, морем и над всем тропическим берегом; всеми нами овладело предчувствие близкой опасности. Мы знали, что оскорбили туземцев, и так как ни одного из них не было видно на берегу, то, очевидно, они обдумывали месть. Мы хотели тотчас же сняться с якоря и уйти в открытое море; но, к несчастью, было полное затишье, и паруса, приготовленные к отплыву, висели как тряпки. С тоской смотрели мы на берег, как вдруг заметили двадцать вполне снаряженных военных лодок, в каждой из которых помещалось от 30 до 40 воинов; лодки эти обогнули небольшой мыс, лежавший неподалеку от нас, и направились прямо к нашему кораблю. Мой строгий голландский партнер понял тогда, что туземцы хотят напасть на нас, и ввиду этого вооружил всех малайцев топорами, чтобы быть наготове при малейшем желании туземцев войти на шхуну. Мы сняли также люки и устроили из них своего рода укрепление вокруг колеса.
Сами мы с Янсеном вооружились ружьями, зарядили свою маленькую пушку и приготовились отчаянно защищать свою жизнь в неравной борьбе с врагами, далеко превосходившими нас числом. Несмотря на всю опасность нашего положения, я невольно любовался великолепным зрелищем этой флотилии быстро приближавшихся лодок. Все воины разукрасились перед битвой: смуглые тела их были разрисованы белыми полосами, чтобы внушить ужас врагам. Головной убор их состоял из разноцветных перьев, торчащих над волосами, которые были туго стянуты и стояли совершенно прямо над головой. Нос каждой лодки подымался фута на три и заканчивался вверху искусно вырезанной фантастической головой. Каждая лодка приводилась в движение двенадцатью гребцами. Когда первая лодка приблизилась к нам на расстояние человеческого голоса, я сделал им знак и закричал, чтобы они не приближались более, если намерения их не мирны. В ответ на это они неистово замахали своими луками.
Стало очевидно, что мы должны сражаться с ними; а они явились в таком громадном количестве, что легко могли бы одолеть нас, если бы только им удалось взобраться на палубу. Наше положение было тем опаснее, что с корабля по всем направлениям спускались в воду канаты, по которым обыкновенно взбирались на него малайцы по возвращении с дневной ловли; мы не имели времени повытаскать их, и, конечно, если бы только врагам удалось подойти достаточно близко к кораблю, они не преминули бы воспользоваться ими, чтобы взобраться на судно. Поэтому необходимо было действовать решительно. Пока мы рассуждали о том, с чего бы лучше начать, из передовой лодки пустили в нас целый град стрел; тогда я, не медля более, выстрелил в воина, стоявшего на носу, и убил его. Пуля прошла сквозь его тело и засела в боковой стенке лодки. Замешательство неприятеля, услышавшего выстрел и увидевшего таинственный для себя результат, невозможно описать; между тем, прежде чем они оправились от изумления, Янсен пустил прямо в середину их флотилии заряд картечью; этим выстрелом он разбил несколько лодок и задержал общее наступление.
Я опять знаком предупредил их не приближаться более, и они, казалось, были в замешательстве. Началось шумное совещание; между тем десять новых лодок оБогнули мыс, и их появление придало нападающим очередную порцию мужества. Они снова стали приближаться к кораблю; но наша пушка была уже снова заряжена, и я стоял наготове подле нее. С ревом изрыгнула она вторичный смертоносный град, и враги пришли в полное замешательство. Одна лодка была разбита в куски, а почти все находившиеся в ней люди были серьезно ранены, в других лодках также было много раненых. Тогда туземцами овладела паника, и флот пришел в полное расстройство. Они пустили еще один сильный залп стрел; некоторые из последних достигли корабля и вонзились в паруса: но никто из наших не был ранен. Туземцы были слишком напуганы, чтобы рисковать приблизиться к нам более, а так как в это время поднялся ветер, то мы получили возможность спастись от них бегством. Мы подняли якорь и, направляя корабль в открытое море, быстро проскользнули мимо неприятельского флота, пышно разукрашенные воины которого приветствовали нас новым градом стрел, когда мы проходили мимо них. Через полчаса мы были уже в открытом море и могли снова вздохнуть свободно.
Это приключение вызвало в наших малайцах сильное желание поскорее оставить эти страны. Они не забыли еще случая с осьминогом и теперь поручили своему надсмотрщику просить, от имени всех их, капитана отыскать новые места для ловли. Янсен сначала старался убедить их остаться в этих же широтах — и это не удивительно, принимая во внимание Богатую добычу здесь, — но его не хотели слушать, так что он был наконец вынужден направить свой корабль в другие местности. Куда, собственно, повел он корабль, я не могу объяснить; но к концу второй недели мы бросили якорь в местности, еще не исследованной, в смысле Богатства жемчугом, и снова принялись за работу. Счастье по-прежнему было с нами и с каждым днем мы продолжали увеличивать наши и без того уже значительные Богатства.
Однажды утром, когда я по обыкновению раскрывал раковины, из одной выпали три великолепные черные жемчужины. Я смотрел на них, сам не знаю почему, как очарованный. Ах! Эти ужасные три черные жемчужины! Лучше бы я никогда не находил их! Когда я показал их капитану, тот пришел в сильное возбуждение и сказал, что так как эти три жемчужины стоят больше, чем все вместе найденные нами прежде, то следует остаться здесь дольше, чтобы найти еще такие же. Таким образом, мы решили остаться в море дольше, чем было в обычае и чем этого требовало благоразумие. Сезон ловли жемчуга подходил уже к концу и следовало ожидать близкой перемены муссона, но капитаном овладела жемчужная горячка, и он решительно отказывался уходить. Он утверждал, что можно найти множество черных жемчужин, — что три зерна, найденные нами, не могут быть единственными образчиками и пр. И наши малайцы должны были работать изо дня в день. Я, конечно, не подозревал, какой страшной опасности мы подвергали себя, оставаясь в этих не известных нам морях в такое время, когда следовало ожидать перемены муссона, и поэтому, сознаюсь, не понимал, почему бы нам не продолжать ловлю.
Как я узнал впоследствии, сезон ловли жемчуга продолжается с ноября до мая. Но май наступил и прошел, а мы все еще продолжали упорно работать, каждый день надеясь оБогатиться новым запасом драгоценных черных жемчужин; и хотя каждый день терпели разочарование, капитан все настойчивее добивался цели. Он продолжал выходить на вельботе вместе с малайцами и лично надзирал за их работой. Между тем я начал замечать признаки близкой перемены погоды, а главное, наш анероид делал неприятные скачки. Я старался обратить на это внимание капитана, но тот был слишком поглощен желанием найти черный жемчуг, чтобы слушать меня.
Теперь я перехожу к описанию рокового дня, который на много тяжких лет изгнал меня из цивилизованного мира. В один из июльских дней 1864 года Янсен отправился утром по обыкновению на ловлю со всеми малайцами, оставив меня совершенно одного на корабле. Женщины часто сопровождали мужчин; в этот день они также отправлялись, так как уже освоились с этой работой и видели в ней некоторое развлечение.
Когда я теперь припоминаю обстоятельства этого ужасного дня, то просто поражаюсь, как мог капитан быть настолько безумен, чтобы в это время покинуть корабль. Не более как за час до его отъезда волна прилива ударила о корму и совершенно затопила каюты. Это само по себе служило верным и зловещим признаком близкой непогоды; но бедный Янсен ограничился только тем, что велел выкачать воду помпами, и когда каюты были сравнительно осушены, опять отправился на околдовавшую его так сильно отмель, где он, вероятно, спит и по сей день. Я долго наблюдал маленькие ялики, следовавшие за вельботом капитана; они отошли мили на три от корабля, затем остановились, делая необходимые приготовления к работе. Я не имел ни малейшего предчувствия катастрофы, угрожавшей им и мне.
С утра дул легкий прохладный ветерок; но тут вдруг поднялась страшная буря, и все море покрылось громадными волнами, быстро опрокинувшими почти все маленькие лодочки. К счастью, они не могли утонуть, и я, продолжая свои наблюдения, видел, что выброшенные в море малайцы уцепились за их края и употребляли все свои усилия, чтобы достичь вельбота капитана. Когда все малайцы вскарабкались на вельбот, они предприняли попытку вернуться назад на корабль; но я видел, что они не могли сделать ни шагу против рассвирепевших, бушующих волн. Напротив, я к ужасу своему заметил, что течение уносило их все дальше и дальше от меня в безбрежное открытое море. Увидя это, я почти обезумел; я страшно напрягал свой мозг, чтобы придумать какое-нибудь средство помочь им, но не находил ничего исполнимого. Прежде всего мне пришло в голову поднять якорь и пустить корабль по течению вслед за ними, но я ни в каком случае не мог быть уверен, что он нагонит их. Поэтому решил оставить корабль на прежнем месте, хотя бы на время; тем более, что был уверен, — капитан, хорошо знакомый с этими местами, наверно, знает какой-нибудь островок, лежащий, поблизости, куда он сможет направить вельбот, и переждет там бурю в безопасности.
Лодки удалялись все дальше и дальше, и часам к девяти я наконец совершенно потерял их из виду. Тогда мне пришло в голову, что надо сделать на корабле необходимые приготовления, чтобы он мог выдержать бурю, которая не только не ослабевала, а, напротив, все более усиливалась. Мне уже не раз раньше приходилось выдерживать бурю на «Вейелланде», и поэтому я хорошо знал, что надо было сделать. Прежде всего я опустил люки и покрыл их брезентами; затем постарался по возможности сильнее укрепить на палубе все подвижное. К счастью, паруса были в то время убраны, так что мне не пришлось возиться с ними. К полудню ветер был так силен, что я буквально не мог держаться стоя и должен был ползать на четвереньках, иначе меня наверняка снесло бы в море. Я обвязал себя длинной веревкой, другой конец которой прикрепил к одной из мачт, так что если бы меня снесло за борт, я мог бы опять взобраться на корабль.
Большую часть дня лил страшный дождь, и волны с такой силой заливали маленький кораблик, точно они желали поглотить его; но он держался великолепно. К двум часам буря достигла высшей силы; в это время прошел ужасный циклон; по-видимому, наступал мой конец. Страшный порыв ветра с дьявольским свистом сорвал паруса; я с содроганием слушал, как свистел и ревел ветер вокруг обнаженных мачт маленького, но крепкого судна, которое то поднималось на целые горы волн, то опускалось в кипящую пучину с такой быстротой, что сердце мое замирало. Потом вдруг ветер сразу стих, — перемена, столь же неожиданная, как и наступившая буря. Небо оставалось по-прежнему темным, зловещим, и море еще несколько бушевало, но дождь и ветер совершенно утихли, и я мог оглядеться вокруг, не чувствуя себя уже обреченным на верную смерть.
Я вскарабкался немного на главную снасть, но увидел только черные, бушующие воды, свистящие, вздымающиеся, подобно горам, свирепствующие и расстилающиеся до бесконечности. Со страшной силой предстал предо мною весь ужас и вся безнадежность моего положения; но я не отчаялся: я надеялся на Бога. Прежде всего я решил поднять якорь и пустить корабль по ветру, все еще надеясь нагнать где-нибудь своих товарищей. Но прежде чем я успел это сделать, ветер неожиданно подул с противоположной стороны, нагнал на палубу целые горы воды, которая снесла почти все подвижное на палубе, кухню, верх капитанской каюты и, что хуже всего, совершенно испортила колесо. Все компасы и карты, хранившиеся в капитанской каюте, погибли. Тут уж я действительно почувствовал, что близок мой конец. К счастью, я сам был в это мгновение в носовой части, иначе меня непременно также снесло бы в эти страшные, черные, бушующие воды. Между прочим, мне спасло жизнь то обстоятельство, что я привязал себя к мачте. Вскоре после этого сильного волнения, которое казалось мне последним усилием страшной бури, ветер повернул обратно и подул с противоположной стороны с еще большей силой, чем прежде. В таком ужасном положении я провел целую ночь, не имея подле себя никого, с кем бы можно было поговорить, кто мог бы помочь мне, и каждую минуту ожидая, что корабль погрузится в это ужасное море. Единственное живое существо на корабле, кроме меня, была собака капитана; по временам я слышал жалобный вой ее в нижней каюте, куда я запер ее, когда первый циклон обрушился на меня.
В числе предметов, снесенных с корабля той страшной волной, которая испортила колесо, был большой бочонок с маслом, сделанным из черепашьего жира, в котором мы всегда держали запас свежего мяса, состоявший большей частью из свинины и птицы. Бочонок заключал в себе около тридцати галлонов, и когда он был опрокинут, то все масло разлилось по палубе и потекло в море. Эффект при этом получился просто волшебный: как только масло полилось в море, страшные волны, подгоняемые бурей, почти в то же мгновение совершенно успокоились вокруг корабля, и это спокойствие продолжалось до тех пор, пока с палубы стекало масло; но как только запас его истощился, волны поднялись с еще большей яростью.
Целую ночь ветер бросал корабль то в ту, то в другую сторону, и только к рассвету буря стала как будто немного стихать, а к шести часам дул только слабый ветерок, и море не грозило уже поглотить меня и мой маленький кораблик. Я мог теперь осмотреться, узнать, какие повреждения были сделаны на корабле, и можете представить себе мое счастье, по поводу того, что корабль еще крепок и непроницаем для воды! Осмотрев корабль, я сейчас же спустился в нижнюю каюту, чтобы освободить собаку, бедного Бруно. Восторг бедного животного не имел границ; он, как безумный, с бешеным лаем бросился на палубу, отыскивая своего хозяина, и был, по-видимому, очень удивлен, не найдя там никого, кроме меня. Ах! Я никогда уже больше не видел ни Петера Янсона, ни сорока малайцев и двух женщин! Еще Янсен мог как-нибудь избежать опасности, быть может, даже он еще жив и теперь и когда-нибудь прочтет эти строки. Но один Бог знает, какая участь постигла несчастные лодочки малайцев. Самодовольные и бессердечные люди могут сказать, пожалуй: «воздаяние за жадность», но я отвечу им: «не судите, да не судимы будете!».
Так как утро было замечательно прекрасное, то я решил попытаться поднять сохранившиеся паруса. Я достал из бака все, что мне нужно было, и после долгих усилий натянул-таки грот-мачту и стоксель. Но так как теперь у меня не было ни компаса, ни карт, то я совершенно не знал, где я, и какого направления следует мне держаться, чтобы достичь берега. Я знал, что море в тех широтах усеяно бесчисленным множеством островков и песчаных отмелей, известных только искателям жемчуга, и мне казалось, что куда бы я ни направился, непременно стану где-нибудь на мель или буду выброшен на какой-нибудь коралловый риф.
Не было никакого расчета оставаться мне на прежнем месте; поэтому я укрепил на корме два рулевых весла в 26 футов длиною, которые должны были заменить мне руль. Эта работа заняла у меня дня три; потом, когда все показалось мне в удовлетворительном порядке и корабль был готов к плаванию, я поднял якорь и пустил корабль по направлению к западу, руководясь положением солнца и длиной своей тени утром, в полдень и вечером: я раньше уже научился определять градусы широты по числу дюймов в моей тени. Через несколько дней я изменил принятое сначала направление на юго-западное, надеясь встретить на этом пути один из островов Голландской Индии; но день проходил за днем, а никакой земли не встречалось. Представьте себе, если можете, мое положение: один-одинехонек на поврежденном корабле, среди безбрежного океана, мучимый страхом и сомнениями относительно участи своих товарищей и полный отчаяния и ужаса за свою собственную несчастную будущность!
Ночью я останавливал корабль и бросал обыкновенно якорь на время сна, а утром на рассвете вставал и, если погода оставалась спокойной, пускался в дальнейший путь. Наконец ожидания мои сбылись: однажды утром, совершенно неожиданно для меня, корабль тяжело ударился о риф. Я торопливо соорудил плот, захватил с собою некоторые необходимые вещи и сошел на скалу. Отлив был очень низкий, и бедный «Вейелланд» стоял совершенно на суше. Но когда вода поднялась, он опять всплыл и я двинулся дальше, научившись уже к этому времени хладнокровно встречать всякие случайности.
Прошло около двух недель после сильной бури, я все продолжал держаться прежнего направления и все время плыл без всяких препятствий или неприятных случайностей, если не считать того важного повреждения, о котором я уже говорил.
На тринадцатый день вечером, как раз перед заходом солнца, я увидел вдали островок и был крайне поражен, заметив дым, подымавшийся вверх клубами, очевидно, от сильного огня, разведенного на берегу. Я понял, что это были какие-нибудь сигналы, и сначала подумал, что приближаюсь к одному из дружественных нам малайских островов. Но более тщательное исследование сигналов убедило меня, что я ошибся. Приблизившись, я увидел несколько совершению нагих дикарей, которые с разъяренным видом бегали по берегу и потрясали своими копьями в моем направлении.
Подобное зрелище вовсе не понравилось мне; но когда я вздумал повернуть нос корабля, чтобы обойти остров, вместо того чтобы направиться прямо к нему, то, к своему горю, увидел, что сильное течение вынуждало меня идти прямо туда, где была, казалось, большая бухта или пролив. Мне не оставалось выбора, я должен был предоставить кораблю плыть по течению и скоро очутился в некоторого рода естественной гавани, в три или четыре мили ширины, со зловещими коралловыми рифами, возвышавшимися над поверхностью воды. Течение увлекало меня все дальше, и через несколько минут корабль попал в опасный водоворот, где успел несколько раз перекрутиться, прежде чем я успел вывести его оттуда. Вслед за тем нас понесло к самым скалам, и я должен был решительно стоять с веслом в руке, чтобы помешать кораблю удариться носом. Это были для меня минуты сильного испытания, и я до нынешнего дня удивляюсь, каким образом «Вейелланд» не разбился и не пошел ко дну, принимая во внимание, во-первых, то, что он уже поврежден, и во-вторых, что на нем не было ни одного живого существа, кроме меня, чтобы управлять им. Хотя бы два-три человека было у меня на подмогу!..
Я начал уже отчаиваться в том, что мне удастся вывести когда-либо корабль оттуда, как вдруг мы очутились в узком проходе, и тут я увидел, что нахожусь в проливе между двумя островами — Мельвилем и Батурета, как я после узнал.
Грозные, воинственные туземцы давно уже остались позади меня, и я никак не думал, чтобы мог встретить здесь какое-нибудь новое враждебное племя; как вдруг, как раз в то время, когда я был в самой узкой части пролива, я с ужасом увидел громадную толпу черных, совершенно нагих людей, — все гигантского роста, появившихся на скале прямо надо мною.
Они были страшно возбуждены и выпустили в меня целую тучу копий. К счастью, еще при встрече с первой толпой грозных дикарей, я устроил себе на палубе убежище из поставленных перпендикулярно люков, так что копья падали вокруг, не задевая меня. Тогда туземцы метнули в корабль множество бумерангов, но также без всякого результата. Некоторые из этих странных орудий задели паруса и бессильно упали на палубу; но остальные возвратились к бросившим их туземцам, стоявшим на скалах на расстоянии пятидесяти ярдов. Я оставил у себя бумеранги, попавшие на корабль; они имели около 24 дюймов длины и по виду очень походили на лезвие серпа; в самой широкой своей части имели от 3 до 4 дюймов ширины. Сделаны они были из очень твердого дерева и, без сомнения, могли нанести большой вред, если бросались с должной ловкостью и умением. Чернокожие подняли на берегу страшный шум и вой; они кричали как безумные, пуская в меня множество зубчатых стрел. Тот факт, что у них были бумеранги, показал мне, что я должен находиться вблизи материка Австралии. Между тем течение воды уносило меня все дальше, и я скоро оставил далеко позади себя туземцев, кричавших как бешеные.
Я увидел наконец опять открытое море и в конце пролива заметил маленький островок, к которому, как мне показалось, можно было рискнуть пристать. Но как только я приблизился к нему, на берегу быстро появилась новая толпа чернокожих; они бросились на свои плоты и стали грести по направлению ко мне. Но я, наученный горьким опытом, счел более благоразумным не подпускать их слишком близко к себе и потому поднял парус и направился в открытое море. На корабле был большой запас ружей и боевых запасов, и мне легко было бы потопить одну или две лодки туземцев и тем охладить их пыл. Но я удержался от этого, рассудив, что все равно ничего этим не выиграю. В это время я потерял уже всякую надежду увидеться когда-либо со своими друзьями; но, конечно, не отчаивался добраться до земли, хотя совершенно не знал, какого направления следовало мне держаться. Мне казалось, что если я направлюсь прямо на запад, то должен буду встретить Тимор или какой-либо другой остров Голландской Индии, и поэтому следующие три или четыре дня я плыл все в этом направлении без дальнейших приключений.
На четвертый день после встречи с воинственными чернокожими поднялся сильный ветер, и я занялся приведением корабля в такое состояние, чтобы он мог выдержать бурю, которая, как я предвидел, была неизбежна. Я стоял на корме и наблюдал тучи, собиравшиеся темными, серыми массами, как вдруг вода как-то странно поднялась почти у моих ног, и громадная черная рыба, очень похожая на сильно увеличенную морскую свинку, выпрыгнула на воздух подле самой кормы моего маленького корабля. Это было чудовищное, отвратительное на вид создание, величиною приблизительно с маленького кита. Странный способ, которым оно вздумало развлекаться около самого борта, сильно смутил меня, и я был сердечно рад, когда оно вдруг исчезло из вида. Погода между тем становилась все более бурной, и так как день клонился к вечеру, то я употреблял все усилия, чтобы держать нос корабля прямо против ветра; но это было слишком трудное дело. Я совершенно не в состоянии был смотреть зорко вперед, и мне оставалось только надеяться, что Провидение поможет мне выбраться из этой ситуации благополучно.
Все это время я не терпел недостатка в пище. Конечно, я не мог ничего сварить себе, но в моем распоряжении было много заготовленной провизии. Я кормил и Бруно; в эти дни я по целым часам разговаривал с ним, и эти разговоры были для меня большой поддержкой и утешением. Утром на пятнадцатый день я с обычной тщательностью исследовал горизонт, как вдруг, посмотрев вперед, увидел, что море было совершенно бело от пены буруна; я знал уже, что это означало близкое соседство подводного рифа. Я бросился отвести корабль в сторону, но было уже поздно; я не мог оказать ни малейшего влияния на его ход: он упрямо шел вперед к гибели.
Через несколько минут дно его со страшной силой ударилось о коралловый риф, и когда он засел на нем, то задрожал, бедный, с носа до кормы. Толчок был так силен, что я тяжело упал на палубу; Бруно, не будучи в состоянии ничем помочь мне, облегчал себя жалобными вздохами. Пока корабль оставался пригвожденным к скале, я с тоской осматривал местность со снастей; как вдруг совершенно неожиданно громадная волна навалилась на корабль со стороны кормы и наводнила палубу, опрокинув меня и произведя страшный беспорядок. Я со страшной силой был сброшен со снасти на палубу, и когда наконец поднялся, весь окровавленный и покрытый синяками, то первое, что я сознал, это мертвая тишина кругом, которая необычно поразила меня, потому что только несколько минут тому назад раздавался жуткий рев и треск буруна; притом я видел, что буря продолжала еще свирепствовать, но при всем том ни один звук не достигал моего слуха.
Наконец, постепенно, ужасная истина открылась для меня, — я совершенно оглох! Сильный удар волны прямо по голове совершенно лишил меня чувства слуха. До какой степени был я подавлен, когда понял трагичность ситуации, — этого никто не в состоянии себе представить. Но несчастье оказалось слишком преувеличенным; на следующее же утро я почувствовал внезапный треск в левом ухе и немедленно вслед за этим услышал глухой рев буруна, свист ветра и лай моей преданной собаки. Но правое ухо оказалось поврежденным решительно, я и до сих пор совершенно глух на эту сторону. Только мне пришло в голову, что мы минули уже самую страшную опасность, как, к величайшему моему ужасу, вновь раздался жуткий треск, и я догадался, что корабль опять ударился о другой риф. Несколько времени он оставался пригвожденным к месту, но затем волны снова вынесли его на глубину. Теперь безжалостные рифы ясно виднелись со всех сторон, а на некотором расстоянии я мог рассмотреть маленькую песчаную отмель, возвышавшуюся на несколько футов из вод лагуны.
Пока я осматривался кругом, палуба вдруг задрожала, и корабль начал быстро погружаться в воду со стороны кормы. К счастью, впрочем, вода в том месте не была особенно глубока. Когда я увидел, что ничто уже не может спасти корабль, что он весь залит водой, я отвязал кое-что самое необходимое, несколько бочонков, ящиков, сундуков, в надежде, что волны вынесут их на землю и что, быть может, они мне пригодятся впоследствии. Я оставался на корабле, пока только было возможно, стараясь соорудить плот, на котором можно было бы отвезти некоторые вещи на берег, но не имел времени окончить его.
Неумолимая вода поднималась все выше и выше, и наконец я, сделав знак Бруно следовать за мной, бросился в море и поплыл по направлению к песчаной отмели. Все лодки были потеряны еще вместе с малайцами. Море было еще очень бурно, и так как волны шли мне навстречу, то плыть было в высшей степени трудно. Собака, казалось, понимала, как трудно было мне бороться с волнами, потому что все время плыла непосредственно передо мною и постоянно оглядывалась, точно желая убедиться, что я благополучно следую за ней. С невероятными усилиями я наконец добрался до берега, но взобраться на него и стать на землю оказалось совершенно невозможным. Каждый раз, когда я пытался стать на ноги, сильный отбой отбрасывал меня назад; при моем крайне изнуренном состоянии это приводило меня в совершенное отчаяние. Один раз такая волна отбросила меня опять далеко на глубину, и я, уверен, потонул бы, если бы моя умная собака не явилась мне на помощь, схватив меня за волосы, которые, кстати, были очень длинны, так как я не стриг их с самого детства. Да, умный Бруно тащил меня, тащил, проплыл со мною уже половину дороги сквозь бурун, и, казалось, я не особенно затруднял его собою.
Между тем я успел несколько собраться с силами и тогда, высвободив свои волосы, уцепился зубами за конец хвоста Бруно, предоставляя ему таким способом помочь мне добраться до берега. Это было замечательно сильное и умное животное — австралийский дог, и ему, казалось, очень понравилась возложенная на него задача.
Наконец я почувствовал себя на берегу, хотя был до такой степени измучен и физически, и нравственно, что совершенно не в силах был держаться на ногах.
Как только я оправился настолько, что в состоянии был ходить, бросился осматривать маленький островок, или песчаную мель, на которой очутился. Слава Богу, мне и в голову не приходило тогда, что на этой пустынной, маленькой полоске песка мне придется прожить два с половиной года! Если бы я это знал тогда, то, наверно, сошел бы с ума. Это было ужасное, мрачное место, где не было ни деревца, ни кустика, чтобы оживить его однообразие. Никакими словами нельзя описать весь ужас тех мучительных месяцев, которые я провел там. Мой «остров» был не что иное, как маленькая песчаная коса, с немногими кустиками травы, пробивавшейся местами сквозь его иссушенную поверхность. Представьте его вы, — которые завидуют участи человека, заброшенного на роскошный тропический остров, простирающийся на несколько миль! Мой островок имел только 100 ярдов длины, 10 ярдов ширины и во время прилива возвышался над уровнем моря только на 8 футов! На нем не было ни малейшего следа какого-нибудь животного; но птицы, особенно пеликаны, водились в изобилии. Мой обход вокруг всего острова занял только десять минут, и вы поймете мое крайнее огорчение, когда я не нашел на нем пресной воды.
Как тревожно взглянул я тогда на свой корабль! До тех пор, пока он продержится, я буду в безопасности, потому что там был большой запас воды и провизии. И как я благодарил Бога за твердые коралловые укрепления, защищавшие остров от ярости изменчивого моря! Так как погода значительно улучшилась, и яркая луна уже взошла, то я решился плыть на корабль, чтобы захватить с него немного пищи и одежды.
Я достиг корабля без большого труда, взобрался на борт, но мог спасти только очень немногое, потому что палуба была уже под водою. Впрочем, я все-таки нырнул в одну из кают и захватил там несколько шерстяных одеял, но никакой пищи достать было нельзя.
С бесконечным трудом мне удалось соорудить нечто вроде плота из обломков дерева, которые плавали вокруг; на этот плот я сложил одеяла, дубовый сундук и еще несколько вещей, которые намеревался взять с собою на берег. Но когда я спустил свой плот на воду, то увидел, что прилив уже кончился и мне невозможно будет втащить вещи на берег в эту ночь. Погода была прекрасная, и так как передняя часть корабля еще значительно возвышалась над водою, то я решил здесь пробыть час или два, что было крайне необходимо для меня. Ночь прошла совершенно спокойно, — и я встал незадолго до рассвета.
Так как теперь наступил прилив, то я отвязал свой плот и двинулся к берегу. Прибыв на остров, я вторично осмотрел его с целью найти наиболее удобное место, где можно было устроить свой лагерь.
Во время этого обхода я сделал открытие, которое привело меня в ужас и глубокое отчаяние. Сначала мое внимание было привлечено человеческим черепом, который лежал около круглой ямки в песке около двух футов глубины. Рассмотрев ее внимательнее, я пришел к заключению, что яма могла быть вырыта цивилизованными людьми, заступом. Я начал разрывать пальцами песок с одной ее стороны и, не успев раскопать в глубину и нескольких дюймов, нашел множество человеческих костей.
Вид их поразил меня в самое сердце и вызвал самые тяжелые предчувствия. «Скоро и мои кости присоединятся к этой куче»! — подумал я. Моя душевная мука была так велика, что я должен был оставить это место и постараться заняться чем-нибудь, чтобы отвлечься. Но через какое-то время, когда мне удалось несколько побороть свое расстройство, я возобновил раскопку, и через час, или около того, вырыл из земли 16 полных человеческих скелетов; четырнадцать из них принадлежали взрослым людям, а два были несколько меньше, — вероятно, детские или, быть может, женские.
В это утро я позавтракал яйцами чаек, но воды достать себе не мог. Между девятью и десятью часами, когда вода стояла очень низко, я опять отправился без особенных затруднений на корабль и набрал столько различных вещей, сколько только мог перетащить на берег. Спускался я в каюты с большой опасностью, потому что вся внутренняя часть корабля была наполнена водой, и вытащил оттуда топор и свой лук со стрелами: я всегда очень любил заниматься стрельбой из лука и еще задолго до своего отъезда из Швейцарии славился там как отличный стрелок. Кроме того, я взял с собой кухонный котелок. Все эти, по-видимому, ничего не стоящие вещи имели для меня тогда важное, в буквальном смысле жизненное значение, особенно топор и лук, которые в последующие годы несколько раз спасали мне жизнь.
Я очень радовался, когда перетащил свой лук и стрелы, потому что с ними мог быть уверен, что всегда добуду себе в пищу морских птиц. На корабле был также большой запас пороху и много винтовок и ружей; но так как порох оказался совершенно негодным, то не стоило брать и ружей. При помощи топора я обрубил некоторые деревянные части корабля, которые могли служить мне топливом, и бросил их за борт, рассчитывая, что течение принесет их к берегу. Когда я опять вернулся на свой островок, то сразу же постарался добыть огонь. С этою целью я расщипал кусок веревки, затем начал сильно тереть друг о друга два куска дерева, обложив их легко воспламеняющейся паклей. Но у меня ничего не вышло из этого; после получасового трения куски дерева чуть только нагрелись, и, сколько я ни тер их, не получил ни одной искорки. В изнеможении опустился я наконец на землю, удивляясь, как же это дикари, о которых я раньше читал, ухитряются добывать огонь таким способом.
До сих пор у меня не было никакого убежища. Ночью я спал под открытым небом на песке, закутавшись в одеяло. На третье или четвертое утро я с восторгом нашел, что во время отлива можно было пробраться к кораблю пешком, идя по скалам. Благодаря этому я мог перетащить на берег несколько бочонков драгоценной воды, бочонок муки и множество разных припасов. И действительно, все это, а также паруса, брусья, канаты и прочее, я благополучно перенес на остров и после обеда устроил себе из брусьев и парусов нечто вроде навеса, который должен был служить мне спальней. В числе вещей, которые я перенес с корабля в следующий мой приход туда, был каменный топор, взятый нами у австралийцев просто как любопытная вещь, и множество особой породы дерева с берегов Новой Гвинеи; оно имело свойство тлеть в течение нескольких часов, не загораясь пламенем.

Самой настоятельной необходимостью для меня было раздобыть огонь, и я попробовал еще следующий способ: ударял стальным топором о камень, наложив сверху целую кучу легковоспламеняющегося материала, приготовленного мною из раздерганного куска шерстяного одеяла. На этот раз мой терпеливый труд увенчался успехом, и к невыразимой моей радости и успокоению скоро запылало яркое пламя костра около моей импровизированной палатки. Я очень заботился о том, чтобы огонь не потухал у меня никогда за все время моего пребывания здесь. Огонь всегда был моей главной заботой, я поддерживал его и днем и ночью, хотя бы только тлеющим, при посредстве новогвинейского дерева, о котором я уже говорил. Да и сам корабль, должен заметить, снабжал меня количеством топлива, вполне достаточным для обыденных нужд; кроме того, я постоянно находил на берегу куски разбитых судов, приносимые сюда неутомимыми волнами. Часто — о, очень часто — с содроганием думал я о том, какова была бы моя участь, если бы мой корабль потонул в глубине моря: долгая, мучительная агония, голод, доводящая до безумия жажда, и в конце концов ужасная смерть на этом далеко заброшенном клочке земли, — вот что ожидало меня!
Дни медленно проходили за днями; я не имел ни малейшего понятия о том, в какой части света был заключен: но понимал, что мой островок лежал в стороне от обычного пути кораблей, и вследствие этого мои надежды на избавление были очень сомнительны; эта мысль чисто причиняла мне мучения гораздо более ужасные, чем какая бы то ни было физическая боль.
Тем не менее я все же укрепил флагшток на самом возвышенном месте острова, — бедный островок, на очень небольшое число дюймов подымалась его высочайшая точка! На флагшток я навесил флаг низом вверх в надежде, что этот сигнал горя, быть может, будет замечен каким-нибудь заблудившимся кораблем и объяснит, что на этом берегу живет несчастный заброшенный. Каждое утро я ходил к флагштоку и тщательно осматривал горизонт в надежде увидеть какое-нибудь судно, но возвращался всегда разочарованным. Я уже привык к этому, но так живуча надежда в человеке, что хотя это разочарование повторялось изо дня в день в точение долгих недель и месяцев, но каждый раз оно причиняло мне острую боль. Вставал я обыкновенно с восходом солнца; я знал, что в этих тропических странах солнце всходило в шесть часов утра и заходило в б часов вечера, с самыми небольшими отклонениями в течение года. Ночью обыкновенно выпадала сильная роса, и воздух делался приятно освежающим; но днем стояла такая страшная жара, что я не в состоянии был выносить тяжести обыкновенной одежды и заменил ее шелковой шалью, которая покрывала мои плечи и тело.
Позже я совсем отказался от какой бы то ни было одежды. Я заметил, что когда на ней появлялась какая-нибудь прореха, то солнце так припекало незакрытое место, что на нем появлялись мучительные пузыри. Между тем, когда я стал ходить совершенно нагим и постоянно купался в море, то почти перестал страдать от палящих лучей тропического солнца. Все свои силы я посвятил остаткам «Вейелланда» из опасения, что с ним может что-нибудь случиться. Я очень старательно перетаскивал с него на берег все, что только было мне под силу. Эта работа заняла у меня несколько месяцев, но я успел перетащить даже большую часть жемчужных раковин. Работа была особенно трудна потому, что палуба была под водой и, кроме того, пройти к кораблю по скалам можно было только во время полнолуния и новолуния, затем судно начало ломаться, и я сам помогал этому своим бесценным топором.
Мука в бочонках, которые я вытащил на берег, была очень мало попорчена от погружения в воду; вода проникла в них только дюйма на два от краев и там образовала из муки род теста, которое защитило ту часть, которая находилась внутри, так что там мука осталась совершенно сухой. Впоследствии большую часть ее испортили долгоносики. Был у меня также запас драгоценных хлебных зерен, но они также, по крайней мере отчасти, были испорчены, несмотря на то что я просушивал их на солнце. Кроме того, я перенес на берег целые мешки бобов, рису, маису, ящики с консервами, молоко и овощи и множество других запасов пищи; был также небольшой бочонок с маслом и ромом. Мало-помалу я забрал с корабля все, так что через девять месяцев на скалах остался почти только голый остов его. Вещи эти я переносил изо дня в день, соображаясь с временами приливов и отливов. В большом сундуке, который приплыл из капитанской каюты, я нашел большой запас различных семян, и мне пришло в голову попробовать посеять их на островке. Я, конечно, знал, что соленая вода не может питать растения, знал также и то, что мне невозможно расходовать на них свой запас пресной воды, но мысль о посеве не выходила у меня из головы, и я напряженно думал, как бы это устроить.
Наконец я решил проделать любопытный опыт: взял большую раковину черепахи, наполнил ее песком и глиной, хорошенько смочил эту смесь кровью черепахи, размешал все это и посеял там хлебные зерна. Они быстро взошли и так скоро разрослись, что через самое короткое время я должен был рассаживать их. Этот блестящий результат вызвал во мне желание расширить свои посевы, и я скоро имел изящную маленькую ниву маиса и пшеницы, растущих в двух черепашьих раковинах, поливаемых кровью.
Долго оставался я вполне доволен тем простым навесом, о котором говорил раньше. Но когда начал переносить с корабля жемчужные раковины, то мне пришло в голову воспользоваться ими для постройки себе хижины. На корабле было около 30 тонн этих раковин, и сначала я плавал за ними просто для развлечения. Несколько недель прошло прежде, чем я перетащил достаточное их количество; после этого я приступил к постройке. Я сложил из них две стены, каждую около десяти футов длиной, трех футов толщиной и семи футов высотой. Ветер очень приятно продувал сквозь них. Промежутки между раковинами я замазал смесью глины и песка, внутри покрыл их брезентами и устроил, таким образом, очень удобное жилище. Когда наступило дождливое время года, я пристроил к нему третью стену, а перед входом сделал как бы двойной навес, под которым всегда поддерживал огонь. Сверху я покрыл свое жилище соломой, с гордостью пользуясь для этого соломой от собственных жатв. Котел, который я взял на корабле, очень долго был у меня единственной кухонной утварью, так что когда мне приходилось готовить себе что-нибудь, я устраивал печь наподобие тех, что видел у дикарей Новой Гвинеи. Рыбы у меня было всегда вдоволь, особенно голавлей; что же касается птиц, то стоило только отправиться в ту часть острова, где они выводились и выкармливались, и можно было просто палкой убить их сколько угодно. Пока у меня была мука, я делал себе пироги.
Для ловли рыбы я имел помощников, — целые сотни пеликанов. Те из них, которые должны были кормить птенцов, улетали рано утром и возвращались после полудня, принося в своих зобах от восьми до десяти фунтов великолепной свежей рыбы. Спустившись на остров, они выбрасывали рыбу из зобов на песок, и надо сознаться, я слишком часто забирал у них все. Пеликаны, не имевшие птенцов, возвратившись с охоты, подбрасывали свою добычу из зоба на воздух и затем ловили и глотали ее. При этом я часто с интересом наблюдал, как вороватые чайки, сидя на спине великана, замечательно ловко и грациозно перехватывали падающую рыбу. Свежая рыба вместе с печеным черепашьим мясом и фруктовыми консервами составляли роскошный обед.
После обеда, во время отлива, я обыкновенно купался, если не замечал поблизости акул, а после купания несколько времени бегал по берегу, чтобы обсохнуть, затем возвращался в свое жилище и громко читал по-английски, просто ради удовольствия услышать собственный голос. Книга была англо-французским Евангелием, я взял ее на судне. Я был тогда очень хорошим лингвистом и особенно хорошо говорил по-английски, еще задолго до моего отъезда из Швейцарии. После завтрака я обыкновенно отправлялся на ловлю особой породы рыб, называемой скатом. Это странное создание имеет около хвоста острый костяной зубец, около двух дюймов длины, который мог служить прекрасным наконечником для стрел. По виду эти рыбы походят на громадных камбал, только хвост у них длинный и суживается к концу. Они подплывают к самому берегу, так что я бил их со скалы просто острогой. Самая меньшая из тех, которые мне удавалось поймать, весила около 15 фунтов, и я никак не мог донести домой сразу более двух этих рыб средней величины. Они имеют способность наносить электрический, как мне кажется, удар, откуда и происходит их название. Во всяком случае, я получил однажды удар такой рыбы и не желал бы испытать его в другой раз. Хорошо еще, что это случилось в то время, когда я был среди дружественных чернокожих; иначе сильно сомневаюсь, был ли бы теперь еще жив.
Я медленно ходил по довольно глубокой воде вдоль берега и вдруг почувствовал страшную боль в левой ноге у лодыжки. Казалось, будто это был удар сильной электрической батареи; я упал в полном изнеможении, не будучи в силах шевельнуть пальцем для спасения своей жизни, хотя сознавал, что скоро захлебнусь. К счастью, бывшие со мною чернокожие вытащили меня на берег, и я постепенно оправился. На ноге у меня была только легкая царапина, но долго еще после этого я чувствовал сильную боль во всем теле. Когда я рассказал туземцам все эти симптомы, они объяснили мне, что я получил удар электрического ската.
Но вернемся к моей уединенной жизни на острове. Мясо электрического ската было жестко и безвкусно; я употреблял его только как приманку для акул. Черепахи появлялись на острове в большом количестве и клали свои яйца вдоль берега. На землю они выходили только по ночам, во время прилива, и когда мне хотелось полакомиться, я переворачивал одну из них на спину и оставлял так до утра, а тогда уже убивал ее топором. Раковины их я всегда употреблял на расширение своей нивы, которая постепенно все разрасталась и с течением времени заняла более двух третей острова. Маис и колосистые хлеба росли замечательно хорошо, и я обыкновенно успевал собирать по три жатвы в течение года. Солому я употреблял для подстилок; но так как разные насекомые слишком беспокоили меня, когда я лежал на песке, то я решил попробовать, не лучше ли мне будет спать в гамаке. Я сделал его из шкуры акулы, повесил в своей хижине и нашел, что он прекрасно соответствует своему назначению. Для меня было крайне важно победить в себе глубокую, тупую тоску, подавленность духа и почти умопомешательство. К счастью, я вообще был очень живого, деятельного характера и, еще будучи в Монтре, любил заниматься гимнастикой как развлечением. Теперь я сделался очень искусным акробатом и мог раза два или три перекувыркнуться, бросаясь с покатой крыши своей хижины. Кроме того, я очень высоко и ловко прыгал с палкой и без нее; наконец, заинтересовался еще устройством солнечных часов. Долго думал я, как бы сделать себе какие-нибудь более или менее верные часы, и наконец решил устроить на песке солнечные. Укрепив длинную палку совершенно перпендикулярно к земле, я очертил вокруг нее нужное пространство при посредстве жемчужных раковин и деревянных колышков. Часы высчитывались по длине тени, отбрасываемой палкой. Спать я всегда ложился с заходом солнца, вставал с его восходом. Но, несмотря на все мои старания заинтересоваться чем-нибудь, развлечь себя, все-таки часто мною овладевали приступы такой тоски и отчаяния, что я опасался совсем потерять рассудок и сделаться идиотом. Между прочим, у меня появилась религиозная мания, и как ни сильно старался я бороться с нею, но ум мой постоянно был занят некоторыми кажущимися противоречиями в различных толкованиях Евангелия апостолами. Я постоянно раздумывал над рассказами, которые св. Матфей передавал в одной форме, а св. Лука — в другой, вечно придумывал различные теологические доказательства и теории, пока не сделался почти маньяком. И как ни сожалел я об этом, но в конце концов убедился в необходимости прекратить чтение Нового Завета и, сделав над собою страшное усилие, стал принуждать себя думать о чем-нибудь другом.
Много времени прошло, прежде чем я победил в себе эту религиозную манию, но все же достиг этого в конце концов, и велика была моя радость, когда я увидал, что снова могу читать Евангелие, не вдаваясь в придирчивую критику и сомнения из-за всякой мелочи. Если бы я был заброшен на какой-нибудь Богатый остров, покрытый плодовыми деревьями, цветами, населенный животными, то я чувствовал бы себя совершенно иным. Но здесь у меня не было ничего, чтобы спасти мой рассудок от сумасшествия, кроме маленькой полоски песка, которую нельзя было даже и заметить на расстоянии каких-нибудь нескольких сот ярдов.
Но, вопреки кажущейся безнадежности положения, меня никогда не покидала уверенность в том, что когда-нибудь мне удастся спастись с этого острова, и вследствие этого через несколько месяцев после кораблекрушения я занялся сооружением лодки.
Я не имел никакого понятия об этом искусстве, но был убежден, что смогу сделать хоть что-нибудь в этом роде, хоть какое-нибудь судно, которое могло бы держаться и плыть по морю.
Весело принялся я за работу, но дорого заплатил за свое невежество горьким разочарованием и бессильными сожалениями. Один раз я сделал киль слишком тяжелым, другой раз употребил для работы дерево, слишком толстое для остова, хотя, конечно, тогда это было неизвестно мне. Разбитое судно снабдило меня необходимыми деревянными частями. Чтобы сделать доски гибкими, я мочил их с неделю в воде, потом высушивал на огне и тогда придавал им нужную форму. Через девять месяцев непрерывного труда, к которому впоследствии еще присоединилось сильное беспокойство, — то счастливые надежды, то болезненные опасения, — я наконец построил достойное, как мне казалось, судно, совершенно годное для плавания; оно имело футов 12 или 13 длины и четыре фута ширины. Это была тяжелая, безобразная на вид лодка, и много потребовалось труда, чтобы самому спустить ее на воду. Наконец, при посредстве катышей и рычагов, я достиг и этого и спустил ее в лагуну, но она сидела в воде страшно глубоко со стороны кормы. Она была совершенно непроницаема для воды, так как снаружи я обил ее кожей акулы, хорошо смазанной стокгольмской смолой, а внутри — толстым брезентом. Я укрепил на ней мачту, сделал паруса и весла. Когда она поплыла, я закричал от дикого восторга, а сочувствующий мне Бруно начал прыгать и визжать вместе со мною.
Когда все приготовления были окончены, я немного прошелся в ней по лагуне и затем решил вывести ее в открытое море. Но тут я сделал страшное открытие, которое почти лишило меня рассудка: она не могла пройти между рифами, окружавшими лагуну; в отчаянии я бил себя кулаками по голове. Когда первый острый порыв отчаяния прошел, я успокоился, и тут во мне зародилась надежда, что, быть может, во время высокого прилива можно будет провести ее над скалами. Я ждал, ждал, но увы! — опять разочарование. Девять месяцев непрерывного тяжелого труда, почти безумные надежды, — все это погибло: я не мог вывести лодку в открытое море через скалы, и так же невозможно было мне втащить ее обратно из лагуны на крутой берег и протащить затем через весь остров на противоположный берег, против которого рифы оставляли значительно широкий проход, через который лодка могла бы пройти. Таким образом, моя дорогая лодка осталась лежать в лагуне как совершенно бесполезная вещь, и вид ее наполнял мое сердце страшной болью и отчаянием. Но скоро в этой же самой лагуне я нашел для себя приятное развлечение. Примирившись, до некоторой степени, со своей неудачей, я начал кататься в лодке по лагуне.

Кроме того, здесь же я часто играл роль Нептуна самым странным образом: часто я отправлялся вброд к тому месту, где водились черепахи, подстерегал какую-нибудь особенно большую, фунтов в 600 весом, и спокойно усаживался верхом на ее спине. Испуганное животное старалось, понятно, уплыть, держась, обыкновенно, на один фут ниже поверхности воды. Если она погружалась глубже, я подвигался на ее спине дальше назад, и она тотчас поднималась. Управлял я своим странным конем следующим образом: когда я хотел повернуть налево, то закрывал своей ногой правый ее глаз и, наоборот, если мне хотелось повернуть направо, закрывал ей левый глаз. Когда я одновременно закрывал ей ногами оба глаза, она останавливалась так быстро, что я чуть не падал…

Прежде чем наступило дождливое время года, я покрыл соломой крышу своей хижины, как это уже было сказано, и сделал таким образом свое жилище настолько удобным, насколько это было возможно. Это была крайне необходимая предосторожность, потому что дождь шел по нескольку дней сряду непрерывно. Но я не сидел во время дождя взаперти, а гулял по-прежнему, так как не был стеснен никакой одеждой; мне даже нравились эти дождевые ванны.
Я постоянно изобретал разные средства сделать свою жизнь возможно более сносной и устроил себе качели; они много помогали мне убивать время. Занимался я также и прыганием с двумя длинными палками. Однажды я поймал молодого пеликана и приучил его сопровождать меня в прогулках и помогать мне ловить рыбу. Он же служил мне и в смысле ловушки при ловле птиц: сам я прятался в траву, а он прогуливался в нескольких ярдах от меня и привлекал к себе своих товарищей. Скоро вокруг него собиралась целая стая; тогда я выходил и убивал их палкой или ловил арканом.
Но все-таки, если бы не собака, — мой Бруно, почти не уступавший в уме человеку, — то я, кажется, умер бы. Я с ним разговаривал совершенно как с равным; мы были решительно неразлучны. Я читал ему длинные проповеди на разные тексты Евангелия, рассказывал подробности о своем раннем детстве и школьной жизни в Монтре; передал ему все свои приключения со дня роковой встречи с бедным Петером Янсеном в Сингапуре; пел небольшие песенки, из которых некоторые ему очень нравились, а других он терпеть не мог; если песня ему нравилась, он начинал жалобно выть. Я убежден, что эти постоянные, громкие разговоры с собакой спасли мой рассудок. Бруно был всегда в таком прекрасном настроении, что мне и в голову не приходило опасаться чего-нибудь с его стороны. Его спокойная и преданная дружба была одним из величайших благ, какие я знал в течение долгих и тяжелых лет. Когда я разговаривал с ним, он садился у моих ног и так умно смотрел на меня, что мне казалось, будто он понимал каждое мое слово.
Когда мною овладела религиозная мания, я говорил с ним о всевозможных Богословских вопросах, и это приносило облегчение, хотя, конечно, он ни разу не помог мне разобрать те запутанные вопросы, которые мучили меня в то время. Особенно нравилось ему, когда я говорил ему, что люблю его всею душою, что он для меня значит больше, чем знаменитые сен-бернарские собаки для путников, застигнутых ночью в снежных горах…
Я очень мало понимал в искусстве делать музыкальные инструменты; но часто мне страшно хотелось услышать хоть какой-нибудь шум, который мог бы заглушить доводящий меня до сумасшествия рев вечного морского прибоя; поэтому я придумал наконец сделать барабан из маленького бочонка, на открытый край которого туго натянул шкуру акулы. Я бил по нему двумя палочками в такт своему пению; и когда к этому присоединялась еще и собака, то рыча от неудовольствия, то визжа от радости, то эффект получался, если не музыкальный, то, во всяком случае, живописный. Я готов был сделать все, чтобы только заглушить этот несмолкаемый шум прибоя, от однообразного и заунывного звука которого не мог никуда уйти ни на минуту ни днем, ни ночью!
Прошло семь долгих месяцев; вдруг, осматривая однажды утром горизонт, я высоко подпрыгнул и закричал: «Боже мой! Парус! Парус». Я почти обезумел от восторга; но увы! — корабль был слишком далеко в море, чтобы заметить мои сумасшедшие сигналы. Мой островок был очень низок, и все, что я мог рассмотреть на корабле с такого расстояния, были только паруса. Он был от меня, вероятно, миль на пять; но я в величайшем возбуждении бегал как безумный взад и вперед по берегу, сильно крича и размахивая руками, надеясь привлечь этим чье-нибудь внимание на корабле. Но все было напрасно. Корабль, который, по моим соображениям, ехал на ловлю жемчуга, шел своей дорогой и наконец исчез за горизонтом. Никогда не смогу я описать той ужасной, сердечной боли, с которою я, охрипший и полусумасшедший, опустился в изнеможении на песок, глядя вслед исчезающему кораблю. За время своего пребывания на этом острове я видел пять кораблей, проходивших мимо; но все они находились слишком далеко в море, чтобы заметить мои сигналы. Один из этих кораблей был, как я определил, военным судном, плывшим под британским флагом. Я хотел поставить более высокий флагшток, потому что тот, который стоял, не был достаточно высок, как мне казалось, для своего назначения. С этой целью я связал вместе две длинные палки, но, к моему огорчению, они оказались слишком тяжелы, чтобы я мог поднять их. Когда показывался парус, Бруно всегда разделял мой восторг; в действительности, он первый всегда замечал их и начинал лаять и тащить меня до тех пор, пока не привлекал моего внимания. И я любил его еще и за горячее сочувствие моим припадкам сожаления и разочарования. Большая голова его в таких случаях ласково терлась о мои руки, горячий язык лизал их, а верные темные глаза смотрели на меня с такой преданностью и умом, что были более чем человечны; я уверен, что это спасало меня много раз. Кроме того, нужно заметить, что хотя моя лодка была совершенно бесполезна для того, чтобы покинуть остров, но я часто плавал на ней по лагуне с целью приучиться управлять парусами.
Я никогда не боялся недостатка в пресной воде; когда в сухое время года запас ее, взятый с корабля и собранный мною в дождливое время года, начинал истощаться, я перегонял морскую воду, — кипятил ее в своем котле и затем буквально по каплям собирал получающуюся пресную воду. Вода была единственным моим напитком, потому что весь чай и кофе, которые я нашел на корабле, были совершенно негодны к употреблению.
Сильные птицы, в изобилии водившиеся на острове, натолкнули меня на новую идею: почему бы мне не повесить им на шеи послания, которые они могли бы отнести к людям? А может быть они принесут мне помощь, — кто знает? Задумано — сделано. Я достал много пустых жестянок от сгущенного молока и при помощи огня отпаял у них дно. На этих кружках я нацарапал острым гвоздем послания, где в немногих словах сообщал о кораблекрушении и об ужасных условиях своей жизни, указал также приблизительное местоположение островка. Таких пластинок я приготовил несколько на различных языках: английском, французском, плохом голландском, немецком и итальянском. Потом я привязал их к шеям пеликанов, посредством рыбьих кишок и полосок из кожи акулы, — и испуганные птицы быстро понеслись через океан, до такой степени пораженные таинственной тяжестью, что никогда уже более не возвратились назад на остров. Лет двадцать после этого, когда я уже возвратился в цивилизованный мир, я как-то рассказал эту историю о птицах-посланниках нескольким старожилам Фримантля, в Западной Австралии, и они сообщили мне, что один старый лодочник, живший недалеко от устья Лебяжьей реки, видел много лет тому назад пеликана, на шее которого висела тонкая металлическая пластинка, на которой было написано на французском языке послание от какого-то потерпевшего крушение.
Моя жизнь была так страшно однообразна, а развлечения так ограниченны, что я с детской радостью встречал самую пустячную случайность. Например, однажды в чудную июньскую ночь я услыхал на дворе какой-то сильный шум; выйдя посмотреть, что бы это могло быть, я увидел целые тысячи птиц, очевидно, попугаев. Я пошел и опять лег, а утром с неудовольствием нашел, что мои гости съели почти весь мой хлеб. Птицы были еще здесь, когда я вышел утром. В воздухе стоял звон от их веселой болтовни, но шум этот показался мне чудной музыкой. Большая часть их была серовато-желтого цвета, с белыми клювами. Они совсем не боялись меня. Я свободно ходил между ними и даже не согнал их со своей нивы: так обрадовался случаю видеть жизнь кругом себя. Но на следующий день они, к величайшему моему сожалению, собрались улетать; когда они поднялись высоко к небу, я не мог не позавидовать их благословенной свободе.
Я вел счет этим долгим дням посредством жемчужных раковин, потому что не все они были употреблены на постройку моего жилища.
Я клал их в ряд, одну подле другой, по одной на каждый день, пока их не набиралось семь; тогда я откладывал одну раковину в другое место, означающее неделю. Другая кучка раковин означала месяцы; счет же годам я вел, делая нарезки на своем луке. Я всегда сверял свой оригинальный календарь с положением луны…
Я не суеверен, и необыкновенный случай, к которому я теперь перехожу, просто расскажу так, как он был, не представляя никаких собственных теорий для объяснения его. Уже много-много месяцев, быть может уже больше года, прожил я на этой ужасной маленькой песчаной полоске; в ту ночь, о которой я теперь говорю, я лег, по обыкновению, в крайне подавленном состоянии. Когда я уснул в своем гамаке, то видел чудный сон, будто несколько ангелов склонились надо мною, сострадательно улыбаясь мне. Видение было так ясно и живо, что я проснулся, спрыгнул с гамака и вышел на какие-то неопределенные поиски. Но через несколько минут я сам рассмеялся над своим безумием и вернулся назад.
Неоторое время лежал я, думая о своем прошлом, — о будущем я не смел думать, — как вдруг глубокая тишина ночи была прервана каким-то замечательно знакомым мне голосом, который отчетливо и ясно произнес на французском языке следующие слова: «Я с тобою! Не бойся! Ты возвратишься!» Я никогда не буду в состоянии передать свои чувства в эту минуту.
Это не был голос моего отца или матери; но он, без сомнения, принадлежал кому-то, кого я знал и любил, но не мог узнать. Ночь была как-то странно тиха; таинственный голос так сильно поразил меня, что я инстинктивно опять поднялся с гамака, вышел на двор и громко закричал несколько раз; но, понятно, ничего не произошло. С этой ночи я никогда уже более не отчаивался вполне, как бы дурно ни складывались обстоятельства.
Прошло два бесконечных года. Вдруг, однажды, погода внезапно переменилась, поднялся страшный ветер, грозивший разрушить мою хижину. Через несколько дней после этого, когда буря уже почти утихла, я вдруг услышал страшный лай Бруно на берегу. Через несколько секунд он стремительно бросился в хижину и не успокаивался до тех пор, пока не увидел, что я собираюсь следовать за ним. Выходя из хижины, я поднял весло, сам уже не знаю зачем, потом последовал за собакой на берег, удивляясь, что бы могло там так раздражить ее. Море еще немного волновалось, и так как не вполне рассвело, то я не мог ясно различать предметы на расстоянии.
Наконец, всматриваясь пристально в море, я заметил там какой-то длинный черный предмет, который, по моему мнению, был, вероятно, лодкой, качающейся на волнах. Тогда, должен я сознаться, я сам начал разделять восторг Бруно, особенно, когда через несколько минут хорошо рассмотрел крепко сделанный плот и на нем семь человеческих существ, лежавших ниц. Странное чувство охватило меня при виде этих людей: ведь я уже совсем отвык от общества себе подобных существ, но в то же время всеми помыслами своей души стремился возвратиться в него: такова уже, видно, натура человека! Нет слов, чтобы передать состояние моего духа. «Вот, — думал я, — люди, потерпевшие, подобно мне, кораблекрушение», и молил Бога, чтобы Он помог мне спасти их. Надежда иметь наконец подле себя людей, с которыми можно будет разговаривать, наполняла меня такой радостью, что я едва мог сдерживать себя, чтобы не броситься в воду и не поплыть самому к плоту, который был еще в нескольких стах ярдах от берега. «Неужели он никогда не подойдет?» — думал я со страстным нетерпением и вдруг с ужасом заметил, что непосредственно за ним следовала целая стая акул, выжидательно плавая вокруг. Увидя это, я уж не мог больше сдерживать себя; строго приказав собаке не следовать за мною, я бросился в волны и смело поплыл к плоту, стараясь во время плавания производить как можно больше шума и сильно всплескивая воду руками и ногами, чтобы испугать акул и заставить их уйти. Когда я наконец достиг плота, то нашел на нем четырех чернокожих — мужчину, женщину и двух мальчиков. Все они лежали распростертые, в полном изнеможении, по-видимому скорее мертвые, чем живые. Акулы все еще не хотели уходить и упорно следовали за плотом; но я наконец заставил их уйти, ударяя по воде своим веслом, при помощи которого я, со всею возможною поспешностью, старался привести плот: весло, которое я совершенно бессознательно захватил с собой, когда Бруно явился, чтобы позвать меня, оказало мне теперь неоценимую услугу. И во все долгие, переполненные приключениями годы, что я провел среди дикарей, всемогущее Провидение, бесспорно, руководило каждым моим поступком. Вы убедитесь в этом сами из моего рассказа о целой сотне затруднительных случаев…
Я причалил плот к берегу и перенес четырех чернокожих в свою хижину.
Прежде всего нужно было вернуть их к жизни; я пробовал влить им в рот холодной воды, но они не в состоянии были глотать. Тогда я вспомнил о роме, который нашел на корабле и хранил все время; теперь я достал его и растер им своих гостей, потом положил им на горла мокрые компрессы и завернул всех их в мокрые паруса, рассчитывая, что драгоценная влага проникнет в их организмы сквозь поры тела: мне казалось, что они умирали от жажды. Все четверо страшно исхудали и были до крайности истощены. Через три или четыре часа неусыпных забот я увидел, что старания мои достигают цели: сначала пришли в себя два мальчика, а немного погодя и мужчина обнаружил признаки жизни; позже всех, уже после полудня, очнулась наконец женщина. Никто из них, понятно, не был еще в состоянии подняться, и все то и дело пили воду. Казалось, они до следующего дня не давали себе отчета в том, что с ними случилось и где они находятся; но на другой день изумление их, — особенно при виде меня, — превзошло всякое описание. Прежде всего они выказали страшный ужас; и как ни старался я вызвать их доверие к себе, дружески ударяя их по плечу и пытаясь знаками дать им понять, кто спас их от ужасной смерти, не мог достичь этого: они долго не поддавались моему желанию сблизиться с ними. Мне кажется, они думали, что уже умерли и находятся в присутствии Великого Духа. Во всяком случае, только принявшись за еду, они примирились со мною. Тогда в них обнаружилось неудержимое любопытство; сначала они все смотрели на меня, потом начали ощупывать и поглаживать мою кожу, издавая при этом какие-то странные, гортанные звуки, очевидно, выражавшие удивление, причем ударяли себя по бедрам и щелкали пальцами.
Потом они начали осматривать все, бывшее у меня; и каждый предмет до такой степени возбуждал их удивление и восторг, что я от души благодарил Провидение, пославшее мне таких занимательных гостей. Самый больший интерес вызвала моя хижина с ее соломенной крышей; весело было смотреть на мальчиков, лет семи и десяти, приблизительно, следовавших за своими родителями, как они, непрерывно болтая между собой, бросали на меня украдкой полуиспуганные взгляды, осматривая все мое имущество. Женщина прежде всех перестала бояться меня; скоро она почувствовала ко мне даже полное доверие, между тем как муж ее относился ко мне с какой-то скрытой подозрительностью все время, пока мы не переехали на его родину. Это был грубый дикарь, с крайне неприятной наружностью, скрытного, мрачного характера; хотя он никогда не выражал открытой неприязни ко мне, но я, за все долгие шесть месяцев, что он был моим гостем на маленьком песчаном островке, никогда, ни на минуту, не доверял ему. Мне кажется, что я безрассудно оскорбил его и нарушил правила вежливости, обычной в среде его народа, отказавшись воспользоваться одним, смутившим меня предложением, которое он сделал мне вскоре после того, как пришел в себя.
Замечу здесь же, кстати, что его жене суждено было играть в высшей степени важную роль во всей моей жизни: вместе с нею я переживал такие приключения, такие тяжелые и странные обстоятельства, которые превосходили все, что я когда-либо читал даже в самых невероятных, полных вымысла рассказах.
Как только мои черные друзья оправились, я повел их к берегу и показал им свою старую лодку, лениво качавшуюся на водах лагуны. Довольно странно, я все это время очень заботился об этой лодке; держал ее всегда в чистоте и порядке, хотя не имел при этом решительно ничего в виду, — она, казалось, была совершенно бесполезна для меня. Эта маленькая, жалкая лодка, моего собственного изделия, вызвала у чернокожих просто безумный восторг и удивление, и они решили, что, вероятно, я приехал из очень далекой местности на таком «громадном пароме». И с этих пор, по всей вероятности, они уж действительно смотрели на меня, как на Высшего Духа из другого мира: прежде они только подозревали это. Потом я показал им остатки корабля, от которого к этому времени сохранился только голый остов, ясно, впрочем, различаемый между коралловыми скалами. Я старался объяснить им, что приехал в этой огромной лодке; но они не могли понять меня.
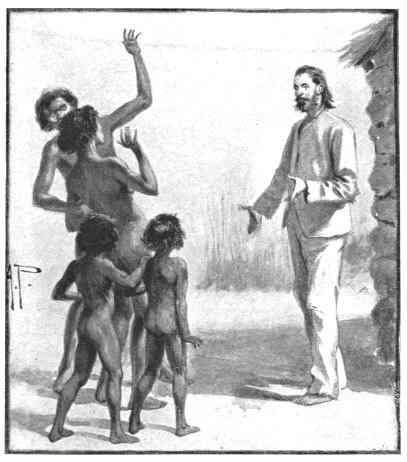
Возвратившись в хижину, я надел на себя платье, и когда показался дикарям одетым, они были так поражены, что я серьезно решил прекратить ряд своих чудес, иначе, пожалуй, они решительно боялись бы оставаться со мною. Им казалось, что платье составляет часть меня самого, т. е. как бы вторую мою кожу, и они были страшно испуганы и подавлены этим; ни один из них не осмеливался приблизиться ко мне.
Чернокожие не строили себе никакого убежища; ночью они спали просто на земле под открытым небом, располагаясь у той стены хижины, которая была за ветром; у ног их всегда горел яркий огонь. Я предлагал им одеяла и паруса, чтобы укрываться, но они отказывались, предпочитая лежать, прижавшись друг к другу для теплоты. Утром женщина приготовляла для них завтрак, состоявший из рыбы (большею частью — из голавлей), птичьих и черепашьих яиц, дичи, к которым присоединялись кое-какие роскошные добавления из моих запасов. Бруно долго не хотел относиться дружелюбно к новоприбывшим, вероятно, потому, что они обнаруживали крайнюю тревогу каждый раз, когда он лаял или вообще подавал голос.
Единственное, кажется, что выводило отца этого семейства из его постоянно мрачного настроения — это мои необыкновенные акробатические представления, которые приводили обоих мальчиков в какой-то истерический восторг. Отец, мать и дети старались подражать моим кувырканию, хождению колесом и всяким кривляниям, но так отчаянно падали при этом (однажды мрачный мужчина чуть не сломал себе шею), что скоро перестали. Отец мог просиживать целые часы, не пошевелив ни одним мускулом, наблюдая мои прыжки. Я, собственно, никогда не боялся его, но очень заботился о том, чтобы он не завладел каким-нибудь из моих оружий; из предосторожности я также поломал и бросил в воду те копья, которые он привез с собою на плоту. Поэтому я был уверен, что он не мог сделать мне большого зла, даже если бы и пожелал. Я несколько раз повторял ему, что, быть может, когда-нибудь смогу помочь ему возвратиться на его родину в моей лодке; и это обещание, надо сказать, несколько выводило его из обычной как бы летаргии, и он казался глубоко благодарным. Постепенно я слегка ознакомился со странным языком этих чернокожих и вел длинные разговоры с женщиной, которая, в свою очередь, выучила несколько английских слов, произносимых ею прекомично. Это была женщина среднего роста, стройная и кроткая, с умным лицом и блестящими глазами. Она была очень интересной собеседницей, и когда я стал лучше понимать ее странный язык, выражавшийся при помощи разных знаков, прищелкиваний и пр., то узнал от нее много удивительного о нравах и обычаях австралийских туземцев; впоследствии эти сведения оказались в высшей степени полезны для меня. Ямба, так звали ее, сказала мне, что когда я спас их, ужасная буря, свирепствовавшая недели за две перед тем, унесла их далеко-далеко от их родины.
Однажды Ямба случайно увидела свое изображение в маленьком ручном зеркальце, которое висело у меня в хижине около гамака. Она беззаботно сняла его и поднесла к самому лицу. Почувствовав прикосновение стекла, она задрожала и торопливо обернула его другой стороной; затем бросила на него еще раз долгий-долгий взгляд и, страшно вскрикнув, выбежала из хижины.
Впрочем, скоро она победила в себе этот страх и часто, подобно всем женщинам, простаивала по целым часам перед зеркалом, чмокая все время губами от удивления и выделывая самые смешные гримасы, любуясь их эффектом. Но на ее мужа зеркало произвело совершенно другое впечатление; когда однажды Ямба поднесла его к лицу мужа и тот увидел в нем свое изображение, то он испустил ужасный вой и со всех ног бросился на другой конец островка, в состоянии самого поразительного ужаса; и никогда он не мог победить в себе этого страха и недоверия к зеркалу, которое, очевидно, он считал каким-то живым существом, по всей вероятности, каким-нибудь духом, которого следует бояться и избегать. Зато мальчики нисколько не боялись зеркала; только увидя его в первый раз, они были, естественно, поражены, а потом зеркало служило для них неиссякаемым источником развлечений и удивления. Во всяком случае, я глубоко благодарил Бога за то, что Он послал мне моих новых товарищей. И как, вероятно, вы и сами догадываетесь, они доставляли мне столько же развлечения и удовольствия, сколько я и все, принадлежавшее мне, — им.
Каждый вечер вся семья собиралась вокруг огня, и тут все они пели жалобные, в некотором роде как бы религиозные песни, в которых, как я узнал это впоследствии, они воспевали все чудеса, которые видели на острове белого человека. Иногда это занятие сопровождалось грубым пиршеством, и все заканчивалось корробореем. Корроборей есть, в сущности, единственное развлечение или способ отдохновения, — называйте, как хотите, — известный туземцам Австралии, и впоследствии мне придется много говорить об этом странном как бы священнодействии. Но вечернее пение не следует смешивать с корробореем. Оно было только как бы вступлением к «религиозному служению», подобного которому я никогда не видал и которое отчасти имело целью умилостивить или отогнать души умерших, которых чернокожие страшно боятся.
Дикари пробыли у меня уже недели две или три, как вдруг однажды вечером мужчина подошел ко мне и в совершенно понятных мне выражениях сказал, что он хочет покинуть этот остров и вернуться на родину. Он прибавил, что, по его мнению, ему легко можно добраться с семьей до материка, к своим друзьям, на том же самом плоту, который привез их сюда. А Ямба, это преданное и полное чего-то таинственного создание, указала мне на яркую звезду на далеком горизонте. «Там, — сказала она, — лежит страна моего народа». Это почему-то вселило в меня убеждение, что материк должен быть не более как в двух или трех стах милях от острова, и я решил отправиться туда с ними, в надежде, что это путешествие послужит началом моего приближения к цивилизованному миру и к моей родине. Мы не теряли времени. В одно счастливое утро я, Ямба и ее муж, втроем отправились к роковой лагуне, окружавшей мою драгоценную лодку, и без особенных затруднений втащили ее на крутой берег, проволокли через весь остров и наконец со страшным плеском, при восторженном «ура» с моей стороны, она соскользнула в воду, — она таки стала орудием избавления, которое было совершенно непроницаемо для воды и вполне пригодно для плавания по морю, хотя по-прежнему сидело слишком глубоко в воде кормою. Г-н Ямбы нетерпеливо хотел ехать сейчас же; но я указал ему, что ветер постоянно, изо дня в день, дул все в противоположную сторону, и что вследствие этого мы вынуждены отложить на несколько месяцев наш отъезд. Г-н Ямбы не считал нужным делать какие-нибудь приготовления к путешествию; по его мнению, нам стоило только сесть в лодку и, направив паруса, пуститься в безграничное море. Но я позаботился о воде, провизии и прочих жизненных припасах. Таким образом, мессир Ямбы вынужден был спокойно выжидать еще несколько времени; впрочем, это ожидание не так удручало его, как я мог предполагать.
В течение этого периода нетерпеливого ожидания мы сделали несколько пробных вояжей по морю и все время, по возможности, приспособляли лодку к нашему великому и торжественному путешествию. Я заботился о том, чтобы лодка была снабжена достаточным количеством провизии и всего необходимого, давно уже отложенного с этой целью, и в последнюю минуту перед отплытием втащил на лодку еще трех огромных живых черепах, которые снабдили нас свежим мясом до самого нашего приезда в Австралию. Взят был также большой запас воды, которая хранилась в пузырях, сделанных из внутренностей рыб и птиц; одним словом, сделано было все, что только возможно, чтобы запастись всем необходимым для этого в высшей степени важного путешествия. Но подумайте только, какие ужасные сомнения и страх должны были мучить меня; ведь я только предполагал, что материк должен быть недалеко от нас, но не знал наверно, через сколько времени мы можем достичь его, и поэтому не мог быть уверен, будет ли достаточен тот запас пищи и воды, который мы берем с собою. Наших запасов, при свободном обращении с ними, могло хватить недели на три приблизительно. Мы взяли с собой также несколько одеял, гвоздей, смолы и других вещей, которые могли бы нам пригодиться. Лодка двигалась при посредстве большого косого паруса, конец которого мы всегда держали свободно в руках и никогда не прикрепляли из опасения, чтобы внезапным порывом ветра не опрокинуло лодку.
Прошло шесть месяцев с тех пор, как чернокожие поселились у меня; и вот однажды утром мы все вышли из нашей хижины и направились к берегу. Мальчики дико визжали от радости и размахивали пучками зеленых колосьев, сорванных ими на моей ниве; мать их весело подпрыгивала, да и я сам едва мог сдержать сильный прилив восторга. Даже мистер Ямба просиял, видя приготовление к отъезду. Я не разрушил свою хижину из жемчужных раковин и оставил ее совершенно в том же виде, как она прослужила мне в течение двух с половиной лет. Ящик же с драгоценным жемчугом был зарыт в песок на конце островка, по всей вероятности, он и теперь лежит там; конечно, возможно, что, во время сильной бури волны размыли песок и снесли это сокровище в море; но вероятнее, наоборот, еще большие слои песку отложились над этим огромным богатством. С собой я не смел брать ничего, что не было крайне необходимым для жизни; да и какую пользу мог бы принести мне этот жемчуг в моем отчаянно рискованном путешествии на простой самодельной лодке по неизвестному океану, в сопровождении еще четырех человек?! Даже целые слитки самородного золота оказались бы совершенно бесполезными для меня в последующие годы, а не то что жемчуг. Гораздо важнее для меня было в то время здоровье, но, благодарение Богу, тогда я был очень крепок и силен, чем был обязан большому количеству съеденного мною черепашьего мяса…
Наш отъезд в последних числах мая 18… года навсегда запечатлелся в моей памяти. Когда я отчалил от спасительного для меня, но ужасного берега, то от всей души поблагодарил Создателя за то, что Он помогал мне вынести все страшные опасности, которым я подвергался, и сохранил мне все время доброе здоровье. Что касается чернокожих, то когда лодка начала отчаливать, все они пришли в такой сильный восторг, что я боялся, как бы они не опрокинули маленькое судно в своем возбуждении.
Дул довольно сильный попутный ветер, и скоро моя хижина на островке начала понемногу скрываться из виду. Ямба сидела подле меня на корме; муж же ее, как только мы вышли в открытое море, лег, скорчившись, на другом конце лодки и не покидал своей спокойной позы, пока мы не достигли материка, все время сохраняя угрюмое молчание. Зато пил и ел он страшно много, будто мы находились в стране, «текущей млеком и медом», а не на лодке с очень ограниченным запасом провизии в виду путешествия, которое должно было продолжиться неизвестно сколько времени.
Ветер не изменял своего направления ни разу за все это время, так что мы совершенно безопасно могли плыть безостановочно и днем и ночью, без малейших уклонений в сторону от нашего пути. Но было очень тяжелым испытанием провести дни и ночи, сидя в лодке в этом томительном однообразии, хотя и в обществе нескольких человек. Дней через пять мы увидели маленький островок и причалили к нему единственно для того, чтобы хоть немного размять свои онемевшие члены. Островок был необитаем, но весь, до самых берегов, покрыт роскошной тропической растительностью. Возможность гулять на настоящей земле, видеть прекрасные деревья, травы и цветы — показалась мне чем-то совершенно необычайным после стольких долгих и тяжелых месяцев заключения на бесплодной песчаной полоске. Мы испекли здесь немного черепашьего мяса и, погуляв несколько часов, сели опять в лодку и двинулись дальше. Управлял все время я, но каждый вечер Ямба сменяла меня на несколько часов, обыкновенно от шести до девяти приблизительно; это время я посвящал хотя и короткому, но глубокому сну. Муж же ее никогда не подумал предложить мне свою помощь; да мне казалось, что не стоило и беспокоить его.
Таким образом, мы безостановочно плыли день и ночь, встречая иногда акул и даже китов; и можете ли вы представить себе, что я почувствовал, когда на десятый день утром Ямба вдруг схватила меня за руку и прошептала: «Мы приближаемся наконец к моей родине». Я быстро вскочил на ноги и, действительно, через несколько мгновений различил в тумане очертания материка. Но вместо того чтобы направиться прямо к нему, мы пристали к прекрасному маленькому островку, лежавшему у устья большой бухты, и высадились здесь, чтобы отдохнуть день или более. Как только мы сошли на берег, Ямба и ее муж немедленно развели несколько костров, дым от которых, очевидно, должен был служить сигналом для их друзей на материке. Сначала они нарубили моим топором множество зеленых ветвей и сложили их в виде пирамиды, а потом добыли огня посредством трения двух кусков дерева известной породы; когда дым поднялся вверх, мы почти тотчас же увидели ответные сигналы с противоположного берега. Немного погодя, после этого странного обмена сигналами (как я узнал впоследствии, этот обычай распространен между всеми туземцами Австралии), мы увидели три плота, направлявшихся прямо к нам; на каждом плоту было по одному человеку. Я смотрел на их приближение со смешанным чувством страха и надежды. «Я во власти этих людей», — думалось мне. Они могут растерзать меня на куски, всячески мучить, убить и съесть меня, если пожелают; я был решительно беспомощен. Но эти мысли только на минуту промелькнули в моей голове; затем мною овладела спокойная уверенность, которую я почерпнул в светлом взоре моей покровительницы Ямбы, не говоря уже о таинственном голосе надежды и утешения, который я слышал в торжественной тишине достопамятной тропической ночи. Я знал, что эти люди — людоеды, потому что во время наших долгих разговоров с Ямбой на песчаном островке она описывала мне их отвратительные празднества после удачной войны. Тем не менее я ожидал прибытия плотов со всею любезностью, которую только мог выразить, хотя все-таки позаботился о том, чтобы Ямба первый встретил их.
Он пошел к ним навстречу. Новоприбывшие, сойдя на землю, остановились на небольшом расстоянии от человека, которого они приехали встретить. Затем Ямба и они стали медленно приближаться друг к другу, пока наконец каждый из них не коснулся носом плеча другого. Это был, по-видимому, туземный способ приветствия. После этого г-н Ямбы подвел своих друзей ко мне, и я, насколько у меня хватило уменья, проделал ту же смешную церемонию. Надо сознаться, что при виде меня мои новые друзья обнаружили страшный ужас; но г-н Ямбы ясно доказал им, что я не вернувшийся на землю дух мертвого, но такой же человек, как и он, конечно великий и даже таинственный, но все же человек. Хотя к этому времени кожа моя значительно загорела и потемнела, но все же она бесконечно поражала чернокожих. Они робко дотрагивались до нее, ощупывали мое тело, ноги, руки, и им страшно хотелось узнать, чем было покрыто мое тело. Но мало-помалу общее возбуждение несколько улеглось, и тогда новоприбывшие занялись подачей новых дымовых сигналов своим друзьям на материке; на этот раз было разложено пять отдельных костров, расположенных кругообразно. Интересно было наблюдать способ сообщения туземцев между собою. Каждый последующий костер зажигался спустя несколько секунд после того, как предыдущий разгорался полным пламенем. В конце концов дым от всех костров соединился в один столб и в виде громадной пирамиды поднялся на громадную высоту в тихом, горячем воздухе. Мне объяснили значение этих сигналов; они должны дать знать народу на материке, что передовая партия, выехавшая нам навстречу, нашла меня и четырех моих спутников, и что мы вернемся на материк все вместе немедленно… Между тем я к этому времени, благодаря терпеливым и разумным урокам Ямбы, мог уже довольно бегло разговаривать на странном языке чернокожих и довольно порядочно понимал их, если они не трещали слишком быстро.
Вскоре после наших сигналов мы увидели столбы дыма, подымавшиеся с разных сторон материка. Каким образом можно было посредством подобных сигналов дать знать о присутствии белого человека и всех его чудес, я решительно не в состоянии себе представить. Между тем Ямба занялась приготовлением большого пира для приезжих, видную роль в котором играли сохранившиеся еще у нас остатки огромной черепахи, которую чернокожие ели с огромным аппетитом. Потом я объяснил им, что нуждаюсь в продолжительном отдыхе, так как долгое путешествие очень утомило меня, и после этого объяснения удалился от них, повесил свой гамак в тенистом уголке и проспал, ничем не тревожимый, приблизительно с полудня до позднего утра следующего дня, когда верная Ямба, заботливо охранявшая мой сон, разбудила меня, сказав, что скоро должно начаться пиршество.
Освежившись продолжительным сном, я присоединился к чернокожим и, к безграничному их восторгу и удивлению, позабавил разными акробатическими штуками, — прыжками и всевозможными кривляниями. Некоторые из чернокожих, наиболее возбужденные, вздумали было подражать моим легким прыжкам, но каждый раз падали самым печальным образом; однако эти неудачи вызывали только еще более безумный восторг, чем мои представления. Потом чернокожие удалились и через некоторое время возвратились, пышно разукрашенные желтыми, красными и белыми полосами на всем теле. Эта пестрая раскраска служила приготовлением к великому корроборею в честь моего прибытия, и я, понятно, должен был принять участие в этом странном священнодействии. Оно продолжалось целую ночь, с необыкновенной торжественностью; от меня требовалось только сидеть тут же, ударяя палками одна о другую, и принимать участие во всеобщих криках. Это была очень легкая роль, но слишком однообразная, поэтому я еще до полуночи отправился опять в свой гамак. Утром на следующий день мы увидели целую флотилию пилотов, приближающихся к нам со стороны материка, и вскоре на берег вышли от пятидесяти до шестидесяти туземцев; они выразили то же комичное удивление при виде меня и всего, принадлежащего мне, к которому я уже привык. Несколько часов спустя все мы покинули остров; впереди всех плыл я в своей лодке, которая, между прочим, вызывала почти такое же удивление, как и я сам. Дикари очень быстро двигали вперед свои плоты, действуя только одним веслом, которое они погружали сначала на одну сторону плота, а потом очень быстро переносили на другую, не причиняя ни малейшей качки своим, по-видимому, неустойчивым судам.
Когда мы приблизились к материку, я увидел на берегу новую громадную толпу чернокожих; тут были мужчины, женщины и дети, все совершенно нагие. Как только мы причалили, они опрометью бросились к моей лодке и с любопытством и большою тщательностью осматривали все, находившееся в ней.
Я сидел в лодке совершенно растерянный и оглушенный громкой болтовней и восторженными криками удивления, раздававшимися вокруг меня. Наконец чернокожие, выехавшие на остров встретить нас, пришли ко мне на помощь; они проводили меня с видимой гордостью сквозь толпу и привели к небольшому возвышению, с которого виднелась деревушка туземцев. Тут я узнал, что весть о моем прибытии успела уже распространиться на сотни миль во все стороны; вот почему на берегу собралась такая громадная толпа.
Деревушка, к которой мы подошли, состояла всего из тридцати, или около этого, шалашей, кое-как построенных из бревен и предназначенных только для защиты от ветра: они имели форму полумесяца, были без всякой крыши и с передней стороны оставались совершенно открыты. Но между ними я заметил две или три хижинки, в форме улья, размерами около 7 футов в вышину и 10 футов в диаметре, с узким маленьким отверстием у основания, через которое жильцы проникали в нее. Внутри было совершенно темно.
Мне сообщили, что я могу получить в свое распоряжение или шалаш из бревен, или ульеобразную хижину, что пожелаю; причем, очевидно, были уверены, что я предпочту последнюю. Моя неутомимая Ямба и несколько других женщин немедленно принялись за работу, и менее чем через час моя хижина была совершенно готова. Но я не остался наблюдать, как производилась эта постройка, а отправился с несколькими туземцами, вызвавшимися быть моими проводниками, осмотреть другие деревушки. Всюду меня встречали с величайшим восторгом и выражениями уважения и дружбы. Простой кусок красной японской шелковой материи, спускавшийся у меня ниже пояса, возбуждал большое удивление чернокожих, но больше всего они были поражены следами моих ног, оставляемыми на земле. Сами они во время ходьбы выворачивали ноги как-то на бок, так что, вместо полного отпечатка всей ступни, получался только, так сказать, половинный след; я же при ходьбе становился на всю ступню, и отпечаток ее на песке так сильно поражал туземцев, что они собирались толпой у каждого моего следа, внимательно рассматривали его, низко нагнувшись над ним, и хлопали руками или взвизгивали от удивления.
С минуты нашего приезда на материк я почти не видал мистера Ямбу. Мне кажется, тот факт, что он сделал такое большое путешествие, видел так много света, уже не говоря о том, что он привез с собой такое странное создание, как я, — все это сделало его в некотором роде великим человеком в глазах его соплеменников, и все относились к нему с таким уважением, что он очень возгордился собою и стал пренебрегать своей верной женой.
Что касается меня, то туземцы положительно надоедали мне своим гостеприимством; их подарки в виде всевозможного рода пищи почти завалили мою хижину; тут были и такие лакомые вещи, как мясо кенгуру и двуутробки, крысы, змеи, древесные черви, рыба и т. п. Печеные змеи, надо заметить, были довольно вкусны, но так как туземцы совсем не употребляли соли, то мясо теряло свои вкусовые качества, и я не могу сказать, чтобы особенно наслаждался этим туземным лакомством. Змеи пеклись обыкновенно целиком, вместе с кожей, и мясо их было очень нежно и сочно, только имело неприятный запах. Способ печения мяса был следующий: туземцы выкапывали руками в песке яму и на дно ее клали то, что надо было печь. Поверх пищи насыпался слой песку, потом клалось еще несколько камней и на них уже разводился огонь… Крыс здесь было очень много: иногда они собирались в таком количестве, что наносили серьезный вред. Они здесь были громадной величины и различных темных цветов; мясо их довольно вкусно. Ловлей их занимались всегда женщины, и делали это очень просто: всовывали палку в крысиные норы и, когда они выбегали оттуда, убивали их этой же палкой. На женщинах вообще здесь лежало много различных обязанностей; они должны были доставать запасы жирной глины или земли, которой мужчины смазывают свои тела, чтобы предохранить их от действия солнечных лучей и от укусов насекомых; кроме того, они же должны были заготовлять различные краски, которыми туземцы расписывали свои тела, и горе той женщине, у которой ко времени корроборея не окажется полного запаса всех красок для своего мужа! Одной из самых главных обязанностей женщин было также отыскивание различных кореньев для семейного обеда; самым необходимым из этих кореньев, — кроме прекрасного на вкус ямса, — был корень особого вида водяной лилии, на вкус немного напоминающий сладкий картофель.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ