ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ СОВЕТНИК КРЕМЛЯ
Звездный час, тот единственный шанс, который дает судьба и который так легко упустить, совпал у нескольких наших видных политиков с тривиальной пьянкой в новом доме, построенном Управлением делами ЦК КПСС в престижном районе столицы.
Сейчас уже трудно установить, был ли в тот вечер будущий генеральный секретарь и первый президент Советского Союза действительно пьян или же удержался в рамках разумной достаточности. Тот, кто наливал, молчит. Будущий президент, не отрицая самого факта употребления горячительных напитков по случаю полувекового юбилея старого друга по комсомолу, выражался туманно:
— Как у нас такие даты отмечаются, известно. По-русски — широко, с обильным угощением, дружеским разговором, с шуткой и песней… Нравы того времени были таковы, что выпивать приходилось не так уж редко. Но мое состояние было вполне нормальным.
Пока будущий президент гулял, определялась его судьба. Перспективного политика пожелал видеть генеральный секретарь, чтобы окончательно решить: повышать или не повышать. На поиски бросили весь могучий аппарат ЦК КПСС, но проходил час за часом, а будущий президент как в воду канул.
Через много лет после этой судьбоносной пьянки сразу несколько мемуаристов пожелали рассказать о ней всю правду.
Первым свою версию изложил бывший помощник Горбачева, а потом предавший его активист ГКЧП Валерий Иванович Болдин в книге «Крушение пьедестала».
В 1978 году, пишет Валерий Болдин, крепко выпив и поскандалив с женой, ночью скончался от инфаркта член политбюро и секретарь ЦК по сельскому хозяйству Федор Давыдович Кулаков. На смотрины в Москву привезли кандидата в преемники — первого секретаря Ставропольского крайкома партии Михаила Сергеевича Горбачева.
О причинах вызова в столицу он, наверное, догадывался, но определенно никто ничего не говорил. Отлучаться из гостиницы не возбранялось. Всё же держалось в большом секрете. Посему в решающую минуту кандидат исчез. Ушел утром из гостиницы — и пропал. Брежнев был недоволен, Черненко злился. Речь уже зашла о том, чтобы привести к генеральному секретарю другого кандидата — полтавского секретаря Федора Трофимовича Моргуна, который гостиницу не покидал.
— Неизвестно, чем бы всё кончилось, но знатоки жизни членов ЦК отыскали водителя машины, отвозившего Михаила Сергеевича, выяснили, кто живет в том доме, куда его доставили, и тогда определили, где он может быть, — вспоминал Валерий Болдин, намекая на некую фривольность поведения своего бывшего начальника, вырвавшегося на свободу из-под надзора Раисы Максимовны.
А кто же нашел Горбачева?
Виктор Васильевич Прибытков, бывший первый помощник Черненко, недолго занимавший столь высокий пост и переброшенный при Горбачеве из ЦК КПСС в цензуру (Главлит), горько сожалел о содеянном в книге «Аппарат».
Виктор Прибытков вспоминал, как Черненко гневно сказал ему:
— Если за тридцать минут не найдешь Горбачева, то у нас есть и другие кандидатуры на секретарство!
Исполнительный Прибытков отыскал Горбачева. Но не допросив шофера (версия Болдина), а обратившись к своему приятелю, работавшему в ту пору у Горбачева в Ставрополье. Тот и подсказал, где искать шефа — на квартире одного ставропольца Марата Владимировича Грамова, заместителя заведующего отделом пропаганды ЦК и будущего председателя Госкомитета по спорту.
«Веселенький» Горбачев успел вовремя попасть на Старую площадь, получил аудиенцию у Черненко, и на следующий день на пленуме ЦК Михаила Сергеевича сделали секретарем ЦК КПСС. Началось его восхождение к власти.
— Если бы я тогда оказался чуть менее расторопным, всё сложилось бы по-иному, — вздыхает Прибытков. — Кто знает, поищи я его чуть дольше, и стал бы секретарем ЦК КПСС совсем другой человек. Черненко потом поминал мне эту историю: ну, вот нашел ты его. Вот так, со смехом…
Сам Михаил Горбачев с этой же исторической пьянки начал свой увесистый мемуарный двухтомник «Жизнь и реформы». По версии Горбачева, не было ни болдинского шофера, ни телефонного звонка Прибыткова. Просто опоздавший на дружескую вечеринку товарищ сказал Горбачеву, что его давно ждут в ЦК. Михаил Сергеевич покинул гостеприимных хозяев и поехал к Черненко.
Конечно же, мемуары политиков — весьма сомнительный с точки зрения познания истины источник. Но тот день был действительно звездным в судьбе Горбачева. Он сделал первый шаг к тому, чтобы стать самостоятельным политиком и изменить судьбу страны. В определенном смысле это был звездный час и для мелких аппаратных чиновников, которые могли бы, наверное, при желании и при благоприятном для них стечении обстоятельств сломать Горбачеву карьеру. И для тех, кто, напротив, уверен, что помог Михаилу Сергеевичу добраться до Кремля.
Некоторые знатоки утверждают, что и Евгений Максимович Примаков сыграл свою роль в том, что Горбачев пришел к власти.
Сын покойного министра иностранных дел Андрея Андреевича Громыко — Анатолий Громыко, член-корреспондент Академии наук, лауреат Государственной премии, в 1985 году был директором Института Африки.
— Примаков обладал аналитическим умом и тонким чутьем, я бы даже сказал, невероятным нюхом на аппаратные игры не только в академии, но и на Старой площади, — рассказывает Анатолий Громыко. — Мы с ним встречались часто. Я всегда помогал Евгению, он — мне…
По словам Анатолия Громыко, в последние дни жизни Черненко к нему в институт приехал Примаков. Разговаривать в служебном кабинете не стал, предложил прогуляться. На Патриарших прудах Евгений Максимович взял быка за рога:
— Анатолий, дело приобретает серьезный оборот. Черненко долго не протянет. Нельзя допустить, чтобы ситуация развивалась сама по себе. Кто придет после Черненко?
Громыко-младший сразу понял: Примаков пришел не просто так, а выяснить, намерен ли Громыко-старший бороться за пост генерального секретаря. Потом в эти разговоры был вовлечен будущий член политбюро Александр Николаевич Яковлев как близкий к Горбачеву человек.
Есть опровергающая версия. В ней активной стороной выглядит сам Громыко.
Считалось, что после Черненко на пост генерального секретаря претендовал член политбюро и первый секретарь Московского горкома Виктор Васильевич Гришин. Возможно, он прикидывал свои шансы как многолетний руководитель самой крупной партийной организации страны.
Но надежду возглавить страну после Черненко питал и министр иностранных дел. Андрей Андреевич Громыко слишком долго просидел в кресле министра и рассчитывал на повышение. Из оставшихся в политбюро ветеранов он, пожалуй, был самым крепким. Когда умер Суслов, именно Громыко хотел занять его место второго человека в партии. Иначе говоря, он не считал, что рожден заниматься одной лишь внешней политикой, и готов был расширить свои полномочия. Но Брежнев его в ином качестве не воспринимал. У Леонида Ильича были свои планы, и в опустевший кабинет Суслова перебрался Андропов.
После смерти Андропова, Черненко и Устинова Громыко считал себя наиболее достойным кандидатом на пост руководителя партии. Андрей Андреевич полагал, что не хуже других способен руководить страной. Он носил, не снимая, почетный значок «50 лет в КПСС», показывая свой солидный партийный стаж. Но Андрей Андреевич не пользовался большой любовью коллег по политбюро. Способность располагать к себе людей не входила в число его главных достоинств.
«Генеральный секретарь Черненко был болен, — вспоминал московский партийный работник Юрий Анатольевич Прокофьев. — Проходило собрание в Кремле в зале пленумов. Собрался очень узкий круг людей, и вместо Черненко с заявлением от его имени должен был выступить Виктор Васильевич Гришин.
Я должен был сидеть в президиуме рядом с Гришиным как первый секретарь райкома партии, а Андрей Андреевич Громыко — рядом с Горбачевым. И вот, когда мы выходили на сцену, Громыко резко отодвинул меня плечом, рванулся из всех сил вперед и уселся рядом с Гришиным. Я, честно говоря, заметался, не зная, куда сесть. Смотрю: место свободное рядом с Горбачевым, я и сел рядом».
Похоже, Андрей Андреевич питал некоторые надежды возглавить страну после Черненко. Бывший председатель КГБ Крючков пишет, как в январе 1988 года ему присвоили звание генерала армии. Подписал указ Громыко как председатель президиума Верховного Совета. Он позвонил Крючкову, поздравил, завязался разговор. Громыко вспоминал Андропова, Устинова. Заметил, что, наверное, скоро уйдет на пенсию:
— Боюсь за судьбу государства. В 1985 году, после смерти Черненко, товарищи предлагали мне сосредоточиться на работе в партии и дать согласие занять пост генерального секретаря ЦК КПСС. Я отказался, полагая, что чисто партийная должность не для меня. Может быть, это было моей ошибкой.
Сыну Андрей Андреевич говорил, что на пост первого человека не претендует:
— Не за горами мое восьмидесятилетие. После перенесенного, как мне сказали врачи, «легкого инфаркта», да еще при аневризме, да еще после операции на предстательной железе думать о такой ноше, как секретарство, было бы безумием. Учти, у меня нет своей партийной или государственной базы, не говоря уже о военной, чтобы побороться за этот пост. Да и не хочется… Гришин, Романов, Горбачев — вот они будут претендовать.
«Я не задавала папе вопросов, была ли у него возможность стать генеральным секретарем партии, — рассказывала дочь Андрея Андреевича. — Как-то, когда папа уже был на пенсии, во время прогулки по лесу кто-то из членов семьи задал ему этот вопрос».
— Чтобы стать генеральным секретарем партии, надо было за это бороться, — ответил Громыко. — У меня уже большой возраст. Если бы я и стал генеральным секретарем, мне потребовалось бы огромное напряжение всех своих физических сил. Моего здоровья хватило бы только на год работы.
Ходят слухи, что он всё же пытался сговориться с председателем Совета министров Николаем Александровичем Тихоновым, который невзлюбил Горбачева и старался помешать его росту. Переговоры держались в секрете и успехом не увенчались. Взаимовыгодный союз с Тихоновым не получился. Тихонов, вероятно, не хотел видеть в кресле хозяина страны министра иностранных дел, считал, что в хозяйстве тот ничего не смыслит.
Громыко понял, что его надежды стать генеральным иллюзорны. Тогда он решил подороже продать свой голос в политбюро, когда будет решающее голосование. Андрей Андреевич исходил из того, что человек — сам кузнец своего счастья, ничего не пускал на самотек и до старости не позволял себе расслабляться.
Громыко сделал ставку на Горбачева. Закулисные переговоры взялся вести его сын Анатолий. Он по-товарищески обратился к Примакову, а тот передал конфиденциальную информацию Александру Николаевичу Яковлеву. Младший Громыко говорил Яковлеву, что отец с уважением относится к Горбачеву, а сам уже устал от МИДа и мог бы поработать в Верховном Совете. Намек был понятен.
А Горбачев колебался. Не спешил с ответом.
Почему он так долго не решался пойти на сделку с Громыко? Опасался, не ловушка ли это, не провокация?.. Положение Михаила Сергеевича в тот момент было настолько шатким, что, казалось, оставшиеся в политбюро старики из чувства самосохранения вот-вот выставят его из партийного руководства. А был такой момент, когда пошли неясные слухи: Горбачева то ли переведут в Совет министров заниматься сельским хозяйством, что поставит крест на его политической карьере, то ли вовсе отправят послом.
Горбачев спрашивал руководителя кремлевской медицины академика Чазова о состоянии здоровья Черненко:
— Сколько он еще может протянуть — месяц, два, полгода? Ты же понимаешь, что я должен знать ситуацию, чтобы решать, как действовать дальше.
Чазов не мог дать точного ответа. Михаил Сергеевич нервничал: ему надо было заключать союз с кем-то из влиятельных членов политбюро. Но для этого нужно было выбрать правильное время.
За несколько дней до смерти у Черненко развилось сумеречное состояние. Стало ясно, что его дни сочтены. Чазов позвонил Михаилу Сергеевичу. Предупредил: трагическая развязка может наступить в любой момент. Для Горбачева и его окружения наступило время действовать.
Вот тогда тайная дипломатия директоров трех академических институтов дала свои плоды. Горбачев передал через Яковлева — а тот дальше по цепочке Евгений Примаков — Анатолий Громыко, что высоко ценит Андрея Андреевича и готов сотрудничать. Иначе говоря, Горбачев принял условия старшего Громыко. После этого они встретились.
«Вечером на даче в Заречье, накануне заседания политбюро, где должен был быть решен вопрос об избрании нового генерального секретаря партии, раздался телефонный звонок, — пишет Эмилия Громыко-Пирадова. — Михаил Сергеевич Горбачев просил папу о срочной встрече. Папа, мама и я сидели в столовой и пили чай. Папа тотчас прошел в прихожую, надел пальто и выехал в город. Вернулся он где-то около двенадцати часов ночи».
Анатолий Громыко утверждает, что в результате этих закулисных переговоров Горбачев и Громыко-старший достигли договоренности. После смерти Черненко Громыко выдвигает Горбачева на пост генерального секретаря, а сам не только не уходит на пенсию, как другие члены брежневского руководства, а, напротив, получает почетный пост председателя Верховного Совета СССР, то есть формально становится президентом страны. Должность безвластная, но она чудесно увенчала бы его блистательную карьеру.
Одиннадцатого марта 1985 года на заседании политбюро, после того как академик Чазов изложил медицинское заключение о смерти Черненко, слово неожиданно взял Андрей Андреевич:
— Конечно, все мы удручены уходом из жизни Константина Устиновича Черненко. Но какие бы чувства нас ни охватывали, мы должны смотреть в будущее, и ни на йоту нас не должен покидать исторический оптимизм, вера в правоту нашей теории и практики. Скажу прямо. Когда думаешь о кандидатуре на пост генерального секретаря ЦК КПСС, то, конечно, думаешь о Михаиле Сергеевиче Горбачеве. Это был бы, на мой взгляд, абсолютно правильный выбор.
Громыко произнес настоящий панегирик будущему генсеку. Этого оказалось достаточно: в политбюро не было принято спорить и называть другие имена.
Министра иностранных дел поддержал председатель КГБ Чебриков:
— Я, конечно, советовался с моими товарищами по работе. Ведомство у нас такое, которое хорошо должно знать не только внешнеполитические проблемы, но и проблемы внутреннего, социального характера. Так вот с учетом этих обстоятельств чекисты поручили мне назвать кандидатуру товарища Горбачева Михаила Сергеевича на пост генерального секретаря ЦК КПСС. Вы понимаете, что голос чекистов, голос нашего актива — это и голос народа.
Члены политбюро единодушно проголосовали за Михаила Сергеевича.
Потом Громыко, уйдя на пенсию, будет ругать Горбачева. Но Михаил Сергеевич честно выполнил свои обязательства перед Громыко. Он оставил престарелого Андрея Андреевича в политбюро и сделал председателем президиума Верховного Совета СССР. Благодаря этому Громыко еще три года провел на Олимпе, тогда как других членов прежней команды Горбачев сразу разогнал.
Возможно, впрочем, что Громыко-младший, как это нередко случается с мемуаристами, несколько преувеличивает роль и отца, и собственную в приходе Горбачева к власти…
Сам Горбачев нисколько не сомневается, что вся история с пьянкой, долгими поисками, недовольством Черненко не могла остановить его политического взлета. Перемены в стране должны были произойти, он был призван их осуществить. И многие с ним согласятся.
Впрочем, кто может с уверенностью ответить: а что бы произошло, если бы Виктор Прибытков не нашел Горбачева на дружеской вечеринке в новом цековском доме в престижном районе столицы, а Громыко на первом после смерти Черненко заседании Политбюро не предложил избрать его генеральным секретарем?..
Судьба Евгения Максимовича Примакова явно сложилась бы иначе. Вполне вероятно, что он, подобно своему предшественнику академику Гафурову, до конца дней работал бы директором Института востоковедения. При тогдашней партийной власти дальнейший служебный рост Примакова едва ли был бы возможен.
Считалось, что Примаков близок к верхам, что он днюет и ночует в ЦК, что он свой человек в КГБ. Но это далеко от истины. Взаимоотношения с властью были не слишком приятными. В партийном архиве сохранились и такие материалы:
«ЦК КПСС
К директору Института востоковедения АН СССР академику Е. М. Примакову обратился московский корреспондент газеты «Крисчен сайенс монитор» с просьбой взять у него интервью.
Просим ваших указаний».
К обращению приколота записка международного отдела ЦК: «Руководству Института востоковедения Академии наук СССР разъяснено о нецелесообразности данного интервью».
Академик Примаков, директор крупного института, занимавшегося международными делами, не имел права встретиться с корреспондентом влиятельной американской газеты и дать ему интервью без санкции партийного руководства…
Когда Александр Николаевич Яковлев был назначен заведующим отделом пропаганды ЦК КПСС, возник вопрос о новом директоре Института мировой экономики и международных отношений.
— Я предложил Примакова, — вспоминал Яковлев. — Но не все были согласны с этой кандидатурой. Нет, не все. С некоторой настороженностью отнесся Комитет госбезопасности. В то время все эти назначения согласовывались. Они в КГБ не то что были откровенно против. Они, скажем так, считали, что другие кандидатуры лучше…
Яковлев умел настоять на своем. Весной 1986 года Примаков был назначен директором института. Исторически и биографически Примаков до перестройки принадлежал к либеральному крылу истеблишмента. К этой группе относились и покойный Николай Иноземцев, и Георгий Арбатов. Они были вхожи в коридоры власти, но придерживались иных взглядов, чем партийное руководство. То, что начал Горбачев, было очень близко Евгению Максимовичу.
— Я не могу сказать, что мы с Примаковым до перестройки были внутренние диссиденты на сто процентов, что мы хотели свергнуть это правительство, — говорил Томас Колесниченко. — Этого не было, может быть, еще и потому, что мы много бывали на Западе и видели, что так просто перескочить отсюда туда и заиметь всё сразу не получится. Мы честно работали, не переламывая себя. То, что он писал тогда… Думаю, он может и сейчас под этим подписаться. Если я писал о безработице в Америке — так она была, если писал о жутком одиночестве людей, о том, что отцы и дети расходятся, — всё я там видел. Другое дело, что можно было много положительного писать об Америке, но шла война. Пусть это была холодная война, но война, а на войне как на войне. Они тоже не писали о чем-то хорошем у нас. Они долбали нас. И мы находили возможность прихватить американское правительство за Вьетнам, за всё. Конечно, мы совершенно свободно говорили в дружеском кругу такие вещи, за которые можно было сесть. Ну, если не сесть в тюрьму, то потерять работу точно можно было. Мы же видели этот маразм цековский, бездарность верхов, этот партийный середняк. У того же Примакова не было никаких шансов подняться, потому что он не шел по комсомольской линии. А для карьеры надо было сначала в райкоме комсомола посидеть, затем стать инструктором райкома партии…
Примаков заменил Иноземцева не только в кресле директора, но и в роли советчика и консультанта высшей власти. И весь институт, возглавляемый Примаковым, стал работать на политическую линию нового генерального секретаря. Причем работал с удовольствием — Горбачев нравился научной интеллигенции.
Двадцать шестого февраля 1987 года на заседании политбюро Горбачев заявил о необходимости менять внешнюю политику, активно действовать по всем направлениям:
— От наших институтов — от Примакова, Арбатова — потребовать, чтобы они нам давали подробный объективный научный анализ раз в квартал, через каждые сто дней.
Горбачев не раз сетовал на отсутствие точных прогнозов. На заседании политбюро 6 августа 1987 года он говорил:
— В Соединенных Штатах сто миллионов долларов тратят на экономическое прогнозирование. А у нас? Что у нас получается с анализом экономики? В Минфине — одно, в КГБ — другое, и всё это разовое, нет системы. Вот встал перед нами вопрос о прогнозе экономики Соединенных Штатов. И выколачиваем из Арбатова и Примакова. Скорей, скорей…
Я спрашивал академика Яковлева:
— Почему вы привлекли Примакова к работе своего мозгового центра?
— Потому что он был умным человеком. Вот и всё. Когда человеку доверяешь, знаешь: то, что тебе дадут, будет серьезным исследованием. Его доклады были очень сухи. Факты, жесткие факты. Если вывод, то тоже очень сухой. Я бы не смог писать такие доклады, расцветил бы… Я не отношу его к деятелям митинговой демократии. К числу тех демократов, которые свое «я» считают первостепенным. Он никогда себя не выпихивал на первый план: смотрите, мол, я какой. Он в этом смысле был сдержан. Но твердых внутренних убеждений. Его сбить с какой-то точки зрения — возможно, но при больших усилиях и при серьезных аргументах. А так он мало поддающийся каким-то сиюминутным вещам, какой-то моде…
Примакова стали включать в роли эксперта в делегации, которые сопровождали Горбачева во время поездок за границу. Там были разные люди, писателей и деятелей культуры брали для представительства. Примаков не рассматривал такие поездки как форму отдыха и туризма. На узких совещаниях у Горбачева предлагал свежие и неожиданные идеи, но предпочитал держаться в тени. Евгений Максимович сознательно оставался незаметным для широкой публики и не жаждал громкой славы. Ему нравилось заниматься закулисной политикой.
— Во-первых, он был профессионалом, — говорил Александр Яковлев. — Во-вторых, он не лез в друзья, не старался себя показать, подсуетиться. Другим кажется, если суетиться, на них быстрее внимание обратят. Глупости. Даже Брежнев при всех своих ограниченных интеллектуальных ресурсах и то морщился. Использовал таких людей, но морщился… Так вот, я не видел, чтобы Примаков суетился возле какого-нибудь начальника. Посмотрите телевизионную хронику, газеты — не найдете. Я не припоминаю, чтобы он сказал какое-то слово, которое можно было расценить как подхалимаж в отношении Горбачева. Вот после смерти Иноземцева — да, на заседании, посвященном его памяти, он выступал и не скупился на слова.
Горбачев заметил и оценил Примакова, но приблизил его отнюдь не сразу.
— Поначалу Горбачев относился к нему несколько настороженно, — продолжал Александр Яковлев. — До обидности настороженно. Внешне всё нормально, поручения институту давал, но что-то мешало… Михаила Сергеевича вообще трудно понять. Это вещь в себе. Добраться до души Горбачева невозможно — это человек-луковица. Может быть, всё дело в том, что Примаков был близок ко мне, а Михаил Сергеевич не любил, чтобы в его окружении дружили. И на этом органы безопасности очень хорошо играли. Я однажды в выходной день поехал в Калужскую область, грибы собирал. Вдруг звонок в машину. Горбачев: «А почему с тобой Бакатин и Моисеев? Зачем собрались?»
Генерал Моисеев был начальником Генерального штаба, Бакатин — министром внутренних дел… На самом деле никого рядом не было. Яковлев один за грибами ходил. Михаилу Сергеевичу заговоры снились.
Горбачев долго сомневался насчет Примакова, присматривался, прикидывал, можно ли доверять этому человеку, продвигать его.
— В 1988 году подбирали заведующего международным отделом ЦК, — вспоминал Яковлев. — Михаил Сергеевич попросил меня подобрать две кандидатуры. Я предложил Примакова номером один и Фалина номером два.
Валентин Михайлович Фалин — один из самых известных советских дипломатов. Он был послом в Западной Германии, потом работал первым заместителем заведующего отделом внешнеполитической пропаганды (в открытых документах его именовали отделом международной информации) ЦК, очень нравился Брежневу. Но когда родственник Фалина совершил нечто недозволенное, его изгнали из ЦК, отправили обозревателем в газету «Известия».
— Я знаю точно, — продолжал Яковлев, — что выбрали Фалина, потому что Комитет госбезопасности отдал ему предпочтение. Михаил Сергеевич сказал: вноси представление в политбюро на Фалина.
— А потом всё-таки Горбачев расположился к Примакову? — спросил я.
— Потом всё пошло нормально. Но Примаков — нечестолюбивый человек. Никуда особо не стремился.
— Разве у него не было естественного желания сделать политическую карьеру?
— Может быть, внутри что-то и было. Но если заняться анализом его поступков и высказываний, никогда этого не найдешь. Я знаю, что единственное место, где ему хотелось поработать подольше, — это на посту директора института. В этом я к нему присоединяюсь.
Как только Александр Яковлев занял кабинет на Старой площади, он стал постоянно привлекать Примакова к работе над документами, которые стали идеологической базой перестройки. Примакова часто можно было видеть в кабинете помощника Яковлева — Валерия Кузнецова, сына расстрелянного в 1950 году по так называемому «ленинградскому делу» секретаря ЦК ВКП(б) Алексея Александровича Кузнецова.
Пожалуй, ни один из руководителей партии и государства последних десятилетий не становился объектом такой ненависти, как Александр Николаевич Яковлев. Никому не приписывалось столько грехов и преступлений. Горбачева, правда, именовали «князем тьмы», но всё-таки не называли предателем, клятвопреступником и давним агентом американской разведки. В этой роли фигурировал Александр Николаевич Яковлев.
Рядом с ним были люди, обладавшие большой властью и сыгравшие в истории страны большую роль, но ненавидят именно Яковлева. И началось это не в перестроечные годы, а значительно раньше, когда в брежневские времена Яковлев занимал неизвестный широкой общественности, но важный в партийном аппарате пост первого заместителя заведующего отделом пропаганды ЦК КПСС. Иначе говоря, был одним из главных функционеров в сфере идеологии.
В ноябре 1972 года в популярной тогда «Литературной газете» появилась статья Яковлева под названием «Против антиисторизма». Две полосы убористого текста стоили ему карьеры. А ведь статья была написана с партийных позиций и должна была укрепить влияние самого автора. Да и руководители «Литературной газеты» рассчитывали на похвалу со стороны высшего начальства. Помню это очень хорошо, хотя был школьником. Мой отчим работал тогда в «Литературной газете», статья Яковлева шла через его руки, они перезванивались.
Поначалу газета «Правда», главный партийный орган, поддержала статью Яковлева. Но потом в политбюро началась невидимая миру схватка, которая закончилась тем, что автора статьи сняли с должности и на десять лет отправили в приятную, комфортную, но ссылку — послом в Канаду. Что же такого написал в 1972 году Яковлев, что ему и по сей день поминают эту статью?
Он попал в болевую точку сложных взаимоотношений между партийным аппаратом, КГБ и так называемой русской партией. К концу 1960-х годов партийный аппарат утратил контроль над духовной жизнью общества. Вера в коммунизм даже в самом аппарате сохранилась лишь в форме ритуальных заклинаний. В правящей элите появились две группы.
Особым влиянием пользовались те, кто считал, что лучшие годы страны пришлись на сталинское правление, когда Советский Союз стал великой державой. Сталин — выдающийся государственник, который противостоял всему иностранному. Поэтому нужно возвращаться к его политике и к его методам — никаких послаблений внутри страны и никакой разрядки в международных отношениях. Поклонники вождя оправдывали репрессии, считая, что Сталин уничтожал врагов государства, хотя в реальности главной жертвой Большого террора стало крестьянство.
Рядом со сталинистами появилась и окрепла другая группа, которую в КГБ именовали «русистами» или русской партией. Она считала, что в Советском Союзе в угоду другим национальностям сознательно ущемляются права русских. В этой группе были люди, искренне переживавшие за Россию, писатели и художники, выступавшие против запретов в изучении истории и культуры. Но тон задавали партийные и комсомольские функционеры, считавшие себя обделенными в смысле постов и должностей.
К началу 1970-х в русской партии стали заметны последовательные антикоммунисты, те, кто отвергал не только Октябрьскую, но и Февральскую революцию. Они считали, что 1917 год устроило мировое еврейство, чтобы уничтожить Россию и русскую культуру. Для этих людей Александр Исаевич Солженицын был врагом России и агентом ЦРУ, а председатель КГБ Юрий Владимирович Андропов — сионистом. Они откровенно говорили, что следует вернуться назад, что стране нужна монархия. И эти речи произносились в присутствии партийных секретарей и офицеров КГБ.
Казалось бы, это идеологические противники. Одни — за советскую власть, другие — против. Но нашлась общая платформа — ненависть к Западу и евреям, презрительно-покровительственное отношение к другим народам Советского Союза. И вот по этим настроениям ударил в своей статье Яковлев. Яковлев выражал мнение той части аппарата, которая боялась откровенного национализма, понимая, как опасно поощрять подобные настроения в многонациональном Советском Союзе. И верно: откровенный национализм в конце концов разрушил Советский Союз. Ведь в других республиках внимательно следили за тем, что происходит в Москве. Если одним можно прославлять величие своего народа, своего языка и своей культуры, то и другие не отстанут.
Для Яковлева взрослая жизнь началась в 1941-м. Его отца, который воевал и в Гражданскую, призвали через две недели после сына. Александра Яковлева зачислили курсантом Второго ленинградского стрелково-пулеметного училища, уже эвакуированного из Ленинграда. Ускоренный выпуск, две звездочки на погонах — и в начале 1942-го отправили на Волховский фронт командовать взводом.
В последнем бою старшего лейтенанта Яковлева тяжело ранило. Четыре пули: три в ногу с раздроблением кости, одна в грудь, прошла рядом с сердцем. Два осколка так и остались в легких и в ноге.
«Еще в полевом госпитале, — писал Яковлев, — я подписал согласие на ампутацию левой ноги от тазобедренного сустава, поскольку у меня началась гангрена, нога посинела. Врачи сказали, что другого выхода нет, я равнодушно внимал всему, да и редко бывал в памяти.
Ногу мне спас руководитель медицинской комиссии, посетившей госпиталь как раз в момент, когда я был уже на операционном столе. Старший стал смотреть историю болезни, спросил:
— Сколько лет?
— Девятнадцать, — отвечаю. Говорит:
— Танцевать надо.
Я вижу, ему начали лить воду на руки, а мне на нос накинули марлю…»
За последний бой старший лейтенант Яковлев получил орден Боевого Красного Знамени, инвалидность и на костылях вернулся в родную деревню. Яковлеву предлагали пойти заведовать кадрами на ткацкой фабрике или спиртоводочном заводе. На фабрике давали дополнительный паек, на заводе — корм для коровы. Но отец, тоже раненый и лежавший в госпитале, прислал письмо: пусть идет учиться.
Поступил в Ярославский педагогический институт. Оттуда молодого коммуниста взяли инструктором в обком партии. В 1953 году из обкома забрали в Москву, в ЦК. Яковлев даже побывал за границей, учился в Соединенных Штатах, в Колумбийском университете, потом в Москве, в Академии общественных наук. Яковлев быстро делал карьеру в отделе пропаганды ЦК. Но его положение было трудным. Он не был брежневским человеком. Ходили разговоры о том, что Яковлев принадлежал к группе своего тезки Александра Николаевича Шелепина, соперника Брежнева. Поэтому Брежнев к Яковлеву относился с прохладцей. Это тоже имело значение, когда разгорелся скандал после публикации знаменитой статьи в «Литературной газете».
Статья Яковлева была ортодоксальной. Он обвинял представителей русской партии в отступлении от классовых позиций, в идеализации дореволюционной России. Поэтому его поддержал сталинский соратник Вячеслав Михайлович Молотов. Встретив его в санатории, сказал:
— Статья верная, нужная. Владимир Ильич часто предупреждал нас об опасности шовинизма и национализма.
Но Яковлеву не простили слова об опасности великодержавного шовинизма. Обратим на это внимание. Выразитель партийных взглядов стал внутри партии мишенью хорошо организованной атаки. Это свидетельство того, какие настроения господствовали уже тогда среди партийного руководства. Эти люди сыграли большую роль в разрушении Советского Союза как социалистического и многонационального государства. А против Яковлева были мобилизованы все, кто поддерживал так называемую русскую партию, в том числе влиятельные члены политбюро и сотрудники аппарата.
Обратились к Шолохову, чтобы он написал в ЦК, что Яковлев обидел честных патриотов. Шолохов написал Брежневу, обратив внимание генсека на то, что «особенно яростно, активно ведет атаку на русскую культуру мировой сионизм, как зарубежный, так и внутренний».
Позиция Яковлева полностью соответствовала партийной линии. Но главному радетелю партийной чистоты Михаилу Андреевичу Суслову не понравилась самостоятельность Яковлева. Кто ему поручал писать статью? Зачем он устроил ненужную полемику? Превыше всего ценились осторожность и умение вообще не занимать никакой позиции.
«Демичев трусливо отступил, “сдал” Александра Николаевича, — вспоминал мой отец. — А ведь Демичев читал статью предварительно, мы в “ЛГ” трижды ставили ее в номер и трижды снимали. Вел статью я — в порядке исключения, старался что-то отшлифовать, обезопасить автора. Да, Яковлев не напрасно волновался, решив опубликовать свою острейшую статью. Расплатился он не так уж сильно — его отправили послом в Канаду, но в тогдашней идеологической ситуации это была серьезная потеря.
На заседании политбюро Брежнев представил дело так, что Яковлев будто бы сам попросился на дипломатическую работу. “Поперед батьки не забегай” — это правило безотказно действовало не только в колхозах».
Годы, проведенные в Канаде, произвели сильное впечатление на советского посла. Он думал: если эти люди сумели так славно устроить свою жизнь, почему мы-то не можем?
Иностранная жизнь влияла даже на самых преданных марксистов. Недаром Сталин никого не хотел выпускать за границу и не любил, когда иностранцы приезжали. Он говорил создателям фильма «Иван Грозный» режиссеру Сергею Эйзенштейну и исполнителю главной роли Николаю Черкасову:
— Иван Грозный был национальным царем, предусмотрительным, он не впускал иностранное влияние в Россию, а вот Петр открыл ворота в Европу и напустил слишком много иностранцев.
В мае 1983 года знакомиться с успехами канадцев в сельском хозяйстве приехал новый секретарь ЦК Михаил Сергеевич Горбачев. И подпал под обаяние Яковлева. Михаил Сергеевич увидел человека острого ума, прекрасно формулирующего свои мысли, и очевидного единомышленника. Они оба считали, что дальше так жить нельзя. Юрий Андропов был тяжело болен, и Горбачев строил далекоидущие планы. Ему нужно было выйти за рамки своей специализации — секретаря по сельскому хозяйству. Он нуждался в новой команде, способной расширить его горизонты.
Яковлева вернули в Москву. Он стал одной из главных фигур в мозговом тресте Горбачева. Яковлев был одним из тех, кто подпитывал его идеями, снабжал информацией, работал над его речами и статьями. Яковлев и привел Примакова к Горбачеву…
Политическая карьера Примакова началась в 1989 году. Четыре года понадобилось Горбачеву, чтобы распознать таланты и человеческие качества Евгения Максимовича.
В мае 1989 года Горбачев поехал в Пекин, чтобы встретиться с патриархом китайских реформ Дэн Сяопином и нормализовать советско-китайские отношения. Это было историческое событие и для России, и для Китая. Примакова Горбачев взял с собой.
Разговор с Дэн Сяопином сам по себе дорогого стоил. Дэн, фактически управляя Китаем, так и не занял ни одного из главных постов в партии и государстве.
— Люди хотели, чтобы я стал председателем партии, — говорил Дэн, — но я слишком стар для этого.
Жизненный путь Дэна — это мечта биографа. Война, революция, взлеты и падения, фантастические успехи и личные трагедии. Казалось, жизненной энергии в нем хватит на века. Он родился в семье отнюдь не бедного человека. Прекрасно учился в школе. В 1920 году отправился во Францию, где вступил в компартию, полюбил круассаны и пристрастился к игре в бридж. В 1925 году Дэн перебрался в Москву, чтобы учиться в Университете имени Сунь Ятсена, это было время ленинского нэпа. В Москве его и других иностранных учащихся-коммунистов хорошо кормили, им выдали пальто, ботинки, плащ, зимнюю одежду. Каждому студенту в Москве давали русскую фамилию. Дэн стал Дозоровым. Его избрали парторгом группы, но в конце 1926 года отозвали в Китай, и для него началась жизнь в подполье.
Он отличился еще во время войны. В 1943 году в зоне, которую контролировали части китайской Красной армии, Дэн впервые начал борьбу за повышение урожая. Он предложил платить премии тем, кто собирал больший урожай. В 1955 году Дэна избрали членом политбюро. Когда Мао Цзэдун приехал в Москву в 1957-м, он показал Хрущеву Дэна:
— Посмотрите на этого маленького человека. Он очень умный, и у него большое будущее.
Когда речь шла о политике, о роли партии, Дэн оставался доктринером. Он поддерживал Мао во всём, поддержал и идею «большого скачка», что закончилось катастрофой для экономики. Но в начале 1960-х Дэн стал задумываться о том, как привести экономику в порядок, и это оттолкнуло от него Мао. Наказание последовало незамедлительно.
В разгар «культурной революции» на митинге в Пекине Дэна заставили каяться в проведении буржуазной линии. Он покорно повторял:
— Мои ошибки — не случайность, а проявление определенного стиля в работе.
Самокритика не помогла. Дэн Сяопин лишился всех постов. Его младший брат, не выдержав издевательств со стороны хунвейбинов, покончил с собой. Хунвейбины измывались и над Дэном. Но его не уничтожили. За пределами Китая не понимали, почему Мао не расстреливал врагов, а лишь заставлял их каяться. Дело в том, что если китаец теряет лицо, он теряет больше, чем может себе представить европеец.
Старшего сына — Пуфана, студента физико-технического факультета Пекинского университета, хунвейбины доставили в свой штаб и стали пытать. Дети Дэна называли этот штаб «фашистским концлагерем». Пуфан не выдержал издевательств и выпрыгнул из окна. У него был перелом трех позвонков. Ему требовалась срочная операция, но одна больница за другой отказывались принимать сына Дэн Сяопина. Время было потеряно, и его парализовало, юноша стал инвалидом…
В октябре 1969 года Дэн Сяопина с женой отправили (подробнее см. книгу В. Усова «Дэн Сяопин и его время») на перевоспитание физическим трудом в провинцию Цзянси. Жили они под присмотром сотрудников госбезопасности. Встречаться и разговаривать с кем-либо им запретили. В ноябре им нашли работу — в мастерских по ремонту тракторов. Дэн слесарил, как когда-то на заводе «Рено» во Франции. Его жену определили в бригаду электромонтеров. Дэн помалкивал и старался сохранить здоровье, чтобы пережить опалу.
Над искалеченным Пуфаном продолжали измываться. Его выкинули из больницы и мучили, пока, наконец, кто-то из высшего начальства не распорядился отправить несчастного юношу к родителям. Они не виделись пять лет… Дэн трогательно ухаживал за ним, переворачивал каждые два часа, чтобы не образовались пролежни, обтирал его полотенцем, потому что в провинции Цзянси жарко и влажно.
Дэн много читал. Часами ходил по двору и думал. Видимо, тогда в нем созрели идеи, которые потом помогут Китаю ожить…
В 1973 году Дэн вдруг появился в Пекине в роли вице-премьера. Его реабилитировали, потому что кто-то должен был заниматься развалившейся экономикой. Но в 1976 году его вновь сняли со всех постов — старая гвардия не принимала его идей модернизации. Смерть Мао открыла Дэну путь наверх.
Разговаривать с Дэн Сяопином было очень интересно, но невероятно трудно. Китайцы не уверены, что разум западного человека способен постичь сложность любой ситуации. Здесь — загадочное для европейца лицо Дальнего Востока, лицо, лишенное в своей застывшей непроницаемости всяких признаков «зеркала души». Показать, что творится в твоей душе — значит нарушить всякие приличия, потерять свое «лицо». Дерево дорожит своей корой, человек — своим лицом, говорят китайцы.
Переговоры с китайцами напоминают тщательно отрепетированную пьесу, в которой нет ничего случайного и в то же время всё выглядит экспромтом. Китайцы помнят каждое ваше слово. В свою очередь, каждое замечание, сделанное китайцами, является как бы частью мозаики, общей картины. У европейцев создается впечатление, будто они ведут бесконечный разговор с неким единым организмом, который всё помнит и, кажется, обладает неким единым, интегральным интеллектом. Это порождает трепет и бессилие перед подобной самодисциплиной и преданностью своему делу. Миллиардный Китай вообще внушает благоговейный страх.
Другая древняя китайская традиция — никогда не показывать, что существует какая-либо необходимость в сотрудничестве с иностранцами. Предложения, с которыми китайцы соглашаются, выполняются с поистине волшебной эффективностью. Другие идеи просто растворяются в непробиваемых облаках приторно-вежливых фраз.
Советская делегация оказалась в Пекине в один из самых драматических моментов в истории страны. Когда КПСС стала разваливаться, пекинские консерваторы заметались, запаниковали. Дэн Сяопин сохранял хладнокровие. Он сделал для себя вывод, что распад социализма в СССР связан с политическими реформами, а не с экономическими. Китай сможет провести свое судно в бурных водах. В отличие от всех иных марксистских лидеров Дэн не считал себя теоретиком, открывателем вечных истин. Он был прагматиком и сторонником постепенных перемен. Он никогда не выражал сомнения в верности марксизму-ленинизму, но считал, что идеология должна развиваться вместе с развитием общества. Он жестко выступал против буржуазной либерализации, считал, что страна может развиваться при однопартийной системе, без свободы печати и свободы слова. Однако он же позволил начаться послаблениям, которые привели к массовым манифестациям на площади Тяньаньмэнь.
Горбачев прилетел в Пекин 14 мая 1989 года. А с 4 мая главную площадь китайской столицы Тяньаньмэнь (Площадь небесного согласия) заняла восставшая молодежь. Это был откровенный протест против власти. Китайские студенты требовали не только экономических, но и политических реформ. Студенческое восстание — необычно для китайцев. К чему шуметь и волноваться, если изменить что-либо ты всё равно не сможешь. Пока над страной бушует буря — бамбук гнется, наступит затишье — он снова выпрямится. Расторопность и приспособляемость позволяют китайцам спокойно встречать любые неожиданности. Кажется, нет ничего на свете, что могло бы разозлить китайца. Он наделен редкой способностью не принимать неприятности близко к сердцу и оберегать себя от того, что могло бы вывести его из внутреннего равновесия.
В 1989 году китайская молодежь брала пример с Советского Союза. Для китайских студентов Горбачев был кумиром и образцом. Разочарованные нежеланием власти вступить в диалог, они решили воспользоваться приездом в Пекин советского гостя и днем 13 мая, накануне его прилета, начали на площади Тяньаньмэнь коллективную голодовку. Сначала их было две сотни человек, через несколько дней — уже три тысячи. Число участников голодовки непрерывно росло. На четвертый день некоторые из них стали терять сознание. Боялись, что кто-то из юношей может умереть.
Приехавшие освещать визит Горбачева телевизионные группы рассказывали всему миру о происходящем в Пекине.
Студенты всячески заманивали к себе Горбачева, просили его выступить перед ними на площади Тяньаньмэнь, гарантируя порядок и безопасность. Официальные власти были, разумеется, против. Окружение Михаила Сергеевича тоже не советовало ему этого делать.
Виталий Игнатенко рассказывал:
— На площади Тяньаньмэнь собралась молодежь. Люди всё прибывали. Когда прилетел Горбачев, возникла идея: а не попросить ли его выйти на площадь, обратиться к студентам? Первый, кто сказал, что этого ни в коем случае делать нельзя, был Примаков.
Неясна была позиция Дэн Сяопина. Он вроде бы поддерживал политиков, которые хотели либерализации. Назначенный им генеральным секретарем ЦК КПК Чжао Цзыян ратовал за создание нового экономического механизма, социалистической рыночной системы. Но генеральному секретарю открыто противостоял премьер Госсовета (глава правительства) Ли Пэн, который был сторонником снижения темпов реформы, использования элементов старой хозяйственной системы и административно-командных рычагов. До событий на площади Тяньаньмэнь Дэн Сяопин придерживался формулы «идти на двух ногах».
Если бы Горбачев поддержал восставших пекинских студентов, это принесло бы ему уважение всех правозащитных организаций в мире, но межгосударственные отношения с Китаем были бы испорчены надолго. А в ходе визита были полностью восстановлены отношения между двумя странами и поставлена точка в территориальном споре, из-за которого когда-то пролилась кровь — и не только на Даманском.
Сразу после отъезда Горбачева в некоторых районах Пекина ввели военное положение. А в ночь с 3 на 4 июня армия и полиция, применив бронетехнику, очистили площадь от студентов. Больше двухсот человек погибли. Дэн пожертвовал своим ставленником генеральным секретарем Чжао Цзыя-ном, который лишился всех постов…
Всеволод Овчинников рассказывал, что в Пекине они встретились с Примаковым в довольно узком кругу — у советского посла в Китае Олега Александровича Трояновского. И там Евгений Максимович поведал о разговоре с Горбачевым, который, не раскрывая карт, сказал, что у него с ним связаны кое-какие планы…
После поездки в Индию Примакова попросили выступить перед аппаратом отдела ЦК по работе с заграничными кадрами и выездам за границу. Заведующий отделом Степан Васильевич Червоненко, очень в ту пору влиятельный, проводил его до лифта, что все отметили. А его заместитель по-дружески предупредил Евгения Максимовича:
— Вас ждет назначение послом в Индию.
Евгений Максимович позвонил министру иностранных дел Эдуарду Амвросиевичу Шеварднадзе и наотрез отказался — индийский климат был противопоказан его жене Лауре Васильевне, страдавшей тяжелым сердечным заболеванием. Шеварднадзе отнесся к его просьбе с пониманием. Но Горбачев уже принял решение выдвигать Примакова.
В мае 1989 года генеральный секретарь связался с Евгением Максимовичем по телефону и заговорил о работе в Верховном Совете. Примаков думал, что речь идет о Комитете по международным делам, и согласился. Но Горбачев предложил куда более важный пост — возглавить одну из палат только что избранного парламента. Анатолий Иванович Лукьянов, считавшийся ближайшим соратником Горбачева, потом говорил, что это он предложил использовать Примакова в Верховном Совете.
Это был, конечно, крутой поворот в его жизни. 10 июня 1989 года новый Верховный Совет начал работу с избрания председателей палат. Горбачев предложил на пост председателя Совета Союза Евгения Максимовича Примакова, ставшего народным депутатом по списку КПСС (сто партийных депутатов получили свои мандаты безальтернативно, посему именовались «красной сотней»).
Примакову задали много вопросов. Отвечал он толково, уверенно. Избрали его почти единодушно при трех воздержавшихся. Горбачев уступил ему председательское место, и Примаков повел заседание дальше.
Евгений Максимович неохотно согласился на пост председателя Совета Союза. И вскоре убедился, что был прав в своих сомнениях. Несколько раз говорил друзьям, что был бы рад поскорее избавиться от этой должности. Чувствовал себя неуютно. Повторял:
— Это не мое.
Самые важные заседания Верховного Совета проводились совместно, их вел или сам Горбачев, или его первый заместитель Анатолий Иванович Лукьянов, общение с которым было лишено приятности. Председатели палат должны были присутствовать при сем, сидеть в президиуме и в случае необходимости ассистировать, то есть в основном помалкивать. Но и когда палаты заседали раздельно и для председателя Совета Союза находилось занятие, эта работа вовсе не вдохновляла Примакова. И многие депутаты были недовольны его манерой ведения заседаний, обижались, говорили, что мрачный спикер их поучает.
Вот как об этом периоде своей жизни рассказывал мне сам Примаков:
— Знаете, из-за чего мне не нравилось работать в Верховном Совете? Из-за телевизионщиков. Я сидел за трибуной, за выступающим. А тогда был всплеск интереса к работе Верховного Совета, так что когда я потом смотрел телевизионный отчет о заседании, то всё время видел себя засыпающим… А действительно, иногда хотелось заснуть. Это очень трудно — высидеть целый рабочий день, не вставая, и слушать. Словно летишь на самолете из Москвы в Токио. Но в самолете можно журнал почитать, тебе виски наливают. Или водки — это еще лучше… А здесь только сидишь. Когда я пришел в Верховный Совет, начиналась его демократизация. Мне казалось, что я могу вести заседание, как в Академии наук: приглашать выступить, затем сделать резюме сказанного и предложить другим обсудить эти идеи. Мне сразу сказали: кто ты такой? Ты должен предоставлять депутатам слово и больше ничего… Вот такая была моя должность на виду — беспрерывное сидение. Кроме того, конечно же была и серьезная законодательная работа, которая проходила без присмотра телекамер. Но я всё равно взмолился, сказал: не могу больше! Хотя это была почетная должность…
Джордж Буш-старший вспоминал, как в конце мая 1989 года в роли президента Соединенных Штатов принимал в Белом доме Примакова:
«В ходе частного обеда в честь председателя Совета Союза Верховного Совета СССР Примакова в моей личной столовой после двух порций шоколадного торта у Брента Скоукрофта глаза стали стекленеть. Нельзя было сказать, что он уснул, но Примаков заметил его усилия и улыбнулся мне. Он всё понял».
Евгений Максимович сам ненавидел протокольные мероприятия и понимал тех, кто от этого страдал. Советник американского президента по национальной безопасности Брент Скоукрофт очень много работал и очень мало спал, поэтому часто засыпал прямо на совещаниях.
Между председателями обеих палат Верховного Совета (партнером Примакова, руководителем Совета национальностей являлся весьма колоритный бывший секретарь ЦК компартии Узбекистана Рафик Нишанович Нишанов) были распределены обязанности. Примаков занимался международными связями Верховного Совета и социально-экономическим законодательством. Тогдашний американский посол в Москве Джек Мэтлок отметил в своих мемуарах:
«Специалист по Ближнему Востоку, Евгений Примаков оставил кресло директора Института мировой экономики и международных отношений и стал председателем Совета Союза нового Верховного Совета, должность, примерно соответствующая спикеру палаты представителей».
Но спикер палаты представителей конгресса США куда более влиятельная персона. В Москве реальная политика по-прежнему вырабатывалась в аппарате Горбачева. Но и в окружении Михаила Сергеевича, и в Верховном Совете мало кто мог прогнозировать, как будут развиваться события в стране.
Американского посла интересовало, как советское руководство будет реагировать на требование трех прибалтийских республик вернуть им независимость.
«Примаков, — пишет Мэтлок, — считал, что экономическая автономия, предоставленная трем прибалтийским государствам с 1 января 1990 года, окажет целительное воздействие. Прибалты убедятся, полагал он, что без остального Союза у них ничего не выйдет, это осознание приведет их в чувство, и крики об отделении утихнут».
В то бурное время возникали и другие сложные проблемы. Томас Колесниченко рассказывал:
— Когда он был председателем палаты, Бориса Ельцина травили, и Примаков мог этой кампании подыграть. Он никогда этого не делал! И судьба это учла — Ельцин стал его уважать. Примаков никогда никому подлости не делал, он на каждой должности оставался человеком.
Впрочем, в столкновении Горбачева и Ельцина Евгений Максимович был на стороне Михаила Сергеевича. На заседании политбюро 3 мая 1990 года Примаков советовал:
— Надо вытащить Ельцина на теледебаты, задать ему «неудобные» вопросы — о Литве, о Курилах.
Председатель КГБ Владимир Александрович Крючков выразил опасение насчет предоставления Ельцину телеэфира:
— Надо быть осторожным, он — популист, может легко вывернуться, а влияние на обывателя у него большое.
Но Примаков считал, что Ельцина можно одолеть:
— Его спросили, собирается ли он привезти в Советский Союз презервативы. Он ответил, что ему это уже не нужно. В любой стране каждый кандидат в президенты провалился бы моментально, признавшись в своей импотенции…
В сентябре 1989 года Примакова избрали кандидатом в члены политбюро. Евгений Максимович отнесся к этому спокойно, хотя это было вознесением на политический ОЛИМП. Когда он после пленума ЦК вышел на улицу, его уже ждала не «чайка», а ЗИЛ с охраной.
Один знакомый профессор встретил его после пленума. Искренне пожал ему руку:
— Поздравляю, Евгений Максимович!
Тот недоуменно переспросил:
— С чем?
— Как с чем? С избранием в политбюро!
— Думаете, что нужно поздравлять?
Как положено по номенклатурным правилам, Примаков полетел в отпуск уже не обычным рейсом «Аэрофлота», а спецсамолетом в сопровождении охраны. Собственный самолет полагался всем членам и кандидатам в члены политбюро. Но газета «Рабочая трибуна» написала о том, что на спецсамо-лете летает официальный борец с привилегиями Евгений Максимович Примаков. В роли председателя Совета Союза он возглавил парламентскую комиссию по привилегиям (секретарем комиссии стала Элла Панфилова, так началась ее политическая карьера). А депутаты и пресса требовали покончить с привилегиями партийно-государственного начальства. Эта история не улучшила отношения Примакова к газетам и журналистам. Он решил, что эта акция организована кем-то из его «доброжелателей»…
На сессии Верховного Совета Примаков подробно доложил депутатам, какие именно привилегии существуют и кто ими пользуется. Речь шла об охране, государственных дачах, медицинском обслуживании и снабжении продуктами. Тогда депутаты требовали всё это отменить, уравнять начальство с простым народом.
Прошли годы, и что же изменилось?
Высших чиновников по-прежнему охраняют и возят на лимузинах со спецсигналами. Они живут на государственных дачах, за которые платят совсем немного. Сохранилась и вся иерархическая система медицинского обслуживания номенклатуры — правительственные санатории и дома отдыха, путевки в которые продаются с большой скидкой. Отменили только столовую лечебного питания. В ней отпала нужда — с началом гайдаровских реформ продукты вернулись в магазины.
Столовая лечебного питания на протяжении многих десятилетий снабжала советскую номенклатуру продуктами хорошего качества. На улице Грановского существовала реальная столовая, которую некогда посещали кремлевские чиновники. Но уже в 1970-е годы там почти никто не обедал, только пенсионеры союзного значения приходили с судками за готовыми обедами.
Основная номенклатура получала там по талонам продукты — любые: готовые, полуфабрикаты и сырые. Там можно было приобрести парную вырезку, зеркального карпа, копченый язык, настоящую докторскую колбасу, фрукты, конфеты и пироги.
Потерять столовую, как и возможность лечиться в системе Четвертого главного управления при Министерстве здравоохранения СССР, было настоящим горем.
В основное здание на улице Грановского пускали только самих чиновников. Жен и детей начальников гоняли хмурые вахтеры. Членам семьи разрешалось отовариваться в двух филиалах, один из которых находился во дворе знаменитого Дома на набережной.
Часов в шесть-семь вечера улица Грановского заполнялась черными «волгами», иногда приезжали «чайки». Высшие чиновники заходили туда с озабоченным видом, а выходили с большими свертками, одинаково упакованными в плотную желтую бумагу и перевязанными бечевкой. Там же находилась парикмахерская. Стригли в ней не очень хорошо, работал всего один мастер, но это считалось весьма престижно — постричься на улице Грановского, а заодно повидать сливки общества и себя показать.
Чиновник, прикрепленный к столовой, вносил в кассу семьдесят рублей и получал взамен маленькую белую книжечку с отрывными талонами на обед и ужин — на каждом талоне стояло число.
Все продукты были сгруппированы в обеденные и ужинные комплексы. Например, на один ужинный талон можно было взять полкило сосисок, полкило докторской колбасы и кусок сыра, а на два обеденных — говяжьей вырезки, которую советские люди старшего поколения не видели много лет, а молодежь не видела никогда.
Министры получали не одну книжечку, а две, что позволяло взять двойное количество продуктов и кормить большую семью. А высшее партийное руководство вообще не показывалось в магазине: достаточно было продиктовать обслуживающему персоналу, что именно нужно, и всё привозили на дом (точнее на дачу) — от свежей клубники до праздничного малокалорийного торта. Этим ведало Девятое управление КГБ…
На долю Примакова доставались еще менее приятные поручения, чем отмена номенклатурных льгот.
Академик Андрей Дмитриевич Сахаров за десять дней до смерти (он скончался 14 декабря 1989 года) принес главному редактору «Известий» Ивану Дмитриевичу Лаптеву письмо. Он просил опубликовать обращение группы народных депутатов. Это был призыв провести двухчасовую забастовку с требованием принять закон о частном владении землей и отменить 6-ю статью Конституции о руководящей роли КПСС. Письмо подписали популярные в ту пору политики — сам Сахаров, а также Владимир Тихонов, Гавриил Попов, Аркадий Мурашев, Юрий Черниченко и Юрий Афанасьев.
Дисциплинированный партийный журналист Лаптев, разумеется, письмо печатать не стал, а доложил в ЦК (через много лет эта история была описана в «Известиях»), Лукьянову, Нишанову и Примакову поручили побеседовать с Сахаровым. Тот попытался убедить руководителей Верховного Совета, что цель забастовки — не менять правительство, а как-то заставить его действовать быстрее:
— Лошадей на переправе не меняют, но их подстегивают. Примаков дал ему отпор:
— Вы говорите — «лошадей подстегивают». Объясните, Андрей Дмитриевич. Вы считаете, что существует такое разделение функций: мы лошади, а вы надсмотрщик, который подстегивает лошадей? Почему вы считаете, что мы находимся в таком положении и нас надо подстегивать, а вы, не участвуя непосредственно в этом процессе, стоите с кнутом и нас подстегиваете, чтобы мы шли побыстрее?
Сахаров объяснил:
— Я говорю, что надсмотрщиком являюсь не я, надсмотрщиком должен быть народ.
Примаков сурово предупредил академика:
— Товарищи, призывая к забастовке, вы встаете на путь обострения и конфронтации. Призывая к забастовке, вы ведете конфронтацию с нами…
Это была одна из последних публичных акций академика Сахарова.
Когда Андрей Дмитриевич скоропостижно скончался, Съезд народных депутатов сформировал комиссию по организации его похорон. Председателем сделали Примакова, как председателя палаты и коллегу-академика. Ему тяжело далась эта непростая миссия. Он плохо себя чувствовал. «Примаков, видимо, простужен, потерял голос и говорил шепотом», — вспоминал физик Анатолий Ефимович Шабад, будущий народный депутат России.
Вдове Сахарова, Елене Георгиевне Боннэр, предложили обычный для высокопоставленных персон ритуал — прощание организовать в Доме союзов, а похоронить на Новодевичьем кладбище. Но в окружении покойного академика возникла другая идея — избежать этого советского ритуала, поэтому попрощаться с Сахаровым во Дворце молодежи, а затем еще под открытым небом, в Лужниках, чтобы могли прийти все, кто пожелает, а похоронить на Востряковском кладбище, где покоятся его родные.
Тут же встал другой вопрос: кто откроет панихиду? По логике — председатель государственной комиссии. Но темпераментный Анатолий Шабад напал на Примакова:
— Считаете ли вы, положа руку на сердце, что вправе это сделать?
Евгений Максимович счел эти слова обидными:
— Я всегда уважал Андрея Дмитриевича и ни в чем перед ним не провинился.
В конце концов предложили открыть митинг ленинградскому академику Дмитрию Сергеевичу Лихачеву, прошедшему через сталинские лагеря.
— Я всё равно не могу говорить, — сказал сильно простуженный Примаков.
Сценарий церемонии похорон постоянно менялся, и Примакову досталась незавидная роль вновь и вновь всё согласовывать с городским чиновничьим аппаратом.
— Мы вчера составили один план, потом его поломали, — сетовал он. — Мне пришлось ночью поднимать сотрудников Мосгорисполкома, чтобы всё переделать…
Тогдашний главный редактор «Московских новостей» и народный депутат СССР Егор Владимирович Яковлев вспоминал, что, узнав о смерти Сахарова, попросил раздобыть цветы:
— В зале заседаний Верховного Совета мое место было как раз за стулом Сахарова. Принесли цветы. Мы положили их на пустующий стул Андрея Дмитриевича. В первый перерыв подходит ко мне Евгений Примаков и говорит: «Егор, зачем ты мне устраиваешь спектакль с цветами во время заседания?» Я говорю: «Женя, а не пойдешь ли ты на…?» Он мне ответил теми же словами. Мы с ним старые друзья…
Самое тяжкое испытание на долю Примакова-политика выпало в январе 1990 года. Он впервые должен был принимать решения, когда речь шла в буквальном смысле о жизни и смерти людей.
События в Нагорном Карабахе повлекли за собой кровавые последствия: исход армян из Азербайджана, азербайджанцев из Армении. После армянской резни в Сумгаите, которая осталась безнаказанной, 13 января 1990 года начались армянские погромы в Баку. Они переросли в настоящий бунт, в восстание против слабой и неумелой власти. Выплеснулось долго копившееся недовольство. Это был не только национальный, но и политический, и социальный конфликт.
Руководство республики не могло справиться с происходящим. Горбачев отправил в Баку кандидата в члены политбюро Примакова и нового секретаря ЦК КПСС по национальным делам Андрея Николаевича Гиренко, профессионального партийного работника с Украины. Гиренко прежде руководил Крымским обкомом, а там проблема с крымскими татарами, так что он считался специалистом по национальным делам.
Прилетев в Баку, Примаков и Гиренко сообщили в Москву, что беспорядки продолжаются, местная власть не контролирует ситуацию. Бюро ЦК компартии Азербайджана распространило сообщение:
«В ходе беспорядков и бесчинств, спровоцированных в Баку 13 января, произошли трагические события. От рук преступников погибли люди, главным образом — армяне, имеются десятки раненых. Совершены погромы жилищ… Состоялся чрезвычайный пленум Бакинского горкома партии, в котором приняли участие кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС, председатель Совета Союза Верховного Совета СССР Е. М. Примаков, секретарь ЦК КПСС А. Н. Гиренко, первый секретарь ЦК КП Азербайджана А. X. Везиров».
Примаков встречался с активистами оппозиционного Народного фронта Азербайджана, представителями интеллигенции, журналистами.
Восемнадцатого января 1990 года он выступал на митинге, пытался убедить людей, собравшихся на площади, успокоиться и разойтись. Его слушали, но не расходились. Слова не помогали.
Москва требовала прекратить беспорядки и восстановить власть в республике. Но как? Единственной силой, способной решить эту задачу, была армия. Тогда шутили: советская власть в Закавказье — это воздушно-десантные войска плюс военно-транспортная авиация.
Горбачев отправил в Баку войска. А в качестве правового обоснования 19 января президиум Верховного Совета СССР ввел чрезвычайное положение в Баку в связи с «попытками преступных экстремистских сил насильственным путем, организуя массовые беспорядки, отстранить от власти законно действующие государственные органы и в интересах защиты и безопасности граждан».
Тульской воздушно-десантной дивизией командовал полковник Александр Иванович Лебедь, которому еще только предстояло стать знаменитым. В ночь с 19 на 20 января его десантники начали входить в город. Но за год в республике многое изменилось: десантники оказались во враждебном городе.
В Азербайджане восприняли ввод войск как вторжение иностранной армии, как оккупацию. Бакинская молодежь пыталась противостоять вводу войск. Солдаты прорывались через баррикады, через перегородившие дороги грузовики под огнем стрелкового оружия и градом камней. Десантники пустили в ход оружие. В ночном бою погибло около двухсот человек. Тридцать восемь из них те, кто входил в город в броне: их встретили хорошо вооруженные и подготовленные силы. Можно сказать, что этот кровавый эпизод невероятно усилил стремление Азербайджана выйти из единого государства.
В ночь на 21 января собрался Верховный Совет Азербайджана. Он приостановил действие союзного указа об объявлении в Баку чрезвычайного положения и потребовал вывести войска из города. Действия войск Министерства обороны, МВД и КГБ СССР были признаны противоправными.
В кровопролитии стали обвинять и Примакова, считая, что это именно он вызвал войска в Баку и как старший по партийному званию координировал их действия.
Александр Яковлев рассказывал:
— Он очень переживал, когда ему стали инкриминировать бакинские события. Всё развивалось на моих глазах, знаю его телеграммы. Он мне звонил из Баку, рассказывал, просил помочь. Он отказался категорически от координации действий силовых структур. Сказал, пусть это координирует министр обороны или КГБ. Он не профессионал и не будет это делать.
Девятнадцатого января Примаков в ответ на слова Горбачева о том, что принято решение ввести в Баку войска, заявил ему по телефону, что не может руководить военными действиями. Горбачев сказал: через час в столицу Азербайджана вылетают министр обороны Язов и министр внутренних дел Бакатин.
Ночью 24 января в Баку, где еще слышались выстрелы, собрали пленум азербайджанского ЦК. Его вел избранный вторым секретарем республиканского ЦК Виктор Петрович По-ляничко. Он был секретарем Оренбургского обкома, работал в аппарате ЦК в Москве, три года был главным партийным советником в Афганистане. Виктор Поляничко считался твердой рукой. Должность в Баку станет для него последней, в 1991 году Поляничко убьют…
Абдул-Рахман Халил оглы Везиров, который начинал свою карьеру руководителем азербайджанского комсомола, был освобожден от должности первого секретаря ЦК «за серьезные ошибки в работе, приведшие к кризисной ситуации в республике». Его сменил Аяз Ниязович Муталибов, который был главой республиканского правительства, до этого председателем Госплана. Примакову пришлось выступать на пленуме. Он вздохнул с облегчением, когда Горбачев разрешил ему вернуться в Москву.
— Он вернулся из Баку больным человеком, — рассказывал Виталий Игнатенко. — Он, как никто, понимал национальный характер людей, с которыми случилась такая беда, и невероятную ответственность, которую на него возложили. Но в том, что там события не развились в более жесткие и кровавые формы, — заслуга Примакова и тех, кто с ним был.
В марте 1990 года Примаков, к своему величайшему облегчению, освободился от обязанностей в Верховном Совете. Горбачев назначил его членом новой структуры — Президентского совета.
Тогдашний главный редактор «Известий» Иван Дмитриевич Лаптев вспоминал, как поздним мартовским вечером с ним соединился по белому телефону без диска — специальному коммутатору — Лукьянов и предупредил, что будет звонить Горбачев. Анатолий Лукьянов, ничего не объясняя, загадочно сказал:
— Не вздумай отказываться.
И тут же последовал звонок — Горбачев:
— Ты, конечно, понимаешь, что Примаков теперь должен сосредоточиться на работе в Президентском совете. Значит, ему придется уйти с поста председателя Совета Союза. Есть мнение: представить твою кандидатуру вместо него. Как ты к этому относишься?
Лаптев с сомнением покидал «Известия», зато Примаков с охотой ушел из Верховного Совета, рассчитывая на интересную и эффективную работу в Кремле. Но получилось не так, как задумывалось…
Горбачев нуждался в личном мозговом центре, который обсуждал бы ключевые проблемы, генерировал идеи и воплощал их в президентские указы. Но он никак не мог придумать подходящую административную конструкцию.
В стране было правительство, существовал аппарат ЦК — над правительством, а Горбачев хотел создать что-то еще — что было бы и над ЦК, и над правительством. Поскольку Горбачев сам не понимал, чего хочет, то людей в Президентский совет подобрал не очень удачно. Получилась сборная солянка, а не работоспособный коллектив.
Во-первых, в Президентский совет, как прежде в политбюро, по должности вошли глава правительства Николай Иванович Рыжков, его первый заместитель Юрий Дмитриевич Маслюков, председатель КГБ Владимир Александрович Крючков, министр иностранных дел Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе, министр обороны Дмитрий Тимофеевич Язов, министр внутренних дел Вадим Викторович Бакатин.
Во-вторых, Горбачев включил в совет людей из своего окружения — Примакова, руководителя президентского аппарата Валерия Ивановича Болдина, бывшего первого секретаря Киевского обкома Григория Ивановича Ревенко и двух бывших членов политбюро — Александра Яковлева и Вадима Медведева.
В-третьих, опытный аппаратчик Горбачев пригласил в совет двух известных писателей разных направлений — Чингиза Айтматова и Валентина Распутина, двух ученых — академика Станислава Шаталина и вице-президента Академии наук Юрия Осипьяна и двух известных в ту пору депутатов — председателя агрофирмы «Адажи» из Латвии Альберта Каулса и рабочего из Свердловска Вениамина Ярина. Они должны были олицетворять народ.
Министры рассматривали совет как новое политбюро, но не понимали, как обсуждать серьезные (и секретные) материи в присутствии явно посторонних людей. Со своей стороны писатели и академики, которые вошли в Президентский совет на общественных началах, не могли выяснить, что от них требуется — мозговая атака, полезная для главы государства, или просто обмен мнениями.
Бывший помощник президента Георгий Хосроевич Шахназаров вспоминал не без иронии:
— Ревенко, Примаков, Бакатин только после долгих препирательств с Болдиным получили кабинеты. Да и потом им приходилось в основном ждать, пока президент даст поручение, а в оставшееся время сетовать на никчемность своего положения. Кто-то сострил: «Что такое член Президентского совета? Это безработный с президентским окладом».
В словах Георгия Шахназарова крылась, похоже, некая ревность — почему одни люди в окружении Горбачева оставались в чиновничьей должности помощников, а других вознесли в члены Президентского совета? Но Горбачев и сам быстро потерял интерес к Президентскому совету. Его личный интеллектуальный штаб сложился без всяких формальностей. В него вошли всё те же Яковлев, Медведев, Примаков и помощники президента — Анатолий Черняев и Георгий Шахназаров.
Как Горбачев относился к Примакову?
— По-моему, нормально, — вспоминает Бакатин. — Женей называл: «Женя, давай».
— Доступ к Горбачеву у вас был прямой?
— Прямой, простой. Другое дело, что мы не злоупотребляли. Бежать по каждому поводу к Горбачеву — зачем?
В Президентском совете Примаков познакомился с Юрием Дмитриевичем Маслюковым, которого со временем сделает своим первым заместителем в правительстве. Маслюков, председатель Госплана, считался тогда одним из главных прогрессистов и сторонником экономических реформ.
Примаков проработал в Кремле у Горбачева два с половиной года. Это был полезный опыт в смысле понимания того, как функционирует механизм власти. Всё это ему вскоре пригодится. Правда, опытные люди, которые собаку съели на аппаратных интригах, считают, что этим искусством можно по-настоящему овладеть, только если начинаешь с самых низов.
Друг Примакова, бывший консультант Отдела пропаганды ЦК КПСС Леон Оников говорил:
— Когда уйдет наше поколение профессиональных партийных работников, ни один архивариус не поймет, что было на самом деле. Мы унесем с собой аппаратную интригу, знание аппаратных плутней. Евгений Максимович в аппаратных плутнях не участвовал, он же в цековском аппарате не работал, хотя и был кандидатом в члены политбюро.
— Но вот Примаков вошел в президентское окружение и погрузился в аппаратный мир. Как он себя чувствовал в этом море интриг? — спросил я.
— В этот мир он так и не погрузился, — ответил Они-ков. — Аппарат не пускал. Мы не считали тех, кто занимал высокий партийный пост, но не знал, что такое райком, настоящими аппаратчиками, они ничего в этом не понимали. А Горбачев не сумел демократизировать аппарат. Аппарат остался таким, каким был.
Горбачев допустил еще одну ошибку в отношении Примакова. В декабре 1990 года на Съезде народных депутатов предстояло впервые избрать вице-президента СССР. Горбачев рассмотрел много кандидатур. Александр Яковлев вызвал бы яростные протесты консерваторов. Шеварднадзе отпал, потому что в первый же день работы съезда заявил, что уходит в отставку. От кандидатуры Нурсултана Назарбаева, будущего президента Казахстана, Горбачев тоже отказался.
Возникли две другие фамилии: Евгений Максимович Примаков и Геннадий Иванович Янаев, к тому времени член политбюро и секретарь ЦК. Бывший комсомольский функционер, веселый, компанейский человек, он понравился Горбачеву и мгновенно взлетел. Горбачев полагал, что сравнительно молодой Янаев, не примкнувший ни к левым, ни к правым, не встретит возражений у съезда да и ему самому не доставит хлопот. Едва ли Горбачев хотел видеть на посту вице-президента самостоятельную и равноценную фигуру, с которой ему бы пришлось считаться…
Горбачев посоветовался с Вадимом Медведевым.
Вадим Андреевич ответил так:
— Янаев, возможно, будет вам помогать, но он не прибавит вам политического капитала. Я бы отдал предпочтение Примакову.
Горбачев выбрал Янаева и совершил большую ошибку. Примаков — в отличие от Янаева — никогда бы не предал своего президента. Августовского путча не было бы, и, может быть, в каком-то виде сохранился Советский Союз…
В последние дни декабря на Съезде народных депутатов Горбачев сам предложил ликвидировать Президентский совет. Съезд проголосовал «за». Демократическое окружение Горбачева, включая Примакова, осталось без работы.
А в январе 1991 года произошли события, которые в конечном счете решили судьбу Горбачева.
В Москву прилетел первый секретарь ЦК компартии Литвы Миколас Бурокявичюс. В Литве уже были две компартии. Основную возглавлял Альгирдас Бразаускас, будущий президент республики. Другую, которая сохранила верность Москве, — Миколас Бурокявичюс. Ни одного крупного литовского партийного работника Москве на свою сторону привлечь не удалось. Миколас Мартинович Бурокявичюс в свое время дослужился до должности заведующего отделом Вильнюсского горкома, а с 1963 года занимался историей партии, преподавал в педагогическом институте. В 1989 году его вернули на партийную работу, в июле 1990 года на XXVIII съезде сделали членом политбюро. Но важной фигурой он был только в Москве. В Литве за ним мало кто шел.
На бланке республиканского ЦК он написал шестистраничное обращение к Горбачеву с просьбой ввести в Литве президентское правление. Бурокявичюса привели к Валерию Болдину, заведующему общим отделом ЦК КПСС. Секретари Болдина пунктуально записывали в специальный журнал всех, кто приходил к их шефу или звонил ему.
Восьмого января 1991 года Болдина посетили:
11.43 — секретарь ЦК по военно-промышленному комплексу Олег Бакланов.
11.45 — министр внутренних дел Борис Пуго.
11.53 — министр обороны Дмитрий Язов и председатель КГБ Владимир Крючков.
12.07 — секретарь ЦК по оргвопросам Олег Шенин.
12.33 — первый секретарь ЦК компартии Литвы Миколас Бурокявичюс.
Болдин, Бакланов, Пуго, Язов, Крючков, Шенин… Почти весь будущий ГКЧП собрался на Старой площади за пять дней до кровопролития в Вильнюсе. Ровно три часа продолжалась беседа с участием Бурокявичюса.
Шенин ушел раньше, но поздно вечером вернулся. Крючков и Язов тоже ушли. Крючков потом дважды звонил Болдину и в половине десятого вечера опять приехал к нему. И Язов перезванивал. Олег Бакланов и Борис Пуго просидели у Болдина весь день до восьми вечера. Потом Пуго уехал к себе в министерство и в половине десятого позвонил Болдину. Бакланов поздно вечером опять пришел к Болдину и просидел у него еще три часа. Эти люди буквально не могли расстаться друг с другом.
Парламент Литвы провозгласил независимость республики, и Москве стало ясно, что остановить этот процесс можно только силой. Согласие Горбачева было необходимо для проведения военно-политической операции в Литве. Появление Бурокявичюса должно было подкрепить аргументы Крючкова, Пуго и других: «Партия просит поддержки!» Немногочисленная партия ортодоксов действительно просила огня.
Но указ о введении президентского правления в Литве Горбачев не подписал.
Через два дня после длительных переговоров в кабинете Болдина московские газеты сообщат о создании в Литве Комитета национального спасения, который «решил взять власть в свои руки». Состав комитета держится в тайне, от его имени выступает секретарь ЦК компартии Юозас Ермолавичюс.
Специальные группы КГБ и воздушно-десантных войск уже были отправлены в Литву, а корреспондент «Правды» с возмущением передавал из Вильнюса, что в городе распространяются провокационные «слухи о десантниках и переодетых военных, о приготовлениях к перевороту».
Одиннадцатого января внутренние войска министра Пуго взяли под контроль республиканский Дом печати, междугородную телефонную станцию и другие важные здания в Вильнюсе и Каунасе. В ночь с 12 на 13 января в Вильнюсе была проведена чекистско-войсковая операция — сотрудники отряда «Альфа» Седьмого управления КГБ, подразделения воздушно-десантных войск и ОМОН заняли телевизионную башню и радиостанцию. Погибло тринадцать человек.
Министр внутренних дел Литвы, пытавшийся остановить кровопролитие, не мог дозвониться до своего начальника Пуго. Он сумел соединиться только с бывшим министром, Бакатиным. Вадим Викторович позвонил Горбачеву на дачу, чего тот не любил. Михаил Сергеевич сказал, что Крючков ему уже всё доложил, и отругал Бакатина за то, что он преувеличивает значение произошедшего и напрасно нервничает. Погибли один-два человека, говорить не о чем…
Страна возмутилась: пускать в ход армию против безоружных людей — это позор! Председатель КГБ Крючков, министр обороны Язов и министр внутренних дел Пуго в один голос заявили, что они тут ни при чем. Это местная инициатива — «начальник гарнизона приказал».
Все ждут, как поведет себя Горбачев. Поедет в Вильнюс? Выразит соболезнование? Отмежуется от исполнителей? Накажет виновных? Или скажет: «Всё правильно»?
Горбачев не делает ни того ни другого. Он заявляет в парламенте, что всё произошедшее для него полная неожиданность. И тут же предлагает приостановить действие закона о печати, взять под контроль средства массовой информации. Позднее это назовут обмолвкой…
В горбачевском окружении болезненно восприняли поведение своего шефа. Яковлев, Примаков и Игнатенко (в ту пору помощник и пресс-секретарь президента) предложили Горбачеву немедленно вылететь в Вильнюс, возложить венки на могилы погибших, выступить в литовском парламенте. Михаил Сергеевич попросил написать проект выступления, а утром отказался лететь.
Пятнадцатого января у Примакова состоялся неприятный разговор с Горбачевым. Евгений Максимович предупреждал об опасности звучащих повсюду призывов к «жесткой руке», о том, что этому надо противостоять.
Михаил Сергеевич раздраженно ответил:
— Я чувствую, что ты не вписываешься в механизм.
На следующий день Примаков передал ему личное письмо: «После вчерашнего разговора я твердо решил уйти в отставку. Это — не сиюминутная реакция и уж во всяком случае не поступок, вызванный капризностью или слабонервностью. Ни тем, ни другим — думаю, Вы не сомневаетесь в этом — никогда не отличался. Но в последние месяц-полтора явно почувствовал, что либо Вы ко мне стали относиться иначе, либо я теперь объективно меньше нужен делу. И то, и другое несовместимо даже с мыслью о продолжении прежней работы…»
И приложил заявление с просьбой разрешить ему перейти в Академию наук.
Горбачев заявление об отставке отверг:
— Это я буду решать, а не ты!
Виталий Игнатенко вспоминал:
— Во время событий в Литве Примаков ведь пошел против всех. Он часто брал на себя такую ответственность, которая могла ему дорого стоить. Поэтому его влияние было каким-то особенным.
— А было у него влияние на Горбачева? — спросил я.
— Горбачев воспринимал его как человека очень умного и решительного и — главное — честного и принципиального. Он никогда не юлил. Не надо было ему как-то подстраиваться — он оставался при своем мнении до конца. Это, по-моему, нравилось Горбачеву.
— А считается, что Горбачеву нравились угодники.
— Нет, это упрощенное впечатление о Михаиле Сергеевиче. Он тоже очень хорошо знал реальную цену словам и делам. Иначе не стал бы тем Горбачевым, которым он стал…
Примаков, Игнатенко и помощник президента по международным делам Черняев всё-таки дожали Горбачева. 22 января, через неделю после событий в Вильнюсе, он выступил по телевидению. Слишком поздно…
Что же в реальности произошло в Вильнюсе?
Горбачев, как можно предположить, поступил в своей обычной манере. Когда ему на стол положили обращение Бу-рокявичюса и стали убеждать ввести в Литве чрезвычайное положение, он не сказал ни «да», ни «нет». Он не дал санкцию на военно-полицейскую операцию в Вильнюсе, но и не запретил ее.
Будущие члены ГКЧП принялись наводить порядок теми средствами, которыми располагали, — танками и автоматами. Пытались устранить существующую там власть, но безуспешно. И проиграли Прибалтику. В августе 1991 года они повторят этот опыт в Москве.
Тем временем в Персидском заливе начались события, в которых Примаков примет активнейшее участие.
Важную роль в его биографии сыграла первая война против Ирака. Это была одна из тех стран, которые он хорошо знал.
На нефтедоллары президент Ирака Саддам Хусейн создал самые мощные в регионе вооруженные силы. Его почти миллионная армия была четвертой по численности в мире. Он призывал арабские страны рассматривать Ирак как борца за общие интересы. Но ему мешал Египет, который претендовал на право быть лидером всех арабов. Президент Хосни Мубарак не любил Саддама и не хотел предоставлять ему роль лидера арабского мира.
К тому же у Саддама возникли проблемы с деньгами. Он восемь лет вел бессмысленную войну с соседним Ираном. Туда ухнули все заработанные им нефтедоллары, и внешний долг страны составил фантастическую сумму. Саддам решил поправить финансовое положение за счет соседнего Кувейта.
Саддам Хусейн давно хотел оккупировать Кувейт. В Багдаде вообще не признают самостоятельности Кувейта, считают его частью Ирака. Когда в 1961 году Кувейт получил независимость, глава иракского правительства генерал Абд аль-Керим Касем сказал, что самостоятельного Кувейта нет и быть не может, а есть «Кувейтский район провинции Басра». Кстати говоря, Советский Союз, как верный союзник Ирака, тоже не признавал самостоятельности Кувейта и не позволял ему вступить в ООН. В октябре 1963 года Ирак всё-таки признал Кувейт. Но граница между двумя государствами не была демаркирована.
Кувейт — это маленькое и беззащитное государство, богатое нефтью. Иракский президент считал, что за Кувейт никто не вступится. Кстати, Ирак должен был Кувейту, который помогал Саддаму во время войны с Ираном, восемнадцать миллиардов долларов. Саддамом руководила логика уголовного преступника: зачем отдавать долг, когда можно убить кредитора…
Летом 1990 года Саддам обвинил Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты в том, что по их вине упала цена на нефть, поэтому Ирак теряет миллиарды долларов. Кроме того, Кувейт обвинили в том, что он захватил иракские нефтяные поля в южной части пограничного района Румейла (в реальности эти месторождения находятся на территории Кувейта).
«Таким образом, — писал министр иностранных дел Ирака Тарик Азиз генеральному секретарю Лиги арабских стран, — Кувейт дважды нанес вред Ираку. Во-первых, подрывая его экономику в период тяжелых испытаний, а во-вторых, украв его богатства».
Саддам Хусейн заявил, что Кувейт «совершает экономическую агрессию» против Ирака. Он потребовал заплатить ему компенсацию, а заодно списать многомиллиардный долг.
Девятнадцатого июля 1990 года он направил свои войска к границе.
Маленькая страна, разумеется, не могла противостоять иракской армии и обратилась за помощью к арабским братьям. 24 июля в Багдад прилетел встревоженный президент Египта Хосни Мубарак. Когда они с Саддамом остались вдвоем, Мубарак прямо спросил: что означают его военные приготовления? Саддам Хусейн клятвенно обещал Мубараку, что никогда не нападет на Кувейт.
— Всё, что мне нужно, — объяснил Хусейн, — это деньги. Пусть они вернут мне миллиард долларов, который я из-за них потерял.
Успокоенный Мубарак передал кувейтцам, что бояться им нечего. Просто придется дать Саддаму денег. Американскому президенту Бушу-старшему Хосни Мубарак прислал телеграмму с просьбой не вмешиваться, потому что «кризис может быть незамедлительно урегулирован». Страны Организации экспортеров нефти (ОПЕК) 25 июля в Женеве договорились о таком уровне цен на нефть, который устраивал Ирак. Казалось, проблема решена.
Но когда 31 июля представители Ирака и Кувейта встретились в Джидде, иракцы потребовали от кувейтцев не только списать долги, но и передать территории, на которые претендовал Саддам. Правительство Кувейта возмущенно отвергло эти требования. Переговоры прервались. Министр иностранных дел Ирака Тарик Азиз сказал, что диалог продолжится, но буквально через день выяснилось, что Саддам Хусейн просто обманул Хосни Мубарака.
Второго августа 1990 года иракские войска вошли в Кувейт. Там было создано марионеточное правительство, которое «попросило» принять Кувейт в состав Ирака. 8 августа Совет революционного командования удовлетворил «просьбу кувейтских братьев». Кувейт был объявлен девятнадцатой провинцией Ирака. Кувейтские деньги и кувейтская нефть достались Саддаму. Иракцы приступили к разграблению страны.
В середине мая 1990 года государственный секретарь Соединенных Штатов Джеймс Бейкер прилетел в Москву. Потомственный юрист, Бейкер был очень опытным политиком. Он возглавлял аппарат Белого дома, руководил избирательной кампанией Джорджа Буша и в знак благодарности получил возможность осуществлять внешнюю политику страны.
Вечером в доме художника Зураба Церетели собрались Джеймс Бейкер, Эдуард Шеварднадзе и Евгений Примаков. Во время ужина Шеварднадзе признался, что начинает уставать от своей должности. Американец воспринял это как намек на возможность его ухода из министерства. Присутствие Примакова, которого прочили на пост министра, показалось ему символическим. Американских дипломатов вероятная смена караула не обрадовала.
В начале августа Шеварднадзе и Бейкер встретились вновь. В этот момент и началась война. Американцы первыми получили сообщение о том, что иракские войска пересекли кувейтскую границу. Еще накануне, 1 августа, Бейкеру принесли разведывательную сводку ЦРУ, в которой упоминалось, что иракские войска нависли над кувейтской границей. Госсекретарь находился в Иркутске, где вел переговоры с Шеварднадзе.
Поделился информацией с Эдуардом Амвросиевичем, когда они ехали в машине обедать. Шеварднадзе уверенно отверг предположение, будто Саддам готовится напасть:
— Если бы он это замышлял, мы бы об этом знали.
Советский министр не лукавил. Он не имел никаких сведений о военной активности Ирака — ни от внешней разведки КГБ, ни от Главного разведуправления Генерального штаба.
Вечером того же дня советник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Брент Скоукрофт отыскал Джорджа Буша в медицинском кабинете Белого дома. У президента после игры в гольф болело плечо, ему делали прогревание.
— Господин президент, — мрачно сказал Скоукрофт, — ситуация ухудшается. Ирак, похоже, готовится к вторжению в Кувейт.
Возникло предложение позвонить Саддаму Хусейну и убедить его воздержаться от применения силы. Но в этот момент доложили из государственного департамента: американское посольство в Кувейте сообщает, что в центре города идет стрельба.
— Ну вот вам и звонок Саддаму, — мрачно заметил Буш.
Через час худшие предположения подтвердились: иракская армия вторглась в Кувейт.
Второго августа Брент Скоукрофт приехал в Белый дом в пять утра. Буш еще был в постели. Когда он встал, ему сообщили, что Кувейт оккупирован. В то же утро Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 660, которая осуждала оккупацию Кувейта и требовала от Ирака вывести войска. Разногласий не было. При голосовании воздержался только представитель одного из непостоянных членов Совета Безопасности — Йемена.
В тот день Шеварднадзе и Бейкер уже заканчивали переговоры. Устроили заключительную пресс-конференцию и вели последнюю беседу в узком составе. Шеварднадзе очень удивился, когда без приглашения появилась пресс-секретарь Бейкера Маргарет Татуайлер. Она передала Бейкеру какую-то записку. Тот прочитал и взволнованно сказал:
— Господа, на пульт связи государственного департамента поступило сообщение о том, что Ирак перешел границу Кувейта.
— Этого не может быть! — решительно сказал Шеварднадзе. — Нам об этом ничего не известно.
И раньше иракские войска переходили границу, но быстро возвращались на свою территорию. Советский министр не верил, что Саддам решился начать войну. Он считал иракского президента жестким, властным, но умным человеком. Зачем ему совершать политическое самоубийство?
Шеварднадзе с Бейкером расстались в иркутском аэропорту. Американский государственный секретарь улетел в Монголию, Шеварднадзе вернулся в Москву. Вот тут министру подтвердили, что иракские войска атаковали Кувейт.
Тогдашний помощник министра иностранных дел Сергей Петрович Тарасенко рассказывал мне, что МИД запрашивал военных:
— Что в действительности происходит вокруг Кувейта? Что показывают разведывательные спутники — в самом ли деле иракские войска уже оккупировали Кувейт?
Военные ответили, что у них нет такой информации. А уже даже журналисты сообщили, что Кувейт захвачен.
Практически весь мир выразил протест против иракской агрессии. Но Саддам Хусейн дипломатических протестов не боялся. Он был уверен, что Соединенные Штаты и Советский Союз окажутся по разные стороны баррикад.
Государственный секретарь Бейкер прервал свой визит в Монголию и прилетел в Москву. Он встретился с Шеварднадзе в правительственном аэропорту Внуково-2. Бейкер предложил советскому министру выступить с совместным заявлением и осудить наглую агрессию Саддама Хусейна.
Советский МИД сомневался, стоит ли это делать: Саддам, конечно, агрессор, но он — союзник и партнер. Советский Союз давно связан с Ираком особыми отношениями, действует договор о дружбе и сотрудничестве. В Ираке находятся три тысячи советских специалистов, их жизнь может оказаться под угрозой. Соединенные Штаты хотят наказать агрессора. Теоретически это верно, но как можно выступать вместе с американцами против своего союзника?
Именно тогда заговорили о том, что советские руководители тоже несут ответственность за то, что произошло. Они же видели, что в Багдаде правит преступный режим, с которым нельзя иметь дело. Саддам убивал коммунистов и вообще оппозиционеров, травил курдских крестьян газами, вел с соседним Ираном восьмилетнюю войну. Но до Горбачева в Москве полагали, что некие высшие государственные интересы требуют закрывать на всё это глаза, поддерживать Саддама и снабжать его оружием…
В феврале 1989 года Шеварднадзе ездил по Ближнему Востоку, встречался и с Саддамом. Иракский лидер произвел впечатление своей фантастической самоуверенностью. Он весьма критически отзывался о советской политике, был недоволен и качеством советского оружия.
Помощник советского министра Теймураз Георгиевич Ма-маладзе записал пренебрежительные слова Саддама: «В ваших самолетах не всё отвечает современным требованиям. Когда же мы обращаемся с просьбой передать ваши изделия для усовершенствования третьим странам, вы либо отвечаете, что изучите этот вопрос, либо говорите, что это невозможно».
Но когда Саддам оккупировал Кувейт, дело решали не личные симпатии и антипатии. Мировое сообщество не может позволить пиратским режимам, государствам-хищникам делать то, что им заблагорассудится. Шеварднадзе связался по спецкоммутатору с Горбачевым, отдыхавшим в Форосе. Президент не возражал против совместного с американцами заявления и поручил Шеварднадзе согласовать позицию с остававшимися в Москве руководителями — премьер-министром Валентином Павловым, министром обороны Дмитрием Язо-вым и председателем КГБ Владимиром Крючковым.
Они были против, как и арабисты в самом МИДе: как можно вместе с американцами выступать против старого друга Советского Союза, которого Москва и вооружила, и всегда поддерживала именно за антиамериканскую позицию?
«У меня были опасения, что Михаил Сергеевич поостережется круто осудить Хусейна, — вспоминал помощник президента по внешней политике Анатолий Черняев. — Но я, к счастью, ошибся. К тому же Шеварднадзе действовал строго в духе нового мышления. Правда, всё, начиная с согласия на встречу с Бейкером в Москве и на совместное заявление с ним, согласовывал с Горбачевым по телефону. Иногда, впрочем, если он звонил ночью, я Горбачева не беспокоил и брал ответственность на себя, уверяя Эдуарда Амвросиевича, что Горбачев поддержит».
Шеварднадзе вместе с женой приехал в аэропорт, чтобы встретить Бейкера, прилетевшего из Улан-Батора. После долгого путешествия государственный секретарь валился с ног от усталости. Но он понимал важность момента. Впервые после Второй мировой войны Америка и Россия объединились, чтобы остановить агрессора. Идеологические разногласия утратили значение, важно было желание осадить Саддама и показать всем другим потенциальным агрессорам, что им это не сойдет с рук.
Шеварднадзе с Бейкером публично осудили Саддама Хусейна и призвали международное сообщество объявить эмбарго на поставки оружия Ираку. Саддам этого не ожидал. Он промахнулся. Он выбрал худшее время для оккупации Кувейта. Чуть позже или чуть раньше всё могло быть иначе.
Соединенные Штаты и Советский Союз потребовали от Саддама Хусейна вывести войска из Кувейта. Американцы сразу заявили, что, если Ирак этого не сделает, придется применить силу. Американцев поддержали не только западные союзники, но и многие арабские руководители, ненавидевшие Саддама.
За малым исключением арабские страны — после некоторых колебаний — выступили против Ирака. Одни согласились предоставить американцам свою территорию для развертывания их войск, другие даже обещали включить свои вооруженные силы в состав коалиции. Небольшие страны региона понимали, что могут стать следующей жертвой Саддама, поэтому глава Объединенных Арабских Эмиратов Сайд ибн Султан и султан Омана Кабус ибн Сайд сказали Бушу:
— Мы должны стоять плечом к плечу.
Важнее всего была позиция Саудовской Аравии. Король Фахд не хотел раздражать исламских фундаменталистов, не желавших видеть солдат в американской форме на священной земле. Но он понимал, что только Соединенные Штаты могут спасти его от иракского нападения, и согласился принять американские войска. Операция по переброске живой силы и техники получила наименование «Щит пустыни».
Американцев попросили не привозить с собой Библии. Посол Саудовской Аравии в Вашингтоне принц Бандар ибн Султан предупредил председателя комитета начальников штабов Колина Пауэлла:
— Нашим таможенникам приказано конфисковывать у ваших солдат Библии.
— Ты шутишь? — поразился генерал Пауэлл.
Они нашли выход: саудовские таможенники, увидев религиозную литературу, отворачивались. Кроме того, посол Бандар сказал, что на земле Саудовской Аравии запрещено проводить религиозные службы для солдат-иудеев.
Колин Пауэлл вновь удивился:
— Ты разрешаешь этим людям умирать, защищая твою землю, но запрещаешь им молиться?
Саудовский посол развел руками. Принц Бандар был сыном саудовского министра обороны и племянником короля Фахда, он учился военному делу в американских военно-воздушных силах и в определенном смысле американизировался, но не настолько, чтобы отказаться от ненависти к евреям. Договорились, что религиозных евреев будут вывозить на американские авианосцы в Персидском заливе, чтобы они могли там помолиться.
А вот алкоголь — по просьбе тех же саудовцев — американские генералы запретили с удовольствием, поэтому дисциплина в войсках коалиции была выше обычной.
По инициативе египетского президента Хосни Мубарака большинство членов Лиги арабских стран проголосовали за отправку арабских сил для обороны Саудовской Аравии.
Саддама Хусейна поддержали Организация освобождения Палестины и Ливия.
Саддам забеспокоился. Он вызвал к себе американского поверенного в делах и сказал ему:
— Передайте президенту Бушу, что он может считать эмира Кувейта историей. Мы никогда не уйдем из Кувейта, чтобы его взял кто-то другой. Мы будем бороться. Вы — сверхдержава, и я знаю, что вы можете нанести нам вред, но вы никогда не поставите нас на колени. Имейте в виду, что мы тоже не будем сидеть сложа руки.
В тот же день, 6 августа, государственный секретарь Бейкер позвонил министру Шеварднадзе, чтобы рассказать о военных планах американцев. Когда Шеварднадзе услышал о переброске войск в район Персидского залива, настроение у него испортилось.
— Вы нас только информируете или просите содействия? — уточнил он.
— А почему бы вам не присоединиться к нам? — неожиданно сказал Бейкер.
Госсекретаря никто не уполномочивал делать такое предложение Москве. Это была импровизация. Более того, президент Буш этого не хотел. Своим помощникам он заявил:
— Мы не должны упускать из вида давнее советское желание получить доступ в порты на теплых морях. Мне не хотелось бы воскрешать эту мечту.
Советник президента по национальной безопасности Ско-укрофт тоже считал, что слова госсекретаря Бейкера были импульсивными, необдуманными:
— Мы десятилетиями старались не допустить советского военного присутствия в регионе, и теперь приглашать их туда было бы преждевременно. Министр обороны Чейни, председатель комитета начальников штабов Пауэлл и я выступаем против советского участия в военных действиях коалиции.
Но американские политики напрасно беспокоились. Горбачев и Шеварднадзе не воспользовались предложением Бейкера. У них были свои основания отказаться от участия в военной операции. Немалая часть советских людей не видела в поведении Саддама Хусейна ничего зазорного и не считала возможным «предавать» союзника. Отдыхавшему на юге Горбачеву пришлось вновь и вновь объяснять своим соратникам, почему он осудил Ирак вместе с американцами:
— Другая реакция была для нас неприемлема, поскольку акт агрессии был совершен при помощи нашего оружия, которое мы согласились продавать Ираку с целью поддержания его обороноспособности, а не для захвата чужих территорий и целых стран.
Восемнадцатого августа американская разведка доложила, что из иракских портов вышли пять танкеров с нефтью. Буш считал необходимым с помощью военного флота остановить танкеры и отправить их назад, чтобы Саддам перестал зарабатывать нефтедоллары. Шеварднадзе попросил пять дней на переговоры с Багдадом. Он считал, что еще можно убедить Саддама уйти из Кувейта и закончить дело миром.
Двадцать четвертого августа разочарованный Шеварднадзе перезвонил Бейкеру и сказал, что Ирак не желает договариваться. На следующий день Совет Безопасности ООН принял резолюцию, позволявшую использовать «все необходимые меры» для обеспечения морской блокады Ирака. Когда американский военный флот ввел полную морскую блокаду Ирака, Саддам лишился возможности вывозить нефть и закупать оружие.
Пятого сентября в Москву прилетел министр иностранных дел Ирака Тарик Азиз.
Горбачев настойчиво внушал ему, что необходимо политическое урегулирование. Тарик Азиз с гордым видом отвечал, что Ирак не боится ни американцев, ни мировой войны, жаловался, что существует настоящий заговор против Ирака, и упрекал Михаила Сергеевича за то, что он напрасно говорит на одном с американцами языке.
Не выдержав, Горбачев сказал:
— Возможно, вы получаете наставления напрямую от Аллаха, но хотел бы всё же дать совет. Нельзя отказываться от поиска политического решения на реалистической основе. Пока вы, чувствуется, не созрели. Но следовало бы учесть, что в дальнейшем ситуация будет ухудшаться.
Девятого сентября 1990 года Горбачев и Буш встретились в Хельсинки. Американский президент прилетел накануне. Самолет болтало, Буш устал и не выспался. Джордж Буш откровенно сказал Горбачеву, что, если Саддам не выведет войска, придется применить силу.
— Я рассчитываю, что вы нас поддержите, — говорил Буш. — Это может оказаться для вас трудной задачей, но, надеюсь, вы справитесь с ней. Журналисты спрашивали меня, буду ли я вас просить послать войска. Я ответил, что у меня таких планов нет, но вам я говорю: если вы на это решитесь, то со мной никаких проблем не будет.
Американские и русские солдаты, сражающиеся вместе, произведут очень сильное впечатление, объяснил Буш Горбачеву.
Скоукрофт вздрогнул, услышав эти слова. «Появления советских войск на Ближнем Востоке следовало всячески избегать, — писал он позднее. — К счастью, Горбачев никак не реагировал на эту реплику президента».
Советский президент объяснил, что память об Афганистане не позволяет ему отправлять советских солдат сражаться за границами родины. Хотя дело было в другом: советские политики чувствовали себя неуютно. Они никак не могли решить: ту ли сторону они поддержали?
Буш спросил Горбачева, не станет ли он возражать, если они будут называть друг друга просто по имени.
— Отлично, Джордж! — довольно ответил Горбачев. Он укорил американского президента за поспешность:
— Мы осудили агрессию Ирака. Но для нас это было трудным шагом, потому что вы сначала послали войска и только потом поставили нас в известность.
Горбачев считал ненужным применение силы: Ирак не собирается нападать на Саудовскую Аравию, поэтому не стоит начинать новую войну. Саддам и так герой в глазах многих арабов.
Горбачев предложил развернутый план: Саддам выводит войска из Кувейта, Соединенные Штаты возвращают домой свои части, расквартированные в Саудовской Аравии, и соглашаются на проведение международной конференции по Ближнему Востоку.
— Применение силы, — настаивал Горбачев, — разрушит всё, что нам удалось достигнуть.
Буш не согласился с ним:
— Если оставить кувейтский вопрос открытым и согласиться на международную конференцию, это будет политическая победа Саддама. Он получит то, что хочет. Он совершит новую агрессию, как только американские войска вернутся домой.
— Если его загнать в угол, — гнул свое Горбачев, — нам это обойдется дороже. Ему надо оставить какую-то возможность показать, что он не поставлен на колени.
— Это всё равно, как если бы Гитлеру предложили удобный для него выход и позволили бы ему остаться во главе Германии.
— Тогда была другая ситуация, — сказал Горбачев.
— Ситуация та же, личность другая, — ответил Буш.
На следующей встрече Михаил Сергеевич больше не настаивал на своей позиции. Убедившись, что он не может переубедить американцев, предпочел согласиться с ними. Возможно, он с самого начала не горел желанием защищать Саддама, но делал это по внутриполитическим соображениям. В Москве на него давили, уговаривали сделать всё, чтобы избежать американского удара по Ираку.
Горбачев и Буш подписали совместное заявление с требованием немедленного и безоговорочного вывода иракских войск из Кувейта. Две державы продемонстрировали единодушие. Горбачев и Буш-старший договорились действовать сообща. Но, видя, что Соединенные Штаты твердо намерены применить силу, раз Саддам и не думает уходить с оккупированных территорий, Горбачев попытался решить кризис самостоятельно. Он считал, что иракский вождь не понимает ситуации, не видит, что дело идет к войне. Горбачев хотел попытаться «привести в чувство» Саддама, объяснить ему, что его ждет. Естественно, его беспокоила и судьба тысяч советских людей, находившихся в Ираке. У него был человек, готовый взяться за такую задачу.
Евгений Максимович Примаков сказал Горбачеву, что главное — позволить Саддаму уйти с достоинством: арабский лидер не может потерять лицо, для него это равнозначно смерти.
Министр иностранных дел Шеварднадзе узнал о поездке Примакова в Ирак, будучи в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Примаков был в пути, когда получил шифротелеграмму от Шеварднадзе, в которой говорилось: встречаться с Саддамом Хусейном аморально. Примаков ответил шифротелеграммой, что аморально не встречаться с Хусейном в то время, когда у него в заложниках находятся тысячи советских людей.
В пользу поездки Примакова высказывался советник Горбачева по военным делам — маршал Сергей Федорович Ахроме-ев, бывший начальник Генерального штаба. Он предупреждал: война может оказаться кровопролитной. Маршал Ахромеев был высокого мнения о вооруженных силах Саддама. Говорил Горбачеву:
— Иракская армия располагает тысячами советских танков — лучших в мире — и накопила боевой опыт за восемь лет войны с Ираном. Американцы с Саддамом не справятся. Это будет второй Вьетнам… Американцы будут нам благодарны, если мы убережем их от новой бойни.
Михаил Сергеевич колебался. С одной стороны, твердо держался за партнерские отношения с американцами. С другой — санкционировал личную дипломатическую миссию Примакова. Надеялся, что это уменьшит давление тех, кто был на стороне Ирака, и доказывал, что нельзя предавать старого друга.
Шеварднадзе возмущался:
— Не может быть у страны две внешние политики!
Но получилось именно так.
Линия Шеварднадзе — стратегическое сотрудничество с американцами ради одной цели: не дать агрессору возможность воспользоваться плодами победы.
Линия Примакова — попытка, используя личные отношения с иракскими руководителями, найти выход из положения до того момента, как будет применена сила.
В 1960-е годы корреспондент «Правды» Евгений Примаков побывал и в Багдаде. Он познакомился и подружился с иракским журналистом Тариком Азизом, который был редактором газеты «Ас-Саура». Азиз, в свою очередь, познакомил советского коллегу со своим другом Саддамом Хусейном.
Пятого октября 1990 года Саддам принял в Багдаде Примакова. Он внушал московскому гостю, что Кувейт — исторически часть Ирака, поэтому он не выведет свои войска. Поскольку Саддам разговаривал с советским гостем один на один, он был откровенен:
— Вы понимаете, что после того, как я отказался от всех результатов восьмилетней войны с Ираном, иракский народ не простит мне безоговорочного вывода войск из Кувейта. Как быть с выходом к морю, спросят меня.
Примаков знал, что заявление с просьбой о возвращении на родину подали в советское посольство 1500 наших специалистов, и попросил их отпустить. Саддам согласился. Остальные советские граждане выехали из Ирака позже.
Вернувшись, Евгений Максимович предложил Горбачеву: а попробуем уговорить Саддама уйти, обещав ему заняться решением судьбы палестинцев. Горбачев поручил Шеварднадзе действовать вместе с Примаковым. Но министр иностранных дел не был согласен с Примаковым: любые обещания Саддаму, любая готовность уступить его требованиям создают у него ощущение, что он на правильном пути, что он сможет настоять на своем, если только проявит упорство.
Спор между Шеварднадзе и Примаковым разгорелся нешуточный. Перешли на личности.
На слова Шеварднадзе: «Так не следует действовать на Ближнем Востоке!» — Примаков вспылил:
— Это меня, который занимается Ближним Востоком со студенческих времен, поучаете вы, окончивший заочно педагогический институт в Кутаиси?
Вмешался Горбачев:
— Евгений, прекрати сейчас же.
Шеварднадзе слов Примакова, разумеется, не забыл.
Советская дипломатия продолжала действовать, как двухголовый дракон.
С санкции Горбачева Евгений Максимович повез в Европу, а потом в Соединенные Штаты свой план мирного урегулирования. Министр Шеварднадзе, раздраженный сверх меры, передал госсекретарю Бейкеру через своего помощника Сергея Тарасенко:
— Примаков направляется в Вашингтон с предложением, на которое можете не обращать внимания.
Евгений Максимович уговаривал и американцев дать Саддаму возможность уйти, сохранив лицо. В частности, обещать ему, что будет созвана международная конференция для обсуждения палестинского вопроса.
Американцы отвечали, что такого рода уступки агрессору неприемлемы:
— Получится, что Саддам Хусейн, оккупировав Кувейт, получил то, что хотел. Он превратится в глазах арабов в величайшего героя, способного навязать свою волю мировому сообществу. Уступки приведут со временем к еще более кровопролитной войне…
Девятнадцатого октября во время встречи в Белом доме Примаков рассказал президенту Джорджу Бушу, что, по его наблюдениям, приближенные Саддама плохо его информируют и иракский президент пребывает в уверенности, будто мир его поддерживает.
Примаков пересказал Бушу слова Саддама: «Я реалист, я знаю, что мне придется уйти из Кувейта, но я не могу уйти просто так. Если передо мной будет выбор — уйти или сражаться, я буду сражаться до смерти».
Евгений Максимович внушал Бушу:
— Не загоняйте Саддама в угол. Ему надо помочь найти путь к политическому решению.
Буш возразил Примакову:
— Я не понимаю, что значит помочь Саддаму найти путь к политическому решению. Как можно договариваться с таким человеком? Я не против продолжения вашей миссии, только если ее цель — дать понять Саддаму, что ему никто не пойдет на уступки.
Примаков понял, что вопрос будет решен военным путем. Это подтвердил посол Саудовской Аравии в Вашингтоне принц Бандар. Он сказал Примакову, что, если война начнется, всё будет решено за несколько часов:
— Знаете, что произойдет с иракскими танками в пустыне, где негде укрыться? Это прекрасная мишень для авиации. Они будут гореть, как спички. Не переоценивайте иракскую армию.
В Лондоне Евгения Максимовича приняла премьер-министр Маргарет Тэтчер. Молча выслушав Примакова, она без всякой дипломатии сказала: если даже Саддам выведет войска из Кувейта, надо сломать ему хребет.
— У Саддама Хусейна не должно быть и тени сомнения в том, что мировое сообщество не отступит и добьется своих целей. Никто не должен даже пытаться вывести его режим из-под удара.
Примаков поинтересовался у премьер-министра Маргарет Тэтчер, когда может начаться война.
— Этого я не могу вам сказать, — отрезала «железная леди», — поскольку операция должна застигнуть Ирак врасплох.
Встреча продолжилась в библиотеке, где Тэтчер превратилась в заботливую хозяйку, угощая Примакова и сопровождавшего его посла Леонида Митрофановича Замятина виски. Примаков опять полетел в Багдад. Саддам принял его в присутствии всех членов Совета революционного командования.
Саддам играл в свои игры. Он объяснил Примакову:
— Я хочу, чтобы ты видел, что среди иракского руководства есть не только ястребы, но и голуби.
Примаков заметил, что предпочел бы иметь дело только с голубями. Вице-президент Таха Ясин Рамадан ответил:
— Тогда придется нам всем уйти отсюда, оставив вас наедине с нашим любимым лидером.
Это был спектакль, а откровенный разговор состоялся, когда остались наедине. Примаков всё-таки предупредил Саддама:
— Вы меня знаете давно и понимаете, что я говорю вам только правду. Если вы не уйдете из Кувейта, по Ираку будет нанесен удар.
Саддам ответил так: «Могу ли я уйти, пока не решен вопрос о выводе американских войск из Саудовской Аравии, пока Ираку не обеспечен выход к морю и не решена палестинская проблема?» Иракский президент всё еще считал, что может торговаться.
Несмотря на все колебания советской политической элиты, Горбачев, выбирая между Саддамом и американцами, считал куда более важными близкие отношения с Соединенными Штатами. А ведь это происходило осенью 1990 года. Горбачева атаковали со всех сторон, и ему оставалось находиться в Кремле всего год. С учетом внутриполитической ситуации ему было бы куда проще и выгоднее осудить американцев и военную операцию против Ирака. Но, как выразился помощник президента Черняев, Горбачев «держался достойно: от американцев нельзя отслаиваться, как бы ни хотелось обойтись без войны. Тогда всё полетит».
Совет Безопасности ООН принимал одну резолюцию за другой. Тон становился всё более жестким. В Багдаде считали эти резолюции просто сотрясением воздуха. Саддам охотно играл в дипломатические игры. Это позволяло ему оттянуть время в надежде, что мир устанет и займется другими проблемами. Иракцы маневрировали, надеясь поссорить Москву с Вашингтоном. Министр иностранных дел Тарик Азиз повторял, что иракские войска вот-вот покинут Кувейт, но Саддам и не думал этого делать.
Совет Безопасности ООН предъявил Саддаму ультиматум: или он уходит из Кувейта, или его уберут оттуда силой. Но иракцы не верили, что американцы решатся нанести удар и что Советский Союз поддержит военную операцию.
Тем временем американские военные методично готовили боевую операцию по освобождению Кувейта. Стало ясно, что затянувшаяся переброска сил позволит приступить к боевым действиям не раньше середины января. В конце февраля погода в регионе испортится, а уже 17 марта начнется священный месяц рамадан, за которым последует хадж — массовое паломничество к священным местам в Саудовской Аравии. Ведение боевых действий в период рамадана исключалось, чтобы не злить арабских друзей. После хаджа начнется невыносимая жара.
Таким образом, получалось, что военную операцию нужно проводить не позднее февраля. 29 ноября Совет Безопасности ООН принял резолюцию № 678, которая оставляла Ираку на вывод войск время до 15 января 1991 года. Эта дата совпадала с планами Пентагона.
В американском проекте резолюции прямо говорилось об «использовании силы» — если Ирак не выполнит требования Совета Безопасности. Шеварднадзе попросил Бейкера смягчить формулировку. Записали так: государствам — членам ООН разрешалось «использовать все необходимые средства» для освобождения Кувейта от иракских войск. Фактически Совет Безопасности проголосовал за войну против Саддама.
Это и пытался объяснить Тарику Азизу министр Шеварднадзе во время их последней встречи.
Советский министр откровенно сказал, что резолюция Совета Безопасности № 678 позволяет начать против Ирака военные действия, поэтому война будет, и Ираку придется туго, потому что американцы применят современное оружие. Саддам сам навлек на себя военную катастрофу. У него было пять с половиной месяцев, чтобы избежать войны. Кто виноват, что Саддам не понимает иного языка, кроме языка силы? Совершив акт агрессии, он сам вывел себя из-под защиты международного права.
После голосования в ООН президент Буш был готов дать согласие на встречу госсекретаря Бейкера с Тариком Азизом. Это могло стать последней попыткой предотвратить военные действия.
Четвертого декабря Саддам заявил, что отпускает всех оставшихся советских специалистов. Еще через два дня сказал, что позволит уехать всем иностранцам.
Восьмого января 1991 года в Женеве Тарик Азиз наконец встретился с государственным секретарем Бейкером, который сразу сообщил, что прибыл не для переговоров. Он должен вручить письмо Буша Саддаму. В письме говорилось:
«Мы сегодня стоим на пороге войны между Ираком и всем миром. Эта война началась с вашего вторжения в Кувейт; эта война завершится только после того, как Ирак полностью и безоговорочно выполнит требования резолюции № 678 Совета Безопасности ООН. Мы предпочли бы мирное решение. Вместе с тем полное выполнение требований резолюции № 678 Совета Безопасности ООН и предшествующих резолюций является абсолютно необходимым условием. Никакого поощрения за агрессию не будет. Это принципиально, компромиссы здесь невозможны.
Вместе с тем, выполнив полностью эти требования, Ирак получит шанс вернуться в мировое сообщество. Ирак и иракская военная инфраструктура не будут уничтожены. Но если вы безоговорочно не выведете войска из Кувейта, вы потеряете не только Кувейт.
Сейчас решается вопрос не о будущем Кувейта — он будет освобожден, законное правительство восстановлено, а, скорее, о будущем Ирака…»
Письмо в запечатанном конверте Бейкер протянул Тарику Азизу вместе с ксерокопией, которую иракский посланец мог прочитать. Пробежав текст глазами, Азиз возмущенно бросил письмо на середину стола. Оно так и осталось лежать на столе. Посольство Ирака в Женеве тоже отказалось принять послание Буша. Но Бейкер надеялся, что Азиз, который его всё-таки прочитал, объяснит Саддаму, что ему сделано последнее предупреждение.
Государственный секретарь сказал, что Ираку не выиграть этой войны.
— Наша страна знает, на что идет, — гордо ответил Азиз. — Мы принимаем войну.
Но тут же добавил, что готов приехать в Вашингтон для продолжения переговоров. Бейкер покачал головой:
— Поздно. Мы дали вам время. Теперь вы просто пытаетесь отодвинуть срок ультиматума.
Прежде чем встать из-за стола, Бейкер предостерег Азиза от использования оружия массового уничтожения.
— Народ Америки потребует мести, — в жесткой форме произнес государственный секретарь, — и у нас есть все средства, чтобы это сделать.
Тем временем в Москве Шеварднадзе покинул пост министра иностранных дел. В конце декабря 1990 года Эдуард Амвросиевич на Съезде народных депутатов внезапно заявил, что уходит в отставку. Накануне депутаты предложили принять резолюцию, запрещающую руководству страны посылать войска в зону Персидского залива.
— Вчерашние выступления товарищей переполнили чашу терпения, скажу об этом прямо, — заявил Шеварднадзе. — Что, в конце концов, происходит в Персидском заливе?.. Мы не имеем никакого морального права примириться с агрессией, аннексией маленькой, беззащитной страны.
Он ушел, когда до начала военной операции против Ирака оставались считаные дни. В Багдаде отставка Шеварднадзе вызвала взрыв радости. В окружении Саддама решили, что советского министра иностранных дел заставили уйти в отставку генералы — друзья Ирака и теперь линия Москвы изменится.
По просьбе Горбачева Эдуард Амвросиевич еще некоторое время исполнял обязанности министра.
В Вашингтоне опасались, что министром станет Примаков.
Шеварднадзе предложил Горбачеву себе на смену три кандидатуры — Юлия Квицинского, своего заместителя, Юлия Воронцова, представителя в ООН, и Александра Бессмертных, посла в США. Сдавая дела, Шеварднадзе настоятельно советовал Горбачеву остановить свой выбор на Квицинском.
Горбачев тоже рассматривал трех кандидатов на пост министра — это Александр Яковлев, Евгений Примаков и Александр Бессмертных. Яковлев был бы предпочтителен для Горбачева, но его бы наверняка не утвердил Верховный Совет, испытывавший ненависть к архитектору перестройки. Время Примакова еще не пришло. Как раз в тот момент он вел переговоры с Саддамом Хусейном, и его назначение было бы настороженно встречено Западом. Горбачев хотел избежать впечатления, что внешнеполитический курс страны меняется. По этой же причине отверг и кандидатуру Александра Сергеевича Дзасохова, члена политбюро и секретаря ЦК, в недавнем прошлом посла в Сирии.
Кадровый дипломат, которого уважали в МИДе, Александр Александрович Бессмертных казался естественным кандидатом на пост министра: посол в Соединенных Штатах, следовательно, американцы его хорошо знают, человек из команды Шеварднадзе, политически нейтрален, умен и образован. В день, когда назначили Бессмертных, началась война в Персидском заливе. Как он сам шутя выразился:
— Не было у нового министра первой ночи. Поспать не удалось. Пришлось всем этим заниматься.
Тринадцатого января в Белом доме на совещании у Буша решили, что военные действия начнутся 17 января, когда в Кувейте будет три часа ночи, а в Вашингтоне шесть вечера 16 января.
Президент Буш-старший первоначально полагал, что сумеет обойтись авиацией. Президент Египта Хосни Мубарак и другие арабские политики пренебрежительно говорили, что иракцев никогда не бомбили — они сразу побегут. Вся операция займет один день… Но военные тактично объясняли Бушу, что атаками с воздуха войну не выиграть.
Горбачев до последнего момента надеялся не допустить боевых действий. Всех уговаривал повременить, доказывал, что Саддам Хусейн сам уйдет из Кувейта.
Одиннадцатого января 1991 года, за неделю до начала военных действий, Горбачев, разговаривая с Бушем по телефону, выразил легкое неудовольствие:
— Вы только говорите, что учитываете мнение Москвы, а действуете по собственному усмотрению. Нужна полная согласованность. Если надо, я готов встретиться и еще раз обсудить. Наша позиция остается жесткой, но не следует спешить.
Горбачев предложил выработать еще один план и отправить с ним в Багдад нового министра иностранных дел Бессмертных. Буш выслушал Горбачева, но для себя американский президент решил, что больше не будет уговаривать Саддама: если иракский президент предпочитает войну, он ее получит.
В Белом доме составили график, когда оповещать союзников о начале бомбардировок. Нового британского премьер-министра Джона Мейджора, чьи летчики участвовали в первых вылетах, решили предупредить за двенадцать часов. Саудовскую Аравию и Советский Союз — за час до начала операции. Главное, считали американские военные, не допустить утечки информации.
В два часа по московскому времени госсекретарь Джеймс Бейкер позвонил Александру Бессмертных и предупредил, что военная операция в Персидском заливе вот-вот начнется. Министр доложил президенту. Горбачев просил отложить ее хотя бы на несколько часов, но военный механизм уже был приведен в действие.
Американцы в каком-то смысле попали в безвыходное положение. Не начать боевые действия — укрепить Сад дама Хусейна в сознании собственной безнаказанности. Начать — значит навлечь на себя обвинения в агрессии, спровоцировать антиамериканские настроения.
В ночь с 16 на 17 января 1991 года многонациональные силы, размещенные на территории Саудовской Аравии, нанесли первый авиационный удар по армии Ирака, захватившей Кувейт. Началась операция «Буря в пустыне». Пока шла война, в кабинете Горбачева собирались Бессмертных, Примаков, Язов, маршал Ахромеев, еще несколько человек. Обсуждали ситуацию. Язов, опираясь на данные военной разведки и анализ генштабистов, показывал на карте ход боевых действий.
Во время этих встреч в узком составе возможность использования Саддамом оружия массового уничтожения рассматривалась очень серьезно. Считали, что иракский президент прикажет снарядить ракеты боеголовками с химическим оружием. Примаков спросил министра обороны Язова, не может ли Ирак начинить боеголовки ядерным топливом и тем самым пустить в ход «грязную ядерную бомбу», которая подвергнет воздействию радиации большие районы. Язов считал это вполне возможным.
Восемнадцатого января Горбачев разговаривал с президентом Бушем. Изложил ему свой план:
— Мощь иракской армии уже подорвана, зачем продолжать кровопролитие? Надо сделать перерыв и предложить Хусейну вывести войска из Кувейта.
Буш ответил, что Саддам на это не пойдет.
На следующий день, 19 января, Горбачев приказал отправить шифровку советскому послу в Багдаде Виктору Викторовичу Посувалюку с поручением передать Саддаму: если иракское руководство конфиденциально сообщит Москве о готовности вывести войска, Горбачев договорится с Бушем о прекращении боевых действий.
Советский президент получил ответ только через два дня. Буш оказался прав. Саддам Хусейн высокомерно отверг предложение и велел сообщить Горбачеву, что с такими предложениями надо обращаться не к нему, а к американскому президенту.
Горбачев и Примаков надеялись хотя бы уберечь Ирак от наземной операции. Евгений Максимович вновь отправился к Саддаму. Добираться пришлось сложным путем, на машинах, через соседний Иран. 12 февраля в Багдаде, когда город бомбили, Примакова тепло принял Саддам. Они обнялись. Примакову продемонстрировали следы разрушений от бомбардировок. Иракское телевидение снимало каждый шаг советского гостя, эти кадры с помощью американской телекомпании Си-эн-эн увидел весь мир.
Евгений Максимович осуждал действия американцев:
— Бойня должна быть прекращена. Я не говорю, что раньше война не была оправдана, но ее затягивание не может быть оправдано ни с какой точки зрения. Целый народ гибнет.
Эти телекадры не прибавили Примакову симпатии среди американцев.
Примаков уговаривал Саддама немедленно заявить об уходе из Кувейта. Саддам впервые согласился, но обещал дать ответ в письменной форме. Ночью в советское посольство приехал Тарик Азиз и привез совершенно пустое заявление: иракское руководство изучает идеи, изложенные представителем советского президента, и дает указание Азизу вылететь в Москву.
Вечером 13 февраля в вашингтонском Белом доме читали письмо из Москвы. Примаков всё-таки извлек из беседы с Саддамом некоторые обнадеживающие детали. Горбачев сообщал, что пригласил Тарика Азиза в Москву и просил не начинать в эти дни наземную операцию и приостановить бомбардировки. Американцы были убеждены, что эти обреченные на неуспех действия Горбачева продиктованы внутриполитическими причинами — Михаил Сергеевич боролся за свое политическое выживание.
Буш ему сочувствовал: «Мы старались отказать ему как можно более деликатно, чтобы не поставить его в затруднительное положение. Мы испытывали чувство огромной симпатии к нему и понимали его трудности. С другой стороны, мы не могли позволить ему вмешиваться в нашу политику в Заливе в самый решающий момент».
Пятнадцатого февраля Совет революционного командования Ирака заявил, что в принципе готов выполнить резолюцию Совета Безопасности ООН, то есть вывести войска из Кувейта, если будут выполнены следующие условия — американцы уходят из Саудовской Аравии, а Израиль оставляет все территории, которые должны принадлежать палестинцам.
Семнадцатого февраля на специально отправленном за ним советском самолете в Москву прилетел иракский вице-премьер Тарик Азиз. На следующий день утром он уже был в Кремле. Горбачев нетерпеливо спросил:
— Что вы привезли?
Азиз ответил, что его правительство принимает в принципе резолюцию Совета Безопасности. Иракцы готовы вывести войска поэтапно, если будут выполнены все их условия и ООН отменит все санкции.
Горбачев предложил: пусть Ирак немедленно пообещает вывести войска, тогда он уговорит Буша прекратить бомбардировки. И пусть в Багдаде поторопятся, потому что американцы не намерены заниматься умиротворением.
Азиз улетел в Багдад. Он вернулся ночью 21 февраля. Горбачев, всё еще полный энтузиазма и надежды закончить войну, ждал его в Кремле. Они говорили до трех часов ночи. Азиз заявил, что иракцы готовы отступить, но понадобится на это полтора месяца. Горбачев втолковывал ему, что такая затяжка невозможна. Азиз нехотя согласился сократить срок вывода иракских войск из Ирака.
В реальности Саддам всего лишь тянул время. Удары с воздуха были болезненными, однако он надеялся, что американцы не рискнут вступить с ним в схватку на поле боя. Страдания собственного народа его не беспокоили. Саддам выступил по телевидению с обещанием никогда не капитулировать.
Американцы не хотели позволить ему вывернуться из этой ситуации с почетом и избежать наказания. Буш предъявил Саддаму ультиматум: вывести войска из Кувейта в течение недели — к 23 февраля. Тарик Азиз заявил, что войска будут выведены. Но было поздно.
Двадцать второго февраля Горбачев вечером (по московскому времени) разговаривал с государственным секретарем Бейкером, а потом и с президентом Бушем. Уговаривал не переходить к сухопутной стадии операции, а договориться с Саддамом о порядке вывода его войск из Кувейта.
Анатолий Черняев записал его слова, адресованные Бушу:
— Мы с вами не расходимся в характеристике Хусейна. Его судьба предрешена. И я вовсе не стараюсь его как-то обелить или оправдать, сохранить ему имидж. Но мы и вы вынуждены иметь дело именно с ним, поскольку это реально действующее лицо, противостоящее нам. Речь сейчас идет вовсе не о личности Хусейна и не о методах его действий. Речь идет о том, чтобы перевести решение проблемы в сугубо политическое русло, избежать трагедии для огромной массы населения.
Михаил Сергеевич зря тратил время. Буш считал необходимым наказать Саддама и не желал, чтобы ему мешали. Если бы Саддаму позволили увести свою армию нетронутой, он бы вскоре вновь бросил ее в бой.
— Я не верю Саддаму, — ответил Буш. — Он просто пытается сохранить свое лицо и свою власть. Мы достаточно ждали. Мы были терпеливы. Но всему есть предел, и после того, что он натворил в Кувейте, мы не можем уступать.
Помощники Буша предложили вновь определить крайний срок, после которого начнется наземная операция. Если Саддам воспользуется этим предложением, он спасется.
Под прицелом телекамер Джордж Буш произнес:
— Коалиция позволит Саддаму Хусейну до полудня субботы сделать то, что он должен сделать, — начать вывод войск из Кувейта.
Саддам, как и следовало ожидать, упустил последний шанс сохранить свою армию.
Двадцать третьего февраля, в субботу, Горбачев целый день обзванивал руководителей крупнейших государств, которые участвовали в операции против Саддама, с просьбой отложить начало наземных боевых действий. Но за исключением советского президента все остальные политики убедились, что вести переговоры с Саддамом бесполезно.
За 45 минут до истечения ультиматума Горбачев вновь позвонил Бушу, который играл в волейбол со своими сотрудниками и морскими пехотинцами, охранявшими Белый дом. Буш разговаривал с советским президентом из раздевалки, вытирая пот полотенцем. Горбачев сказал, что иракцы совершенно точно уйдут через четыре дня и надо дать им это время. Буш твердо ответил, что не может изменить срок ультиматума.
Двадцать четвертого февраля 1991 года в четыре часа утра по местному времени в Персидском заливе началась наземная операция. Советский министр иностранных дел Александр Александрович Бессмертных поручил отделу печати МИДа выразить сожаление по поводу того, что «возобладала тяга к военному решению и упущен реальный шанс на мирное урегулирование». Но Горбачев и Бессмертных не стали занимать особую позицию и противопоставлять себя мировому сообществу. Выяснилось, что, вообще говоря, интересы СССР и США на Ближнем Востоке не противоречат друг другу, потому что обе страны заинтересованы в сохранении там мира и стабильности, в решении всех конфликтов политическими средствами.
В феврале 1991 года войскам антииракской коалиции понадобилось два дня, чтобы раздавить армию Саддама. Она не могла оказать сопротивления. В первый же день сдались в плен десять тысяч иракских солдат. Спасаясь от неминуемой катастрофы, униженный Саддам капитулировал. Он испугался, что или американцы доберутся до него и посадят на скамью подсудимых, или его собственные генералы, спасая себя, уничтожат «любимого президента». Впрочем, иракская пропаганда писала только о выдающейся победе великого Саддама Хусейна над Америкой.
Двадцать шестого февраля президент Ирака отправил срочное послание Горбачеву. Он уже не называл Кувейт девятнадцатой провинцией Ирака. Напротив, просил немедленно остановить наступление войск международной коалиции, клялся, что уже вечером его армия уйдет из Кувейта. К тому времени в плен попали семьдесят тысяч иракских солдат и офицеров. Саддам начал войну, располагая хорошо вооруженной миллионной армией. Ее половина находилась на территории Кувейта, от этих частей остались одни воспоминания.
В ночь на 27 февраля советского посла в Багдаде Виктора Посувалюка пригласили в Министерство иностранных дел Ирака. Посувалюк, блистательный дипломат, умница, интеллектуал, был знатоком Арабского Востока. Очень веселый, остроумный, азартный и доброжелательный человек с широким кругозором, он сочинял стихи, писал песни.
Во время войны в Персидском заливе, в часы бомбежек Виктор Викторович находился в сооруженном сотрудниками посольства бомбоубежище в виде огромной трубы. Она не спасла бы от прямого попадания, но от осколков зенитных снарядов предохраняла. Посувалюк никогда не отчаивался, не терял бодрости духа. За личную храбрость он получил тогда орден Красного Знамени. Потом Посувалюк возглавлял ближневосточный департамент министерства, стал заместителем министра иностранных дел России, а в 1999 году после тяжелой болезни безвременно ушел из жизни. Он не дожил и до шестидесяти лет…
Я много раз встречался с ним, поражаясь его познаниям и доброжелательности, брал у него интервью. Виктор Викторович не имел права сказать больше, чем ему было положено в его роли одного из руководителей отечественной дипломатии. Но он не прятался за казенными формулами, не уходил от ответа. Напротив, считал, что дипломатия должна быть понята народом. Он интересно рассказывал о национальном характере своих подопечных, о традициях, исламе…
Я мог его слушать часами. Смею предположить, что ему приятен был мой интерес. Однажды он сделал то, что я счел знаком высокого доверия. Когда я в очередной раз вошел в его скромный кабинет, Виктор Викторович разговаривал по телефону. Дальнозоркий от рождения, я увидел, что на столе перед ним лежит отпечатанная на бланке расшифрованная телеграмма одного из послов. Я работал над книгой о министрах иностранных дел, и мне ужасно хотелось посмотреть, как выглядит подлинный бланк шифротелеграммы. Набравшись наглости, я спросил, нельзя ли взглянуть на шапку телеграммы.
Не колеблясь ни секунды, Виктор Викторович показал мне шифровку. Он не совершил должностного проступка. Содержимое телеграммы было самым тривиальным. Но поступок я оценил.
Никогда не забуду и последний наш разговор. Он был уже болен, сильно похудел, за воротник рубашки можно было кулак просунуть. Рассказал, что у него была тяжелая операция. Но надеялся на лучшее. Я, разумеется, не знал истинного диагноза и верил, что он скоро поправится. Мы беседовали очень долго, пока помощник не напомнил, что прибыл посол одной из арабских стран — ему назначена аудиенция.
— А мы как-то не договорили, — с сожалением произнес Посувалюк.
Я встал, чтобы попрощаться. Он неожиданно задержал меня:
— Посидите еще с нами.
В небольшой комнате отдыха мы уселись втроем. Посол наверняка очень удивился, что на такой важной беседе присутствует посторонний, но как истинный дипломат виду не подал. Принесли чай. Мы поговорили несколько минут на общие темы, и, понимая, что нельзя злоупотреблять гостеприимством, я раскланялся. Пожимая руку Виктору Викторовичу, я не предполагал, что вижу его в последний раз.
Прощание с ним проходило в обычном месте — ритуальном зале Центральной клинической больницы Управления делами президента. Собрался, наверное, весь наличный состав Министерства иностранных дел. Появился тогдашний глава правительства Сергей Вадимович Степашин, это оценили. Приехал уже отставленный от должности Евгений Максимович Примаков. Он сильно хромал, да и время было для него не лучшее (мы еще к этому вернемся), но не попрощаться со своим недавним заместителем не мог. Это одна из замечательных черт Примакова — верность друзьям и товарищам…
Во время первой войны в Персидском заливе Посувалюк оставался единственным каналом связи Ирака с внешним миром. Тарик Азиз попросил советского посла срочно передать Генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности: Ирак уже начал вывод войск из Кувейта, Ирак принимает все резолюции ООН и гарантирует выплату Кувейту компенсации за нанесенный ущерб.
Джордж Буш-старший и его команда добились своего. Если бы Буш прислушался к сторонникам умиротворения Саддама, Кувейт и по сей день был бы оккупирован иракскими войсками. Вечером 27 февраля Буш сделал заявление:
— Кувейт освобожден. Армия Ирака побеждена. Наши цели в военной сфере достигнуты. Кувейт опять принадлежит кувейтцам, они вновь распоряжаются собственной судьбой. Семь месяцев назад Америка и весь мир сказали: хватит! Мы заявили, что не потерпим агрессии против Кувейта. И вот сегодня Америка и весь мир сдержали свое слово.
Тринадцатого марта 1991 года Верховный Совет разрешил Горбачеву создать вместо распущенного Президентского совета новую структуру — Совет безопасности, своего рода узкий кабинет. В него вошли вице-президент Янаев, новый глава кабинета министров Валентин Сергеевич Павлов, председатель КГБ Крючков, министры обороны — Язов, внутренних дел — Пуго, иностранных дел — Бессмертных, а также Бакатин и Примаков, которому Горбачев хотел поручить внешнеэкономические дела.
Каждую кандидатуру утверждали депутаты. Надо было набрать больше половины голосов. При первом голосовании Верховный Совет не утвердил Примакова и Болдина. Кто-то из депутатов был недоволен бывшим спикером, но в основном, как выяснилось позже, целенаправленно работало против Примакова руководство Верховного Совета. Горбачев доказывал, что Примаков нужен в Совете безопасности. Заставил проголосовать еще раз. Примаков подошел к микрофону и попросил не переголосовывать. Поступок оценили по достоинству. Примаков прошел. Тогда на Евгения Максимовича смотрели как на подозрительного либерала, позже он воспринимался как неисправимый консерватор…
У Александра Яковлева была своя точка зрения на сей счет:
— Он не консерватор, он просто никогда не торопился с выводами. То, что можно сказать сегодня вечером, он предпочитал сказать завтра утром.
— Вокруг Горбачева, условно говоря, были две группы. Одна подталкивала его вперед, другая держала за руки: не надо спешить. С кем был Примаков? — спросил я Александра Николаевича.
— Примаков всегда считал, что надо двигаться вперед. Не так явно, без вспышек. Я был более радикален. Он более осторожен. Он был более осторожным во внешнеполитических делах, чем, скажем, Шеварднадзе. Но в решении принципиальных вопросов не помню, чтобы он оказывался на той стороне, которая говорила: не надо.
— Вы были единомышленниками? Или на дальнейшее будущее России смотрели по-разному?
— Конечно, единомышленниками. По принципиальным вопросам. Иначе бы разошлись. Хотя надо оговориться: он дружеские отношения ставил выше любых политических разногласий. В отношении будущего страны Евгений Максимович занимал достаточно определенную позицию: Советский Союз, пусть в другом виде, в виде конфедерации, но должен жить…
Вадим Бакатин считал, что Примаков не так близок был к Яковлеву, хотя у них хорошие отношения.
— Все мы, перестройщики, не знали, куда идти из нашего развитого социализма. Евгений Максимович, по-моему, курс на радикальные реформы не разделял. Практическая направленность, прагматизм, здравый смысл — вот его философия. Честно говоря, в некоторых вещах у нас с ним не было единодушия. Он был более жестким человеком, чем я. Я был большим либералом в то время. Романтиком. У меня была идеализация Запада. Я одно время искренне считал, что мир поможет нам войти в новую жизнь. Мир жесток оказался, и он никому ничего не хочет отдавать. Везде голая прибыль. Примаков лучше знал этот мир и осторожнее подходил к этим ахам: ах, всё будет хорошо! Не всё…
Формирование Совета безопасности затянулось. Примаков ведал международными экономическими вопросами. Закрепленного за ним круга обязанностей не было. Он сидел в кабинете, который прежде принадлежал Молотову, и писал Горбачеву о проблемах в сфере внешней торговли. Он считал первоочередной задачей подготовить почву для вступления Советского Союза в важнейшие международные экономические институты — Генеральное соглашение по торговле и тарифам (теперь это Всемирная торговая организация), Международный валютный фонд и Всемирный банк — и главное — войти в «семерку» крупнейших экономических держав. Этот вопрос обсуждался на заседании Совета безопасности 18 мая 1991 года. Примаков твердо сказал:
— Без Запада нам не обойтись.
Вадим Бакатин говорил:
— Люди такого высокономенклатурного ранга, как я их наблюдаю, очень умело используют своих помощников, любят, когда им напишут, заготовят. Очень немногие стараются это делать сами. Евгений Максимович из тех, кто всё делает сам. Дает Горбачев задание. Что делает мудрый аппаратчик? Поручит помощнику, тот еще кому-то. Примаков говорил: садимся и будем писать. Мне это нравилось. Я тоже старался писать сам, но у меня хуже получалось.
Примаков, в частности, писал Горбачеву записки о необходимости установления дипломатических отношений с Южной Кореей. Почему все страны имеют посольства в Сеуле, а мы нет? Просто потому, что это Северной Корее не понравится?.. Предлагал улучшить отношения с Японией, привлечь японский капитал к освоению Дальнего Востока.
Евгений Максимович был главным сторонником сближения с Южной Кореей. Возражали многие, ссылаясь на то, что Северная Корея, давний союзник, этого не простит. Примаков доказывал, что нельзя игнорировать существование второго корейского государства. Именно по его приглашению в Москву впервые приехал будущий президент Республики Корея Ким Ён Сам — еще в роли лидера оппозиции. Примаков в марте 1990 года организовал в Кремле первую, «случайную» встречу Ким Ён Сама с Горбачевым. По договоренности, Горбачев как бы невзначай зашел в кабинет Примакова, где находился в то время Ким Ён Сам. Они с Ким Ён Самом, политиком умным и обаятельным, поговорили. Первый шаг к установлению дипломатических отношений с Южной Кореей был сделан.
Но Совет безопасности оказался декоративным органом.
«В это время я не раз посещал Примакова, — писал один из руководителей международного отдела ЦК КПСС Карен Брутенц, — и, к своему удивлению, находил его неизменно свободным. А он, заметив мое удивление, как-то вяло посетовал на то, что обязанности в Совете безопасности не вполне четко разделены, частенько нет никаких поручений, и он сидит без дела (и это тогда, когда страна чуть ли не пылает)».
Положение о Совете безопасности, которое Примаков и Бакатин написали и передали вице-президенту Янаеву, чтобы он доложил Горбачеву, так и осталось у Янаева. Примаков был не очень доволен работой у Горбачева, но, как добросовестный человек, исполнял свои обязанности. Ворчал, но работал. Он занимал формально высокий пост, но не имел реальной власти.
Какую роль играл Примаков при Горбачеве?
Виталий Игнатенко рассказывал:
— Первое: он генерировал идеи — очень острые. Они не всегда находили поддержку — время еще не подошло. Второе: он умел находить необходимых людей и быстро оценивать их возможности. Многих он приводил в кабинет президента. У него крестников очень много. Работа была нервная, неблагодарная, очень запутанная. Разные ведомства нас окружали. Все мы сбегались к Примакову и находили помощь и поддержку, товарищеское участие в наших делах. Причем не только кто-то из молодых сотрудников, а все. И когда надо было принимать серьезные решения — несправедливо увольнялся какой-то человек, никто не мог, да никому и в голову не могло прийти — прорваться в кабинет президента и сказать: «Вы поступили неправильно. Этот человек должен остаться. Он не может быть за стенами нашего здания…» А Примаков мог так поступить. Вставал, шел к Горбачеву и очень решительно говорил…
Свойственная ему решительность проявилась и в драматические дни августа 1991 года.
Двадцатого июня 1991 года министр иностранных дел Советского Союза Александр Александрович Бессмертных вел в Берлине переговоры со своим постоянным партнером государственным секретарем Соединенных Штатов Джеймсом Бейкером. После переговоров вернулся в советское посольство. Вдруг позвонил государственный секретарь со словами, что им необходимо срочно встретиться вновь:
— Я должен вам сказать кое-что важное, но не по телефону, а только лично. Не могли бы вы приехать ко мне?
Бессмертных крайне удивился:
— Джим, в чем дело? Что произошло?
Бейкер говорил как-то неуверенно:
— Повторяю, у меня срочное дело. Очень хотелось бы немедленно встретиться.
Бессмертных решил, что речь идет о какой-то детали, которую они не успели обсудить на переговорах.
— Через несколько минут у меня встреча с министром иностранных дел Кипра. Неужели дело не может подождать? Ну, если очень срочно, приезжайте, поговорим.
Бейкер стал говорить тверже:
— Дело у меня деликатного свойства. Если я поеду, то вслед двинется большое количество машин с охраной, заинтересуется пресса. Если можете, приезжайте вы. Я буду ждать в гостинице. Но желательно не привлекать внимания.
Бессмертных никак не мог решиться:
— Неужели это так срочно? У меня всё же беседа с кипрским министром…
Бейкер настаивал:
— Я бы на вашем месте в принципе отложил все дела и немедленно приехал. Я должен сказать нечто очень важное и срочное. Приезжайте один.
Бессмертных взял у советского посла машину и поехал без охраны, без мотоциклистов сопровождения, тайно. Взял с собой только Георгия Энверовича Мамедова, начальника Управления США и Канады (и будущего заместителя министра), полагая, что разговор пойдет на двусторонние темы.
В гостинице «Интерконтиненталь» американцы никого не подпускали к лифту, чтобы Бессмертных мог сразу же подняться к Бейкеру. Госсекретарь, увидев Мамедова, сказал, что хотел бы говорить один на один. Как только все их оставили, Бейкер сообщил Бессмертных:
— Я только что получил шифровку из Вашингтона. Она, вероятно, построена на разведывательной информации. Речь идет о попытке смещения Горбачева. По нашим данным, в этом примут участие премьер-министр Павлов, министр обороны Язов и председатель КГБ Крючков.
Бейкер, как человек осторожный, на всякий случай не сказал, от кого получена эта информации, хотя знал имя. В полдень того же дня в резиденции посла Соединенных Штатов в Советском Союзе Джона Мэтлока, который прекрасно говорит по-русски, появился мэр Москвы Гавриил Харитонович Попов. Они расположились в библиотеке.
Попов достал лист бумаги, что-то на нем написал и передал послу. Там было написано: «Готовится попытка снять Горбачева, надо сообщить Борису Николаевичу». Ельцин в тот момент находился в Соединенных Штатах.
Мэтлок, продолжая разговор, написал на том же листке: «Я передам. Кто это делает?»
Попов назвал четыре фамилии: «Павлов, Крючков, Язов, Лукьянов».
Как выяснится в августе, Гавриил Харитонович не ошибся… Он разорвал листок на мелкие клочки и сунул себе в карман.
Когда московский мэр ушел, Джон Мэтлок набросал записку и с офицером охраны отправил в посольство. До встречи президента Буша с Ельциным оставалась пара часов. Заместитель Мэтлока в посольстве связался по защищенному от прослушивания телефону с первым заместителем государственного секретаря США Лоуренсом Иглбергером. Тот отправился в Белый дом и доложил о сообщении из Москвы президенту Джорджу Бушу и его советнику по национальной безопасности Бренту Скоукрофту. Одновременно шифротелеграмма из посольства в Москве была доложена Бейкеру, который в тот момент в Берлине заканчивал переговоры с Бессмертных.
Американцы пришли к выводу, что они обязаны предупредить Горбачева. Но стоит ли самому Бушу напрямую звонить Горбачеву — ведь горячую линию связи между двумя столицами обеспечивают связисты КГБ?
— Надо связаться через Бессмертных, — предложил Бейкер. Он и попросил советского министра иностранных дел немедленно приехать. Бейкер сказал Александру Александровичу:
— Мы считаем, что информация настолько важна, что вам следует о ней знать. Ваше дело, что с ней делать. Но с нашей точки зрения, вопрос срочный, и вам надо срочно доложить Горбачеву. Есть ли у вас надежная линия связи?
Бессмертных ответил, что в советском посольстве есть аппарат ВЧ или, как его теперь называют, ПМ — правительственной междугородней связи, но эта связь контролируется КГБ. Тогда Бейкер предложил передать информацию через американского посла в Москве Джона Мэтлока.
Бессмертных позвонил помощнику Горбачева по международным делам Черняеву и, не объясняя сути дела, попросил, чтобы президент принял посла незамедлительно. Черняев доложил Горбачеву. Тот согласился принять посла и попросил Анатолия Сергеевича присутствовать. Он и описал эту встречу: «На Мэтлоке буквально не было лица. Горбачев, не обратив на это внимания, стал выражать сожаление в связи с его предстоящим отъездом, говорил, что очень ценит его деятельность».
Дождавшись, когда ему позволят говорить, Мэтлок сказал:
— Господин президент, я только что получил личную шифротелеграмму от своего президента. Он велел мне немедленно встретиться с вами и передать следующее: американские службы располагают информацией о том, что завтра будет предпринята попытка отстранить вас от власти. Президент считает своим долгом предупредить вас.


Курсант Бакинского военно-морского подготовительного училища с мамой Анной Яковлевной Примаковой.
1944 г.
Двор в Тбилиси, в котором прошло детство Евгения Максимовича


Аспирант Московского государственного университета. 1954 г.
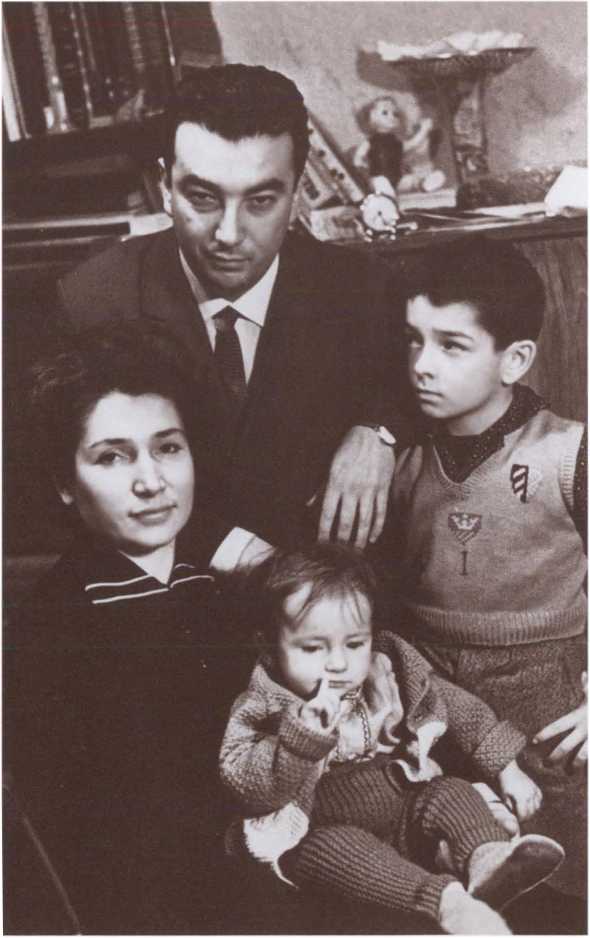
Счастливая семья. 1963 г.
Анна Яковлевна Примакова
С сыном
в редакции «Правды».
1964 г.



Собкор «Правды» в арабских странах и Эфиопии. 1966 г

Одна из первых встреч с Саддамом Хусейном. 1975 г.
С женой Лаурой в Японии. 1986 г.


«Десант», высаженный в Индии перед визитом М. С. Горбачева. 1986 г.
Тарик Азиз (первый слева) в Москве…
С опозданием и без полномочий. Улыбки не отвечают ситуации — США уже запустили механизм «войны в пустыне». 1991 г.


На Кубе. С Фиделем и Раулем Кастро теплые отношения установились сразу, без «притирки». 1994 г.

Президент Ирана Рафсанджани располагал к откровенному разговору
С советником иранского духовного лидера Хомейни по вопросам внешней политики, бывшим министром иностранных дел Велаяти


С президентом Бушем-старшим
Обаятельный, образованный, доброжелательный лидер исмаилитов Ага Хан


Президент Клинтон понимал юмор,
поэтому встречи с ним носили непринужденный характер. 1996 г.
С госсекретарем США У. Кристофером. 1996 г.


Мадлен Олбрайт и Строуб Тэлботт в гостях у Евгения Примакова.
После посещения ими гостеприимного дома Евгения Максимовича произошел перелом в трудных переговорах. 1997 г.
Заседание контактной группы в Бонне 6 марта 1998 года. Министр иностранных дел Германии Клаус Кинкель, который не дрогнул под напором госсекретаря США


С Цзян Цзэминем сразу установился дружеский контакт
С министром иностранных дел Флавио Котти, который впоследствии стал президентом Швейцарии


Прием у папы римского Иоанна Павла II
Посещение вдовы Раджива Ганди


Послание В. В. Путина Саддаму Хусейну с предложением уйти с поста президента Ирака. Если бы он согласился…
Евгений Примаков во время посещения российской миротворческой бригады в боснийском городе Углевик. Март 1998 г.

Горбачев и Черняев рассмеялись, настолько невероятным им это показалось. Джон Мэтлок смутился:
— Я не мог не выполнить поручение президента.
Горбачев поспешил его успокоить:
— Это абсолютно невозможно. Успокойте его. Но я ценю, что Джордж сообщает мне о своей тревоге. Раз поступила такая информация, долг друга — предупредить. И я вижу, насколько далеко мы ушли вперед во взаимном доверии. Это очень ценно.
Поскольку Мэтлок, разумеется, не назвал хорошо известный ему источник информации, Горбачев сам попытался объяснить послу, откуда могли взяться такие тревожные слухи:
— Дело идет к подписанию Союзного договора, к согласию в обществе. Но есть силы, которым это не нравится. Они чувствуют, что теряют власть. Не исключаю, что в их среде ведутся разные разговоры, в том числе и такие, которые подслушал ваш разведчик.
Тем временем в Вашингтоне президент Буш принимал восходящую звезду советской политической сцены — Бориса Николаевича Ельцина, только что избранного президентом России. Буш пересказал ему то, что сообщил Попов. Ельцин не раздумывал ни секунды: нужно предупредить Горбачева. Буша вполне устраивало, чтобы эту информацию Горбачеву пересказал Ельцин. Буш попросил соединить его с Москвой.
В советской столице близилась полночь. Горбачев уже уехал на дачу. Дежурный секретарь из президентской приемной в сомнении обратился к Черняеву: американский президент желает поговорить с Михаилом Сергеевичем. Как быть?
Тот уверенно сказал:
— Соединяйте.
Вызов переключили на президентскую дачу. Но Михаил Сергеевич с Раисой Максимовной вышли погулять. Это был обязательный ритуал — каждый вечер, когда он возвращался на дачу, они делали несколько кругов. Горбачев рассказывал, что происходило в течение дня, Раиса Максимовна внимательно слушала и давала советы. Охрана не решилась их побеспокоить. Михаилу Сергеевичу доложили о звонке из Вашингтона, когда прогулка завершилась. Горбачев распорядился немедленно соединить его с Белым домом, но теперь уже Буш не мог разговаривать.
На следующее утро Горбачев устроил разнос председателю КГБ Владимиру Крючкову и руководителю президентского аппарата Валерию Болдину за то, что они не смогли организовать разговор с Бушем. Болдину велел разогнать дежурных секретарей:
— Идиоты, дармоеды! Один из них меня до сих пор Леонидом Ильичом иногда называет.
Когда разговор с Бушем, наконец, состоялся, американский президент был рад услышать, что нет никаких оснований для беспокойства. Сгоряча он даже выдал Горбачеву источник информации — Попова. Тогда Горбачев и вовсе успокоился: Гавриил Харитонович не может знать больше президента СССР. Наверняка мэр Попов несколько прямолинейно истолковал выступление премьер-министра Павлова на закрытом заседании Верховного Совета 17 июня.
Павлов позволил себе критиковать президента за бездействие и требовал предоставить ему дополнительные полномочия, сравнимые с полномочиями самого президента. Горбачева тоже смутило резкое выступление Павлова, а еще больше то, что премьер-министра поддержали председатель КГБ Крючков, министр обороны Язов и министр внутренних дел Пуго.
Все трое силовых министров, не называя президента, фактически предъявили ему обвинения в антигосударственной деятельности. На следующий день Горбачев появился в Верховном Совете и, как ему показалось, погасил эффект от внезапного бунта силовых министров.
Вернувшись в Москву, Бессмертных спросил Горбачева, передал ли ему Мэтлок информацию о заговоре.
— Да, я всё знаю, — небрежно кивнул Михаил Сергеевич и перевел разговор на темы, казавшиеся ему более важными.
До путча оставалось два месяца.
Увидев московского мэра, Горбачев погрозил ему пальцем:
— Ну, зачем вы рассказываете сказки американцам?
Но еще до этой истории Горбачев получил предупреждение от другого человека, чьему мнению должен был бы доверять. Черняев пишет в книге «Шесть лет с Горбачевым», что это сделал Примаков.
Евгений Максимович говорил Горбачеву:
— Вы слишком доверились КГБ, службе вашей безопасности. Уверены ли вы в ней?
Горбачев назвал на редкость трезвомыслящего и уравновешенного Примакова паникером, недовольно сказал:
— Женя, успокойся. Ты-то хоть не паникуй.
Раз Примаков тоже приходил к Горбачеву с предупреждением о готовящемся путче, значит, окружение президента что-то предчувствовало? Я спрашивал об этом Виталия Игнатенко, который был тогда помощником президента СССР.
— Конечно, мы говорили на эту тему, — сказал Игнатенко. — Но одно дело — сидеть в курилке или у себя в кабинете и рассуждать с приятелями. Другое — прийти к президенту и сказать ему: за вашей спиной заговор. И взвалить на себя колоссальную ответственность, потому что, во-первых, никто не хотел в это верить, а во-вторых, все те, о ком шла речь, с ним же за одним столом сидели. Так что такие предупреждения могли дорого стоить. Мэр Москвы Гавриил Харитонович Попов пришел с этими подозрениями в американское посольство, а Примаков пошел к Горбачеву. И тот и другой поступили очень смело, но степень смелости разная, и разная ответственность за свои слова…
Семнадцатого июля 1991 года Горбачев впервые участвовал во встрече семи наиболее развитых стран в Лондоне. Примаков принял в ее организации самое деятельное участие. А когда Михаил Сергеевич уехал в последний в его президентской жизни отпуск, разъехались и все его сотрудники. Примаков с внуком Женей отдыхал в санатории «Южный» неподалеку от Фороса, где был блокирован Горбачев. О том, что Горбачев отстранен от власти, Евгений Максимович узнал одновременно со всей страной. В болезнь Горбачева не поверил, потому что накануне президент беседовал по телефону со своими помощниками.
Во второй половине дня 18 августа у Примакова в санатории перестали работать спецсвязь и городской телефон. Успокаивали: быстро починят. Но 19 августа с президентом уже не соединяли. В тот день страна проснулась и узнала, что президент Горбачев отставлен от должности, а всем управляет Государственный комитет по чрезвычайному положению. ГКЧП продержался всего три дня. Но эти три дня разрушили нашу страну.
По прошествии нескольких лет августовский путч 1991 года многим кажется чем-то смешным и нелепым, дворцовой интригой, кремлевской опереткой. Одни с трудом вспоминают, что Михаила Сергеевича вроде и в самом деле заперли в его летней резиденции в Форосе, а другие уверены, что он сам, не желая отказываться от морских купаний, послал подчиненных наводить порядок в стране, а потом почему-то на них обиделся и велел арестовать…
Участники ГКЧП, сначала защищаясь, а потом и нападая, утверждали, что Горбачев захотел въехать в рай на чужом горбу. Сам объявить чрезвычайное положение не решился, а им сказал: черт с вами, действуйте!
Да если бы Горбачев когда-нибудь в жизни говорил: «Вы действуйте, а я посижу в сторонке», — он бы никогда не стал генеральным секретарем! Он принадлежит к породе властных и авторитарных людей, которые исходят из того, что всё должно делаться по их воле. Он-то понимал, что именно подвигло членов ГКЧП на внезапные действия.
Накануне отъезда в отпуск, 29 июля, Горбачев встретился в Ново-Огареве с президентом России Ельциным и президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Обсуждались самые что ни на есть деликатные проблемы.
Горбачев вспоминал:
«Разговор шел о том, какие шаги следует предпринять после подписания Союзного договора. Согласились, что надо энергично распорядиться возможностями, создаваемыми договором и для республик, и для Союза…
Возник разговор о кадрах.
В ходе обмена мнениями родилось предложение рекомендовать Назарбаева на пост главы Кабинета министров. Он сказал, что готов взять на себя эту ответственность… Конкретно встал вопрос о Язове и Крючкове — их уходе на пенсию.
Ельцин чувствовал себя неуютно: как бы ощущал, что кто-то сидит рядом и подслушивает. А свидетелей в этом случае не должно было быть. Он даже несколько раз выходил на веранду, чтобы оглядеться, настолько не мог сдержать беспокойства.
Сейчас я вижу, что чутье его не обманывало. Плеханов (начальник Девятого управления КГБ) готовил для этой встречи комнату, где я обычно работал над докладами, рядом другую, где можно перекусить и отдохнуть. Так вот, видимо, всё было заранее “оборудовано”, сделана запись нашего разговора, и, ознакомившись с ней, Крючков получил аргумент, который заставил и остальных окончательно потерять голову. Поэтому заявления гэкачепистов о том, что ими двигало одно лишь патриотическое чувство, — демагогия, рассчитанная на простаков».
Замену пока нашли только Павлову, но Крючкова и Язова твердо решили отправить на пенсию. Кроме того, договорились сократить разбухший правительственный аппарат — упразднить некоторое количество министерств и ведомств.
Будущий член ГКЧП премьер-министр Павлов знал, что его ждет. Еще 3 января 1991 года на совещании у Горбачева возникал вопрос о новом главе правительства. Его советники Евгений Максимович Примаков и Вадим Викторович Бакатин предложили кандидатуру Назарбаева. Тогда вопрос отложился. Но премьер-министр Павлов знал, что не усидит в своем кресле. В июне его первый заместитель Владимир Иванович Щербаков пересказал своему шефу конфиденциальный разговор с Горбачевым: президент предлагал ему возглавить правительство. Так что Валентину Павлову тоже было что терять — после подписания Союзного договора он бы перестал возглавлять правительство.
«Переворот готовили заранее, — вспоминал Петр Кириллович Лучинский, который в 1991 году был секретарем ЦК КПСС. — Определенные намеки поступали и в мой адрес. Например, Болдин, один из самых влиятельных помощников Горбачева, мне говорил сухим, едва ли не приказным тоном:
— Вам надо встретиться с Язовым!
Я уклонялся от этого, понимал, что дело нечисто, подозревал провокацию. Ведь я был недавним членом политбюро, мало ли, думал, какие у них существуют проверки… Кто же мог предположить, что один из самых доверенных людей Горбачева — Болдин устроит, по сути, государственный переворот? Другой вопрос, был ли в курсе такой подготовки Михаил Сергеевич? Однозначный ответ на него до сих пор неведом.
Поговорить с Горбачевым по-человечески, задушевно, мне ни разу не довелось. Позже узнал, что близких товарищей у него, по сути, никогда не было. Разве что Раиса Максимовна — пусть земля ей будет пухом… Он вел себя как английский лорд, убежденный, что у Англии не может быть ни друзей, ни врагов, а есть лишь собственные интересы. В отношениях с соратниками он никогда “не опускался” до бесед по душам хотя бы за “рюмкой чая”. Кстати, я знаю, генсек уважал молдавский коньяк, предпочитая его даже “своим” кавказским…»
Председатель КГБ Крючков прощупывал секретаря ЦК по международным делам Валентина Михайловича Фалина, который был недоволен линией Горбачева в немецких делах. Крючков заговорил о «неадекватном поведении» Горбачева, которое «всех беспокоит». Фалин, который ни о чем не подозревал, предложил откровенно поговорить с Горбачевым. Больше Крючков ему не звонил.
Четвертого августа, в воскресенье, Горбачев улетел в Крым. Его провожало всё руководство страны. Вице-президенту Янаеву Михаил Сергеевич сказал:
— Ты остаешься на хозяйстве.
Заместитель генерального секретаря ЦК КПСС Владимир Антонович Ивашко болел и уехал поправлять здоровье в подмосковный санаторий «Барвиха». Его обязанности исполнял Олег Семенович Шенин, отвечавший в ЦК за оргвопросы. Олег Шенин прежде работал первым секретарем Красноярского крайкома. Летом 1990 года Горбачев перевел понравившегося ему Шенина в Москву членом политбюро и секретарем ЦК КПСС. Уходя в отпуск, Михаил Сергеевич просил его присматривать за партийными делами, в сложной ситуации действовать по обстоятельствам.
Горбачев, похоже, не хотел задумываться над тем, что секретарь ЦК по оргделам — его принципиальный идеологический противник. В апреле 1991 года Олег Шенин выступал на партийной конференции аппарата и войск КГБ СССР:
— Если посмотреть, как у нас внешние сионистские центры и сионистские центры Советского Союза сейчас мощно поддерживают некоторые политические силы, если бы это можно было показать и обнародовать, то многие начали бы понимать, кто такой Борис Николаевич и иже с ним… Я без введения режима чрезвычайного положения не вижу нашего дальнейшего развития, не вижу возможности политической стабилизации и стабилизации экономики.
На секретариате ЦК Шенин бросил:
— Надо что-то делать. А то будем висеть на фонарях на Старой площади.
Что не помешало именно Олегу Шенину в марте 1991 года от имени секретариата ЦК поздравить Михаила Сергеевича с днем рождения и произнести речь о его выдающихся качествах. В тот день Горбачев пригласил к себе в кабинет всего полтора десятка человек, угостил шампанским.
Начальник службы охраны Плеханов улетел вместе с Горбачевым — так полагалось. Юрий Сергеевич Плеханов, окончивший заочно пединститут и перешедший с комсомольской работы на партийную, много лет работал у председателя КГБ Юрия Владимировича Андропова. После смерти Юрия Владимировича получил погоны генерал-лейтенанта и стал начальником Девятого управления КГБ (охрана руководителей партии и государства) — Горбачев доверял андроповским кадрам.
В те времена офицеры «девятки» не столько охраняли — не от кого было, — сколько обеспечивали быт высших руководителей, служили своего рода няньками. Охранники следили за порядком на госдаче, доставляли заказанные на спецбазе продукты, вовремя приглашали врача, вызывали портного из ателье — сшить костюм, возили на корт — заниматься спортом. Старшему охраннику из кассы Девятого управления выдавали и наличные — на мелкие расходы подопечного лица. Руководители партии и государства жили, как при коммунизме, деньги им были нужны только для того, чтобы заплатить партийные взносы.
В Форосе Плеханов неожиданно сказал начальнику личной охраны президента генералу Владимиру Тимофеевичу Медведеву:
— У тебя усталый вид. Отдохнуть бы тебе надо.
Медведев удивился: отпуск ему всегда давали зимой, а тут такая забота. Смысл ее станет ясен позднее. Плеханов даже поговорил с Горбачевым, но тот своего главного охранника не отпустил. Через несколько дней Плеханов вернулся в Москву.
Пятого августа Болдин и Шенин позвонили Крючкову и с намеком спросили: читал ли председатель КГБ проект Союзного договора и понимает ли он, что будет означать его принятие? Крючков предложил встретиться в неформальной обстановке и обсудить ситуацию.
Будущие члены ГКЧП собрались в тот же день вечером в особняке Комитета госбезопасности «АБЦ», который находится на улице Академика Варги, дом 1. В служебных документах «АБЦ» значился как «Объект КГБ СССР для обучения иностранцев и приема зарубежных делегаций». Здесь встречались высшие руководители госбезопасности, когда им хотелось отдохнуть и поговорить в неформальной обстановке. Здесь есть сауна, бассейн, комнаты отдыха и хорошая кухня с запасом продуктов и выпивки на все вкусы. Объект круглосуточно охранялся прапорщиками КГБ. Право беспрепятственного доступа имели председатель комитета и его заместители. Остальные должны были заказывать пропуска.
Перед каждой встречей председатель КГБ звонил начальнику внешней разведки генерал-лейтенанту Леониду Владимировичу Шебаршину (объект находился в его ведении), спрашивал, свободен ли гостевой дом, просил всё подготовить.
В восемь вечера приехал без машины сопровождения министр обороны маршал Язов с одним охранником. С его автомобиля в целях конспирации даже сняли проблесковый маячок. Затем приехали Крючков на «мерседесе», Болдин и секретари ЦК Олег Шенин и Олег Бакланов (он же председатель комиссии ЦК по военной политике и заместитель председателя Совета обороны при президенте страны).
Почему Бакланов присоединился к этой группе? Однажды на заседании политбюро Горбачев сказал ему:
— А ты какие деньги жрешь? Один старт твоей ракеты сколько стоит? Плюнул один раз в космос, миллиарды там летают…
На другом заседании политбюро Горбачев сказал:
— Мы тратим в два с половиной раза больше, чем США, на военные нужды. Ни одно государство, кроме слаборазвитых, которых мы заваливаем оружием, ничего не получая взамен, не расходует на эти цели в расчете на душу населения больше, чем мы…
В отсутствие Горбачева они чувствовали себя свободно и откровенно говорили о том, что наведение порядка в стране требует жестких мер и нужно их готовить.
Они разъехались около одиннадцати вечера. На следующий день, выполняя договоренность, Язов вызвал к себе командующего воздушно-десантными войсками Павла Сергеевича Грачева (удостоенного в Афганистане «Золотой Звезды» Героя «за умелое выполнение боевых задач при наименьших потерях среди личного состава») и сказал, что генералу поручается совместная работа с КГБ над одним важным документом. Язов велел Грачеву немедленно ехать в КГБ, потому что Крючков желает с ним познакомиться.
Всё это известно со слов самого Грачева, который после провала путча охотно беседовал со следователями. Маршалу Язову не оставалось ничего иного, кроме как подтвердить его показания. Потом Грачев многое повторил в интервью для документального фильма Александра Стефановича «Жаркий август 1991-го»:
— Крючков сам выходит мне навстречу. Обнял за плечи: «Слышал-слышал, молодец, теперь надо с тобой познакомиться… Хороший командир».
Это происходило около семи вечера. В кабинете Крючкова уже находились бывший начальник его секретариата, а в ту пору заместитель начальника Первого главного управления КГБ (внешняя разведка) генерал-майор Владимир Жижин и полковник Алексей Егоров, помощник первого заместителя председателя КГБ Грушко. Генерал-полковник Виктор Федорович Грушко был любимцем Крючкова. Полковник Егоров, как доверенный человек Грушко, участвовал в разработке планов чрезвычайного положения с декабря 1990 года.
По словам Грачева, председатель КГБ рассуждал так:
— Внутриполитическая обстановка в стране нестабильна. Всё это может привести к хаосу и негативным настроениям отдельных слоев населения. А в дальнейшем — даже к гражданской войне. Эту обстановку надо исправлять. Конечно, в первую очередь политическим путем — это смена руководства. Тем более что Михаил Сергеевич болен, тяжело болен, и возможно, что он через несколько дней подаст в отставку. Но в связи с тем, что его уход разные люди могут расценить по-разному, необходимо выработать план действий политического руководства страны в нестандартной обстановке. С этой целью необходимо проработать проект плана и представить его на рассмотрение политического руководства страны.
Говорил Крючков тихо, спокойно, но в этом тихом спокойном голосе генерал Грачев почувствовал внутреннюю уверенность в себе и своих возможностях.
Грачев уточнил:
— Я командующий воздушно-десантными войсками. Я в политике слабак, меня этому делу не учили. Я могу поехать воевать, обучать солдат… По-моему, это не в мой адрес.
— Нет, в ваш адрес, — подтвердил Крючков. — В случае напряженной обстановки десантники в первую очередь нам потребуются, чтобы вместе с соответствующими органами государственной безопасности стабилизировать обстановку.
Грачев кивнул:
— Ну, если так, я доложу министру обороны.
— С министром обороны всё согласовано.
— А что мне нужно делать?
— Есть хорошая дача. Там отдохнете и заодно поработаете вместе с нашими товарищами.
Грачев, Жижин и Егоров перешли в кабинет генерала Грушко, который объяснил, что им предстоит просчитать последствия введения чрезвычайного положения в стране, а также какие силы для этого понадобятся. Дисциплинированный Грачев всё же позвонил Язову и доложил о поручении председателя КГБ. Министр обороны разрешил ему участвовать в этой работе.
На следующий день Грачев подъехал к посту ГАИ по Ленинградскому шоссе. Там стояла черная «Волга». Два молодых человека предложили пересесть в их машину. Генерала доставили в красивый особнячок. Это был объект Второго главного управления КГБ (контрразведка) под названием «конспиративная дача № 65» в деревне Машкино Химкинского района Московской области. Там уже был накрыт стол. Начали с обеда. Потом один из офицеров КГБ объяснил:
— Павел Сергеевич, нам поручено разработать проект решения политического руководства на случай передачи политической власти от Горбачева другому лидеру нашего государства.
— А кто этот другой?
— Мы сами не знаем.
Выложили на стол охапку бумаг. Грачев спросил:
— А это что такое?
— Варианты перехода власти от одного правителя к другому в различных странах.
— Вы там что, тоже работали?
Ну, они поулыбались, конечно. Пошутили.
— Павел Сергеевич, если мы будем привлекать войска для усиленной охраны объектов, вы можете расписать, что нужно усиливать в городе Москве?
Грачев:
— Вы ж знаете революцию семнадцатого года. Здания правительства, мэрии, банки, вокзалы, телефонные станции, телевизионные помещения… Можно набросать, конечно.
— И состав сил и средств.
— У нас Тульская воздушно-десантная дивизия готова усилить любой объект.
Втроем они подготовили обширную записку с указанием, какие силы для этого потребуются. Грачев предложил вызвать на случай волнений в Москве Тульскую воздушно-десантную дивизию. Чекисты повезли доклад Крючкову, Грачев отдал со-крашенную копию Язову. В записке говорилось, что нет законных оснований для введения чрезвычайного положения, население будет реагировать негативно. Но Крючков сказал, что после подписания Союзного договора вводить чрезвычайное положение еще сложнее.
Четырнадцатого августа Крючков собрал свою команду. Он сказал, что Горбачев не в состоянии адекватно оценить обстановку, у президента СССР психическое расстройство, он собирается подать в отставку, и, вероятно, придется всё-таки вводить чрезвычайное положение. И поручил своим подчиненным вместе с Грачевым подготовить проекты первоочередных документов на случай введения чрезвычайного положения. Крючков продиктовал им несколько формулировок, которые помощники старательно записали.
На следующий день Грачев, Егоров и Жижин встретились в том же загородном особняке и подготовили проекты документов, которые вечером получили первый заместитель председателя КГБ Грушко и генерал Всеволод Ачалов, заместитель министра обороны. Они вместе доработали документы, которые вскоре подпишут члены ГКЧП, — это «Постановление ГКЧП № 1», «Заявление Советского руководства», «Обращение к советскому народу». 16 августа утром Грушко передал все документы Крючкову на окончательное одобрение.
Дальше события развивались так.
Шестнадцатого августа секретарь ЦК Олег Бакланов приехал к Крючкову на Лубянку — тогда, надо понимать, и было принято окончательное решение действовать. Из членов ГКЧП они двое оказались самыми деятельными. Во второй половине дня Крючков сказал своему заместителю Гению Агееву, бывшему секретарю парткома КГБ, что создается Комитет по чрезвычайному положению и Союзный договор 20 августа подписан не будет. Горбачева попросят передать власть ГКЧП. Если он откажется, возникнет необходимость изолировать президента Горбачева. Крючков поручил Агееву подобрать связистов, которые этим займутся и утром 18 августа смогут полететь в Крым.
Агеев отозвал из отпуска начальника Управления правительственной связи КГБ Анатолия Григорьевича Беду. 17 августа тот сформировал группу из пяти сотрудников во главе со своим первым заместителем Александром Сергеевичем Глущенко.
Крючков пригласил к себе и начальника службы охраны КГБ Юрия Сергеевича Плеханова, который должен был обеспечить доступ в резиденцию Горбачева, а при необходимости ее изолировать. Плеханов вызвал начальника специального эксплуатационно-технического управления при хозяйственном управлении КГБ Вячеслава Владимировича Генералова и поручил ему всё организовать на месте.
Из отпуска отозвали начальника 12-го отдела КГБ Евгения Ивановича Калгина, бывшего личного секретаря Андропова. 12-й отдел занимался прослушиванием телефонных разговоров и помещений, а также перехватом сообщений, передаваемых факсимильной связью. Контролеры 12-го отдела, в основном женщины, владели стенографией и машинописью, их учили распознавать голоса прослушиваемых лиц.
Крючков сказал, что накануне подписания Союзного договора готовится крупная провокация, и приказал Калгину и Беде организовать прослушивание разговоров, которые ведутся по телефонам правительственной связи Бориса Николаевича Ельцина, главы российского правительства Ивана Степановича Силаева, вице-президента Александра Владимировича Руцкого, первого заместителя председателя Верховного Совета Руслана Имрановича Хасбулатова, государственного секретаря Геннадия Эдуардовича Бурбулиса, бывшего министра внутренних дел Бакатина. Задача: не только знать, что они предпримут, но и где они в данный момент находятся — на тот случай, если будет принято решение их изолировать.
Кроме того, подозрительный Крючков распорядился организовать слуховой контроль телефонов своих соратников Лукьянова и Янаева, чтобы знать, не попытаются ли они вести двойную игру. Прослушивание разговоров шло с 16 по 21 августа. Этим занимались 3-й отдел Управления правительственной связи и контролеры 6-го отделения 12-го отдела КГБ. Самую интересную информацию по указанию Калгина представляли в письменном виде Крючкову, в его отсутствие — Гению Агееву.
Когда Ельцин вернулся в Москву вечером 18 августа, начали прослушивать все его аппараты — в Белом доме и на даче в Архангельском. 19 августа его телефоны вообще отключили. 21 августа, когда путч провалится, Крючков, вылетая в Форос, прикажет прекратить прослушивание и все материалы, включая магнитофонные записи, уничтожить…
Шестнадцатого августа после разговора с Крючковым министр обороны Язов распорядился выделить военные вертолеты для скорейшей доставки находившегося в отпуске председателя Верховного Совета Анатолия Ивановича Лукьянова в Москву. Будущие члены ГКЧП постоянно беседовали с Лукьяновым, от позиции которого многое зависело. Эти контакты зафиксированы, потому что они велись через оператора спец-коммутатора, пользоваться которым могли всего несколько десятков высших руководителей государства.
Спецкоммутатор очень удобен: достаточно назвать оператору имя человека, с которым хочешь поговорить, и его отыщут, где бы он ни был — дома, на даче, в машине или даже в самолете, — по закрытой космической связи. Но о каждом разговоре операторы спецкоммутатора делают пометку в журнале с точным указанием времени разговора и его продолжительности.
Восьмого августа Крючков разговаривал с Лукьяновым двадцать с лишним минут. Через день Крючков опять перезвонил Лукьянову. Потом с председателем Верховного Совета связался премьер-министр Павлов. 12 августа Лукьянову звонил еще один будущий член ГКЧП — секретарь ЦК Олег Шенин, он же звонил Лукьянову 16 августа. Тот был занят, трубку не снял и перезвонил попозже.
Для Лукьянова военные летчики подготовили два вертолета, оборудованные салонами для перевозки пассажиров литера «А». Но когда они прилетели на Валдай и приземлились на аэродроме Хотилово, выяснилось, что очень торопившийся Лукьянов уже улетел вертолетом спецподразделения гражданской авиации. При этом Анатолий Иванович тщательно скрывал свое намерение неожиданно вернуться в Москву от самых близких сотрудников.
Тогдашний председатель Совета Союза Иван Лаптев вспоминал, как 17 августа ему позвонил Лукьянов с Валдая:
— К подписанию Союзного договора всё готово?
— Да, я только что заходил в Большой Кремлевский дворец, по-моему, всё очень здорово.
— А сценарий Михаилу Сергеевичу послали?
— Еще вчера вечером.
— Ну, тогда, значит, так: я прилечу вертолетом в понедельник вечером, Михаил Сергеевич — утром во вторник. В двенадцать часов подпишем договор, и мы с Горбачевым будем отдыхать. Ты тоже можешь собираться в отпуск.
Лукьянов говорил всё это Лаптеву, зная, что никакого подписания не будет. На языке спецслужб это называется «операцией прикрытия».
Председатель КГБ РСФСР (недолго существовавшего) генерал-майор Виктор Валентинович Иваненко вспоминал, как в мае 1991 года наивно спросил Ельцина:
— Почему нельзя договориться с Крючковым? Страна одна, дело общее, все заинтересованы найти выход.
Ельцин объяснил:
— Они же меня врагом считают.
Борис Николаевич был прав.
Семнадцатого августа Крючков велел начальнику Седьмого управления КГБ (наружное наблюдение, обыски, аресты) вместе с Министерством обороны спланировать операцию по задержанию президента России Ельцина.
В тот день, в субботу, у Крючкова на всё том же объекте «АБЦ» собрались министр обороны Язов, глава кабинета министров Павлов, секретарь ЦК Шенин, заместитель председателя Совета обороны Бакланов, руководитель президентского аппарата Болдин, заместитель председателя КГБ Грушко, замминистра обороны Ачалов и еще один заместитель министра обороны, главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Валентин Иванович Варенников.
Валентин Павлов в этот субботний день проводил заседание президиума правительства. Вернувшись в свой кабинет, распорядился вызвать машину, чтобы ехать на дачу. Вдруг позвонил Крючков. Это было около четырех дня. Председатель КГБ настойчиво попросил главу правительства заехать к нему, чтобы обсудить некоторые важные вопросы.
На объекте «АБЦ» расположились в беседке. Павлов и начал разговор, сказал, что обстановка в стране сложная, положение с уборкой урожая тяжелое, нет топлива, стране угрожают голод и холод. Пора принимать самые жесткие меры и вводить чрезвычайные меры. Причем это надо сделать до подписания Союзного договора. Если документ подпишут, будет уже поздно.
Крючков вытащил из папки документы, подготовленные Егоровым и Жижиным, и ознакомил с ними будущих членов ГКЧП. Говорили сбивчиво, перебивали друг друга, хотя на самом деле основные шаги обсудили заранее. Генерал Варенников скажет потом на допросе:
— ГКЧП был создан до моего участия в беседе 17 августа.
В конце концов сговорились лететь в Форос, чтобы заставить Горбачева ввести чрезвычайное положение. Если он откажется — пусть подает в отставку и передает свои полномочия другим. В крайнем случае — объявить его больным и изолировать в Форосе. Руководство страной примет на себя по конституции вице-президент Геннадий Янаев. Для руководства страной будет сформирован Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР.
Крючков многозначительно сказал, что относительно охраны Горбачева беспокоиться не надо, Плеханов обо всём позаботится, связь у Горбачева отключит и вообще примет меры. Какие именно меры — никто интересоваться не стал.
На следующий день утром Язов провел совещание в министерстве со своими заместителями и начальниками главных управлений. Он приказал командующему Московским военным округом генералу Николаю Васильевичу Калинину быть готовым ввести в Москву 2-ю мотострелковую и 4-ю танковую дивизии. Грачев получил приказ привести в повышенную боевую готовность 106-ю (Тульскую) воздушно-десантную дивизию.
Крючков поручил заместителю председателя КГБ Валерию Федоровичу Лебедеву установить наружное наблюдение за группой депутатов, которых после введения чрезвычайного положения предполагалось подвергнуть административному аресту и изолировать на территории воинской части, расположенной в поселке Медвежьи Озера.
Грушко позвонил начальнику Первого главного управления (внешняя разведка) Леониду Шебаршину и от имени Крючкова приказал привести в боевую готовность две группы сотрудников отдельного учебного центра — по пятьдесят человек каждая.
— А какое задание? — поинтересовался Шебаршин.
— Не знаю, — коротко ответил Грушко. — Владимир Александрович звонил из машины. Велел передать приказ.
Еще недавно Шебаршин и Грушко были на равном положении. Но теперь Грушко стал не только первым зампредом, но и пользовался особыми правами внутри комитета как близкий к Крючкову человек. Он давал указания начальнику политической разведки, не считая нужным ничего объяснять, хотя прекрасно знал, зачем понадобился спецназ. Генералу Шебаршину пришлось проглотить пилюлю. Впрочем, после провала путча это его спасет…
Отдельный учебный центр был создан после штурма дворца президента Амина в Кабуле, когда выяснилось, что у Комитета госбезопасности нет своего спецназа. 19 августа 1981 года политбюро приняло решение создать внутри КГБ отряд специального назначения для проведения операций за пределами Советского Союза «в особый период». Отряд базировался в Балашихе, где еще со времен НКВД находился учебно-тренировочный комплекс диверсионных групп.
Шебаршину позвонил другой первый заместитель председателя КГБ — Гений Агеев, курировавший военную и транспортную контрразведку:
— Группы готовы? Направьте их в помещение Центрального клуба. И нужны еще сто человек, туда же.
— Экипировка, вооружение? — уточнил Шебаршин.
— Пусть берут всё, что есть.
Восемнадцатого августа около часа дня в Крым вылетели Бакланов, Болдин, Шенин, Варенников; сопровождали их Плеханов, Генералов, сотрудники Управления правительственной связи (чтобы отключить Горбачеву телефоны) и группа офицеров 18-го отделения службы охраны КГБ, вооруженные автоматами. Плеханову и Генералову Крючков переподчинил Симферопольский пограничный отряд и Балаклавскую бригаду сторожевых кораблей.
В Крыму на военном аэродроме «Бельбек» прилетевших из Москвы высокопоставленных гостей по приказу министра обороны Язова встретил командующий Черноморским флотом адмирал Михаил Николаевич Хронопуло.
Увидев своего главного начальника Плеханова, охрана президентской дачи беспрепятственно пропустила нежданных гостей. Плеханов и Генералов зашли в комнату начальника личной охраны президента Владимира Медведева в гостевом доме. Тот был поражен: еще вчера он разговаривал с Плехановым, и тот сказал, что прилетит 19 августа, а появился днем раньше.
Плеханов объявил, что переподчиняет охрану президентской дачи непосредственно Генералову. Тот приказал отключить все виды связи, перекрыть доступ на президентскую дачу, заблокировать подъезд к резиденции и вертолетную площадку. Из своих людей установил дополнительные посты.
Плеханов приказал Медведеву:
— Доложи, что к Михаилу Сергеевичу приехала группа товарищей. Просят принять.
Медведев пошел докладывать. Горбачев сидел в теплом халате — его прихватил радикулит — и читал газету.
— А зачем они прибыли? — удивился Горбачев.
— Не знаю, — ответил Медведев.
Михаил Сергеевич надолго задумался. Он сразу понял то, чего никак не мог сообразить его главный охранник: эти люди приехали к нему с каким-то ультиматумом и вообще возможно повторение хрущевской истории — Никиту Сергеевича тоже сняли, пока он отдыхал на юге.
Члены ГКЧП надеялись в последний момент заставить Горбачева примкнуть к ним. Они предложили ему подписать указ о введении в стране чрезвычайного положения и сообщили, что намерены арестовать Ельцина, как только президент России вернется в Москву.
Горбачев не согласился ввести чрезвычайное положение, интуитивно понимая, чем это кончится. В случае успеха это перечеркнуло бы всё им достигнутое с 1985 года. А в случае неуспеха… Мы уже знаем, чем закончился путч.
Когда гости из Москвы вышли от Горбачева, генерал Плеханов спросил президентского помощника Болдина:
— Ну, что там?
— Да ничего, не подписал, — разочарованно ответил Болдин.
Однако Горбачев — и в этом его вина — не выполнил своего президентского долга: не подавил путч в самом зародыше. Он всего лишь пытался переубедить заговорщиков. Он их уговаривал, а должен был назвать их преступниками и приказать начальнику своей охраны задержать незваных гостей. Сам он обязан был немедленно вылететь в Москву.
Но, во-первых, сказалась свойственная Горбачеву нерешительность. Как замечает его бывший пресс-секретарь Андрей Серафимович Грачев, «при личном общении он мог пасовать и даже теряться перед проявлениями бесцеремонности и откровенной грубости». Во-вторых, Михаил Сергеевич, надо полагать, чисто по-человечески испугался за свою жизнь и жизнь своей семьи. Наверное, не верил, что его охрана, состоявшая из офицеров КГБ, выполнит приказ арестовать собственных начальников. Да и какой в этом смысл, если главные заговорщики остались в Москве и они в ответ запросто могут приказать уничтожить и Горбачева, и его семью?
Десять лет спустя Горбачев рассказывал журналистам:
— Раиса Максимовна ударилась в панику. Хотела меня спрятать, боялась, что сделают инвалидом и покажут всему миру, что я действительно болен. Павлов же говорил, мол, Горбачев лежит в кровати, недееспособен и мурлыкает нечто невнятное. А довести до такого состояния пара пустяков: мужики навалились, вогнали что-то — и готово… Мне часто журналисты задают вопрос: а почему вы не полезли через забор, ограду? Заговорщики как раз этого и добивались. Чтобы можно было открыть стрельбу и пристрелить меня. Но дело не только в этом. Неужели я, президент СССР, мог полезть через забор? Чтобы повиснуть штанами на ограде?.. Я их слова отверг, обругал их матом и сказал, что они сами себя погубят. Но на прощание всё же пожал им руки и дал указание — немедленно созвать съезд…
Вот это рукопожатие с заговорщиками непростительно. Оно, пожалуй, погубило политическую судьбу президента СССР. Ему не хватило однозначности. Путчисты всё равно его ненавидели, а сторонники демократических преобразований подозревали Михаила Сергеевича в двойной игре.
Горбачева изолировали в Крыму, отключили телефоны на госдаче и увезли в Москву начальника его личной охраны генерал-майора КГБ Медведева. Плеханов сказал ему:
— Михаил Сергеевич продолжит отдых. Генералов остается начальником охраны на объекте. А тебе — три минуты на сборы, полетишь с нами в Москву.
Теперь уже Медведеву всё стало ясно, но он молча подчинился приказу.
Судьба личного охранника похожа на судьбу спортсмена, мечтающего об олимпийской медали. Он, выжимая майку, мокрую от пота, тренируется годами, чтобы в решающую минуту показать, на что способен. Такая минута настала для генерала 18 августа, когда члены ГКЧП явились на крымскую дачу Горбачева. Но генерал Медведев упустил свою олимпийскую медаль. Всю жизнь его готовили к одному: в нужную минуту умереть за президента. Впрочем, умирать и не требовалось. Надо было остаться вместе со своим президентом, которому, вероятно, впервые грозила настоящая опасность. Но генерал Медведев, охотно повинуясь приказу своего начальника, собрал вещички и покинул президентскую дачу.
Вячеслав Генералов сказал помощнику Горбачева Анатолию Сергеевичу Черняеву, что вокруг Фороса выставлено двойное кольцо ограждения:
— Отсюда и мышь не проскочит.
Когда Горбачев отказался подписывать документы заговорщиков, по существу, все их планы рухнули. Они не были готовы действовать самостоятельно и вернулись в Москву в растерянности.
Глава правительства Валентин Сергеевич Павлов находился у себя на даче. Уезжал сын, по сему поводу был устроен прощальный обед. В шесть вечера позвонил Крючков и сказал, что делегация возвращается из Фороса и надо бы собраться — лучше бы в кремлевском кабинете Павлова. Осторожный Валентин Сергеевич перезвонил Лукьянову и Янаеву: они-то приедут? Оба подтвердили, что будут. В начале девятого Павлов явился в Кремль.
Геннадий Янаев десять лет спустя тоже рассказал журналистам о той встрече:
— Где-то в пять вечера 18 августа поехал к одному из своих приятелей на дачу. Мы ужинали. Машина, оборудованная всеми видами связи, стояла около дачи. Вдруг мне докладывают, что в машину звонит председатель КГБ. Крючков мне говорит: «Мы тут собрались в кабинете у Павлова. Надо, чтобы вы подъехали».
К восьми вечера Янаев приехал к Павлову, где уже находились Крючков, Язов, Ачалов и министр внутренних дел Борис Карлович Пуго.
Министр не знал о готовящемся заговоре, потому что находился в отпуске. Он вернулся в Москву 18 августа. Едва приехал на служебную дачу в поселке Усово, позвонил председатель КГБ, попросил приехать. Язов и Крючков ввели Пуго в курс дела. Министр внутренних дел с готовностью сказал: я с вами.
Борис Пуго входил в узкий круг тех, кому Горбачев полностью доверял. Михаил Сергеевич включил его в Совет безопасности — этот орган фактически заменил уже безвластное политбюро. Министр внутренних дел, как Крючков и Язов, имел право позвонить президенту в любое время на дачу, что другим Горбачев категорически запрещал — не терпел, когда беспокоили в нерабочее время. Тем не менее Пуго мгновенно присоединился к заговорщикам. Они хотели того же, что и он: сохранить тот строй, который привел их к власти. Обычная осторожность изменила Пуго; он, вероятно, решил, что сила на их стороне: кто может противостоять армии и КГБ?
Когда появился Янаев, Крючкову прямо из самолета позвонили те, кто летал в Форос, и сообщили, что ничего не получилось.
Помощник Горбачева Анатолий Черняев, который был вместе с президентом в Форосе, пишет, что продуманного заговора как такового не было, было намерение и расчет на то, что Горбачева можно будет втянуть в это дело. И как только Горбачев «дал отлуп», всё посыпалось. Члены ГКЧП по природе своей, по своему составу изначально не способны были «сыграть в Пиночета»! Но и остановиться они уже не могли. Раз Горбачев отказался, решили объявить его больным и распорядились подготовить медицинское заключение. Оторванный от дружеского застолья Янаев поинтересовался:
— Что же всё-таки с Михаилом Сергеевичем?
Собравшаяся в Кремле компания не воспринимала вице-президента всерьез, поэтому ответили ему резковато:
— А тебе-то что? Мы же не врачи. Болен. Да и какая теперь разница? Страну нужно спасать.
Болдин внятно сказал Янаеву:
— Нам с вами теперь назад дороги нет.
Янаев подписал указ о том, что вступил в должность президента.
Вице-президент Геннадий Иванович Янаев, премьер-министр Валентин Сергеевич Павлов и заместитель председателя Совета обороны Олег Дмитриевич Бакланов подписали «Заявление Советского руководства». Там говорилось, что Горбачев по состоянию здоровья не может исполнять свои обязанности и передает их Янаеву, что в отдельных местностях СССР вводится чрезвычайное положение сроком на шесть месяцев и для управления страной создается Государственный комитет по чрезвычайному положению.
С Валдая прилетел председатель Верховного Совета Лукьянов. Он не стал задавать пустые вопросы о самочувствии Горбачева, поинтересовался:
— У вас есть план действий?
В отличие от Янаева он всё прекрасно понимал. А Янаев не горел желанием играть первую скрипку. Он предложил Анатолию Ивановичу:
— Может быть, тебе возглавить комитет? У тебя авторитета больше, а мне надо еще политическую мускулатуру нарастить.
Лукьянов благоразумно отказался…
Почему опытный и осторожный Анатолий Иванович вообще ввязался в эту историю? Надо понимать, что Лукьянов, Янаев, Павлов просто боялись, что подписание Союзного договора и грядущие политические перемены лишат их должностей.
Отредактировали и подписали «Обращение к советскому народу», «Обращение к главам государств и правительств и Генеральному секретарю ООН», «Постановление ГКЧП № 1». В лаборатории Центрального научно-исследовательского института КГБ изготовили две печати ГКЧП, в том числе с государственным гербом.
Крючков составил список членов ГКЧП из десяти человек. Лукьянов попросил его фамилию вычеркнуть, объяснил, что иначе не сможет обеспечить принятие нужных решений в Верховном Совете СССР:
— Если вы хотите, чтобы я вам помог, я могу написать заявление о том, что новый Союзный договор неконституционен.
Заявление председателя Верховного Совета СССР было опубликовано вместе с документами ГКЧП в утренних газетах, хотя для маскировки Лукьянов поставил более раннюю дату — 16 августа. Дескать, материал написан заранее и с образованием ГКЧП никак не связан. После провала путча Лукьянов просил начальника секретариата подтвердить, что текст был написан заранее, но тот не стал врать и рассказал следователям:
— Лукьянов пришел к себе в кабинет после совещания у Павлова и сел за стол, сказав, что он должен сейчас написать один документ. Анатолий Иванович взял чистые листы бумаги и стал писать, надиктовывая себе вслух текст заявления по Союзному договору, которое на следующий день появилось вместе с документами ГКЧП. В начале первого ночи закончил работу. Позвонил Крючкову: «Документ готов».
В девять вечера всем предложили чай и кофе. В двенадцать ночи перешли на виски. Павлов по телефону связался с Василием Александровичем Стародубцевым, председателем Крестьянского союза, и вызвал его в Москву.
Крючков позвонил министру иностранных дел Александру Александровичу Бессмертных, который отдыхал в Белоруссии, и без объяснений попросил срочно прибыть в Москву. Министра доставили в столицу на самолете командующего Белорусским военным округом. Бессмертных появился в Кремле в джинсах и куртке, недоуменно осматривал присутствующих. Крючков вышел с министром в другую комнату, наскоро ввел в курс дела и предложил подписать документы только что созданного ГКЧП.
Бессмертных, как и Лукьянов, попросил исключить его из списка членов ГКЧП:
— Да вы что? Со мной ведь никто из иностранных политиков разговаривать не будет.
Он синим карандашом вычеркнул свою фамилию, хотя и опасался, что его несогласие повлечет за собой печальные последствия. Он очень боялся за своего маленького сына. Но его отпустили домой.
Около трех ночи встреча закончилась. Еще раз появились официанты. Крючков и Грушко вернулись в здание на Лубянке. Грушко домой вообще не поехал, ночевал у себя в кабинете. Министр внутренних дел Борис Пуго вернулся к семье под утро очень довольный, сказал:
— Ну всё, свалили, убрали мы этого…
Объяснил сыну:
— Горбачев не может управлять страной, мы ввели чрезвычайное положение… — И добавил: — Я им говорю, что Ельцина надо брать!
Девятнадцатого августа люди проснулись в стране, над которой нависла тень ГКЧП. Валентин Павлов, который все дни путча подстегивал себя изрядными порциями спиртного, открыл заседание Кабинета министров ернически:
— Ну что, мужики, будем сажать или будем расстреливать?
Своему помощнику Черняеву Горбачев сказал:
— Да, это может кончиться очень плохо. Но, ты знаешь, в данном случае я верю Ельцину. Он им не дастся, не уступит. И тогда — кровь. Когда я их вчера спросил, где Ельцин, один ответил, что «уже арестован», другой поправил: «Будет арестован»…
Такая оценка личных качеств Бориса Николаевича Ельцина дорогого стоит. Михаил Сергеевич понимал стойкость и надежность Ельцина и фактически признавал, что тот способен на то, на что он сам оказался неспособен.
Почему же Ельцин не был сразу арестован? Похоже, члены ГКЧП его просто недооценили. Заговорщикам и в голову не приходило, что Борис Николаевич станет сопротивляться. Они-то были уверены, что все демократы — трусы, хлюпики и позаботятся только о том, как спасти свою шкуру. Руководителям ГКЧП не хотелось начинать с арестов. Они и в себе не были уверены, надеялись сохранить хорошие отношения с Западом, показать всему миру, что всё делается по закону. Поэтому и провели знаменитую пресс-конференцию, на которой предстали перед всем миром в самом дурацком свете.
Потом Янаева спрашивали: почему у него на пресс-конференции так тряслись руки?
— Руки у меня тряслись не от хронической пьянки, — оправдывался бывший вице-президент. — Я выхожу на пресс-конференцию, объявляю о болезни президента, а медицинского заключения у меня нет. Я рассчитывал, что эпикриз о состоянии здоровья Горбачева у меня будет на руках. Если я говорю, что президент болен, то я должен подкрепить свои слова документом. А когда это сделать нельзя, то не только руки затрясутся, но и другие члены задрожат…
Начальник Девятого управления КГБ Плеханов действительно потребовал от начальника Четвертого главного управления при Министерстве здравоохранения представить медицинское заключение о том, что Горбачев страдает нарушением мозгового кровообращения. Но врачи не спешили сочинять фальшивую бумагу.
Премьер-министр Павлов отказался участвовать в пресс-конференции. У него сдали нервы. Он пил и одновременно принимал препараты, усугубляющие действие алкоголя. В результате у него началась настоящая истерика. Охрана вызвала личного врача, который привел Павлова в божеский вид, но потом глава правительства всё равно предпочел отправиться в Центральную клиническую больницу.
А что происходило в армии?
В половине пятого утра главнокомандующего военно-воздушными силами страны маршала Евгения Ивановича Шапошникова разбудил телефонный звонок. Дежурный генерал Центрального командного пункта ВВС доложил:
— Товарищ главнокомандующий, в шесть часов вам необходимо быть в зале коллегии Министерства обороны. Собирает министр.
— По какому поводу сбор? — спросил Шапошников.
— Не сообщили, товарищ главнокомандующий.
— А что по обстановке в мире, в стране?
— Всё спокойно, никаких особых событий не произошло.
Ровно в шесть утра в зале коллегии появился министр обороны Язов. Он сказал:
— Президент СССР находится в тяжелом состоянии. Управлять страной не может. Обязанности президента временно принял на себя вице-президент Янаев. Завтра, 20 августа, должен быть подписан новый Союзный договор. Но без Горбачева он подписан быть не может. Неподписание договора может вызвать негативные последствия в стране. Поэтому вводится чрезвычайное положение…
Язов приказал своему заместителю Ачалову силами спецназа воздушно-десантных войск блокировать телецентр «Останкино». Около семи утра по приказу министра обороны 2-я стрелковая (Таманская) и 4-я танковая (Кантемировская) дивизии начали движение к Москве. За два часа до этого министр внутренних дел Пуго приказал своему первому заместителю Ивану Федоровичу Шилову обеспечить машинами ГАИ армей-окне колонны, входящие в Москву. С помощью автоинспекции войска заняли к десяти утра ключевые позиции в городе.
Еще три парашютно-десантных полка — 15-й (из Тулы), 137-й (из Рязани), 331-й (из Костромы) двинулись в сторону Москвы. Ачалов приказал также перебросить из Одесской области 217-й и 229-й парашютно-десантные полки — они сосредоточились в районах аэропортов Кубинка и Чкаловский. Манежную площадь и Кремль блокировал спецназ КГБ. В общей сложности в Москву ввели несколько сотен танков и бронемашин.
В 9 часов 28 минут маршал Язов подписал приказ о приведении вооруженных сил в повышенную боевую готовность. Белый дом был окружен танками Таманской дивизии и бронемашинами Тульской воздушно-десантной дивизии. Собравшиеся там российские депутаты в любую минуту ожидали штурма и ареста. И здание, вероятно, было бы захвачено в конце концов, если бы не действия Ельцина.
Неожиданно для путчистов он не только не попытался с ними поладить и договориться, а, напротив, пошел на обострение. Он объявил путчистов преступниками и потребовал сдаться. Олег Максимович Попцов, бывший руководитель российского радио и телевидения, вспоминает:
«В эти трагические дни кабинет Ельцина был очень доступен. Никакой замкнутости, общение было практически постоянным… Он принял единственно правильное решение — действовать, не выжидать, а действовать!.. Россия должна была знать, что президент не сломлен: он в Белом доме, он выполняет свои обязанности. Непреклонность Ельцина, его энергичность озадачили путчистов. Они не успевали дезавуировать его указы».
Ельцин стал символом сопротивления путчу, символом демократии и мужества. С этой минуты за действиями Ельцина стал следить весь мир. Увидев Ельцина на танке, люди поняли, что заговорщикам можно и нужно сопротивляться. Если Ельцин их не боится, почему должны бояться другие? И москвичи двинулись к Белому дому. Они провели здесь три дня и три ночи. Уходили. Возвращались. Встречали здесь знакомых и коллег. Они были готовы защитить собой Ельцина, потому что Ельцин защищал их. И другой защиты и надежды не было. Борис Николаевич был готов сопротивляться до последнего.
Он сказал своему соратнику депутату Виктору Ярошенко:
— Молодец архитектор Чечулин, на славу потрудился. Пожалуй, в Москве Белый дом — это единственное здание такого масштаба. Как он всё здорово придумал: чтобы обойти все его кабинеты, коридоры, потребуется не один день. А подземный бункер и выходы из здания — прекрасно созданная система безопасности. Уверен: чем дольше будет продолжаться наша осада, тем громче политический резонанс, а у нас больше шансов мобилизовать народ…
Под руководством российского депутата генерал-полковника Константина Ивановича Кобеца, который возглавил Государственный комитет по оборонным вопросам, началось строительство баррикад. К Белому дому стягивали бульдозеры, троллейбусы и автобусы, чтобы блокировать подходы. Готовили бутылки с зажигательной смесью.
Генералу Кобецу позвонил маршал Язов и приказал покинуть Белый дом. Кобец отказался. Язов пригрозил, что в таком случае дает разрешение прокуратуре возбудить против него уголовное дело:
— Вас ждет трибунал, а семью интернирование.
В Белом доме появилось некоторое количество офицеров, сотрудников охранных предприятий, которым раздали оружие. Для руководителя президентской администрации Юрия Петрова 19 августа 1991 года был первым рабочим днем в Белом доме. Ельцин представил его коллегам уже после своего знаменитого выступления с танка.
«Мы готовились к самым серьезным событиям — вплоть до штурма и физического уничтожения, — вспоминал потом Петров. — Кажется, 20-го числа мы, два или три человека, сидели в кабинете Ельцина. Входит взъерошенный Шахрай, у него на поясе пистолет. Я его спросил:
— Сергей Михайлович, зачем вам пистолет? Неужели вы действительно будете стрелять?
Он посмотрел на меня и говорит:
— Да!»
Министр внутренних дел России Виктор Павлович Баранников и его заместитель Андрей Федорович Дунаев отправили на помощь Ельцину курсантов милицейских школ. Такого никто не ожидал: республиканское министерство вышло из подчинения союзному! Борис Пуго потребовал не пускать курсантов в Москву и не мог понять, почему министерство не в состоянии исполнить его приказ. Местные управления внутренних дел следили за передвижением курсантов и сообщали в приемную Пуго. Тот вновь и вновь приказывал: остановить! Но московский главк внутренних дел союзному министерству фактически не подчинялся, а российское МВД твердо поддерживало Ельцина.
Пуго вызвал к себе первого заместителя внутренних дел России Виктора Ерина. Сам Ерин спустя три года рассказывал «Российской газете», как это происходило. Он исполнял обязанности министра внутренних дел России. Министр — Виктор Баранников — болел и находился в госпитале.
Пуго спросил у Ерина:
— Вы знаете, что мы начали?
— Знаю.
— Ваши действия?
— Министерство внутренних дел России будет работать так, как нужно в этих условиях: обеспечивать правопорядок, бороться с преступностью.
— Вы что, не понимаете политического значения этого момента? Вы же опытный профессионал, о вас хорошее мнение. Мы должны быть убеждены в вашей лояльности.
— Борис Карлович, о какой лояльности здесь можно говорить? Есть правительство, есть Верховный Совет России. Они однозначно обозначат свою позицию. И Министерство внутренних дел будет эту позицию выполнять в соответствии с законами России. У вас не должно быть на этот счет иллюзий.
Пуго в своей мягкой манере спросил:
— Не боитесь потерять место?
Ерин ответил:
— Ваше право меня уволить. Но против совести не пойду.
Ельцин продолжал смело атаковать ГКЧП, в руках которого были армия, МВД и спецслужбы. Он подписывал один указ за другим, которые мгновенно распространялись по стране. Ельцин своими указами объявил членов ГКЧП уголовными преступниками и объяснил, что исполнение их приказов равносильно соучастию в преступлениях.
Генерал Валентин Варенников, находившийся в Киеве и недовольный медлительностью ГКЧП, прислал шифротелеграмму: «Взоры всего народа, всех воинов обращены сейчас к Москве. Мы убедительно просим немедленно принять меры по ликвидации группы авантюриста Ельцина Б. Н., здание правительства РСФСР необходимо немедленно надежно блокировать, лишить его водоисточников, электроэнергии, телефонной и радиосвязи…»
Варенников не только требовал жестких мер, но и приказал усилить охрану крымского аэропорта Бельбек. Рота морских пехотинцев и противотанковый дивизион получили приказ уничтожать любые самолеты, которые попытаются сесть без разрешения, чтобы прийти на помощь Горбачеву. Если бы путч возглавляли такие люди, как Варенников, история нашей страны могла бы пойти иным, кровавым путем.
Двадцатого августа командир спецназа внешней разведки Борис Петрович Бесков доложил генералу Шебаршину, что проведена рекогносцировка Белого дома. Его вывод: попытка штурма — бессмысленная авантюра, будет много крови. Тем не менее в кабинете Гения Агеева обсуждалась идея штурма здания Верховного Совета России.
Шебаршин, как он пишет в своих воспоминаниях, связался с Крючковым и попросил отменить эту затею:
«Крючков нервно смеется:
— Это ерунда! Кто это придумал? Я только что говорил с Силаевым и ему сказал, что это ерунда.
Не успокоил. Я уже как-то слышал такой смех. Ничего доброго он не предвещает. Крючков возбужден и врет».
О самом путче руководитель разведки Шебаршин отозвался презрительно:
«Всё это было плохо организовано и никудышным образом исполнено в техническом смысле. Всё это было сделано по-дилетантски».
Девятнадцатого августа в начале одиннадцатого утра собравшиеся в Москве секретари ЦК КПСС собрались в зале заседаний на Старой площади. Оставшийся за старшего Олег Шенин сообщил: Горбачев «недееспособен», поэтому ГКЧП во главе с вице-президентом Янаевым берет власть в руки.
«Вовлеченность Шенина в дела ГКЧП, — вспоминал секретарь ЦК Александр Сергеевич Дзасохов, — повергла меня и других секретарей ЦК в шок. Чего больше было в его действиях — осознанного выбора или амбициозности, я не знаю».
Вечером Дзасохов поехал в санаторий «Барвиха» к Ивашко. Они вышли на балкон, чтобы поговорить откровенно. Заместитель генерального секретаря, осведомленный относительно поездки в Форос, рассказал, что Горбачев отказался вести с членами ГКЧП переговоры о передаче им своих полномочий.
Андрей Грачев, в ту пору работник международного отдела ЦК КПСС, писал, что во время путча на Старой площади царила боязливая тишина. Приехал секретарь ЦК КПСС Валентин Фалин, которого оторвали от важного дела — он строил дачу и в понедельник утром поехал за досками на склад, принадлежавший Управлению делами ЦК. Грачев сказал Фалину:
— Ведь это же авантюра! И что будет с Горбачевым? Фалин нехотя ответил:
— Он сам виноват. Мы его предупреждали, что он спровоцирует военных, да и партию он уже ни во что не ставил. А авантюра или нет, в ближайшие дни увидим.
В те дни многие люди открылись с неожиданной стороны. Утром 19 августа председатель Совета Союза Иван Лаптев соединился с Лукьяновым:
— Что с Горбачевым? Что вы задумали?
— А я тут ни при чем. Он лежит, говорят, ни на что не реагирует. Вчера к нему летали…
— Пусть не вешают тебе лапшу на уши! — закричал Лаптев. — Я только что разговаривал с Вольским, Бакатиным, Ревенко — все они еще вчера общались с президентом. Никакой болезни у него нет, чуть спина побаливает и только. Давай срочно собирать сессию Верховного Совета.
— Ну, не знаю, не знаю, — нехотя ответил Лукьянов. — Про Горбачева я, конечно, выясню и, если что не так, всё сделаю, ты же понимаешь. А сессию мы можем созвать только по регламенту, через семь дней, двадцать шестого.
«Девятнадцатого августа я зашел к Лукьянову, — вспоминал Рафик Нишанов. — Анатолий Иванович сказал, что созывает Верховный Совет. Сухо произнес:
— Заседание назначено на 26 августа. Обсудим «Обращение ГКЧП к советскому народу».
Холодный, невозмутимый. Анатолий Иванович Лукьянов — человек замкнутый, сухой, с бонапартистскими замашками».
Другим, менее осведомленным депутатам Верховного Совета Лукьянов убежденно говорил, что своими глазами читал медицинское заключение о состоянии здоровья Горбачева и что у него есть само заключение…
Анатолий Иванович был куда умнее тех, кто вошел в ГКЧП, действовал крайне осторожно, но тут же составил проект постановления президиума Верховного Совета СССР об утверждении документов ГКЧП. То есть он пытался с помощью Верховного Совета одобрить введение чрезвычайного положения и другие шаги путчистов.
Секретарь ЦК КПСС Петр Лучинский отдыхал в санатории «Южный» неподалеку от Фороса, где был блокирован Горбачев.
«Компания подобралась замечательная: член Совета безопасности Евгений Примаков с внуком, министр внутренних дел Пуго с женой, невесткой и внучкой, — вспоминал Лучинский. — Наш генсек и на отдыхе любил обзванивать секретарей ЦК и других руководящих работников. Внутренне к такому звонку я был готов всегда. Но шли дни, и никого из нашей компании Горбачев ни разу не потревожил. Даже министра внутренних дел. Всегда невозмутимый и юморной Евгений Примаков однажды даже сказал мне весьма озабоченно:
— Не пойму, что случилось. Михаил Сергеевич почему-то не звонит…
Примаков волновался. Пока Рафик Нишанов не порадовал нас рассказом о телефонной беседе с Горбачевым: он решил посоветоваться с ним по процедуре подписания Союзного договора. В конце разговора даже смеялись, шутили…
Утром 19 августа жена включила радио, и мы не поверили своим ушам: Государственный комитет по чрезвычайному положению берет на себя всю полноту власти!.. Горбачев тяжело болен, Янаев его замещает.
Взялся за трубку “ВЧ”, но правительственная связь уже не работала. Позвонил Примакову по внутреннему телефону, тот тоже ничего не понимает. Решили встретиться на берегу. Там, под тихий шелест волн, уже волновался народ. Получил известие: к Горбачеву никого не пускают, он изолирован КГБ. Вот так фокус!..
Среди членов ГКЧП назвали Бориса Пуго. Но ведь еще вчера утром мы всей своей пляжной компанией провожали его с семейством в Москву. Пригубили по рюмке, пожелали удачной дороги. На прощание невестка Пуго и Рафик Нишанов нас всех сфотографировали. Моему сыну Кириллу тоже потребовалось срочно в Москву, и я попросил Бориса Карловича прихватить его, если можно, с собой. Он с радостью согласился. Самолет Ту-134, служебный спецрейс, мест на всех хватит.
В полете, как рассказывал позже Кирилл, перекусили. Министр пригласил к столу людей из охраны. Немного выпили, шутили… Валентина Ивановна, жена его, также чувствовала себя неплохо. Страшно было через несколько дней узнать, что они оба застрелились… Разумеется, в тот же день мы поспешили в Москву».
Примаков возмущался:
— Зачем они использовали мнимую болезнь президента? Что за глупый предлог менять власть? Кто за всем этим стоит? Кто всё это подготовил? Разве они не понимают, что настало время гласности и придется всё объяснять…
Во второй половине дня Примаков, старший советник президента Вадим Медведев и секретарь ЦК Петр Лучинский вылетели из Симферополя в Москву. Настроение у всех было неважное. Не знали, что ждет их во Внукове у трапа. Примаков позвонил в Москву своему другу Владимиру Бураковскому, попросил на всякий случай приехать в аэропорт — если что-то случится, чтобы было кому позаботиться о внуке.
Виталий Игнатенко рассказывал:
— Евгения Максимовича во Внукове встречали его друзья. Они его взяли в такой рой, как пчелы, а он был посредине. Боялись за него! Никто не знал, чем это может кончиться. Встретили прямо у трапа и проводили до машины.
До ночи все сидели у Примакова в его доме на улице Щусева.
Аркадий Иванович Вольский вспоминал в своем последнем интервью «Известиям», опубликованном после его смерти в сентябре 2006 года:
— Для Примакова и Бакатина угроза ареста была вполне реальной, поскольку они, как члены Совета безопасности, отказались поддержать ГКЧП.
Именно Вольскому вечером 18 августа позвонил из Крыма Горбачев. Приезжавшая из Москвы делегация ГКЧП уже покинула его, и правительственную связь отключили, а об обычном городском телефоне не подумали. Высокопоставленные чиновники быстро привыкают пользоваться только спецсвязью…
— Я лег подремать на даче, — рассказывал Вольский. — Дочка кричит: «Пап, тебя Горбачев зовет». Я спросонья не сразу сообразил, что не может президент звонить по обычному телефону. Трубку снял: точно, Михаил Сергеевич. Голос торопливый: «Аркадий, имей в виду, я здоров. Если завтра услышишь, что Горбачев болен, не попадись на эту удочку». И повесил трубку.
Аркадий Вольский стал главным свидетелем того, что ГКЧП врет насчет неспособности президента Горбачева исполнять свои обязанности. 20 августа в кремлевском кабинете члена Совета безопасности Примакова собрались Вадим Бакатин, Вадим Медведев, Аркадий Вольский и Вениамин Александрович Ярин, который работал в аппарате президента. Решили прежде всего сделать заявление по поводу происходящего и передать по каналам ТАСС. Составили текст от имени членов Совета безопасности Примакова и Бакатина: «Считаем антиконституционным введение чрезвычайного положения и передачу власти в стране группе лиц. По имеющимся у нас данным, Президент СССР М. С. Горбачев здоров. Ответственность, лежащая на нас, как на членах Совета безопасности, обязывает потребовать незамедлительно вывести с улиц городов бронетехнику, сделать всё, чтобы не допустить кровопролития. Мы также требуем гарантировать личную безопасность М. С. Горбачева, дать возможность ему незамедлительно выступить публично».
Примаков позвонил министру иностранных дел Бессмертных, тоже члену Совета безопасности:
— Саша, мы тут с Бакатиным такое заявление написали. Давай я тебе его прочитаю… Как ты на это дело смотришь?
Бессмертных сказал, что ему подписывать это заявление не стоит, он должен руководить министерством. Примаков позвонил в ТАСС. Ему ответили, что подобный документ они сейчас распространить не могут. Вольский передал заявление в «Эхо Москвы».
Вечером 20 августа на заседании ГКЧП его участники пришли к выводу, что события развиваются неудачно. Хотя был подготовлен проект указа Янаева «О введении временного президентского правления в республиках Прибалтики, Молдове, Армении, Грузии, отдельных областях РСФСР и Украинской ССР (Свердловской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, городах Ленинграде и Свердловске)».
Янаев огорченно говорил, что их никто не поддерживает. Крючков тут же возразил:
— Не всё так плохо.
Янаев с удивлением посмотрел на председателя КГБ:
— Мне докладывают так, как есть.
Крючков улыбнулся:
— Вот и неправильно делают. Надо докладывать то, что надо, а не то, что есть…
Но умелец он был только по части докладов начальству.
Главная проблема ГКЧП состояла в полной бездарности его руководителей. Штаб заговорщиков действовал чисто по-советски, то есть из рук вон плохо. Если бы в Кремле сидели другие, более решительные люди, они бы ни перед чем не остановились…
Утром 20 августа Примаков зашел к вице-президенту Геннадию Янаеву, пребывавшему в мрачном состоянии. Янаев сидел за письменным столом и читал газету «Правда». На первой полосе — подписанные им указы.
— Ты в своем уме? — спросил Примаков.
По словам Евгения Максимовича, вице-президент растерянно ответил:
— Если бы отказался, как тогда, в апреле… А что же сейчас делать?
Примаков сказал Янаеву, что ему надо немедленно поехать на телевидение, в прямом эфире объявить о роспуске ГКЧП, осудить путч и покаяться. Это единственное, что может его спасти.
Янаев растерялся:
— Женя, поверь, всё уладится. Михаил Сергеевич вернется, и мы будем работать вместе.
— Что-то не верится, — сказал Примаков. — Нужно немедленно убрать танки с улиц Москвы.
Янаев не нашел что ответить, кроме сакраментального:
— Надо подумать.
Примаков вернулся к себе и позвонил председателю Верховного Совета Лукьянову. Прочитал ему заявление, составленное вместе с Бакатиным. Лукьянов выслушал и твердо сказал:
— Публиковать это не надо.
Примаков ответил:
— Заявление уже опубликовано.
В последнюю ночь, когда стало ясно, что ГКЧП проиграл, на Садовом кольце, пытаясь помешать движению колонны боевых машин пехоты, погибли трое молодых ребят: Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов. Олег Попцов вспоминает, что, когда стало известно об их гибели, Геннадий Бурбулис позвонил военному коменданту Москвы. Тот равнодушно ответил, что жертв нет и напрасно российское руководство разжигает страсти.
«Я никогда не видел таким Бурбулиса, — писал Попцов. — Он буквально вжался в кресло, как если бы приготовился к прыжку. Рассудочная манера, столь характерная для этого человека, мгновенно пропала, он говорил сквозь стиснутые зубы:
— Послушайте, генерал. Если вы немедленно не прекратите свои преступные действия, мы обещаем вам скверную жизнь. По сравнению с ней военный трибунал покажется вам раем. Погибли три человека. Я вам клянусь, мы достанем вас».
Двадцать первого августа Бакатин и Примаков провели пресс-конференцию и сразу же уехали на аэродром — лететь к Горбачеву в Форос. Они полетели в самолете российского руководства. Там были вице-президент России Александр Владимирович Руцкой, глава российского правительства Иван Степанович Силаев, министр юстиции России Николай Васильевич Федоров и тридцать шесть офицеров милиции с оружием.
В восемь вечера приземлились на базе Бельбек, не зная, что командующий Черноморским флотом приказал самолет сбить, но приказ не был исполнен. На двух машинах с автоматчиками поехали к Горбачеву.
Тем временем маршал Язов приказал вывести войска из столицы. Членам ГКЧП обреченно сказал:
— Мы проиграли. Умели нашкодить, надо уметь и отвечать. Полечу к Михаилу Сергеевичу виниться.
Члены ГКЧП и председатель Верховного Совета Лукьянов прилетели в Форос первыми, но их власть закончилась. Анатолий Черняев вспоминал, что Язов сидел в служебном домике президентской резиденции весь потный — жара, фуражка на полу валяется.
— Старый дурак, связался с ними… — бурчал маршал.
Лукьянов, увидев, что дело ГКЧП проиграно, стал всем говорить, что с самого начала был против этой авантюры, что он прилетел освобождать Михаила Сергеевича, с которым связан сорок лет… Но Горбачев в присутствии Примакова и Бакатина, которых попросил остаться во время разговора с Лукьяновым, назвал его предателем:
— Что ты тут дурака валяешь? От тебя же всё зависело! Если ты не мог сразу собрать Верховный Совет, чтобы разделаться с путчистами, почему не встал рядом с Ельциным?
Лукьянов стал оправдываться. Горбачев оборвал его и показал на дверь:
— Посиди там. Тебе скажут, в каком самолете полетишь.
У Ивана Силаева потом допытывались, может быть, всё-таки Горбачев был в сговоре с путчистами.
— Однозначно нет, — ответил тогдашний глава российского правительства. — Я в этом лично убедился, когда мы летали за ним в Форос 21 августа. Он ведь не принял команду гэ-качепистов, которая прилетела к нему раньше нас. Они сидели в ЗИЛах с закрытыми шторами и наблюдали за нами. Охрана провела нас к Горбачеву, и он встретил нас как родных. Обнялись, расцеловались.
Горбачев сказал:
— Я вот собираюсь вечером в Москву лететь, за мной тут ребята приехали.
— Михаил Сергеевич, вы полетите только на самолете России, — возразил Примаков.
Российские руководители опасались, что путчисты в последний момент попытаются ликвидировать Горбачева.
— Да, пожалуй, вы правы, — согласился Горбачев и дал команду жене и внучке собираться в дорогу.
Раиса Максимовна чувствовала себя очень плохо, одна рука висела как плеть, взгляд был какой-то растерянно-безумный. Погубившая ее со временем болезнь — острый лейкоз — возможно, была следствием этих невыносимо страшных для нее дней.
На обратном пути в самолете все собрались в салоне у Горбачева. Примаков и Бакатин рассказали о своем заявлении, показали текст, Раиса Максимовна взяла его себе на память.
Крючкова, Язова и Бакланова назад в Москву доставили под конвоем. Плеханов, который начинал секретарем у Андропова, обреченно сказал своему заместителю Генералову:
— Собрались трусливые старики, которые ни на что не способны. Попал как кур в ощип.
Вячеслав Генералов потом рассказывал следователям, что путчисты выглядели «как нашкодившие пацаны». Маршал Язов напоминал «прапорщика в повисшем кителе». Крючкова и Язова арестовали прямо в аэропорту. Бакланова, народного депутата СССР, задержали после получения санкции Верховного Совета.
Августовский путч привел к полному крушению лагеря противников реформ. Радикально переменились настроения в обществе. КПСС и партийные структуры были распущены. Партийно-политические органы в армии, на флоте, в КГБ, МВД и Железнодорожных войсках были упразднены. Это была своего рода революция.
Но путч сокрушил и Горбачева. Он всё еще считал себя человеком номер один в стране. А в общественном мнении фигура Ельцина безвозвратно оттеснила Горбачева на второй план. Самое печальное для Михаила Сергеевича состояло в том, что он этого не понял. Он был поглощен собственными переживаниями и поэтому вновь и вновь во всех деталях рассказывал о том, что происходило с ним и его семьей в Форосе. Он произносил речи, которые заставляли людей морщиться: о том, что Горбачевы боялись есть, потому что их могли отравить, и о том, что его внучку не пускали плавать в Черном море.
Понять его, конечно, можно. Повернись события иначе, и путчисты доказали бы всему миру, что Горбачев физически неспособен управлять страной. Способы известны… Но Горбачев не понимал, что в значительной степени и по его вине вся страна оказалась в тяжелейшем положении.
Двадцать второго августа в полдень Горбачев приехал в Кремль, собрал в Ореховой комнате, где раньше заседало политбюро, ближний круг помощников, среди них был и Примаков. Тут же были подписаны указы об увольнении Язова, Павлова, Крючкова.
Примаков предложил выдвинуть вице-президентом вместо Янаева Александра Николаевича Яковлева. Горбачев ответил уклончиво, он не хотел брать Яковлева, да и вообще не нужен ему был вице-президент. Примаков предложил объединить два информационных агентства — ТАСС и АПН и поставить во главе Виталия Никитича Игнатенко, помощника Горбачева. Предложение было принято. Игнатенко оказался очень удачным выбором на роль директора ТАСС, а АПН при Ельцине опять превратили в самостоятельное пропагандистское ведомство…
Мужественное поведение Евгения Максимовича оценили по достоинству. Сразу после путча он оказался одним из самых близких сотрудников Горбачева. Но без должности. Бакатин получил назначение в КГБ, а Евгений Максимович сидел без дела.
Думали, его назначат министром иностранных дел. Что помешало? Ельцин не проявил энтузиазма? Или Горбачеву не хотелось объясняться с американцами, которые невзлюбили Примакова после его поездки к Саддаму Хусейну? Министром назначили Бориса Дмитриевича Панкина, посла в Чехословакии. Он единственный из советских послов отказался признать ГКЧП.
По словам Вадима Медведева, Примаков находился и в неопределенном положении, и в сложном психологическом состоянии. Однако через некоторое время ситуация разрядилась — неожиданно для многих он возглавил разведку.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ