Обыкновенные и не обыкновенные истории

Михаил Зощенко
Леля и Минька
(рассказы из одноименного цикла)

Галоши и мороженое
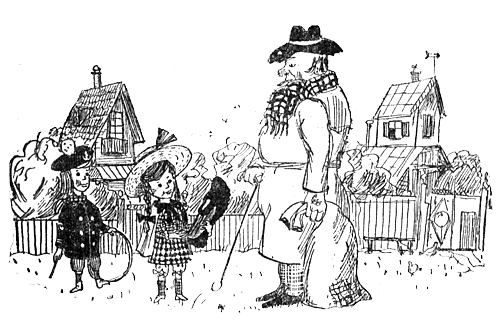
Когда я был маленький, я очень любил мороженое. Конечно, я его и сейчас люблю. Но тогда это было что-то особенное — так я любил мороженое.
И когда, например, ехал по улице мороженщик со своей тележкой, у меня прямо начиналось головокружение: до того мне хотелось покушать то, что продавал мороженщик.
И моя сестренка Леля тоже исключительно любила мороженое.
И мы с ней мечтали, что вот, когда вырастем большие, будем кушать мороженое не менее как три, а то и четыре раза в день.
Но в это время мы очень редко ели мороженое. Наша мама не позволяла нам его есть. Она боялась, что мы простудимся и захвораем. И по этой причине она не давала нам на мороженое денег.
И вот однажды летом мы с Лелей гуляли в нашем саду. И Леля нашла в кустах галошу. Обыкновенную резиновую галошу. Причем очень ношеную и рваную. Наверное, кто-нибудь бросил ее, поскольку она разорвалась.
Вот Леля нашла эту галошу и для потехи надела ее на палку. И ходит по саду, машет этой палкой над головой.
Вдруг по улице идет тряпичник. И кричит: «Покупаю бутылки, банки, тряпки…»
Увидев, что Леля держит на палке галошу, тряпичник сказал Леле:
— Эй, девочка, продаешь галошу?
Леля подумала, что это такая игра, и ответила тряпичнику:
— Да, продаю. Сто рублей стоит эта галоша.
Тряпичник засмеялся и говорит:
— Нет, сто рублей — это чересчур дорого за эту галошу. А вот если хочешь, девочка, я тебе дам за нее две копейки, и мы с тобой расстанемся друзьями.
И с этими словами тряпичник вытащил из кармана кошелек, дал Леле две копейки, сунул пашу рваную галошу в свой мешок и ушел.
Мы с Лелей поняли, что это не игра, а на самом деле. И очень удивились.
Тряпичник уже давно ушел, а мы стоим и глядим на нашу монету.
Вдруг по улице едет мороженщик и кричит:
— Земляничное мороженое!
Мы с Лелей подбежали к мороженщику, купили у него два шарика по копейке, моментально их съели и стали жалеть, что так задешево продали галошу.
На другой день Леля мне говорит:
— Минька, сегодня я решила продать тряпичнику еще одну какую-нибудь галошу.
Я обрадовался и говорю:
— Леля, разве ты опять нашла в кустах галошу?
Леля говорит:
— В кустах больше ничего нет. Но у нас в прихожей стоит, наверно, я так думаю, не меньше пятнадцати галош. Если мы одну продадим, то нам от этого худо не будет.
И с этими словами Леля побежала на дачу и вскоре появилась в саду с одной, довольно хорошей и почти новенькой галошей.
Леля сказала:
— Если тряпичник купил у нас за две копейки такую рвань, какую мы ему продали в прошлый раз, то за эту почти что новенькую галошу он, наверное, даст не менее рубля. Воображаю, сколько мороженого можно будет купить на эти деньги.
Мы целый час ждали появления тряпичника, и, когда мы наконец его увидели, Леля мне сказала:
— Минька, на этот раз ты продавай галошу. Ты мужчина, и ты с тряпичником разговаривай. А то он мне опять две копейки даст. А это нам с тобой чересчур мало.
Я надел на палку галошу и стал махать палкой над головой.
Тряпичник подошел к саду и спросил:
— Что, опять продается галоша?
Я прошептал чуть слышно:
— Продается.
Тряпичник, осмотрев галошу, сказал:
— Какая жалость, дети, что вы мне все по одной галошине продаете. За эту одну галошу я вам дам пятачок. А если бы вы продали мне сразу две галоши, то получили бы двадцать, а то и тридцать копеек. Поскольку две галоши сразу более нужны людям. И от этого они подскакивают в цене.
Леля мне сказала:
— Минька, побеги на дачу и принеси из прихожей еще одну галошу.
Я побежал домой и вскоре принес какую-то галошу очень больших размеров.
Тряпичник поставил на траву эти две галоши рядом и, грустно вздохнув, сказал:
— Нет, дети, вы меня окончательно расстраиваете своей торговлей. Одна галоша дамская, другая — с мужской ноги, рассудите сами: на что мне такие галоши? Я вам хотел за одну галошу дать пятачок, но, сложив вместе две галоши, вижу, что этого не будет, поскольку дело ухудшилось от сложения. Получите за две галоши четыре копейки, и мы расстанемся друзьями.
Леля хотела побежать домой, чтоб принести еще что-нибудь из галош, но в этот момент раздался мамин голос. Это мама нас звала домой, так как с нами хотели попрощаться мамины гости. Тряпичник, видя нашу растерянность, сказал:
— Итак, друзья, за эти две галоши вы могли бы получить четыре копейки, но вместо этого получите три копейки, поскольку одну копейку я вычитаю за то, что понапрасну трачу время на пустой разговор с детьми.
Тряпичник дал Леле три монетки по копейке и, спрятав галоши в мешок, ушел.
Мы с Лелей моментально побежали домой и стали прощаться с мамиными гостями: с тетей Олей и дядей Колей, которые уже одевались в прихожей.
Вдруг тетя Оля сказала:
— Что за странность! Одна моя галоша тут, под вешалкой, а второй почему-то нету.
Мы с Лелей побледнели. И стояли не двигаясь.
Тетя Оля сказала:
— Я великолепно помню, что пришла в двух галошах. А тут сейчас только одна, а где вторая, неизвестно.
Дядя Коля, который тоже искал свои галоши, сказал:
— Что за чепуха в решете! Я тоже отлично помню, что пришел в двух галошах, тем не менее второй моей галоши тоже нету.
Услышав эти слова, Леля от волнения разжала кулак, в котором у нее находились деньги, и три монетки по копейке со звоном упали на пол.
Папа, который тоже провожал гостей, спросил:
— Леля, откуда у тебя эти деньги?
Леля начала что-то врать, но папа сказал:
— Что может быть хуже вранья!
Тогда Леля заплакала. И я тоже заплакал. И мы сказали:
— Мы продали тряпичнику две галоши, чтобы купить мороженое.
Папа сказал:
— Хуже вранья — это то, что вы сделали.
Услышав, что галоши проданы тряпичнику, тетя Оля побледнела и зашаталась. И дядя Коля тоже зашатался и схватился за сердце. Но папа им сказал:
— Не волнуйтесь, тетя Оля и дядя Коля, я знаю, как нам надо поступить, чтобы вы не остались без галош. Я возьму все Лелины и Минькины игрушки, продам их тряпичнику, и на вырученные деньги мы приобретем вам новые галоши.
Мы с Лелей заревели, услышав этот приговор. Но папа сказал:
— Это еще не все. В течение двух лет я запрещаю Леле и Миньке кушать мороженое. А спустя два года они могут его кушать, но всякий раз, кушая мороженое, пусть они вспоминают эту печальную историю, и всякий раз пусть они думают, заслужили ли они это сладкое.
В тот же день папа собрал все наши игрушки, позвал тряпичника и продал ему все, что мы имели. И на полученные деньги наш отец купил галоши тете Оле и дяде Коле.
И вот, дети, с тех пор прошло много лет.
Первые два года мы с Лелей действительно ни разу не ели мороженого. А потом стали его есть и всякий раз, кушая, невольно вспоминали о том, что было с нами.
И даже теперь, дети, когда я стал совсем взрослый и даже немножко старый, даже и теперь иной раз, кушая мороженое, я ощущаю в горле какое-то сжатие и какую-то неловкость. И при этом всякий раз, по детской своей привычке, думаю: «Заслужил ли я это сладкое, не соврал ли и не надул ли кого-нибудь?»
Сейчас, дети, очень многие люди кушают мороженое, потому что у нас имеются целые огромные фабрики, в которых изготовляют это приятное блюдо.
Тысячи людей и даже миллионы кушают мороженое, и я бы, дети, очень хотел, чтобы все люди, кушая мороженое, думали бы о том, о чем я думаю, когда ем это сладкое.
Великие путешественники
Когда мне было шесть лет, я не знал, что земля имеет форму шара.
Но Степка, хозяйский сын, у родителей которого мы жили на даче, объяснил мне, что такое земля. Он сказал:
— Земля есть круг. И если пойти все прямо, то можно обогнуть всю землю, и все равно придешь в то самое место, откуда вышел.
И когда я не поверил, Степка ударил меня по затылку и сказал:
— Скорей я пойду в кругосветное путешествие с твоей сестренкой Лелей, чем я возьму тебя. Мне не доставляет интереса с дураками путешествовать.
Но мне хотелось путешествовать, и я подарил Степке перочинный ножик.
Степке понравился ножик, и он согласился взять меня в кругосветное путешествие.
На огороде Степка устроил общее собрание путешественников. И там он сказал мне и Леле:
— Завтра, когда ваши родители уедут в город, а моя мамаша пойдет на речку стирать, мы сделаем, что задумали. Мы пойдем все прямо и прямо, пересекая горы и пустыни. И будем идти напрямик до тех пор, пока не вернемся сюда обратно, хотя бы на это у нас ушел целый год.
Леля сказала:
— А если, Степочка, мы встретим индейцев?
— Что касается индейцев, — ответил Степа, — то индейские племена мы будем брать в плен.
— А которые не захотят идти в плен? — робко спросил я.
— Которые не захотят, — ответил Степа, — тех мы и не будем брать в плен.
Леля сказала:
— Из моей копилки я возьму три рубля. Я думаю, что нам хватит этих денег.
Степка сказал:
— Три рубля нам безусловно хватит, потому что нам деньги нужны только лишь на покупку семечек и конфет. Что касается еды, то мы по дороге будем убивать мелких животных, и их нежное мясо мы будем жарить на костре.
Степка сбегал в сарай и принес оттуда большой мешок из-под муки. И в этот мешок мы стали собирать вещи, нужные для далеких путешествий. Мы положили в мешок хлеб, и сахар, и кусочек сала, потом положили разную посуду — тарелки, стаканы, вилки и ножи. Потом, подумавши, положили цветные карандаши, волшебный фонарик, глиняный рукомойник и увеличительное стеклышко для зажигания костров. И, кроме того, запихали в мешок два одеяла и подушку от тахты.
Помимо этого, я приготовил три рогатки, удочку и сачок для ловли тропических бабочек.
И на другой день, когда наши родители уехали в город, а Степкина мать ушла на речку полоскать белье, мы покинули нашу деревню Пески.
Мы пошли по дороге через лес.
Впереди бежала Степкина собачка Тузик. За ней шел Степка с громадным мешком на голове. За Степкой шла Леля со скакалкой. И за Лелей с тремя рогатками, сачком и удочкой шел я.
Мы шли около часа.
Наконец Степа сказал:
— Мешок дьявольски тяжелый. И я один его не понесу. Пусть каждый по очереди несет этот мешок.
Тогда Леля взяла этот мешок и понесла его.
Но она недолго несла, потому что выбилась из сил.
Она бросила мешок на землю и сказала:
— Теперь пусть Минька понесет.
Когда на меня взвалили этот мешок, я ахнул от удивления: до того этот мешок оказался тяжелым.
Но я еще больше удивился, когда зашагал с этим мешком по дороге. Меня пригибало к земле, и я, как маятник, качался из стороны в сторону, пока наконец, пройдя шагов десять, не свалился с этим мешком в канаву.
Причем я свалился в канаву странным образом. Сначала упал в канаву мешок, а вслед за мешком, прямо на все эти вещи, нырнул я. И хотя я был легкий, тем не менее я ухитрился разбить все стаканы, почти все тарелки и глиняный рукомойник.
Леля и Степка умирали от смеха, глядя, как я барахтаюсь в канаве. И поэтому они не рассердились на меня, узнав, какие убытки я причинил своим падением.
Степка свистнул собаку и хотел ее приспособить для ношения тяжестей. Но из этого ничего не вышло, потому что Тузик не понимал, что мы от него хотим. Да и мы плохо соображали, как нам под это приспособить Тузика.
Воспользовавшись нашим раздумьем, Тузик прогрыз мешок и в одно мгновенье скушал все сало.
Тогда Степка велел нам всем вместе нести этот мешок.
Ухватившись за углы, мы понесли мешок. Но нести было неудобно и тяжело. Тем не менее мы шли еще два часа. И наконец вышли из леса на лужайку.
Тут Степка решил сделать привал. Он сказал:
— Всякий раз, когда мы будем отдыхать или когда будем ложиться спать, я буду протягивать ноги в том направлении, в каком нам надо идти. Все великие путешественники так поступали и благодаря этому не сбивались со своего прямого пути.
И Степка сел у дороги, протянув вперед ноги.
Мы развязали мешок и начали закусывать.
Мы ели хлеб, посыпанный сахарным песком.
Вдруг над нами стали кружиться осы. И одна из них, желая, видимо, попробовать мой сахар, ужалила меня в щеку. Вскоре вся щека вздулась, как пирог. И я, по совету Степки, стал прикладывать к ней мох, сырую землю и листья.
Перед тем как пойти дальше, Степка выкинул из мешка почти все, что там было, и мы пошли налегке.
Я шел позади всех, скуля и хныча. Щека моя горела и ныла. Леля тоже была не рада путешествию. Она вздыхала и мечтала о возвращении домой, говоря, что дома тоже бывает хорошо.
Но Степка запретил нам об этом и думать. Он сказал:
— Каждого, кто захочет вернуться домой, я привяжу к дереву и оставлю на съедение муравьям.
Мы продолжали идти в плохом настроении.
И только у Тузика настроение было ничего себе.
Задрав хвост, он носился за птицами и своим лаем вносил излишний шум в наше путешествие.
Наконец стало темнеть.
Степка бросил мешок на землю. И мы решили тут заночевать.
Мы собрали хворосту для костра. И Степка извлек из мешка увеличительное стеклышко, чтобы разжечь костер.
Но, не найдя на небе солнца, Степка приуныл. И мы тоже огорчились.
И, покушав хлеба, легли в темноте.
Степка торжественно лег ногами вперед, говоря, что утром нам будет ясно, в какую сторону идти.
Степка тотчас захрапел. И Тузик тоже засопел носом. Но мы с Лелей долго не могли заснуть. Нас пугал темный лес и шум деревьев. Сухую ветку над головой Леля вдруг приняла за змею и от ужаса завизжала.
А упавшая шишка с дерева напугала меня до того, что я подскочил на земле, как мячик.
Наконец мы задремали.
Я проснулся оттого, что Леля теребила меня за плечи. Было раннее утро. И солнце еще не взошло.
Леля шепотом сказала мне:
— Минька, пока Степка спит, давай повернем его ноги в обратную сторону. А то он заведет нас куда Макар телят не гонял.
Мы посмотрели на Степку. Он спал с блаженной улыбкой.
Мы с Лелей ухватились за его ноги и в одно мгновенье повернули их в обратную сторону, так что Степкина голова описала полукруг.
Но от этого Степка не проснулся.
Он только застонал по сне и замахал руками, бормоча: «Эй, сюда, ко мне…»
Наверное, ему спилось, что на него напали индейцы и он зовет нас на помощь.
Мы стали ждать, когда Степка проснется.
Он проснулся с первыми лучами солнца и, посмотрев на свои ноги, сказал:
— Хороши бы мы были, если б я лег ногами куда попало. Вот мы бы и не знали, в какую сторону нам идти. А теперь благодаря моим ногам всем нам ясно, что надо идти туда.
И Степка махнул рукой по направлению дороги, по которой мы шли вчера.
Мы покушали хлеба и двинулись в путь.
Дорога была знакома. И Степка то и дело раскрывал рот от удивления. Тем не менее он сказал:
— Кругосветное путешествие тем и отличается от других путешествий, что все повторяется, так как земля есть круг.
Позади раздался скрип колес. Это какой-то дяденька ехал на телеге.
Степка сказал:
— Для быстроты путешествия и чтоб скорей обогнуть землю, не худо бы нам сесть в эту телегу.
Мы стали проситься, чтоб нас подвезли. Добродушный дяденька остановил телегу и позволил нам в нее сесть.
Мы быстро покатили. И ехали не больше часа.
Вдруг впереди показалась наша деревня Пески.
Степка, раскрыв рот от изумления, сказал:
— Вот деревня, в аккурат похожая на нашу деревню Пески. Это бывает во время кругосветных путешествий.
Но Степка еще больше изумился, когда мы подъехали к пристани.
Мы вылезли из телеги.
Сомнения не оставалось — это была наша пристань, и к ней только что подошел пароход.
Степка прошептал:
— Неужели же мы обогнули землю?
Леля фыркнула, и я тоже засмеялся.
Но тут мы увидели на пристани наших родителей и пашу бабушку — они только что сошли с парохода.
И рядом с ними мы увидели нашу няньку, которая с плачем что-то говорила.
Мы подбежали к родителям.
И родители засмеялись от радости, что увидели нас.
Нянька сказала:
— Ах, дети, а я думала, что вы вчера потонули.
Леля сказала:
— Если бы мы вчера потонули, то мы бы не могли отправиться в кругосветное путешествие.
Мама воскликнула:
— Что я слышу! Их надо наказать.
Папа сказал:
— Все хорошо, что хорошо кончается.
Бабушка, сорвав ветку, сказала:
— Я предлагаю выпороть детей. Миньку пусть выпорет мама. А Лелю я беру на себя.
Папа сказал:
— Порка — это старый метод воспитания детей. И это не приносит пользы. Дети небось и без порки поняли, какую глупость они совершили.
Мама, вздохнув, сказала:
— У меня дурацкие дети. Идти в кругосветное путешествие, не зная таблицы умножения и географии, — ну что это такое!
Папа сказал:
— Мало знать географию и таблицу умножения. Чтоб идти в кругосветное путешествие, надо иметь высшее образование в размере пяти курсов. Надо знать все, что там преподают, включая космографию. А те, которые пускаются в дальний путь без этих знаний, приходят к печальным результатам, достойным сожаления.
С этими словами мы пришли домой. И сели обедать. И наши родители смеялись и ахали, слушая наши рассказы о вчерашнем приключении.
Что касается Степки, то его мамаша заперла в бане, и там наш великий путешественник просидел целый день.
А на другой день мамаша его выпустила. И мы с ним стали играть как ни в чем не бывало.
Остается еще сказать несколько слов о Тузике.
Тузик бежал за телегой целый час и очень переутомился.
Прибежав домой, он забрался в сарай и там спал до вечера.
А вечером, покушав, снова заснул, и что он видел во сне, остается покрытым мраком неизвестности.
Что касается меня, то во сне я увидел тигра, которого я убил выстрелом из рогатки.
Золотые слова
Когда я был маленький, я очень любил ужинать со взрослыми. И моя сестренка Леля тоже любила такие ужины не меньше, чем я.
Во-первых, на стол ставилась разнообразная еда. И эта сторона дела нас с Лелей в особенности прельщала.
Во-вторых, взрослые всякий раз рассказывали интересные факты из своей жизни. И это нас с Лелей тоже забавляло.
Конечно, первые разы мы вели себя за столом тихо. Но потом осмелели. Леля стала вмешиваться в разговоры. Тараторила без конца. И я тоже иной раз вставлял свои замечания.
Наши замечания смешили гостей. И мама с папой сначала были даже довольны, что гости видят такой наш ум и такое наше развитие.
Но потом вот что произошло на одном ужине.
Папин начальник начал рассказывать какую-то невероятную историю о том, как он спас пожарного. Этот пожарный будто бы угорел на пожаре. И папин начальник вытащил его из огня.
Возможно, что был такой факт, но только нам с Лелей этот рассказ не понравился.
И Леля сидела как на иголках. Она вдобавок вспомнила одну историю вроде этой, но только еще более интересную. И ей поскорее хотелось рассказать эту историю, чтоб ее не забыть.
Но папин начальник, как назло, рассказывал крайне медленно. И Леля не могла более терпеть.
Махнув рукой в его сторону, она сказала:
— Это что! Вот у нас во дворе одна девочка…
Леля не закончила свою мысль, потому что мама на нее шикнула. И папа на нее строго посмотрел.
Папин начальник покраснел от гнева. Ему неприятно стало, что про его рассказ Леля сказала: «Это что!»
Обратившись к нашим родителям, он сказал:
— Я не понимаю, зачем вы сажаете детей со взрослыми. Они меня перебивают. И вот я теперь потерял нить моего рассказа. На чем я остановился?
Леля, желая загладить происшествие, сказала:
— Вы остановились на том, как угоревший пожарный сказал вам «мерси». Но только странно, что он вообще что-нибудь мог сказать, раз он был угоревший и лежал без сознания… Вот у нас одна девочка во дворе…
Леля снова не закончила свои воспоминания, потому что получила от мамы шлепок.
Гости заулыбались. И папин начальник еще более покраснел от гнева.
Видя, что дело плохо, я решил поправить положение. Я сказал Леле:
— Ничего странного нету в том, что сказал папин начальник. Смотря какие угоревшие, Леля. Другие угоревшие пожарные хотя и лежат в обмороке, по все-таки они говорить могут. Они бредят. И говорят, сами не зная что. Вот он и сказал «мерси». А сам, может, хотел сказать «караул».
Гости засмеялись. А папин начальник, затрясшись от гнева, сказал моим родителям:
— Вы плохо воспитываете ваших детей. Они мне буквально пикнуть не дают — все время перебивают глупыми замечаниями.
Бабушка, которая сидела в конце стола у самовара, сердито сказала, поглядывая на Лелю:
— Глядите, вместо того чтобы раскаяться в своем поведении, эта особа снова принялась за еду. Глядите, она даже аппетита не потеряла — кушает за двоих…
Леля не посмела громко возразить бабушке. Но тихо она прошептала:
— На сердитых воду возят.
Бабушка не расслышала этих слов. Но папин начальник, который сидел рядом с Лелей, принял эти слова на свой счет.
Он прямо ахнул от удивления, когда это услышал.
Обратившись к нашим родителям, он так сказал:
— Всякий раз, когда я собираюсь к вам в гости и вспоминаю про ваших детей, мне прямо неохота к вам идти.
Папа сказал:
— Ввиду того, что дети действительно вели себя крайне развязно и тем самым они не оправдали наших надежд, я запрещаю им с этого дня ужинать со взрослыми. Пусть они допьют свой чай и уходят в свою комнату.
Доев сардинки, мы с Лелей удалились под веселый смех и шутки гостей.
И с тех пор мы два месяца не садились вместе со взрослыми.
А спустя два месяца мы с Лелей стали упрашивать нашего отца, чтобы он нам снова разрешил ужинать со взрослыми. И наш отец, который был в тот день в прекрасном настроении, сказал:
— Хорошо, я вам это разрешу, но только я категорически запрещаю вам что-либо говорить за столом. Одно ваше слово, сказанное вслух, — и более вы за стол не сядете.
И вот в один прекрасный день мы снова за столом, ужинаем со взрослыми.
На этот раз мы сидим тихо и молчаливо. Мы знаем папин характер. Мы знаем, что, если мы скажем хоть полслова, наш отец никогда более не разрешит нам сесть со взрослыми.
Но от этого запрещения говорить мы с Лелей пока не очень страдаем. Мы с Лелей едим за четверых и между собой пересмеиваемся. Мы считаем, что взрослые даже прогадали, не позволив нам говорить. Наши рты, свободные от разговоров, целиком заняты едой.
Мы с Лелей съели все, что возможно, и перешли на сладкое.
Съев сладкое и выпив чай, мы с Лелей решили пройтись по второму кругу — мы решили повторить еду с самого начала, тем более что наша мать, увидав, что на столе почти что чисто, принесла новую еду.
Я взял булку и отрезал кусок масла. И масло было совершенно замерзшее — его только вынули из-за окна.
Это замерзшее масло я хотел намазать на булку. Но мне это не удавалось сделать. Оно было как каменное.
И тогда я положил масло на кончик ножа и стал его греть над чаем.
А так как свой чай я давно выпил, то я стал греть это масло над стаканом папиного начальника, с которым я сидел рядом.
Папин начальник что-то рассказывал и не обращал на меня внимания.
Между тем нож согрелся над чаем. Масло немножко подтаяло. Я хотел его намазать на булку и уже стал отводить руку от стакана. Но тут мое масло неожиданно соскользнуло с ножа и упало прямо в чай.
Я обмер от страха.
Я вытаращенными глазами смотрел на масло, которое плюхнулось в горячий чай.
Потом я оглянулся по сторонам. Но никто из гостей не заметил происшествия.
Только одна Леля увидела, что случилось.
Она стала смеяться, поглядывая то на меня, то на стакан с чаем.
Но она еще больше засмеялась, когда папин начальник, что-то рассказывая, стал ложечкой помешивать свой чай.
Он мешал его долго, так что все масло растаяло без остатка. И теперь чай был похож на куриный бульон.
Папин начальник взял стакан в руку и стал подносить его к своему рту.
И хотя Леля была чрезвычайно заинтересована, что произойдет дальше и что будет делать папин начальник, когда он глотнет эту бурду, но все-таки она немножко испугалась. И даже уже раскрыла рот, чтобы крикнуть папиному начальнику: «Не пейте!»
Но, посмотрев на папу и вспомнив, что нельзя говорить, смолчала.
И я тоже ничего не сказал. Я только взмахнул руками и, не отрываясь, стал смотреть в рот папиному начальнику.
Между тем папин начальник поднес стакан к своему рту и сделал большой глоток.
Но тут глаза его стали круглыми от удивления. Он охнул, подпрыгнул на своем стуле, открыл рот и, схватив салфетку, стал кашлять и плеваться.
Наши родители спросили его:
— Что с вами произошло?
Папин начальник от испуга не мог ничего произнести.
Он показывал пальцами на свой рот, мычал и не без страха поглядывал на свой стакан.
Тут все присутствующие стали с интересом рассматривать чай, оставшийся в стакане.
Мама, попробовав этот чай, сказала:
— Не бойтесь, тут плавает обыкновенное сливочное масло, которое растопилось в горячем чае.
Папа сказал:
— Да, но интересно знать, как оно попало в чай. Ну-ка, дети, поделитесь с нами вашими наблюдениями.
Получив разрешение говорить, Леля сказала:
— Минька грел масло над стаканом, и оно упало.
Тут Леля, не выдержав, громко засмеялась.
Некоторые из гостей тоже засмеялись. А некоторые с серьезным и озабоченным видом стали рассматривать свои стаканы.
Папин начальник сказал:
— Еще спасибо, что они мне в чай масло положили. Они могли бы дегтю влить. Интересно, как бы я себя чувствовал, если бы это был деготь… Ну, эти дети доведут меня до сумасшествия.
Один из гостей сказал:
— Меня другое интересует. Дети видели, что масло упало в чай. Тем не менее они никому не сказали об этом. И допустили выпить такой чай. И вот в чем их главное преступление.
Услышав эти слова, папин начальник воскликнул:
— Ах, в самом деле, гадкие дети, почему вы мне ничего не сказали? Я бы тогда не стал пить этот чай…
Леля, перестав смеяться, сказала:
— Нам папа не велел за столом говорить. Вот поэтому мы ничего не сказали.
Я, вытерев слезы, пробормотал:
— Ни одного слова нам папа не велел произносить. А то бы мы что-нибудь сказали.
Папа, улыбнувшись, сказал:
— Это не гадкие дети, а глупые. Конечно, с одной стороны, хорошо, что они беспрекословно исполняют приказания. Надо и впредь также поступать — исполнять приказания и придерживаться правил, которые существуют. Но все это надо делать с умом. Если б ничего не случилось, у вас была священная обязанность молчать. Масло попало в чай или бабушка забыла закрыть кран у самовара — вам надо крикнуть. И вместо наказания вы получили бы благодарность. Все надо делать с учетом изменившейся обстановки. И эти слова вам надо золотыми буквами записать в своем сердце. Иначе получится абсурд.
Мама сказала:
— Или, например, я не велю вам выходить из квартиры. Вдруг пожар. Что же вы, дурацкие дети, так и будете торчать в квартире, пока не сгорите? Наоборот, вам надо выскочить из квартиры и поднять переполох.
Бабушка сказала:
— Или, например, я всем налила по второму стакану чаю. А Леле я не налила. Значит, я поступила правильно?
Тут все, кроме Лели, засмеялись. А папа сказал:
— Вы не совсем правильно поступили, потому что обстановка снова изменилась. Выяснилось, что дети не виноваты. А если и виноваты, то в глупости. Ну, а за глупость наказывать не полагается. Попросим вас, бабушка, налить Леле чаю.
Все гости засмеялись. А мы с Лелей зааплодировали.
Но папины слова я, пожалуй, не сразу понял. Зато впоследствии я понял и оценил эти золотые слова.
И этих слов, уважаемые дети, я всегда придерживался во всех случаях жизни. И в личных своих делах. И на войне. И даже, представьте себе, в моей работе.
В моей работе я, например, учился у старых великолепных мастеров. И у меня был большой соблазн писать по тем правилам, по которым они писали.
Но я увидал, что обстановка изменилась. Жизнь и публика уже не те, что были при них. И поэтому я не стал подражать их правилам.
И, может быть, поэтому я принес людям не так уж много огорчений. И был до некоторой степени счастливым.
Впрочем, еще в древние времена один мудрый человек (которого вели на казнь) сказал: «Никого нельзя назвать счастливым раньше его смерти».
Это были тоже золотые слова.
1939
Галоши и мороженое
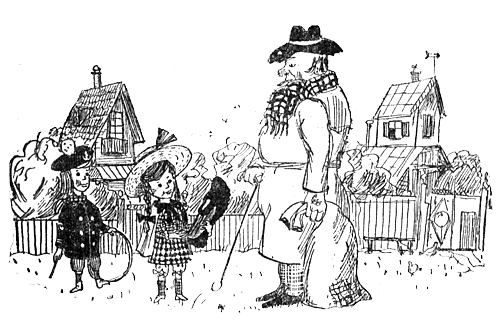
Когда я был маленький, я очень любил мороженое. Конечно, я его и сейчас люблю. Но тогда это было что-то особенное — так я любил мороженое.
И когда, например, ехал по улице мороженщик со своей тележкой, у меня прямо начиналось головокружение: до того мне хотелось покушать то, что продавал мороженщик.
И моя сестренка Леля тоже исключительно любила мороженое.
И мы с ней мечтали, что вот, когда вырастем большие, будем кушать мороженое не менее как три, а то и четыре раза в день.
Но в это время мы очень редко ели мороженое. Наша мама не позволяла нам его есть. Она боялась, что мы простудимся и захвораем. И по этой причине она не давала нам на мороженое денег.
И вот однажды летом мы с Лелей гуляли в нашем саду. И Леля нашла в кустах галошу. Обыкновенную резиновую галошу. Причем очень ношеную и рваную. Наверное, кто-нибудь бросил ее, поскольку она разорвалась.
Вот Леля нашла эту галошу и для потехи надела ее на палку. И ходит по саду, машет этой палкой над головой.
Вдруг по улице идет тряпичник. И кричит: «Покупаю бутылки, банки, тряпки…»
Увидев, что Леля держит на палке галошу, тряпичник сказал Леле:
— Эй, девочка, продаешь галошу?
Леля подумала, что это такая игра, и ответила тряпичнику:
— Да, продаю. Сто рублей стоит эта галоша.
Тряпичник засмеялся и говорит:
— Нет, сто рублей — это чересчур дорого за эту галошу. А вот если хочешь, девочка, я тебе дам за нее две копейки, и мы с тобой расстанемся друзьями.
И с этими словами тряпичник вытащил из кармана кошелек, дал Леле две копейки, сунул пашу рваную галошу в свой мешок и ушел.
Мы с Лелей поняли, что это не игра, а на самом деле. И очень удивились.
Тряпичник уже давно ушел, а мы стоим и глядим на нашу монету.
Вдруг по улице едет мороженщик и кричит:
— Земляничное мороженое!
Мы с Лелей подбежали к мороженщику, купили у него два шарика по копейке, моментально их съели и стали жалеть, что так задешево продали галошу.
На другой день Леля мне говорит:
— Минька, сегодня я решила продать тряпичнику еще одну какую-нибудь галошу.
Я обрадовался и говорю:
— Леля, разве ты опять нашла в кустах галошу?
Леля говорит:
— В кустах больше ничего нет. Но у нас в прихожей стоит, наверно, я так думаю, не меньше пятнадцати галош. Если мы одну продадим, то нам от этого худо не будет.
И с этими словами Леля побежала на дачу и вскоре появилась в саду с одной, довольно хорошей и почти новенькой галошей.
Леля сказала:
— Если тряпичник купил у нас за две копейки такую рвань, какую мы ему продали в прошлый раз, то за эту почти что новенькую галошу он, наверное, даст не менее рубля. Воображаю, сколько мороженого можно будет купить на эти деньги.
Мы целый час ждали появления тряпичника, и, когда мы наконец его увидели, Леля мне сказала:
— Минька, на этот раз ты продавай галошу. Ты мужчина, и ты с тряпичником разговаривай. А то он мне опять две копейки даст. А это нам с тобой чересчур мало.
Я надел на палку галошу и стал махать палкой над головой.
Тряпичник подошел к саду и спросил:
— Что, опять продается галоша?
Я прошептал чуть слышно:
— Продается.
Тряпичник, осмотрев галошу, сказал:
— Какая жалость, дети, что вы мне все по одной галошине продаете. За эту одну галошу я вам дам пятачок. А если бы вы продали мне сразу две галоши, то получили бы двадцать, а то и тридцать копеек. Поскольку две галоши сразу более нужны людям. И от этого они подскакивают в цене.
Леля мне сказала:
— Минька, побеги на дачу и принеси из прихожей еще одну галошу.
Я побежал домой и вскоре принес какую-то галошу очень больших размеров.
Тряпичник поставил на траву эти две галоши рядом и, грустно вздохнув, сказал:
— Нет, дети, вы меня окончательно расстраиваете своей торговлей. Одна галоша дамская, другая — с мужской ноги, рассудите сами: на что мне такие галоши? Я вам хотел за одну галошу дать пятачок, но, сложив вместе две галоши, вижу, что этого не будет, поскольку дело ухудшилось от сложения. Получите за две галоши четыре копейки, и мы расстанемся друзьями.
Леля хотела побежать домой, чтоб принести еще что-нибудь из галош, но в этот момент раздался мамин голос. Это мама нас звала домой, так как с нами хотели попрощаться мамины гости. Тряпичник, видя нашу растерянность, сказал:
— Итак, друзья, за эти две галоши вы могли бы получить четыре копейки, но вместо этого получите три копейки, поскольку одну копейку я вычитаю за то, что понапрасну трачу время на пустой разговор с детьми.
Тряпичник дал Леле три монетки по копейке и, спрятав галоши в мешок, ушел.
Мы с Лелей моментально побежали домой и стали прощаться с мамиными гостями: с тетей Олей и дядей Колей, которые уже одевались в прихожей.
Вдруг тетя Оля сказала:
— Что за странность! Одна моя галоша тут, под вешалкой, а второй почему-то нету.
Мы с Лелей побледнели. И стояли не двигаясь.
Тетя Оля сказала:
— Я великолепно помню, что пришла в двух галошах. А тут сейчас только одна, а где вторая, неизвестно.
Дядя Коля, который тоже искал свои галоши, сказал:
— Что за чепуха в решете! Я тоже отлично помню, что пришел в двух галошах, тем не менее второй моей галоши тоже нету.
Услышав эти слова, Леля от волнения разжала кулак, в котором у нее находились деньги, и три монетки по копейке со звоном упали на пол.
Папа, который тоже провожал гостей, спросил:
— Леля, откуда у тебя эти деньги?
Леля начала что-то врать, но папа сказал:
— Что может быть хуже вранья!
Тогда Леля заплакала. И я тоже заплакал. И мы сказали:
— Мы продали тряпичнику две галоши, чтобы купить мороженое.
Папа сказал:
— Хуже вранья — это то, что вы сделали.
Услышав, что галоши проданы тряпичнику, тетя Оля побледнела и зашаталась. И дядя Коля тоже зашатался и схватился за сердце. Но папа им сказал:
— Не волнуйтесь, тетя Оля и дядя Коля, я знаю, как нам надо поступить, чтобы вы не остались без галош. Я возьму все Лелины и Минькины игрушки, продам их тряпичнику, и на вырученные деньги мы приобретем вам новые галоши.
Мы с Лелей заревели, услышав этот приговор. Но папа сказал:
— Это еще не все. В течение двух лет я запрещаю Леле и Миньке кушать мороженое. А спустя два года они могут его кушать, но всякий раз, кушая мороженое, пусть они вспоминают эту печальную историю, и всякий раз пусть они думают, заслужили ли они это сладкое.
В тот же день папа собрал все наши игрушки, позвал тряпичника и продал ему все, что мы имели. И на полученные деньги наш отец купил галоши тете Оле и дяде Коле.
И вот, дети, с тех пор прошло много лет.
Первые два года мы с Лелей действительно ни разу не ели мороженого. А потом стали его есть и всякий раз, кушая, невольно вспоминали о том, что было с нами.
И даже теперь, дети, когда я стал совсем взрослый и даже немножко старый, даже и теперь иной раз, кушая мороженое, я ощущаю в горле какое-то сжатие и какую-то неловкость. И при этом всякий раз, по детской своей привычке, думаю: «Заслужил ли я это сладкое, не соврал ли и не надул ли кого-нибудь?»
Сейчас, дети, очень многие люди кушают мороженое, потому что у нас имеются целые огромные фабрики, в которых изготовляют это приятное блюдо.
Тысячи людей и даже миллионы кушают мороженое, и я бы, дети, очень хотел, чтобы все люди, кушая мороженое, думали бы о том, о чем я думаю, когда ем это сладкое.
Великие путешественники
Когда мне было шесть лет, я не знал, что земля имеет форму шара.
Но Степка, хозяйский сын, у родителей которого мы жили на даче, объяснил мне, что такое земля. Он сказал:
— Земля есть круг. И если пойти все прямо, то можно обогнуть всю землю, и все равно придешь в то самое место, откуда вышел.
И когда я не поверил, Степка ударил меня по затылку и сказал:
— Скорей я пойду в кругосветное путешествие с твоей сестренкой Лелей, чем я возьму тебя. Мне не доставляет интереса с дураками путешествовать.
Но мне хотелось путешествовать, и я подарил Степке перочинный ножик.
Степке понравился ножик, и он согласился взять меня в кругосветное путешествие.
На огороде Степка устроил общее собрание путешественников. И там он сказал мне и Леле:
— Завтра, когда ваши родители уедут в город, а моя мамаша пойдет на речку стирать, мы сделаем, что задумали. Мы пойдем все прямо и прямо, пересекая горы и пустыни. И будем идти напрямик до тех пор, пока не вернемся сюда обратно, хотя бы на это у нас ушел целый год.
Леля сказала:
— А если, Степочка, мы встретим индейцев?
— Что касается индейцев, — ответил Степа, — то индейские племена мы будем брать в плен.
— А которые не захотят идти в плен? — робко спросил я.
— Которые не захотят, — ответил Степа, — тех мы и не будем брать в плен.
Леля сказала:
— Из моей копилки я возьму три рубля. Я думаю, что нам хватит этих денег.
Степка сказал:
— Три рубля нам безусловно хватит, потому что нам деньги нужны только лишь на покупку семечек и конфет. Что касается еды, то мы по дороге будем убивать мелких животных, и их нежное мясо мы будем жарить на костре.
Степка сбегал в сарай и принес оттуда большой мешок из-под муки. И в этот мешок мы стали собирать вещи, нужные для далеких путешествий. Мы положили в мешок хлеб, и сахар, и кусочек сала, потом положили разную посуду — тарелки, стаканы, вилки и ножи. Потом, подумавши, положили цветные карандаши, волшебный фонарик, глиняный рукомойник и увеличительное стеклышко для зажигания костров. И, кроме того, запихали в мешок два одеяла и подушку от тахты.
Помимо этого, я приготовил три рогатки, удочку и сачок для ловли тропических бабочек.
И на другой день, когда наши родители уехали в город, а Степкина мать ушла на речку полоскать белье, мы покинули нашу деревню Пески.
Мы пошли по дороге через лес.
Впереди бежала Степкина собачка Тузик. За ней шел Степка с громадным мешком на голове. За Степкой шла Леля со скакалкой. И за Лелей с тремя рогатками, сачком и удочкой шел я.
Мы шли около часа.
Наконец Степа сказал:
— Мешок дьявольски тяжелый. И я один его не понесу. Пусть каждый по очереди несет этот мешок.
Тогда Леля взяла этот мешок и понесла его.
Но она недолго несла, потому что выбилась из сил.
Она бросила мешок на землю и сказала:
— Теперь пусть Минька понесет.
Когда на меня взвалили этот мешок, я ахнул от удивления: до того этот мешок оказался тяжелым.
Но я еще больше удивился, когда зашагал с этим мешком по дороге. Меня пригибало к земле, и я, как маятник, качался из стороны в сторону, пока наконец, пройдя шагов десять, не свалился с этим мешком в канаву.
Причем я свалился в канаву странным образом. Сначала упал в канаву мешок, а вслед за мешком, прямо на все эти вещи, нырнул я. И хотя я был легкий, тем не менее я ухитрился разбить все стаканы, почти все тарелки и глиняный рукомойник.
Леля и Степка умирали от смеха, глядя, как я барахтаюсь в канаве. И поэтому они не рассердились на меня, узнав, какие убытки я причинил своим падением.
Степка свистнул собаку и хотел ее приспособить для ношения тяжестей. Но из этого ничего не вышло, потому что Тузик не понимал, что мы от него хотим. Да и мы плохо соображали, как нам под это приспособить Тузика.
Воспользовавшись нашим раздумьем, Тузик прогрыз мешок и в одно мгновенье скушал все сало.
Тогда Степка велел нам всем вместе нести этот мешок.
Ухватившись за углы, мы понесли мешок. Но нести было неудобно и тяжело. Тем не менее мы шли еще два часа. И наконец вышли из леса на лужайку.
Тут Степка решил сделать привал. Он сказал:
— Всякий раз, когда мы будем отдыхать или когда будем ложиться спать, я буду протягивать ноги в том направлении, в каком нам надо идти. Все великие путешественники так поступали и благодаря этому не сбивались со своего прямого пути.
И Степка сел у дороги, протянув вперед ноги.
Мы развязали мешок и начали закусывать.
Мы ели хлеб, посыпанный сахарным песком.
Вдруг над нами стали кружиться осы. И одна из них, желая, видимо, попробовать мой сахар, ужалила меня в щеку. Вскоре вся щека вздулась, как пирог. И я, по совету Степки, стал прикладывать к ней мох, сырую землю и листья.
Перед тем как пойти дальше, Степка выкинул из мешка почти все, что там было, и мы пошли налегке.
Я шел позади всех, скуля и хныча. Щека моя горела и ныла. Леля тоже была не рада путешествию. Она вздыхала и мечтала о возвращении домой, говоря, что дома тоже бывает хорошо.
Но Степка запретил нам об этом и думать. Он сказал:
— Каждого, кто захочет вернуться домой, я привяжу к дереву и оставлю на съедение муравьям.
Мы продолжали идти в плохом настроении.
И только у Тузика настроение было ничего себе.
Задрав хвост, он носился за птицами и своим лаем вносил излишний шум в наше путешествие.
Наконец стало темнеть.
Степка бросил мешок на землю. И мы решили тут заночевать.
Мы собрали хворосту для костра. И Степка извлек из мешка увеличительное стеклышко, чтобы разжечь костер.
Но, не найдя на небе солнца, Степка приуныл. И мы тоже огорчились.
И, покушав хлеба, легли в темноте.
Степка торжественно лег ногами вперед, говоря, что утром нам будет ясно, в какую сторону идти.
Степка тотчас захрапел. И Тузик тоже засопел носом. Но мы с Лелей долго не могли заснуть. Нас пугал темный лес и шум деревьев. Сухую ветку над головой Леля вдруг приняла за змею и от ужаса завизжала.
А упавшая шишка с дерева напугала меня до того, что я подскочил на земле, как мячик.
Наконец мы задремали.
Я проснулся оттого, что Леля теребила меня за плечи. Было раннее утро. И солнце еще не взошло.
Леля шепотом сказала мне:
— Минька, пока Степка спит, давай повернем его ноги в обратную сторону. А то он заведет нас куда Макар телят не гонял.
Мы посмотрели на Степку. Он спал с блаженной улыбкой.
Мы с Лелей ухватились за его ноги и в одно мгновенье повернули их в обратную сторону, так что Степкина голова описала полукруг.
Но от этого Степка не проснулся.
Он только застонал по сне и замахал руками, бормоча: «Эй, сюда, ко мне…»
Наверное, ему спилось, что на него напали индейцы и он зовет нас на помощь.
Мы стали ждать, когда Степка проснется.
Он проснулся с первыми лучами солнца и, посмотрев на свои ноги, сказал:
— Хороши бы мы были, если б я лег ногами куда попало. Вот мы бы и не знали, в какую сторону нам идти. А теперь благодаря моим ногам всем нам ясно, что надо идти туда.
И Степка махнул рукой по направлению дороги, по которой мы шли вчера.
Мы покушали хлеба и двинулись в путь.
Дорога была знакома. И Степка то и дело раскрывал рот от удивления. Тем не менее он сказал:
— Кругосветное путешествие тем и отличается от других путешествий, что все повторяется, так как земля есть круг.
Позади раздался скрип колес. Это какой-то дяденька ехал на телеге.
Степка сказал:
— Для быстроты путешествия и чтоб скорей обогнуть землю, не худо бы нам сесть в эту телегу.
Мы стали проситься, чтоб нас подвезли. Добродушный дяденька остановил телегу и позволил нам в нее сесть.
Мы быстро покатили. И ехали не больше часа.
Вдруг впереди показалась наша деревня Пески.
Степка, раскрыв рот от изумления, сказал:
— Вот деревня, в аккурат похожая на нашу деревню Пески. Это бывает во время кругосветных путешествий.
Но Степка еще больше изумился, когда мы подъехали к пристани.
Мы вылезли из телеги.
Сомнения не оставалось — это была наша пристань, и к ней только что подошел пароход.
Степка прошептал:
— Неужели же мы обогнули землю?
Леля фыркнула, и я тоже засмеялся.
Но тут мы увидели на пристани наших родителей и пашу бабушку — они только что сошли с парохода.
И рядом с ними мы увидели нашу няньку, которая с плачем что-то говорила.
Мы подбежали к родителям.
И родители засмеялись от радости, что увидели нас.
Нянька сказала:
— Ах, дети, а я думала, что вы вчера потонули.
Леля сказала:
— Если бы мы вчера потонули, то мы бы не могли отправиться в кругосветное путешествие.
Мама воскликнула:
— Что я слышу! Их надо наказать.
Папа сказал:
— Все хорошо, что хорошо кончается.
Бабушка, сорвав ветку, сказала:
— Я предлагаю выпороть детей. Миньку пусть выпорет мама. А Лелю я беру на себя.
Папа сказал:
— Порка — это старый метод воспитания детей. И это не приносит пользы. Дети небось и без порки поняли, какую глупость они совершили.
Мама, вздохнув, сказала:
— У меня дурацкие дети. Идти в кругосветное путешествие, не зная таблицы умножения и географии, — ну что это такое!
Папа сказал:
— Мало знать географию и таблицу умножения. Чтоб идти в кругосветное путешествие, надо иметь высшее образование в размере пяти курсов. Надо знать все, что там преподают, включая космографию. А те, которые пускаются в дальний путь без этих знаний, приходят к печальным результатам, достойным сожаления.
С этими словами мы пришли домой. И сели обедать. И наши родители смеялись и ахали, слушая наши рассказы о вчерашнем приключении.
Что касается Степки, то его мамаша заперла в бане, и там наш великий путешественник просидел целый день.
А на другой день мамаша его выпустила. И мы с ним стали играть как ни в чем не бывало.
Остается еще сказать несколько слов о Тузике.
Тузик бежал за телегой целый час и очень переутомился.
Прибежав домой, он забрался в сарай и там спал до вечера.
А вечером, покушав, снова заснул, и что он видел во сне, остается покрытым мраком неизвестности.
Что касается меня, то во сне я увидел тигра, которого я убил выстрелом из рогатки.
Золотые слова
Когда я был маленький, я очень любил ужинать со взрослыми. И моя сестренка Леля тоже любила такие ужины не меньше, чем я.
Во-первых, на стол ставилась разнообразная еда. И эта сторона дела нас с Лелей в особенности прельщала.
Во-вторых, взрослые всякий раз рассказывали интересные факты из своей жизни. И это нас с Лелей тоже забавляло.
Конечно, первые разы мы вели себя за столом тихо. Но потом осмелели. Леля стала вмешиваться в разговоры. Тараторила без конца. И я тоже иной раз вставлял свои замечания.
Наши замечания смешили гостей. И мама с папой сначала были даже довольны, что гости видят такой наш ум и такое наше развитие.
Но потом вот что произошло на одном ужине.
Папин начальник начал рассказывать какую-то невероятную историю о том, как он спас пожарного. Этот пожарный будто бы угорел на пожаре. И папин начальник вытащил его из огня.
Возможно, что был такой факт, но только нам с Лелей этот рассказ не понравился.
И Леля сидела как на иголках. Она вдобавок вспомнила одну историю вроде этой, но только еще более интересную. И ей поскорее хотелось рассказать эту историю, чтоб ее не забыть.
Но папин начальник, как назло, рассказывал крайне медленно. И Леля не могла более терпеть.
Махнув рукой в его сторону, она сказала:
— Это что! Вот у нас во дворе одна девочка…
Леля не закончила свою мысль, потому что мама на нее шикнула. И папа на нее строго посмотрел.
Папин начальник покраснел от гнева. Ему неприятно стало, что про его рассказ Леля сказала: «Это что!»
Обратившись к нашим родителям, он сказал:
— Я не понимаю, зачем вы сажаете детей со взрослыми. Они меня перебивают. И вот я теперь потерял нить моего рассказа. На чем я остановился?
Леля, желая загладить происшествие, сказала:
— Вы остановились на том, как угоревший пожарный сказал вам «мерси». Но только странно, что он вообще что-нибудь мог сказать, раз он был угоревший и лежал без сознания… Вот у нас одна девочка во дворе…
Леля снова не закончила свои воспоминания, потому что получила от мамы шлепок.
Гости заулыбались. И папин начальник еще более покраснел от гнева.
Видя, что дело плохо, я решил поправить положение. Я сказал Леле:
— Ничего странного нету в том, что сказал папин начальник. Смотря какие угоревшие, Леля. Другие угоревшие пожарные хотя и лежат в обмороке, по все-таки они говорить могут. Они бредят. И говорят, сами не зная что. Вот он и сказал «мерси». А сам, может, хотел сказать «караул».
Гости засмеялись. А папин начальник, затрясшись от гнева, сказал моим родителям:
— Вы плохо воспитываете ваших детей. Они мне буквально пикнуть не дают — все время перебивают глупыми замечаниями.
Бабушка, которая сидела в конце стола у самовара, сердито сказала, поглядывая на Лелю:
— Глядите, вместо того чтобы раскаяться в своем поведении, эта особа снова принялась за еду. Глядите, она даже аппетита не потеряла — кушает за двоих…
Леля не посмела громко возразить бабушке. Но тихо она прошептала:
— На сердитых воду возят.
Бабушка не расслышала этих слов. Но папин начальник, который сидел рядом с Лелей, принял эти слова на свой счет.
Он прямо ахнул от удивления, когда это услышал.
Обратившись к нашим родителям, он так сказал:
— Всякий раз, когда я собираюсь к вам в гости и вспоминаю про ваших детей, мне прямо неохота к вам идти.
Папа сказал:
— Ввиду того, что дети действительно вели себя крайне развязно и тем самым они не оправдали наших надежд, я запрещаю им с этого дня ужинать со взрослыми. Пусть они допьют свой чай и уходят в свою комнату.
Доев сардинки, мы с Лелей удалились под веселый смех и шутки гостей.
И с тех пор мы два месяца не садились вместе со взрослыми.
А спустя два месяца мы с Лелей стали упрашивать нашего отца, чтобы он нам снова разрешил ужинать со взрослыми. И наш отец, который был в тот день в прекрасном настроении, сказал:
— Хорошо, я вам это разрешу, но только я категорически запрещаю вам что-либо говорить за столом. Одно ваше слово, сказанное вслух, — и более вы за стол не сядете.
И вот в один прекрасный день мы снова за столом, ужинаем со взрослыми.
На этот раз мы сидим тихо и молчаливо. Мы знаем папин характер. Мы знаем, что, если мы скажем хоть полслова, наш отец никогда более не разрешит нам сесть со взрослыми.
Но от этого запрещения говорить мы с Лелей пока не очень страдаем. Мы с Лелей едим за четверых и между собой пересмеиваемся. Мы считаем, что взрослые даже прогадали, не позволив нам говорить. Наши рты, свободные от разговоров, целиком заняты едой.
Мы с Лелей съели все, что возможно, и перешли на сладкое.
Съев сладкое и выпив чай, мы с Лелей решили пройтись по второму кругу — мы решили повторить еду с самого начала, тем более что наша мать, увидав, что на столе почти что чисто, принесла новую еду.
Я взял булку и отрезал кусок масла. И масло было совершенно замерзшее — его только вынули из-за окна.
Это замерзшее масло я хотел намазать на булку. Но мне это не удавалось сделать. Оно было как каменное.
И тогда я положил масло на кончик ножа и стал его греть над чаем.
А так как свой чай я давно выпил, то я стал греть это масло над стаканом папиного начальника, с которым я сидел рядом.
Папин начальник что-то рассказывал и не обращал на меня внимания.
Между тем нож согрелся над чаем. Масло немножко подтаяло. Я хотел его намазать на булку и уже стал отводить руку от стакана. Но тут мое масло неожиданно соскользнуло с ножа и упало прямо в чай.
Я обмер от страха.
Я вытаращенными глазами смотрел на масло, которое плюхнулось в горячий чай.
Потом я оглянулся по сторонам. Но никто из гостей не заметил происшествия.
Только одна Леля увидела, что случилось.
Она стала смеяться, поглядывая то на меня, то на стакан с чаем.
Но она еще больше засмеялась, когда папин начальник, что-то рассказывая, стал ложечкой помешивать свой чай.
Он мешал его долго, так что все масло растаяло без остатка. И теперь чай был похож на куриный бульон.
Папин начальник взял стакан в руку и стал подносить его к своему рту.
И хотя Леля была чрезвычайно заинтересована, что произойдет дальше и что будет делать папин начальник, когда он глотнет эту бурду, но все-таки она немножко испугалась. И даже уже раскрыла рот, чтобы крикнуть папиному начальнику: «Не пейте!»
Но, посмотрев на папу и вспомнив, что нельзя говорить, смолчала.
И я тоже ничего не сказал. Я только взмахнул руками и, не отрываясь, стал смотреть в рот папиному начальнику.
Между тем папин начальник поднес стакан к своему рту и сделал большой глоток.
Но тут глаза его стали круглыми от удивления. Он охнул, подпрыгнул на своем стуле, открыл рот и, схватив салфетку, стал кашлять и плеваться.
Наши родители спросили его:
— Что с вами произошло?
Папин начальник от испуга не мог ничего произнести.
Он показывал пальцами на свой рот, мычал и не без страха поглядывал на свой стакан.
Тут все присутствующие стали с интересом рассматривать чай, оставшийся в стакане.
Мама, попробовав этот чай, сказала:
— Не бойтесь, тут плавает обыкновенное сливочное масло, которое растопилось в горячем чае.
Папа сказал:
— Да, но интересно знать, как оно попало в чай. Ну-ка, дети, поделитесь с нами вашими наблюдениями.
Получив разрешение говорить, Леля сказала:
— Минька грел масло над стаканом, и оно упало.
Тут Леля, не выдержав, громко засмеялась.
Некоторые из гостей тоже засмеялись. А некоторые с серьезным и озабоченным видом стали рассматривать свои стаканы.
Папин начальник сказал:
— Еще спасибо, что они мне в чай масло положили. Они могли бы дегтю влить. Интересно, как бы я себя чувствовал, если бы это был деготь… Ну, эти дети доведут меня до сумасшествия.
Один из гостей сказал:
— Меня другое интересует. Дети видели, что масло упало в чай. Тем не менее они никому не сказали об этом. И допустили выпить такой чай. И вот в чем их главное преступление.
Услышав эти слова, папин начальник воскликнул:
— Ах, в самом деле, гадкие дети, почему вы мне ничего не сказали? Я бы тогда не стал пить этот чай…
Леля, перестав смеяться, сказала:
— Нам папа не велел за столом говорить. Вот поэтому мы ничего не сказали.
Я, вытерев слезы, пробормотал:
— Ни одного слова нам папа не велел произносить. А то бы мы что-нибудь сказали.
Папа, улыбнувшись, сказал:
— Это не гадкие дети, а глупые. Конечно, с одной стороны, хорошо, что они беспрекословно исполняют приказания. Надо и впредь также поступать — исполнять приказания и придерживаться правил, которые существуют. Но все это надо делать с умом. Если б ничего не случилось, у вас была священная обязанность молчать. Масло попало в чай или бабушка забыла закрыть кран у самовара — вам надо крикнуть. И вместо наказания вы получили бы благодарность. Все надо делать с учетом изменившейся обстановки. И эти слова вам надо золотыми буквами записать в своем сердце. Иначе получится абсурд.
Мама сказала:
— Или, например, я не велю вам выходить из квартиры. Вдруг пожар. Что же вы, дурацкие дети, так и будете торчать в квартире, пока не сгорите? Наоборот, вам надо выскочить из квартиры и поднять переполох.
Бабушка сказала:
— Или, например, я всем налила по второму стакану чаю. А Леле я не налила. Значит, я поступила правильно?
Тут все, кроме Лели, засмеялись. А папа сказал:
— Вы не совсем правильно поступили, потому что обстановка снова изменилась. Выяснилось, что дети не виноваты. А если и виноваты, то в глупости. Ну, а за глупость наказывать не полагается. Попросим вас, бабушка, налить Леле чаю.
Все гости засмеялись. А мы с Лелей зааплодировали.
Но папины слова я, пожалуй, не сразу понял. Зато впоследствии я понял и оценил эти золотые слова.
И этих слов, уважаемые дети, я всегда придерживался во всех случаях жизни. И в личных своих делах. И на войне. И даже, представьте себе, в моей работе.
В моей работе я, например, учился у старых великолепных мастеров. И у меня был большой соблазн писать по тем правилам, по которым они писали.
Но я увидал, что обстановка изменилась. Жизнь и публика уже не те, что были при них. И поэтому я не стал подражать их правилам.
И, может быть, поэтому я принес людям не так уж много огорчений. И был до некоторой степени счастливым.
Впрочем, еще в древние времена один мудрый человек (которого вели на казнь) сказал: «Никого нельзя назвать счастливым раньше его смерти».
Это были тоже золотые слова.
1939
Аркадий Бухов
Иностранец

Голубая фигура Жана Буше взметнулась от трапеции под самым куполом, ринулась вниз, и через несколько секунд сетка мягко и заботливо подкинула молодого акробата в воздух.
— Элля! — крикнул он, кланяясь публике.
И навстречу его звонкому тенору партер и галерея бросили волну аплодисментов. Четыре раза еще выходил кланяться Жан Буше, а после четвертого вышел напудренный шталмейстер и деревянным голосом объявил:
— Антракт!
Ряды в партере пустели. Зрители шли в конюшни и в курилку.
— Европа! — завистливо произнес человек с большой бородой, в кепке и в зеленом галстуке. — У них каждый мускул куда надо пригнан. Разве наш так прыгнет? Либо пузом об сетку, либо ногой об воздух запнется.
— У них в самом нутре техника, — согласился зритель в рыжем пальто с рваным карманом. — Может, его с малолетства били, прежде чем прыгать начал. У них с этим строго. Заграница. А наш что? Ему семилетку кончать неохота — вот он и прыгает.
И они прошли за кулисы перед только что прошмыгнувшими туда двумя школьницами в синих беретах. Одна — с толстой русой косой, другая — с черными веселыми кудряшками.
— Типичный Фербенкс, — взволнованно шептала коса. — И наверное, влюблен в какую-нибудь ихнюю приезжую графиню.
— У них это нельзя, — сочувственна сказали кудряшки. — У графини муж и даст ему по морде. Акробаты влюбляются в наездниц.
Публика долго ходила по цирковой конюшне, мешала лошадям жевать овес и в упор рассматривала разгримированных актеров. Из боковой уборной вышел Жан Буше — в коричневом изящном пальто, в темной, хорошо выглаженной шляпе и желтых, сверкающих ботинках.
— Клавочка, родненькая, — тихо пискнула коса, — ты же знаешь по-французски… Заговори…
Кудряшки густо покраснели и тонким голосом выдавили:
— By зет… француа?
— Вуй, — солидно ответил Жан Буше и пошел к выходу.
Когда он проходил мимо человека с зеленым галстуком, тот солидно откашлялся, мотнул бородой и почему-то произнес:
— Пардон.
— Вуй, — так же солидно произнес Жан Буше и вышел.
Он долго шел по плохо освещенным улицам и тихонько насвистывал, чему-то весело улыбаясь. В узеньком тупичке он остановился около маленького одноэтажного деревянного домика и постучал в освещенное окошко. Окошко раскрылось, в темноту высунулась старушечья голова в вязаном платке, и Жан Буше тихо сказал:
— Это я, мамаша. Откройте.
— Андрюшечка… — ласково и нежно запел старушечий голос. — Иди, родненький, заждалась я тебя… Думала, уж не придешь…
— Ну что вы, мамаша, — улыбнулся акробат, входя в комнату. — Сама лепешки с творогом обещала, и вдруг — не приду. Спекла, старая?
— С хрустом, родненький. Как в детстве любил… Поджаристые… Кушай, золотко!
Через десять минут Жан Буше сидел за столом и с подчеркнутым аппетитом ел пресные и невкусные лепешки. Есть ему не хотелось, но мать такими радостными глазами смотрела за каждым куском, что акробат потянулся за третьей лепешкой.
— Кувыркаешься все, Андрюшечка? — грустно спросила она.
— Кувыркаюсь, мамаша. Ты не бойся. Привык.
— И жалованье аккуратно платят?
— Аккуратно, мамаша.
— Ну, и это хорошо, — печально пожевала старушка губами. — И за присылы тебе спасибо. Балуешь меня, старуху. Таким страхом жалованье зарабатываешь, а на меня, старую, тратишься…
— Хватает, мамаша, не беспокойся. Ты вот только что… — акробат немного замялся и виновато посмотрел на мать, — когда в цирк ко мне придешь, так по фамилии не спрашивай. А скажи так: где, мол, здесь Жан Буше? Поняла?
— Это что же такое будет?
— Фамилия моя теперь. Буше и еще Жан. Это, мамаша, для дела нужно. Ежели я, скажем, Андрей Савелкин — одна мне цена, а ежели я Буше — другая.
— Оно конечно, — кивнула старуха, — Савелкин для представления не годится. Поняла, Андрюшенька.
И вдруг с тихой тревогой, смахнув робкую слезинку, спросила:
— А как же ты по-ихнему объясняешься-то, Андрюшенька? Тяжело, поди?
— Да нет, мамаша. Ежели надо «да» сказать, говорю «вуй». А ежели наоборот — произношу «нон».
— Вуй, — протянула старушка и улыбнулась. — Чудеса!
Акробат зевнул и посмотрел на пальто.
— Пойду, мамаша. Спасибо за лепешки.
— А то, может, здесь переспишь, Андрюшенька? — попросила мать. — Чего тебе в номера-то свои шлепать. Блохи еще там… Я тебе на диванчике уж постелила…
В номерах ждали товарищи. Уезжавший завтра укротитель устраивал ужин. Акробат вздохнул и с растяжкой сказал:
— Ладно, мамаша. Пересплю.
Он быстро разделся, лег, натянул на голову одеяло и, подогнув на неудобном диванчике ноги, уснул. Старушка потушила лампу, на цыпочках подошла к дивану, нежно поправила подушку и пошла закрывать окно.
— Марья Егоровна, — спросил чей-то голос под окном, — к тебе сынок, говорят, прибыл? У тебя сейчас?
— Вуй, — гордо ответила мать. — Здеся.
1935
Счастливый случай
Милиционер Ежевикин шел разговаривать с Зосиным папашей о женитьбе. Папа жил в Туле. Папа третьего дня приехал из Тулы специально, чтобы увидеть Ежевикина и воочию убедиться, в чьи неизвестные руки он передает свою младшую дочь. Все краткие сведения о папе, полученные от Зоси, были очень несистематизированны и расплывчаты. Выяснено было, что у папы большая черная борода, лишай за ухом, низменная страсть к пирогам с капустой и очень тяжелый характер, когда ему не дадут выспаться после обеда. Ежевикин был нетребовательным человеком, но всего этого было слишком мало для того, чтобы почувствовать внезапное влечение к будущему тестю. Особенно его пугал предстоящий сейчас разговор.
— Ты только понравься ему сразу, — ободряюще инструктировала вчера Ежевикина Зося. — Ну что тебе стоит?
— Я сразу нравиться не умею, — уныло вздыхал Ежевикин. — У меня это не выходит.
— Вот и врешь! — настаивала Зося. — А почему мне сразу понравился? Значит, не хочешь.
— Хорошо, — так же уныло согласился Ежевикин. — Завтра приду и понравлюсь. Только о чем я говорить-то с ним буду? С папой.
— А очень просто. Я, мол, люблю вашу младшую дочь, Зосю. А он тебе скажет: «Ну что же?» И она, мол, меня любит. А он тебе скажет: «Ну что же?» И мы, мол, хотим записаться. А он тебе скажет: «Ну что же?» Вот и все. Неужели трудно?
— Легко… — с горечью в душе согласился Ежевикин и почему-то добавил: — Третьего дня грузовик один, полуторатонка, на подводу налетел — тоже хлопот было… Кругом неприятности…
И сейчас, когда Ежевикин приблизился к Зосиному дому, ему казалось, что тут только и начинается настоящее испытание его закалки и выдержки. Еще ни разу не дрогнула у него рука, бестрепетно подносящая ко рту свисток, когда на перекрестке двух улиц такси напирали на грузовики, подводы застревали между двумя трамваями, лихо мчался на все это скопление машин и колес пожарный обоз, а юркие и нахальные пешеходы просачивались, как разлитые чернила, во все свободные дыры. Еще никто не переспорил его в мимолетной дискуссии на углу, почему нельзя висеть на трамвае и, будучи снятым, не платить штраф. И книжка ударника уютно и уже давно покоилась в боковом кармане Ежевикина, но сейчас он чувствовал только свинцовую тяжесть в ногах и безотчетный страх в душе.
«Хоть бы пирога ему дали нажраться, что ли, — неласково думал он о своем будущем собеседнике. — Хоть бы надрыхаться после обеда дали ему, что ли… Папа! Давить таких пап надо…»
Дверь открыла сама Зося.
— Ждет, — тревожно шепнула она, одновременно подставляя щеку для поцелуя и освобождая Ежевикина от коробки с мармеладом. — Иди.
Она втолкнула Ежевикина в комнату. В углу в сумерках сидел маленький лысый человек с большой черной бородой, в ватном жилете и икал.
— Познакомьтесь, папаша, — радостно защебетала Зося. — Васечка! Познакомьтесь, Васечка, — папаша!
Папаша подал руку, икнул и, посмотрев на Ежевикина снизу, несколько хмуро спросил:
— Милиционером будете?
— Милиционером, — робко ответил Ежевикин.
— Садитесь. Зажги-ка свет, Зося. Дай-ка твоего рассмотреть.
Зося повернула выключатель. Когда в комнате стало светло, папаша повернул заспанное лицо к Ежевикину, маленькие глазки его засверкали обидой, и он неожиданно тонким фальцетом спросил в упор:
— Ты?
— Я, папаша… — взволнованно прошептал Ежевикин. — Ничего не поделаешь. Служба.
— Отдай три рубля! — тихо и угрожающе сказал папа. — Отдай на этом месте!
— Какие три рубля, папаша? — взволнованно вмешалась Зося. — При чем три рубля в семейных отношениях, папаша?
— Он знает, — сурово заметил папаша.
— Я знаю, что знаю, папаша, — твердо сказал Ежевикин, поднимаясь со стула. — Я три рубля не себе беру. А ежели когда свистят, слезать надо. В трамвае прятаться нечего. Я вашу младшую дочь люблю, а дочкой поперек порядка меня корить нечего. И три рубля обратно требовать.
— Снял? — робко спросила Зося.
— Снял, — вздохнул Ежевикин. — Они через улицу бегали, на трамвай висеть бросились, а когда свисток — внутрь впихнулись и за пассажирами нахально укрывались.
— Спасибочко на добром слове! — ехидно зашипел папаша. — Родной отец к младшей дочери приехал, с вокзала, как мокрая собака, по трамваям мечется, а женишок в свисток свистит и три рубля от будущего родственника заимел. Спасибо на добром слове!
— Когда же это было-то? — всхлипнула Зося.
— Вчера было! — с негодованием откликнулся папаша. — С добрым утром на три рубля поздравили. Познакомились с Васечкой. Спасибо тебе, доченька младшая!
— Зося здесь ни при чем, папаша, — обиженно сказал Ежевикин. — Я, может, и через любовь мою и саму Зосю, ежели бы она висмя висела либо через рельсы бегала…
— Ну уж ты не очень разоряйся! — перестала всхлипывать Зося. — Разговорился!
— Такой все может, — убежденно сказал папаша. — Дали им волю! Он тебе и мать родную за ногу стянет…
— А ежели кто ногу потеряет? — вздохнул Ежевикин. — Я же для порядку поставлен. Вот, скажем, идет гражданин. Вот он ногой ступает на рельсу…
— Вы насчет ног не заговаривайте зубы, молодой человек, — сухо сказал папаша. — Ноги наши. Что хотим, то и делаем с ними. А уж ежели насчет ног пошло, — тонко заметил он, — не всякая нога ко мне на порог должна зашагивать. Не всякую ногу желаю иметь у себя в семействе! И вообще до свидания. Можете на барсуке жениться, а не видать вам Зоси как своих ушей!..
Ежевикин тяжелыми шагами вышел из комнаты. Он один одевался в прихожей. Из комнаты доносились сердитое гудение папаши и плач Зоси. Медленно спускался по лестнице. А когда дошел до последнего пролета, услышал, что где-то наверху открылась дверь, и к ногам, на грязные ступеньки лестницы, упало что-то тяжелое. Ежевикин нагнулся и посмотрел. Это была коробка с мармеладом. Ежевикин почувствовал острый холодок в душе.
…Много красных беретов. И под каждым из них старался Ежевикин последние пять дней увидеть Зосино личико и белокурую прядку, падающую на лоб. Но Зоси не было среди тех тысяч красных беретов, которые проходили мимо Ежевикина во время дежурства на стыке двух длинных шумных улиц.
Хмуро и мрачно регулировал уличное движение Ежевикин. Еще ревностнее следил он за тем, чтобы кто-нибудь не проскакивал штопором перед открытым светофором. Еще суровее снимал с подножек серокепочных людей с раздутыми портфелями и вручал им штрафные квитанции. Но в жизни прорезалась какая-то трещина, и стоило мелькнуть красному берету в толпе, трещина саднила, как порез, на который капнули одеколоном.
И когда ранним осенним вечером Ежевикин возвратился домой, чтобы тоскливо помечтать о Зосе, на столе у него лежала городская открытка с незабываемыми строками:
Васечка! Приходи сегодня в девять. Целую. Зося.
Ежевикин умиленно погладил открытку, сразу взял себя в руки и сурово прошептал:
— Не пойду.
Повторил еще раз эту торжественную клятву и сразу стал одеваться.
Через полчаса Зося уже отворяла дверь на четыре торопливых звонка.
— Звали, Зосечка? — радостно шепотом спросил Ежевикин.
— Звала, Васечка, — сконфуженно пробормотала Зося. — Пойдем.
— А папаша там? — тревожно спросил Ежевикин. — Не пойду я к нему, Зося.
— Сам тебя просил… Ну, Васечка, ну, дорогой…
Из комнаты пахнуло йодоформом, скипидаром и еще чем-то больничным. На приземистой пестрой кушетке с голубыми цветочками лежал папаша с забинтованной головой. Из-под белой марли уныло вылезал черным клином кусок бороды, узенький левый глаз и кусок носа.
— Где это вас, папаша? — осторожно спросил Ежевикин.
— Где надо, там и отработали, — вздохнул папаша и добавил: — Иди, Зося, чайку схлопочи. Видишь, гость пришел.
Когда Зося вышла, наступила длительная и неловкая пауза.
— Вы уж того… не сердитесь, папаша, — пробормотал Ежевикин, — насчет прошлого раза… Может, действительно кого впопыхах штрафанешь.
— То есть как это впопыхах? — поднял папаша забинтованную голову. — Как же их не штрафовать, ежели он, как драная кошка, на всем ходу в вагон сигает?..
— Которые торопятся уж очень, — осторожно вставил Ежевикин.
— А куда торопятся? — сердито заметил папаша. — Ногу-голову повредить торопятся? Так я вас понял, молодой человек?
— Вы, папаша, не сердитесь. Я насчет того, ежели который, может, иногородний, порядка еще не знает…
— А ты его на три рубля, сукиного кота, — убежденно заметил папаша, — пусть через трешницу знает. Колесу все равно, на кого наехать — на иногороднего либо на местного…
— Который, может, и задумавшись через улицу ползет…
— А ты на рельсах не думай. И вообще нечего их сторону держать, молодой человек, — сухо сказал папаша. — Ежели их распустить, так по улице пройти нельзя будет.
— Невозможно, — согласился Ежевикин.
— Я про то и говорю, — сказал папаша и застонал: — Ой, ломит проклятую!.. Давно служите?
— Четвертый год, папаша.
— Так… Штрафов-то, поди, много взяли?
— Много, папаша, — испуганно согласился Ежевикин.
— Мало! — неожиданно стукнул папаша кулаком по кушетке. — Я б с их, чертей кривоногих, не так бы еще брал! Ну, идите, идите, молодой человек, там вас Зося ждет. Ой, голову ломит!..
Ежевикин тихо вышел в коридор.
— Ну? — с сияющим лицом спросила его Зося.
— Ничего не понимаю, — тихо сказал Ежевикин. — В голову ему, что ли, ударило, папаше-то?
— Ударило, ударило, Васечка! — радостно зашептала Зося. — Повезло нам с тобой, Васечка! По улице перебегал папаша… Милиционер свистит, а папаша вперед лезет… И тут прямо счастливый случай — грузовик. Краям папашу по голове хватил… Как пришел домой, перевязался, лег и сейчас же орать начал… «Зови, говорит, твоего…» — «Кого, папаша?» — «А который был тогда… Милиционера твоего, Васечку… За что, говорит, человека обхамил? За то, что руки-головы наши сберегает? Такой, говорит, как твой, уж не дал бы грузовику удрать. А я, говорит, даже номер грузовика запомнил: шестьсот двадцать три».
— Запишем, — деловито сказал Ежевикин, вынимая книжку, — потом ответит.
— Запиши, — ласково шепнула Зося, — наш с тобой счастливый номер! Шестьсот двадцать три… Век его не забуду!..
Ежевикин надел шинель и сконфуженно заметил:
— Тут в меня в прошлый раз мармеладом сверху запустили.
— Не может быть! — покраснев, отвернулась Зося.
— Ну, значит, показалось. Так я новый принес. Кушайте на здоровье. И папашу угостите. Больным сладкое полезно.
И веселый шепот в прихожей закрепил треснувшее по швам счастье.
1935
Михаил Лоскутов
Рассказ о говорящей собаке

Вообще говоря, говорящих собак на свете нет. Так же как говорящих лошадей, леопардов, кур, носорогов.
Собственно, науке известен только один такой случай — это знаменитая говорящая собака Мабуби Олстон. Она принадлежала известному доктору Каррабелиусу, но где она находится в настоящее время, никому не известно. История эта — истинная правда. Произошла она не так давно в маленьком, очень далеком и захолустном городке Нижнем Таратайске, на реке Бородайке.
Излишне говорить, что город Нижний Таратайск никогда до этого замечательного события не только не видал говорящих собак, но даже обыкновенными собаками, как город маленький, не изобиловал. Было в нем ровно шесть собак, причем одна из них неполная. Она имела только три ноги и один глаз; все остальное она растеряла за свою долгую и бурную жизнь. Но это не мешало таратайским собакам быть особенными.
Естественно, что все жители города знали всех шестерых собак наперечет. Они даже составляли известную гордость Таратайска. Эту гордость подогревали особенно владельцы собак, люди тщеславные и самолюбивые. Поэтому и все жители считали, что таратайские собаки самые умные на свете. Все говорили: «Наши собаки». Приезжих спрашивали: «Вы еще не видели наших собак?» Возвращаясь поздно домой, таратайцы говорили: «Это лают наши собаки», и слушали их, точно пение соловьев.
Каждый из владельцев, в свою очередь, конечно, считал, что его собака самая умная из шести собак, и на этой почве происходили между ними всякие дрязги.
Каждый находил в своей собаке особые достоинства, и каждая была по-своему хороша и мила для города. Черная собака счетовода Попкова была больше всех: она могла при желании проглотить поросенка или даже самого счетовода. Пес бухгалтера Ерша был необыкновенен по раскраске: весь он состоял из пятен и каких-то грязных полос и походил не то на зебру, не то на шахматную доску. На глазах у всех бухгалтер мыл его, доказывая, что эти пятна не отмываются. Белый пудель Екатерины Федоровны Бломберберг был хотя не чистый пудель, а помесь с овчаркой, но все же был почти породистый и умел делать реверанс.
Но больше всех гордился своим псом Араратом провизор аптеки, огромный, как башня, мужчина, с усами, закрученными кверху. Его всегда видели с собакой и с бамбуковой палкой в руках.
— Я побью того, кто скажет, что моя собака не лучше всех, — говорил провизор. — Смотрите, она даже похожа на меня.
И действительно, у них было странное сходство: собака была так же длинна, у нее были так же закручены вверх усы; ей недоставало только бамбуковой палки.
Лишь один владелец трехногой собаки не обладал особым самолюбием в собачьем вопросе. Это был старый пенсионер Поджижиков, человек ветхий, но так же равнодушно смотревший на мир, как его древнее животное по прозвищу Бейбулат. Единственно, чем они оба занимались, это сидели целый день на крылечке и дремали.
И вот однажды…
Доктор кинологии и восточной школы дрессировки животных, заклинатель змей и зоопсихолог Отто Каррабелиус приехал в Нижний Таратайск прямо из-за границы, возвращаясь с Малайского архипелага. Никем не замеченный, он сошел с поезда и с двумя чемоданами, ассистенткой, небольшой собакой, двумя обезьянами, попугаем и морской свиньей по прозвищу Элеонора отправился в местную гостиницу «Эльдорадо». А через день по городу были расклеены удивительные афиши:
ДОКТОР КАРРАБЕЛИУС
продемонстрирует дрессировку животных.
Прыжок в обруч.
Поднимание животными гирь.
Танец танго на зонтике.
А затем впервые в Европе и Америке покажет номера восточной школы психодрессировки животных.
ГОВОРЯЩАЯ СОБАКА
Результат долгой научной подготовки и работы с животными.
Чудес нет.
Буфет по удешевленным ценам.
Когда появилась афиша о необыкновенной собаке, весь город, естественно, начал говорить об этом событии. Мнения жителей были разнообразны.
— Это надувательство, — говорили одни. — Собака не должна говорить. Собака обязана лаять и дом сторожить. Знаем эти индийские штуки! На что наши таратайскне собаки — и то не говорят ничего.
— Нет, все же заграничное воспитание… — робко отвечали другие. — Конечно, дай нашим воспитание, так они бы и не так бы заговорили…
— По науке, собака не имеет права разговаривать. У нее, с медицинской точки зрения, не так все устроено, — говорил провизор аптеки, размахивая бамбуковой палкой.
— Почему же! Вы забываете, как наука и техника вперед шагнули. Вон телевидение, например… Почему же собаке не говорить? Пора. Давно бы пора обратить внимание. Это же красота! Сидит, к примеру, собака, дом сторожит. Чтобы ей лаять на вора, она ему вдруг вежливо так, басом говорит: «Ты чего тут шляешься? А то вот хозяина как кликну, так будешь хорош…»
Как передают теперь свидетели, особенное напряжение в городе началось с той поры, когда на улицах стал появляться доктор Отто Каррабелиус с собачкой. Поползли всякие слухи. Передавали, будто где-то его собака чихнула и извинилась. У кого-то она спрашивала адрес какой-то улицы. За Отто Каррабелиусом ходила толпа, и во главе все владельцы собак, кроме двух. Хозяин черного пуделя Клондайка, местный священник Святоперекрещенский, сидел дома и говорил собравшимся у него старушкам, что все это ведет к концу мира.
— Не ходите смотреть на эту нечисть, — говорил священник. — Вот до чего дошло при Советской власти: собака говорит. Этак, того и гляди, куры танцевать станут, коровы частушки запоют! С нами крестная сила!
Один только старичок пенсионер Поджижиков сидел равнодушно на солнышке и грелся с собакой Бейбулатом. Когда ему говорили про говорящую собаку, он только зевал.
— Ну и что же, охо-хо, — говорил он, — пусть говорит на здоровье.
Ничто его не прошибало!
Мальчик Витя Храбрецов, пионер, ученик и следопыт первой категории, твердо задался целью выяснить тайну собаки. С утра до ночи он ходил по улице за доктором Каррабелиусом и даже пропустил все занятия. Но собака почему-то молчала. Вопрос особенно волновал Витю: если собаку можно выучить говорить по-русски, по-немецки и по-французски, то не может ли она вообще ходить в школу и готовить уроки?
В день прёдставления зал клуба местной пожарной дружины «Красное пламя» был набит битком. В первом ряду сидели четыре владельца собак. Тут был и счетовод, и бухгалтер, и Бломберберг, и провизор с палкой.
Вышли доктор Каррабелиус во фраке и ассистентка в костюме наездницы. Быстро проделали свои номера обезьяны, попугаи и морская свинья Элеонора. Их публика пропустила мимо глаз. Доктор понял, что публику волнует собака. Видя напор толпы, он забеспокоился. Где-то треснул барьер.
Наконец вышла собака. Сначала она проделала прыжки и танго на зонтике. Потом доктор вышел вперед и сказал:
— Товарищи, милостивый государь и милостивый государин, теперь мы продемонстрируем главный номер, как биль говори собака. Перед вами маленький млекопитающий животный Канис Фамильярис — обыкновенный домашний собака по имени Мабуби Олстон.
— Давай! — крикнули в публике.
Ряды придвинулись к сцене. Доктор немного отступил и вытер затылок.
— Ничшего необыкновенного и сверхъестественного в этом мире нет. Все ви знайт, что такой, например, обычный животный, как попугай, может говорить по-человечески голос. Собака же — самый умный животный, древний друг человека. Мои долгие опыты на основе изучения восточный наук…
Публика придвинулась еще ближе. Все вскочили с мест и полезли на сцену.
— Давай! — закричали опять в публике.
— Товарищи! — сказал доктор. — Я боюсь, что при таких условиях мой собак не сможет сказать ни один слов.
Здесь публика заволновалась еще больше. Все смотрели на собаку, но ничего не было слышно.
— Он сейчас удерет. Держите его! — кричали владельцы таратайских собак.
— Она не будет говорить.
— Тише!
— Дайте собаке поговорить, — спокойно пробасил кто-то.
— А она на каком языке будет?
— Товарищи! — сказал доктор. — Я очень плохо говориль по-русски. Но мой собак изучиль его лучше меня… Ну, я попрошу кого-нибудь на сцена.
И здесь на сцену выскочил следопыт Витя Храбрецов.
— Я! Ну, как тебя звать? — спросил он у собаки.
Собака взглянула на него и открыла рот.
— Олстон Мабуби, — вдруг сказала она громко. — А тебя как?
Витя растерялся. Публика ахнула и присела. Собака открывала рот и выдавливала из себя настоящие слова. Тут в зале от напора толпы треснула скамейка, и опять поднялся шум.
Все слова разобрать было нельзя. Доктор поспешно откланялся и удалился со сцены, уводя собаку.
Возбужденная публика долго не уходила. Она спорила. «Говорила!» — заявляли одни. «Ничего не говорила. Это обман зрения!» — кричали хозяева собак.
На другой день в городе появилась афиша о втором представлении с припиской: «Ввиду нервного состояния собаки просьба соблюдать абсолютный порядок. В противном случае сеанс говорения может не состояться».
Город разбился на два лагеря. Теперь только и было споров: говорила или не говорила. Даже пять местных собак бегали по городу, взволнованные общим спором. Первая половина города теперь смотрела на них насмешливо: «Ну, вы, тоже собаки, только и толку, что реверанс…» Псы стыдливо поджимали хвосты и убегали в подворотни.
Но зато другие, наоборот, стали смотреть на собак с еще большим уважением и даже с некоторой опаской: кто их знает, этих странных животных, о чем они думают? Мальчишки, горячие сторонники второй партии, ходили толпой по улицам и пели сочиненную кем-то песню:
Что за шум и что за драки?
Кто затеял кавардак?
Это враки,
Это враки,
Всем известно, что собаки,
Таратайские собаки,
Лучше всех других собак!
Только древняя трехногая Бейбулатка и старичок Поджижиков оставались спокойны: по-прежнему они сидели на крылечке, равнодушные к общему волнению.
— Ну и что же? Все бывает, — говорил пенсионер.
Но на второе представление его все же притащили и посадили в первом ряду. К моменту выхода собаки напряжение опять достигло предела, все боялись, чтобы сеанс не отменили. Публика напрягалась, зажав рты. Все делали друг другу строгие знаки. Затаенное дыхание иногда лишь прерывалось вздохами. Только старичок Поджижиков сидел в первом ряду и спокойно дремал, задрав голову на спинку стула.
Опять прошла морская свинья. Подошло дело к собаке. Мальчик Витя Храбрецов на цыпочках вышел на сцену.
— Прошу для удостоверения научности опит выйти на сцена представителей медицинского мира, — сказал доктор. — Ну, собачка, скажи что-нибудь мальчику. Смотри, какой мальчик.
— Ничего. Мальчик как мальчик. Так себе, — вдруг сказала собака и зевнула.
Тишина разорвалась. Поднялись крики.
— Бис! — кричали из задних рядов.
— Мальчик как мальчик. Ну? — громко повторила собака.
Сомнений быть не могло. Гром аплодисментов потряс здание клуба. Старичок Поджижиков проснулся.
— Ну и что ж тут такого? — вдруг сказал он в наступившей тишине. — Эка невидаль. Ну-ка, Бейбулат!
И тут, как рассказывают свидетели, началось нечто совершенно необыкновенное. Из-под скамейки вдруг вылезла полуслепая Бейбулатка с белой свалявшейся шерстью и на трех ногах проковыляла к своему хозяину.
Хмуро и гордо она посмотрела одним своим глазом на собравшихся.
— Поговори с собачкой! — сказал старичок.
Собака посмотрела на сцену.
— А ну ее к свиньям! — вдруг сказала она. — Чего мне с ней разговаривать?
Тут уже остолбенел доктор кинологии Каррабелиус. Вытаращив глаза, он смотрел на белого лохматого пса-дворняжку.
— Мы их забьем, этих сеттер-шнельклепсов? Правда? — спросил старичок Бейбулата.
— Ясное дело, забьем, Сидор Поликарпович. Это нам раз плюнуть! — отвечал пес. — Мы еще не так сумеем разговаривать!
Но собака доктора Каррабелнуса не растерялась.
— Ну, кто еще кого забьет, мы посмотрим! — закричала она.
Публика опять вскочила. Одни мчались к выходу, другие лезли на сцену, третьи орали какие-то слова. Тем временем две собаки стояли друг против друга и выкрикивали друг другу разные глупости. Это продолжалось до тех пор, пока старичок не увел свою собачку, а доктор — свою. Оставшаяся публика не могла успокоиться. Владельцы собак в первом ряду запели песню таратайцев, и ее подхватили задние. Усатый провизор вскочил на сцену и принялся дирижировать своей бамбуковой палкой. Все пели хором:
Что за шум и что за драки?
Кто затеял кавардак?
Это враки,
Это враки,
Всем известно, что собаки,
Таратайские собаки,
Лучше всех других собак!
Потрясенный город не мог спокойно жить, спать, есть и работать. Собачья гордость Нижнего Таратайска переливала через край. Даже жители Верхнего Таратайска и Среднего Таратайска валом валили смотреть на собаку Поджижикова. Но старичок и пес по-прежнему мирно дремали на солнышке.
Витя Храбрецов целый день носился по городу. Вечером, усталый, он возвращался домой мимо церкви Воздвиженья на Песках.
Однажды он услышал странную возню за церковной оградой. Прислонившись к ограде, он прислушался. Оттуда доносился голос священника.
— Ну, Клондайк, — быстро шептал он, — ну, скажи: «Па-па». Ну, стой смирно, господи благослови! Ну, скажи: «Хо-ро-ша-я по-го-да».
Все владельцы срочно обучали своих собак языку. День и ночь они муштровали их и так и эдак, допытывались у старика Поджижикова насчет его секрета.
И вот — чего не сделает человеческая гордость! Нам могут не поверить, но беспристрастная история свидетельствует об этом замечательном моменте в жизни города, когда собаки действительно начали понемногу разговаривать о том о сем.
Пять собак Нижнего Таратайска стали говорить! Это было страшно. Хозяева выводили своих собак на крыльцо, ходили взад и вперед по улицам и перед изумленной толпой беседовали с ними о всяких вопросах.
— Хорошая погода, — говорили они собакам.
— Ничего, действительно, — отвечали те, — только не мешало бы небольшому дождичку.
Мир воцарился между хозяевами пяти собак. При встречах они хитро подмигивали друг другу. Таратайские псы тоже торжествовали. Они здоровались друг с другом на улицах, кричали из-за заборов и пели песни. Рассказывают даже, что черная собака счетовода Попкова как угорелая носилась по улицам и кричала:
— А ну, где тут доктор Каррабелиус? Разве он еще не уехал в Индию?
За ней гонялись пожарные. Только попу не удалось обучить свою собаку ничему. Он мучил беднягу днем и ночью, но она оставалась молчалива, как камень. С горя, говорят, поп принялся обучать своего пса музыке и математике. А у старухи Тараканихи будто бы кошка начала вдруг разговаривать по-французски. События начали принимать невероятный оборот. Тогда доктору Каррабелиусу посоветовали срочно покинуть город.
— Это вы всё наделали, — сказали ему. — Когда вы уедете, наши собаки успокоятся. У нас и без говорящих собак дел очень много.
Некоторые скептики, конечно, говорили, что все здесь — обман. Они заявляли, что тут обычный цирковой трюк под названием «чревовещание»: сам артист говорит сперва своим обычным голосом, а потом, когда собака открывает рот, он отвечает за нее другим голосом. На этом понемногу все начали успокаиваться.
Но не такой был мальчик Витя Храбрецов: он решил выяснить тайну до конца. Когда доктор уезжал, он шел за ним и его собакой до самого вокзала.
— Олстон! — кричал он ей. — Скажи два слова.
Но собака молча, понурив голову, шла за доктором.
— Олстон Мабуби! Это я, Витя Храбрецов. Мы с тобой разговаривали в театре.
Собака молчала. Доктор не оборачивался.
Витя бросил собаке кусок хлеба, чтобы посмотреть, нет ли у нее во рту говорящей машинки. Она не взглянула на хлеб. Тогда он кинул в нее камень, чтобы она выругалась. Она молчала.
Наконец, когда доктор Каррабелиус влезал в вагон, она посмотрела на Витю Храбрецова, покачала головой и сказала:
— Ты очень плохой ученик, пионер и мальчик. Во-первых, нехорошо швыряться в собак камнями. Во-вторых, ты пропускаешь занятия, как лентяй. И в-третьих, говорящих собак никогда не было, нет и не может быть.
И пожалуй, она была права. Как вы думаете об этом?
1934
Лев Кассиль
Пекины бутсы

Пека Дементьев был очень знаменит. Его и сейчас узнают на улице. Он долгое время слыл одним из самых ловких, самых смелых и искусных футболистов Советского Союза. Где бы ни играли — в Москве, в Ленинграде, в Киеве или в Турции, — как только, бывало, выходит на зеленое поле сборная команда СССР, все сейчас же кричат:
— Вон он!.. Вон Дементьев!.. Курносый такой, с чубчиком на лбу… Вон, самый маленький! Ах, молодец Пека!
Узнать его было очень легко: самый маленький игрок сборной СССР. До плеча всем. Его и в команде никто не звал по фамилии — Дементьев или по имени — Петр. Пека — и всё. А в Турции его прозвали «товарищ Тонтон». Тонтон — это значит по-турецки «маленький». И вот помню, как только выкатится с мячом на поле Пека, сейчас же зрители начинают кричать:
— А, товарищ Тонтон! Браво, товарищ Тонтон! Чок гюзель! Очень хорошо, товарищ Тонтон!
Так о Пеке и в турецких газетах писали: «Товарищ Тонтон забил отличный гол».
А если бы поставить товарища Тонтона рядом с турецким великаном Неждетом, которому он вбил в ворота мяч, Пека ему бы до пояса только достал…
На поле во время игры Пека был самым резвым и быстрым. Бегает, бывало, прыгает, обводит, удирает, догоняет — живчик! Мяч вертится в его ногах, бежит за ним как собачка, юлит, кружится. Никак не отнимешь мяча у Пеки. Никому не угнаться за Пекой. Недаром он слыл любимцем команды и зрителей.
— Давай, давай, Пека! Рви, Пека!
— Браво, товарищ Тонтон!
А дома, в вагоне, на корабле, в гостинице Пека казался самым тихоньким. Сидит молчит. Или спит. Мог двенадцать часов проспать, а потом двенадцать часов промолчать. Даже снов своих никому не рассказывал, как мы ни просили. Очень серьезным человеком считался наш Пека.
С бутсами ему только раз не повезло. Бутсы — это особые ботинки для футбола. Они сшиты из толстой кожи. Подошва у них крепкая, вся в пенечках-шипах, с подковкой. Это чтобы не скользить по траве, чтобы крепче на ногах держаться. Без бутс и играть нельзя.
Когда Пека поехал с нами в Турцию, в его чемодане аккуратно было сложено все футбольное хозяйство: белые трусики, толстые полосатые чулки, щитки для ног (чтобы не так больно было, если стукнут), потом красная почетная майка сборной команды СССР с золотым нашитым гербом Советского Союза и, наконец, хорошие бутсы, сделанные по особому заказу специально для Пеки. Бутсы были боевые, испытанные. Ими Пека забил уже пятьдесят два мяча-гола. Они были ни велики, ни малы — в самый раз. Нога в них была и за границей как у себя дома.
Но футбольные поля Турции оказались жесткими, как камень, без травы. Пеке прежде всего пришлось срезать шипы на подошвах. Здесь с шипами играть было невозможно. А потом на первой же игре Пека истоптал, разбил, размочалил свои бутсы на каменистой почве. Да тут еще один турецкий футболист так ударил Пеку по ноге, что бутса чуть не разлетелась пополам. Пека привязал подошву веревочкой и кое-как доиграл матч. Он даже ухитрился все-таки вбить туркам один гол. Турецкий вратарь кинулся, прыгнул, но поймал только оторвавшуюся Пекину подошву. А мяч был уже в сетке.
После матча Пека пошел хромая покупать новые бутсы. Мы хотели проводить его, но он строго сказал, что обойдется без нас и сам купит.
Он ходил по магазинам очень долго, но нигде не мог найти бутс по своей маленькой ноге. Все были ему велики.
Через два часа он наконец вернулся в нашу гостиницу. Он был очень серьезный, наш маленький Пека. В руках у него была большая коробка.
Футболисты обступили его.
— Ну-ка, Пека, покажи обновку!
Пека с важным видом распаковал коробку, и все так и присели… В коробке лежали невиданные бутсы, красные с желтым, но такие, что в каждой из них уместились бы сразу обе ноги Пеки, и левая и правая.
— Ты что это, на рост купил, что ли? — спросили мы у Пеки.
— Они в магазине меньше были, — заявил нам серьезный Пека. — Правда… и смеяться тут не с чего. Что я, не вырасту, что ли? А зато бутсы заграничные.
— Ну, будь здоров, расти большой в заграничных бутсах! — сказали футболисты и так захохотали, что у дверей отеля стал собираться народ. Скоро хохотали все: смеялся мальчик в лифте, хихикала коридорная горничная, улыбались официанты в ресторане, крякал толстый повар отеля, визжали поварята, хмыкал швейцар, заливались бои — рассыльные, усмехался сам хозяин отеля. Только один человек не смеялся. Это был сам Пека. Он аккуратно завернул новые бутсы в бумагу и лег спать, хотя на дворе был еще день.
Наутро Пека явился в ресторан завтракать в новых цветистых бутсах. «Разносить хочу, — спокойно заявил нам Пека, — а то левый жмет маленько».
— Ого, растешь ты у нас, Пека, не по дням, а по часам! — сказали ему. — Смотри-ка, за одну ночь ботинки малы стали. Ай да Пека! Этак, пожалуй, когда из Турции уезжать будем, так бутсы совсем тесны станут…
Пека, не обращая внимания на шутки, уплетал молча вторую порцию завтрака.
Как мы ни смеялись над Пекиными бутсами, он украдкой напихивал в них бумагу, чтобы нога не болталась, и выходил на футбольное поле. Он даже гол в них забил.
Бутсы здорово натерли ему ногу, но Пека из гордости не хромал и очень хвалил свою покупку. На насмешки он не обращал никакого внимания.
Когда наша команда сыграла последнюю игру в турецком городе Измире, мы стали укладываться в дорогу. Вечером мы уезжали обратно в Стамбул, а оттуда — на корабле домой.
И тут оказалось, что бутсы не лезут в чемодан. Чемодан был набит изюмом, рахат-лукумом и другими турецкими подарками. И Пеке пришлось бы нести при всех знаменитые бутсы отдельно в руках, но они ему самому так надоели, что Пека решил отделаться от них. Он незаметно засунул их за шкаф в своей комнате, сдал в багаж чемодан с изюмом и поехал на вокзал.
На вокзале мы сели в вагоны. Вот пробил звонок, паровоз загудел и шаркнул паром. Поезд тронулся. Как вдруг на перрон выбежал запыхавшийся мальчик из нашего отеля.
— Мосье Дементьев, господин Дементьев!.. Товарищ Тонтон! — кричал он, размахивая чем-то пестрым. — Вы забыли в номере свои ботинки… Пожалуйста.
И знаменитые Пекины бутсы влетели в окно вагона, где молча и сердито их взял серьезный наш Пека.
Когда ночью в поезде все заснули, Пека тихонько встал и выбросил бутсы за окно. Поезд шел полным ходом, за окном неслась турецкая ночь. Теперь уже Пека твердо знал, что он отделался от своих бутс. Но едва мы приехали в город Анкару, как на вокзале нас спросили:
— Скажите, ни у кого из вас не выпадали из окна вагона футбольные ботинки? Мы получили телеграмму, что из скорого поезда на сорок третьем перегоне вылетели бутсы. Вы не беспокойтесь. Их завтра доставят сюда поездом.
Так бутсы второй раз догнали Пеку. Больше он уже не пытался отделаться от них.
В Стамбуле мы сели на пароход «Чичерин». Пека спрятал свои злополучные бутсы под корабельную койку, и все о них забыли.
К ночи в Черном море начался шторм. Корабль стало качать. Сперва качало с носа на корму, с кормы на нос, с носа на корму. Потом стало шатать с боку на бок, с боку на бок, с боку на бок. В столовой суп выливался из тарелок, из буфета выпрыгивали стаканы. Занавеска на дверях каюты поднималась к потолку, как будто ее сквозняком притянуло. Все качалось, все шаталось, всех тошнило.
Пека заболел морской болезнью. Ему было очень плохо. Он лежал и молчал. Только иногда вставал и спокойно говорил:
— Минуты через две меня опять стошнит.
Он выходил на прыгающую палубу, держался за перила и снова возвращался, снова ложился на койку. Все его очень жалели. Но всех тоже тошнило.
Три дня ревел и трепал нас шторм. Страшные валы величиной с трехэтажный дом швыряли наш пароход, били его, вскидывали, шлепали. Чемоданы с изюмом кувыркались, как клоуны, двери хлопали; все съехало со своего места, все скрипело и гремело. Четыре года не было такого шторма на Черном море.
Маленький Пека ездил на своей койке взад и вперед. Он не доставал ногами до прутьев койки, и его то стукало об одну стену головой, закинув вверх ногами, то, наклонив обратно, било пятками в другую. Пека терпеливо сносил все. Над ним никто уже не смеялся.
Но вдруг все мы увидали замечательную картину: из дверей Пекиной каюты важно вышли большие футбольные бутсы. Ботинки шествовали самостоятельно. Сначала вышел правый, потом левый. Левый споткнулся о порог, но легко перескочил и толкнул правый. По коридору парохода «Чичерин», покинув хозяина, шагали Пекины ботинки.
Тут из каюты выскочил сам Пека. Теперь уж не бутсы догоняли Пеку, а Пека пустился за удиравшими ботинками. От сильной качки бутсы выкатились из-под койки. Сперва их швыряло по каюте, а потом выбросило в коридор.
— Караул, у Пеки бутсы сбежали! — закричали футболисты и повалились на пол — не то от хохота, не то от качки.
Пека мрачно догнал свои бутсы и водворил их в каюте на место.
Скоро на пароходе все спали.
В двенадцать часов двадцать минут ночи раздался страшный удар. Весь корабль задрожал. Все разом вскочили. Всех перестало тошнить.
— Погибаем! — закричал кто-то. — На мель сели… Разобьет теперь нас…
— Одеться всем теплее, всем наверх! — скомандовал капитан. — Может быть, на шлюпках придется, — добавил он тихо.
В полминуты одевшись, подняв воротники пальто, выбежали мы наверх. Ночь и море бушевали вокруг. Вода, вздуваясь черной горой, мчалась на нас. Севший на мель корабль дрожал от тяжелых ударов. Нас било о дно. Нас могло разбить, опрокинуть. Куда тут на шлюпках!.. Сейчас же захлестнет. Молча смотрели мы на черную эту погибель. И вдруг все заулыбались, все повеселели. На палубу вышел Пека. Он второпях надел вместо ботинок свои большущие бутсы.
— О, — засмеялись спортсмены, — в таких вездеступах и по морю пешком пройти можно! Смотри только не зачерпни.
— Пека, одолжи левый, тебе и правого хватит, уместишься.
Пека серьезно и деловито спросил:
— Ну как, скоро тонуть?
— Куда ты торопишься? Рыбы подождут.
— Нет, я переобуться хотел, — сказал Пека.
Пеку обступили. Над Пекой шутили. А он сопел как ни в чем не бывало. Это всех смешило и успокаивало. Не хотелось думать об опасности. Команда держалась молодцом.
— Ну, Пека, в твоих водолазных бутсах в самый раз матч играть со сборной дельфиньей командой. Вместо мяча кита надуем. Тебе, Пека, орден морской звезды дадут.
— Здесь киты и не водятся, — ответил Пека.
Через два часа капитан закончил осмотр судна. Мы сидели на песке. Подводных камней не было. До утра мы могли продержаться, а утром из Одессы должен был прийти вызванный по радио спасательный пароход «Торос».
— Ну, я пойду переобуюсь, — сказал Пека, ушел в каюту, снял бутсы, разделся, подумал, лег и через минуту заснул.
Мы прожили три дня на наклонившемся, застрявшем в море пароходе. Иностранные суда предлагали помощь, но они требовали очень дорогой уплаты за спасение, а мы хотели сберечь народные деньги и решили отказаться от чужой помощи.
Последнее топливо кончалось на пароходе. Подходили к концу запасы еды. Невесело было сидеть впроголодь на остывшем корабле среди неприветливого моря. Но и тут Пекины злосчастные бутсы помогли. Шутки на этот счет не прекращались.
— Ничего, — смеялись спортсмены, — как запасы все съедим, за бутсы примемся! Одних Пекиных на два месяца хватит.
Когда кто-нибудь, не выдержав ожидания, начинал ныть, что мы зря отказались от иностранной помощи, ему тотчас кричали:
— Брось ты, сядь в галошу и бутсой Пекиной прикройся, чтоб нам тебя не видно было…
Кто-то даже песенку сочинил, не очень складную, но привязчивую. Пели ее на два голоса. Первый запевал:
Вам не жмут ли, Пека, бутсы?
Не пора ль переобуться?
А второй отвечал за Пеку:
До Одессы доплыву,
Не такие оторву…
— И как у вас у самих мозолей на языке нет? — ворчал Пека.
Через три дня нас на шлюпках перевезли на прибывший советский спасательный корабль «Торос».
Тут Пека снова попытался забыть свои бутсы на «Чичерине», но матросы привезли их на последней шлюпке вместе с багажом.
— Это чьи такие будут? — спросил веселый матрос, стоя на взлетающей шлюпке и размахивая бутсами.
Пека делал вид, что не замечает.
— Это Пекины, Пекины! — закричала вся команда. — Не отрекайся, Пека!
И Пеке торжественно вручили в собственные руки его бутсы…
Ночью Пека пробрался в багаж, схватил ненавистные бутсы и, оглядываясь, вылез на палубу.
— Ну, — сказал Пека, — посмотрим, как вы теперь вернетесь, дряни полосатые!
И Пека выбросил бутсы в море. Волны слабо плеснули. Море съело бутсы, даже не разжевав.
Утром, когда мы подъезжали к Одессе, в багажном отделении начался скандал. Наш самый высокий футболист, по прозвищу Михей, никак не мог найти своих бутс.
— Они вот тут вечером лежали! — кричал он. — Я их сам вот сюда переложил. Куда же они подевались?
Все стояли вокруг. Все молчали. Пека продрался вперед и ахнул: его знаменитые бутсы, красные с желтым, как ни в чем не бывало стояли на чемодане. Пека сообразил.
— Слушай, Михей, — сказал он. — На, бери мои. Носи их! Как раз по твоей ноге. И заграничные все-таки.
— А сам ты что же? — спросил Михей.
— Малы стали, вырос, — солидно ответил Пека.
1936
Илья Ильф и Евгений Петров
Собачий холод

Катки закрыты. Детей не пускают гулять, и они томятся дома. Отменены рысистые испытания. Наступил так называемый собачий холод.
В Москве некоторые термометры показывают тридцать четыре градуса, некоторые почему-то только тридцать один, а есть и такие чудаковатые градусники, которые показывают даже тридцать семь. И происходит это не потому, что одни из них исчисляют температуру по Цельсию, а другие устроены по системе Реомюра, и не потому также, что на Остоженке холоднее, чем на Арбате, а на Разгуляе мороз более жесток, чем на улице Горького. Нет, причины другие. Сами знаете, качество продукции этих тонких и нежных приборов не всегда у нас на неслыханной высоте. В общем, пока соответствующая хозяйственная организация, пораженная тем, что благодаря морозу население неожиданно заметило ее недочеты, не начнет выправляться, возьмем среднюю цифру — тридцать три градуса ниже нуля. Это уж безусловно верно и является точным арифметическим выражением понятия о собачьем холоде.
Закутанные по самые глаза москвичи кричат друг другу сквозь свои воротники и шарфы:
— Просто удивительно, до чего холодно!
— Что ж тут удивительного? Бюро погоды сообщает, что похолодание объясняется вторжением холодных масс воздуха с Баренцева моря.
— Вот спасибо. Как это они все тонко подмечают! А я, дурак, думал, что похолодание вызвано вторжением широких горячих масс аравийского воздуха.
— Вот вы смеетесь, а завтра будет еще холоднее.
— Не может этого быть.
— Уверяю вас, что будет. Из самых достоверных источников. Только никому не говорите. Понимаете? На нас идет циклон, а в хвосте у него антициклон. А в хвосте у этого антициклона опять циклон, который и захватит нас своим хвостом. Понимаете? Сейчас еще ничего, сейчас мы в ядре антициклона, а вот попадем в хвост циклона, тогда заплачете. Будет невероятный мороз. Только вы никому ни слова.
— Позвольте, что же все-таки холоднее — циклон пли антициклон?
— Конечно, антициклон.
— Но вы сейчас сказали, что в хвосте циклона какой-то небывалый мороз.
— В хвосте действительно очень холодно.
— А антициклон?
— Что антициклон?
— Вы сами сказали, что антициклон холоднее.
— И продолжаю говорить, что холоднее. Чего вы не понимаете? В ядре антициклона холоднее, чем в хвосте циклона. Кажется, ясно.
— А сейчас мы где?
— В хвосте антициклона. Разве вы сами не видите?
— Отчего же так холодно?
— А вы думали, что к хвосту антициклона Ялта привязана? Так, по-вашему?
Вообще замечено, что во время сильных морозов люди начинают беспричинно врать. Врут даже кристально честные и правдивые люди, которым в нормальных атмосферных условиях и в голову не придет сказать неправду. И чем крепче мороз, тем крепче врут. Так что при нынешних холодах встретить вконец изовравшегося человека совсем не трудно.
Такой человек приходит в гости, долго раскутывается; кроме своего кашне, снимает белую дамскую шаль, стаскивает с себя большие дворницкие валенки, надевает ботинки, принесенные в газетной бумаге, и, войдя в комнату, с наслаждением заявляет:
— Пятьдесят два. По Реомюру.
Хозяину, конечно, хочется сказать: «Что ж ты в такой мороз шляешься по гостям? Сидел бы себе дома», но вместо этого он неожиданно для самого себя говорит:
— Что вы, Павел Федорович, гораздо больше. Днем было пятьдесят четыре, а сейчас безусловно холоднее.
Здесь раздается звонок, и с улицы вваливается новая фигура. Фигура еще из коридора радостно кричит:
— Шестьдесят, шестьдесят! Ну нечем дышать, совершенно нечем.
И все трое отлично знают, что не шестьдесят, и не пятьдесят четыре, и не пятьдесят два, и даже не тридцать пять, а тридцать три, и не по Реомюру, а по Цельсию, но удержаться от преувеличения невозможно. Простим им эту маленькую слабость. Пусть врут на здоровье. Может быть, им от этого сделается теплее.
Покамест они говорят, от окон с треском отваливается замазка, потому что она не столько замазка, сколько простая глина, хотя в ассортименте товаров значится как замазка высшего качества.
Мороз-ревизор все замечает. Даже то, что в магазинах нет красивой цветной ваты, на которую так отрадно взглянуть, когда она лежит между оконными рамами, сторожа квартирное тепло.
Но беседующие не обращают на это внимания. Рассказываются разные истории о холодах и вьюгах, о приятной дремоте, охватывающей замерзающих, о сенбернарах с бочонком рома на ошейнике, которые разыскивают в снежных горах заблудившихся альпинистов, вспоминают о ледниковом периоде, о проваливающихся под лед знакомых (один знакомый якобы упал в прорубь, пробарахтался подо льдом двенадцать минут и вылез оттуда целехонек, живехонек и здоровехонек) и еще множество сообщений подобного рода.
Но венцом всего является рассказ о дедушке.
Дедушки вообще отличаются могучим здоровьем. Про дедушек всегда рассказывают что-нибудь интересное и героическое. (Например: «Мой дед был крепостным», на самом деле он имел хотя и небольшую, но все-таки бакалейную лавку.) Так вот во время сильных морозов фигура дедушки приобретает совершенно циклопические очертания.
Рассказ о дедушке хранится в каждой семье.
— Вот мы с вами кутаемся — слабое, изнеженное поколение. А мой дедушка, я его еще помню (тут рассказчик краснеет, очевидно от мороза), простой был крепостной мужик и в самую стужу, так, знаете, градусов шестьдесят четыре, ходил в лес по дрова в одном люстриновом пиджачке и галстуке. Каково? Не правда ли, бодрый старик?
— Это интересно. Вот и у меня, так сказать, совпадение. Дедушка мой был большущий оригинал. Мороз этак градусов под семьдесят, все живое прячется в свои норы, а мой старик в одних полосатых трусиках ходит с топором на речку купаться. Вырубит себе прорубь, окунется — и домой. И еще говорит, что ему жарко, душно.
Здесь второй рассказчик багровеет, как видно от выпитого чаю.
Собеседники осторожно некоторое время смотрят друг на друга и, убедившись, что возражений против мифического дедушки не последует, начинают взапуски врать о том, как их предки ломали пальцами рубли, ели стекло и женились на молоденьких, имея за плечами — ну как вы думаете, сколько? — сто тридцать два года. Каких только скрытых черт не обнаруживает в людях мороз!
Что бы там ни вытворяли невероятные дедушки, а тридцать три градуса — это неприятная штука. Амундсен говорил, что к холоду привыкнуть нельзя.
Ему можно поверить, не требуя доказательств. Он это дело знал досконально.
Итак, мороз, мороз. Даже не верится, что есть где-то на нашем дальнем севере счастливые теплые края, где, по сообщению уважаемого бюро погоды, всего лишь десять — пятнадцать градусов ниже нуля.
Катки закрыты, дети сидят по домам, но жизнь идет: доделывается метро, театры полны (лучше замерзнуть, чем пропустить спектакль), милиционеры не расстаются со своими бальными перчатками, и в самый лютый холод самолеты минута в минуту вылетели в очередные рейсы.
1935
Вера Инбер
Тосик, Мура и «ответственный коммунист»
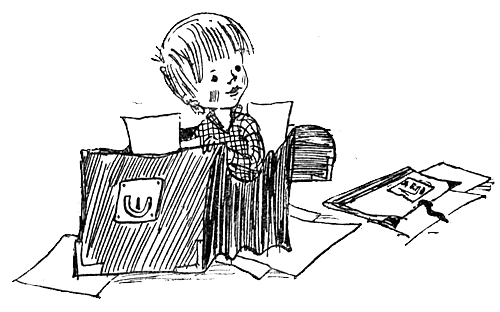
Если вам восемь лет, и у вас синие глаза, и одна рука в компоте, а другая в замазке, и если у вас брат, которому пять лет, у которого насморк и который каждые пять минут теряет платок, и если ваша мама ушла на целый день, — то тогда вам жить становится очень трудно.
Муре восемь лет. У нее синие глаза, одна рука в компоте, другая в замазке, у нее брат, у него насморк, мама ушла — жить очень трудно.
Мама уходит на целый день. Она служит. Папы давно нет. В тот год, когда не топили печей и не было хлеба, он поехал за хлебом, заболел тифом и умер. И теперь мама живет одна, а Мура ей помогает. Мамино несчастье в том, что она маленькая и ее никто не боится. Ее легко обидеть, это ясно.
Однажды был такой случай: на кухне разбилось стекло; хотя грязное, но стоит оно шесть рублей. Пришел домком в сапогах и тулупе, осмотрел стекло, заодно чулан, где живут крысы, и говорит:
— Это ведро уберите. Тряпка зачем? Гражданка Сергеева (мама то есть), по выяснении дела — вам вставить стекло. Вы виновница.
— Товарищ Петрищев, — мама отвечает, — какая же я виновница? Меня целый день дома нет. Детишки в комнате сидят.
— Гражданка Сергеева, не возражайте. Ваша рыба стояла за окном. Стояла или нет ваша рыба?
— Стояла рыба, — отвечает мама, — то есть даже не рыба, а сиг.
— Ну вот. Этот самый ваш сиг разбил стекло.
— Позвольте, как же это возможно?
— А вот так и возможно. Из-за вашего сига окно плохо закрывалось и в конце концов разбилось. Но так как сиг совершенно копченый и неимущий, то потрудитесь заплатить шесть рублей.
И мама заплатила, потому что она маленькая и не умела хорошенько ответить.
И так каждый день какая-нибудь неприятность.
Тосику пять лет. У него всегда насморк, и он чуточку заикается. Каждые пять минут он спрашивает:
— Му-ура, а где мой носиковый платок?
В четыре часа приходит мама со службы, бледная, руки трясутся, и начинает готовить на примусе чего бы поесть.
— Мамочка… — говорит Мура, обнимая ее. — Ты моя маленькая. Ты бедняжечка.
— Ма-амочка, ты бедняжечка, — вслед за ней говорит Тосик.
Мура обнимает маму и говорит дальше:
— Дай-ка я послушаю. Мамочка, в тебе опять все переливается. Ты опять ничего не завтракала? У тебя совершенно пусто внутри, я же слышу.
Но маме некогда. Они едят быстро, потом мама опять уходит стучать на машинке, но уже не на службу, а «частным образом».
— Му-ура, — спрашивает однажды Тосик, — как это — частным образом?
— А это так: днем мама служит, а вечером уходит к одному писателю, который ей диктует рассказ по частям, потому и называется «частным образом»…
Сегодня день особенно тяжелый. Утром шел снег. Мама встала такая маленькая, меньше, чем всегда. Посмотрела на детей и сказала:
— Надо бы вас в дошкольный сад пристроить, но некогда мне. Не могу я. Устала. Сил нет.
Ушла мама. Мура начала убирать комнату и вдруг увидела, что двух котлет, которые им оставлены на целый день, нет и в помине.
— Тосик, — сказала Мура, — ты съел? Как же ты смог? Когда ты успел? Сразу съел обе?
— Му-урочка, я не сразу. Я съел «частным образом», по частям. По половинкам.
Долго тянется время без мамы. У Тосика насморк, у Муры порвались валенки: гулять невозможно.
— Идем в коридор, Му-ура, — говорит Тосик. — Потихоньку пойдем. Мы не будем мешать.
Коридор длинный, с обеих сторон — комнаты. В каждой комнате люди, совершенно разные. Но хоть они и разные, а все одинаково не любят детей, которые мешают. Однажды Мура и Тосик устроили в коридоре поезд из стульев и поехали. Кресло было паровозом. И славно так поехали, быстро, весело, с крушениями и приключениями. Но из комнаты № 6 вышла товарищ Гилькина с папиросой и чайником, налетела в полутьме на паровоз и разбила пенсне.
Вечером пришел домком, посмотрел мрачно и сказал:
— Гражданка Сергеева (мама то есть), вы своими детьми загромождаете квартиру и даже угрожаете стеклянным предметам. Ставлю на вид.
— Надо вас непременно в дошкольный сад, но некому похлопотать, а у меня сил нет. — Мама разволновалась.
И сейчас Мура и Тосик идут по коридору тихо, пешком, а не в поезде, и разговаривают шепотом. А когда доходят до комнаты № 1, то смолкают совсем. Там, в комнате № 1, живет «ответственный коммунист», самый важный в квартире. Кого он о чем ни спросит, тот должен отвечать всю правду: оттого он и ответственный.
«Ответственный коммунист» работает всю ночь. Всю ночь горит у него свет, и сквозь стекло, вставленное в верхнюю половину двери, видно, какой синий воздух у него в комнате, как много он курит. Утром за ним приезжает автомобиль с желатиновыми окнами и полотняной крышей, и «ответственный коммунист», надев кожаное пальто, в бороде трубка, проскакивает коридор и уезжает.
Мура и Тосик подходят к самой двери и по очереди смотрят в замочную скважину.
— Ты видишь, Му-ура? — спрашивает Тосик. — Скажи, что ты видишь?
— Мне нос мешает, — отвечает Мура, — но вижу умывальника кусочек.
— И я, и я хочу умывальник, — шепчет Тосик и напирает сзади на Муру.
Мура наваливается на дверь. Дверь распахивается. Мура влетает в комнату № 1, прямо на умывальник, за ней Тосик. А в комнате № 1 за столом сидит «ответственный коммунист», который почему-то не уехал, а может быть, вернулся, курит трубку и пишет.
Оттого что Мура влетела в комнату, упал сначала с умывальника стакан и разбился. Но так как за Мурой летел Тосик, то упал кувшин и тоже разбился. Вода хлынула потоком и подтекла прямо под ночные туфли у кровати. «Ответственный коммунист» встал, Мура заслонила собой Тосика и перевела дух.
— Что это значит? — спросил «ответственный коммунист». На лбу у него образовалась глубокая складка. — Что это за дети? Что это за шалости?
— Мы мамины дети, — сказал Тосик из-за Муриной спины. — А шалости не наши. Это двериные шалости. Это дверь сама. Му-ура, скажи ему.
«Ответственный коммунист» сделал шаг и увидел Тосика, который от волнения утирал нос Муриным передником.
— А это кто? — спросил он.
— Это Тосик, — ответила Мура, — мой брат. Он маленький. Его надо было бы отдать в дошкольный сад. Но нет у меня времени заняться этим. Устала я. Сил нет.
«Ответственный коммунист» вынул трубку изо рта.
— А вы кто? — спросил он.
— Я — Мура, его сестра. Мама у нас уходит днем на службу, а вечером «частным образом» работает. А скажите, пожалуйста, почему у вас на макушке волос ни одного нету?
— Так как-то случилось, — отвечает «ответственный коммунист» и поглаживает макушку. — Вылезли они у меня.
— Му-ура, — шепчет Тосик за ее спиной, — как же это он говорит — вылезли? Если бы они вылезли, они бы здесь где-нибудь рядом были. Они бы далеко не полезли. Они не вылезли, а внутрь влезли: оттого их и не видно. Скажи ему, Му-ура.
— Сядьте сюда дети, — сказал «ответственный коммунист» и указал им на стол.
И Мура и Тосик чинно сели по обеим сторонам чернильницы и начали отвечать по порядку, потому что коммунист был ответственный и ему надо было все знать.
Сначала говорила Мура:
— Мама наша с нами занимается по воскресеньям, когда она свободна. Я написала сочинение, интересно вам?
— Очень, — отвечает «ответственный коммунист». — Я очень прошу.
— Ну, так вот… «Скотный двор» называется. — И Мура читает по грязной бумажке, истершейся в кармане: — «Корова — это очень большое животное с четырьмя ногами по углам. Она дает молоко два раза в день, а индюк не умеет, как бы ни старался. Из коровы делают котлеты, а картофель растет отдельно». Дальше я еще не написала.
— Да, — говорит «ответственный коммунист», — очень интересно… А есть вы случайно не хотите?
— Тосик съел две котлеты «частным образом», — отвечает Мура, — а я ничего не ела, потому что нечего было.
Тогда «ответственный коммунист» вынимает из шкафа колбасу, мандарины и булку. И в это время звонит на столе телефон из-под Тосика, который положил на него ногу и не заметил этого.
«Ответственный коммунист» берет трубку.
— Я, — говорит он, — да, это я. Что? Прийти? Сейчас не могу. Тут у меня очень важное совещание. Сидят два товарища. Сейчас никак не могу.
А товарищи едят и рассказывают.
— Когда я был маленький, — говорит Тосик с полным ртом, — мне было очень весело. Мы с мамочкой и Му-урой сидели вместе и набусывали.
— Как? — переспрашивает «ответственный коммунист», и видно, что он не понимает.
— Мы набусывалн. Скажи ему, Му-ура.
— Он хочет сказать — нанизывали бусы, — объясняет Мура.
«Ответственный коммунист» снимает их со стола, сажает Муру на одно колено, Тосика на другое и делает им из сегодняшних «Известий» роскошный корабль…
Время идет. Слышно, как квартира наполняется людьми. Все возвращаются со службы. За окном синеет. «Ответственный коммунист» зажигает свет и начинает новый корабль. И тогда только Мура вспоминает о маме.
Мура соскакивает с колен и распахивает дверь, чтобы побежать к маме, которая, наверное, пришла. Но за этой самой дверью стоит мама, испуганная, и, видно, прислушивается.
— Мура, что ты тут делаешь? А Тосик где? — страшным шепотом спрашивает она. — Как это вы сюда залезли?
— Ты не бойся, мамочка, — ободряюще говорит Мура. — Не бойся. Мы тут в гостях и даже колбасу уже съели. Идем, я тебя познакомлю.
— Ма-амочка, — подхватывает Тосик с правого колена «ответственного коммуниста», — иди сюда. Я тебя познакомлю.
И мама входит…
Вечером Тосик и Мура, лежа в постели, беседуют.
— Он хороший человек, — говорит Мура, — я даже уверена.
— Хо-ороший, — сонно подтверждает Тосик. — Как ты скажешь, мамочка? Хороший он?
— Хороший, — отвечает мама. — Очень хороший.
И думает.
О чем она думает?
1924
Леонид Ленч
Сеанс гипнотизера
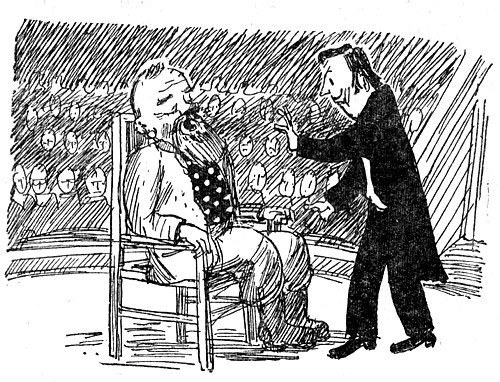
Гипнотизер Фердинандо Жаколио, пожилой мужчина с длинным лошадиным лицом, на котором многие пороки оставили свои печальные следы, гастролировал в городе Н. уже вторую неделю.
Объяснялась эта задержка тем, что в городе Н. гипнотизеру было довольно уютно. Никто его не притеснял, и неизбалованная публика хорошо посещала представления, которые Фердинандо устраивал в летнем помещении городского клуба.
На одном таком представлении и встретились директор местной конторы «Домашняя птица» товарищ Верепетуев и его заместитель по индюкам из той же конторы Дрожжинский.
Места их оказались рядом. Усевшись поудобнее, Верепетуев и Дрожжинский стали созерцать представление.
Для начала Фердинандо, облаченный в старый, лоснящийся фрак с сатиновой хризантемой в петлице, лениво, привычным жестом воткнул себе в язык три шляпные дамские булавки образца 1913 года и обошел ряды, демонстрируя отсутствие крови.
Зрители с невольным уважением рассматривали толстое фиолетовое орудие речи, проткнутое насквозь. Девочка в пионерском галстуке даже потрогала удивительный язык руками и при этом вскрикнула:
— Ой, какой шершавый!
— Здорово! — сказал товарищ Верепетуев.
— Чисто работает! — откликнулся тощий Дрожжинский.
А гипнотизер уже готовился к сеансу гипноза.
— Желающих прошу на сцену, — галантно сказал он.
Тотчас из заднего ряда поднялась бледная девица, с которой гипнотизер обычно после представления сиживал в пивной «Дружба». Фердинандо записал ее фамилию и имя в толстую книгу.
— Это для медицинского контроля, — пояснил он публике.
Через пять минут бледная девица сидела на сцене с раскрытым ртом и деловито, как бы во сне, выполняла неприхотливые желания гипнотизера: расстегивала верхние пуговицы блузки, готовясь купаться в невидимой реке, декламировала стихи и объяснялась в любви неведомому Васе.
Потом девица ушла, и гипнотизер снова пригласил на сцену желающих подвергнуться гипнозу. И вот из боковой ложи на сцену вышел старичок в байковой куртке и рыжих сапогах.
— Мы желаем подвергнуться, — сказал он. — Действуй на нас. Валяй!
— Смотрите, это наш Никита! — сказал Дрожжинский директору «Домашней птицы». — Ядовитый старик, я его знаю.
— Должность моя мелкая, — между тем объяснил гипнотизеру старик в байковой куртке, — сторожем я тружусь на птичьей ферме. А зовут меня Никита Борцов, так и пиши.
Фердинандо Жаколио усадил Никиту в кресло и стал делать пассы. Вскоре Никита громко вздохнул и с явным удовольствием закрыл глаза.
— Вы засыпаете, засыпаете, засыпаете, — твердил гипнотизер. — Вы уже спите. Вы уже не сторож птицефермы Борцов, а новый директор всей вашей конторы. Вот вы приехали на работу. Вы сидите в кабинете директора. Говорите! Вы новый директор! Говорите!
Помолчав, спящий Никита проникновенно заговорил:
— Это же форменная безобразия! Десять часов, а в конторе никого. Эх, и запустил службу товарищ Верепетуев!
Товарищ Верепетуев, сидевший в третьем ряду, густо покраснел и сердито пожал плечами. Дрожжинский слабо хихикнул.
— Ну, я-то уж порядочек наведу, — продолжал Никита. — Я вам не Верепетуев, я в кабинетах не стану штаны просиживать. Ведь он, Верепетуев, что? Он птицы-то не понимает вовсе. Он, свободное дело, утку с вороной перепутает. Ему бы только бумажки писать да по командировкам раскатывать. Он на фермах раз в году бывает.
— Это ложь! — крикнул Верепетуев с места.
В публике засмеялись.
— Не мешайте оратору, — бросил кто-то громким шепотом.
— Нет, не ложь! — не открывая глаз, сказал загипнотизированный Никита. — Это чистая правда, ежели хотите знать!.. Сколько раз мы Верепетуеву про этого гусака Дрожжннского говорили? Он и в ус не дует. А Дрожжинский корму индюкам не запас, они и подохли, сердечные!
— Это неправильно! — завизжал Дрожжинский. — Я писал в трест! У меня есть бумажка! Гипнотизер, разбудите же его!
— Не будить! — заговорили в зале. — Пусть выскажется. Крой, Никита! Отойдите, товарищ Жаколио, не мешайте человеку!
— Не надо меня будить, не надо! — гремел Никита Борцов, по-прежнему с закрытыми глазами, — Когда надо будет, я сам проснусь. Я еще не все сказал. Почему сторожам, я вас спрашиваю, полушубки доселе не выданы?..
Верепетуев и Дрожжинский, растерянные, красные, протискивались к выходу, а вслед им все еще несся могучий бас загипнотизированного Никиты:
— А кому намедни двух пекинских уток отнесли? Товарищу Дрожжинскому! А кто в прошлом году утят поморозил? Товарищ Верепетуев!
И какая-то женщина в цветистом платке из первого ряда тянула к Жаколио руку и настойчиво требовала:
— Дай-ка после Никиты мне слово, гражданин гипнотизер. Я за курей скажу. Все выложу, что на сердце накипело. Все!
Цирк бушевал.
1935
Борис Егоров
Любке везет…

Люба Мотылькова сидела за своим рабочим столом и листала журналы.
— Ой, девочки! — вдруг воскликнула она. — Ужасно чудно: в Новой Зеландии здороваются совсем не как у нас. Встречаются и трутся носами…
«Девочками» были коллеги Мотыльковой — сотрудницы справочной научной библиотеки.
Старший референт Капитолина Капитоновна повернулась к Любе и строго посмотрела на нее поверх очков: она не терпела, когда ее отвлекали.
Но дисциплинирующий взгляд Капитолины Капитоновны на Мотылькову никакого действия не произвел, и через несколько минут она снова нарушила сосредоточенную тишину референтского зала:
— Вот это да! Никогда не подозревала. Оказывается, стрекоза имеет на каждой ноге по три уха. У нее пять глаз и два сердца. Последнее схоже со мной…
Капитолина Капитоновна сдернула очки и раздраженно сказала:
— Ну знаете!..
Может быть, и дальше продолжала бы удивлять Мотылькова своих товарищей новостями, но вошла курьерша и объявила:
— Младшего референта Мотылькову к директору!
Люба скрылась за стеклянной перегородкой, отделявшей референтский зал от кабинета директора. Вернулась она только через полчаса.
Первым ее увидел молодой сотрудник, которого все звали Валерием или Лерой. Он был очень юн, и отчество не приклеивалось к его имени, не говоря уже о фамилии, которую знали, видимо, только в отделе кадров.
— Ну, что там было? — спросил Лера.
— Молодым везде у нас дорога, — ироническим тоном произнесла Мотылькова. — Как обычно, Юрий Карпович давал интервью…
Лера погрустнел: на образном языке Мотыльковой «давать интервью» значило то же самое, что «устраивать разнос», «давать нагоняй».
Молодой референт был явно неравнодушен к Любе. Впрочем, каждый мужчина в его возрасте и холостяцком положении испытывал бы то же самое. Нежный овал лица, васильковые глаза и обаятельная улыбка, в которой воплощались наивность, невинность и кокетство, не могли не ввергнуть его в лирику и задумчивость.
Застенчивый и несмелый Лера чувство свое пытался скрывать. Но кое-что все-таки ускользало от его контроля.
Мотылькова делала вид, что ничего не замечает. Впрочем, не замечать ей приходилось многих.
Пожалуй, единственным человеком, избавленным от гипнотического влияния Любиных глаз, был директор Юрий Карпович, мужчина средних лет, с маленькой бородкой и очень толстой нижней губой.
Когда Юрий Карпович начинал давать Мотыльковой очередное «интервью», он старался держаться спокойно, называл ее Любой, даже Любочкой, терпеливо объяснял, в чем и где она ошиблась.
Видя, что над нею сгущаются тучи, Люба пускала в ход свою улыбку. На какое-то мгновение лицо Юрия Карповича добрело, светлело. Но директор быстро ловил себя на этом и спохватывался.
— Довольно очарования! — кричал он истошным голосом человека, отпугивающего от себя черта. — Любовь Петровна, давайте будем серьезны.
Если директор обращался по имени-отчеству, значит, он рассердился. При этом губа его несколько отвисала. На следующем этапе разговора она отвисала еще больше, и Юрий Карпович, хрипя от волнения, выговаривал по слогам:
— То-ва-рищ Мо-тыль-кова…
Это бывало тогда, когда Люба начинала защищаться:
— Ну конечно, вы вообще не любите молодых.
«Такое нежное, изящное существо, — думал Юрий Карпович, — но сколько же в нем нахальства! И главное, знает, как обороняться: „Молодых не любите“. Или еще: „Не чувствую помощи коллектива“».
— Ну какая же вам, товарищ Мотылькова, помощь, если вы пишете «метлахская шкатулка»! — кипятился Юрий Карпович. — Шкатулки бывают палехские. А метлахские — знаете, что такое?
Люба смотрела на директора широко открытыми глазами. В них, как в майском небе, были синева и пустота.
— Метлахские — плитки, которыми выстилают пол в туалетах.
— Хорошо, буду знать…
— Ну, вы хоть бы в энциклопедию посмотрели…
— А там разве есть? — искренне удивлялась Мотылькова. — Почему же Капитолина Капитоновна мне не подсказала?
Люба всегда была права. По ее мнению, кто-то постоянно должен был ей помогать. В чью-то обязанность входило подсказывать, напоминать, наталкивать, советовать, предупреждать.
Это имело корни исторические. Когда Мотылькова училась в школе, к ней прикрепляли сильных учеников. Она шагала из класса в класс «на буксире у пятерочников». Дома к Любе была прикреплена бабушка.
Не осталась Мотылькова без опеки и в институте. Над ней шефствовали два студента. Один — по линии иностранных языков, другой — по социально-экономическим дисциплинам. И если Люба не блистала знаниями, шефов упрекали: что же, мол, вы не втолковали ей, успеваемость в группе снижаете.
Правда, такое случалось не часто. Экзамены Мотылькова «проскакивала» с удивительной легкостью, хотя и не очень надрывалась над учебниками.
Подруги разводили руками и говорили:
— Любке везет.
После института она хотела поступить в аспирантуру, но здесь фортуна ей не улыбнулась.
Узнав об этом, бабушка, которая в семье была наиболее реалистически мыслящим человеком, сказала Любе:
— Эх ты, аспирандура! Куда уж тебе!
На вопрос «куда» помог ответить папа. Он устроил дочь младшим референтом справочной научной библиотеки.
И вот Люба сидит за столом, шлифует пилкой ногти, листает журналы и время от времени делится с сотрудниками впечатлениями от прочитанного:
— Ой, девочки, кто бы мог подумать: самая ценная «слоновая кость» добывается из клыка бегемота!..
— Любопытно! В сто десять лет фараон Рамзес Второй одержал свои самые выдающиеся победы. Вот это был мужчина!
Капитолина Капитоновна со временем привыкла к ее болтовне, и если Мотылькова молчала, это старшему референту казалось подозрительным. Однажды, пораженная долгой тишиной, Капитолина Капитоновна посмотрела в сторону Мотыльковой и увидела нечто необыкновенное: Люба наклонилась над стаканом с водой и держит в нем высунутый язык.
— Что это за процедура? Объясните!
Люба чистосердечно поведала:
— Крыжовнику наелась. Щиплет ужасно. А в воде — ничего.
«Капкан», как неофициально называла Мотылькова старшего референта, сообщила об этом Юрию Карповичу. И снова было «интервью». И опять поначалу Юрий Карпович называл молодую сотрудницу Любочкой, потом Любовью Петровной, а позже, видя, что никакие речи до нее не доходят, уже хрипел:
— То-ва-рищ Мо-тыль-ко-ва, нельзя же так! Вы же ничего не делаете!
— Пусть мне дают серьезные поручения.
— Ох, сколько их вам давали! А потом кто-то все должен был переделывать заново. Вы хоть со своей обычной работой справляйтесь. Вырезки по папкам разложите…
Люба парировала привычным приемом:
— Вы, конечно, не любите молодым доверять…
Когда она снова появилась в референтском зале, Лера, как обычно, спросил:
— Ну, что там было?
— Юрий Карпович полез на принципиальную высоту, но сорвался.
Взбираться «на принципиальную высоту» директору в конце концов надоело и, когда представился случай освободиться от Мотыльковой, он не пропустил его.
— Вот есть предложение послать одного человека на курсы повышения квалификации, — сказал он Капитолине Капитоновне. — Хочу посоветоваться. Предлагаю Мотылькову.
— Что вы, Юрий Карпович! — возразила старший референт. — У нас есть действительно достойные люди. Возьмите, например, Леру, Валерия… Молодой, способный, старательный, дело понимает. Если еще курсы окончит, то меня заменит, когда на пенсию уйду.
Юрий Карпович поморщился:
— Верно, конечно. Но этот самый Лера-Валерий и так хорошо работает. И потом, неизвестно, возвратят ли его к нам после курсов… А вот Мотылькову пусть лучше не возвращают. Иначе от нее не избавишься.
Капитолина Капитоновна продолжала возражать:
— Хорошо. Но представьте такой вариант: Мотылькова оканчивает курсы, и ей поручают серьезную, самостоятельную работу. Ведь она ее провалит! А кто ее послал учиться? Мы. Не будет ли это…
— Не будет, — прервал ее Юрий Карпович. — Пусть там смотрят сами. А мы уже обожглись. Верно?
— Верно.
— Тогда о чем говорить?
Мотылькова была опять «взята на буксир», и через месяц она позвонила своим знакомым из справочной библиотеки:
— Ой, девочки, мне эти курсы ужасно правятся! Лекции разные читают, а потом будут экзамены. Это, конечно, для меня не проблема. Я сказала профессору Вифлеемскому, что в группе я самая молодая и опыта у меня, конечно, меньше, чем у других. А он говорит: «Не беда, мы над вами шефство возьмем, будете заниматься с теми, кто посильнее». В общем, живу неплохо. Подружилась тут на курсах с одной женщиной. Она стенографию знает и лекции записывает. А потом расшифровывает и на машинке перепечатывает. Я говорю: «Заложи лишний экземпляр для меня». А она: «Пожалуйста». Так что, когда мне не хочется, я на лекции не хожу.
Девочки положили трубку и вздохнули:
— И везет же Любке!
1960
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ