Виктор Флегонтович Московкин
Ремесленники
Дорога в длинный день
Не говори, что любишь: Повести

Ремесленники
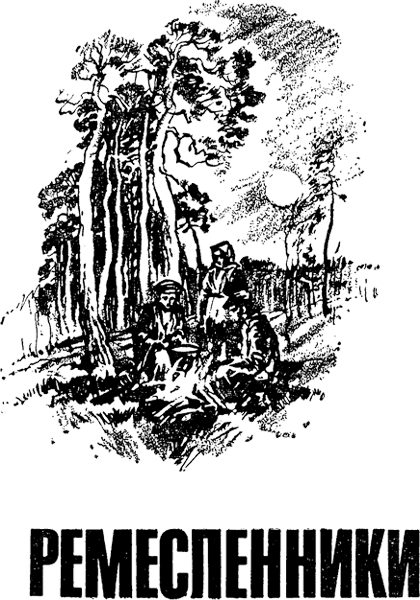

Глава первая
1
В Глуховке семья Юреневых ничем не отличалась от других: не сильно богатая, но и не горько-нищенская. Как и у всех в округе, сыновья, подрастая, уходили в город на заработки, летом приезжали, подгадывали к деревенской страде — на сенокос и к жатве, и опять город поглощал их до следующего года. В одном, может, отличались Юреневы от сельчан: не стремились в Москву и Питер, уходили в большой волжский город, что отстоял верстах в ста от Глуховки. Старший Юренев так и говорил сыновьям: «Тут вы ближе к отцовскому оку: коль худое с кем станется, будет мне точно известно. — И добавлял поучительно: — Добрая слава до порога, худая — за порог». И сам нередко наезжал проведать детей, дотошно выспрашивал квартирных хозяек, как да чего, прятал довольную улыбку в седой бороде, слыша похвалы сыновьям, и порой казалось, для того только и наведывается в город, чтобы лишний раз насладиться этой похвалой. А ребята у него были крепкие, вином особо не баловались, в работе старательны. Василий уже вышел в приказчики в оптовом скобяном складе Беляева, пристроил туда и Максима, хотя тот и не очень-то рвался к такой работе; третий, Федор, тоже пошел по торговой линии: числился мальчиком в книжной лавке. Отцу, правда, не нравилось его занятие: пустое — книжками торговать, но мирился — всё при деле. Дома оставались младшие — Варвара и Александр.
Все так бы и шло, но однажды удивил родителя Максим: посреди зимы приехал в деревню прощаться. Сказал так: «Ушел я, тятя, со склада, не лежит душа». — «К чему же она у тебя лежит?» — подозрительно спросил отец. «На завод пойду». — «И то дело. На какой завод-то? Свинцовобелильный? В железное депо? Кажись, других больших заводов в городе и нет». — «Верно, тятя, потому поеду я в Питер». — «Нет, не будет тебе моего согласия».
Вообще-то Максим слыл молчуном, тихоней, но упрямства у него хватало, уперся: «Ничем, тятя, не остановишь». — «Повидал я питерских щеголей, — ехидно заметил родитель. — Прикатят на тройке с шиком да гиком, чемоданище агромадный сзади привязан. А в чемодане-то и нет ничего, и тройку взаймы взял на станции, чтобы пыль в глаза пустить. Зато вид: одна кудря стоит рубля. Таким хочешь быть? Таким к отцу станешь являться?» — «Нет, не таким. Мастеровым буду».
Много еще слов было сказано рассерженным отцом — Максим ослушался, уехал. Первое время он сообщал о себе, но ответа не получал: старший Юренев сам не писал, другим тоже не велел. Связь с семьей Максим потерял. Но в семнадцатом году, уже поздней осенью, прислала письмо повзрослевшая Варвара. Отец-де ослеп, писала, мать совсем плоха. Василий живет отдельно, выбрал себе жену не очень ладную, он у нее под каблуком; Федор тянет солдатскую лямку, а Сашка плавает на пароходе по Волге учеником механика, озорной вырос, не приведи господь, одни выдумки на уме. Писала Варвара, что перебрались они в город, живут в небольшом домике, купленном отцом, работает она на текстильной фабрике. Варька, добрая душа, сообщала еще: «Максимушка, Ваня Бодров, который знает тебя, говорил, что у вас в Питере стало голодно, так ты привези деток, здесь с едой полегче, да и в деревню к родственникам наведываемся, привозим кое-что, пусть твоя Аннушка с детками приезжает».
Что за Ваня Бодров, который его знает, Максим помнил смутно, но Варькино предложение было кстати. К этому времени у него было двое детей: пятилетний Егорка и трехлетняя Зина; Анна была здоровья слабого, а в столице и в самом деле стало голодно.
На заводе Максим уже считался хорошим мастером, и, хоть время было сложное, его отпустили на несколько дней, и он поехал.
Варвару он и не узнал бы, не подойди она сама; рослая, крепкая деревенская девушка с широким некрасивым лицом, она всплакнула по-бабьи, обнимая его и детишек, Анне скованно подала руку, вызвав тем улыбку Максима: худощавая, стройная, в модной шляпке, Анна, наверно, показалась ей барыней, обнять ее Варвара постеснялась.
От вокзала поехали на извозчике в центр города на Власьевскую улицу. Дом Юреневых был во дворе, близ Сенного базара, — одноэтажный флигель в три комнаты с кухней. Войдя в дом, Максим только тогда осознал, как долго он был оторван от родителей. Да неужто это его мать — сгорбленная, сухонькая старушка с морщинистым лицом, с жидкими седыми волосами; ее голос и раньше-то почти не был слышен, сейчас она будто совсем разучилась говорить, если что и сохранилось от прежней матери, так это добрая, ласковая улыбка. Незрячий отец, с всклокоченной, задорно вскинутой бородой, быстро пробежал пальцами по голове, плечам Максима, оттолкнул.
— Приехал? — с вызовом заговорил он. — Как жил-то? Небось: нынче посидим, завтра поглядим, потом спляшем, а? — И по-петушиному воинственно шаркнул ногой в растоптанном валенке.
Максиму не хотелось ссоры. Отец, как видно, не изменил своего взгляда на питерских отходников: «Приедут на тройке с агромадным чемоданом, а чемодан-то пустой. Зато вид: одна кудря стоит рубля».
— Как жил? — миролюбиво переспросил он, доставая отцу в подарок синюю косоворотку и жилетку на шелковой подкладке. — Ничего жил. Народ питерской — все тверской да ярославской. Свой народ. Что там не жить?
Оделив всех подарками, Максим стал расспрашивать о братьях: о Василии, который, по словам Варвары, был под каблуком властной жены Глаши, о солдатстве Федора… О младшем Александре спрашивать не пришлось: сам явился, и неожиданно, напугав всех. Сидели за столом, вдруг со скрипом приоткрылась дверь, просунулось дуло винтовки, и вслед за тем пронзительный окрик: «Руки вверх!» Все онемели. Радуясь общей растерянности, вошел русоволосый, улыбающийся парень. Сашка! Максим никак не мог признать брата, слишком велика была разница между мальчонкой, которого он, уезжая, запомнил, и этим бравым молодцом. Александр пояснил, что навигация на Волге закончилась, торчать всю зиму в судоремонтных мастерских он не захотел, пошел в штаб Красной гвардии и теперь он красногвардеец.
Такой поворот в судьбе младшего сына был явно не по нутру суровому родителю. На глазах изумленного Максима старший Юренев сначала ощупал винтовку, велел поставить ее в угол, а потом сгреб Сашку, потребовал ремень. Порка была жестокой, и, что удивительно, снес ее Сашка покорно, ойкал с каждым ударом в угоду отцу, но с лица так и не сходила озорная улыбка.
Посчитав, что с семьей он все уладил, Максим спокойно вернулся на завод. Но не прошло и года, получил он ошеломившее его известие: Анна и ухаживавшая за нею мать умерли. Варвара, будто была виноватой, плача писала, что после ужаснейшего белого мятежа, какой был в городе, в начавшейся разрухе свирепствовал повсюду сыпняк, ворвался он и в дом Юреневых; сообщала, чтобы о детях он не беспокоился, пусть останутся у нее, пока он не перегорюет и не обзаведется новой женой, иначе каково им, малышам, будет с вдовым отцом.
Но шли год за годом, Максим не мог перебороть себя, были у него женщины, но всегда между ними и им, как живая, вставала Анна, новой семьи он так и не сколотил. В отпускные месяцы навещал детей, приезжали и они вместе с Варварой, которая стала им второй матерью. Варвара и слышать не хотела, чтобы дети перебрались к отцу, замуж она не пыталась выходить, а его все равно мучила совесть: мнилось — навязал ей обузу.
В тридцатом году приехал к нему в Ленинград Егор: после школы он поступал в военное училище. Он и окончил его, но опять не пришлось быть вместе: сын получил назначение на западную границу. Дочь Зинаида к тому времени вышла замуж и, как намекала Варвара, не совсем удачно. Перед самой войной все тревожнее стал он получать от нее письма, жаловалась на свои недомогания и постоянные ссоры с Зинаидиным мужем, беспокоилась за внучку Татьянку, росшую слабенькой.
Подступала старость, он почувствовал неодолимую потребность быть рядом с близкими людьми. Он рассчитался на заводе, с которым были связаны все его лучшие годы, и поехал к дочери, к внучке, еще не виденной им.
Варвару он уже не застал, по-своему жизнь распорядилась и с братьями: Василий давно отошел от родственников, жил замкнуто, работал продавцом посудного магазина где-то на окраине города; по-дурному пропал Александр: крепкий парень, никогда ничем не болевший, разгоряченный работой в машинном отделении, выкупался в осенней реке и схватил воспаление легких; средний, Федор, пришел с гражданской покалеченный пулями, уехал в родную Глуховку с намерением создать там коммуну. Глуховские мужики встретили его усмешливо, намеренно поддакивали, когда он стал вводить в коммуне порядки, схожие с заводскими. Всегда-то деревенские в летнюю страду подымались до солнышка, работали до изнеможения. Федор организовал общественную кухню. В семь утра коммунары шли на завтрак, к восьми выходили в поле, в двенадцать они шли на обед, после обеда два часа давалось на отдых и на неотложные нужды хозяек: обрядить скотину, сделать самое необходимое по дому; в семь вечера, когда еще солнышко и не думало прятаться за лесом, они шабашили. Глубокой осенью сельские работы закончились, и бухгалтер подбил счета. У Федора глаза полезли на лоб: коммуна не получила ни граммочка прибыли, больше того, несмотря на государственные субсидии, в кассе не осталось ни копейки — коммуна съела себя. Федору много пришлось перетерпеть, но до суда дело не дошло; он уехал на север, в Мурман, и что с ним сталось — никто не знал.
Собираясь к дочери, Максим Петрович представлял, какая у него начнется счастливая и спокойная жизнь, для дочери и внучки все он будет делать легко и радостно. Муж Зинаиды казался уже не таким негодяем, как его описывала Варвара. Он поладит с ним, на это у него хватит терпения и такта.
Но его ждало глубокое разочарование. И от кого? От родной дочери. Повзрослев, она оказалась чужим человеком, что и неудивительно: росла на отшибе, ни капли своей души не сумел он передать ей. Его приезд вызвал у нее раздражение, как помеха в не очень устроенной ее семейной жизни.
Вся радость у Максима Петровича теперь была во внучке Татьянке, ласковой, умной девочке, да еще в сорванцах, учениках-ремесленниках, шалости которых он сносил безропотно.
Там, где нынче проходит объездная дорога на пригородный поселок Карачиху, а по обе стороны ее выросли строительные конторы, склады и мастерские, раньше было Вспольинское поле, названное по станции Всполье, которая была отсюда неподалеку. Название — поле — условное, потому что не поле это было, а болотистый пустырь, никогда не знавший плуга. Весной Вспольинское поле нередко покрывалось водой до самой железнодорожной линии. Река здесь от старой-престарой плотины при ткацкой фабрике до Зеленцовского моста была с низкими берегами, вся в стремнинах и водоворотах, с крутым изгибом, только после моста, успокоившись, она уже шла прямиком к Волге.
От фабричной слободки, как еще по-старому называли район вокруг фабрики, через плотину и дальше, рассекая Вспольинское поле, была пробита ухабистая, в ненастье почти непролазная дорога. Она ныряла под железнодорожный виадук и раздваивалась: одна отвертка тянулась к Сенному рынку, другая к Городскому валу, за которым на северной окраине города размещались круппые заводы. И хотя от слободки, от фабрики, к заводам и рынку была проложена трамвайная линия, но она делала такой большой крюк, так долго петляла по улицам — быстрее пешком дойти. Поэтому многие ходили напрямик через Вспольинское поле.
Вот по этой-то дороге в осенний зябкий день и шел ремесленник Алеша Карасев.
Алеше Карасеву было неполных четырнадцать лет, он окончил шесть классов школы, а сейчас в ремесленном училище осваивал сложную науку слесаря-лекальщика. Точнее сказать, еще не осваивал: едва научили его стучать молотком не по пальцам — по зубилу, шаркать напильником так, чтобы после оставалась не закатанная, а ровная поверхность, — их группе дали военный заказ. Обучение лекальному делу пока пришлось отложить.
Ремесленником Алеша и не думал быть, хотя ему нравилась форма, год назад в которой стали щеголять учащиеся школ трудовых резервов: черная шинель с ремешком, синяя фуражка — прелесть; когда проходил строй учащихся, люди останавливались поглядеть. Так вот, он и не предполагал бросать школу, пошел бы в седьмой класс, но все одноклассники решили поступать в ремесленное, не отставать же: началась война, рабочие руки стали очень нужны.
В их мастерской не хватало сверлильных станков, нужных приспособлений — они изготавливали детали для мин, и группу временно разделили на две смены. Сегодня Алеша шел во вторую смену. Он уже приближался к виадуку, когда справа, со стороны Московского вокзала, раздался глухой удар, вздрогнула земля, а потом в наступившей тишине стал слышен нарастающий гул самолета. Алеша посмотрел туда, откуда слышался гул, замер на месте: не в страшной сказке, не в кошмарном сне — над железнодорожной линией летел немецкий самолет, четко прорисовывался черный крест на его боку. Перед Зеленцовским мостом самолет резко взмыл над железными фермами и снова опустился до десяти метров. Колпак кабины был откинут, и летчик, в шлеме, в защитных очках, был хорошо виден — молодой, с бритым крупным подбородком. Алеша Карасев впервые видел и немецкий самолет, и самого немца, и это его сильно поразило. Он, конечно знал, что фашистские войска где-то уже близко к Москве, с фронта прибывали раненые и под госпитали заняты многие здания в городе. Но чтобы увидеть так близко живого немца?..
Самолет летел медленно. Заметив на грязной дороге малорослого мальчишку в картузе, сползшем на уши, в ватной фуфайке — новенькую шинель Алеша берег, надевал по праздничным дням, — в замызганных штанах, немецкий летчик склонил голову и насмешливо скривил губы. Остолбеневший от неожиданности Алеша мгновенно опомнился. «Ах, вот как! Погоди, ты у меня поковрятаешься! — зачастил он с угрозой. — Погоди!.. Сейчас!..»
Он судорожно охлопывал себя по карманам, искал. Какая досада! Надо же такому случиться: наколотые от старых ребристых батарей парового отопления «чугунки» были в кармане, а рогатки, с которой никогда не расставался, не оказалось. «Ты у меня сейчас… — не спуская взгляда с самолета и все еще ощупывая пустые карманы, растерянно и машинально повторял Алеша. — Сейчас…»
Хлопанье ладошек по одежке немец, видно, принял за крайнее изумление мальчишки; когда уже самолет был совсем напротив, он опять скривился в ухмылке и в довершение всего… показал язык.
Алеша Карасев взвыл от беспомощности, обильные слезы застлали глаза. Он плакал. Как же, фашист летит безнаказанно да еще издевается. Алеша уже догадался, что глухой удар, который он слышал в стороне Московского вокзала, — это взрыв бомбы, сброшенной с пролетавшего самолета. И как же было обидно, что не оказалось рогатки. А была бы, он бы попал. В ремесленном училище все эти месяцы увлекались рогатками: готовились воевать с фашистами и вырабатывали «точность глаза». Тренировались на пустыре, на свалке, позади училища, где почему-то много валялось асбестовых дисков, тонких, величиной с тарелку и с круглым отверстием в середине. Диск подбрасывали, и надо было попасть в него на лету. Алеша попадал.
Самолет между тем удалялся к станции Всполье, всегда людной, забитой вагонами. Алеша с тревогой следил за ним, ждал жутких взрывов, полыхания огня. Но, видимо, у фашиста уже не осталось бомб — взрывов на станции но было.
Алеша понемногу приходил в себя. Внезапно хлопнул ладошкой по лбу: только сейчас вспомнил, что его рогатка осталась у соседа по верстаку Сени Галкина. Вчера на пустыре Сеня отчаянно мазал из своей, не попадал в летящий диск, вот и пристал: дай да дай твою. Будто это что меняло — все равно мазал. И не вернул рогатку, дьявол нескладный. А какая возможность была нанести урон врагу, и вот из-за него, этого охламона, сорвалось. Конечно, Алеша так и простоял бы столбом, провожая самолет, не начни фашист строить рожи. Но уж тут… Алеша живо представил, как, приметившись хорошенько — самолет-то летел медленно и низко, — он стреляет. Дзинь — и очки вдребезги, глаз поврежден. Алеша не был обделен воображением, он уже видел, что последовало бы дальше. Какая это была ясная картина! Вот:
обезумевший от боли и ярости фашист повернул машину на него, Алешу, но, видно, сильно стукнула «чугунка» по очкам — потерял сознание.
Самолет, уже развернувшись к дороге, клюнул носом в землю и осел.
Алеша еле успел спрыгнуть с обочины в канаву.
Выждав, он осторожно выглянул: голова летчика упала на грудь, он все еще без сознания.
Алеша тихонечко подкрадывается к самолету, взбирается на крыло.
На поясе у летчика висит в желтой кобуре большой пистолет.
Алеша тянет руку, расстегивает кобуру и берет пистолет. Ух, до чего он тяжелый!
Такого оружия он еще не держал в руках, знал только по словам, как ставить на взвод. Алеша это и делает, но он все же не уверен, что пистолет может стрелять.
Тогда он поднимает дуло вверх, нажимает на спусковой крючок.
Громко хлопает выстрел, отдача такая, что руку дергает и пистолет чуть не вырывается из пальцев.
От выстрела летчик вздрагивает, поднимает голову. Алеша подгоняет его:
«Шнель! Шнель!» — Это слово он знает, в школе учил немецкий.
К его удивлению, фашист покорно, морщась от боли, вылезает из машины.
«Коммен!» — опять командует Алеша.
И тот идет.
Вот только куда его вести? Фабричный поселок, от которого Алеша шел, в километре отсюда. В училище разве доставить? Это было бы здорово! Венька Потапов от зависти лопнет, когда увидит Алешу с пленным немцем. И пусть, меньше станет задаваться. Военпред, который по нескольку раз в неделю наведывается в мастерскую проверять, сколько изготовлено деталей, перед строем обязательно произнесет речь: «Так и должны поступать советские патриоты!» Обязательно так скажет.
Но до училища тоже далеко. Пока ведешь, еще сбежит. Может, кто пойдет по дороге, надо подождать. Да, так и следует сделать, потом доставить прямо военкому.
«Садись!» — Такого слова по-немецки Алеша не знал, просто сказал «садись!» и указал пальцем на землю…
Встречные прохожие с удивлением смотрели на худенького парнишку в непомерно большом казенном картузе, который что-то выкрикивал, размахивал руками. Глаза его горели огнем отваги, щеки раскраснелись, он никого не замечал, был весь во власти своего воображения. Иные подумывали, вглядываясь: «Чокнулся, что ли, бедняга?»
Возбужденный, с горящими глазами, и ворвался Алеша Карасев в мастерскую ремесленного училища — длинное помещение с низким потолком, уставленное верстаками. И сразу же рванулся к Сене Галкину.
Самое примечательное во внешности Сени — его длинный и тонкий нос, кончик которого был чуть вздернут, отчего выражение Сениного лица всегда было задорным и несерьезным. Сеня легче всех освоился с работой, его худые пальцы ловко выхватывали из ящика мелкие фибровые детали, гайки с наружной резьбой, все это быстро попадало в гнездо ручного пресса, а потом отлетало в правый ящик для следующей операции. Уже через час правый ящик наполнялся, ребята, сидевшие на следующей операции, никак не успевали за ним, завистникам казалось, что Сене попала самая легкая, не требующая затрат труда и времени работа. Были охочие, пересаживались на его место — и ничего не получалось, и на другом месте он работал, как заведенный. Потому и был Сеня Галкин на хорошем счету у мастера, потому и ребята с некоторым удивлением приглядывались к нему.
— Сенька, любишь ли ты кого, кроме себя? Есть у тебя кто-нибудь на фронте? Совесть-то у тебя хоть какая-нито есть? Ты почему мне рогатку не отдал, почему не вернул? Ты же у меня ее брал?
Все это запыхавшийся Алеша Карасев выложил Сене Галкину.
Сеня стоял возле верстака, опираясь локтем о тиски, Алеша наступал на него. Глаза у Сени несколько округлились от растерянности, но все равно лицо его с гонким, вздернутым кверху носом было задорное и несерьезное.
— Ты же у меня ее не спрашивал, дал — и не спрашивал, — пояснил он. — Ты же не спрашивал. Скажи — не так?
— Вона-а! Понятие! — Алеша обессиленно опустился на подвернувшуюся табуретку. Он был сражен ответом Галкина. «Дубина какая-то несусветная, не может понять, что, раз взял у кого-то вещь, обязан вернуть без напоминания. Иначе что же такое будет?» — Галкин, ты же у меня попросил ненадолго, — попытался он вразумить неразумного Сеню, — и должен был сам отдать. Неужели не ясно?
— Так ведь не спрашивал, — тупо повторил Сеня, не меняя выражения своего лица — задорного и несерьезного.
Есть люди, которые все стараются делать нормально, как и прочие, а с ними происходит черт знает что. Таков и Сеня Галкин. «Тут со мной такое было, такое… — еще при первом знакомстве стал рассказывать он. Рассказывая, сокрушенно покачивал стриженой и удлиненной головой. — Тетушка говорит: „На тебе, Сенюшка, деньги на часы, большой ты стал, вот в ремесленное поступаешь, самостоятельным скоро будешь. Сходи, говорит, в магазин, купи“. А я на Сенную пошел, видел — там продают всякие часы, не как в магазине, где одни „кировские“, карманные. И пошел. Куплю, думаю, на Сенной, еще дешевле станет. И ведь купил! Хорошие такие часы, красивые. Ходили. А как за ворота вышел с рынка — чую, встали. Потряс — опять стоят. Я бегу к тому, у кого купил, запомнил его. Искал, искал, а он как сквозь землю провалился. Продал, оказывается, и ушел. Тогда я иду в мастерскую на улице Свободы: почините, мол, чегой-то встали, не ходят. А мастер открыл их и говорит: „Тут и ходить-то нечему, механизма нету, одни крышки“. Как, говорю, одни крышки, они же ходили? „На рынке, что ли, покупал?“ Это он мне. Где же еще! Сам слушал — ходили, как миленькие, не могли они без механизма ходить. Это только у иллюзионистов такая чертовщина может быть. „Вот на „иллюзиониста“ ты и нарвался, подменили тебе их, надули тебя, парень. Незачем было на рынке покупать. Так-то!“ Тут я и понял: заменили мне, пока я деньги ему отсчитывал. После этого почти каждый день на Сенную бегал, искал того жулика…»
Ребята спрашивают: «Так и не нашел?»
«Какое!» — безнадежно взмахнул рукой Сеня.
Все, конечно, ржут, а Сеня в обиду: «Ну, чего вы, я без часов остался, а вы впокатышку».
— Какая же ты скотина, Галкин, — в отчаянии высказался Алеша, все еще пытаясь разбудить Сенину совесть. — И говоришь по-скотски. Я, может, из-за тебя героический подвиг прозевал. Напоминать тебе было! Капли порядочности нету!
— Ругателей-то как много, — добродушно пропел Сеня, с любопытством разглядывая рассерженного Алешу и не понимая, какая может быть связь между рогаткой и героическим подвигом. — А чего ругаться-то? Сказал бы — отдал.
— Говорить с тобой, как с пнем. — Алеша не мог облечь в слова весь тот гнев, который клокотал в его груди. Махнул потерянно рукой. — Чего там…
Ребята из первой смены уже закончили работу, сдавали мастеру инструмент. С дальнего конца мастерской из-за верстака вывернулся рыжий и лобастый Венька Потапов. С Алешей он дружил, жили они в одном поселке.
— Об чем спор? — подходя, спросил он. Подозрительно оглядел долговязого Сеню и мрачного Алешу. Спросил последнего: — Чего это он тебя?
— Рогатку зажал, — тоскливо пояснил Алеша.
— Отдай, — без всякого приказал Венька. — К жульничеству привыкаешь? Смотри!
— Да я что, да вот… Он же не спрашивал, ругается только. — Сеня вытащил из кармана рогатку, которая немногим раньше могла стать отличным боевым оружием, протянул.
— Венька, — чуть не плача, сказал Алеша. — Он летел… фашистский самолет. Совсем рядом.
— Ну?
— Я хотел его сшибить.
Хотя Веньке и показалось пустым бахвальством то, что сказал Алеша, лицо его осталось бесстрастным.
— Ну? — повторил он.
— Так рогатки-то не было! Чем бы я его сшиб? Он летел низко-низко. Язык показал…
— Кто язык показал? Самолет, что ли? — Венька опешил, хотел покрутить пальцем у виска: что это, мол, Алешка, всегда такой разумный, несет непонятное.
— Да нет! — нетерпеливо поправился Алеша. — Летчик мне язык показал. Я даже заревел от злости: нахально летит и язык показывает. Такой толстомордый, в шлеме, в очках…
— Теперь вроде понимаю, — с сомнением сказал Венька. — Летел фашистский самолет, и в нем фашист, он тебе язык показал, и ты заревел. А Галкин у тебя рогатку зажал, и тебе не из чего было стрельнуть. За Сенечкой такое водится.
— Вот и я говорю! А он даже не понимает: виноватый или нет. Не соображает! У меня к нему вся душа перевернулась, прямо хоть имя его на пятке пиши. Знаешь, Венька…
— Погоди, не знаю. Имя-то зачем на пятке писать?
— Как же! В старину всегда так делали. Не уважают кого, недругом который становится, напишут его имя на пятке и топчут, попирают на ходу… Мстят!
— Понял, — сказал Венька. — Откуда такое знаешь? Про имя?
— Бабушка рассказывала.
— Понял, — медленно повторил Венька. — Тогда пиши Сенькино имя на пятке, попирай. Только ему от этого ни тепло ни холодно. И, если посмотреть внимательнее, врешь ты все, Алешка. Самолет хотел сбить…
— Венька, честное слово! Стрельни я — попал бы в фашиста. Ты же видел, как я стреляю. И всё этот… — Алеша ненавистно стрельнул глазами в Сеню. — Надо же все так испортить…
— Притихни! — вдруг перебил его Венька. — Старая беда движется, вон глазищами высверкивает. Сейчас почнет, что да почему.
К ним от своего стола шел худощавый, сутулый человек, с лысиной во всю голову — мастер Максим Петрович, Он давно уже посматривал в их сторону.
— Что тут у вас? — оглядывая всех по очереди, неприветливо спросил он. — Распетушились, будто к непогоде. Опять что-нибудь Потапов?
— Максим Петрович! — не в шутку обиделся Венька. — Всё-то вы на Потапова, дался вам Потапов. Чуть что — Потапов. Житья уж никакого не стало. Потапов! Потапов!
— Ну, ну, — засмеялся мастер, — так уж и житья у тебя нету, поверю я, как же. Так что у вас за крик?
— Да вон Лешка рассказывает, чуть фашистский самолет не сбил. Говорит, летел низко-низко. Если низко, так его зенитки разом бы свалили. Повело Алешку, — как всегда, сочиняет.
— Максим Петрович, честное слово, — горячо заговорил Алеша.
И он рассказал все, как было. Ведь не врет же он, почему никто не верит? Как что-нибудь услышат люди необычное, непохожее, начинают сомневаться, высмеивать. Недаром, если что появляется в жизни новое, многие встречают это новое в штыки. Пока не свыкнутся. Бабушка говорила…
Неизвестно, понял бы его мастер или нет, но тут в мастерскую вошел всегда мягкий и тихонький Павлуша Барашков. Вошел он каким-то испуганным, потные волосы спали ему на глаза, он не замечал этого. По его бледному лицу, по дрожавшим губам мастер понял, что с Павлушей что-то стряслось. Максим Петрович участливо обнял его за плечи, спросил:
— Что с тобой? Успокойся. Говори, что случилось?
Мальчик ткнулся лицом в грудь мастера, вздрагивал.
— Бомба упала, — прерывисто заговорил он, — Мы стояли у водокачки, прижались к каменной стене, а напротив дом. Большой дом у вокзала. Еще и взрыва не услышали, а он начал разваливаться. Стена падала медленно, медленно… Прямо на глазах. Сбросил бомбу и улетел. Люди были там, ничего не знали, а он им бомбу…
— Вот, а я что говорил! — вырвалось у Алеши. — Я же слышал, как что-то взорвалось.
— Подумаешь, он слышал. Мы тоже не глухие, слышали.
Алеша резко обернулся на голос. Все в мастерской уже как-то определились, показали себя. Вася Микерин, щуплый, с узким лицом, был сначала незаметным, потом вдруг стало получаться, что ничего уже без него в группе не происходило, совался, куда не просили. Разговаривают ребята о чем-то серьезном или просто болтают, подойдет, послушает, а потом ехидненько усмехнется, скажет: «Ну, дают!» И всё. Но после его слов всем становилось как-то не по себе, будто что плохое сделали. От самого ничего умного не слыхали. Вот и сейчас он вмешался, привычка у него такая: терпеть не мог, если кто-то обращал на себя внимание. Он победно взглянул на вспыхнувшего от его слов Алешу.
— Подумаешь, он слышал, — снова повторил Вася и нехорошо усмехнулся.
— А ты, ты… ты бы помолчал. Чего суешься?
Ребята никак не отозвались на их перепалку, все подавленно молчали. Это была первая бомба, упавшая на город. Потом бомбежки будут частыми, и, как ни странно, они к ним привыкнут.
Мастер опамятовался первым. Хотя взгляд его как бы проходил сквозь Павлушу, будто он вглядывался во что-то, стоявшее за ним, слова его были обращены к мальчику:
— Переживания твои, Павлуша, очень понятны, странным было бы, останься ты равнодушным… Ждать от войны, кроме зла, нечего. Мы тебя понимаем… Но почему в жилой дом? Может, метил в вокзал и промахнулся?
Павлуша отрицательно помотал головой.
— Я видел. Нацелился прямо в дом.
Ученики смотрели на мастера, встревоженные и притихшие, и он заметил это, спохватился: не годится наставнику вселять уныние в их еще неокрепшие души.
— Гитлеровские вояки безжалостные, вдолбили им, что те, с кем они ведут войну, — низшие существа, нелюди, их надо уничтожать. В город и нагрянул один из таких, матерый фашист, асами их называют, летчиков таких. И бил он по мирным жителям, чтобы посеять ужас у наших людей. Ничего, ребята, наши отомстят за их разбой. Все им зачтется. — Он нахмурился и добавил для Веньки: — Опытный ас был и нахальный. Выше-то летел бы, так его могли нащупать зенитки. Вот он над землей и крался, как Алеша заметил, и бомбу воровски сбросил… Ну а теперь, — уже более мягко продолжал мастер, показывая ребятам на ждущие их верстаки, — давайте за работу. Мины самолетов не сбивают, но на фронте они очень нужны. Работой своей мы будем мстить врагам. И всегда помните, чем вы больше сделаете, тем скорее придет наша победа.
Вот что говорил им старый мастер, когда они пришли устраиваться в училище. Чудно!
— Пианино когда-нибудь видели? Как играет музыкант, тоже видели? — спрашивал он с мягкой улыбкой на старом, с глубокими морщинами лице. — Заметили: он не следит за своими руками, пальцы у него без ошибки нажимают нужные клавиши. Удивительно, правда? Но это удивительное достигается упорной работой, навыком называется.
Он стал неторопливо рассказывать, как они будут приобретать навык в обращении с инструментом и металлом. Начнут с простого: с молотка и зубила. Все внимание их сосредоточится на том, как режется металл, а руки сами собой станут точно ударять молотком по зубилу. Дальше научатся по искре определять марки стали: стоит будто прислонить стальной брусок к наждачному кругу — и по искрам, по цвету их, они узнают, какой марки эта сталь: большое содержание углерода — искры светлые, примесь марганца дает темно-красный цвет. Знать это необходимо: для многих инструментов, деталей применяется своя сталь.
Они сидели вокруг него на еще мягкой августовской траве, заглядывали в рот. На их взгляд, он был очень стар: совершенно лысая голова, глаза печальные, даже когда улыбается. Одет он был в синюю рубаху с наглухо застегнутым косым воротом, штаны и ботинки не назовешь новыми.
И еще сказал:
— Вы познакомитесь с закалкой стали: можно закалить ее так, что она станет трудно поддаваться обработке, детали из нее долго не изнашиваются, но она будет хрупкой, от малейшего удара раскрошится. А чтобы сталь стала податливая, это тоже можно сделать, надо только четко разбираться в цветах побежалости. Что это такое — цвета побежалости? Радугу, конечно, видели, и видели, как она переливается разными цветами. Раскаленный металл, остывая, принимает те же цвета, радужные цвета, переливаются они от светлого к темному: светлый — это твердость, чем темнее, тем мягче, каждый оттенок придает стали новое свойство. Вот и нужно при закалке поймать нужный цвет, остановить его. Останавливают цвет резким охлаждением, проще говоря, опускают раскаленную деталь в воду, в масло. В старину будто в туманную погоду на воздухе закаливали боевые мечи: всадник на полном скаку вертел над головой меч — и тот остывал, становился и не хрупким, и твердым. Говорят, так было.
— Есть еще способ укрепить металл, — помедлив, продолжал он. — Называется он цементацией. Это когда сталь не закаливают, а наносят на ее поверхность твердый слой в доли миллиметра.
Мастер порылся в карманах штанов и достал два поблескивающих на солнце стальных угольника.
— Следите за моими руками.
Он протер угольники рукавом рубахи, потом сложил их и передал сидевшему рядом лобастому рыжему мальчишке.
— Попробуй разодрать.
Тот, гордый, что его заметили, раскраснелся, напыжился — попытался оторвать один угольник от другого. Угольники по размеру одинаковые, боковинки у них гладкие, не за что уцепиться, ногтем не подколупнешь. Лобастый недоуменно вертел их в руках, за ним наблюдали. Похоже, какой-то фокус придумал мастер. Угольники стали переходить от одного к другому, так неразодранными и вернулись к мастеру.
— Может, кто догадался, отчего это они не разъединяются?
— Клеем намазаны, — поспешил ответить долговязый парень. С веселой беззаботностью он посмотрел на мастера.
— Вы же видели, я протирал их, — с некоторым раздражением сказал мастер. — Какой еще клей? — Он был умудрен жизнью и не любил скорых на язык. — Хорошо, попробую подсказать.
Из того же кармана он достал небольшую стальную линейку с утолщением вверху, отдал ее и слипшиеся угольники тому же лобастому мальчишке, велел приставить линейку к поверхности угольника и посмотреть, будет ли проникать между ними свет. Лобастый все сделал, как указал мастер: задрав голову, посмотрел на солнце.
— Темно, — заулыбался он во всю ширь своего круглого веснушчатого лица. — Никакого просвету.
Остальным тоже захотелось посмотреть. Мастер терпеливо ждал.
— Вы же учили физику, — с укором сказал он, когда и линейка и угольники возвратились к нему, — и не догадались, почему угольники не разъединяются. А все очень просто.
На глазах изумленных ребят он без усилий сдвинул верхний угольник с нижнего, пояснил:
— Поверхности отшлифованы с такой точностью, что между ними не остается воздуха, потому они и «слипаются». Когда вы научитесь вот с такой точностью обрабатывать детали, тогда я смело смогу сказать: вы кое-чему научились и на любом заводе работать вам будет легко. А зовут меня Максимом Петровичем, кому интересна будущая специальность, зову в свою группу.
Происходило это в теплый солнечный день начала августа. Уже второй месяц на западе страны грохотала жестокая война. Она чувствовалась и в их городе: общим напряжением, тревогой, беспрерывно проходящими воинскими эшелонами, толпами добровольцев, осаждающих военкоматы. Да и эти ребята, что собрались здесь возле двухэтажного кирпичного здания, оставили школы, чтобы через год-два встать к станкам, верстакам, вагранкам на смену ушедшим на войну отцам и братьям. И конечно, они и подумать не могли, что старшим из них еще доведется участвовать в боях в самом логове врага.
Так кого заинтересовал рассказ старого мастера, ветерана-путиловца? Да всех заинтересовал. Вон листья на тополях, что растут возле училища, и то не шелохнутся, будто прислушиваются, не скажет ли еще что старый чудодей. Ребятам после его рассказа и расходиться не хотелось. Алеша Карасев поймал взгляд рыжего лобастого мальчишки: по всему видно, тот не прочь свести знакомство.
— Тебя как зовут? — как и ожидалось, спросил лобастый. — Ты где живешь?
Алеша назвался, сказал, что он с поселка, с фабрики.
— Скажи-ка! — обрадованно удивился лобастый. — Так ведь и я оттуда. Венькой звать, Венька Потапов. Почему тебя не знаю? Я там у себя почти всех знаю.
— Мы здесь с ребятами из двадцать девятой, весь класс. — Алеша поискал глазами своих одноклассников: куда там, разбежались к разным мастерам — кто в токарную группу, кто в литейку. — А никого и нет, — смущенно засмеялся он. — Один я тут.
— Ага! — удовлетворенно кивнул Венька. — А я, понимаешь, из тридцать второй. Там, у стадиона, наша школа. Семь классов кончил, хватит, пора и за дело приниматься.
Сказал так солидно, по-взрослому, что Алеша враз почувствовал себя перед ним малышом-недоростком.
— А я только шесть, — пробормотал он.
— Что! — воскликнул Венька. — Так тебя еще могут и не взять. Четырнадцать-то есть тебе?
— Нет еще. — Теперь Алеше стало казаться, что его нипочем не возьмут в училище, сдаст документы, а ему вернут: подрасти немножко, на будущий год приходи. — Вообще-то мне уже скоро будет четырнадцать, — сказал он без надежды. — Я — листопадник.
— Это еще что такое?
— Ну, в октябре родился, листопадниками таких зовут. У нас в деревне начальная школа, так там так было: один год — первый и третий классы учатся, а в соседней деревне, в Федосине, в этот же год — второй и четвертый. На другой год классы меняются: у нас уже второй и четвертый, а в Федосине — первый и третий. Чья деревня ближе к Федосину — поступают в школу туда, чья ближе к нам — в нашу школу идут. Когда мне подошло учиться, первого класса в нашей школе не было, мамка говорит: пережди до будущего года, все равно тебе еще восьми нету, а я подумал: целый год терять. Пошел в Федосино, где первый класс был, а там тоже сначала не брали — не хватает до восьми, потом уговорил: я и писать и считать умел, так в ту школу и ходил.
— Тогда и не расстраивайся, — стал успокаивать новый знакомый. — Может, и здесь не поглядят, возьмут. Все-таки война сейчас, работать много надо. В случае чего, я за тебя горой встану и других подобью. Пробьем. Давно ты из деревни-то?
— Не так чтобы. Отец у нас умер, решили ехать в город. Сначала жили в «шанхае» у станции. Бывал, наверно?
— Бывать не бывал, а знал этот поселок. Сломали его…
— Сломали. И наш дом сломали. Потом комнату дали.
— Понял. Значит, ты без отца. У меня вот тоже с первого дня войны ушел, ничего не пишет. Мамка извелась, ревет. А я так думаю, не до писем ему сейчас, когда наши отступают. Он у меня совестливый, о чем он писать будет? Вот погонят когда фрицев — напишет… Ты вот что, давай всегда вместе. Согласен?
Венька был не только старше на год, чувствовалась в нем какая-то независимость, голубые глаза за белесыми ресницами пытливо приглядывались ко всему. Ростом он был ничуть не выше Алеши, зато плечи, грудь куда какие — взрослый парень.
— Колдун наш мастер, да? — сказал Венька.
— Интересный! Даже не думал, что так вот… Железное что возьмешь, ну, железка и железка. А он вон сколько всего порассказал. Как пойдем, полем или на трамвае?
— Пошли полем.
Кажется, вечность прошла с того дня. Все выходило не так красиво, как рассказывал Максим Петрович. Ох, как они гордились, когда в конце одной смены мастер объявил, что с завтрашнего утра они займутся выполнением военного заказа. Как все взрослые, станут помогать фронту, не будут даром есть хлеб в расчете на будущую специальность. Только тогда они догадались, почему на рабочем столе мастера в последнее время накапливаются какие-то замысловатые приспособления, почему он, улучив свободную минуту, склоняется над своими маленькими тисочками и все что-то вытачивает, примеряет. Шутка ли, они будут делать мины, вернее, детали для них: в других группах отольют оболочки, обточат их, приладят стабилизатор, а на их долю выпадет изготовление деталей взрывного устройства.
Радоваться-то они радовались, но недолго: работа была однообразной, изо дня в день одни и те же операции, до отупения одни и те же движения рук — и ничего для головы. Ребята не то что разочаровались, но попритихли, Максим Петрович видел, что не привыкли они к усидчивости, к сознанию, что в каждой работе, кроме интересного, есть еще и другое — необходимость выполнять, что и не нравится; пересаживал их с места на место, только операции мало отличались одна от другой. И настроение портилось. Алеша Карасев заметил как-то, что Венька еле шевелится, зевает безбожно. «Где работа, там и густо, а в ленивом доме пусто», — пропел ему и получил увесистую затрещину. На улице ко всему слякоть, тоска одна: дождь моросит и моросит который уж день, время тянется долго, особенно когда работаешь во вторую смену. Венька не выдержал, сказал с обидой о мастере:
— Только и научил Старая беда рубить зубилом чугунную чушку. А все эти марки сталей — когда-то до них доберемся.
И хотя ребята понимали, что мастер тут ни при чем, но никто не возразил Веньке. А вот прозвище к мастеру прилипло — стали за глаза называть Максима Петровича Старой бедой.
Мастерская — шагов тридцать в длину, шагов двадцать поперек. Стоят длинные верстаки, сдвинутые по два, меж ними железные сетки, оберегающие от осколков металла, когда те отлетают во время рубки зубилом. Тиски на верстаках привернуты через каждые полтора метра, на отдельных верстаках стоят маленькие сверлильные станки. Пол в мастерской деревянный, замаслился до черноты, а потолок для такого помещения низковат. Это была обычная заводская постройка начала века. Для мастера поставлен отдельный небольшой верстак, рядом тумбочка под инструмент: инструмент выдается и принимается по учету.
Сегодня перед выходным особенно плохо работается. Непросохшая от дождя одежда неприятно зудит тело. Венька Потапов сидит на высокой табуретке у сверлильного станка. На верстаке в ящике гайки с наружной резьбой. Он берет гайку, вставляет в гнездо маленького приспособления. В гайке со сложной конусной расточкой с обеих сторон запрессованы фибровые заглушки, в самом центре фибры надо сверлить отверстие. Оно должно быть тоненьким, тоньше спички, чуть нажал сильнее — и сверло с легким хрустом лопается. Непривычные руки не умеют нажимать на сверло равномерно.
Венька больше всего боится сломать сверло. Но как только подумает об этом, словно кто толкнет под руку. Вот и сейчас…
— Петрович, какая шалость!
Венька рукавом вытирает потный лоб, недоверчиво разглядывает огрызок сверла, застрявший в гайке, думает со злом: «Что тебе, подлое, не стоялось». Вообще последние дни Венька зол и на себя и на всех. Бывает, случается такое настроение.
— Сверло сломалось! — несется крик о помощи на всю мастерскую.
Ребята заоглядывались на Веньку, но не из сочувствия, просто на какое-то время нарушилась монотонность работы. Максим Петрович поднялся от своего стола, идет на крик. Венька знает, что он сейчас станет вздыхать, ворчливо напомнит, какого труда стоило людям сделать такое тонюсенькое сверло, какое варварство ломать инструмент, особенно в такое трудное военное время. После он обязательно кивнет на Сеню Галкина или Алешу Карасева, склонившихся рядом за такими же станками. У них руки нежные, у них сверла не ломаются. Все это Венька предчувствует и заранее ощетинивается, даже коротко остриженные волосы начинают пошевеливаться. Мастер, конечно, добавит, что через руки Галкина и Алешки за смену проходит гораздо больше гаек, а значит, и мин на фронт отсылается больше. Справедливость слов мастера легко понять, но нелегко перенести. Вот если б работа была потяжелей, погрубее, он бы показал себя, никто бы за ним не угнался. От этих постоянных похвал он и к Алешке охладел, не от зависти, боже упаси, просто что-то перевернулось в душе, ну, как-то с другой стороны, что ли, увидел Алешку, внимательней стал присматриваться.
Но уж очень тоненькие эти сверла…
Венька весь подобрался, почувствовав за спиной дыхание мастера.
— Опять пичуг ловишь, бесененок?
Ох ты! Вон оно что! Ну никак не дают покоя Старой беде эти несчастные чечетки. Недели две назад выпал первый снег, выпал и растаял, а на голых от листьев деревьях в Загородном саду появились северные пичужки. Венька сделал удочку с петелькой из конского волоса на конце — доверчивые пичуги сами совали любопытные головы в петлю. Забавно было их ловить. Выпустили тогда птичек в мастерской между оконными рамами, чтоб веселее было работать, а Максим Петрович увидел, заахал: «Кто это вас научил мучить живую тварь?» А кто их мучил-то? Летают себе между зимними и летними рамами, у них там березовые веточки с сережками, крошки хлеба в консервной банке, вода свежая. На воле они такой роскошной жизни и не представляли. А Старая беда при каждом удобном случае корит теперь: «Какой ты, Веня, работник, пичужки у тебя на уме». Ему даже в голову не пришло, что были они в Загородном саду вместе с Алешкой, что Алешка взвизгивал от восторга, когда освобождал захлестнутую птичку и засовывал за рубашку. Конечно, любимец! И еще заметил Венька: мастер его ругает, а Алешка стоит в сторонке молчком, показалось, еще и посмеивается, хорошо или плохо — он всегда скромно молчит.
Мастер что-то замешкался за Венькиной спиной, Венька не оглядывается, косится по сторонам. Сеня Галкин вытянул длинные ноги, расслабился, а руки привычно шарят в ящике с гайками — минуты не посидит без дела. За ним Вася Микерин. Этот со злорадством на лице ждет, чем закончится для Веньки поломка сверла. Алешка опустил долу густые девчоночьи ресницы, тоже ждет, что станет делать мастер, вроде переживает за товарища.
— Вот тебе сверло.
И Максим Петрович протянул Веньке кусочек стальной тонкой проволоки, чуть расплющенной на конце и заточенной под сверло.
— Как же… — У Веньки задрожали губы, даже внятно ничего сказать не может. — Петрович, как же…
— Попробуй, попробуй, — ласково проговорил старый мастер и, уже отходя, мимоходом, погладил Алешу Карасева по голове.
Он мудр, этот старый, много видавший человек, сердце у него надрывается, замечая, как нелегко дается его ученикам работа, как стараются они изо всех сил. В иное время скажи, что такое может быть, ни за что не поверил бы, тут все на глазах. Гонять бы им на пустыре мяч, с удочкой на речку бегать. А все эта проклятая война, всю улаженную жизнь перевернула.
Венька между тем сердито сопел: «Ладно же, Старая беда, сделаю я тебе».
Его било от злости, пока зажимал проволоку в патрон.
Но сверло неожиданно легко врезалось в твердую фибру. Венька пробует нажать сильнее — заедает, проволока чуть выгибается, провертывается в зажимном патроне, но выдерживает, не ломается. Это не совсем понятно, вопреки всем правилам, но, наверно, от непонятности пришло успокоение. Чтобы окончательно удостовериться, Венька берет латунный стерженек с головкой, вставляет в просверленное отверстие, стерженек зашел плотно, не болтается, значит, не согнется, когда его будут расклепывать с другой стороны. «Колдун, что ли, наш мастер», — бормочет Венька, в какой раз удивляясь умению Максима Петровича находить простой выход из, казалось бы, неразрешимого положения.
За широким окном, что напротив Венькиного рабочего места, уже темно. На небе ни просвета, ни звездочки, да и какие там звезды — оконные стекла от дождя заплаканы. Времени около десяти, еще не меньше часа до конца смены. Кучка необработанных гаек в ящике потихоньку убывает. А в мастерской за верстаками все молчаливо и упорно пыхтят, на шутки и смех нет никаких сил. Венька покосился в сторону Алеши Карасева и радостно вздрогнул: вот случай так случай!
Алешу морил сон. Руки у него привычно работают, но голова клонится к верстаку: наклонится — и тут же Алеша почти испуганно вскидывает ее, потом опять. Клюет…
Венька заерзал, сполз с табуретки. Под верстаком лежит удлиненная чугунная болванка. «Поставить стойком, в самый раз», — прикинул Венька.
Когда голова у Алеши вздернулась, Венька услужливо подсунул болванку на верстак; проходит несколько секунд — и Алешка с размаху бухается лбом в металлическую штуковину.
Это просто удивительно, как на бескровном лбу быстро вырастает шишка. Она расползается, багровеет и становится шире пятикопеечной монеты. В глазах у Алеши слезы. Он еще ничего не понимает — как очутилась на верстаке болванка, кто ему «удружил», но слезы, крупные слезы текут по щекам. Кто-то, кто видел, заливается смехом.
Подошел мастер. Венька уже давно на своем табурете, работает.
— Ну, Петрович, вот это сверло! Неужели сам додумался? Ты у нас все умеешь. Тебе дай, так ты и машину любую сделаешь. Ловко! Но все дело в том, что уж больно тоненькие эти сверла.
— Голову тебе оторвать, бесененок, — сердито говорит мастер, он сразу догадался, кто проделал такую злую шутку с Алешей. Он вытаскивает из кармана медяк и накладывает на багровую шишку. От жалости к себе Алеша шумно всхлипывает.
Но вот и смене конец, дождались-таки. Сдают инструмент, протирают ветошью промасленные руки и все выстраиваются по двое, идут за Максимом Петровичем длинным коридором в столовую. Там у каждой группы свои столы, на каждый день назначаются свои дежурные. Сегодня дежурили долговязый Сеня Галкин и спокойный, медлительный Юра Сбитнев. Они и идут к раздатке.
Группа слесарей ужинала по соседству с фрезеровщицами. С запалившимися лицами, донельзя усталые, они с приходом соседей веселеют, начинают перешептываться и невесть над чем хихикать, бросать украдкой лукавые обжигающие взгляды. У «жертв», будь у них хоть самые черствые сердца, невольно появляются глупые ухмылки, суетливость, дурацкое подмигивание друг другу, толчки. «Глянь-ка, вона…» А что глянь-ка? Просто соседки с приходом ребят стали чувствовать себя девушками.
— Алешенька, как оно ничего-то? Ой, Алешенька, стукнулся обо что? Синяк-то какой! Наверно, больно?
Алеша Карасев стыдливо косится на бойкую Таньку Терешкину, не знает, как ответить. Ему еще и в голову не приходит, что он нравится девушкам, что его черные, затененные длинными ресницами глаза, таящие невысказанную грусть, привлекают, что, когда он улыбается, невозможно не ответить тем же.
— Алешенька, забыла тебе сказать, ты мне сегодня приснился.
Венька ехидно слушает, как Танька заливается соловьем: «Алешенька, Алешенька…»
— Лейтенантом он приснился тебе, да? — насмешливо спрашивает он; Венькино презрение неприкрыто — к лейтенанту, конечно. — С которым провожалась у училища? Ничего лейтенант, видный.
Венька смеется: лейтенант, который пришел с Танькой к училищу, был тощее тощего, тонкая шея жалко болталась в вороте гимнастерки, никак уж на командира не похож, наверно, по случаю войны прошел обучение ускоренным курсом.
— Нахал! — беззаботно откликнулась Танька. Ее нисколько не задели Венькины слова, скорее они доставили ей удовольствие: кому не хочется услышать, что у тебя есть ухажер.
В отличие от своих подруг, Танька казалась совсем взрослой. Крепкие красивые ноги, пышные светлые волосы сплошь в колечках — подвивает их нагретыми щипцами, даже подпалины заметны. Когда она вскидывает руки, чтобы поправить волосы, кофточка на груди туго натягивается. Веньку-то, как видно, этим не проймешь, а Алеша краснеет, глаза отводит, не может понять, что с ним делается, становится телок телком.
— Полем, Алешенька, пойдете или на трамвае? — Голос у нее нежный, несколько покровительственный, голубые глаза излучают неподдельную ласку.
— Полем, — находит в себе силы ответить Алеша.
Он сознает, что очень влюбчив и в то же время робок, и ненавидит себя за это. Ко всему еще, Танька Терешкина напоминает ему девочку, в которую он влюбился в третьем классе. Она жила в другой деревне, им было явно не по пути, но он отваживался делать крюк, провожал и встречал ее, и их дразнили: «Жених и невеста месили тесто». Дразнили упорно, и так же упорно он продолжал провожать ее. Дружили до самого отъезда его в город. Глаза у девочки были точно такие же — голубые; точно такие же, как у Таньки, были светлые волосы. Алеше иногда казалось, что Танька Терешкина — та самая деревенская девочка, только выросшая, и у него сладко замирало сердце.
Танька тоже живет в поселке при фабрике, но, когда подходит вторая смена, остается ночевать у тетки, у той квартира неподалеку от училища.
Дежурные приносят ужин: неразрезанные трехсотграммовые пайки хлеба, две ложки жидкой пшенной каши в железных мисках и по кубику акульего мяса, похожего на сало, — недавно привезли в столовую несколько бочек, будто бы из Америки, продовольственная помощь. Все как вчера, и позавчера, и каждый день. И каждый день еда вызывает оживление: другие, кто не в училище, и того не видят. Оживляется и Алеша, забыв на время Таньку Терешкину.
— Семь перемен, — говорит он без какого-либо выражения в голосе, — и все редька: редька-триха, редька-ломтиха, редька с квасом, редька в кусочках, редька в брусочках да редька целиком.
— Шесть, — значительно сообщает Сеня Галкин.
— Что «шесть»?
— Шесть перемен, я по пальцам сосчитал, — улыбается Сеня, показывая растопыренные пальцы, и лицо его становится задорным и несерьезным.
— Извини, ошибся.
Венька Потапов расправился с кашей и теперь подозрительно разглядывает бледный кубик — два на два сантиметра.
— Галкин, — спрашивает он, — сколько та акула людей слопала, которую мы теперь едим?
— Не знаю, — отвечает Сеня, лицо у которого остается задорным и несерьезным. — Меня так она не ела.
— Куда тебя, костьми подавилась бы. Сказал тоже.
— Да и тебя, — заключил Сеня, хотя Венька плотный, кажется упитанным, у него кость такая широкая.
— Верно, — согласился Венька. — А вот Таньку Терешкину враз проглотила бы и плавнички облизала.
— Это почему? — любопытствует Танька, на гладком лбу у нее появляется вопросительная складочка.
— Наодеколоненных она любит. Кстати, Тань, ты не прозевай, накажи своему лейтенанту, чтобы он аттестат на тебя выслал. Приоденешься, да и акулу не придется есть.
— Дурак! — Танька обиделась всерьез. — Алешенька, не дружи ты с этим вахлаком. Что он тебе?
— Алешенька, Алешенька, — передразнил Венька, лицо его зло передернулось: не так-то уж он равнодушен к Таньке Терешкиной, как хочет показать, иначе не заметил бы и «лейтенанта» и «Алешеньку». Что ж, любовь иногда скрывают и за грубостью. Венька повернулся к Алеше и отрезал: — Не копошись, давай живее, а то снова не поспеем. Развесил уши.
Максим Петрович на болтовню ребят не обращал внимания, но последние Венькины слова услышал.
— Что ты его подгоняешь? — оговорил он мальчишку. — Есть надо не спеша…
— Да ты что, Петрович! — не дослушав, возмутился Венька. — Мы же не успеем. Опять в милиции ночевать? Не больно-то там ласкают.
Максим Петрович замер, тщетно пытался понять Веньку: что он такое говорит?
— Ты что мелешь, бесененок?
— Ну, Петрович! — В голосе Веньки теперь слышалось и изумление и жалость к старику. — Ты прямо как с луны свалился. Радио, что ли, не слушаешь? В городе комендантский час. Не успеешь ко времени — сиди до утра в милиции. Мы-то знаем, не впервой.
К осени немцы придвинулись к Москве, до которой не было и трехсот километров, город стал прифронтовым, и потому был объявлен комендантский час. Это Максим Петрович знал, но не думал, что ограничение времени касается его воспитанников.
— Да ты на самом деле? — Еще не веря, Максим Петрович встревоженно вгляделся в Веньку, в Алешу. — Что ты сказал?
— Что слышал, мастер. Вася топ-топ как миленьких зацапает, от него не отвертишься, глазастый.
Глава вторая
1
За плотиной у фабрики ремесленников встречал милиционер, которого за низенький рост и огромные сапоги звали Васей топ-топ.
Когда они ездили через весь город на трамвае, много длинней был путь, да и не всегда попадали на трамвай, — комендантский час их заставал далеко от дома. Другое дело — полем, если хорошей рысью, так и успеть можно.
Но той предвоенной весной прорвало старое русло Которосли, вода пошла мимо плотины. Прорыв забросали камнями, всяческим хламом, сверху выложили дамбу из мешков с глиной. В сырую погоду мешки становились скользкими, с трудом удавалось пройти, теряя много времени, эти тридцать — сорок метров. Так что к началу комендантского часа они только успевали к плотине. И на площади, у магазина-лабаза, их подстерегал милиционер Вася топ-топ. Конечно, Вася топ-топ не нарочно поджидал их, просто у него здесь был пост. Стоять ему долгие часы скучно, томительно, появлению ребят он радовался: пока то да се — время скрадывалось.
До дома оставалось совсем немного, но ничего не помогало: ни ученический билет, ни уговоры — Вася топ-топ четко придерживался инструкции. Он вел их в отделение милиции и сдавал дежурному, а тот запирал мальчишек до утра в большой пустой комнате с нетопленной печью.
Васю топ-топ хорошо знали в поселке. Он от рождения был нездоров. Его сверстники к десяти годам бегали наперегонки, днями пинали мяч, а он издали наблюдал, тоскуя оттого, что не может быть вместе с ними. Мальчишки — народ безжалостный, задирали его, дразнили, и он понемногу злобился. Что он мог поделать, если вся его внутренняя сила была распределена как-то неразумно: он отставал в росте, зато к пятнадцати годам носил ботинки сорок пятого размера. Позднее плоскостопие лишило его призыва в армию. Глупые насмешки сверстников, сознание своей неполноценности накладывали на его характер отпечаток угрюмости, замкнутости. С начала войны его взяли в милицию, поредевшую людьми в связи с отправкой на фронт. И тут Вася почувствовал, что казенная форма возвысила его, отношение стало другим, понял, что может приказывать и его станут почтительно слушать, пусть не всегда соглашаться в душе, а уж слушать будут без возражений. Перемена эта обогрела его бедную душу, сделала бесконечно счастливым.
Раз он заступил на пост возле фабрики. Приближался комендантский час. Стоял он, стоял, маясь от тоски, и вдруг из темноты вынырнули подростки, мальчишки, от которых так много горя и унижений перетерпел он в свои двадцать лет. Вася топ-топ подтянулся, начальственно окликнул их. Как они ни просили, он торжественным шагом повел их в отделение милиции.
В милицейской камере какой сон! Располагались на полу: под головой фуражка, снизу ватная фуфайка — сверху холод; если сверху фуфайка — снизу холод. Потому на работе отчаянно хотелось спать.
— Слушай, Веньк, вот бы на спине крылья — перелетать площадь, — говорил Алеша Карасев. — Чудо!
Алешка — мечтатель, выдумщик, Венька это с первого дня знакомства понял. И всё «бабушка». Как что ни скажет, прибавит: «Бабушка говорила». — «Что у тебя за бабушка такая, — понасмешничал Венька. — Прямо-таки всезнайка». Оказалось, что у Алешки в самом деле была бабушка, которая знала много сказок, но выдумки у него больше от книг, вернее, он и сам путается — что от бабушки, а что от книг, не всегда помнит. В их деревенском просторном доме на светлом и чистом чердаке была куча книг. Отец свалил их, чтобы они не мешались в избе, пока не сделаны полки, да так и не удосужился перенести. По словам Алешки, книг было так много, что о них спотыкались, когда зимой бегали на чердак за рябиной, загодя заготовленной: мороженая рябина вкусная и сладкая, почти без горечи. Из-за этих книг Алешке и попадало. У них в деревне на троицу парни и девушки обряжали березку: увешивали ее разноцветными ленточками, потом хороводы водили вокруг нее. А где ты наберешься ленточек — в деревне каждый клочок ткани в дело шел. А что у Карасевых на чердаке много книг, парни знали. Вот и попросили Алешку: «Сбегай-ка, принеси с чердака книжек. Мы из них ленточек нарежем да раскрасим, красивая березка будет». Тот глупый еще, загордился: поди-ка, взрослые молодцы к соплюну обращаются, — помчался домой за книгами, набрал охапку, принес. Знать, интересные книги попались: у парней глаза горят, листают, шепчутся о чем-то. «Тащи еще, — говорят, — этого мало». А Алешку, видно, домашние из окна заметили, наблюдали, как он тащил книги. Вот спускается он по лесенке с чердака с новой охапкой книг, а навстречу отец, сердитый, смотрит так, что у Алешки душа в пятки ушла. «Катерина, — кричит Алешкиной матери, — подай- ка сюда можжуховый веник». У них за деревней можжухи много росло, веники делали для бани да и для подметания пола. Спустил батя с него штаны, настегал, потом указывает на книги, что у лесенки рассыпались: «Отнеси назад. И за теми, которые отдал, сходи, варвар». Ну, Алешка бежит к парням, ревет, задница настеганная горит, пот всего прошибает — это витамины, которые в можжухе были, действовали. «Отдайте! — кричит. — Батяня ругается». Отдали без слов, сами поняли, что не дело задумали. Все бы и ничего, да два дня не мог сидеть, а спал на брюхе. Вот после этой витаминной порки и появился у него интерес к книгам. Бабушка, будто, буквы показала, слова складывать научила. И читал все подряд: что попадется под руку, то и читает, не понимает, а все равно страницы переворачивает. Знал, говорит, что книги люди пишут, а тут подвернулась книжка — и там, где всегда фамилия стоит того, кто книжку написал, читает: «Сталь», Что такое? Не может железо писать. К одному, другому— объясните! Бабушка объяснила, что на свете не только Коровины, Богатовы да Карасевы, есть и другие фамилии. Сталь — это фамилия, а уж если точнее — Сталиха, потому что женщина, да еще и очень известная революционерка.
Рассказывал он еще Веньке, что в их деревне стоял учительский дом, в нем же и школа; жили в доме две старые учительницы, сестры Марья Ивановна и Анна Ивановна. Приехали еще молоденькими с благородной целью просвещать народ, так и состарились, обжившись на одном месте. По Алешкиным рассказам, у них тоже каких только книг не было. И радио будто впервые у них услышал, через наушники. Сзади учительского дома был сад с кустами смородины. Попросит старшая, Марья Ивановна, набрать корзиночку ягод, а потом дает наушники, сиди и слушай. Там он про «Человека-невидимку» спектакль слушал.
Вот невидимкой перед Васей топ-топ Венька согласился бы стать: подкрался бы сзади, шлепнул слегка по затылку, Вася оборачивается, а Венька хвать его за нос и загробным голосом: «Не смей больше задерживать ремесленников, работают они аж до гула в ушах, фронту помогают. Понимать ты это должен или нет?» Представить только, как залопотал бы Вася: «Что вы, что вы. никогда больше не буду. Недопонимал…»
Венька чертыхнулся про себя: это что же такое выходит, похоже, как и Алешка, выдумывать начал? Нет уж, пусть тот остается, какой есть, его малолеткой выучили читать, а вот как жить в мире, в котором удостоился быть полноправным гражданином, забыли научить, — наверно, учительки сами этого не знали. Ну и пусть живет в сказках, а Венька останется самим собой. Крылья ему, видите ли, на спину…
— Какие там крылья, — усмешливо сказал он. — Недоделанный ты, Алеха. По берегу надо пробираться, вдоль фабричного забора. Вася топ-топ туда не сунется.
Но раздуматься — и это тоже не выход: попадешься на задворках в такое время, как объяснишь, почему здесь шляешься, когда есть прямая дорога? Да и противно ловчить: они же с работы идут, не их вина, что не успевают домой вовремя.
В мастерской Максим Петрович вглядывался в серые лица своих воспитанников, считал: хоть и в столовой питаются, но не ахти какое питание, от недоедания, от изнурительной работы их болезненный вид. И вот когда узнал, что им нередко приходится ночевать в милиции, всполошился.
«Старый дурак, — ругал он себя, — считал, что все знаю о своих „бесенятах“. На вот тебе…»
Сегодня он вызвался идти с ними. Он поставит Васю топ-топ головой на землю, сапогами сорок пятого размера к звездам, — может, поумнеет.
И вот идет.
Но какая ночь, какая ночь! Сыплет водяная пыль, не дождь — пыль. Нет ни огонька — в городе действует затемнение.
Максим Петрович приглядывается к ребятам. Сбоку широко шагает Венька, ноги ставит твердо, размахивает руками и сопит. Маленький, шустрый Алеша чуть впереди, бережно придерживает за пазухой несъеденную горбушку хлеба: у него больная мать и у нее продуктовая карточка последней категории. Просто удивительно, как в такой теми Алеша не сбивается с дороги. Но еще больше удивился бы Максим Петрович, узнай, что с этой осени, начиная с сумерек, Алеша почти ничего не видит: к нему возвратилась «куриная слепота», которая обычно-то мучает его по веснам. Он идет на ощупь, потому что знает на этой дороге каждый бугорок. Что там музыкант, что, играя на пианино, не замечает своих пальцев, — в сплошном тумане, который застилает глаза, перебирать ногами, обходя знакомые ямины, наверно, посложнее.
С ним такая беда первый раз случилась еще в деревне. Весной в водополицу вдруг почувствовал, что ослеп. Было это в сумерки, они со старшим братом Панькой шли с реки. Уцепился за Паньку, изрядно напугав последнего. «Ты что, ты что?» — зачастил тот. «Не вижу, совсем ничего не вижу», — плача, ответил Алеша. «Неужели ничего?» — «Огонек впереди вижу». — «Так это учительковский дом, свет из окна». — «Веди меня прямо туда».
Дома при свете лампы глаза стали видеть так же остро, как и раньше, утром тоже никаких последствий внезапной слепоты, а вечером повторилось, что и накануне. Алеша ничего не сказал родителям, но, еще солнце не скатывалось за лес, забирался в избу. Зато Панька рассказал об этом удивительном происшествии ребятам, и они, проявляя чудеса изобретательности, к вечеру заманивали Алешу подальше от деревни, а потом разбегались. Спасал Алешу все тот же «учительковский» огонек в окне, он брел напрямик к нему, сваливался в ямы, наполненные водой, карабкался на четвереньках по буграм. Приходил домой мокрый, измученный. Потом мать узнала, повезла к врачу. У него оказалась «куриная слепота», что появляется от недостаточно разнообразного питания. В городе весной он не замечал своего недуга — на улицах было много огней. Сейчас изо всех сил старался, чтобы не заметили его слепоты, и это вроде удавалось.
Максим Петрович тяжело дышал; от непривычно грязной дороги, от напряженного ожидания встречи с неумным милиционером он совсем ослаб.
— И чего ты, Петрович, все время ищешь себе дело? — вдруг нарушил молчание Венька. Он шлепал по дороге старыми отцовскими сапогами и недоумевал. — Вот поперся, чудик, с нами. В милиции ему захотелось переночевать.
— Цыц! — сварливо ответил на это Максим Петрович. — Мое дело, куда иду. Ума не накопил, чтобы так разговаривать со мной. — Ботинки у него разъезжаются в грязи, того гляди упадет, но храбрится.
— Я ведь тебя жалею, Петрович. Как же…
— Нашелся, жалельщик. Тебя плохо воспитывали. Ты почему меня все время «тыкаешь»? Что я тебе, ровня?
— Вона-а! — донельзя удивился Венька, и будь это днем, Максим Петрович заметил бы на его лице озорную ухмылку. — Небось сам говорил: «Считайте меня за папку родного». Во, чудик! Что я со своим папкой «выкать» буду? Не городи не дело-то.
— Дряннуха ты, Венька, — потеплевшим голосом сказал Максим Петрович. — Другой бы и любить тебя не стал.
— Ладно, рассопливился. Только меня этим не проймешь. Ты лучше приготовься: счас плотина будет, дамба перед ней. Ты давай в середке, мы по краям, держать нас будешь. И запомни: дернешь меня, я от дороги буду, — в воду свалимся, а глубина тут саженная, мы уже с Лешкой меряли, сваливались; его дернешь — в грязи плавать станем. Вася топ-топ посмотрит на нас, грязных, от хохота упадет, а ему нельзя падать, он на посту.
Где-то впереди них должна быть фабрика. До войны она освещалась снизу доверху, красивой казалась со стороны.
— Я вот все приглядываюсь, — сказал Максим Петрович. — Ты, Веня, похож на Сашку…
— Какого Сашку? — Венька, заинтересованный, приостановился. Максим Петрович тоже был рад передышке: впереди самые трудные метры, надо собраться с силами.
— Брат у меня был. Неугомонный…
— Чем же он таким отличался, неугомонный? Ты ведь, Петрович, ничего нам о себе не рассказываешь. Выходит, у тебя и брат был?
— Братьев нас было четверо, а вот Александр больше всех в памяти остался. Специальность у него была отличная, механиком на волжских пароходах плавал. Потом красногвардейцем захотел стать. И все по неугомонности своей…
— Ну, Петрович, вот это да! Чем же плохо — красногвардеец? — У Веньки даже нотки обиды в голосе проявились. — Он новую власть защищал, наверно. Не дело говоришь ты, я бы гордился.
— Да разве я о том, что он винтовку взял! Вот, как и в тебе, дисциплины в нем не было, вывертыш, одним словом. Его уж из уголовного розыска уволили, там он после работал.
— За что уволили-то?
— Бандитов каких-то ловили, да не так, как надо было. Он заводилой-то оказался, вот его и…
— Бандитов-то поймали?
— Поймали, конечно, как же. Не то совсем плохо было бы.
— Ну, Петрович, самое интересное не можешь рассказать. Как бандитов они ловили?
— Я с ними не был, что ты допытываешь? Сказывали, что нарядились в богатые шубы, шапки, сорили в трактире деньгами. А подозревали, что среди посетителей те бандиты, гнездо у них в том трактире было. При расчете подняли крик: «Я плачу… Нет я!» — показывали набитые бумажники. Потом вышли. Ну, и те за ними, а на улице приказали: «Раздевайтесь, голубчики!» Вот разделись, бумажники бросили им под ноги: «Берите, раз такое дело». Когда те подхватили шубы, стали деньги собирать, грозить да ругаться, а на них уже и дула наставлены. Говорят, опасные были бандиты те, одевались обратно по очереди, потом привели в милицию.
— Так за что же его уволили-то? — не понял Венька. — Здорово ведь все сделали, да, Лешка?
— Еще бы!
— А вот за то, что уж больно опасный путь выбрали при поимке, им советовали как-то по-другому, а Александру показалось — так неинтересно, придумал по-своему. Того не сообразил, что их могли убить, когда из трактира выходили. Опасность он создал для себя и товарищей.
— Они же, бандиты, их за буржуев приняли, чего им рисковать было — людей убивать. Что-то тут не то. И где он сейчас, Александр?
— Всех жизнь разметала…
Максим Петрович сказал так, что было понятно: не хочет он больше об этом говорить. Он взял ребят за руки и осторожно пошел по горбатым скользким мешкам: Венька со стороны разъезженной дороги, Алеша со стороны реки. Мальчишки старались оберегать старика, не делать резких движений. Шаг за шагом благополучно миновали дамбу.
И, конечно, как всегда, на площади их встретил Вася топ-топ.
— Явление сорок первого года! — неловко пошутил он. Вася видел, что с ребятами взрослый человек, и был настроен миролюбиво. — Скорее разбредайтесь, опаздываете.
Максим Петрович остановился, отдышался.
— Так это ты и есть Вася топ-топ? — грозно спросил он без всякого уважения приглядываясь к милиционеру. Хотя глаза его привыкли к темноте, Васино одутловатое лицо казалось ему овсяным блином.
— Что?! — Вася топ-топ задохнулся от возмущения.
— Так это ты ребят хватаешь? — не сбавляя грозного тона, продолжал Максим Петрович. — Ты вредствуешь?
— От, Старая беда, — приглушенно фыркнул Венька. И Алешка, схватившись за живот, давился в смехе.
— Я вас спрашиваю, кто вы такой? — пыжился Вася отступая. — Вы почему так?
— А как? Как еще с тобой? Веди давай туда, где их на ночь запираешь. — Рассерженный Максим Петрович взмахнул рукой в сторону, противоположную милиции.
Они идут в отделение милиции. Теперь Вася настроен решительно, за ним власть, за ним его правота. Гулкие сапоги его даже в такую мозглую погоду отдаются в ушах, мешают думать. А старому мастеру хочется думать. Почему люди так злы друг к другу, не бывают снисходительны, более того, готовы уничтожать подобных себе? Максим Петрович не то чтобы много задумывался о жизни, пытался вмешиваться в ход ее, он не борец, он мастеровой, и этим все сказано, но он жил в окружении людей, читал газеты, читал книги, делал выводы. Особенно возмущало: вроде бы рядовой человек, родился от рядовой матери, а в силу каких-то, часто необъяснимых, причин возвысился над остальными — и стало с ним происходить нечто ужасное: он уже стал считать возможным распоряжаться судьбами других, не поднявшихся на его служебный уровень, спокойно казнить инакомыслящих; их беды, переживания — какое ему дело, он тешит себя, глух к другим. И все им, вознесшимся над другими, сходит с рук, хотя их надо вздергивать на первом дереве, по ним плачет петля.
— Шуточки, понимаете ли, — между тем обиженно бормотал Вася топ-топ, замыкая шествие: ребятам не надо было показывать дорогу, знали ее. — Я не посмотрю, что взрослый. Я ведь молчать не стану.
— Веди, веди, не заблудись только, — очнувшись от своих размышлений, подбодрил Максим Петрович. — Должность у тебя скромная, но ничего, получишь другую: ты исполнительный, а исполнительных отмечают.
С таким вот настроением Максим Петрович и дошел до милиции.
Отдел помещался в двухэтажном доме, первый этаж каменный, там помещения для арестованных и дежурная комната; второй, деревянный, обшитый досками, — для следователей и начальника.
За деревянным барьером сидел дежурный, воспаленными глазами смотрел на входивших.
— Ага, — сразу догадался он, цепко глянув на Максима Петровича. — Вы что, лучшего времени не нашли для объяснения?
— Для таких дел годится любое время, — воинственно ответил ему Максим Петрович, расправил плечи, готовый броситься за своих «бесенят» в драку.
Дежурный, привыкший на этом посту к разного рода буянам, ничуть не удивился словам старика, наоборот, скучливо спросил:
— Вы получили наше предписание?
Бедный Максим Петрович, он растерянно воззрился на дежурного, поморгал глазами.
— Я что-то не понимаю, любезный…
— И я не понимаю, — строго отчеканил дежурный, и краска гнева легла на его лицо. — Мальчишки не успевают вовремя домой, вы пальцем не ударили, чтобы что-то сделать. Весь распорядок в городе менять ради них? — Дежурный устало махнул рукой. — Ковырнев, — сказал он Васе топ-топу, — разведи их по домам.
Все происходящее сейчас казалось Максиму Петровичу кошмарным сном. Куда же девать то воинственное настроение, которое он накапливал, направляясь сюда? Какое еще предписание, о котором говорит дежурный милиционер? Ни о каком предписании он не слышал. В конторе училища ничего об этом не знают, иначе предупредили бы. Максим Петрович решил отстаивать истину, не сдаваться.
— Но позвольте! — возвысил он голос, блеклые губы его плотно сжались, какое-то мгновенье он не мог продолжать, перехватило горло. — Позвольте! Все-таки не дело так обращаться с ребятами. Я не могу не говорить об этом. Моя вина — я и отвечу. И нечего ссылаться на военное время. А сейчас отправляйте нас в камеру, куда вы их запираете, сам хочу испытать. Утром будем разбираться.
Максим Петрович шел на самопожертвование.
Венька, который с живым интересом прислушивался к разговору, хлопнул ладошками по бокам, сказал с отчаянием:
— От Старая беда, и все-то он на рожон лезет! Чего споришь? Идем домой.
— Молчи! — одернул его Максим Петрович.
— Уводи их, Ковырнев, веди на улицу, — уныло сказал дежурный. — Старый человек, а… — Он не досказал, порылся у себя за барьером и подал большой драчовый напильник. — Вот возьмите собственность ваших воспитанников В печке нашли после их ночевки. Хороши гаврики. Не иначе как для холодного оружия заготовка.
Отданный напильник совсем доконал старого мастера, на него было жалко смотреть. Да что это такое, что они творят, бесенята? Он так в них верил, вот пришел защищать от несправедливостей — и на тебе! И напильник-то не так уж нов, засаленный, уж брать— так брали бы новый, не стершийся.
— Скажете уж вы — холодное оружие, — вяло возразил он дежурному. — Просто для домашнего обихода, учатся слесарному делу.
— Воруют, значит, берут, что плохо лежит. Ну и порядки у вас.
— Этого еще не хватало! — Максим Петрович старался не глядеть на собеседника. — Старье, негодный, иногда разрешаем домой взять, не на свалку выбрасывать.
— Гм, сомневаюсь. — Дежурный явно не верил старому мастеру.
«Грех-то какой на душу взял, — беззвучно бормотал Максим Петрович, когда шли по улице к Алешкиному дому — от проводника Васи топ-топа Ковырнева отказались, ушел к плотине. — Ввели старика в грех. Ах, беда какая!»
— Ты, Петрович, хуже малого ребенка, — выговаривал Венька; тому что, даже обрадовался такому забавному происшествию: «Опростоволосился Старая беда, с самого начала говорили: незачем знакомиться с милиционером Васей топ-топом». — На работе ты, Петрович, мастер — лучше не сыщешь, — с воодушевлением продолжал он, — а в жизни вон как Алеха. Из-за такого пустяка расстроился! И что мне с вами делать?
— А мне что с вами делать? — вспылил старик. — Подвели своего мастера, честь рабочую опозорили. Этому я вас учу? И как взяли этот напильник, я всегда проверяю, весь инструмент проверяю.
Очень уж он был расстроен их обманом, ребятам даже стало не по себе.
— Не сердись, Петрович, — виновато сказал Венька. — Это я взял напильник, и не у тебя.
Теперь уж не выдержал и Алеша:
— Почему ты? Зачем это? — срывающимся на крик голосом подступился он к Веньке. — Вовсе не ты, я взял. Понадобился для дела. Мы зашли в другую группу, а там все разбросано, — пояснил он мастеру. — Ну, и не утерпел. Очень нужен…
Венька все это выслушал и согласился.
— Ну ты так ты, — миролюбиво сказал он. — Я ведь почему признался: все равно Максим Петрович на меня подумает.
— Еще бы не на тебя! Ты — заводила, каких нет. Завтра же отнесете. Чужая группа у них… Нет чужих! Вы своих товарищей подвели. Объясните хоть, зачем в милиции оставили? Чтобы позору мастеру больше было?
— Видишь, Петрович, боялись, обыскивать будут. Объясняй потом… Сразу, как попали в камеру, в печку сунули, она у них почти никогда не топится. А утром нас разбудили, взять уже не пришлось. А напильник мы отнесем, ты не переживай, не завтра только, завтра воскресенье, в баню пойдем. Давай и ты с нами, белье я тебе соберу, отцовское. И вообще, Петрович, ты считай нас отъявленными озорниками: попадемся на чем — тебе же легче будет, потому что ты от нас ожидал чего-то такого. Верно, Лешка?
— Конечно! — горячо поддержал тот. — Будете думать о нас: плохие, плохие, а мы иногда чего-нибудь хорошее сделаем. Вот нам приятно и станет.
— Ты, Петрович, не смотри, что Лешка такой тихий, — продолжал развивать тему Венька. — Просто он еще не совсем освоился в городе, не осмелел, а внутри у него чертики так и прыгают. Он чуть фашистский самолет не сбил, из рогатки. Это штука! Жаль, не было рогатки. Правда, Лешка?
Алеша не понял, посмеялся над ним Венька или похвалил, но вынужден был подтвердить.
— Конечно!
— Я вот еще что думаю, — говорил Венька, — не тебе о нас — нам о тебе надо заботиться. Тебя, Петрович, каждый может обидеть. Верно, Лешка?
— Я вот вам! — незлобиво замахнулся на него Максим Петрович.
Увидев мать Алеши, Максим Петрович удивился: да она еще совсем молодая. Темные волосы, зачесанные назад и заколотые гребенкой, округлое миловидное лидо, хотя и с болезненной бледностью, взгляд чуть печальных внимательных глаз — все в ней располагало, вызывало доверие. Ему понравилось, что приняла его приход в такое неурочное время без замешательства, какое, к примеру, бывает у родителей с внезапным появлением школьного учителя — «Не иначе, натворил мой олух чего-нибудь». Комната в деревянном доме оказалась достаточно просторной, в два окна, прихожая от передней отделялась перегородкой из досок, оклеенной веселенькими обоями, с проемом вместо двери. Стоял старый диван с высокой резной спинкой, на нем сложенная постель, прикрытая байковым одеялом. Максим Петрович знал, что семья незадолго до этого приехала из деревни, диван, видимо, привезен оттуда. «Алешка, знать, тут спит. Не богато, совсем не богатое жилье», — отметил старый мастер. К дивану был придвинут непокрытый стол, потемневший от давности, на нем лоскутки материи и ручная швейная машинка, понятно было, что хозяйка только что шила. Кроме всего, стояли три железные простые кровати, застеленные лоскутными одеялами. Заметив его несколько растерянный, недоумевающий взгляд, Екатерина Васильевна с улыбкой пояснила:
— Да ведь у меня помимо его еще двое, правда, дочь редко появляется с завода, на казарменном положении она. Но бывает. А старший, Павлуша, как и многие, там… Грозился побывать, недалеко он, под Калинином, да, видно, дела у них плохи, не наступают, а отбиваются. Письмо вот прислал, жив, значит…
Максим Петрович сочувственно кивнул: общая беда всех нынче семей — разбросаны по сторонам. Поинтересовался, указав взглядом на швейную машинку:
— Заработок?
— Какой нынче заработок, — смутилась хозяйка. — У кого и было что перешить, все поменяли на продукты, не привыкли еще к карточкам. Так, чтобы не сидеть в безделье, пока его ждешь.
Она кивнула на Алешу, который в прихожей разжигал керосинку, чтобы согреть чаю: на керосинке готовили пищу, она же согревала комнату, дом был с печным отоплением.
Алеша прислушивался к голосу мастера с недовольством: «Дотошно расспрашивает о сестре, о брате, как будто что изменится, если он все будет знать, только мать расстраивает».
Галина, сестра, училась в химико-механическом техникуме, когда началась война. Учащихся отправили рыть оборонительные сооружения — на трудфронт, как эти работы назывались. Теперь она работает на нефтяном заводе неподалеку от города, поэтому домой наведывается от случая к случаю. Она стала удивительно молчалива, слова от нее не добьешься в те короткие часы, когда она оказывается дома. Алеша так и думал, что раз завод, то и работает она в цехе или в лаборатории, где же еще? А однажды услышал, как мать спросила Галину, где они прячутся в бомбежку, и сестра ответила: да там же, неподалеку от макетов, в вырытых в земле щелях; когда бомбы начинают сыпаться, не всегда успеешь добежать до укрытия. Никак не мог понять Алеша, о чем они говорят, после уж только выпытал у матери, что не на заводе сестра работает, не в цехе, — на пустыре, не так далеко от заводских корпусов, из досок и фанеры строят они подобие заводских цехов — макеты, а во время бомбежек еще и подсвечивают их огнями, наводят самолеты на ложную цель. Вот какая у него боевая сестра, не смотри, что пальцем можно перешибить, работает на опасном месте, недаром мать переживает за нее не меньше, чем за Паньку, хотя тот все время в боях и пуля или снаряд не заказаны.
Максим Петрович прошел в прихожую, где Алеша ждал, когда закипит чайник. На узком кухонном столе в тарелке лежала вечерняя Алешина пайка хлеба. Сразу за столом висела ситцевая занавеска, отделявшая угол. Мастер откинул ее и даже вздрогнул от неожиданности: к деревянной стене была прилажена широкая доска, заменявшая верстак, и к ней привинчены слесарные тиски, каких уже давно не выпускали, — не иначе со свалки какого-нибудь заводского двора, — разбросаны были железные обрезки, стопка старых ржавых замков разной величины. Среди обрезков Максим Петрович увидел заготовки тяпок, без которых не обходится любая хозяйка, но больше заинтересовал его топорик для щепания лучины: лезвие прикреплялось к выгнутому из листового железа обуху двумя заклепками. Мастер не сразу сообразил, зачем Алеше потребовались топорик и тяпки, зачем ржавые замки?
— Топорик кто научил делать?
Алеша густо покраснел, никак не ожидал, что мастер заглянет в его угол: снова станет возмущаться, говорить: «Позорите меня».
— Кто делать-то научил, говорю?
Ничего грозного в голосе Максима Петровича не было, Алеша осмелел:
— Никто не учил, — буркнул он, не глядя на мастера. — Для обуха оправка есть, в тисках выгибаю. Железо-то не толстое.
— Продаешь?
— Кто тут купит в городе. С мамкой в деревню ходим, меняем на картошку. Одежку-то всю променяли, да теперь и не берут ее там. Набрались…
— А это берут?
— Это берут. Ключи к замкам делаю, их берут, тяпки берут. Тут килограмма два дадут, там два, так и набираем, чтобы только унести.
Максим Петрович вернулся в переднюю, заметил, что Екатерина Васильевна боязливо отвела глаза, руки ее нервно перебирали лоскутки на столе. «Боится, что буду ругать Алешку, — догадался он. — Только за что его ругать? Войну, которая калечит людей, заставляет пускаться на ухищрения, голод… вот что надо ругать».
— Он у меня тихий, послушный, — вдруг слабо сказала Екатерина Васильевна, и столько было в ее голосе унижающего самое себя, что у старого мастера защемило от жалости сердце. А она, будто умоляя относиться к Алеше без зла, добавила: — Поверьте, никогда слова поперек не скажет.
Максим Петрович знает, что Алеша и тихий и послушный, и отличает его за это, щадит, если тот в чем провинится. Но не слишком ли тихий и безответный?
— Зачем же вы растите его таким — тихим? — Максим Петрович почувствовал внезапное раздражение. — Тихим и беззащитным?
— Как же, — растерянно проговорила Екатерина Васильевна, с испугом взглядывая на него. — Всегда говорю: уважай людей, считай их лучше себя. И тебя ценить станут…
— Уважать людей — почему не уважать, уважать надо. Но и в жизни с разными приходится сталкиваться, и многие окружающие нисколько не лучше его. Другим вон с пеленок вдалбливают обратное: родился ты самым умным и дельным, таким и иди по жизни, расталкивай всех, никому не уступай. Надо ли уважать таких? А как он пойдет по жизни, ваш сын, если не сумеет постоять за себя и других, несправедливо обиженных? Не приведи господь, если столкнется с хамством, с безобразиями. Нет уж, пусть будет готов и к хорошему и к худому, пусть и дерется, коли вынудят. Вот что ему следует втолковывать. Иначе что из него станет? Вон у него дружок Венька, тому палец в рот не клади, откусит. Никому спуску не даст, и ему легче.
— Венька из корпусов, испокон века живут в общей казарме, они там все оторвы.
— И Алешке надо быть чуть оторвой. Не повредит.
— Да ведь на то вы и учителя, — с сомнением высказалась Екатерина Васильевна. — Больше знаете…
«И чего пристает? — возмущался Алеша, до него доносилось каждое слово. — Говорит, будто меня и нет».
Он достал с полки полотняный мешочек с сушеными травами, бросил пригоршню в кипяток. Настоящего чаю у них давно не было. Подождал, пока настоится, потом отнес чайник в переднюю комнату.
Мать уже сняла со стола швейную машинку и достала чашки, которые выставляла только при гостях; когда налила, ароматный настой защекотал в носу.
— Сдается, ни разу такого не пил, — похвалил Максим Петрович. — С мятой. Что за состав, Алеша, научишь?
Тот пожал плечами, сердито подумал: «Наговорил всякого, а теперь подлизывается».
— Конечно, научит, — вмешалась мать, с удивлением и неодобрением посмотрев на насупившегося сына. — Бабушка у него травницей была, каких только трав не знала. От всех болестей. Пойдет, бывало, в лес, в луга, и он всегда при ней.
— Хорошее дело, — улыбаясь, сказал Максим Петрович. — А я вот хоть и в деревне родился, а всю жизнь мотаюсь в городе, сосну от елки еще отличу, а уж о птицах, травах — и не спрашивай. Доброе у тебя знание, Алеша.
— Бабушка и наговоры знала, другой раз шепчет, он за ней повторяет. А еще маленький был, — продолжала Екатерина Васильевна, любуясь сыном.
Они сидели за столом, как в мирное время, только тусклая лампочка под потолком да зашторенные наглухо окна могли напоминать о войне, с ее жестокостями, плачем над короткими сообщениями о гибели близкого, длинными очередями в магазинах.
— Неужто и наговоры! — шутливо удивился мастер. — Ай, ай! Да с тобой опасно, еще порчу какую напустишь.
«Надо бы напустить на тебя порчу за сегодняшнее, разговорился больно, не уймешь, — беззлобно подумал Алеша. — Мать к чему-то обидел: не так воспитываешь сына». Ему было не по себе, он видел, что его мать, которую он любил до самозабвения, без стеснения заискивает перед мастером. Но, если откровенно, в душе-то он млел: поди-ка, чести какой удостоился — весь вечер и все о нем. А Максим-то Петрович! Оказывается, он и шутить умеет. Вот тебе и мастер, совсем с другой стороны открылся.
Алеша не догадывался даже, что одинокий старик, попав в семейное тепло, отогрелся душой, почувствовал себя легко и свободно.
— Порчу как напускать — не знаю, бабушка не учила поскромничал Алеша, хотя в голосе его так и звучали нотки бахвальства. — А вот от всякой нечисти избавить смогу, пара пустяков.
— Ну и как же?
— А встань у чертополоха, сорви шишку и брось через плечо, не оглядывайся только, вся нечисть отстанет.
— Что-то уж очень просто, — усомнился Максим Петрович. — Слова, наверное, какие-нибудь говорят при этом.
— Никаких слов! — вдохновенно заявил Алеша. — Зачем? Слова говорят, если хочешь водяного или лешего увидеть, заставить их на себя работать. Для этого трава есть, трава-покрик называется. Только и найти, и достать ее труднее. Но уж если найдешь, сразу вставай лицом к западу и так, не оборачиваясь, очерти ее ножом или еще чем, а потом привязывай эту траву, метелку ее, к хвосту черной собаки и заставляй собаку выдергивать. Вот тут и надо говорить: «Вылезай, трава, помогай, трава, оседлать лешего. Хочу видеть горы высокие, долы низкие, озера синие, леса темные, хочу умываться медвяной росою, утираться солнцем, опоясываться чистыми звездами». А пока собака будет выдергивать ее, станет трава криком кричать, потому покриком и зовется. А самому без собаки нельзя — погибнешь.
— Пробовал?
— Собаки черной не было, а то попробовал бы, — ответил Алеша и рассмеялся.
— Наговоришь ты на ночь страстей, — мать с нарочитой пугливостью махнула рукой.
— С тобой не соскучишься, — заключил Максим Петрович. И для него Алеша открывался с другой стороны: «Вот тебе и тихоня, бесененок…»
Ночью Алеша долго не мог уснуть, такого с ним никогда не бывало, положит голову на подушку — и уже спит. А нынче не то, все не выходил разговор мастера с матерью о нем. Неужели он такой безответный и забитый? Сам Алеша этого не чувствовал. Вон и Венька сказал: «В душе у Алешки чертики таятся». Что он молчун, не так разговорчив, так это не беда, другой наговорит — шапкой не покроешь, а толку? Да и неразговорчив он бывает только с незнакомыми людьми. И когда надо, он сумеет постоять за себя. Потом сознание его переключилось на мать, такую родную, милую. Он вспомнил свой первый приезд в город. Это было еще задолго до войны. Мать почему-то всегда брала его с собой в свои походы и поездки. Вот она остригла овец, собрала шерсть в узелок, и они идут к каталю, далеко идут, одну деревню проходят, другую, перебираются по шаткому мостику через реку. Мать рассчитывает, что шерсти на валенки хватит всем: и старшему Паньке, и Гале, и ему, Алеше, велики ли ему надо, шестилетнему; может, каталь выкроит из остатков и для нее, но об этом она говорит неуверенно. Отцу не надо, он почти не встает с постели, у него чахотка, весь дом пропах вонючим креозотом, который отец принимает по указанию врача. Перед тем как им уйти, отец позвал слабым голосом: «Лешк, сбегай-ка на двор, посикай за меня». Алеша стрелой в дверь. Вернулся радостный, возбужденный: «Готово!» — «Ну спасибо, сынок, вот и мне полегчало». Алеша хоть и не может понять, почему так, но говорит: «Папка, ты проси чаще. Я завсегда».
В Алешином представлении валенки катают в каком-то глухом, темном месте, а в просторном доме каталя светло, много окон. Сам каталь веселый, с рыжей кудрявой бородой. Посреди избы длинный стол, на котором он раскатывает шерсть. «Что, Катюха, решила детишек обновками побаловать?» — спрашивает он и прикидывает на руке вес узелка с шерстью. Алешу смешит такое обращение к матери: «Катюха!» А каталь видит торчащие из узелка лучинки-мерки, и лицо его становится озабоченным. Мать поспешно выхватывает самую большую лучинку — свой размер, прячет за спину. Оба какое-то время молчат. «Ну что ж, Катюха, попробую, дай-ка мерку-то», — мягко говорит каталь. Мать, красная от стыда, неуверенно отдает ему лучинку. Алеша чувствует, что между взрослыми происходит какой-то внутренний, недоступный ему разговор, что его милая, родимая мать в чем-то виновата и беззащитна, и он уже проникается к веселому каталю злостью. Эта злость возрастает, когда мать, прощаясь, говорит униженно: «Спасибо, Иваныч, бог даст, рассчитаемся». — «Чего там! — отмахивается каталь и щелкает небольно Алеше по носу. — Эк надулся, пузырь. Смотри, какое веселое солнышко на дворе».
Солнышко и впрямь какое-то радостное, а воздух синий-синий…
И вот мать привезла его первый раз в город. До этого они шли на станцию Семибратово двадцать километров, шли с отдыхом, хотя Алеша и не напрашивался на отдых, с матерью он готов идти сколько угодно и куда угодно — подумаешь, ноги гудят и на носу капельки пота: он идет в город, о котором много слышал. Да что там слышал! Можно сказать, соприкасался. Отец, когда еще не болел, привез из города целую корзину красных и мягких плодов. «Помидоры», — пояснил он. До того в деревне ничего о помидорах не знали. Алеша взял самый красивый плод и куснул. Брызнули помимо губ какие-то семечки, а во рту ни сладости, ни радости. Скривился от отвращения и выплюнул: «Не позавидуешь городским, чем кормятся!» А отец захохотал: «Неуж не понравилось?»
«Мам, почему Семибратово?»
«Семь братьев тут жили, разбойные и гулевые».
Разбойные — понятно, когда маленький был, говорили: «Спи, а то разбойники унесут». — «Во сне-то они меня скорей унесут, не увидишь и как», — сердито думал Алеша, но засыпал.
«Мам, почему гулевые?»
Мать ответила не сразу. «Ну это… веселые такие», — попыталась она объяснить.
«Каталь тоже гулевой?»
«Какой каталь?» — удивилась мать.
«Как какой! Летось валенки нам делал. Щелкнул меня еще по носу». — И как это взрослые так быстро все забывают!
«Вон ты о ком, — смущенно усмехнулась мать. — Был и он гулевым… в свое время».
Алеша не очень был доволен ответом, но они уже подошли к станции, деревянному, в один этаж желтому дому, внимание переключилось на другие впечатления.
В поезде он все пытался смотреть в окно, но уже стемнело, и усталость взяла. Уснул. Совсем, кажется, и не спал, а мать уже тормошила: «Вставай, вставай, приехали».
Солнце еще не всходило. Мать, намеревавшаяся остановиться у знакомой, которая летом приезжала в деревню, приходила к ним за молоком и, уезжая, все звала бывать у нее в городе без всякого, — так вот мать постеснялась беспокоить людей в такую рань, решила переждать часок-другой на вокзале.
В большом зале с высокими потолками и каменным плиточным полом они сели на длинную и жесткую лавку. Таких лавок было много, и на них тоже сидели и спали люди. По залу шел милиционер. Он вел парнишку, курносого и грязного. На парнишке был ватный халат, почти до пят, весь будто исклеванный птицами — вата высовывалась отовсюду, живого места не было. Но у парнишки был такой независимый вид, он шел так гордо, так был презрителен его взгляд, что Алеша, зачарованный им, не заметив того сам, поднялся и пошел следом. Милиционер открыл боковую дверь, и оба они скрылись за ней. Не слыша и не видя, что мать кричит и торопится к нему, он приоткрыл дверь и заглянул. В комнате были еще милиционеры, а парнишка стоял у стола и спокойно слушал, что ему говорят. Милиционер покосился на просунувшуюся голову в дверях, вышел из комнаты и строго сказал отпрянувшему Алеше: «А ты что тут? Уматывай!» Подбежавшая мать схватила его за рукав, выговорила с укором: «Алексей, что же это такое?» — «Алексей, — хмыкнул милиционер. — Что, Алексей, таким хочешь быть?» — И кивнул на дверь милицейской комнаты. «Хочу», — сознался Алеша. «Ну и ну!» — покрутил головой милиционер и неодобрительно взглянул на мать. «Простите вы его, по глупости он, — с заискивающей улыбкой сказала она. — Вот я ему!» — И, что никогда не бывало, шлепнула Алешке по заднице, потащила к лавке. «Пусти, я сам!» — рванулся Алеша.
Успокоившись, он спросил:
«Мам, а кто это? Ну тот, в халате?»
«Да, господи, беспризорник, бедолага. Спит где придется, ест что стащит. А ты еще: хочу таким быть. Удивил ты меня, Алексей».
«Хороший он», — упрямо сказал Алеша.
Знакомая по деревне жила в местечке Коровники, недалеко от вокзала. Радости при встрече она не испытала, наоборот, опасливо спросила: «Надолго ли?» И успокоилась, услышав от матери, что, если успеют сделать закупки, сегодня же и уедут. «Знаешь ведь, какой недород был в прошлом годе, — стала рассказывать она хозяйке. — До нового урожая палкой не докинешь, голодно в деревне, а в городе, сказывают, муку продают свободно, вот и хотелось купить, Петра поддержать. Очень плох Петр».
Петр — это отец. В деревне мужики говорят: «Болезнь намертво прикрутила Петра к кровати». Сначала Алеша понял все буквально, долго и подозрительно оглядывал отцовскую кровать. «Лешк, ты чего ищешь?» — спросил отец. «Да вот, сказывают, болезнь тебя к кровати прикрутила, а ни ремней, ни веревок нету». Отец смеялся, пока кашель не перехватил ему горло. «Внутри, внутри она меня скрутила, — отдышавшись, сказал он. — Так хитро скрутила, что простым глазом и не увидишь. Понял?»
«Еще бы», — сказал Алеша, хотя сознавал, что ничего не понял.
Пока мать говорила, а хозяйка разогревала самовар, с улицы вошел мальчишка, поменьше Алеши, пухлогубый и пухлощекий, остановился у порога и затянул:
«Мамка, есть хочу, есть хочу, есть хочу».
«Сейчас, сейчас, подожди еще немножко, — торопливо сказала хозяйка. — Иди пока погуляй с мальчиком. Я крикну. Заговорилась я».
Коровники за городом, на правом берегу Волги, место низкое, сырое, дома сплошь деревянные, если не считать высокую каменную тюрьму на берегу реки и бывшую мельницу, переделанную теперь в жилой корпус, есть еще красивая церковь, а так — скучнее ничего не придумаешь; деревья, которые редко-редко росли у домов, казались грустными, оно и понятно, невесело изо дня в день смотреть на однообразные, унылые крыши домов и грязные, непросыхающие улицы.
Возле дома пухлощекий спросил:
«У тебя что есть?»
Такой вопрос смутил Алешу. Но он вспомнил, что в кармане у него есть катушка из-под ниток, к ней привязана резинка и деревянный стерженек; стоит оттянуть стерженек, насыпать в сердцевину катушки косточек от черемухи или горошину — и из катушки можно стрелять, довольно метко и далеко.
Пухлощекий мальчик увидел игрушку и вцепился Алеше в руку.
«Отдай! Моя! — завопил он. — Давай, чего держишь!»
Ничего еще похожего не происходило с Алешей: у него отнимают вещь, принадлежащую ему, да еще кричат нахально: «Моя!» Он попытался отцепиться от мальчика, а тот вопил: «Чего не даешь! Моя!»
На крик выбежали хозяйка с матерью. Хозяйка и не подумала разобраться в том, что случилось, закричала на Алешу:
«Ты что же это, зимогор, не успел приехать и уж маленьких забижаешь? Ты зачем сюда приехал? А?»
Обидные слезы выступили на Алешиных глазах: никогда еще так несправедливо его не ругали.
«Он у меня катушку отнимает. Мою».
«И отдай, если ребенок просит».
«Отдай, Алексей», — приказала мать.
Горько ему было видеть мать, не умеющую заступиться за сына, все-то всем она уступает.
Но еще более сильный удар пришлось перенести чуть позднее, в магазине. Там продавали муку, стояла очередь, и Алеша с матерью стояли. На человека отвешивали три килограмма. Мать не ожидала, что муку будут продавать с ограничением в весе. У нее были два чисто выстиранных мешка, она попросила продавщицу свешать муку в один мешок — и на себя и на Алешу. Продавщица отказала. Тогда они отошли в сторону, мать ссыпала муку из своего мешка в Алешин и с пустым снова встала в очередь. Когда она подала мучной мешок продавщице, та, позеленев от злости, крикнула: «Сколько же можно!» и швырнула мешок в лицо матери. У Алеши потемнело в глазах, он не помнил, как очутился у прилавка, с ним случилась истерика, он кричал исступленно: «Не трогайте ее! Не трогайте!» Кричал и стучал кулачонками по прилавку. Испуганная мать поспешно потащила его из магазина. Продавщица кричала вслед: «Чистый волчонок! Настоящий зверюга!»
Сейчас, вспоминая один за другим все эти случаи, Алеша ясно осознал, что мать у него забитая, безответная и что воспитывала она его по своему подобию — всем уступать. Прав был Максим Петрович, когда сделал ей выговор.
«Да что это такое! — вдруг одумался он. — Этак и мать научишься ненавидеть. Нет, она у меня просто умная, добрая и уважительная к людям. Не ее беда, что среди хороших встречаются и подлые. Нахрапистым жить, может, и легче, только как быть с собственной совестью?»
Ему стало легче, и с этой мыслью он уснул.
Утром, перед уходом, Максим Петрович снова заглянул в Алешин угол, за занавеску, и около тисков положил отданный ему в милиции злополучный драчовый напильник. «Ужо наберу ему из своих запасов инструменту», — решил он.
Глава третья
1
Баня была старая, с каменными лавками, построенная еще купцом; она состояла из двух смежных отделений, разделявшихся дверью, теперь заколоченной досками крест-накрест. Косясь на эту дверь, Венька Потапов хлопал себя по ляжкам и вопил во всю мочь:
— Петрович! Ой же, Петрович, что это, а? Ты только взгляни! За всю войну такого безобразия не видел. Матушки! Да иди же, Петрович!
И Алеша Карасев, такой худенький, с тонкой шеей, словно пришибленный чем-то, жалко и растерянно топтался рядом с озорным Венькой, вымученно улыбался. Он-то, его растерянность и заставили мастера подойти. Максим Петрович тяжело поднялся с каменной лавки, пошагал по склизкому полу к заколоченной двери, в которой темнело сквозное отверстие чуть больше пятака, кем-то проковырянное.
Ах, Максим Петрович, Максим Петрович! Сколько раз ты поддавался на Венькины розыгрыши, ничему не научился. Нагнулся к отверстию узнать, что так взбудоражило мальчишек… и услышал визгливый хохот.
— Ох, ах! Ну надо же! И он туда — подглядывать. От, Старая беда!
Венька корчился от смеха, мокрые рыжие патлы, спадавшие на лоб, вздрагивали. Максим Петрович потянулся, норовя ухватить озорника за эти патлы, но тот отпрыгнул кошкой.
— Ой, не могу, держите меня!
Теперь в бане хохотали все. Заморенные, голодные, хохотали, будто и не военный год, будто не скорбный. Хохот был азартный, с надрывом. Максим Петрович растерянно и недобро оглядывался, не понимал: что людям так весело?
— От, Старая беда! — не унимался Венька, подхватывая свой таз и настороженно приглядываясь к рассерженному старику. — Лехa! — позвал повелительно. — Пойдем, хватит, а то у меня от мочалки уже кожа сходит. Петрович, мы тебя в раздевалке подождем.
Максиму Петровичу надо бы остановить, сказать: «Куда, бесененок? Только отмокать начал, не кожа у тебя — шарки грязные сходят, — но вместо этого с горечью смотрел на Алешу, который с бессловесной покорностью побрел за Венькой. — Телок, чистый телок, нет у него своей воли». Когда уходил утром, мать Алеши, снабдившая его полотенцем и рубахой, просила: «Вы уж приглядывайте, возраст-то у него еще балованный, он ведь все дни на ваших глазах». Какой уж тут пригляд, заводила Венька кумир у него, за ним тянется.
А Алеша был не в себе. Шагая за Венькой, неуверенно спросил:
— Ты видел?
— Что видел?
— Таньку-то?
— Что?!
— Танька там была…
— Ну, ты даешь! — Венька насмешливо оглядел смутившегося приятеля. — Везде тебе Танька Терешкина мерещится. В самом деле, что ли?
— Ну да.
Венька чесал в мокром затылке, хотел что-то спросить залившегося румянцем Алешу, но только хмыкнул, тряхнул беспутной головой.
— Жалко, — растягивая слова, произнес он. — Жалко. Я бы ей крикнул…
Ребята ушли. Максим Петрович устало опустился на лавку рядом с инвалидом.
— Ловко купили тебя, батя, — сказал ему одноногий инвалид. — Не знал, что там женское отделение?
«Купили!» Бесхитростного в жизни Максима Петровича часто «покупали». И жена, бывало, говорила: «Ребенок малый, доверчив больно, а люди этим пользуются, смеются над тобой». Он отшучивался: «Вот и ладно, что ребенок, недаром детишки так любят со мной возиться, они доверчивых чуют». Она в ответ безнадежно махала рукой: «Хоть век говори об одном и том же, не понимаешь». — «А ты не говори, что в ком заложено, не переделаешь».
Костыль инвалида валялся под лавкой, сам он со странной усмешкой на отечном лице разглаживал культю с надетым на нее резиновым чулком. Максим Петрович, приглядевшись, понял: не усмешка — морщится человек от боли, худо ему.
Оттого что человек этот был страдающим и чем-то близким ему, он проникся к инвалиду доверием.
— Болит?
— Болит, проклятая. Вроде и всего-то, отсекли — и нет ее, а ведь каждый палец чувствую. — Длинной костлявой рукой инвалид судорожно мял резиновый чулок. — Вот нажимаю… большой. Он у меня и раньше болел. Болванкой на заводе зашиб.
— Ты мне, мил человек, вот что скажи, — пригнувшись к нему, стесненно спросил Максим Петрович. — Скажи мне… пятку оторвало у знакомого… Как такое могло случиться?
— Ты всерьез, батя? — инвалид пересилил свою боль и улыбнулся.
— Разве таким шутят? Хочу от сомнения отойти, вот и спрашиваю.
— Ну и ну! — инвалид с любопытством глянул на старика. — То проще простого: разорвалась сбоку мина или снаряд. Осколок не выбирает, куда швырнет.
— Вон что! — с одобрением на это понятное объяснение сказал Максим Петрович. — Я грешным делом подумал…
— Посчитал, что ногу нарочно выставил, чтобы подстрелили, а? Или убегал, так вдогонку? Ты что, сам-то не был в армии? В германскую вроде бы должен по возрасту…
— Два часа я был в армии, мил человек. В германскую войну я на Путиловском находился, в окопы нас не брали. А тут, когда революция стала, двинулись мы со своими пушками на Керенского с генералом Красновым. Тогда, вишь, как получилось: Керенского сбросили, так он к Краснову в войско подался, на Питер пошли. Вот мы со своими пушками им навстречу. Под Гатчину, до фронта, добрались, а тут приказ: всем рабочим вернуться на завод пушки делать, без них, мол, найдется кому из орудий стрелять. Всего два часа я и был на передовой.
— Ну и не жалей, батя. Что у вас там было в те годы, еще понять можно, мы попали в катавасию похуже. Вот вроде и знали, что воевать придется, готовились, а немец все спутал, вон куда залез, под самую Москву аж, откуда только сил набрал. Правда, вся Европа, подмятая им, ему помогает, на него работает. И все же… Твой-то родственник без пятки переживает сильно, так? Ходить не может?
Может, он все может. Он и без пятки хорошо бегает, сразу помрачнев, непонятно ответил Максим Петрович.
Он сходил к крану, налил свежей воды себе и инвалиду. Тот поблагодарил: прыгать на одной ноге по скользкому полу было небезопасно.
— Внуки твои мальчишки-то?
— Внуки? — удивился Максим Петрович: с чего это инвалиду вошло в голову? — Нет, работают у меня. Ученики.
— Ученики, а так неуважительно, — осуждающе сказал инвалид.
— Так ты сам заметил — мальчишки! — встопорщился Максим Петрович. — Что с них взять?
Инвалид с удивлением покосился на него, не зная, как отнестись к его вспышке.
— Ты сперва рассуди, потом осуди, — назидательно добавил Максим Петрович. — Между прочим, эти мальчишки делают не меньше взрослых. Кабы ты видел, как они работают. Загляденье! И не требуют ничего себе. Кабы ты видел, так и не говорил.
— Что ты, батя, я не хотел ни тебя, ни их обидеть, — смущенно сказал инвалид. — Просто увидел — дети…
Но Максим Петрович, взгорячившись, не сразу остывал.
— Дети! — язвительно передразнил он инвалида. — Конечно, дети. А ты сразу как из ружья стрельнул: неуважительно! Хорошо оно у тебя, ружье-то, бьет: с полки упало, семь горшков вдребезги. Я вот думаю, побить наших людей Гитлер вздумал. Куда ему, если у нас такое поколение выросло.
— Это так, — покорно согласился с его словами инвалид и, искоса посмотрев на старика, осторожно спросил: — У тебя что, своих-то нет?
— Своих? — Максим Петрович сразу обмяк, невидящими глазами смотрел на запотевшее окно. — Были свои… Семья у сына осталась за немцами. От самого первого дня ни весточки. Дочь есть, здесь живет. Ну да что дочь…
— Видно, на границе сын был?
— Там, — коротко ответил Максим Петрович. — Командир он.
— Не отчаивайся, батя. Много наших осталось в окружении. Понемногу выходят, в партизанах остаются. Вернется и твой.
Максим Петрович взял тазы. Инвалид положил ему руку на плечо, запрыгал с натугой. Костыли гулко стучали, волочась по каменному полу.
— Раньше по эку пору в буфете пиво было, на подносах горой раки вареные. Не лишней и стопочка являлась, — прерывисто говорил инвалид. — Вот, рассказывают, в Польше. Идет человек из церкви, костел у них называется, завернет в пивную, кафе по-ихнему, возьмет с бережью пятьдесят граммов, тянет глоточками, продлевает удовольствие. Так и мы, только не из церкви — после бани. На Руси так уж всегда было: хоть ты и нищий, а стопку после бани прими. Да…
Занятый своими думами, Максим Петрович не слушал инвалида.
— Вот так, — сказал Максим Петрович, усаживаясь на стул, поудобнее придвинул его к столу, огляделся. — Что пятку тебе оторвало, это, значит, могло быть и не когда ты бежал. Узнал я. С хорошим человеком переговорил, ранение твое в пятку естественное. Могло в бою быть… Мина али снаряд не разбирают, куда стукнут.
Тот, к кому он обращался, зять его Григорий, стоял перед зеркалом, прихорашивал смоляной жесткий чуб. От слов тестя рука его застыла у лба, скрипнул протезный ботинок, когда он обернулся.
— Ну, отец, спасибо, огорошил, — сказал он. От изумления он даже не успел рассердиться. — Ты прямо-таки путаешься в словах, в голове у тебя не пойми что, старость радости не приносит, конечно… С чего это ты завел такой разговор?
— Больно скоро ты вернулся, — отчужденно и упрямо сказал Максим Петрович.
— А ты хотел, чтобы я там остался? Убитым? — Он кивнул на жену Зинаиду, которая сидела на краю постели, наблюдала за сборами мужа. — Чтобы ей похоронка прилетела? Этого ты хотел?
— Ты голос-то на меня не подымай, — все тем же упрямым тоном продолжал старик. — Похоронка, убитым… Война, гляжу, не так тебя повернула. Легкость жизни у тебя. Вот в ЖЭК подался.
— Тебя не спросил! — зло ответил Григорий. — Что, в ЖЭКе-то не люди работают? По военному времени так это очень даже ответственная работа: беженцы, бомбежки, переселять надо… — Он запнулся, подыскивая более веский довод, и, не найдя ничего подходящего, досадливо махнул рукой: «Э, убеждать полоумного — только нервы портить. Как что втемяшится — ничем не собьешь».
По лицу Зинаиды видно было, что все, что говорит ее Григорий, было ей понятно и казалось справедливым. Косо глянув на нее, Максим Петрович отметил, что она смотрит на своего мужа глазами кролика. Хоть и говорят: любовь — летучее вещество, да вот что-то долго это вещество не покидает ее. Будто не догадывается, что он обманывает ее на каждом шагу, другие женщины у него на уме. Максим Петрович обвел взглядом комнату: неказистая обстановка и тесновато. И только сейчас вдруг понял, почему Григорий выбрал себе такую работу: «В нынешнее время, когда война все перевернула, люди уезжают, приезжают, жэковские работники — как боги, многое от них зависит, и многие зависят».
— Переселять, выселять, — сказал он зятю. — Это и любая женщина может, у нее еще лучше получится. Они вон, бедняги, вместо мужиков у станков на заводах маются, по двенадцати, без выходных.
Григорий, попрыскав одеколоном лицо, растирал его ладошками, пристально всматривался в зеркало. На слова тестя пробурчал невнятно что-то вроде: кто как хочет, тот так и мается. Потом, поцеловав жену, которая так и потянулась к нему при этом, он ушел.
— Татьянка где? — сердито спросил Максим Петрович.
— Из школы еще не пришла. Шьют они что-то там с учительницей, говорит: «Бойцам на фронт». С такой серьезностью сказала, хоть падай.
— А ты не падай, чистую душу не марай. — Он вытащил из кармана бумажный кулек. — Ha-ко вот ей гостинец. Талон на сахар отоварили, конфет взял.
Зинаида приняла кулек, но сказала:
— Себе бы берег, сам-то, поди, гольем чай пьешь. А ей Гриша другой раз приносит.
— Да, да, — сварливо заметил Максим Петрович. — Приносит… Высыплет тебе в подол, ты, дуреха, и рада, даже не спросишь, где он был, откуда вернулся. Расходилась бы ты с ним, какая уж жизнь, — уже теплее добавил он.
Некрасивое лицо Зинаиды покрылось красными пятнами, глаза ненавистно сверкнули.
— Вона как! — обозленно крикнула она, всплеснула руками, ему даже показалось, что сейчас кинется на него. — Ты насоветуешь!
Зинаида, конечно, догадывалась, куда отлучается муж в нерабочее время; порой, когда приходил за полночь, под хмельком, с трудом подавляла гнев; слыша его пьяный храп, ревела в подушку. Но ведь сейчас у многих женщин и такого-то мужа нету. Все еще не успокоившись, она резко сказала:
— Не встревай в нашу жизнь, не разваливай мне семью. Что ты сегодня ему наговорил? Ужас какой-то! Не смей вмешиваться.
«Она уже развалена, твоя семья», — хотел сказать Максим Петрович, но пощадил дочь, смолчал. Тревожно и тоскливо было у него на душе.
Алеша Карасев шел в корпус, к Веньке. Было холодно, дул пронизывающий, с дождем ветер. Дорога уж куда как знакома, а тут разглядывал улицу и будто впервые видел ее. На дома жалко смотреть: когда-то красивые, выкрашенные каждый по-своему, сейчас были вымазаны в грязно-серый маскировочный цвет; бумажные полосы на окнах напоминали о бинтах, с которыми всегда связаны страдание, боль. Говорят, серые дома с самолетов не так заметны, словно летчики бьют только по видимой цели, не сверяясь с точками на карте.
Город стали бомбить все чаще, пока больше пытаются взорвать железнодорожный мост через Волгу; там по обоим берегам полно зениток, во время бомбежек их хлопанье слышно даже в фабричном поселке, небо тогда бывает истыкано белыми барашками взрывов. Все уже знали, что фашист сбросил бомбу в деревянный вокзал станции Некоуз. Вокзал был переполнен беженцами, разметало и само здание, и людей. Знал же летчик, что мирные люди — женщины и дети — никакой угрозы немецкому рейху не представляли, и не дрогнуло сердце.
У гастронома на улице Стачек стояла длиннущая очередь за хлебом, хвост очереди оканчивался у «поповского» дома, что был от магазина метрах в двухстах. Как всегда, у самых дверей была толкучка, размахивали руками, кричали: без очереди старались пройти инвалиды и вместе с ними нахальные.
А все-таки чертовски холодно, даже поднятый воротник шинели не спасает от ветра, видно, наступала настоящая зима. Чтобы хоть немного согреться, до корпусного подъезда Алеша бежал.
В трехэтажном корпусе с длинными от торца до торца коридорами и бесчисленными каморками-комнатками по обе стороны было, кажется, еще холоднее, пахло сыростью. Поднимаясь на этаж, где жил Венька, Алеша столкнулся на лестничной площадке с худеньким, болезненного вида мальчонкой лет шести. Засунув палец в рот, он пресерьезно смотрел, как Алеша подходит к нему, а когда поравнялись, мальчонка вдруг сказал:
— Гадюк…
Алеша опешил: чем он заслужил такое приветствие?
— Гадюк, — снова повторил мальчишка и пошел вниз по лестнице.
Можно было сказать что-нибудь в ответ, можно рассмеяться, но Алеша не сделал ни того, ни другого, он был в явной растерянности.
В каморке Потаповых было как после погрома или когда люди спешат покинуть насиженное гнездо: голые доски кроватей, на полу узлы, обеденный стол задвинут в угол. Мать Веньки, тетя Поля, всегда приветливая, разговорчивая, разбиралась в большом окованном сундуке, на его «здравствуйте» оглянулась, устало откинула волосы со лба, сказала без радости:
— Алеша, ты? Присаживайся. — И опять занялась делом.
Сам Венька безучастно смотрел в окно, из которого видна была фабричная башня с развевающимся флагом и высокая кирпичная труба без привычного на этот раз дыма. В руках Венька держал половую щетку. Он хмуро спросил:
— Чего пришел?
— Ты что, забыл, о чем договаривались? В кино хотели пойти. Военные киносборники показывают.
— Какое там кино! — Венька отшвырнул щетку в угол, указал взглядом на узлы. — Уезжать надо.
Венька потянул Алешу в коридор, там сказал, что фабрика эвакуируется в низовья Волги, его мать уезжает и он едет с нею.
— Как же… с училищем-то как?
— А что училище! — Венька притянул Алешу за обшлаг шинели. — Ну, что училище! Не могу же я позволить ехать ей одной.
— Но почему? — Услышанное было так неожиданно, что Алеша никак не мог подобрать нужных, как ему казалось, убедительных слов. — Но почему же? Не одна она едет — с людьми, с которыми работает, знается?
— Все равно не могу, — вздохнув, сказал Венька, и лицо его стало печальным, какого Алеша еще не видел. — Да и училище, — продолжал Венька. — Чему я здесь научусь? Сверла ломать? А если и научусь чему, то какой толк? Вон продолжают фабрики вывозить подальше от немца, значит, не уверены. И то, на границе с областью дерутся с фашистами. Затем учиться, чтобы на немцев работать?
— Да ты что! — изумился Алеша. — О чем говоришь-то Венька? Да разве не видно… Ходим же мы с гобой через станцию, видим, сколько эшелонов с пушками и танками к Москве идут. Зря, что ли, это?
— Не знаю… Ты посмотрел бы, со всей фабрики вытаскивают машины, околачивают досками. Баржи стоят под погрузку… Да что говорить, я там больше могу делать. Теперь меня и на завод возьмут, настоящее дело доверят.
— Здесь-то ты разве не настоящее дело делал? Сколько грузовиков с минами из училища каждый день уходит. Не сами по себе рождаются эти мины. А эвакуируют машины, так это из-за частых бомбежек, там спокойнее, немцы не налетают. Я так думаю.
— Не могу я мамку одну отправить…
Алеша удрученно молчал. Конечно, прав Венька, нельзя оставлять родного человека, мать, в такое тяжелое время, но жалко без друга оставаться, даже не то — невозможно без Веньки будет.
Я вот что, Венька, хочу сказать, — смущенно начал он, — привык я к тебе…
— Так и я к тебе привык, — улыбнулся Венька, положил руку на Алешино плечо, заглянул в глаза. — Ты погоди, ладно, посмотрю, как мамка на новом месте устроится, пожалуй, вернусь.
— У, это здорово! — повеселел Алеша. — И знаешь, вернешься — сразу к нам жить. Все равно мы с мамкой вдвоем, сестра в казарме при заводе, комната большая. Пойдешь к нам?
— Так в нашей каморке тетушка будет жить, папина сестра, тетя Нюра. Мамка сказала, пусть живет, чтобы не заняли каморку, надеется вернуться. Я приеду…
— Веньк, тут на лестнице мальчонка маленький меня обругал…
— Сказал: гадюк? — сразу догадался Венька.
— Ага! Я даже не знал, что ответить.
— Больной он, несчастненький, не обижайся, — пояснил Венька. — Отец у него забулдыга был, мамку его колотил чем попадя, вот он такой и родился… Отца-то на войну забрали, а мать пропала куда-то, бросила, словом. Так он из каморки в каморку ходит, жалеют его, кормят.
— Я не обиделся…
Со слабой надеждой на возвращение Веньки из эвакуации уходил Алеша из корпуса. Представлял, как сейчас придет домой, встанет в своем уголке у слесарных тисков и совсем успокоится, может, даже помечтает о чем-то хорошем…
Но уж такой сегодня тревожный день выпал: шел он, опустив голову, не смотрел по сторонам, его окликнули:
— Карасев! Алеша! Ты ли?
Алеша поднял глаза. Перед ним стоял их школьный учитель литературы Валентин Петрович. Одет он был странно: длинное черное, довольно потрепанное пальто, кирзовые, побелевшие от времени сапоги; всегда следивший за собой, сейчас он был небрит и, кажется, даже несколько дней не умывался.
— Хорош, коли разглядываешь с удивлением, — с легкой улыбкой сказал учитель. — С работы, браток, иду, с завода. — Крупный нос его морщился, как будто Валентин Петрович собирался чихнуть и заранее ждал этого удовольствия. — Постарел я, видно, изменился, глаза-то у тебя округлились, и рот от изумления баранкой. Что ж, не гребень, дружок, голову чешет, а время. Вот ушел вслед за вами из школы. Пустовато без вас стало, затосковал.
Алеша даже не пытался справиться с волнением, не поверил он и тому, что Валентипу Петровичу «пустовато стало» — не в одном он классе преподавал.
— Зачем ушли-то? — не понимая, спросил он. — Ведь школу-то не закрыли? Нет?
— Ну, Карасев, — засмеялся учитель, — вроде ты бестолковостью не отличался. Говорю же, время такое, потребовало туда, где я нужнее. В армию не берут, на завод — с полной охотой. Все-таки мужская сила.
Все равно у Алеши не укладывалось в голове: как это можно было учителю оставить школу?
— Но как же! Другие ребята остались, хотят учиться, а кто их учить станет? Кому-то надо.
— Ну, кому надо, тот и остался в школе, — легко отозвался Валентин Петрович. — Не одобряешь?
Алеша пожал плечами. Он был далек от того, чтобы осуждать учителя за его поступок, сделанный, конечно, с благородной целью, но нутром чувствовал, что Валентин Петрович поступил как-то не так, почему-то свою учительскую работу считает менее нужной. Война войной, а ребята растут, им учиться надо. Жизнь-то ведь не кончается сегодняшним днем.
— Что о себе не рассказываешь? Дела-то твои как?
— Ничего, — неуверенно ответил Алеша. — В общем, хорошо: учусь, работаю…
— Ну прощай. Не в духе ты будто сегодня.
«Какое там — в духе! Одно за другим нынче валится на голову».
Алеша смотрел ему вслед: в своем полинялом пальто учитель шагал размашисто, уверенно ставил ноги, гулко стучали каблуки по мостовой.
«Поди-ка разберись, что хорошо, что плохо, — сердито подумал Алеша. — Все перевернулось на этом свете».
Глава четвертая
1
Они сидели на верстаках, болтали ногами и разговаривали о мастере не стесняясь, хотя он и был рядом: для того и говорили громко, чтобы он слышал.
— Валенцы-то у него совсем новые, необмятые. И с галошами. Гляньте, как блестят, долго смотреть, так ослепнешь.
— Не пойму только, зачем он эти галоши надел — не грязь. Вон за окном снег сверкает, сугробы целые. По такому снегу заторопится, и потерять может.
Невольно повернули головы к окну, за которым видны были снежные крыши. День стоял солнечный и морозный, звал на улицу.
— Что ты — зачем галоши! Не для улицы он надел, пол-от в мастерской масляный какой, жалко валенцев.
Да, таких валенцев ни у кого в училище нету. Это тебе не бахилы, что у нас на ногах. — Говоривший Алеша Карасев приподнял ноги, обутые в матерчатые на вате сапоги, напоминавшие рукава от зимнего пальто, но с твердой подошвой, — кустарное изделие военного времени.
— Ну, Карась, ляпнул: в училище нету… Ни у кого в городе, вот что я тебе скажу.
— Пиджак-то, братцы, без тряпки отглаживал, прямо утюгом по материалу. Гляди вон, рукава светятся.
— Как догадался, Галкин?
— А у меня тетка портниха. Я раз так же стал отглаживать, по рукам получил.
— Он по рукам не получит, потому что у него никого здесь нету.
— Смеетесь, бесененки? — донесся добродушный голос Максима Петровича от стола, где он прибирал инструмент. Вам бы только поизмываться над стариком.
Его замечание не смутило ребят, наоборот, оживило.
— За вас радуемся, праздничный вы какой-то.
— Радость у меня большая, — согласился Максим Петрович, и мягкая улыбка осветила его старое лицо.
На какое-то мгновенье ребята понимающе примолкли, знали, что на днях мастер получил письмо от сына Егора, первое с начала войны: вгорячах он собрался было ехать к нему, да опомнился: не одна тысяча километров до сибирского города, где находится госпиталь. Сказал только со вздохом: «Видно, тяжело ранен, не известил, когда проезжал… Долго ли мне было до вокзала добежать…»
Ученики томились необычным для них в эту пору бездельем, недоумевали, зачем Максим Петрович прервал работу. Вот уже более полугода являлись они в мастерскую, разбирали инструмент и всю смену выполняли ставшие привычными операции: запрессовывали фибровые заглушки в гайки с наружной резьбой, сверлили эти заглушки, вклепывали латунные стерженьки — за долгий день мурашки в глазах появлялись. А нынче мастер вдруг остановил работу, заставил подмести мастерскую. Столкнувшись с Сеней Галкиным, накричал на него: «Вот он, полюбуйтесь! Лучший ученик! Что ты охламоном выглядишь? — (У Сени на крыльях тонкого носа масляные разводы, взъерошен.) — Приведи себя в порядок». И остальным велел умыться и причесаться. И вот сидят, ждут, а чего ждут — не знают.
Все разъяснилось перед обедом, когда в мастерскую пришел директор училища Пал Нилыч, худой, очень малого роста пожилой человек с воспаленными глазами — то ли от усталости, то ли от какой болезни; он опирался на тяжелую палку, потемневшую от времени, с которой никогда не расставался. Даже мастера, много лет проработавшие в училище, не помнили, когда Пал Нилыч стал директором; менялись названия: сначала ФЗО — школа фабрично-заводского обучения при заводе, потом ФЗУ — фабрично-заводское училище при том же заводе, сейчас РУ — ремесленное училище, относящееся к общегосударственной системе трудовых резервов. Шефом остался тот же завод, но выпускниками он теперь уже не распоряжался, их могут послать на любое предприятие страны. Так вот Пал Нилыч, какие бы названия училищу ни присваивались, всегда оставался директором. И хотя ребятам не приходилось с ним сталкиваться, они все больше с мастерами, но в училище о нем устойчиво говорили: Пал Нилыч — мировой мужик!
С директором вошел коренастый и большеголовый мужчина в сером кителе с накладными карманами, галифе и хромовых сапогах. Он был седоват, коротко острижен, и у него были лохматые и такие длинные брови, что если взять за кончики и потянуть вниз — до рта, чтобы пожевать, может, и не достанут, а уж нос обязательно накроют. В сравнении с Пал Нилычем, маленьким, худеньким, который стоял рядом с красной папкой под мышкой, он просто казался глыбой, даже в мастерской потеснело. Это был военпред Михайлов, он распоряжался, чтобы военная продукция с завода и училища уходила без задержки.
С приходом гостей Максим Петрович выстроил учеников по линейке, от стены до стены, сам встал с правого края, как командир боевой единицы. Выглядел он парадно в своем отутюженном костюме, в новых черных валенках с блестящими галошами, лысая голова порозовела от волнения.
Передать торжественную интонацию и подчеркнутую уважительность в речах выступающих просто невозможно, об этом не напишешь, это надо слышать, и только слышать. По словам военпреда Михайлова, не будь ребят, их самоотверженной работы в то время, когда еще заводы не перестроились на военный лад, так и немцев не разбили бы под Москвой, не отогнали бы на сотни километров. Не избалованные похвалой, в строю ребята переминались с ноги на ногу, не всему верилось, что слышали, но было приятно: кому не нравится, когда о тебе хорошее говорят? И потому, к неудовольствию Максима Петровича, на лицах появились улыбки, расслабленность.
Тут и военпред Михайлов сообразил, что перед ним стоят мальчишки, которые хоть и стараются понять важность происходящего, но внимание их больше обращено на него самого, и даже на его лохматые, удивительные брови, на директора Пал Нилыча и его папку под мышкой, что и говорить-то с этими ребятами следует совсем по-иному. Он как-то по-хорошему посмотрел на учеников и сказал:
— Вы даже не представляете, какие вы славные парни. Мне очень приятно быть здесь у вас. Мы обязательно передадим нашим воинам, чьими руками здесь делалось оружие, ваше оружие. Спасибо, ребята!
Директор Пал Нилыч тоже горячо поблагодарил учеников за отличную работу. Потом он раскрыл папку и торжественно произнес:
— Награждается Почетной грамотой за вклад в общее дело разгрома врага Семен Николаевич Галкин!
Батюшки! Даже не все сразу поняли, что «Семен Николаевич» — их Сеня Галкин!
Сеня Галкин выступил из строя и встал перед директором со вскинутой головой, широко улыбался, и лицо у него было задорное и несерьезное.
— Получите, товарищ Галкин. — И Пал Нилыч, отдавая грамоту, крепко тряхнул Сенину руку.
Но это еще было не все…
— Награждается грамотой Алексей Петрович Карасев…
Пожалуй, это Максим Петрович заранее сказал директору, что Сеня и Алеша оказались умелее всех и больше всех сделали деталей для мин. В грамоте говорилось, что она выдана за успешное выполнение военного заказа. А сверху в углу красными буквами был напечатан известный по плакатам и газетным страницам лозунг: «Смерть фашистам!»
Такую грамоту Алеша Карасев и не мечтал держать в руках. В школе, правда, получал похвальные листы, когда оканчивал класс на пятерки и четверки, но в школе кому такие листы не давали, а здесь только Сене и ему. Покраснев от удовольствия, он взял грамоту и, направляясь на свое место, встретился взглядом с Павлушей Барашковым — выражение Павлушиного лица было обиженным, а из левого глаза скатывалась на щеку слезинка, правое глазное яблоко почему-то было сухим, это Алеша отметил как-то неосознанно. Он глянул на стоявшего рядом с Павлушей Васю Микерина — у того на губах блуждала ехидненькая улыбка. Добро бы Вася Микерин, который не умеет радоваться чужому успеху, — остальные ребята выглядели какими-то неестественными, напряженными. «Завидуют, что ли? — подивился Алеша. — Вот чудики, есть из-за чего». Но приподнятое настроение сразу упало. «А я радовался бы, если бы дали кому-то другому, не мне?» — спросил он себя, и ему пришлось признать, что восторга бы не испытывал: все же старались, не отлынивали от работы. Максим Петрович и директор хотели, конечно, добра: отметили лучших в назидание другим, а вон как получилось. Уж лучше бы на всю группу дали одну грамоту…
А взрослые еще говорили что-то о том, что сознательный труд — главное в жизни, люди, мол, приходят и уходят, а сделанное ими остается, вот и училище желает видеть их сознательными рабочими.
— Еще раз спасибо, вы очень хорошо помогли общему делу, — сказал перед уходом военпред Михайлов.
— А разве мы не будем выполнять военный заказ, это уже все?
Павлуша Барашков сказал это почти испуганно, лицо его с зарумянившимися щеками все еще было обиженное. Все поняли, что ему тоже хотелось получить Почетную грамоту.
— Не совсем так, — мягко сказал военпред Михайлов. — Но, что вы будете делать, вам объяснит мастер.
Максим Петрович уже открыл было рот, но его опередил директор Пал Нилыч.
— На заводах, куда вы придете, не посмотрят на вашу молодость, — строго сказал он. — Спрашивать будут сполна. О чем это говорит? Да вот о том, что вы должны успеть здесь овладеть мастерством. Не можем же мы выпускать из училища недоучек!
«Мировой мужик» Пал Нилыч так это жестко выговорил, получилось, будто ребята сами в чем-то виноваты…
В столовой к Алеше Карасеву подошла Танька Терешкина, все такая же тщательно завитая, но озабоченная.
— Алешенька, грамоту получил? — спросила, усаживаясь напротив на свободную табуретку. — Покажи.
Посмотрела мельком и вернула со вздохом:
— Красивая. — Потом вгляделась в Алешино лицо, будто хотела увидеть для себя что-то новое.
— Ты чего это? — насупившись, спросил Алеша. — Утром виделись. «Привет!» — кричала.
— Ну да, конечно, — без всякого выражения подтвердила Танька. — Вчера узнала, Маклаиха с эвакуации вернулась. Говорит, не одна, многие… О Веньке не слышно?
— Каждый день жду. А ты что, соскучилась?
— Вот еще! — Танька гордо вскинула завитую голову. — Нужно мне скучать еще об этом рыжем. Просто так спросила.
— Говори! — усмехнулся Алеша. — Про какую-то Маклаиху разговор завела…
— Дурак ты, Алешка! — рассердилась Танька и поспешно поднялась.
Алеша Карасев шел домой. За пазуху, где обычно у него лежала горбушка хлеба, он сунул и грамоту. Шел один и был этим доволен, хотелось побыть одному. Оказывается, все эти месяцы не ахти уж каким делом они занимались, сил затрачивали много, а вырабатывали мало, курам на смех, одним словом — подлинная кустарщина. Это им сказал Максим Петрович. Надо же, Старая беда, а раньше молчал, даже нет, по-другому пел: «Вам поручено важное дело». Хотя все было просто: иного выхода не было, пока экономика еще не перестроилась на военные рельсы, все, кто мог, помогали делать оружие. Теперь такая необходимость отпала, ребята станут наверстывать в учении, будут изготавливать измерительные скобы для внутреннего и наружного замера деталей, сделать скобу — значит пройти все стадии обработки металла: от грубого резания до закалки и шлифовки с микронной точностью. Вот только почему мастер не был откровенен с самого начала? Боялся расхолодить, отбить интерес к работе? Цыплячьи, дескать, ваши усилия, да все в общую копилку… Нет, как там другие — неизвестно, но Алеша чувствовал себя в чем-то обманутым.
Он не торопился домой, сегодня мастер отпустил их раньше. Зима заметно повернула на весну, деревья еще стояли в пушистом инее, а с южной стороны у кромки крыш снег подтаивал, свешивались робкие сосульки. Солнце, окруженное туманной дымкой, неспешно опускалось за железнодорожной станцией, рядом с которой Алеше предстояло пересечь многочисленные стальные пути, забитые вагонами. Первое время он побаивался нырять под вагонами, пока не освоил Венькину подсказку: почти под каждым вагоном протянута цепочка из загнутых проволок, потянешь ее и, если зашипит пар, — паровоз прицеплен, в любую секунду состав может тронуться, будь осторожен, а лучше перелезь по ступенькам через тамбур; не шипит пар — ныряй смело, паровоза нету.
Ах, Венька, Венька, как тебя не хватает. Танька Терешкина правильно завела разговор о знакомой ей Маклаихе. На фабрику постепенно возвращаются эвакуированные, из тех, кто отправился баржой по Волге, — баржа не дошла до места, где-то под Саратовом вмерзла в лед. Оборудование пришлось сгружать на берег, перевозить на тракторных санях и автомобилях до железной дороги, и снова ехать. Пока перевезли и установили на место, времени прошло немало. А там стало известно, что немца погнали, их фабрика с оставшимся оборудованием работает по-прежнему. Вот и потянулись назад.
Алеша ждал Веньку каждый день, не хотелось думать, что с ним случилось что-то плохое. Не такой он человек, чтобы сгинуть безвестно.
Почему-то показалось, что именно сегодня он увидит Веньку, придет домой, а мать скажет: «Дружок твой эвакуированный прибегал, спрашивал…»
Алеша невольно прибавил шагу. Он уже подходил к железнодорожной станции, когда навстречу, на дорогу, вывернула крупная лошадь, запряженная в сани. Сбоку саней, держа в руках вожжи, шагал угрюмый мужик в лохматой шапке. Алеша сошел на обочину в снег, чтобы пропустить подводу. Под краем коробившегося на холоде брезента, которым были накрыты сани, виднелось что-то неживое, белое. В это время солнце высветило брезент, и Алешу пронзила дрожь: из-под брезента торчала детская нога. Он догадался, что в санях лежат трупы.
Можно было уж и привыкнуть, сколько их из госпиталей, размещенных в больницах и школах, везут и везут, земля холмом должна бы подняться над телами, но тут в санях были трупы детей, и это было особенно ужасно. Потрясенный Алеша рванулся с обочины, ничего не видя перед собой. Глубокий снег набивался в голенища ватных бахил, он не замечал, не догадывался выбраться на дорогу.
Он добежал до стальных путей и резко остановился. На втором пути стоял эшелон из теплушек, возле него было много людей, они суетились, пробегали санитары с носилками. Из открытых дверей теплушек выносили совсем слабых ребятишек, некоторые выбирались сами. Они стояли на грязном снегу, придерживались исхудалыми руками за стенки вагонов, наверно, от усталости им хотелось сесть, но холодный снег пугал их. Все это было так противоестественно, не укладывалось в голове, что Алеша тупо глядел на происходящее, не в силах сдвинуться с места. В это время какая-то женщина бросилась к нему, пальто ее было распахнуто, головной платок сполз на плечи; нечесаные, бесцветные волосы, казавшиеся безумными глаза — все это было страшно. Алеша отпрянул. Женщина и не заметила его смятения, наступая, совала ему какой-то сверток — что-то вязанное из шерсти, не сводила безумного взгляда с его оттопырившейся на груди фуфайки.
— Миленький, вот возьми, пожалуйста, — горячечно говорила она. — Пожалуйста!.. — И все пыталась всунуть ему в руки сверток.
Алеша не мог выдержать ее умоляющего взгляда, ее слез, он уже сообразил, что каким-то чутьем она догадалась о лежавшем за пазухой хлебе, что ей необходим этот хлеб и, видимо, не ей самой, взамен она предлагает взять принадлежащую ей вещь. Он вспыхнул от стыда, оттолкнул ее руку с шерстяным свертком, запутался с пуговицей на фуфайке, не хотевшей отстегнуться, наконец вытащил горбушку, отдал ей. Женщина прижала к груди хлеб и словно онемела, еще не верила своему счастью. Потом Алеша увидел, как она судорожно запахнула пальто, спрятав горбушку, и, проваливаясь в разжиженном снегу резиновыми ботами, быстро пошла вдоль вагонов.
Алеша вздрогнул от голоса за спиной:
— Ну не растяпа ли. — Мужик в ватнике, валенках, проходивший мимо, сказал это без досады и без злости, скорее с удивлением.
— Что тут происходит? Кто они? — торопливо спросил Алеша. — Что тут?
— Что, что? Вакуированные прибыли с Ленинграда, из блокады вырвались… Говорю: за просто так отдал хлебушек, от свитерка отказался. Все равно пропадет свитерок… Мало их выживет…
Только сейчас Алеша заметил, что среди суетившихся людей у вагонов снуют подозрительные типы, с вороватыми оглядками, с сумками в руках. Он внимательней присмотрелся к мужику, который разговаривал с ним. Как это он раньше не сообразил? Да это же базарный барыга, спекулянт! На Сенном рынке теперь шагу нельзя ступить, чтобы не натолкнуться на такого, что-то ухватывают, перепродают, наживаются на чужой беде. А ведь женщина тоже приняла его за барыгу, подумала, что он принес горбушку хлеба для обмена… Алеша растерянно оглядывался. Барыги воровато озираются, трусят, но творят свое черное дело, обирают изголодавшихся людей. Они и передвигаются как-то по-своему, короткими прыжками, по-заячьи. О таких бабушка сказала бы: из плута скроен, мошенником подбит… Нет, не то… Раньше на пожарах таких типов, мародеров, бросали в огонь.
Алеша увидел быстро идущих от станции милиционеров. Ему вдруг показалось, что низенький и плотный, торопливо догоняющий своих товарищей, его старый знакомый постовой с фабричной площади Вася тот-топ Ковырнев. Барыги, учуяв опасность, стали разбегаться, видимо, не раз им приходилось так делать.
Удивляться, почему здесь оказался Вася топ-топ, было некогда, Алеша тоже нырнул под вагон: попробуй докажи, что ты тут случайный человек.
Когда он разделся, почувствовал в комнате холод и пронизывающую сырость. Мать, по обыкновению встречавшая его, сейчас не поднялась с дивана, только спросила:
— Пришел? — Голос у нее был глухой, тусклый.
Алеша забеспокоился:
— Ты что, мам, заболела? — Он подошел к ней, встревоженно всмотрелся в ее осунувшееся лицо. Она улыбнулась, но улыбка вышла какая-то вымученная, непохожая.
— Да нет, здорова, так что-то, приустала. Только что с улицы, подзазябла немножко.
— Озябла, а сидишь, чаю не согреешь. Мучение с тобой…
Он отправился за перегородку, чтобы поставить чай, и уже вслед услышал:
— А она не горит, да и боюсь я этой плитки, еще взорвется, пожару наделаешь.
Так и есть. Алеша раздобыл электрическую плитку, не коптит, как керосинка, тем более с керосином стали перебои, вот плохо только — не найти настоящей спирали; мягкой проволоки он нашел, на толстом гвозде накрутил спираль, а, видно, сталь не та, перегорает быстро. Мать боится подходить к плитке, боится, что взорвется.
Спираль перегорела в двух местах, наверно, мать не заметила, что проволока вышла из пазов, поставила чайник, и произошло замыкание. Еще хорошо, что пробки не полетели, а то бы скандал с соседями.
— Знаешь, мам, сейчас шел мимо станции, эшелон стоял… — занимаясь починкой плитки, стал рассказывать он. — Из Ленинграда ребятишек привезли… Ох, и изголодались они… сами ходить не могут. Их сначала по Ладоге вывозили, по ледовой дороге, а уж потом в поезд…
— Когда только проклятущая кончится, — вздохнула мать. — Столько горя людям принесла, не помышляли даже, что так будет…
— Да… — После всего увиденного на станции Алеша чувствовал, что что-то в нем переменилось, словно повзрослел, лет прибавилось. — Там и взрослые в поезде были, с ребятами… И барыги базарные… Взрослые тоже голодные, кожа да кости, ни кровинки в лице. Мечутся, суют барыгам что у них есть, а те им хлеб, вареную картошку. Жуть что было… Я горбушку свою отдал женщине. Совала мне что-то шерстяное… Шерстяной свитер, мужик сказал…
— И как же?
Алеша услышал в материнском голосе настороженность.
— Как? Конечно, не взял. Не вампир какой-нибудь… Да, мама, посмотри-ка, что мне в училище дали.
Он принес ей грамоту. Мать внимательно рассмотрела, прочитала, лицо ее просветлело.
— Молодец ты у меня. — Она притянула его к себе, но Алеша вывернулся.
— Молодец-то молодец, только бы совсем ее не давали, — нахмурившись, сказал он.
— Да почему же? — Мать смеялась: внезапная перемена в нем развеселила ее. — Не сам же ты выпросил грамоту. Вручили — значит, за дело.
Алеша рассказал, какой неприятный осадок остался у других ребят, а ведь они тоже старались, от работы не бегали. Мать согласилась с ним.
— Ты верно почувствовал, — сказала она с одобрением, — нельзя было кого-то выделять. Вы еще дети, души чистые, чего уж вас со взрослыми-то смешивать. Ошиблись воспитатели, надо было им сказать.
— Да ты что, мама! — изумился Алеша. — Поди скажи Пал Нилычу или Старой беде, скажут: вам не угодишь, все не так, да еще накричат.
— Это кто же такие?
— Ну, директор наш и мастер, Максим Петрович.
— Что же вы своего мастера так… Нехорошо это. Человек он уважаемый, добрый.
— А его Венька так прозвал, вот и повелось. — Алеша вдруг пытливо заглянул ей в глаза. — Не заходил? Венька?
— Да как же он зайдет, когда его и в городе-то нет? Или вернулся?
— Должен бы, многие уже приехали.
— Значит, что-то задержало…
Когда пили чай, мать сказала:
— Завтра в деревню собираюсь. Нынче на Сенную не ходила, на Широкой простояла весь день, и все зря. Деревенских никого не было, снежно, не едут… А барыги, как ты их называешь, — что они за мои вещички дадут? Поднимусь пораньше да подальше уйду, может, и с ночлегом. Там, подальше-то, в глуши, глядишь, и на старушку какую набреду, которой шитье мое по душе придется. Старушки-то по базарам не очень разгуливают, особенно из дальних деревень. Завтра один побудешь, а на выходной Галинку, наверно, отпустят, подъедет…
— Так я тебя и отпущу, — грубовато сказал Алеша. — Лучше не выдумывай. Вместе пойдем.
— А училище как же?
— Ничего не случится, если и не появлюсь денек.
Наверно, мать опешила от услышанного: недоуменно и растерянно смотрела на него.
— Что случилось, Алексей? Ты же всегда так рвался?..
— Успокойся, мама, ничего не случилось. Мы теперь другую работу будем делать, учиться будем чему-то новому. Мастер мне слова не скажет, если не появлюсь. Вот увидишь…
Мать угадала: впервые Алешу не тянуло в училище.
Глава пятая
1
Им предстояло пройти немалый путь, и потому еще с вечера мать просушила обувку, приготовила Алеше шарф, чтобы он замотал шею под узким воротником ватной фуфайки. Ее плюшевая, когда-то модная жакетка была слишком легкой для зимы, но она надеялась, что теплый шерстяной платок, концами которого можно перекрестить грудь, согреет, не даст озябнуть.
Вышли затемно. У обоих за плечами мешки на лямках: материн — округлый, мягкий, Алешин — неровный, при резком шаге позвякивал железками. С утра мороз щипал щеки. Снег под ногами не хрустел: ночная сухая пороша смягчила дорогу.
В километре от последних домов начинался сосняк, вытянувшийся вдоль железной дороги. Сосняк был любимым местом отдыха горожан. Когда-то, до войны, по давней-давней привычке, на выходной приходили сюда семьями, несли с собой одеяла, корзины с посудой и снедью, самовары. Располагались на ночлег на заранее облюбованных местах. Сосновый бор был богат земляникой, брусникой, грибами.
В самые первые дни войны, еще не привыкшие к ночным бомбежкам, жители тоже устремлялись сюда — воздушные тревоги чаще объявлялись ночью, а в темноте взрывы бомб казались страшнее. И тоже шли с одеялами, с едой. Тянулись мимо Алешиного дома. По утрам он видел, как они возвращаются назад, спешат на работу. Так было до осени, потом даже самые слабонервные привыкли к воздушным налетам, да и ночи стали холодными, — шествие прекратилось.
Жить бы и жить могучему сосняку, но он примыкал к железной дороге. С утерей Донбасса паровозы с угля перешли на деревянные плахи. Как раз перед последним броском к Москве эшелоны останавливались здесь, пополняли запас дров. Сосновый бор стали рубить.
Алеша не был в сосняке с лета, с тех пор, как пошел в ремесленное училище, и сейчас не узнавал его: на месте вековых золотистых сосен тянулись длинные и широкие вырубки. Одни пни были занесены снегом, другие еще смолисто желтели, и снег вокруг них был измят, покрыт переломанными сучьями.
Сосновый бор было жалко, но он пропадал не зря — вливал жизненную силу уставшим воинским эшелонам, которые направлялись к фронту.
Железнодорожное полотно они пересекли на маленьком переезде. Тут тоже был лес, но уже смешанный, с березами, осинами, ольховником. Навстречу по дороге стали попадаться подводы, не одиночками — шли обозы: колхозники везли сдавать в город зерно, картофель. На нагруженных и обвязанных веревками санях сидели в полушубках, в тулупах, в мохнатых шапках возницы — старики, но больше подростки. Возчики без любопытства провожали взглядом отступивших в снег путников. Вид груженых возов радовал Алешу прежде всего тем, что в деревнях, видно, не совсем уж голодно и они идут не зря.
Проходили деревни, но мать не останавливалась, ей хотелось попасть в деревню, отстоящую от большой дороги, а здесь и без них побывали многие.
В пустынном белом поле их нагнала лошадь. На этот раз сани оказались без груза. Возница, он сидел спиной к лошади, и сначала Алеша принял его за подростка из-за малого роста и узкой спины, когда обогнал их, вдруг превратился в пожилого мужика с черным цыганским лицом. И борода его, и высокий воротник тулупа были в инее. Алеша надеялся, что мужик остановит лошадь и предложит подвезти, но тот только внимательно и колюче оглядел их.
— Вакуированные нешто?
Спросил без интереса, пожалуй, чтобы только что-то сказать.
— Нет. Из города, — коротко ответила мать.
— Я думал, вакуированные, — поскучнев, сказал возница. — У нас их много, шагу негде ступить. Но и то смотрю, те все в прошлом годе прибывали, с-под Смоленска особо. И сейчас еще приходят, конечно… Куда путь держите?
— Куда поглуше, — неохотно ответила мать. Она тоже надеялась, что мужик подсадит их, но тот и не думал делать этого.
— Поглуше! — передразнил он и хмыкнул. — Нет уж глуше. Ваши городские побирухи все деревни истоптали.
Вглядываясь в колючие, неприятные глаза мужика, Алеша поражался, до чего же он злющий, недобрый: «Находятся же такие ненавистники! Будто мы за его куском хлеба идем».
— Что на мену-то у вас? — спросил возница.
— Для вас не подойдет, — холодно ответила мать. — Езжайте своей дорогой.
— Почему это — не подойдет? Ежели хорошее полотно, мех какой или кружева на окна — в самый раз подойдет.
— Ладно тебе смеяться-то, — все еще сдерживаясь, сказала ему мать. — Езжай, говорю.
Но мужик не торопил лошадь. Когда же они хотели его обогнать, он тряхнул вожжи, и лошадь пошла быстрее. Мать остановилась, и он придержал лошадь. Мужик явно издевался. Алеша задохнулся от возмущения: «Вот подлец!»
— Ты… ты, кривоповязанный, гони давай! — выкрикнул он. — Не то смотри…
Что «смотри», он не договорил, но готов был броситься на обидчика. Он был так щупл, этот злодей, что Алеша мог бы легко намять ему бока.
— Ты кому! — истошно завопил возница. — Вон они как, городские-то! Небось живо приберем, найдем управу!
А Алеша уже сбрасывал мешок, он не на шутку разозлился. Держа мешок на вытянутой руке, он побежал к саням.
— Алексей, остановись! — предостерегающе крикнула мать.
Алеша опомнился, повернулся к ней, мешок с железками все еще раскачивался в его руке.
— Успокойся, сынок, не обращай внимания, — ласково сказала мать.
— А чего он? Что мы, хуже его? Издевается, скотина!
— Алексей, что я слышу? — Мать покачала головой: грубость сына поразила ее. — Нельзя так распускаться. А потом ты не дома, — мягко добавила она. — Сдерживайся.
Мужик, приготовившийся уже нахлестывать лошадь, сам испуганный, проговорил:
— Ишь, какой ершистый… Разобиделся… Не на городских улицах, нечего на людей бросаться…
— Уезжай, мил человек, — все так же сдержанно сказала мать. — Нашел себе забаву,
— Да я ведь что, — осклабился мужик. — Пошутить хотел, а он… Видишь деревню? — Он указал налево, где виднелись белые от инея березы и такие же белые крыши домов. — Скоро сверток будет, по нему и идите. Богато живут, справно. Спросишь Фаину Савельеву. Как войдете, второй ее дом будет. Дома у нее зажиточно, найдет и вам что-нито.
Мужик уехал, а они пошли дальше. И верно, вскоре увидели тропу, которая вела в деревню. Может, в деревню где-то в другом месте была пробита дорога, а тропка — чтобы сократить путь от большака, но все равно мать обрадовалась, повеселела: тропа вселяла надежду, что «городские побирухи», к каким была причислена мужиком и она сама, еще не добирались сюда, не надоели.
Вся деревня не больше десяти домов. Печной дым поднимался столбиками из труб, и эти столбики говорили о тепле, об уюте.
— Поди, этот, — в раздумье остановилась мать у дома недавней постройки. По лицу три окна в ледяных узорах, богатые резьбой наличники, сбоку тоже окно и высокое крыльцо. Зная, что крыльцом в зимнее время редко пользуются, мать уверенно прошла к двери рядом с двором.
Вошли без стука и в растерянности застыли у порога. В избе было тепло, даже парно. Посередине большая выбеленная печь, двустворчатая дверь вела в переднюю, а к боковой стене с окном и широкой лавкой был придвинут обеденный стол. Этот стол и обескуражил их. Трое детишек — девочка и два мальчика — сидели у окна на лавке, с другой стороны стола на скамейке еще двое мальчишек, старшему из всей команды было не больше десяти лет. На столе стояло большое блюдо, и ребята дружно черпали из него щи деревянными ложками, даже появление незнакомых людей не остановило их.
— Кого это бог принес?
Из кухни вышла крепкая, костистая женщина в засаленном фартуке поверх серого платья и валеных опорках на ногах, оглядела вошедших.
— Послали нас… — смущенно пояснила мать.
— Кто же это послал-то? — недоверчиво спросила женщина. — Кому я понадобилась?
— Да, конечно… Вижу, ошиблись. — Мать уже сообразила, что тот подлый мужик и тут посмеялся над ней: ну что можно выменять в доме, где куча ребятишек! — По дороге на лошади нагнал нас, чернявый такой, посоветовал… справный дом… — бормотала она, сгорая от стыда. — Вы ведь Савельева? Фаина?
— Ну, Савельева. — Хозяйка поджала губы, помедлила, что-то вспоминая. Затем требовательно и резко спросила: — Еще что говорил? Болтал-то что?
— Вы извините, — заторопилась мать. — Вижу, не к вам надо было.
— Постой, — грубовато остановила хозяйка. — Раздевайся, уж коль пришла. Чернявый, говоришь? Он, сморчок, он, страхолюд. Ну, дождется у меня… Проходи, грейся, печка теплая. Издалека ли?
— Из города мы.
— Твой? — Она только сейчас взглянула на застывшего у порога Алешу. — Да вижу, что твой. Далеко зашли — из города…
— Нынешняя нужда куда не загонит. — Мать все еще не могла побороть смущения, ребята за столом беспокоили ее. Если бы хозяйка прогнала ее, она бы, кажется, почувствовала облегчение.
— Да уж, нынче ты от горя, а оно за тобой, — согласно отозвалась хозяйка.
Ребята опорожнили блюдо, степенно положили ложки и теперь с откровенным любопытством смотрели на вошедших незнакомых людей, больше занимал их Алеша. Все они были белобрысые, круглолицые. Алеша даже подумал: в порядке ли у него одежка, быстренько оглядел себя. «Пялятся, как в зверинце». Старший, видимо, почувствовал его настроение, покраснел, а потом вышел из-за стола.
— Бабаня, я к Саньке схожу.
— Иди, иди, — откликнулась хозяйка. — А вы на печку, не крутитесь под ногами.
Младшие молчаливо полезли на печь, девочка лет семи осталась убирать со стола.
Хозяйка принесла из кухни чугунок и две тарелки, налила по края дымящихся щей, щедро нарезала хлеба.
«Как городским, тарелки», — подумал Алеша и украдкой взглянул на мать. А она, смешавшись, смотрела на хозяйку, но отказываться не стала — предложено было от сердца.
— Спасибо, Фаина… Отчество-то ваше как, скажите?
— Ешь, ешь. Вон как заморила парня. Васильевной меня величают. Отец Василий, и муж Василием был…
— И я Васильевна. Катерина. Муж-то не на фронте ли?.. — спросила мать, услышав «был».
— Нет, еще до войны похоронила. Дом-от поставил, а пожить в нем не пришлось. Жалела его, еще чего годков-то! Болел… Да что говорить, теперь вот сын воюет. А зять… Ой, молчи, молодка, осиротила ребят война. И что этого Гитлера никто не пристукнет? В гробу ему покоя не будет, что ведь наделал… Дочкины это все. — Она кивнула на печь, откуда из-за занавески выглядывали ребячьи лица. — Сама-то она на лесозаготовках. Бабье ли дело? Старший, Колька, в школу бегает, а Соня помощницей у меня. — Она погладила по волосам девочку, жавшуюся к ней.
Мать опустила голову, задумалась, видимо, все еще пыталась понять, почему мужик направил их к Фаине Савельевой? Ладно, ненавидит городских по какой-то причине, чем же эта добрая и не совсем счастливая семья ему помешала? И хозяйка, когда услышала о нем, отозвалась плохо. Сама из деревни, мать знала, что между соседними домами годами бывает вражда, уж и не помнят, с чего началось, а продолжают на каждом шагу вредить друг другу. Что-то, наверное, похожее и тут. Но спросить она не решалась.
— Утром много подвод встречали с мукой, картофелем, и все в город. Будто не ко времени поставки, — поинтересовалась она.
— Не ко времени, — подтвердила Фаина Васильевна. — С государством с осени рассчитались, а это голодающим. Секретарь приезжал из района, так говорил, много по Дороге жизни голодающих ленинградцев везут, по ледяной дороге… А что за дорога такая — толком не поняла. Намученные, исхудалые, страсть, говорят, смотреть…
— Я видел, — решился встрять в разговор Алеша.
— Где же это ты видел? — недоверчиво спросила хозяйка.
Алеша хотел обидеться: привыкла дома к малышне и его таким же недоростком посчитала. Мать, однако, опередила его:
— В ремесленном училище он, ходить приходится далеко, через железную дорогу. А их на станции Всполье ссаживают, по больницам развозят…
— Чему же вас там учат, маленьких таких? — спросила Фаина Васильевна, и Алеша понял, что материно объяснение нисколько не прибавило уважения к его личности. — Кем будешь-то, родимый мой?
— Слесарем, — буркнул он.
— Это что-то вроде нашего деревенского кузнеца?
— Что-то вроде, — безнадежно подтвердил Алеша. «Рассказать бы тебе, что мы фронтовой заказ выполняли, по-другому заговорила бы. Жалко, что тайна, которую нельзя разглашать».
— Поди, ножи-то точить научился? — подозрительно спросила хозяйка.
— Почему же! — хмыкнул Алеша. — И ножи, и ножницы, топор могу поправить. Инструмент с собой. Надо, что ли?
— Как не надо! В доме мужиков нет. С Кольки какой спрос. Вон Соня тебе даст, поточи.
Алеша встал, церемонно поклонился.
— Спасибо за еду, тетя Фая.
— На здоровье. Сейчас самовар согрею, чай будем пить.
Алеша взял свой мешок и пошел за девочкой на кухню. Он слышал, как мать в разговоре спросила об эвакуированных, обосновавшихся в деревне.
— Да много, много их у нас, — отвечала хозяйка. — Ох, молодка, только на них и держимся. Работящие! Без них, так и колхоза бы не было. Для таких, как Илюха, они нож острый, глаза колет их отношение к делу. Хороших мужиков забрали, остались бабы да старики, да еще как Илюха, все шаляй-валяй: проглотить-то хочется, да жевать лень. Беда…
— А этот Илюха? Люди везли продукты в город… — Мать все пыталась выяснить, почему этот чернявый Илюха так ненавистнически относится к Савельевым.
— Он к ферме прикреплен, солому с полей возит, — пояснила хозяйка. — Нынче оплошали с сеном. В самый-то сенокос мужиков позабирали, бабы еще не отревелись… Какой уж сенокос!
— «Не отревелись». Будто сейчас отревелись, — вздохнула мать.
— Ревут, как же! Почтальона и ждут и бояться стали. А иные уж и закаменели.
Девочка выложила на лавку ножи. Все они были с деревянными ручками, из хорошей стали. Алеша потрогал пальцем лезвия, посмотрел на свет острие, нет ли блеска — не такие уж и затупленные, видимо, хозяйка сама неплохо справлялась с заточкой. Самолюбие его было задето: «Зачем это она? Проверить, умеет ли он хоть что-нибудь делать? Пусть, раз так». Он поправил ножи на бруске. Вот ножницы оказались претупые, из черного металла, не менее века им, как только ими стригли. Крепление ослабло, винт уже был кем-то давно расклепан. Алеша принялся за дело. Соня стояла поодаль и очень серьезно наблюдала за ним. Впрочем, она не забывала бросать любопытные взгляды и на мешок, чем-то он притягивал ее. Алеша улыбнулся ей, поманил пальцем.
— Бабушка лучину ножом щепает?
Девочка кивнула.
Конечно, он уже обследовал кухню, косаря нигде не было.
— Посмотри-ка. — Он раскрыл мешок, показал Соне все свое богатство. Выбрал топорик с насаженной ручкой, подал. — Отдай бабушке… если понравится.
Бабушке понравился топорик.
— Гляди-ко! — услышал он голос хозяйки. Сказано было с преувеличенным изумлением, но, в общем, по-доброму. «Кажись, угодил», — с удовлетворением подумал Алеша: очень хотелось хоть чем-то отблагодарить хозяйку за гостеприимство.
— Самовар-то загреть сумеете? — спросила Фаина Васильевна.
— Приходилось, — солидно ответил Алеша.
— Прости меня, Фаина Васильевна, из головы не выходит, — опять заговорила мать. — Вот этот Илюха, что он к тебе имеет?
— Да и ничего! Такой уж он мотало-ботало, несуразный… Еще когда в молодцах ходил, мотался из деревни в город — почти-то все у нас раньше на заработки в город шли. Ну вот, он ни там не прибился и от крестьянства отбился, ни то ни се вышло из него. Всю-то жизнь… Смеялись на него: чудил и все невпопад, и только. А как не смеяться? Была привычка, увидит у кого что-нибудь, что ему понравится, и скажет: хорошая у тебя эта вещь. И не раз скажет, и не два, а человек не поймет, к чему это он. Раз мой-то Василий, — престольный у нас был, ильин день, — вышел на улицу в сапогах с блестящими калошами, модно тогда было в праздники в таких калошах. Илюха ему и толкует: «Хорошие у тебя калоши». А мой ему: «Да ничего, справные». Василью-то как-то даже приятно стало: заметили. Илюха снова: «Хорошие у тебя калоши». Так-то раза три. Мой Василий взбеленился: «Да что ты все об одном? Слышал же я». — «Слышал, а в понятье не вошел. — Это ему Илюха-то. — Вот у горцев есть такое правило: понравится ему вещь и похвалит он — хозяин обязан подарить ее похвалившему человеку». — «Во-на-а! — подивился Василий. — Выходит, я должен подарить тебе свои калоши, раз ты их хвалишь?» — «Только так, — Илюха ему сказывает. — И после этого становятся они дружками». — «Ну, прежде, ты не горец, — ответил Василий, разумом он не обижен был. — Не горец ты, а таких дружков в семи верстах я видел…»
Деревенская жизнь бедна на события, каждый случай, вызвавший пересуды, порой не забывается годами. Ну а Фаина Васильевна наскучалась по свежему человеку, не могла не выговориться. Мать хорошо понимала ее и слушала со вниманием.
— Будто бы и все, посмеялись люди, когда узнали, что меж ими произошло, — неторопливо продолжала хозяйка. — Оно и так: дураков не сеют, они сами родятся. Но нет, молодка, все не выходят из Илюхиной головы эти блестящие калоши. Дело-то шло к колхозам, о раскулачивании стали поговаривать, то в одной деревне слышим, то в другой — кого-то раскулачили. И появляется Илюха опять перед Васильем: «Все, достукался, чертов кулак, завтра к тебе придут. То-то ты в другую деревню укрыться хотел, да сообщил я куда надо. Не пофорсишь больше в блестящих калошах». Василий поначалу поверил: Илюха в сельсовете вроде посыльного был, с чего бы ему выдумывать? А с другой стороны, что у нас? Лошадь с жеребенком, корова, ну, овцы еще — как у многих, кто работал, не ленился. С голоду не пухли. А про другую деревню упомянул, то правда: еще когда строиться хотели, Василий выбрал вот эту деревню, Шаброво, больно она на веселом месте стоит: река под боком, заливные луга. Красиво тут… А вышло — сбрехнул Илюха, как тать злой. Не совсем, конечно, бумагу он на нас писал в район, сельсовет запрашивали оттуда: проверьте, мол, надо, так действуйте. Сельсоветские мужики ответили: не надо, сроду не был Василий Савельев кулаком…
Алеша принес из кухни вскипевший самовар, вопросительно посмотрел на хозяйку.
— Куда ставить?
— Аль не из деревни; не знаешь, куда ставят?
— Я не говорил, что из деревни, — сказал он.
Когда он обходил скамейку, чтобы поставить самовар на дальний край стола, Фаина Васильевна коснулась его головы корявыми от работы пальцами, потрепала волосы.
— Чего мне говорить, в городе, поди-ко, из чайников пьют, а тебе самовар не в новинку.
— Незадолго до войны перебрались, — пояснила мать.
— И не толкуй. Сказала когда — госпоставки не ко времени, — поняла. Откуда городской знать об этом?
Хозяйка поднялась, прошла в переднюю. Слышно было, как хлопнули створки комода. Принесла она жестяную коробочку с чаем, видимо с бережно хранимым для особых случаев. Мать с каким-то мучительным смущением быстро взглянула на нее, но опять промолчала.
— Удивляешься, топленого молока не ставлю? Как же, в деревне — и чай без молока? Забрали у меня корову… Ну, не совсем, отдадут.
— Как же это вышло? — Мать невольно посмотрела на печку, откуда свешивались ребячьи головы.
— Этим хватает, соседи приносят, — успокоила ее Фаина Васильевна. — А вышло по-глупому, сама виновата, знай языку время и место. Он ведь, язык-то, и поит, и кормит, и по миру водит. — Фаина Васильевна повернулась к девочке, которая стояла, прижавшись к теплой печке, сказала ей: — Ты уж, Сонюшка, почайпьешь с ребятами, не то взревут: Соньку посадила, а нас… — Девочка молчаливо кивнула, и она продолжала: — Нынче время-то какое! Налетел тут полномочный, закрутил, как вихрь… Обстановка требует, не чувствуете этой обстановки, молока мало сдаете… И пошел, и пошел. Какое молоко, отелы только начинаются! А потом ребятишки в каждом дому. Будь тут мужики, рассудительно объяснили бы ему— нагоним, мол, по весне и лету, выполним норму, с лихвой даже, а мы, бабы, галдим, ничего понять невозможно. Видим, злим его, и больше ничего от нас нету…
Хозяйка вдруг смешно заохала, всплеснула руками и побежала на кухню. Принесла она оттуда глиняную плошку, доверху насыпанную кусочками вяленой свеклы.
— Пил ли чай-то с такими гостинцами? — весело обратилась она к Алеше.
— С цикорием пил. Его в горшке напарят, потом сушат. Сладкий!
— Цикорий у нас не растет, нету. И сахару нету. Пей со свеклой. Так вот, — обратилась опять к матери. — Встряла я, говорю полномочному: «Что, гражданин хороший, видно, после войны конец света наступит. Кто работать-то потом станет? Им, нынешним ребятишкам, расти надо, их тоже кормить надо». Вот тут и пошло, и пошло. Фамилия? Фамилия в деревне известная. Достает он тогда бумажку, посмотрел в нее, почмокал губами. «Ага, — говорит, — тут ты на заметке…» А я все на него смотрю, и удивление меня берет: «Без малого год война идет, а он с лица нисколько не спал, румяный такой, тугощекий». Он мне что-то такое говорит, а я все об одном: «Кого эта проклятущая война как вальком прокатывает, ты-то как ухитрился от этого валька уползти?» И ничего больше в голову нейдет. Когда чуть поопомнилась, стала соображать, что он меня в чем-то нешуточном обвиняет. «Вражеские слова! — кричит. — Саботаж!.. Вот, — говорит и трясет бумажкой, — посмотрите, у нее даже минимум трудодней еле-еле выполнен, когда другие отдают все силы, понимают обстановку…» Тут уж я опять не вытерпела: «Позволь, — говорю, — товарищ дорогой, взгляни- ка, сколько моя дочь выработала». — «Дочь, — отвечает, — это иное дело, каждый должен свой вклад вносить». Чувствую, не понимаем друг друга: дочка-то чуть свет — на работе, а мне ребят еще надо обиходить. И молоко-то он мне приплел, что лишку не сдала. «А корова, — говорит, — у нее удойная…»
Фаина Васильевна глянула на притомившегося Алешу, посоветовала:
— Лез бы ты на печку к ребятам, пока мы тут с твоей матерью все дела обделаем. Дорогу тебе еще обратную идти. Подреми…
Алеша улыбнулся краешком губ. На теплую печку он был бы не против, а пожелание «подреми» смешило: ребята, притихшие с приходом чужих людей, освоились и сейчас устроили шумную возню. Улыбка не прошла незамеченной.
— Чего ухмыляешься? — спросила Фаина Васильевна. — Печка у нас большая, и на тебя хватит.
— Что же дальше-то? — спросила мать. Чутье подсказывало ей, прерывать рассказ хозяйки — значит обидеть ее, а ей хотелось посоветоваться с Фаиной Васильевной, в какие дома можно зайти для обмена.
— Не надоела, так слушай…
— Ну почему — надоела? Дело житейское, понятное мне.
— А вот что дальше… Как упомянул, что корова у меня удойная, тут я совсем хорошо соображать стала: и бумажка про меня, и корова удойная. Глянула я на Илюху, он рядом с полномочным стоял. «Ах ты, — думаю, — ботало-мотало, и тут ты нас, Савельевых, вниманием не оставил. Я, когда тебе светлые калоши отдала, думала, отвалишься от нас, как сытая пиявка, а ты вон что!» А калоши, как похоронила Василия, отдала, много ли он носил, даже подкладка красная не запачкалась.
Полномочный придумал мне наказание — отобрать корову в общественное стадо, все, мол, молоко до капельки теперь пойдет государству. Председательша наша Маруся Савельева возмутилась, говорит ему: «Это уж вы слишком, товарищ полномочный, нельзя этого делать». Так он и на нее накинулся: «Вы, — говорит, — родственные интересы соблюдаете, вы покрываете саботажников, знаете, чем это пахнет? — И объявляет: — Свести корову с ее двора и отправить в район». Так бы, наверно, и сделал, но уж тут все бабы за меня горой. Кричат: «Не позволим, не имеете права! Обжаловать будем, а пока пусть ее Майка на нашей ферме стоит, приглядим за ней сами, вы там ее испортите. И председателя нашего не трожь, что с того, что она Савельева, у нас полдеревни Савельевых, и никакая ей Фаина не родственница». В сельсовете Сашенька работает, умненькая девочка, помогла мне обжалование написать, посоветовала и Ване в армию черкнуть, пусть, мол, там командование отпишет кому надо. А вчера вот секретарь приезжал, мы ему все и выложили. Он лицом даже потемнел, когда услышал, что тут полномочный творил. Сказал, что несправедливость будет исправлена, сейчас, мол, он не может приказать отвести корову домой, верней, не хочет: полномочный взял, пусть полномочный сам с извинением и вернет. А он распорядится. Так что я теперь уж не боюсь, вернут мне Майку. Вот Ванечкино ответное письмо никак не разумею, пишет: не зачеркивай строчек…
— Так вы что, все ему так и описали? — с любопытством спросил Алеша. Он был наслышан, что не все с фронта можно писать, так же, наверно, и на фронт. А она такое письмо!
— Что ты глазами-то заблестел? Что я, своему сыну не все должна писать? — сердито спросила Фаина Васильевна. — Сонюшка, достань-ка письмо.
Девочка принесла из передней солдатский треугольник. Хозяйка бережно развернула и передала Алеше.
Сын сообщал, что он жив, здоров, все у него хорошо, а письмо из дому пришло с замазанными строчками…
— Это я-то замазываю! — возмущенно сказала Фаина Васильевна. — Да я не одно письмо ему написала, хоть и два класса, да ведь грамотная.
Теперь Алеша был твердо уверен, что, прежде чем попало солдату письмо, оно просматривалось: зачем расстраивать солдата еще семейными неурядицами — какой из него будет воин? И еще никак не выходил из головы чернявый мужик Илюха, вот вредюга-то! Зря мать остановила, не дала его огреть тяжелым мешком. Об этом же самом, видимо, думала и мать, потому что, когда поднялись из-за стола, поклонилась Фаине Васильевне и сказала:
— Не по-доброму попали мы к вам, уж извините, надо же было встретить на дороге этого… не знаю, как и назвать его… А вы очень хороший человек, Фаина Васильевна. Может, судьба и сведет нас, я вам на всякий случай адрес оставлю.
— А чего ты засобиралась? Что хоть у вас на мен-от есть?
— Да так, — смутилась мать. — Не стоит говорить.
— Вот тебе и раз, зачем-то ведь ты ноги ломала, на что-то надеялась. Показывай. И ты тоже, — приказала Алеше, — развязывай свой мешок.
— Ну вот, что-то и для нас подойдет, — сказала она, перебирая материнское шитье. — Рубашки, так очень к делу, я их беру. Ты подожди-ка, я сейчас.
Фаина Васильевна накинула на голову платок, надела ватник, сунула ноги в валенки и быстро вышла.
Алеша попросил у девочки листок бумаги, чтобы записать их городской адрес. И когда написал, в глаза бросился солдатский треугольник, оставленный на столе. Он оторвал от листа чистую половинку, аккуратно переписал номер воинской полевой почты Ивана Савельева. Он обязательно пошлет солдату хорошее письмо, расскажет, какая у него чудесная и справедливая мать, что в споре с уполномоченным она хоть и погорячилась, но была совершенно права. Пусть солдат порадуется хорошему письму.
В избу стали входить женщины, степенно здоровались с матерью и, не раздеваясь, усаживались на лавку. Вошла и Фаина Васильевна следом за маленькой живой старушкой. Фаина Васильевна сказала:
— Ну вот, бабы, кому что сгодится, выбирайте.
Мать сидела, не поднимая головы, но вся какая-то настороженная, ожидала торга: в последние месяцы она хорошо узнала городской базар, который называли еще толкучкой. Но женщины даже особо не разглядывали, брали, что нужно, с любопытством перебирали Алешины поделки — почему-то больше рассматривали замки, отбирали их, наверно оттого, что в деревне стали появляться чужие люди, случались кражи. А потом они уходили с тем, что отобрали. Вскоре они опять потянулись в избу, кто с ведерком картошки, кто с маленьким мешочком, и каждая, подавая принесенное в этих ведерках и мешочках, говорила:
— У самих беда, родимые, вот уж что есть.
Мать благодарила, голос у нее был сдавленный.
От деревни они шли по той же тропке, полные заспинные мешки оттягивали плечи. Солнце еще стояло высоко, можно было надеяться, что даже с отдыхом они успеют засветло попасть домой. Алеша шел впереди, ему хотелось говорить, он хотел сказать, что в маленьком Шаброве очень добрые и отзывчивые люди, он оглянулся на мать и ничего не сказал: мать беззвучно плакала, слезы скатывались по щекам ее. «Вот успокоится, тогда и скажу», — смутившись, подумал он.
— А я вчера сразу в училище. — Венька покачал головой, словно удивляясь своей откровенности. — Знаешь, мамка болеет, совсем плоха, сижу возле нее и все думаю: как там ребята? Уезжал — не жалел, а тут, вот напасть так напасть, нейдет из головы… Кто же без меня Старую беду дразнить будет? Вот ведь о чем думал! И видел его, как вот перед тобой стоит, слипшиеся угольники показывает, ну, те, когда впервые знакомился с нами. Нет, будто шепчет мне кто-то: не придется тебе, Венька, своими руками такие угольники делать, И так тошно, так тошно, мочи нету. Тут с мамкой уж совсем никуда, впервые узнал, есть такая болезнь — дистрофия. Я уже работал, ящики сколачивал, тоже, наверно, для мин, военные грузовики приезжали за ними. Пришел с кладбища и решил: домой надо непременно, не то пропаду…
Венька шагал размашисто, помахивал одной рукой. Говорят, что люди, размахивающие при ходьбе одной рукой, как правило, наполовину скрытные, но Алеша этому не верил. Это Венька-то наполовину скрытный? Скажи кому другому! Мудрая бабушка сказывала: если думаешь о ком-то, тот, другой, это чувствует и тоже начинает о тебе думать. Сколько за эти месяцы вспоминался Венька, а он, оказывается, и сам о тебе думал, хоть и не говорит, что именно о тебе, но это так. И еще жалость, до слез прямо, когда вспоминаешь тетю Полю. И что за страшная болезнь — дистрофия; Венька о смерти матери говорит сдержанно, словно боится, что станут сочувствовать и ему будет неприятно. И потому Алеша молча сопит, жалеет Веньку, а о тете Поле ни слова.
Чтобы примениться к Венькиному широкому шагу, приходится подстегивать себя, переходить на рысь. Они шли в училище.
— Пришел когда, удивился: мастерская будто меньше стала, потолок ниже, — продолжал рассказывать Венька. — И ребята все какие-то мелкие, кроме Сени Галкина, конечно. А тебя Карасем прозвали. Спрашиваю: «Где Алешка?» — «Это Карась-то? Не знаем, не пришел сегодня».
— Всех прозвали, — неохотно объяснил Алеша. — И тебя прозовут. Васька Микерин на это легкий.
— Это хорек-то?
— Ага, видишь! Сам обзываешься. Вообще-то, Хорек к нему подходит, мы его все Микерей зовем. Как узнает от кого пошло — Хорек, и тебе прилепит что-нибудь.
— Пусть попробует.
Зимой Алеша ходил короткой дорогой, вернее, тропкой: от фабрики через реку и сразу к железнодорожным путям. Настолько наловчился подлезать под вагоны, что в три шага оказывался на другой стороне рельсов. Шли этой тропкой и сейчас. Утром на путях было пустынно, и только у ближней к станции линии сновали люди. Ребята пролезли под вагоном и очутились в сутолоке бегавших с носилками санитаров, вороватых барыг и сбившихся с ног милиционеров, которые отшвыривали барыг от вагонов. Это опять пришел эшелон с эвакуированными ленинградцами. На этот раз у вагонов было больше подростков и стариков, те, кто еще стоял на ногах, сами шли к деревянному зданию станции. Ребята сразу попали в окружение, люди жадно вглядывались, одна мольба была в глазах — хлеба! Но у ребят ничего не было, и от них отходили. Невозможно было спокойно смотреть на них. Венька хмуро вглядывался в бескровные лица, чувствовал он себя хуже некуда.
Алеша потянул Веньку за рукав — можно было нарваться на неприятности. Неподалеку милиционер со злым и усталым лицом толкал взашей мужика с кошелкой, тот упрямо отбивался, что-то доказывал, слышалось только: «родственники…» Отогнав мужика от путей, милиционер отпустил его.
— И чего с ними валандаются! — вспылил Алеша, видя, что мужик опять направился к вагонам. — В тюрьму сажать таких сволочей. Как надоедливые мухи, отгоняешь, снова лезет. Пока не прихлопнешь…
— А может, в самом деле родственников ищет, — сказал Венька.
— Как бы! Смотри!
Мужик уже стоял возле старичка с седой бородкой и в очках, у которого под мышкой было что-то свернутое, похожее на пиджак. Барыга вцепился в сверток и тянул на себя, старичок отрицательно мотал головой и пытался оттолкнуть мужика. Тот достал из кошелки располовиненную буханку хлеба. Старичок все так же мотал головой и хотел уйти. А барыга, оглядываясь, чем-то обеспокоился, торопливо достал из кошелки полную буханку хлеба и сунул старику. Получив на этот раз сверток, мужик сунул его за пазуху и засеменил прочь от вагона.
— Обирают голодных людей, — возмущенно продолжал Алеша, провожая ненавистным взглядом мужика. И вот вопрос: где хлеб берут? Что у него, пекарня своя? На рынке буханка стоит триста рублей. Не накупишься… Да, Веньк, я тут позавчера Васю топ-топ видел, тоже у вагонов. Гонялся за барыгами…
— Значит, на повышение пошел, — мрачно усмехнулся Венька. — Это тебе не то, что на пустой площади всю ночь стоять да нас ловить.
Лицо у Веньки злое, он тоже не спускал пристального взгляда с барыги, который только что совершил удачную сделку, — тот стоял в стороне, упрятывал полученный от старика сверток за пазухой: чтобы было и надежно и не так заметно.
— Слушай, Леха, — азартно сказал он. — Пойдем, заговори о чем-нибудь с этим подонком. Только в руки не давайся.
— Идет! — с восторгом заявил Алеша, хотя пока не догадывался, что надумал Венька. И когда подошли, подергал мужика за рукав. — Дядька, а дядька, когда тень на плетень наводят, о чем думают?
Какое-то мгновенье барыга ошалело смотрел на него, потом злобно ощерил рот, замахнулся кошелкой.
— Брысь, шкет, отсю!..
Но не успел договорить, Венька рванул на себя взлетевшую кошелку и с нею бросился к путям. У вагона, перевертывая ее, он с силой размахнулся: куски хлеба, располовиненные буханки полетели по грязному утоптанному снегу.
— Хватайте, люди, это ваше! — заорал он и бросился в сторону от путей, чтобы не попасть в лапы озверевшего барыги. Впереди он видел резво бежавшего Алешу.
Догнав Алешу, он хлопнул его по плечу.
— Вот так! — нисколько не скрывая хвастовства, сказал Венька. — А то смотрю, распустились вы тут без меня.
— Справедливо! — кивнул Алеша. Справедливо было и Венькино хвастовство: операция проведена блестяще, порок наказан. — Знаешь, Вень, я вот все думаю, — помедлив, сказал Алеша, — ведь не все воюют, не всем война горе горькое. Как рай для некоторых.
— Знаю, нагляделся в эвакуации.
— Максим Петрович говорит: нужно во что-то верить, простое и доброе, нынче, дескать, это трудно, но нужно верить в простое и доброе. А я вот не могу… — Алеша споткнулся, ему пришло на ум, что часто из-за испорченного настроения он многое видит в черном свете.
Они подходили к училищу. С торца здания, где была служебная дверь в столовую, стояла лошадь, запряженная в сани. И лошадь, старую и пугливую, и возчика дядю Кузю с деревянным костылем, приделанным к колену, они хорошо знали.
Дядя Кузя сгружал мешки с хлебом и относил в столовую. Он скрывался в дверях с мешком, а оттуда выходил то со свертком, то с мешочком-пудовичком, засовывал все это под брезент. Ребят заинтересовало: носит и носит. Прыгал он на своей деревяшке быстро, просто мелькал, как в немом кино.
— Ты понял? — спросил Венька.
— Еще бы! Что же это он выносит?
— А посмотрим. Стащим кулек?
— Воровство же это!
— А он что делает? Говорю, распустились тут. Подумать только, и дядю Кузю повело по левой. Все перевернулось… — И Венька двинулся было к саням.
— Венька! — предостерегающе крикнул Алеша. — Бy-дем заодно с ним. Он у нас ворует, а мы, выходит, у себя. Недаром ложка каши достается и чай без сахара. Слушай, давай лучше угоним лошадь — и к подъезду. Там кого-нибудь из мастеров позовем.
— Как ты угонишь? Нарвешься — изуродует.
— Попробуем. Ты постой.
Как только возчик скрылся в дверях с последним мешком, Алеша подбежал к лошади и гаркнул в самое ухо. От неожиданности лошадь рванула и понеслась со двора. Дядя Кузя, вернувшись, растерянно застыл на месте. Лошадь бежала по дороге от училища, потом скрылась за домами.
— Догнать, что ли, дядя? — участливо спросил Венька.
Где дяде Кузе на деревяшке самому догнать ее, кивнул ребятам:
— Давайте, огольцы, гостинец за мной.
«Огольцам» только того и надо, резво помчались вслед беглянке. Нашли они ее на улице, лошадь мирно стояла возле деревянного дома, поматывала головой, словно корила себя за то, что так нелепо убежала от хозяина.
— Что ты ей крикнул? — спросил Венька.
Алеша рассмеялся.
— Бабушка рассказывала. Была у нас в деревне лошадь. Раз пьяненький мужик ехал на ней, в дороге его ограбили. Он и начал охаживать ее кнутом, стегал и приговаривал: «Я же тебе говорил, грабят, а ты уши развесила, прохлаждалась». И опять стегал и приговаривал: «Я что тебе говорил: Машка, грабят!» С тех пор, как крикнет: «Машка, грабят!» — несется вскачь, ничем ее не остановить. И я крикнул: «Машка, грабят!»
— Но ведь это не та лошадь!
— Зато, как и та, нервная…
— Надо с другой стороны от столовой к училищу подъехать, — когда взобрались в сани, предложил Венька. — Я там подожду за углом, а ты сбегаешь, сзовешь людей к подъезду. При людях подкачу, дядя Кузя не сразу сообразит, что к чему, не угонит. Да и не дам!
Алеша так и хотел сделать. Но, когда вошел в училище, подумал, что глупо поднимать галдеж, устраивать переполох. Он решительно поднялся на второй этаж к директору училища. По наивности предполагал, что Пал Нилыч сразу признает его — все-таки почетную грамоту вручал!
…Пал Нилыч никак не мог понять, чего от него хотят. Он с удивлением смотрел на взъерошенного Алешу, стоявшего в дверях с шапкой в руке, недоуменно спрашивал:
— Какая лошадь? Куда убежала? Ну и что — убежала! А я при чем?
Но он всю жизнь работал с подростками и знал, что, если к нему в кабинет бесцеремонно врывается взволнованный ученик, значит, произошло что-то такое, от чего отмахиваться нельзя.
— Говоришь, у подъезда стоит?
Алеша кивнул, он очень боялся, что Венька поспешит, подъедет к подъезду раньше, и дядя Кузя отберет у него лошадь и угонит ее.
Пал Нилыч сердитым рывком накинул на плечи шинель, взял свою толстую палку и пошел следом за Алешей.
Венька уже был у подъезда. У саней останавливались подходившие к училищу ребята, привлекало необычное зрелище: лобастый рыжий парень, их товарищ, намотал на руку вожжи и возбужденно поглядывает, как от столовой к нему вприскочку бежит знакомый всем возчик дядя Кузя.
Деревяшка глубоко проваливалась в снегу, но он каким-то чудом не падал.
Наконец-то Венька увидел Алешу и Пал Нилыча и сразу почувствовал себя свободнее: «Уф ты, шапка моя дырявая, кажется, пронесло».
— Что тут такое?
Гневный тон директора ничего хорошего не сулил, по Веньке-то что от этого! Он молча сбросил брезент к краю саней.
— Что это?
— Вы у него спросите. — Венька указал на запыхавшегося дядю Кузю, который был бледен и зол, как черт: «Всего-то не хватило несколько шагов, не то вскочил бы в сани и, пусть на глазах директора, — а угнал бы, потом доказывай. Проклятая деревяшка!»
Пал Нилыч посмотрел сверлящим взглядом на возчика, еще раз глянул на кульки в санях, спрашивать ничего не стал. Крикнул толпившимся ребятам:
— Идите заниматься! Все, все, живо!
Отбирая у Веньки вожжи, Пал Нилыч вроде бы пожал ему руку. Венька, правда, не мог сказать уверенно, что это было так, по крайней мере, ему хотелось, чтоб было так.
Мастерская грохотала — сверлили, пилили, рубили: все получили задание еще вчера. Двое слушали мастера. Максим Петрович показывал, как вырезать заготовку измерительной скобы из листовой стали. Неровная пластина, изъеденная по краям сверлами, — все, что осталось от целого листа, — лежала на столе.
— Вот как выглядит скоба на чертеже. — Развернул перед ними красноватую бумагу с вычерченной скобой, с ее размерами. — Куда же вы смотрите! На чертеж смотрите, привыкайте к чертежам, учитесь читать чертежи. Ох, сорвиголовы! И как это им на ум пришло? Поняли ли?
И Венька и Алеша кивнули:
— Все поняли, Максим Петрович. Не беспокойтесь, Максим Петрович.
— Головы им своей не жалко. Правдолюбцы! Идите уж.
Мастер напускал на себя излишнюю суровость, но ребята видели — не сердится, пожалуй, даже гордится: вот какие у него в группе молодцы.
Забрав пластину, они пошли к своему верстаку. Сеня Галкин сутулился над тисками. Когда проходили мимо, остановил их.
— Как вы догадались угнать лошадь? — вскинув голову, спросил он.
— Она сама, — сказал Венька. — Подмигнула нам: садитесь, мол, прокачу.
— Великолепно! — сказал Сеня. — А если по-серьезному?
По-серьезному Венька не хотел отвечать. Алеша в это время с удивлением смотрел на тиски Галкина, вернее, на то, что в них было зажато. А зажат был толстый и круглый стальной прут и на нем колечко, отрезанное от латунной трубки.
— Что это у тебя, Сеня?
— А! — Сеня улыбнулся, и лицо у него стало задорное и несерьезное. — Кольца девчонкам делаю. Просят.
— Какие кольца?
— Какие, какие! На пальцы кольца. Получаются, от золотых не отличишь. — Он достал из кармана тщательно отшлифованное колечко, оно блестело, переливалось светом. — Видал? Пайка хлеба. Без разговоров, хоть десяток неси. — Сеня горделиво тряхнул головой, сказал упрямо, словно с ним спорили: — Помнишь, про часы рассказывал? Часы у меня все равно будут, вот увидите.
— Так ты… ты… — Алеша задохнулся от возмущения, он мгновенно представил железнодорожную станцию, измученных голодом людей у эшелонов, готовых за хлеб отдать что угодно, назойливых барыг, которых гоняют милиционеры. Что же, и Сеня Галкин такой? Он увидел Сеню у вагонов с кошелкой хлеба, с высоко поднятой головой, лицо у него задорное и несерьезное. «Меняю хлеб на часы, налетай, у кого есть часы». — Ты что, пайки хлеба на часы будешь менять? Да? — зловеще спросил им.
— Хорошо бы — хлеб на часы. Проще, — мечтательно сказал Сеня. — Только где его, хлеба, столько взять?
Алеше стало легче, даже ругнул себя «торопыгой»: с чего надо было думать плохо о Сене Галкине? Сравнивать с бессовестными барыгами? И все-таки уточнил:
— На рынке будешь продавать?
— А ты думал, на улице?
Смотри-ка, острит. Ай, Сеня! Алеша все не отрывал взгляда от тисков, у него зрела мысль.
— Сеня, ты жалостливый? Можешь добро сделать просто так, без выгоды?
Галкин настороженно и пытливо посмотрел на него.
— Вообще-то я не очень, чтобы просто добро… — начал он. — Ты это к чему?
— Не пугайся. Есть люди, для которых сейчас хлеб как жизнь. Так вот ты дашь несколько заготовок для колечек, я сделаю, ты обменяешь у девчонок на хлеб, потом мы этот хлеб отнесем на станцию, раздадим эвакуированным. Позавчера я отдал свою пайку женщине — так обрадовалась, так благодарила, сам чуть не заревел, глядя на нее.
Сеня сморщил лоб, думал, потом сказал:
— Почему просто так? Хлеб что-то стоит…
— Не понимаешь, — досадливо поморщился Алеша. — Вот ты приедешь в чужой город, и тебя оберут до нитки. Как ты будешь об этих людях думать? Оберет тебя кто-то, а про всех плохо станешь думать, это уж как есть. Барыги на станции свирепствуют, отчаявшиеся люди все им отдают за бесценок. А тут мы: вот, граждане, не все такие негодяи в нашем городе.
— Что-то уж очень путано, — сказал Сеня. — Вообще-то я не знаю, почему просто так? Хлеб что-то стоит…
— Ты голодным бывал?
— Сколько раз.
Алеша безнадежно махнул рукой.
— Тупой ты, Сеня, извиняюсь, конечно. Ничего не понимаешь.
Ребята отправились к своему верстаку, а Сеня бросил вдогонку:
— Ладно, я подумаю.
На пластине они очертили керном контуры двух скоб, теперь надо было приниматься за сверловку, но тянули время: слишком много было сегодня впечатлений, никак не работалось. Алеша успел рассказать, как с матерью ходили в деревню и как их взволновала людская ласка в ломе Савельевых. Говорил и нет-нет да оглядывался на Сеню Галкина — тот старательно, до испарины на лбу, обтачивал кольца для девчонок.
Через некоторое время Сеня подошел к их верстаку.
— Так за что мы будем хлеб отдавать? Объясни.
Тут уж вспылил Венька, раскраснелся от злости, даже веснушки стали незаметны.
— Тебе человек уже объяснял! — Венька разглядывал Галкина со свирепым недоумением. — За благодарность! Понял? За благодарность, за просто так!
— Уговорили, — невозмутимо сказал Сеня. — Только заготовок я не дам, у меня их мало. А кольца сам буду делать. И берите. — Он сделал великодушный жест рукой: дескать, больше и разговора не может быть.
Заметив невольное движение Алеши, Галкин уставился на него:
— Опять что-то не так?
— Да так. Только выходит, что все будешь делать ты, а мы ничего.
Сеня подумал и заявил:
— Понял. Больно шустрым хочешь быть. — Он вскинул голову, и лицо у него стало задорное и несерьезное. — Научи тебя, так ты потом сам кольца девчонкам делать станешь. А мне это невыгодно, мне часы надо, вот так надо. — И Сеня провел ребром ладони по горлу.
Алеша хмыкнул: что поделаешь с Галкиным? Бабушка сказывала: совсем бы умный был человек, кабы не такой дурак.
— Ты чего там шепчешь? — подозрительно спросил Галкин.
— Да так, — улыбнулся Алеша.
— Так! Давно замечаю — придираешься. Ты не хитри.
— Да ты что! — возмутился Алеша. — Поступай как знаешь. А часы мы тебе потом вместе купим. У меня вот тоже мечта есть — сшить костюм. Во сне вижу. И знаешь какой? Коверкотовый, песочного цвета. Так и вижу: иду это я по улице, летом, конечно, брюки отглажены, ботинки хорошие, пиджак перекинут на согнутой руке. Мечта! А часы купим. Что часы? Вон и Венька с нами на базар пойдет. — Алеша заговорщически подмигнул Веньке, чтобы не вмешивался. — Уж всех-то не обманут.
— Пусть попробуют, — спокойно сказал Венька.
Горка горбушек на столе росла, а Сеня Галкин все еще сновал по столовой среди девчоночьих групп, раздавая кольца из самоварного золота. Вася Микерин, сидевший вместе с Венькой и Алешей — четвертый стул был Галкина, — не знал, для чего собирается этот хлеб, он удивленно и завистливо пробегал взглядом с лиц ребят на пайки, морщил прыщеватый лоб. Потом не выдержал:
— Знаете, чем это пахнет?
— Чем это пахнет? — спросил Венька, сразу насупившись.
Ответа он не услышал.
— Так чем это пахнет? — переспросил Венька голосом, ничего хорошего не предвещавшим.
Вася мучительно покраснел — Веньку в группе с первого дня побаивались, и он, конечно, понял угрозу.
— Тем! — с отчаянием заговорил он. — Тем, что вы столовских воров ловите, выставляетесь, а сами хапаете. За это не похвалят, чтобы у девчонок хлеб обманом отнимать. Они глупые, а вы у них… Галкина подбили…
— Ты спросил бы, зачем этот хлеб… — начал было объяснять Алеша, но Венька повел рукой, остановил его.
— Вот что, — медленно, даже с какой-то торжественностью, сказал он. — Завтра переберешься за другой стол, понимаешь, воняет от тебя. Ты усвоил?
— Я… Я усвоил… Еще посмотрим… — На глазах у Васи сверкнули слезы, и были они злые, мстительные. — Приехал, ждали тебя…
— Ждали. Услышал, что хорьки тут наперед лезут. И приехал. И попробуй еще только вякни.
Вася рывком вскочил со стула, еще раз ожег Веньку ненавистным взглядом и бросился к выходу.
— Веньк, ну что ты? — Алеша просто не ожидал, что все так получится: по доброте своей он никак не мог объяснить поступок товарища.
— Ладно, сиди, — недовольно сказал Венька.
К их столу подошла Танька Терешкина.
— Мальчишки! — пропела она. — А меня возьмете? — И одарила обоих чарующей улыбкой.
— Куда это тебя взять? — не глянув на нее и хмурясь, спросил Венька.
— На кудыкину гору, — огрызнулась Танька. Она была задета за живое его небрежным тоном, заносчиво повела плечом и хотела добавить что-нибудь обидное, но уж больно ей было любопытно затеянное ими, и сдержалась. — Сенька ведь все рассказал, куда идете. Возьмете, а?
— Ты лучше бы сумку нашла. — Венька говорил нарочито равнодушно. — Видишь, и так на нас глаза пялят, думают, себе хапаем, обираем вас, дурех глупых. — Брошенный Васей Микериным несправедливый упрек отравой лег в Венькину душу.
— Нашелся умный, — презрительно фыркнула Танька, но пошла к своим девчонкам и вскоре вернулась с черной клеенчатой сумкой-авоськой, молча стала собирать в нее хлеб.
Дежурные принесли третье — полуостывший сладкогорький, настоянный на хвое, чай. Витаминам в училище придавали большое значение: бачки с водой, настоянной на хвое, стояли по всем углам.
Появился Сеня Галкин, положил в разбухшую Танькину сумку две горбушки.
— Все, больше нету. — Словно запалившаяся лошадь, жадно, в два глотка, опорожнил стакан с чаем, сказал торопливо: — Пошли, что ли, ждать нечего.
Днем теперь пригревало, капало с крыш. Утоптанная за зиму дорога таяла медленней и бугрилась над осевшими обочинами. Не приведи оступиться с накатанного — очутишься по колено в разжижшем снегу, а внизу вода, ватные бахилы просачивают ее, как сито.
Венька с недовольным видом шагал сзади. Навидавшись всего в эвакуации, он быстро повзрослел, и то, что они собирались сейчас делать, казалось ему детской забавой — всех-то ведь не накормишь! И все-таки шел, весь день замечал за собой несвойственную покорность Алеше Карасеву, видел в нем что-то такое, чего в себе не находил, это притягивало и раздражало. Больно уж он какой-то правильный, что ли, как в книжках. Пожил бы в корпусах, где все на виду, даже печь одна на целый этаж, никуда не скроешься — всё обо всех знают. Подлость, конечно, не потерпят, но слабости других понимали, сами могли споткнуться, так что чего уж. А у него какое-то приукрашенное понятие о людях, какими они должны быть. Вон он сегодня утром с надрывом: «Мастер сказал: надо верить во что-то простое и доброе. А я не могу…» По правде, Венька и сам чувствовал нечто похожее — верить не могу, — только не говорил, не умел сказать. Выходит, Алешка ему сознание прояснил. А происходит что-то и в самом деле непонятное, прямо на глазах. Может, война, трудности разные заставили людей ярче свое нутро показать. Нынче вон дядя Кузя показал себя. Кто мог подумать, что всегда приветливый дядя Кузя со спокойной совестью урывает у ребят и так жалкий кусок, что дают в столовой, урывает — и земля под ним твердая, не проваливается. Убивать таких надо, и было бы по заслугам. А подумаешь — и жалко, человек все-таки.
С матерью в эвакуацию ехали… Не думали, что столько дней придется провести на барже, многие не запаслись едой, да и нечем было запасаться, а рядом были и запасливые. Начальство куда-то с баржи девалось, даже хлеба не могли получить. Мать уже в дороге стала слабеть от недоедания. Никто из тех, кто был запасливее, не заметил этого. Раньше разве так было? В корпусе-то и деньгами делились, если у кого до получки не хватало, и помогали, кому плохо приходилось…
Наверно, надо верить в простое и доброе, как сказал мастер, а то жить обозленным, жестоким — тем же тебе и обернется. Но это, значит, на каждом шагу обуздывать себя, сдерживаться, смалчивать. И все-таки, почему все сегодняшнее поведение Алешки Карасева не выходит из головы? Он, Венька, чувствует, что в жизни знает куда больше, чем Алешка, а вот растревожил чем-то, чем — не объяснишь.
Настроение у Веньки хуже некуда. А тут еще этот размякший снег, все время надо смотреть, чтобы не оступиться, не набрать в бахилы воды. Приходу весны кто не радуется, один ядреный воздух чего стоит, весь пропитан ею, только есть у весны пора такая, когда она еще робко подступается к злюке зиме: клюнет — и отскочит, оглянется, галки так делают, когда найдут что-нибудь для себя вкусное. Одни неудобства от такой поры.
Впереди вышагивает с черной сумкой Сеня Галкин, высоко, как цапля, поднимает длинные ноги, Танька пристает к Алешке, пытается обнять. Алешка смущается, краснеет и увертывается.
У Веньки отношение к Танюшке Терешкиной тоже сложное: так хочется сказать ей что-то хорошее, доброе, даже прикоснуться осторожно к ее красивым, пышным волосам, вместо этого одни грубости да подколки. И сам не знает, почему с ним такое. Иногда — конечно, без нее, когда ее нет, — думает: надо сказать, что нравится она ему, но как сказать, попробуй-ка, — обсмеет, бахвалистая она, и это отпугивает.
— Да что случилось? — со смехом спрашивала Танька, ластясь к Алешке. — Чураться-то меня чего стал?
— Лейтенанта своего обнимай, который аттестат тебе хотел прислать, — неласково отвечал Алешка. — А я-то тебе кто? Никто.
Венька не выдержал, фыркнул: «Памятливый Алешка, про лейтенанта помнит». Словно бес какой толкнул его, сказал:
— Лешка, ты расскажи, какой ее видел.
Алеша совсем смешался, так глянул, что Венька пожалел о сказанном: в сразу повлажневших глазах укор, губы дрожат. А Танька ничего не заметила, тут же подступилась, засияла вся:
— А какой ты меня видел, Алешенька? Во сне приснилась? Ну-ко поведай, больно уж любопытно.
Алеша совсем обозлел от ее наигранной ласковости.
— Комарихой я тебя видел, — нервно сказал. — Знаешь, такие комары, с крыльями? Только большие привиделись, смотрю, среди них ты, с крыльями…
Не рассказывать же ей, что видел ее голую в бане через дырку в двери. А ему и в самом деле как-то приснилось, смешной такой сон: существа — они не были ясными, виделись словно в дымке и были похожи на крылатых комаров, — он мог бы поклясться, что среди них летала Танька Терешкина. Лицо плохо проглядывалось, а знал, что она там была.
— Глупый какой-то сон, — подумав, сказала Танька.
— Так и я о том же, — подхватил Алеша. — А вон Венька: расскажи да расскажи. — И он незаметно показал Веньке кулак: «Если есть совесть, заткнись».
— И все не так, — поскучнев, сказала Танька. — По глазам вижу — не так, ты ведь врать не можешь…
Сколько же в те дни приходило эшелонов из Ленинграда? Ребята не удивились бы, увидя пустые пути, но эшелон стоял, и у вагонов были изможденные люди, мелькали в белых халатах с носилками санитары.
Уже после войны выяснилось, что, взбешенные стойкостью исстрадавшегося и несдающегося Ленинграда, гитлеровцы готовились забросать его химическими снарядами — безудержна была их ненависть к городу — символу Октября. Но сильнее вражеской ненависти была всенародная любовь к городу, носящему имя вождя: все делалось для его защиты, а сейчас спасали его детей, его будущее.
…Сеня, завороженный увиденным и обескураженный, резко остановился, тяжелая клеенчатая сумка, которую нес, показалась ему жалкой.
— Что теперь делать? — растерянно спросил он, переводя взгляд с одного на другого.
— Что делать, что делать? — сердито передразнил Венька. — Если б можно было что делать… Давай, Леха, ты заводила.
— Ребята, совайте горбушки за пазуху, а то примут за барыг, если с сумкой пойдем. Отдавайте самым слабым.
Читатель, наверно, помнит, в начале говорилось, что Алешка — листопадник, осенью ему стало четырнадцать лет, поймет его и не осудит…
Он увидел мальчика, тот сидел у вагона на черном снегу, плечи и спину его покрывала клетчатая накидка. Почему-то прежде бросилась в глаза эта яркая, в крупную клетку накидка. Руки мальчика были бессильно опущены, голыми ладошками он упирался в снег, стараясь не упасть на бок. Было ясно, что его вынесли из теплушки, но еще не успели отнести в здание станции, сам он идти не мог. Алеша наклонился к нему, вытащил из-за пазухи мягкую горбушку.
— Бери, ешь…
У него сердце разрывалось от жалости, горячий комок стал в горле.
— Да бери, вкусный…
Мальчик не понимал. Лицо его в тени вагона казалось зеленым, было сморщено.
— Ну что же ты?
Мальчик вдруг судорожно вдохнул в себя воздух, запах хлеба вывел его из забытья, он потянулся грязной рукой к горбушке. Алеша поддержал его, чтобы он не упал, стал ему отламывать мякиш…
Женский возмущенный окрик оглушил его:
— Что же ты делаешь, окаянный!
Женщина в белом халате сильными руками отшвырнула его от мальчика.
— Что же ты, я спрашиваю, делаешь, убивец?
Алеша почти с ужасом смотрел на нее. Что это она? Разве люди не помогают попавшим в беду? Убивец?..
Женщина поднимала мальчика на ноги. А к Алеше подбежал милиционер, схватил за шиворот. Держал его за воротник Вася топ-топ, коренастый, с оплывшим лицом. Алеша даже не удивился этому. «За что она так?..»
Вася топ-топ повел его в здание станции, втолкнул в комнату, над дверью которой в стеклянном колпаке светился красный крест. Это был медицинский пункт при станции. На деревянном диване у стены с опущенными головами сидели Танька Терешкина и Сеня Галкин. Быстро вошла и села за стол та самая женщина в белом халате, которая обругала Алешу.
Вася топ-топ подтолкнул Алешу ближе к ней и сказал:
— На несчастье людей барышей ищут. Этого я знаю, встречались. Таким все нипочем.
Алеша с удивлением смотрел на Васю топ-топа Ковырнева, не мог понять, как тому удалось узнать его: и сталкивались-то с Васей в темноте на площади перед фабрикой, ну, еще один раз ненадолго в отделении милиции. А Вася топ-топ не только узнал, но уже и сделал вывод — «таким все нипочем».
— Ты понимаешь… Вы что говорите-то? — вскинулся он на милиционера. — Вы думаете, что говорите?
— Им верить нельзя, — убежденно продолжал Вася топ-топ. — Закоренелые хулиганы. Я их знаю.
Алеша беспомощно развел руками. Не часто приходится вглядываться в бесстрастное лицо человека, который незнамо для чего злобно врет: нет у него ничего такого, чтобы говорить так.
— Идите, — сказала женщина милиционеру и показала рукой на дверь. — Разберемся… без вас.
И когда Вася топ-топ, недовольный услышанным приказанием, протопал огромными сапожищами и скрылся за дверью, она посмотрела на ребят с горькой усмешкой и укорила: — И как вы не могли понять, что уж если вырвали их из того ада, то в беде не оставят. А вы? Им сейчас кусок грубого хлеба — верная смерть. — Она взглянула на Таньку, покачала головой: видимо, Танька показалась ей старше Алеши и Сени. — Ну они-то мальчишки глупые, а ты? Не могла их остановить?
— Я не знала, — сказала Танька, и Алеша увидел на ее глазах слезы.
Снаружи стукнули в дверь, женщина — она была врачом, заведующей медицинским пунктом — крикнула, чтобы входили. К замешательству ребят, появился Венька Потапов.
— Тебе чего? — удивилась заведующая: разгоряченное, румяное, с обильными конопушками лицо Веньки говорило, что вошедшему не требуется медицинская помощь.
— Я тоже… я с ними, — мужественно признался Венька и встал рядом с ребятами. — Сначала убежал…
— Убежал и ладно, чего уж там, — сказала женщина-врач, пряча улыбку. — Зачем вернулся?
— Так вместе были! — Венька упрямо взглянул ей в глаза: не понимает, когда все проще простого — раз были вместе, придется вместе и ответ нести. Таковы правила чести.
— Солидарность, видите ли, — хмыкнула врач. — Жертвенно разделить участь приговоренных к повешению. Садись… Или уж чего там… — Она вышла из-за стола. — Идите-ка вы, ребятки, домой. И не делайте больше ничего такого. Сама не могу, когда вижу все это, — дрогнувшим голосом сказала она. — В день по нескольку эшелонов. А из вагонов и трупики выносим… Уходите, того не хватало, чтобы при вас разревелась.
Ребята только сейчас заметили, что у нее доброе и усталое лицо.
Они вышли на станционную площадь. Сене Галкину было не по пути с остальными. Все еще ошеломленный случившимся, Сеня сказал:
— Во, в училище когда… обещали: благодарность получим за просто так. Получили… Нажалуются в училище, еще получим. За просто так… А хлеб что-то стоит…
Ребята эти, когда повзрослеют, сами о себе скажут: «Мы были озорными мальчишками. Мы были все-таки добрыми мальчишками. Мы еще в училище стали взрослыми мальчишками». А Алеше Карасеву долго будет помниться истощенный мальчик в клетчатой накидке, сидящий на черном от угольной гари снегу, и, когда ему придется работать на заводе, оборудование которого было вывезено примерно в то же время по Дороге жизни, и он встретит женщину-мать, и она расскажет, что ее мальчик погиб уже здесь, в этом городе, он переживет потрясение, ему постоянно станет казаться: он виновник гибели ее сына.
Глава шестая
1
Напророчил Сеня Галкин. Есть же способность у людей предугадывать плохое!
Сначала вроде ничто не предвещало нехорошего, все шло, как и раньше. Подходили к училищу и увидели того же дядю Кузю. Ребята понаблюдали за ним со стороны — близко подойти побоялись, — ничего интересного не было: дядя Кузя работал без азарта, не мелькал, как в немом кино, и не выносил из дверей столовой никаких кульков. Выходило, дядю Кузю пожурили и оставили на своем месте. Где ты сразу другого возчика найдешь? А что он с ленцой работает, вполне понятно: запретили ему кульки под брезент прятать — и не стало у него материальной заинтересованности, а без заинтересованности какой уж вдохновенный труд, про это каждый знает.
Как обычно, прошли они в мастерскую и вот тут-то почувствовали, как что-то тягучее и тяжелое поплыло над их головами. Максим Петрович, мрачный, осунувшийся, неприязненно оглядел их, с горечью заговорил:
— Вот уж сбили так сбили — наповал. Что же это вы делаете? На все мог подумать, только не на это. Никак не предполагал. Господи, позор на мою седую голову.
Лысая голова мастера была красна от прилива крови.
Венька посмотрел на Алешу, тот недоуменно на Веньку посмотрел. Ну, опростоволосились, но ведь неосознанно, с добром шли к эвакуированным, ну, чувствуют свою вину, но не настолько, чтобы так встревожить мастера.
— А что особенного случилось-то, Максим Петрович? — угрюмо спросил Венька. — Ну, было, каемся.
— Это ты заводила, — вынес приговор мастер. — Сам-то отпетый, хоть этого за собой не тащил бы.
За старика надо было опасаться — мог внезапно упасть: бескровная, костлявая рука, которую он опустил на стол, билась нервной дрожью.
— Максим Петрович, не надо так, что вы? — сказал Алеша, жалея мастера. — Мы же не знали, что голодному человеку нельзя давать хлеба. — Алеша теперь не сомневался, что та женщина-врач со станции, которая казалась доброй, все-таки сообщила о них в училище. — Уверяю вас, не знали. И, пожалуйста, не ругайте Веньку, это я всех взбаламутил. И его…. Вспомните, Венька говорил: иногда у меня чертики проявляются?
— Да о чем ты? — Максим Петрович нервно дернул плечом. — О чем говорите-то, бестолочи?
Их голоса были громкими. Из желания лучше послушать или просто так, по своей ученической любознательности, к столу мастера подошел Павлуша Барашков; показывая еще не совсем сделанную мерительную скобу, наивно спросил:
— Максим Петрович, мы эти самые детали и на заводе будем делать? Да, Максим Петрович?
Скобу-то показывал, а сам с любопытством оглядывал провинившихся Веньку и Алешу, раздувал нос, словно принюхивался. Веньке до невозможности хотелось щелкнуть по его мягкому носу, и, отвернись хоть чуточку Максим Петрович, сделал бы это.
Мастеру стоило больших трудов понять, о чем спрашивает Павлуша Барашков, он потер ладонью лоб.
— Да, да. — Окинул непонимающим и тревожным взглядом ученика и наконец воскликнул: — Ах, вот что! Почему ты так решил, Барашков? Вы здесь приобретаете навыки, проходите все операции, которые вам пригодятся во время работы на заводе. Почему обязательно такую скобу? Может быть и такая. Все может…
— Спасибо, Максим Петрович. — И Павлуша Барашков, вполне довольный собой, пошел к верстаку.
— Так что вы там о голодных? Что вы еще натворили?
Волнуясь, рассказали все, как было, опять повинились: не знали же, не нарочно!
— Господи! — второй раз за утро произнес Максим Петрович, но уже с явным облегчением. — Да ведь не в этом вас обвиняют. Обвиняют в вымогательстве, в бандитизме… Обираете учащихся, запугиваете их. Ладно, поверю: не запугивали, но ведь обираете! Пусть по-вашему, вы хотели что-то доброе сделать. Но как не сообразили, что в нынешнее время менять какие-то побрякушки на хлеб — безнравственно. Ума не приложу, кто это так зло оговорил вас, цель какая? — Максим Петрович почувствовал себя свободнее, успокаивался. — Хоть тяжесть с души сняли, хоть знаю, что о вас говорить. И все-таки плохо, бесененки. Как вас защищать? Вы не представляете… не представляю, куда вас завтра кинет, что еще придумаете. Идите к верстакам.
Сеня Галкин предугадал плохое, но пришло оно не оттуда, откуда они сначала думали. Венька и Алеша, конечно, догадывались, кому они обязаны оговором, но пока помалкивали. Теперь они знали, в чем их обвиняют, и, когда их позвали к директору, они даже особого волнения не испытывали: понял же Максим Петрович, и Пал Нилыч поймет.
Максим Петрович шел с ними и на ходу поучал:
— Будьте скромнее, будьте даже робкими, отвечайте только на вопросы, и короче, не вздумайте рассуждать. Начальство не любит выскочек.
— Мы не выскочки, — поспешил заверить Алеша, еле заметная улыбка проскользнула на его лице.
— Знаю, что из себя представляете. Помалкивай лучше, — сварливо обрезал Максим Петрович.
В кабинете Пал Нилыча сидел еще человек в военной гимнастерке, с тонким нервным лицом, с короткой стрижкой темных волос. Одна нога у него как-то неестественно была выдвинута перед стулом. Ребята с любопытством глянули на него — какое он имеет отношение к их вызову? Недавний фронтовик Николай Алексеевич Качин был недавно назначен помощником директора по воспитательной части, ребята еще не знали об этом.
Легко объясняться с Максимом Петровичем, он им привычный, иное дело в директорском кабинете, когда стоишь возле двери. Тут будь семь раз правым, и то почувствуешь себя неуютно, коленки станут подрагивать. Алеша ощутил эту дрожь, встретившись взглядом с Пал Нилычем, — проблеска доброты не было на его хмуром болезненном лице. Военный с интересом приглядывался, наверно, составлял собственное мнение о провинившихся.
Венька переступал с ноги на ногу, его нисколько не пугали колкие директорские взгляды: выгонят из училища, пойдет на завод, ему скоро шестнадцать — возраст для нынешнего военного времени вполне подходящий. А вот на Максима Петровича, страдавшего за них, жалко было смотреть: бледный, руки подрагивают, прижимает локти к бокам, чтобы не было заметно.
— Вы только полюбуйтесь на них, — не сдерживая раздражения, сказал Пал Нилыч.
— Прежде надо расспросить, — не выдержав, подсказал Максим Петрович.
Директор предостерегающе поднял руку: мол, дойдет и до этого, а Максиму Петровичу лучше бы помалкивать, коли проглядел, чем занимаются его ученики.
— Мастер за вас заступается: работать умеете и не так испорчены, заслуживаете прощения. Но я не посмотрел бы ни на какое заступничество, выпроводил бы из училища, да еще с милиционером, — в милицию сдал бы…
— Вы должны расспросить их, — уже твердо сказал Максим Петрович, выпрямляясь на стуле. — Нельзя же так, Пал Нилыч!
Но Пал Нилыч умел быть упрямым.
— Да, отправил бы с милиционером, — стал договаривать он. — Но подумал, не так поймете, свяжете со случившимся в столовой: вот указали на безобразия — нас в отместку.
Сказал — как обухом по голове. Это было нечестно по отношению к ним: за кого он их принимает?
— Неправда! — Алеша хотел выкрикнуть громко, но горло перехватило, выговорилось жалко и хрипло, едва слышно. Он не раз замечал, что взрослые представляют других по себе: раз такой я — все такие.
— Это неправда, что вы сказали! — четко сказал он. — И подумать не могли! Это вы подумали!..
— Да! — вскинулся и Максим Петрович. — Ребята, честно… Почему вы их ни о чем не спросите? Все, все было не так. И хлеб они брали не себе, а относили эвакуированным детишкам. Навет, клевета, уважаемый Пал Нилыч. Да!
Директор сердито поморщился, горячее заступничество Максима Петровича заставило его запнуться, и он смотрел на мастера как на досадное препятствие, которое надо преодолевать. А какую неправду он сказал? Если ребята сами не заявят, что с ними расправились, то другие так подумают. Это же факт!
— Хорошо, пусть расскажут, — подумав, разрешил он. — Все, без утайки.
Никто в кабинете директора не подозревал, что, как только мастер увел Веньку и Алешу, мастерская взволновалась: ладно, виноваты, а выгонять из училища зачем? А именно все так решили: повели, чтобы исключить. Несправедливо это! Сеня Галкин, меряя длинными ногами коридор, помчался в группу к Таньке Терешкиной. И вот когда Пал Нилыч произнес: «пусть расскажут», за дверью послышались возбужденные голоса, а потом старушка, секретарь директора, заглянула и сказала, что просится войти учащаяся Терешкина из группы фрезеровщиц.
— Подождет, — недовольно сказал Пал Нилыч.
— Не хочет ждать, говорит, по этому же делу.
Танька вошла смело. Дерзко посмотрела на Пал Нилыча, на его помощника, слабо улыбнулась насторожившемуся мастеру: Максим Петрович не знал, с чем она пришла, но предчувствовал, что разговор может повернуться в любую сторону.
— Что скажешь, Терешкина? — поторопил Пал Нилыч.
— Да вот узнала, как вы… — она кивнула на Веньку и Алешу, во все глаза разглядывавших ее, — ругаете их: у девчонок пайки на кольца выменивают, а государство этих девчонок из последних сил поддерживает, старается, чтобы они ели досыта, росли здоровыми.
— Так оно и есть! — воскликнул Пал Нилыч. — Правильно говоришь. Молодец, Терешкина, все понимаешь. Вы скоро на заводе станете работать, нелегко это будет. Крепкими должны прийти туда, не заморышами.
— Нет, не то, — решительно возразила Танька и головой помотала. — Совсем не то! У вас тут в училище все мужчины — мастера и все, — откуда им знать, что девчонки красивыми хотят быть. Да они не на кольца, так на разные тряпки все равно хлеб променивают. Да они… — Танька густо покраснела, но уж раз заикнулась, решила договаривать, — …они вот сейчас лифчиками запасаются и выменивают их на базаре на тот же хлеб. Потом пойдет мода еще на что-нито… За всеми не уследишь.
— Допустим, в чем-то ты и права: девчонки, мода, не уследишь. — Пал Нилыч был несколько смущен ее словами: в училище в самом деле были только мужчины. — Но речь-то тут идет о вымогательстве. Понятно ли тебе?
Танька удивленно вскинула брови, шагнула к столу с вытянутой рукой — на безымянном пальце поблескивало кольцо самоварного золота.
— Какое еще вымогательство? Захотелось, и взяла. Попробовали бы у меня вымогнуть. — Она гордо вскинула голову, тряхнув подвитыми кудряшками, и все поверили: хвостик от репки у Таньки можно вымогнуть. — Кто это вам про вымогательство? Найдутся же бессовестные! Все девчонки с охотой рвали эти кольца. — Танька кокетливо повертела ладошкой перед Пал Нилычем, спросила с обворожительной улыбкой: — Разве не красиво? Как настоящее. А на вокзал я с ними тоже ходила, раздавала этот хлеб.
— Путаницу ты внесла, Терешкина, — в замешательстве сказал директор. Он начал понимать, что допустил оплошность, напав на ребят, заранее не расспросив их, все это чувствуют, вон мастер отводит глаза, словно ему неловко за него. Молчавший все это время помощник директора Николай Алексеевич сказал:
— Но что-то она и прояснила, Павел Нилович.
Пал Нилыч ощупывающе оглядел ребят.
— То, что вы брали хлеб для кого-то— не себе, все равно с вас вины не снимает. Спекуляцию в училище развели! Отныне никаких менов, никаких посторонних поделок. У вас есть учебная программа, вот и осваивайте ее. — Еще раз колюче вгляделся в Алешу, спросил, вспоминая: — С военпредом грамоту тебе вручали. Так?
— За работу, — подтвердил Алеша.
— И работа и поведение должны быть одинаково хорошими. Запомни.
— И работа и поведение должны быть одинаково хорошими. Запомнил.
— Ты не попугайничай. Осознать это надо.
— Осознаю.
Пал Нилыч подозрительно вслушивался в интонацию голоса Алеши, что-то ему не нравилось, но придраться ни к чему не мог.
— Ладно. Идите. Вы, Максим Петрович, задержитесь.
Николай Алексеевич тоже поднялся со стула. Выпрямляясь, нога его щелкнула с металлическим звуком: он был на протезе. Он сказал директору:
— Провожу их.
Пошел прихрамывающей походкой за ребятами. В коридоре спросил:
— Что, стыдно было вам?
— Чего нам стыдиться-то? — недружелюбно взглянул на него Венька. — Кто-то нашептал, директор все на веру, пусть он и стыдится. Нам стыдиться нечего.
«Молодец Венька, — с удовольствием отметил Алеша. — Хорошо сказал».
— А вот мне за вас было стыдно, — упрямо гнул свое Николай Алексеевич. — За всю группу вашу стыдно. С военным заказом работали вы хорошо, учитесь хорошо, у вас знающий мастер, и он за вас горой. А в отношениях друг к другу вы какие-то мелкие, неинтересные… По начальству бегаете…
— Кто бегает-то? Не сами шли, вызвали, чай?
— Да разве я о том!
Танька нетерпеливо повела плечом, она не любила слушать наставления.
— Мальчики, я побежала, встретимся в столовой.
— Это вы хорошо заметили директору: нет женщин в училище, — вежливо сказал ей Николай Алексеевич. — Упущение.
— А как же! — живо откликнулась Танька. — Еще какое упущение! У девчонок, можно сказать, вся жизнь в училище проходит, а им и пожаловаться о своих делах некому. — Танька бесшабашно посмотрела на Николая Алексеевича и предложила, посмеиваясь: — Хотите, к вам за советом будем приходить?
— Приходить, конечно, да… — От неожиданности помощник директора смешался, невольно покраснел.
Танька лукаво наблюдала за ним — бывший фронтовик был еще очень молодой, не дашь и тридцати.
— Побежала я, — засмеялась Танька.
— Двигай, — грубовато подсказал ей Венька.
Танька сверкнула на него злыми глазами, но побежала.
— Вы кем на войне были? — спросил Алеша фронтовика, на лице которого все еще оставалась неловкая улыбка. — Расскажите, где вас ранило?
— Обязательно расскажу, кем был и как воевал, — согласно сказал Николай Алексеевич. — Но потом… Однако я говорил, нехорошо у вас, несогласие в группе…
Сеня Галкин радостно раскинул руки.
— Ну как?
— Мелкие у нас отношения, — буркнул Венька.
— Не понял.
Тогда пропел Алеша:
— Наши в поле не робеют и на печке не дрожат. И работа и поведение должны быть одинаково хорошими. Осознал?
— Теперь понял, — сказал Сеня. — Еще одну благодарность схлопотали за просто так. Да?
— Угадал, — подтвердил Венька, направляясь к своему верстаку. — Хорек! — окликнул он Васю Микерина. — Иди-ка сюда.
— Зачем? — сорвавшимся голосом спросил Вася.
— Да иди.
Алеша почувствовал в Венькиных словах недоброе.
— Что ты хочешь, Веньк?
— Молчи. Вчера я тебя весь день слушался, что вышло? Так что молчи, не ввязывайся.
— Венька, ты что, опять же потащат…
— Отвяжись… Хорек?
Вася Микерин нерешительно подошел.
— Сеня, тебя вчера в чем-то принуждали?
— Попробовали бы, — самодовольно ответил Сеня, и лицо у него стало задорным и несерьезным.
— А вот он директору доложил: принуждали.
— Эх ты! — с испугом воскликнул Сеня. — Что это ты, Микеша? Чокнулся?
— Почему же вы не сказали, что делать собираетесь? — пошел в наступление Вася: нападение — лучший вид обороны. — И я мог бы с вами. Что я, не мог, что ли?
— А что ты не спросил, а сразу побежал продавать? И сейчас: ты знал от Сени, как было дело, прибежал бы к директору, пока мы там были. Танька вон пришла… Мол, Пал Нилыч, бес попутал, или как там — склеветал сгоряча, рубите негодяйную голову. А ты и тут сподличал.
— Ну, виноват, — покаянно сказал Вася, — что теперь делать.
— Думай, что тебе делать. Додумаешься — скажешь. А я пока тебя каждый день бить буду. По арифметике. Сегодня один тумак тебе обещан, завтра будет два, послезавтра — четыре. Не пойдет на пользу — на таблицу умножения перейду.
Вася беспомощно оглянулся, ища сочувствия. Сеня смотрел выше его головы, Алеша чертил пальцем по верстаку, ничего вокруг не замечал.
— Карась! Что это он? — В голосе у Васи слышались слезы.
Алеша пожал плечами. Он пытался вызвать хоть каплю жалости к Васе Микерину — жалости не было, скорее испытывал чувство мстительной удовлетворенности. А что? Пакости пусть не сразу, но всегда становятся известными, и люди, сделавшие их, наказываются, и это справедливо, иначе не жизнь — ложь кругом будет. Чем Васе Микерину помочь, если он сам себе не поможет? А пока Венька обещает его бить, у него больше нет никаких средств покарать за подлость, ничего ему не остается.
Из училища Алеша зашел к Веньке в корпус, немножко поговорил с его теткой, круглолицей, небольшого роста женщиной и очень любопытной, — после отъезда Веньки с матерью в эвакуацию она переселилась в их каморку, и теперь это было кстати: и постирает, и поесть сготовит. Что бы Венька делал один? Одичал. Хоть бы письмо отцу написать — все отдушина, но отец ушел на фронт и как в воду канул.
Тетя Нюра добрая, немножко бестолковая и сама не своя до всяких слухов.
— Сказывают, к лету война кончится. Вышибут дух из Гитлера распроклятого, — с ходу сообщила она ребятам радостно мучившую ее новость.
— Откуда? — изумились они. — По радио говорят — не похоже.
— То совсем другое радио, — простодушно поведала тетя Нюра. — Оно вернее сказывает: про будущее… Бабы передают, на базаре химандрит объявился. Сказал он: как есть, к лету кончится война. — Тетя Нюра умиленно и значительно посмотрела на них: вот, мол, что умные-то люди докладывают.
— Кто объявился? — недоверчиво переспросил Венька. Он слышал, как-то похоже называют гадалок. — Цыган, что ли?
— Какой леший — цыган! Слуга божий, химандрит. Снизошел до нас, грешных, для благодати объявился.
Венька недоуменно посмотрел на Алешу, тот сам ничего не понимал.
— Тетя Нюра, а не хиромант? Ну, который гадает?
— Во-во, бабы сказывали: гадает. Всем гадает. И хорошее гадает. Васене Потаниной про мужа нагадал. Почитай, как и наш Миша, с самого начала ни весточки, а оказался жив он, письма только не доходят.
Алеша понял, что она упомянула Венькиного отца, дядю Мишу, молчание которого угнетает Веньку.
— Потаниха с радости с себя все готова была снять, — продолжала рассказывать тетя Нюра. — За такую весть чего не отдашь.
— Взял?
— Взял хлебушка да еще кой-что. На божье дело взял.
— Путаешь церковного архимандрита с цыганом, — обозлился Венька. — Тоже мне… Еще в церковь ходишь. Химандрит! — Венька безнадежно махнул рукой.
— Передаю, что сказывали, — обиделась на племянника тетя Нюра. — Больно вы до всего умны, ничему не верите.
— А ты не передавай глупые-то разговоры… Цыган им заливает, врет, что в башку придет, а они ему хлебушка, божья благодать…
Алеша не торопился домой и даже не подозревал, как его ждали.
Брат Панька служил в артполку стрелковой дивизии, которая в первый месяц войны формировалась в городе, в основном из местных жителей, коммунистов и комсомольцев. Заводы шефствовали над нею, пополняли вооружение, изготовляли запасные части к тягачам и автомобилям. За запчастями и была направлена машина автобатальона, и с ней приехал Панька. Одну ночь он мог побыть дома.
В первое мгновенье Алеша даже не сообразил, что за человек в военной гимнастерке, перетянутой ремнем, сидит на диване, — стриженный под нолевку, скуластый, щурит глаза и смеется. Особенно незнакомы были черные топорщащиеся усики. Бог ты мой, Панька, какой чужой с виду! Алеша от порога бросился было к нему, но что-то сдержало, наверно, эта незнакомость, появившаяся в брате, — и он ужо неторопливо подошел, протянул руку.
— Здорово!
Брат захохотал, подал свою. Рука жесткая, сильная.
— Какой серьезный-то! Аж боязно. — С Алешей Панька всегда говорил с подначкой, не изменил себе и на этот раз. — А я, тетеря, все тебя маленьким, тщедушным представлял. Запомнился ты таким, когда с матерью провожали меня. Как живешь-то? Как учишься?
— Живем, учимся, — уклончиво ответил Алеша. — Чего нам… Ты о себе давай, у вас интереснее.
— Да уж интересно, — опять хохотнул Панька.
— Может, и со мной изволишь поручкаться?
Алеша повернул голову к занавеске у кровати — сестра Галя расчесывала перед зеркалом влажные волосы. Редко-редко она вырывалась домой, чтобы помыться в бане, отдохнуть от казарменной жизни. И она сегодня показалась Алеше чем-то непохожей на прежнюю: и взгляд голубых глаз жестче, и лицо почужавшее, обветренное. А может, он и сам изменился, только не замечает этого? По-другому стал на людей смотреть?
Мать, хлопотавшая на кухне, ласково оглядывала то одного, то другого, она будто еще не верила, что в такое суматошное время судьба свела всех вместе.
— Что ты так долго? — сказала она Алеше. — Заждались мы.
— К Веньке еще заходил. Да, его тетушка от кого-то слышала, что война к лету кончится. Смешная такая тетка…
— Сам-то ты как считаешь? — спросил брат.
— Почему ты меня спрашиваешь? — обиделся Алеша: как и раньше, Панька не принимал его всерьез. — Мне неизвестно. Тебе лучше знать, когда она кончится.
— Ну, а все-таки?
— Все-таки… Если бы к лету, не было бы столько городов под немцами.
— Вот это верней, — согласился Панька. — Не дай бог, но, может, придется и тебе шинель примерять.
— Да что ты такое говоришь! — вскинулась мать. — Ведь отогнали от Москвы немца. И держите его. Неужто уж так плохо?
— Отогнали и понемногу дальше гоним. А он в другом месте идет напролом. Сила у него еще немалая.
Панька привез с собой продуктов из солдатского пайка. Мать бережно приняла мясные консервы, две аккуратно выпеченные буханки хлеба. Надолго можно было растянуть такое богатство, но ради сегодняшнего дня она не скупилась, ужин получился праздничный: тушеная картошка с мясом, оладьи из муки, которую ей дали женщины в деревне. Отвыкшему глазу странно было видеть на блюдце большую горку синеватого колотого сахара.
Ужинали уже при электрическом свете. Мать похвасталась, что пошивочная артель приняла ее на работу, надомницей, шьет солдатское белье. Дело не в заработке, хотя продуктовая карточка много значит в нынешнее время, — главное, она при деле, не считает себя бесполезной.
— Лучше не придумаешь, — одобрил Панька, он чувствовал себя главой семьи. — Потом Алешка пойдет на завод — все и ладно.
Панька замечал, что Алеша нет-нет да и глянет на его грудь, на гимнастерку, где обычно красуются награды. Усмехнулся:
— Не заслужил я орденов, братик, ты уж прости.
Алеша покраснел, а мать сказала:
— Живой — уже награда.
Черная тарелка репродуктора на стене никогда не выключалась, сейчас вдруг музыка оборвалась, объявляли воздушную тревогу. И почти тотчас завыли над городом сирены. Мать подошла к окну, проверила, плотно ли прилегает байковое одеяло, служившее вместо шторы.
— Хоть бы сегодня пропустил, — сказала она, опять садясь к столу.
— Неужто так часто? — удивился Панька.
— Редкий день, когда не налетают, а иногда и по нескольку раз, — заметил Алеша.
— И сюда падают бомбы?
— Случается. Больше-то пытаются на волжский мост и шинный. Там кругом зенитки. Такой тарарам устраивают, тут уж не до цели, бросают бомбы куда попало. Все поселки пожгли… В корпус, рядом с Венькиным… Крышу пробила, потолок у каморки, не разорвалась и вышла на улицу через стену, как сквозь масло. В землю зарылась. Смотрели, когда откопали. Большущая… Панька, а почему ни одного нашего самолета не видно над городом? Нету, что ли, их у нас?
— Где надо — есть.
— Вот как! Здесь, выходит, не надо? Летают, как у себя дома, и никто их не пробует сшибить. Я раз даже ихнего летчика разглядел, над железной дорогой летит и хоть бы хны…
— Но ты же сказал: зениток полно.
— А-а! Никогда не попадают.
— Но мост-то стоит! — уже рассерженно сказал Панька. Для младшего братика свой город — весь мир, ему просто не представить, какая жестокая схватка происходит на тысячах километров, сколько требуется людей, техники, чтобы стать на пути немцев.
— А у вас там летают наши самолеты? — повернулся Алеша к сестре.
— Где «там»?
— Ну, там, где вы на пустырях макеты заводских цехов строите?
От Алеши не укрылось, как сестра быстро взглянула на мать и мать заметно встревожилась, отрицательно качнула головой. Галя подумала, что о макетах ему рассказала мать, а он просто случайно услышал, как они шептались.
— Алешенька, это чушь, о чем ты говоришь. Я на трудфронте, роем окопы.
— Зачем они сейчас — окопы? — усмехнулся он. «Таится от брата: видно, считает, каждому встречному стану рассказывать». — Заводы перестали эвакуировать, значит, никаких боев не будет.
Галя несколько замешкалась, но ответила отчетливо:
— Нас не спрашивают — зачем. Роем и все. Разумеешь?
— Вполне.
Галя не хочет распространяться о своих делах, конечно, ей и нельзя, недаром везде висят плакаты: «Болтун — находка для шпиона». Но все-таки казалось: уж родному-то брату могла как-нибудь намекнуть, какая у нее опасная работа.
Ему все думалось, что другие люди заняты самым важным делом, чего не скажешь о себе самом. Панька вон был в битве под Москвой, последнее письмо присылал из Калинина, значит, участвовал в его освобождении от немцев. Галя с подругами рисковала собой, оберегая химический завод, продукция которого идет на нужды фронта, — очень важное дело. А что выпало на его долю? Ну, делали сначала детали для мин, а как выглядит заряженная мина — представления не имеет, сейчас учатся для будущей работы на заводе. Говорят, у вас все еще впереди. Жди, когда это впереди наступит, все значительное пройдет стороной.
Засиделись за разговорами допоздна. Галя, разморенная после бани и уставшая за день, ушла на свою кровать за занавеску и, видимо, сразу уснула. Мать постелила братьям на диване, приставив к нему табуретки и стулья, чтобы было свободнее. Легла и сама.
Алеше не спалось, чувствовал, что и брат не может уснуть, хотя утром чуть свет ему надо было уезжать.
— А там, на фронте, жулики есть? — неожиданно спросил Алеша.
— Где их нет, — не задумываясь, ответил Панька. Но, когда вопрос дошел до ума, встревожился. — Ты почему это спрашиваешь?
— Я, наверно, скоро злым буду.
— Что так?
По голосу он понял, что Панька улыбается.
— Я серьезно…
Горячечным шепотом Алеша стал рассказывать брату все-все, с чем столкнулся в последнее время: о барыгах на станции, обирающих людей, о злом деревенском мужичонке, издевавшемся над семьей фронтовиков, о дяде Кузе, которого директор Пал Нилыч пожурил и оставил работать в столовой, а может, и не думал журить, посчитал все случившееся пустяком, хотя каждому понятно: ворованные продукты кто-то подготавливал дяде Кузе, не один он… И о Васе Микерине рассказал, так подло оговорившем его и Веньку.
— Кто этот Венька?
— Дружок мой, в группе вместе… Он хороший, я на него даже удивляюсь: все знает, что надо делать.
— Ты не знаешь?
Алеша промолчал.
— Так. Все видишь, переживаешь и молчишь. Вот послушай-ка… «Ты не должен молчать! Промолчишь — от себя отречешься. Ты не должен молчать! Промолчишь — разорвется, не выдержит сердце». Неплохо, а? Ты хоть книги-то читаешь?
— Какие книги! До этого ли сейчас…
Брат на какое-то время затих. Алеша порывисто приподнялся на локте — широко раскрытыми глазами Панька недвижно смотрел в одну точку. Что ему сейчас представлялось? Свое время, когда был мальчишкой? Задумывался ли он тогда над чем?
— То и хорошо, что злишься… Живешь ты, как же иначе. Накипь человеческую нутром не принимаешь. Взрослеешь ты, Лешка…
— Пань, расскажи что-нибудь. Как на фронте воюете? Страшно там?
— Живому — страшно. Тому, кто задумывается, что происходит вокруг. А таким, как я, у которых перед армией вроде ничего и не было, еще как страшно… Не спишь еще?
— Нет, конечно!
— И зря. Завтра новый день, радуйся. Каждому новому дню радуйся. Спи…
Панька удивлял. Алеша узнавал его и не узнавал. Он совсем не такой, каким был, когда уходил на фронт…
Их дивизию отправляли эшелонами, провожали с цветами и музыкой. Самому нелюбопытному были известны маршрут и часы отправления. В пути эшелоны жестоко трепала немецкая авиация. Сколько необстрелянных парней сгинуло, не доехав до фронта!
Где-то в это время кончилось Панькино мальчишество…
К нему с малолетства привыкли относиться на особинку. Натворит он что — другого разругали бы, о нем скажут: «Смотри, что Панька-то выкинул! Ну и ловкий малец!» Домашние в нем души не чаяли, в школе он удивлял учительниц способностью к математике. Школа — просторная деревенская изба, слева, из коридора, — жилье учительниц, Марии Ивановны и Анны Ивановны, справа — классная комната, ученики двух классов сидят вместе, только на разных рядах: один год — первый и третий классы, на другой — второй и четвертый. Если выпадет год, когда нет приема первоклашек, пережидай до следующего или иди в соседнюю деревню Федосино, коли обувки не жалко: там в этот год занимаются первый и третий классы. Так вот уже во втором классе учительница поручала Паньке составлять задачи для четырехклассников, и, случалось, такую заковыристую придумывал, что четырехклассники хоть и исподтишка, но вполне с откровенными намерениями начинали показывать ему крепко сжатые кулаки. Доставалось бы ему от них, да был он в душе не злым, а Марья Ивановна, которая преподавала математику, от старости рассеянна и близорука, — успевал незаметно перебросить решение. Все оставались довольны.
Как-то на первомайской демонстрации в районном центре Марьино, куда собирались со всех ближних деревень, среди прочих достижений объявили и о Панькиных необыкновенных успехах в школе, и всем захотелось его увидеть, так Паньку стали передавать через толпу на руках до самой трибуны.
Конечно, не всем ребятам нравилось, когда его ставили в пример, а им в укор. «Вот, гляди, — говорили взрослые своему малому, — во всем отличается, во всем старается быть первым на радость родителям. Тянись за ним, остолоп!» Оттого сверстники не всегда ладили с Панькой, бывало, поколачивали.
Но для взрослых он был на особинку. И никто не засомневался в правдивости его сбивчивого рассказа, когда он, бледный и заикающийся от испуга, переполошил всех: бил и бил в лемех от плуга, в середине деревни висевший на столбе, — словом, ударил в набат.
Был поздний осенний вечер. Тучи шли так густо, что не проглядывалось ни одной звездочки. Родители еще не пришли с колхозного собрания из соседней деревни, где было правление. Все трое — Панька, Галя и Алеша — сидели на печи при свете коптилки, которая не выносила даже легкого дыхания в ее сторону, сердито трепыхалась и гасла. Склонившись над книгой, Панька читал про дедушку Савелия, богатыря святорусского, и хитрого немца-управляющего Фогеля. Алеша живо представлял этого немца, что «через леса дремучие, через болота топкие» пешком пришел в деревню и обманом заставил мужиков делать проезжую дорогу, а потом приказал строить фабрику. Алеше казалось, что все это происходило в их местах, потому что за Бекреневом на Могзе тоже стояла фабрика и хозяином ее был немец, только фамилия его была не Фогель, а Шульц, но фамилию он мог и сменить, говорят, так очень часто делают: вон их сосед дядя Семен сходил в сельсовет и после этого стал зваться не Лошадкиным, а Триер-Тракторовским. Шульцевскую фабрику мужики разломали во время революции. Когда ходили на Могзу купаться, Панька не раз водил их на развалины, со страхом и любопытством карабкались они по битым кирпичам, бегали по сохранившейся аллее, обсаженной высоким и колючим боярышником, и тайком лакомились вкусными, чуть терпкими ягодами — взрослые считали эти ягоды ядовитыми.
А немец как ни властвовал,
Да наши топоры
Лежали — до поры! —
читал Панька, и тень от его вихрастой головы отпечатывалась на деревянной перегородке, трепетный свет коптилки удлинял ее, то делал четкой, то размазанной.
Рассказывает дедушка Савелий, как по приказу Фогеля роют они колодец, уже глубокий вырыли, а тут он сам появился и стал ругаться, что мало вырыли. Тогда дедушка, осердившись, подтолкнул его плечом к яме, другие мужики тоже толкнули…
Поталкивали бережно
Всё к яме… всё на край…
И немец в яму бахнулся,
Кричит: «Веревку! Лестницу!»
Мы девятью лопатами
Ответили ему
Жутковато Алеше. Сестра постарше, а тоже испуганно жмется к Паньке, часто-часто хлопает ресницами. Совсем не жалко злыдню Фогеля, ужасно, что его живого землей засыпают. А Панькин голос звенит:
«Наддай!» — я слово выронил.
Под слово люди русские
Работают дружней.
«Наддай! Наддай!..»
И вдруг Панька вскинул голову, прислушался. На дворе какая-то возня, грохот, что-то рушится. Страх подкрадывается к сердцу. Потом немного тишины — и опять жуткий треск.
Брат скатывается с печки, распахивает окно и сигает на улицу. Соскакивают с печки и Алеша с Галей — и тоже к окну. Уличная темнота заставляет отшатнуться, к тому же им и не выпрыгнуть — окно высоко над землей, боятся. Гале — девять, она могла бы попытаться, но не решается оставить Алешу. Остается только реветь от страха.
А по деревне разносится торопливый звон: дин-дин-дин. Так лемех звенел, когда прошлым летом загорелся сенной сарай и собирали народ тушить пожар. В избах стали появляться огни, на улице уже слышны голоса. А Панька не переставал трезвонить…
И вот в дом входят. Все, кто не пошел в этот вечер на колхозное собрание. Впереди с ружьем сосед дядя Семен Триер-Тракторовский-Лошадкин, здесь же учительница Анна Ивановна. Кроме ревущих ребят, в избе никого. Анна Ивановна остается с ребятами, прижимает к себе, успокаивает, остальные обшаривают сени — тоже никого. Тогда дядя Семен, выставив на вытянутых руках ружье, с опаской взбирается по лестнице на чердак, сзади ему светят фонарем. Деревня с трех сторон сжата лесом, в деревне побаиваются каких-то лесных бродяг, которых никто никогда не видел, но слухи о них не умолкают. Поэтому все так осторожны и то, что дядя Семен, хотя и вооруженный, лезет на чердак, в темноту, считается поступком отчаянной смелости.
И на чердаке никого нет.
Тогда идут в дворовую пристройку. И что же предстает их глазам: здоровый хряк, сидевший под рундуком, взломал перегородку и разгуливает по двору.
Дядя Семен плюется и уходит. Уходят за ним и остальные.
Панька сконфужен — он всполошил деревню, сказав, что в дом влезли грабители. Подсаживает ребят на печь, снова пытается читать. Но ни у него, ни у Гали с Алешей нет уже того настроения, не могут сосредоточиться, пережитый страх измучил их. Они чувствуют сильную усталость и засыпают.
Проснулись от громкого хохота отца, он чуть не катается по полу. «Ну, сынок, молодец! Задал ты им перцу». Им — это деревенским мужикам, что перетрусили не меньше ребят.
Опять Панька в героях. Случившееся оживило скудную на события деревенскую жизнь, смеялись над дядей Семеном Триер-Тракторовским-Лошадкиным, как он настороженно с ружьем обходил дом, смеялись весело над выдумкой Паньки. Ему это очень нравилось, ему уже давно стали нравиться разговоры о себе. И никому не подумалось, что, случись пожар в доме, он так же сиганул бы в окно, забыв о младших, сестренке и братишке.
Одно дело деревня — все на виду, о всех все знают, иное в городе, при тамошнем скопище народу не сразу разберешься, чем заметен человек. В городе, куда переехали, Панька сделал удивительное открытие: никто его не замечает, никто им не восхищается. В новой школе к нему относились, как и ко всем. И это открытие подействовало на Паньку угнетающе, он охладел к учению, с неохотой ходил на уроки. Потом начались прогулы…
Утром он брал портфель с учебниками и шел на станцию: между нею и Московским вокзалом на другом краю города весь день ходил поезд с четырьмя вагончиками, вроде парового трамвая. Панька забирался на верхнюю полку, раскрывал книжку и читал. Читал, что попало, любил стихи. Слезал он с полки, когда уроки в школе заканчивались, шел домой. Семья жила в это время в «шанхае». Мать, овдовев, перебралась в город. Поиски жилья привели ее в причудливый поселок возле станции, такие поселки — «шанхаи» — росли, как грибы, на пустырях вблизи от железной дороги. Городское начальство пыталось бороться с самовольными застройщиками, но мало чего добивалось. Заранее заготавливался строительный материал, нанималась бригада плотников — глянь, в одну ночь на пустыре появляется немудрящий домик, обмазанный глиной. А выселить людей, живущих под крышей, — такого права городские власти не имели. Но шел упорный слух, что поселки все равно будут сносить.
Катерина Карасева ничего этого не знала, никто ей не подсказал, а тут подвернулся ловкий человек и уговорил «задешево» купить его мазанку. Так они и оказались в «шанхае» и жили в постоянном ожидании, когда придет пора отсюда выселяться. Худо-бедно ли, но прожили два года.
В поселке было много татарских семей, почти в каждой имелась лошадь, и хозяева занимались извозом — по договорам работали на заводских стройках. Летом они нанимали мальчишек пасти лошадей. Алеша с удовольствием гонял в ночное небольшую лошадку Галку. Рубль за ночь — добыток для дома, но главное: сиденье у костра, когда лошади пасутся, скрадывало глубокую тоску о деревне. Была и еще у него обязанность — собирать для печки неперегоревший кокс, выброшенный после чистки паровозных топок: с дровами в городе было трудно. Панька не замечал, как нелегко было матери сводить концы с концами: надо было всех накормить, одеть, особенно одеть Галю, которая уже училась в техникуме. Он не ходил в ночное, не собирал уголь, жил какой-то своей внутренней, потаенной жизнью. Алеша был уверен, что мать потеряла здоровье именно в это время, с помощью Паньки.
Когда уже обжились в поселке и вроде бы успокоились, пришло извещение, по которому на снос дома отводилось две недели.
Мать, прочитав бумагу, бессильно опустилась на стул. Строиться заново! Она не могла и подумать об этом. Более благоразумные жители поселка сломали свои дома и начали строиться на отведенном месте, некоторые получали жэковское жилье, остальные все еще чего-то ждали.
Прошло две недели, и ничего не случилось. Правда, заходил участковый милиционер, снова предупреждал. Так прошел месяц. Жители спокойно вздохнули: пронесет.
К тому времени мать узнала, что Панька забросил школу. До этого ему удавалось скрывать, где проводит время. Девчонок, что посылал к нему на дом классный руководитель узнать, что с ним, он подстерегал, до матери они не доходили. Но обман не мог длиться вечно. Тяжелые это были дни в семье, мать слегла от расстройства. «Для чего и ехали-то сюда: учитесь, детки, выходите в люди», — говорила она. Панька обещал пойти на работу…
В серое туманное утро от железнодорожной станции к поселку направлялась необычная процессия. Шли люди в железнодорожной форме с баграми на плечах, шли те, кто имел свои дома в поселке. Они избегали взглядов женщин, высыпавших на улицу, но были решительны.
Человек десять цепляли баграми крышу, раскачивали и сбрасывали вниз. Потом принимались за стены. Развалив один дом, переходили к другому. Над поселком поднялась желтая пыль.
Женщины пытались мешать, подростки, распаленные их криками, швыряли камни, они договорились заранее отстаивать каждый дом.
Мазанка Карасевых стояла во втором ряду. Мать безучастно, как заведенная, ходила от дома к лужайке, переносила вещи. Панька был на работе — он устроился смазчиком на текстильной фабрике. Галя — в техникуме. Алеша взобрался на чердак к слуховому окну. У ног лежала грудка голышей для рогатки — он до последнего готовился защищать свой дом.
Алеша увидел, как камень, пущенный из рогатки, попал в пожилого с вислыми усами железнодорожника, который впереди всех направлялся к мазанке. Железнодорожник схватился за подбородок и выругался. Сквозь его пальцы сочилась кровь. И эта кровь заставила мальчишку опомниться, опустить рогатку.
Железнодорожники подошли к дому. Страшась за содеянное, Алеша не решался спуститься с чердака. Багры застучали по крыше, и кто-то глухо сказал:
— Давай, что ли…
Чердачная лестница заскрипела. В проеме показался тот самый пожилой рабочий с вислыми усами. К подбородку он прижимал носовой платок. Увидев мальчишку, затравленно жавшегося в угол, обернулся и крикнул вниз:
— Обожди маленько.
Алешка заревел, противно, визгливо.
— Ну иди сюда, чего боишься, — как ни в чем не бывало позвал усатый. И глаза его и весь вид выражали только усталость.
Алеша не шевельнулся. Тогда железнодорожник кряхтя взобрался на чердак, обхватил обмершего от испуга мальчонку и прошел к лестнице.
— Прими-ка, — сказал кому-то внизу.
Сильные руки подхватили Алешу и спустили с чердака. Те же руки толкнули легонько.
— Беги подальше…
Почему-то Алеше тогда казалось, что, будь старший брат Панька заодно с семьей, они отстояли бы мазанку.
Карасевы около месяца жили в землянке возле поверженного дома, потом им помогли: в фабричном поселке получили комнату в коммунальной квартире.
…И хоть Панька говорил: спи, радуйся завтрашнему дню, — сам не спал, не мог уснуть в эту крохотную однодневную побывку.
— После-то кое-чему научились, а тогда… — рассказывал он Алеше. — Выгрузили мы свою артиллерию образца девятьсот второго года, которую еще до войны на склады сдали… Колеса деревянные, ошипованные, а уж громоздкие… чтобы повернуть орудие, пять-шесть человек требуется. Пошли маршем. Так опять авиация засекла… Это сейчас-то мы научились находить укрытие, в первые дни не умели… Потери большие… Все-таки идем, лесок мелкий. Вдруг передние отчаянно машут: «Тише! Тише!» Прислушались — чужая речь, губная гармошка что-то задорное наяривает. Оказалось, немецкая часть за леском, на обед расположилась. Нас не чуют. Беспечные они в первые-то дни были, угорели от легких побед. Видим, две танкетки, орудия… Прямой наводкой вдарили по ним — орудия и танкетки подбили. Рванули фрицы, как будто их и не было только что. Тут уж всем полегчало: можно, значит, воевать, бить их…
Как утром уходил брат, Алеша не слышал.
…В конце месяца Карасевым принесли в казенном конверте похоронку на Паньку.
Глава седьмая
1
В фабричном поселке весну ждали не меньше, чем ее ждут в деревне: весна, а особо в этот сорок второй год, для многих семей была кормилицей. Еще шел ледоход, когда плотину заполонили рыбаки. Ловили «люльками» — круглая сеть, натянутая на проволочный круг, опускалась на веревке по блоку под самую стенку между улевами, где прямого течения не было, где бесновались буруны. Рыба в силу своих законов рвалась через плотину на простор, в места нереста; преодолевая сумасшедшее течение, делала головокружительные скачки по воздуху и, обессилев, скатывалась назад; на смену ослабевшим накатывались новые косяки — вода ниже плотины кипела.
Весной Алеша познакомился с дядей Борей Колотошкиным, слесарем с фабрики. У Колотошкиных была большущая семья. Восемь мальчиков и девочек, старшей из которых, Лене, было двенадцать лет, — порой представлялось, что и сам дядя Боря путается в их именах. Лет до пяти-шести не признавали они никакой летней одежки, еще у плотных заборов оставался почерневший снег, а они носились голышами — рыженькие, беленькие, черненькие, на любой вкус, — были на диво крепки, никаких простуд не имели. Насколько был тих и безобиден дядя Боря, настолько была шумна, оборотлива хозяйка этого дома Прасковья Константиновна — Параня, чаще — Царица, — с виду рыхлая, но очень подвижная, и такая живость была в ее глазах, такая пронзительность, что не каждый выдерживал устремленный на него взгляд. За басовитый голос, за шумность и звали ее Царицей. Промышляла она на барахолке, покупала и перепродавала то, на чем можно было заработать, тем и кормила своих многочисленных чад.
Когда Алеша появился первый раз в их доме, Прасковья Константиновна уничижающе оглядела дядю Борю.
— Господи! — воскликнула она. — Это еще что такое? Мало тебе своих?
— Рыбу налаживаюсь с ним ловить, — виновато ответил дядя Боря.
— Связался черт с младенцем, — с той же неприязнью выговорила Прасковья Константиновна. — Только и думает, как бы из дому увильнуть.
После Алеша заметил, что дядя Боря и в самом деле при каждой возможности старается «увильнуть», не быть дома. И не из-за ребятишек — их он любил, и они тянулись к нему, — от своей благоверной, которой побаивался.
Рыба в «люльку» шла больше ночью, и за место на плотине надо было держаться, чтобы его не заняли другие рыбаки. День на работе, и всю ночь на плотине — кто мог выдержать такую нагрузку? Потому рыбак, имевший сетку, подыскивал себе напарника, по очереди они стояли на плотине. Дядя Боря не захотел, чтобы в паре с ним был кто-то из взрослых, пригласил Алешу: не потому, чтобы эксплуатировать мальчишку, боже упаси, — рыбу он делил честно, — больше оттого, что со взрослыми людьми он не всегда ладил. Рыбаки недоумевали и посмеивались над простоватостью дяди Бори, когда он, при большом улове, — а часто за ночь и мешок окуней налавливали, — добрых две трети отдавал в столовую, где школьников по специальным талонам подкармливали обедами.
Когда дядя Боря отдыхал, Алеша сменял его. Сама рыбалка была малоинтересной: опускай «люльку» в воду, через сколько-то времени тащи ее наверх, если есть рыба — подтягивай сеть крючком к себе и вынимай улов. Раз Алеша почувствовал необычную тяжесть в сетке, веревка, ходившая по блоку, натянулась до звона, в неспокойной воде «люлька» моталась в стороны, создавалось впечатление, что внизу бьется что-то живое, крупное. Стоявшие рядом рыбаки заметили, как он со всех сил пытается оторвать сеть от воды, поспешили на помощь: «Ой, и повезло тебе, парень! Не иначе — сом».
Сетка была уже почти подтянута к блоку, когда полная луна выползла из-за облака, все осветилось. То, что представлялось крупной рыбиной, оказалось глыбой льда. Помогавшие Алеше рыбаки чертыхнулись, разом опустили веревку, а он не успел этого сделать и только чудом не перелетел через деревянные перила плотины вслед за брошенной «люлькой».
До прихода дяди Бори он больше не притрагивался к сетке, подставлял свежему ветру обожженные веревкой ладони, слушал, как сердито ворочается внизу река, будто пытается сбросить со своих плеч крутящиеся тяжелые льдины.
После этого случая Алеша совсем поскучнел, ходил на плотину, как на надоевшую до чертиков работу, но почему-то стеснялся сказать об этом кроткому дяде Боре, боялся обидеть его. И мать заметила:
— Кто же тебя гонит туда, бог с ней, с этой рыбой, хватает нам и без нее. И мне будет спокойнее.
Рыба, конечно, была не лишней, продуктов на карточки выдавалось все меньше. К счастью, ледоход длился недолго, вода стала светлеть, с берега уже пробовали ловить на удочки.
Это была настоящая азартная рыбалка, пусть и не столь добычливая. Выяснилось, дядя Боря Колотошкин тоже обрадовался удочке. Тут он оказался непревзойденным рыболовом и толковым учителем. Как Алеша раньше ловил? Удочку выбирал покрепче, лесу потолще, чтобы не оборвалась даже при зацепе, — три хвоста вытащит и уже рад. Дядя Боря дал ему одну из своих удочек, в которой, на первый взгляд, все было хрупко, ненадежно, показал, как забрасывать, подсекать и вываживать рыбину. Это было искусство, и давалось оно не сразу и не каждому. Ловили в проводку, на малый спуск, а на берегу под плотиной рыбаки стояли так тесно, что перебрасывать поплавок вверх по течению приходилось всем сразу, иначе запутаешься с соседом лесками, и тебе будет грозить позорное изгнание. Алеша выходил из дома затемно, к тому времени, когда пора было идти в училище, он налавливал полное ведерко. На базаре, где деньги уже ничего не значили, мать умудрялась обменивать рыбу на картофель и хлеб: базар уже вошел в жизнь горожан как что-то естественное, необходимое.
Смущало Алешу, что Венька, его близкий друг, был совсем равнодушен к реке, не понимал прелести рыбной ловли. А ведь это так хорошо поеживаться от холодка на рассвете, белесый туман постепенно рассеивается, гонит его ветром над водой вслед за течением, солнце поднимается большое и красное, оно еще без тепла… И невольно тебе думается о самом неожиданном. Именно на берегу он поразился тому, что стал часто видеть Паньку, каким он приезжал на побывку, не просто брата Паньку, а остриженным наголо, со смешно торчащими усиками, со спокойным, даже несколько отрешенным лицом. Неужели надо погибнуть, чтобы тебя неотступно вспоминали?..
Ближе к лету, когда в реке появилась растительность и рыба стала клевать хуже, дядя Боря показал, как ловят «на зелень». Еще при постройке плотины левый берег для предохранения от размывов метров на триста был обшит досками, сооружение это местные жители называли «стенкой». А чтобы вода не вымывала ямы, дно ниже улевов тоже было выложено досками — укладывались они вдоль, террасами. Когда полая вода сошла, на досках появились нежно-зеленые водоросли, мягкие, как шелк. Сидя на «стенке», рыбаки цепляли на пустой крючок прядку водорослей и пускали поплавок по течению. На эту нехитрую наживку клевали плотицы и густерки.
В воскресенье, прямо с реки, Алеша пошел в корпус к Веньке. В коридоре он столкнулся с группой людей: низкорослый мужик, обросший щетиной, держал под мышкой узкий и короткий гроб, несколько человек стояло сзади, среди них был Венька. Какая-то сухонькая старушка теребила мужика за полу пиджака, торопливо что-то наказывала. Мужик согласно кивал.
— Устрою, не ошибусь, успокойся ты. — Мужик терпеливо выслушивал наставления, говорил мягко: его просили отнести детский гробик на кладбище и закопать рядом с умершими родственниками ребенка.
— Так ты под боком и похорони. Придет потом отец с сраженьев, обиходит могилку. — Старушка была бестолкова, твердила одно и то же. Мужику нелегко было сдерживаться.
Венька увидел Алешу, позвал:
— Пойдем.
— Кого это? — Алеша указал на гроб, который без натуги держал мужик,
— Гадюк… Помнишь, чай? Вообще-то он Санька. Санька Никитин. Жалели его…
Алеша помнил смешного жалкого мальчишку, что при первой встрече выговорил ему: «Гадюк!» — и он воспринял это как ругательство, относящееся к нему.
— Все думаю: войну подонки начинают. Они, эти, кто войну затеял, даже не представляют, что такое для большинства корка хлеба… Все ходил, чего-то жевал, не понимая сытости… Наелся травы у корпуса. А какая тут трава! Снег и тот черный бывает от копоти. Жалко парнишку, безобидный был. Не дождался сытой жизни… Ты-то что пришел?
— Рыбу возьми. Наловил немного.
— Куда мне? Неси домой. — Венька покосился на ведерко, хвост от крупной густерки высовывался из воды. Рыбы было порядочно.
— Дома у меня есть, еще вчерашняя. — Алеша протянул улов.
Венька не принял ведерка.
— Чумовой! Тете Нюре отдашь, если уж сам такой принципиальный.
— Хочешь, сам ей и отдай, тете Нюре. Пусть дрызгается.
Алеша обиделся, что о его, в общем-то, приличном улове сказано пренебрежительно, но смолчал. Если бы другой кто сказал!
А в училище все шло своим чередом. Максим Петрович в эти дни был строг — принимал у ребят впервые сделанную ими работу, годную для производства: она потом пригодится при обработке деталей на токарном и фрезерном станках. Они, его ученики, из железной пластины сверлом и зубилом вырубили нагрубо измерительную скобу, обточили ее более нежными инструментами, закалили до нужной твердости и отшлифовали поверхность мягкой пастой на чугунной плите. Но самое сложное — соблюдали заданный размер рабочей части скобы с точностью до нескольких микрон — тысячных долей миллиметра. Этот размер подгоняли сначала по стальному брусочку, сделанному специально для этого мастером, а потом он принес плоскую коробочку, обтянутую дерматином. Коробка была бережно водружена на стол и раскрыта. Внутри в мягкой бархатной подстилке оказалось множество гнездышек и в каждом стальная блестящая пластинка: толстая, потоньше и уж совсем как бумажный листок, дунь посильнее — взовьется, полетит. На каждой вытравлены цифры — толщина в микронах. «Плитки Иогансона, — торжественно объявил Максим Петрович. — Самый точный на сегодняшний день измерительный инструмент. Из плиток можно собрать любой размер, любую толщину с точностью до микрона».
Ребята потянулись к нему со своими изделиями, а мастер, составив из разных плиток миллиметры и микроны, указанные в чертеже, замерял рабочую часть скобы, которую ему подавали. Было видно, кто какой добился точности. Принимая у Алеши скобу, Максим Петрович по морщился.
— Что у вас за руки! — взорвался он. — Вы только по смотрите: подержали в руках отшлифованную деталь, и она уже покрылась ржавчиной.
Конечно, все посмотрели на свои блестящие новенькие скобы — они были покрыты рыжими точечками.
Все объяснялось просто: от волнения ладони у них становились потными и деталь от прикосновения ржавела. Это уж потом, когда машинное масло впиталось в кожу, можно было без опаски держать в руках отшлифованный металл. А сейчас мастер, возмущаясь, всем настрого запретил прикасаться к плиткам Иогансона. И лучше бы не делал этого запрета.
Венькину скобу мастер проверял долго, сдвигал набор плиток с края на край, смотрел на свет — нет ли зазора между плитками и рабочей частью скобы, — сначала лицо его выражало недоверие, потом стало добреть.
— Точность поразительная. Молодец, Веня. За такую работу уже сейчас можно дать хороший рабочий разряд. Молодец, удивил, бесененок, — еще раз похвалил он смущенного и счастливого Веньку.
И вот когда все смотрели на мастера, показывавшего Венькину скобу, Павлуша Барашков, не в силах преодолеть искушения, протянул руку и цапнул с бархата тоненькую пластинку. Наверно, она была скользкой, а может, Максим Петрович своим предостерегающим жестом испугал мальчика, пластинка выскользнула из пальцев. Все оцепенели. В немой тишине послышался слабый и тонкий удар, чем-то похожий на звон разбитого стекла. С тревогой смотрели ребята на засаленный деревянный пол — пластинка, еще только что уютно лежавшая в бархатном гнездышке, раскололась. Максим Петрович тяжело нагнулся, подобрал оба осколка. Он ничего не говорил, словно обессилел. И тогда подал голос Павлуша Барашков: ревел он с захлебом, по-детски, жалко тряслись худенькие плечи. Можно было пожалеть его — не со зла же! — но ребят как прорвало:
— Вылез напоказ, шустряк! Надо ему было…
— Я не наро-о-чно-о! — заливаясь слезами, оправдывался Павлуша.
— А зачем хватал-то? Не нарочно он! Не лез бы прежде…
Возмущались и искренне и просто так, нашлась почва и для подхалимства:
— Сказал же Максим Петрович — не трогать. Что, мастер зря говорить тебе будет? Он, может, за эти плитки головой отвечает.
— Хватит! — одернул расходившихся учеников Максим Петрович. — Пошумели — и хватит. Скверно, что так случилось, единственный комплект в училище, беречь бы надо, но теперь чего уж… Замолчи, Барашков, стыдно небось, без пяти минут рабочий, а давишься слезами. На заводе не посмотрят на твои слезы, там за порчу инструмента расплачиваются заработком.
— Папа уплатит, — с надеждой, что ругать больше не станут, промолвил Павлуша: в отличие от многих Павлушин отец был не на фронте, имел бронь.
— Это делу не поможет, — отрезал мастер.
— А что, Максим Петрович, новую пластиночку уже никак не сделать?
— Почему никак не сделать, сделать можно. Стали у нас такой нет. Пластинку, чтобы была твердой, не снашивалась, закаляли без отпуска. И потому она очень хрупкая. Я виноват — не предупредил вас об этом. Но к делу. Кто еще не сдавал работу? Микерин, где твоя скоба?
Жавшийся сзади Вася Микерин угрюмо пробормотал:
— Я не успел, Максим Петрович, не доделал…
— Чем же ты занимался все это время? — мастер подозрительно пригляделся к его заплывшему глазу. — А ты, никак, опять дрался, Микерин? — уверенно заключил он. — Когда все это кончится?
Ученики с любопытством прислушивались к разговору, ухмылялись. С неосознанной жестокостью подростков злорадно поглядывали на Васю, осторожно косились на Веньку — они знали, почему у Васи заплыл глаз.
— Я должен тебя предупредить, — говорил Максим Петрович. — Ты постоянно ходишь с синяками, к работе у тебя душа не лежит. В чем дело? Может, ты ошибся, выбрав специальность слесаря?
Внезапно Вася сорвался с места и, к удивлению мастера, выбежал из мастерской.
— Что-то с ним происходит, — покачал головой мастер. — Ребята, вы ведь знаете, что с ним?
На кого он смотрел, те пожимали плечами. Ученики уклонились от ответа. Максим Петрович так и думал, что ему ничего не скажут: это был их мир, и они его оберегали. Он уже давно замечал, что у Васи Микерина нет дружбы с ребятами, его будто избегают. Максим Петрович не без основания подозревал Веньку Потапова — без него ничего в группе не происходит, а как быть уверенным, не возведешь ли на парня напраслину по одним догадкам? К Веньке Потапову отношение у него изменилось. После долгой отлучки он стал серьезнее и молчаливее, что греха таить — Максиму Петровичу иногда не хватало его озорных выходок, легкого панибратства, с каким тот вначале относился к нему, а сегодня вовсе поразил: ну-ка, лучшая работа в группе! Кто бы мог подумать! Принимая детали, оценивая их опытным взглядом, Максим Петрович по этим деталям мог многое рассказать и о самих учениках: сразу видно умение и кто усидчив и аккуратен, кто тороплив, небрежен… «С Микериным надо говорить наедине, надо это делать не откладывая».
Алеша искренне радовался Венькиному успеху. Его, правда, царапнуло, когда Максим Петрович, осматривая его работу, вздохнул: он ждал от Алеши большего. Бабушка сказала бы: «Заниматься — так чем-то одним, будешь хвататься за то, за другое — всего и будет понемногу». В их доме живет старичок, который, как говорят, за все берется: и шкафы делает, и картины рисует, и что-то лепит из гипса — все из его рук выходит вроде бы то и вроде бы не то. Только сам он этого не замечает, гордится собой: все могу. Вот и он всю весну разрывался между учением и рыбалкой, и того, и этого хотелось. Таких людей зовут дилетантами. Значит, он, Алеша, дилетант. Но он подтянется…
А Венька в самом деле молодец, даже Сеню Галкина обошел. Сеню мастер по привычке похвалил: не может Сеня сделать что-нибудь не добротно, не умеет. Поэтому мастер принял Сенину работу — и все. Нет, не зря Венька рассказывал, как в эвакуации скучал по мастерской, боялся — не придется делать угольники, какие мастер показывал в первый день при приеме в училище. Доказал, что может лучше всех работать.
Остаток дня ушел на упаковку скоб — их обертывали промасленной бумагой и складывали в ящики. Потом ящики отправят на завод.
В столовой Максим Петрович озабоченно оглядывался, нервничал. Потом подошел к столу, за которым сидели Венька и Алеша.
— Ребята, нигде нет Микерина. Вы не видели?
Те — вот прохиндеи — обвели взглядом столы, учеников, склонившихся над едой. Невинно сообщили:
— Верно, нет Микерина. Странно… Столовую он никогда не пропускал.
— Вы знаете, отчего он дичится. И эти постоянные драки, синяки. Признавайтесь, что с ним?
— Чего признаваться-то, Максим Петрович? — сказал Венька. — Уж если пошло на то… после, как накапал он на нас директору и не захотел потом честно признаться, поколотил я его.
— Ты? Поколотил? — И без того бледное, с желтизной лицо старика посерело, он вглядывался в честно раскрытые Венькины глаза, словно все еще надеялся, что тот пошутил. Венька мужественно выдержал его тяжелый взгляд, не моргнул даже.
— Ты понимаешь, что ты наделал? Да за такие дела тюрьма полагается. Ах, Потапов, Потапов!
— За подлость тоже надо платить, — не сдавался Венька. — Нас небось к директору потащили, обвиняли… А из-за кого? Из-за хорька Микерина. И не убивал я его, чего тюрьмой пугать. Мы сами, Максим Петрович, разберемся, не надо вам вмешиваться…
— Да что ты говоришь такое! — возмутился мастер. — За каждого из вас в ответе. Не убивал он его, разбойник! Помириться надо. Приведите его, все и обговорим.
— Ничего не выйдет, Максим Петрович, — легко сказал Алеша. — Пусть бы лучше сказал при всех, как бегал доносить директору, зачем это ему понадобилось… И то едва ли получится…
— Ты-то что Потапову поддакиваешь? — вспылил мастер. — Защитник еще выискался.
— Я правду говорю. Хотите вы или нет, но и прощать такое… Чехарда будет в группе.
— Мелкие отношения, — ехидно поддакнул Венька.
Максим Петрович в отчаянии покачал головой.
— В гроб загоните своими шальными выходками, бесененки, никакого с вами сладу. Я уже сказал, Потапов, обговорим. Мне его поступок тоже не по сердцу, но и жестокость ваша — бить товарища — не выход. Ищите Микерина.
И Максим Петрович, словно опасаясь их отнекиваний, поспешно отошел. За последнее время он сильно сдал, ходил ссутулившись.
— Веньк, а может, хватит с этим хорьком? А?
— Так он же упрямится! Стоит на своем, как будто не мы, а он во всем прав. Сумел сподличать, сумей сказать честно. А как же еще!
— Мастера жалко, извелся он совсем. В мастерской, смотришь, ноги еле волочит, лопатки выпирают, как у ощипанного петуха. Дома у него неладно и здесь тоже…
— Чего же дома неладно? У него же никого нет?
— Есть. Ждал, что сын из госпиталя заедет, а того прямым маршем на фронт, и опять писем нет. А здесь дочка с ребенком, хотя и не живут вместе. Какая-то у них давняя ссора.
— Мастер тут ни при чем, — упрямо сказал Венька. — Мы ему плохого не хотим. А пакостников надо учить, чтобы еще хуже не стали. Разобраться — так это же предательство! Я даже видеть его не могу.
Но увидеть Васю Микерина довелось в этот же день, и очень скоро после разговора о нем.
Пока обедали, в мастерскую принесли новую заказную работу — заготовки плоскогубцев. Максим Петрович пояснил, что работа эта большой точности не требует, а сообразительность и аккуратность необходимы. Чертеж он приколол кнопками к доске, висевшей на стене, тут же был пришпилен образец новеньких плоскогубцев. Когда заготовки были разобраны, Максим Петрович предупредил:
— Я не собираюсь вас торопить, не спешите, не то испортите заготовки, но с сегодняшнего дня буду заносить в журнал, кто как скоро сделал и насколько хорошо сделал. И с каждой новой работой будет так. Оценки пойдут в зачет, когда вам станут присваивать рабочий разряд. Понятно ли?
Ученики загалдели — еще бы не понятно! Мастер все чаще стал упоминать о рабочем разряде, а это уже серьезно: привыкайте, мол, к тому, что недалек день, когда придете на завод, там подсказок на каждом шагу не будет.
В хорошем настроении вышли Алеша с Венькой из училища, не успели отойти и сотни шагов — увидели на дороге парней, явно поджидавших их. Сзади за спинами прятался Вася Микерин. Четверо на двоих, Вася, конечно, не в счет, не решится махать кулаками, на дружков надеется. И дорога узкая, с обеих сторон картофельные грядки, огороженные колючей проволокой на кольях. Невольно замедлили шаги, чтобы обдумать, как поступить: назад не бросишься, гордость возмутится. Чуть впереди других высокий и тощий парень с челкой на лбу, в кепочке с маленьким козырьком, ноги расставлены для упора, а руки в карманах пиджака. Его трое дружков не то чтобы крупны, каждый по силам Алеше, не говоря уж о Веньке, стояли плотно, наглыми улыбочками подбадривали друг друга. А сзади Вася, тоже злорадно ухмыляется.
Венька вдруг отвел рукой Алешу назад, за себя, и сам остановился — шагов пять было до парня с челкой.
— Может, сначала поговорим?
Вроде спокойно спросил, но Алеша по голосу понял: Венька напряжен до предела. Жидкие брови тощего парня дрогнули, такое начало драки не было предусмотрено.
— Если есть у тебя что — говори! Нам спешить некуда. — И он обернулся к своим дружкам. Те одобрительно загудели. Но уже следующие слова вовсе обескуражили его.
— Не верю, — резко сказал Венька.
— Что… не верю? — теперь уже брови парня взметнулись к челке.
— Не верю, что и вы подлецы.
— Ну, ты! — парень угрожающе придвинулся, кулаки выскользнули из карманов. Венька с облегчением отметил, что кулаки пустые — ни ножа, ни свинчатки. Он не сомневался, что, если одолеет парня, остальные разбегутся. А этого тощего с челкой он сумеет одолеть, у себя в поселке драться ему приходилось.
— Ну я! — уже с вызовом сказал он. — Кого защищаете?
— Своего! — с таким же вызовом ответили ему.
— А ты спросил бы его, за что плюхи получает. — Теперь тон у Веньки был почти мирный, что опять сбило с толку парня.
— А за что?
— Ты спроси, спроси. У нас на поселке за такие дела свои за милую душу, не посмотрят, накостыляют — не подличай!
Парень сдвинул кепчонку на затылок, лицо у него от растерянности поглупело, неожиданно он ухмыльнулся.
— Ты с фабрики, что ли? Корпусной?
— Но!
— А что он сделал?
— Сам скажет, если не совсем подонок. Спросишь — скажет.
— Спрошу, — кивнул парень, — обязательно спрошу. Сражение отменяется. Тебя как зовут? Давай руку.
Венька назвался, пожал протянутую руку.
— Меня Шурик, — сказал парень. — Как получилось-то, — стал он объяснять. — Подходит: «Выжига проходу не дает, всех колотит. Помоги, Шурик, ни за что пропадаю». А почему не помочь, раз человек просит? Хотел помочь. Но тебя увидел, сразу понял: тут что-то не то, брешет Микеря. Ну-ка, Микеря… — Парень с челкой оглянулся, воскликнул с удивлением: — Ух ты! Смотри-ко, удрал. Все понятно.
По дороге, сжатой колючей проволокой, быстро удалялась юркая фигурка: Вася Микерин не стал дожидаться конца разговора.
Алеша во все глаза смотрел на происходящее, был в восторге: никогда еще такого не приходилось видеть, вот Венька так Венька! Из какого трудного положения победителем вышел! А что? Правда — она всегда побеждает.
— Бывай, Веня! — Тощий Шурик еще раз сердечно пожал Венькину руку. — Буде заглянешь в Кучерской переулок, спросишь. Приму друга.
— Заходи и ты в поселок, — сдержанно отозвался Венька.
Вася Микерин больше не появлялся в мастерской. На расспросы ребят Максим Петрович сказал, что он взял документы из училища, решил поступить на завод учеником слесаря. Одного он не пояснил: не Вася приходил, забрала документы его мать, и по ее жалобе директор записал мастеру выговор.
Бедный Максим Петрович, мастер и воспитатель оравы непослушных, с большущим самомнением, не сделавших ничего еще полезного в жизни подростков! Ему работать бы надо, втолковывать, какими они хорошими должны стать, а он сегодня принимает гостя за гостем.
Сначала в мастерскую заявился сияющий от счастья Павлуша Барашков, не один — в сопровождении невысокого кругленького человека в диагоналевом с накладными карманами френче, и тоже с сияющей улыбкой на моложавом полном лице. Папа! Ученики рты разели: не каждому нынче доводится вот так, безмятежно, прогуливаться под руку с родным отцом.
Максим Петрович по-старомодному раскланялся со старшим Барашковым, а потом при дальнейшем разговоре стал скучнеть.
— Не надо, ничего не надо… Чего не бывает — учатся!
Старший Барашков решил возместить ущерб, нанесенный сыном. По практическому складу своего ума он считал, что все в этом мире взаимозаменяемо: предложил в счет расколотой уникальной плитки Иогансона пять пар кирзовых сапог — для поощрения лучших учеников. Деньги он не предлагал и почему именно пять пар — тоже не объяснил.
— Вас, может, смущает…. деликатность, конечно… Все будет проведено, все законно…
Максим Петрович бледнел, краснел, отводил глаза в сторону, как девица на выданье, только что не закрывался стыдливо рукавом пиджака. А когда за кругленьким Барашковым захлопнулась дверь, совсем сник и долго сидел на табуретке за своим столом, бессмысленно глядел в одну точку. «Да что же это?» — вопрошал он себя. Далекий от ловкачества, он был потрясен предложением представителя хозяйственного мира.
Тут его опять оторвали от размышлений.
— Максим Петрович! Максим Петрович! Там офицер с орденом Алешкой Карасевым интересуется.
В мастерскую стремительно вошел боевой сержант — светловолосый, крепкий, так и брызжет здоровьем; на широкой груди блестит серебром медаль «За отвагу».
— Мне бы Алексея Карасева. В вашей он группе?
Максим Петрович испуганно поднялся от стола. Плохо держали ноги.
— Натворил что-нибудь? — спросил слабо.
— Натворил! — радостно подтвердил сержант. Глаза его излучали живой огонь. — Еще как натворил! А вы мастер? Уверен, — заявил без обиняков, — вы хороший человек! У плохих воспитателей славные ребята не вырастают. Подскажите, где он?
— Погоди, погоди, — пытался что-то понять Максим Петрович. — Говори по порядку.
— А я что — бестолково? Да так оно и есть. — Сержант хорошо улыбнулся старику. — Он о мамке моей, о племяшах позаботился. Покажите мне его.
А потом черт-те что пошло: облапил Алешу, приподнял на руках, расцеловал звучно, тут же оттолкнул, вгляделся пристально.
— Вот ты и пойми! — заорал весело. — Пацаненок совсем. Алеша, — расчувствованно произнес потом. — Я тебе друг, хочу, чтобы и ты был…
Какая уж тут работа. От верстаков потянулись ученики, окружили шумливого сержанта.
— Дядя, как там на фронте? Скоро фашистов разобьете?
— А за что вы медаль получили?
Максим Петрович и не пытался отогнать ребят, самому хотелось поговорить с фронтовиком, у самого постоянно болит сердце. Он догадывался, что сын после госпиталя опять где-то ближе к югу, а там в эти летние дни для наших войск обстановка сложилась малорадостная: оставляются города, противник пробился к Волге, и куда еще пойдет?
На сержанта жадно смотрели, ждали, что скажет.
— Да нет, ребятки, придется еще повоевать. — Хотелось фронтовику обрадовать мальчишек, почти у каждого кто-то близкий на фронте, а что он мог им пообещать? — Ну, а вам потерпеть.
Еще ничего не понимая, Алеша начал догадываться, что это сын Фаины Васильевны Савельевой, у которой останавливались с матерью, когда ходили в деревню. Савельев Иван.
— Вы уж извините, — развел руками сержант, обращаясь больше к Максиму Петровичу, — поезд у меня, времени почти не осталось. Алеша проводит меня, хоть до выхода?
— Проводи, — кивнул Максим Петрович. — Возвращайся, сержант, с победой. Надеемся на вас, сынки.
— Непременно. Счастливо, ребята!
— До свидания! Вы там подскажите нашим разведчикам, чтобы выкрали Гитлера, сразу война кончится.
— В этом что-то есть! — опять развеселился сержант. — Спасибо за подсказку.
А когда с Алешей вышли в коридор, сказал:
— Далеко-то не пойдем, а то мастер рассердится. Да и до поезда у меня в самом деле осталось чуть-чуть, только до станции добежать. Я ведь у вас дома был…
— Как?
— А вот так. Гостинцы-то надо передать, куда ты денешься. Попили с твоей матушкой чайку, рассказала она, где ты и как найти. На станцию пришел, до поезда еще два часа. И явился. Все-таки, думаю, погляжу, какой он из себя, кто так близко принял к сердцу беду нашу. Мамка у меня горячая, все в письме высыплет, что в голову придет. Так и с тем письмом. Ну там — здравствуй, прощай, — это еще читается, а больше ничего понять не могу: там замазано, тут замазано. Да вгорячах еще, разволновался. Потом-то прочитал… Обидно, конечно, стало. Муж сестры погиб еще в октябре сорок первого, оставил кучу детишек, я на фронтовой службе, мать с малышами мается, потому что сестра по все дни на лесозаготовках. Какой еще с них дополнительный налог надо брать, отбирать корову? Ведь в деревне корова — это все… Думаю, надо доложить ротному. Да он и сам заметил, что квелый хожу. Выслушал он…. И попал я аж до генерала, как в сказке. Ну, так и так, сообщаю. Генерал наш за солдата всегда горой. «Сержант, — говорит он мне, — не советская власть сотворила это зло, а безответственные люди, перевертыши, законы нашей власти они в своих интересах подленьких пачкают. Сержант, в самые ближние дни будет восстановлена справедливость…» А тут твое письмо, успокаивающее, душевное. Мать сообщает, что все наладилось: корова опять на дворе, отелилась и доит хорошо, «полномочного», как она того подлеца называет, из района куда-то убрали, говорят, на фронт, но не знает. И совсем мне повезло, когда после наступления семь суток отпуска дали. Командир говорит: «Поезжай, сам посмотри. Это о тебе генерал позаботился, запомнил…» Вот так, Алешенька, я и оказался здесь. Спасибо, родной. Бегай… Матушка моя поклон тебе передает и просит, чтобы ты еще железок в деревню привозил. Это она твои поделки так зовет.
Раз в неделю Максим Петрович вел ребят в учебный класс, где проводил уроки металловедения. В классе имелись образцы разных марок стали, мастер рассказывал, где какая сталь чаще применяется. Показывал чертежи, требовал относиться к ним очень серьезно: плохой рабочий, коли не умеет бегло прочесть чертеж, не может представить, какое тут приспособление начерчено, из каких состоит деталей. Объяснения мастера Алеша старательно записывал в толстой тетради с клеенчатыми корочками, сохранившейся со школьных времен. Школа вспоминалась как что-то далекое и отошедшее. Как и все в мастерской, он чувствовал, что за время учебы в ремесленном сильно повзрослел.
К исходу лета для учеников ввели военную подготовку — по два часа в день. Изучали винтовку, гранаты, пулемет «максим». Теорией занимались в том же учебном классе, а на расчищенном пустыре за училищем бегали и ползали по-пластунски, бросали учебные гранаты.
Занятия проводил Николай Алексеевич Качин, бывший летчик, летавший до ранения на бомбардировщике, и он же заместитель директора по воспитательной части. Время для военной подготовки он выбирал по своей занятости, поэтому не было определенных часов: то они бегали и ползали, закончив работу, а то после обеда, и тогда учеба в мастерской удлинялась. Как и в первые месяцы, когда изготовляли детали для мин, они почти весь день проводили в училище.
Николай Алексеевич был интересный человек, но у него вечно не хватало времени, может еще и потому, что ходил он на протезах, медленнее других. Он как-то обмолвился, что на заработанные ремесленниками деньги строится танковая колонна и будто уже воюет танк — ТО-34 — огнеметный, с надписью на борту: «Трудовые резервы». Гитлеровцы боятся его не меньше, чем «катюш». Ребята немножко загордились — совсем неплохо: ведь их училище тоже отчисляло на нужды фронта заработанные деньги.
Николай Алексеевич собирал на пустыре сразу несколько групп. И тогда много веселья доставлял татарчонок Тагир из группы слесарей-ремонтников. Маленький, с живыми глазами, он был подвижный, как ртуть. На него нельзя было смотреть без улыбки, сразу становилось весело.
Надо было пробежать круг по пустырю, потом проползти по-пластунски и бросить гранату на дальность и точность. Тагир стрелой срывался с места и не успевали ребята моргнуть — он уже был в полусотне метров от них. Потом выдыхался, отставал, на бросок гранаты у него уже не оставалось сил. Николай Алексеевич засекал время первой пробежки Тагира, с изумлением качал головой. На коротких дистанциях он ставил бы ошеломляющие рекорды.
Набегавшись, они, конечно, хотели есть. Когда приходили домой пораньше, все что-нибудь перепадало с родительского стола. А тут стали задерживаться почти до темки, в столовой же кормили все скуднее: первое — крупинка за крупинкой с дубинкой, второе — ложка жидкой каши на воде. Более недовольные ворчали: вот, мол, возчик дядя Кузя давно уволен, пошерстили кого-то в самой столовой, а изменений в лучшую сторону не произошло. Но все объяснялось проще: шел второй напряженный год войны, продуктов отпускалось в обрез.
Что им, тянущимся вверх, взрослевшим, такое питание? Голод постоянно напоминал о себе, заставлял искать подножный корм. И какие они были бы мальчишки, если бы не нашли его? За училищем были огороды горожан, в том числе сотрудников их училища, — война научила вскапывать грядки на заброшенных ранее местах, сажали картофель, морковь, репу, лук. Каждый раз из группы отряжались самые проворные. Усердные занятия с военруком на пустыре хорошо пригодились: все ползут по-пластунски в указанном направлении, двое, словно случайно, заворачивают в сторону огородных грядок. Главное, не обнаружить себя на первых метрах, где земля утоптана, а там трава скроет; один приподымает нижний ряд колючей проволоки, которая ограждает грядки, ждет, когда товарищ протиснется под нее, с такой же помощью дружка и сам оказывается на другой стороне. Наберут полные карманы овощей, насуют за рубашку и таким же путем обратно. Старались брать понемногу с нескольких грядок, чтобы не было заметно. Подсовывали и мастеру в тумбочку: то пару морковок, то сочную репину. Максим Петрович догадывался — не с базара, только что с грядки, сразу видно, — корил «бесененков» за разбой. Они честно таращили глаза: как он может плохо о них думать! И он успокаивался. Ребята жалели его, замечали, что он с трудом перемогает болезнь, слабеет и походка у него стала шаркающая, неуверенная.
Долго ли продолжались бы эти набеги на огороды… но все до случая. Накануне отряженные Сеня Галкин и еще паренек Юра Сбитнев принесли огурцов — пупырчатых, сладких. Их еще спросили с удивлением: откуда это богатство? «Ну! — самодовольно сказал Сеня. — Надо уметь. Ешьте!»
Сеня незаметно сунул лакомство и в тумбочку мастера.
Утром Максим Петрович встречал их в мастерской, был молчалив, бледнее обычного. Ребята чутьем угадали: мастер расстроен, за что-то сердит на них. Проницательности у них хватало. И потому расходились к верстакам без шумливого веселья, какое обычно бывало по утрам. Уже шаркали напильниками, когда Максим Петрович велел построиться. И опять даже никто не спросил: зачем? Построились.
Он прошелся перед строем, буравил их сердитым взглядом, медлил, казалось, у него недоставало решимости начать неприятный разговор.
В общем-то, так оно и было. Он никому не признался бы, что у него была слабость к людям, которые по любому случаю свободно произносили речи, обкатанные, как голыши в мелкой речке, он изумлялся и завидовал таким людям: они умели сказать даже пустые слова с чувством — вот что больше потрясало его. Ему сегодня нужно было сказать своим ученикам нечто важное для них, чего они еще не понимают. Ночью он плохо спал, обдумывал, что будет говорить. А вот теперь голова словно налита чугуном. Будь он поспокойнее, так еще пошел бы разговор. Какое спокойствие: зло и на них и на себя — сам потатчик.
Молчание затягивалось, и ребята уже с недоумением посматривали на него. И он как топором рубанул по бревну — сказал, что должен был сказать напоследок в своей обдуманной речи:
— Я хотел вам помочь вырасти честными. Вы оказались грабителями несчастных вдов… Не столько взяли, сколько вытоптали… Я не сумел сделать из вас честных людей…
Ученики возмущенно загалдели:
— Максим Петрович! Да скажите, в чем дело? Да мы…
— Вы доконали меня, бесененки, — закончил он и шаркающей походкой пошел к двери.
Ушел. Ребята растерянно переглядывались. Было стыдно.
— Из-за огорода…
— Конечно, из-за огорода! «Грабители вдов… Не столько взяли, сколько вытоптали…»
У какой-то знакомой нашего мастера огород обчистили. У несчастной вдовы…
— Сеня, объясняй.
Сеня Галкин развел руками. А чего объяснять? Не на своем огороде были. Попробуй-ка лежа в борозде нащупать огурец — головы не поднимешь, не осмотришься. А они, огурцы, как назло, крепко приросли, сразу-то не отделишь, ну и случалось — плетка с корнем вырывалась…
Все это они хорошо понимали. Никто не решился осудить Сеню Галкина.
Мастера долго не было. Потом в мастерскую вошел хромающий военрук Николай Алексеевич Качин. Он сел на место мастера, и его протез, сгибаясь в колене, щелкнул с металлическим звуком.
— Здравствуйте, товарищи ученики! Кто у вас староста?
«Товарищи ученики… староста». Ребята почувствовали недоброе.
— А Максим Петрович? Он где?
— Заболел Максим Петрович, — будничным тоном сказал военрук. — Я временно буду за него. Так кто у вас староста?
— У нас нет старосты.
— Как же так? — удивился Николай Алексеевич.
— Нет, не выбирали. Максим Петрович у нас и мастер и староста.
Ребята с тревогой приглядывались к военруку. Как же так: везде и всюду, каждый день они с Максимом Петровичем, а теперь вот его нет. Вместо него будет Николай Алексеевич, демобилизованный летчик. Он интересный человек, уже был на войне, но как же без Максима Петровича?
— Весь день я не смогу находиться в мастерской. Мне нужен помощник. Вот и давайте выберем старосту. Вы вполне взрослые, мыслящие люди, знаете, что вам задано мастером, что надо делать. Со всеми возникающими вопросами будете обращаться к старосте, а уж он, по мере надобности, ко мне.
Переглянулись, остановили взгляд на Веньке, у того веснушки стали заметнее, но не потупился, не отвел глаз.
— Веньку Потапова!
— Хорошо, Потапова. Только почему — Венька? Ну, Веня, Вениамин. У каждого еще и отчество есть.
— Потапычем мы его будем звать, — невинно сказал Алеша.
Венька показал ему кулак, но не со злом.
Старостой выбрали Вениамина Михайловича Потапова, Потапыча.
Кто только придумывает эти дома с буквой «а»? Прячутся они где-то на задворках в самых неожиданных местах. Стоять будешь перед ним, а не догадаешься, что это он: почему-то забывают приколотить или нарисовать номер дома. Местные жители и те точно не знают, хотя другой раз и видят его из своих окон. Раньше вот здорово было: напишут на почтовом конверте — улица Широкая, дом Попова, — и всем ясно, куда доставить письмо.
Алеша Карасев стоял в уютном зеленом дворе перед деревянным домом с двумя подъездами. С верхнего этажа из открытого окна слышался патефон, доносились голоса. В глубине двора на лавочке у разросшегося куста сирени сидели две девочки лет десяти-одиннадцати, повязанные платками, они оставили свои разговоры и серьезно смотрели на Алешу.
Он искал дом, где живет дочь Максима Петровича — Зинаида, по мужу Короткова.
После занятий с Венькой навестили больного мастера. Максим Петрович занимал комнату в общежитии училища. Тягостное впечатление осталось от посещения. Почти голая, неуютная комната: стол, две табуретки, кровать железная и под нею плетеный квадратный короб с крышкой для белья. Максим Петрович лежал в постели, укутанный поверх одеяла демисезонным пальто: его знобило.
И тут не забывал роль наставника, говорил, чтобы берегли рабочую честь и своей работой не срамили себя, иначе пропадет к себе уважение. Сдавил костлявыми пальцами Венькину ладошку — поздравил новоявленного старосту группы. «Кто же за вами ухаживает, Максим Петрович?» — спросили с состраданием. «Есть кому, не оставляют… — слабо улыбнулся: —…несчастная вдова». А губы блеклые, из-за опавших щек нос казался большим. Им было стыдно, как никогда: доконали старика, так он сам сказал. Им что, им и жизнь пока — игра, а он все принимал к сердцу, оно, как известно, не железное. Пожелали ему выздоровления, а он повел речь о том, какая на земле идет скверная мясорубка, убивают и калечат молодых, полных жизни, а что он? Кому какая жалость, если что и случится… «Да вы что, — горячо запротестовали, — вы даже не представляете, как все переживают, вы ушли — мы и носы повесили». — «Внучку повидал бы», — сказал после молчания.
И вот Алеша здесь. Венька не пошел, попросил извиняясь: «Не могу я как-то…»
Окликнул девочек:
— Это дом номер сорок пять «а»?
Одна, с большущими глазами, утвердительно кивнула.
— А квартира восемь в каком подъезде?
Та, большеглазая, вдруг резко поднялась, лицо сразу стало настороженное и суровое не по возрасту. Потянула подругу за рукав.
— Пойдем, Оля!
А та тоже неприветливо, с вызовом оглянула Алешу. Когда уходили, большеглазая даже ступала как-то со злом, твердо припечатывая каблучками траву,
«Вот те на! Что это с ними? — изумился он. — И спросил-то всего квартиру!»
Зашагал наугад в подъезд. Справа и слева — двери, обитые зеленого цвета материей. На одной — металлическая пластинка с циферкой «6». Сообразил: «На втором этаже над нею должна быть восьмерка. Оттуда, очевидно, и слышен патефон».
Там такая же ядовито-зеленого цвета обивка, циферки нету, но он уверенно толкнул дверь. Из прихожей еще три двери. Старушка с полотенцем шла из кухни, вопросительно посмотрела.
— Тетю Зину Короткову?
И у этой лицо неприветливое. Ткнула рукой на дверь, откуда доносились громкие голоса.
В комнате за столом, уставленным едой и бутылками, сидели разгоряченные, разрумянившиеся военные, три женщины, тоже с горячим румянцем на щеках, с подкрашенными губами. Все уставились на него. Женщина, у которой искрящиеся светляшки спускались с ушей, со смешливыми светлыми глазами, воскликнула:
— Кавалерчик пришел! Родной, ты ко мне?
Но тут же другая, сидевшая у окна с задернутыми занавесками, холодно спросила:
— Что надо?
«Хозяйка, — догадался Алеша. — Зинаида».
— Отец… Максим Петрович… — поправился Алеша, хуже некуда чувствуя себя под их взглядами, — послал…
Она не дала договорить, напудренное лицо ее перекосило гневом.
— Отец! Какой отец? Отец объявился… — И совсем неожиданно упала головой на стол, залилась плачем. Смешливая, с серьгами-стекляшками в ушах, бросилась к ней, стала успокаивать. Вскочили и военные. Алеша ничего не понимал: «Не туда попал, что ли? „Какой отец? Отец объявился…“ Что же тогда старушка указала на эту дверь? Ерунда какая-то». Он уже хотел сказать, что шел к тете Зине Коротковой и, если ошибся, то извиняется, но женщина вытерла слезы, спросила:
— Зачем он послал?
— Внучку хочет повидать.
Женщина опять обозлилась:
— А пошел ты вместе с ним! И что лезут, лезут?..
Как ошпаренный, Алеша вылетел за дверь. Но еще и на улице не сразу смог опомниться и сообразить, как отнестись к тому, что сейчас произошло.
«Во-первых, так и надо, не лезь в чужую жизнь, хотя и с добрыми намерениями.
Что же тогда: отказать в просьбе старому беспомощному человеку?
Венька-то как извинялся, когда не хотел идти сюда, — предвидел.
Да нет, просто пришел не вовремя, напилась она, собой не владела.
И все же, зачем со мной-то так? Не ладите с отцом, с ним и ругайтесь».
Он не успел еще уйти от дома, когда его нагнал лейтенант, один из тех, что были за столом.
— Постой-ка, парень.
Еще не зная, что хотят от него, Алеша нелюдимо ожег его взглядом.
— Знаете, что мне хочется сказать вам, — процедил он. — Идите вы обратно туда, за стол. Воюйте!
Стройный, перетянутый широким ремнем, с добрыми ясными глазами, офицер потемнел лицом.
— Хотел как-то сгладить, показалось, зря обидели пария, — не скрывая презрения, сказал он. — А сейчас вижу, паршивый ты щенок, будь постарше — морду набил бы. Ребята подлечились в госпитале и снова отправляются на передовую. Что им, отдохнуть запрещается?
Алеша получил по заслугам: не суйся со спешными выводами. Виновато заморгал.
— Простите…
— Охотно прощаю, — без доброты проговорил лейтенант. — А ты отнесись к тому, что в квартире произошло, с пониманием. Нелегко ей сейчас, муж оставил… Легче, у кого близкий на фронте, много тяжелей знать, что он где-то тут, а на поверку нету.
— Я ничего этого не знал…
Из подъезда вышла хозяйка комнаты Зинаида, зябко куталась в накинутый на плечи широкий шарф, лицо грустное и трезвое.
— Заболел он, по-видимому, что тебя прислал? Сам приходил всегда.
Алеша молча кивнул.
— В больнице?
— Нет, дома.
— Завтра обязательно приду. Ты уж извини, как встретила. Не тебя я…
— Он хочет, чтобы с дочкой.
— Разумеется, с дочкой. — Она поискала взглядом по двору. — Только здесь была. Никуда не велела уходить. Олька утащила, кто больше…
Алеша улыбнулся про себя: та, большеглазая, с серьезным личиком, и была внучка Максима Петровича — Татьянка.
Глава восьмая
1
— Венька, народищу-то, и все с корзинками. Разве сядешь?
— А я что говорил. На станции вообще не сесть бы. Там надо прорваться на перрон, в вагон без билета не войдешь. Попробуем здесь.
Они подходили к разъезду — 5-й километр. От фабричного поселка это совсем недалеко: пройти торфянистым пустырем с редким кустарником — и железнодорожная линия. Вчера Венька спросил Алешу: «Ты ведь мужичок хозяйственный?» — «Угу, еще какой хозяйственный. А что?» — «Грибы пошли. Соленье. Еда на зиму. Когда поедем?» Собрались на выходной. Слушавший их Сеня Галкин загорелся: «И я с вами».
И вот шли. Вдоль железнодорожного пути плотно росли ровные ряды тополей — защита от снега. Только на самом разъезде они отступили для широкой гравийной площадки, и теперь тут толпились люди, ожидавшие местного поезда, ходившего в утренние и вечерние часы.
Конечно, грибная пора, конечно, многим надо ехать в села и в районные города, через которые проходил поезд, — и все-таки скопление едущих казалось чрезмерным.
— Ничего не поделаешь, — спокойно говорил Венька. — Может, придется и на крыше. Ездили когда?
— Что ты, Венька, где мне было ездить на крыше, — смятенно проговорил Алеша. — Я и на поезде-то всего два раза ездил. У нас железная дорога от деревни знаешь как далеко…
— Ты это всерьез — на крыше? — спросил и Сеня Галкин, до него позднее дошла вся невозможность того, что предложил Венька.
— Ну, а что делать?
— Не, я не ездок. — Сеня решительно остановился. — Я, пожалуй, поверну домой.
— Твое дело. Но ты же просился в лес? Пробирайся в вагон, силушка у тебя есть. Про крышу я на всякий случай сказал.
— Если на всякий случай… — Сеня опасливо посмотрел на площадку, которая кишела людьми.
Шагавший первым Венька вдруг остолбенел от неожиданности: навстречу ему шла улыбающаяся Танька Терешкина. Похожая на бочонок корзинка висела на ее согнутой руке. Даже и тут не платок надела, что было бы удобнее в лесу, а голубой берет, чтобы не прятать свои чудо-волосы.
— Привет, мальчики, — запела она. — А я уж жду, жду. — И Танька подняла корзинку, мастерски сделанную из тонких щепаных прутьев, с крышкой на ременных петельках. — Тетка велела полную набрать.
Венька грозно обернулся к Алеше.
— Ты что, Потапыч! — обиделся тот, догадавшись, о чем подумал Венька.
— Ты с кем это собралась? — нелюдимо спросил Венька.
— С вами, с кем же, — просто ответила Танька.
— С ума сойти! — Венька передохнул с отчаянием. — Да кто тебя звал? Алешка! — опять прорычал он.
— Сказал же! — вспылил Алеша. Он и сам понимал: какие уж тут грибы, когда в компанию затесалась девчонка. Теперь только за ней и смотри, угождай. До грибов ли тут.
Венька не успокаивался:
— Сеня, ты?
— Что «ты»? — Сеня поднял голову, и лицо его стало задорным и несерьезным.
— Ты соображаешь…
Что там Сеня должен был соображать, осталось неизвестным, Танька опередила:
— Я это, Венечка, сама, не шуми на него. Ты где живешь?
Венька обалдело смотрел на нее.
— А ты не знаешь?
— На поселке ты живешь, а Сеня у Волги, на другом конце города. Сеня сегодня пришел в училище с корзиной, сам в фуфайке и ватных штанах. Это когда на улице теплынь. На что я могла подумать?
— Откуда знать, что ты подумаешь.
— Вот. Спрашиваю Сеню: куда собрался? Сказал, как не сказать, когда девчонка спрашивает. Мальчишке мог не сказать. Во сколько, спрашиваю? Назвал. Откуда? С 5-го километра. И вот я здесь. — Танька победно взглянула на насупленного Веньку. — Не возьмете, так и одна уеду. Последние слова Танька сказала с вызовом, хотя нисколько не поверила, что ее не возьмут.
— Ты погляди, людей кишмя кишит. Как сядешь?
— А вы-то как?
— А мы на крыше…
— Ой, здорово! — обрадовалась Танька. — Ни разу не ездила. Мальчишки, только подскажите, как туда забраться.
— Ну, Сеня, — уже остывая, пригрозил Венька. — Попомню тебе…
— А чего помнить, — рассудительно заметил Сеня. — Я же не звал ее с собой, просто сказал, что мы едем. А остальное — ее дело.
— Ни в чем тебе нельзя довериться… Пошли в самый перед. Всегда, как поезд подходит, бегут назад, все кажется, что остановится раньше. Может, удастся вскарабкаться. Кто первый ворвется, затаскивайте Таньку. На меня не смотрите, всяко уеду.
Сейчас, когда поезда еще не было, пригляделись: в толпе были не только грибники, многие женщины были с сумками и бидонами, видимо, деревенские жители, приезжали на базар. Все напряженно ждали.
Но вот люди зашевелились, из-за поворота показался паровоз, а за ним цепочка зеленых вагонов. Дым от паровоза стлался по верхушкам тополей.
Венька подтолкнул Таньку поближе к путям, чтобы не осталась сзади, не прозевала, когда надо будет броситься к вагону.
— Корзинку вскинешь над головой, а то раздавят, — поучал он. — Или нет, дай сюда, я сам…
Венька правильно угадал: слабонервным показалось, что вагоны не дойдут до них, бросились назад, а поезд, хоть и медленно, продолжал идти, у головных вагонов стало попросторнее.
— Хватайся, Сеня, за поручни, прямо через головы, — шепнул Венька, а сам уж готов было поднять Таньку, толкал ее к двери.
Сеня призыву внял и, как только поручни тамбура поравнялись с ним, вытянул длинные руки над головами, уцепился.
— Держись, Сеня!
Сене чего держаться! Скакнул на ступеньки и влетел в вагон. Венька кинул ему корзинки, нажал на Таньку, проталкиваясь к входу. И Алеша словно прилип к ним. Добрались наконец до ступенек, а там уж только ногами переступай. Задние занесут в вагон. Уф, поехали!
В лесу столкнулись еще с одной неожиданностью. Венька знал эти места и, как только сошли с поезда, уверенно повел их через болотинку по шатким наброшенным доскам. Потом вышли на песчаную дорогу. Лес был справа, у самой дороги, но Венька не останавливался — травы в лесу много. Миновали стороной небольшую деревню и только тогда увидели впереди чистый березняк. Было безветренно, солнышко еще стояло высоко — березы золотились теплым светом. Еще не дошли до первых деревьев, наткнулись на грибы. Толстые черноголовые подберезовики росли на поляне, прямо в траве. У помалкивавшей до этого Таньки прорезался голос, прежде чем сорвать гриб, вставала на колени, оглядывала его со всех сторон.
— Ах, какой славненький! Мальчишки, вы только взгляните. Срывать жалко.
— Проахаешь, — неодобрительно заметил Венька. — С пустой корзиной поедешь.
— Нет, ты, Венечка, погляди…
Исползали всю поляну вдоль и поперек, повеселели: так пойдет дело — без грибов не останутся.
А потом углубились в лес. Сеня всего-то отошел чуть в сторону и уже начал аукаться. Хоть он еще был виден в своей темной фуфайке среди белых стволов деревьев, ему ответили. Неожиданно Сеня заторопился, стал удаляться.
— Сеня, куда?
— К вам, — ответил Сеня и широким шагом продолжал бежать от них.
— Сеня-я!
— Ау! — уже издалека донеслось в ответ.
— С ума сошел, что ли? — растерялся Венька. — Лешка, не уходите с этого места. Попробую догнать.
Венька помчался вдогонку за Сеней, голос которого не замолкал, но продолжал удаляться, становился глуше. Догоняя, Венька недобрым словом помянул длинные Сенины ноги. Когда он наконец увидел Сеню, мелькавшего среди деревьев, облегченно крикнул. К его удивлению, Сеня вприскочку снова стал от него удаляться. Происходило что-то непонятное.
И тогда Венька решил бежать в обход. С Сениными ногами трудно спорить, и он изрядно попотел, пока не увидел несущегося ему навстречу перепуганного грибника. Венька и сам был перепуган не меньше.
И Сеня его увидел.
— Чего убегаете? — с обидой выговорил он Веньке. — Если бы я не первый раз здесь. Еле нагнал.
А Венька с тревогой вглядывался в его лицо — сейчас Сеня казался нормальным человеком, стоял обиженный, утирая потное лицо рукавом фуфайки.
— Поиграть хотели, — продолжал он. — Только больно уж игра-то ваша злая.
— Скажи, — наконец решился заговорить Венька: ему все еще казалось, что стоит открыть рот — и Сеня опять сиганет от него. — Скажи, ты вообще-то в лесу бывал?
— Конечно, бывал. Не часто хоть, но бывал.
— Чего же ты от нашего крика в сторону несешься? У тебя с ушами все в порядке?
— Кто их знает, — беззаботно ответил Сеня. — Отойди в сторонку, шепни что-нибудь — узнаешь, в каком они порядке.
Венька опасливо покосился на него, подумал: «Нет уж, без проверки обойдемся, не то опять припустишься вскачь».
— Не совсем, видно, в порядке, — сказал он. — Мы кричим, а тебе слышится наш крик совсем с другой стороны.
Вернулись к Алеше и Таньке, те тоже уже беспокоились. Не распространяясь о непонятном поведении, Венька сказал Алеше:
— Ты старайся быть с краю, я с того, левого, пойду, Сеня и Танька пусть в середине. Поглядывать будем за ними. А ты, Сеня, если подумаешь, что заблудился, стой на одном месте и кричи.
— А чего это он? — спросил Алеша.
— Побегать ему, видишь ли, захотелось, ноги поразмять.
Дальше все вроде пошло хорошо: Танька держалась поближе к Веньке, а Сеня не то чтобы убегать — стал путаться под ногами да еще выхватывать увиденные Алешей грибы: только Алеша направится к грибу, Сеня скакнет, выхватит из-под рук. За такие дела оплеуху следовало бы, но Алеша был добродушен, он уже смирился с тем, что грибов на засолку в этот раз не набрать. Правда, он и рассчитывал-то больше на утренний сбор, сейчас брал только самые крепкие — за ночь большие шляпки раскиснут.
Венька посмотрел на верхушки деревьев, солнце еще освещало их, но вот-вот должно было зайти. Пора было думать о ночлеге.
— Не разбредайтесь, шагайте за мной, — приказал он.
Венька пояснил, что они идут к ночлегу — к месту, где он останавливался в прошлом году.
Начался отлогий склон, который вскоре вывел к ручью. За ручьем открывалась широкая поляна, только в одном месте кучно росли деревья, они были так велики и стары, даже издалека заметны были дупла. А чуть в стороне стоял покосившийся сарай.
— Бывший хутор, — сказал Венька. — Вы подождите, схожу разведаю, раньше в сарае сено было.
Пока он ходил, Сеня сидел, вытянув ноги, — умаялся, бедный. Танька вдруг ближе к ручью нашла какие-то синенькие цветочки и радовалась. Грибники тоже! Хорошо еще, что комаров не так много, исстонались бы!
Вернулся Венька.
— Порядок, — удовлетворенно сказал он. — В сарае свежее сено. Сарай закрыт почему-то изнутри на засов, но я пролез под воротами — там щель, пролезть можно.
Танька подозрительно уставилась на него.
— А почему он изнутри закрыт? Что-то непонятно.
— Откуда знать. Может, побоялись: замок сшибут и утащат. А тут мальчонку оставили в сарае, задвижку он навесил и выполз.
— Задвижка-то в самом низу, что ли? Дотянется мальчишка?
— Чего запричитала? — оговорил он Таньку. — Значит, дотянулся.
Объяснение его не вызвало никакого сомнения: наверно, так и было, как говорит Венька.
— Давайте здесь поедим, а то в темноте ничего не увидим.
Танька расстелила чистую тряпочку. Каждый выложил у кого что было, благо осень: вареная картошка, огурцы, несколько луковиц, ломтики хлеба. Из своей корзинки-бочонка Танька достала большой кусок пирога с картофельной начинкой. Все это богатство она разделила на две равные части, одну часть сразу же убрала на утро.
Еда не заняла много времени. Напились в ручье и пошли к сараю, темневшему на фоне неба. Еще около сарая хорошо стало пахнуть свежим сеном. Венька приоткрыл ворота, радушно пригласил:
— Заходите, забирайтесь наверх.
Расположились рядышком, Венька с Танькой в середине, Алеша и Сеня по краям.
— Ни разу не спала на сене, — блаженно заявила Танька. — Мягко-то как, мальчишки!
— Я тоже первый раз, — признался Сеня. — Вон Леха, поди, много раз.
Сенной запах и в самом деле напомнил Алеше деревню. Но не сенокос он вспомнил, а солнечное теплое утро. Перед домом лужайка с мягкой гусиной травкой. Он лежит на траве, нежится. Перед самым лицом травинка, и, если плотнее прижаться к земле, травинка кажется высокой-высокой, выше колокольни, которая в другом конце за домами, выше даже белых курчавых облаков.
Из дома доносится певучий голос матери:
— Сходи-ко к ручью, принеси грибов, пока печь топится.
Ручей шагах в двухстах от дома, по берегам его кустарник, осины, там родятся красноголовики. Недалеко, но идти не хочется.
— Опять грибы! — возмущается Алеша. — А оладушки будут?
— Будут.
— А клюбака?
— Да будет, будет. Как купец Ваня-банченный торгуешься.
— Со сметаной поверху чтобы, — наказывает он, отправляясь с лукошком к ручью.
…Танька ворочается, не спит. Не спят и другие.
— Хоть бы рассказали что-нибудь, — просит Танька.
— Хотел бы я знать, — подает голос Сеня. — Сколько будем зарабатывать на заводе.
— Сколько заработаем — все наше, — беззаботно говорит Венька.
— Это я знаю, что наше. А все-таки интересно.
— На часы хватит, — смеется Алеша,
— Алешк, ты лучше расскажи про что-нибудь, что твоя бабушка говорила, — просит Венька. Сенин разговор про заработок, да еще при Таньке, ему не по душе.
— Можно. Бабушка рассказывала, как после революции у нас банды в лесах прятались. Зелеными их называли, потому что в зеленом лесу жили, в землянках. Ну, их, конечно, скоро повыловили, а одного бандита — Юшкой звать— никак не могут поймать. Уж и так и эдак, и засады устраивали, а он ускользал. Хитрый был. Раз говорят: в Краснухинском бору Юшка, бабы по ягоды ходили, так заметили человека похожего. Милиционеры собрались и туда. Вот и поджимают к тому месту, где видели Юшку, надеются, что на этот раз найдут. А им навстречу попадается мужичок, идет, плачет, сморкается, утирается рукавом. «Ты чего это разревелся?» — спрашивают его. Мужик еще пуще в слезы. «Да ну, — говорит, — этот чертов бандюга. Когда хоть его поймают. Совсем от него житья не стало». — «Про кого это ты?» — «Про кого, про кого. Да про Юшку этого, чтоб ему ни дна ни покрышки. Ловлю рыбу, налетел бандюга, как вихрь какой, котелок пнул в речку, удочку переломал да еще бить стал. Зверюга…»
Алеше и до этого казалось, что сбоку от него сено как дышит, приподымается. Он притих, прислушался.
— Дальше-то что? — спросил Венька.
Нет, правда, шевелится сено. А потом вдруг стало подниматься копной…
— Ребята! — завопил он. — Кто-то тут есть. Бегите!
Подхватив корзинку, он первый скатился вниз. За ним посыпались остальные.
— Ой, мамочки! — верещала Танька.
Венька схватил ее за руку, потащил к выходу. В распахнутые ворота ворвался лунный свет, и, оглянувшись, он увидел при этом свете обсыпанного сенной трухой человека.
Бежали без задних ног к тому же ручью. Перемахнули его и только в лесу перевели дух.
— Кто это там был? — спросил Сеня.
— А кто его знает, — неохотно ответил Венька. — Какой-то человек, а кто он — кому известно.
— А я корзинку забыла, — заплакала Танька. — Тетушкина корзинка.
— Этого еще не хватало!
При свете луны поляна и ручей были хорошо видны, поэтому они не уходили дальше в темень, где к ним могли бы подкрасться незаметно.
Ждали долго. Жалко было корзинку. Венька предложил:
— Алешка, пойдем со мной. Они здесь побудут, а мы попробуем пробраться к сараю. Надо выручать корзинку, саму корзинку жалко, да и еда там. По-пластунски поползем. — Повернулся к Сене, наказал: — Отсюда вам все будет видно, что заметите, кричите.
Алеша покорно пошел за Венькой, жутковато было, да ведь не признаешься.
— Погоди, тут у ручья я кол хороший видел, — шепнул Венька. — Захватим.
Поползли. Шагов тридцать осталось до сарая. Ворота распахнуты. Тихо. Приблизились еще. Вот уже и приступок, засоренный сеном. Венька махнул рукой, поднялся и осторожно заглянул в сарай. Луна освещала только часть сарая, наверху на сене было темно.
— Эй, друг?
В ответ гробовое молчание.
— Стой с колом, Алешка. Бросится ежели, бей по башке. — Венька говорил громко, подбадривал себя.
— Погоди, — шепотом сказал Алеша. — Мне все равно не дотянуться до верха. Я полезу…
Алеша вскарабкался. Послушал — тихо. Корзинка была на месте. Не выпуская ее, он прополз к тому месту, откуда вылез мужик: может, просто почудилось. Он же о бандите Юшке говорил, под впечатлением могло и показаться. Нашел место, где сам лежал. С опаской протянул руку, пощупал сено, рука уходила вниз, в ямину. Тут в самом деле был человек.
— Венька, никого.
— Ну спускайся.
От сарая шли легко, не хоронясь.
— Он нас напугал, а мы его. Вот и резбежались, — возбужденно говорил Алеша, подходя к Сене и Таньке, которые с нетерпением ждали их возвращения.
— Где же мы теперь спать будем? — спросила Танька, все еще боязливо поглядывая на сарай.
— Боюсь, что спать уже не придется, — заметил Венька. — Сейчас найдем сухое место, запалим костер.
— Мальчишки, только подальше уйдем отсюда. Вдруг опять появится.
— Конечно, уйдем.
Место выбрали среди толстых елей — три елки стояли треугольником, вверху раскидистые лапы их почти сплетались, значит, будут задерживать тепло костра. Пообломали нижние ветви, чтобы огонь не перекинулся на деревья, насобирали дров.
Скоро костер горел, сидели на лапнике, мягко. Дым от костра тянул вверх, непременно к хорошей завтрашней погоде.
Алеша улегся на спину, глядел на луну, медленно продвигавшуюся по небу. Луна была чуть подрезана с правого боку — старая, уходящая. Вдруг Алеша вскочил.
— Ребята, знаете, кто в сарае нас напугал? Дезертир. Иначе чего бы удирать? Слышал же, что мы не взрослые.
— Может, — не очень охотно согласился Венька. — А вернее, такой же грибник. Ты тут про бандита Юшку понес, он спросонья и перепугался. И сиганул вслед за нами. Кстати, ты не досказал: поймали Юшку?
— Поймали, но не в этот раз. Мужик, который ревел, с милиционерами встретился, и был тот самый Юшка. Видит, деваться некуда, ну и придумал. А милиционеры поверили ему, отпустили, сами бросились к реке. После-то поняли, как Юшка провел их…
— Давай, Алешенька, сказывай, — попросила Танька.
— Да чего сказывать-то? Все уже сказал.
— Еще что-нибудь.
— Еще вот: «Подымался полный месяц, видел тень на нем и пятна…» Дальше не все помню. Это про индейца. Он еще маленький был, а уже все знали, что он будет богатырем, героем, который всегда за правду. Вот вечером сидят они с мамкой-воспитательницей перед хижиной — такая же луна, звезды. Он и спрашивает, что это там на луне за тени? А мамка ему:
Раз один сердитый воин
Подхватил старуху-бабку
И швырнул ее на небо,
Зашвырнул на месяц прямо,
Так она там и осталась.
— Читал или бабушка говорила? — спросил Венька.
— Ясно, бабушка. Если бы я читал, так не запомнил бы. Я лучше помню, когда услышу.
— И совсем не так, — изрек Сеня. — Придумываешь всякое…
Алеше было обидно, что Сеня не понял прелести индейской легенды.
— Ты смотри, как хорошо: сердитый воин забросил на луну бабку, там бабка.
— Наговоришь, — ухмыльнулся Сеня. — Никого там нет, вулканы да горы. — И Сеня вскинул голову, довольный собой.
Потрескивал костер, наносил тепло, было приятно.
— Лешка, расскажи Танюшке, как тебя лейтенанты встретили у дочки нашего мастера.
— Чего там! Я сам виноват. Они, оказывается, уже на фронте были и раненные, после госпиталя опять назначение получили на передовую, решили погулять перед отправкой. А я: гуляете, под Москвой вас не было, когда фашистов колошматили.
Таньку это очень заинтересовало.
— Ну и что?
— А что? Щенком меня паршивым один назвал. Тут и обижаться нечего было. Узнай сначала, потом трепись. Правильно он сказал. А внучка у Максима Петровича строгая какая! Большущими глазищами как стрельнет в меня, у меня душа в пятки. Правду говорю.
— Большая внучка?
— Большая. Лет десять-одиннадцать.
Танька фыркнула.
— А ничего смешного нет. Дед заболел, просил передать… Веньк, а все-таки не дает мне покоя та «несчастная вдова», грядки с огурцами у которой потоптали. Она, оказывается, уборщица в общежитии, у нее ребятишек полно. Неудачный был забег.
— Так а с Сеней когда чего удачно было? Как Сеня присутствует, все время что-то случается.
— Валите на Сеню, — сказал Сеня.
Танька вдруг вскинулась:
— Да господи! Что уж он так за эту вдову переживает, что даже в постель слег? Да отнесите вы этой вдове корзину огурцов, больше-то она и не снимет со своей грядки.
— Где ты возьмешь — корзину.
— Да господи! Вот приедем, принесу в училище. У моей тетушки большущий огород за домом. Сколько хотите наберу. Нашли о чем вздыхать.
— Ладно, спать будем, — сказал Венька. — Сеня вон уж похрапывает.
— Вень, тебе не кажется, что мы живем какой-то посторонней от главных дел жизнью?
— Не понял.
— Ну, хотелось бы что-то совершить, пусть выкинуть что-нибудь, чувствую в себе силу, не знаю, куда ее применить.
— Постукайся головой об стенку, пройдет.
— Не хочешь ты понять. Вот мне иногда снится — дерусь с немцами, разные случаи снятся, и все как-то глупо. Помнишь, смотрели киносборник, как Швейк на вопрос Гитлера, о чем бы он хотел подумать, если бы возле него разорвался снаряд, говорит: хотел бы, чтобы в этот момент рядом со мной был мой любимый фюрер. Так вот и снится, что я тоже в том строю стою, Гитлера вижу. Бросаю гранату, а она не взрывается. Глупо. Стрелять в меня начинают, я почему-то укрываюсь за поленницей дров. Пули цвинькают, а стану стрелять из своей винтовки — она не стреляет…
Алеша выговорился, повернул голову и понял, что говорил самому себе: все уже спали. Он еще немного помучился и тоже незаметно для себя уснул.
Их разбудил дикий вой: Сеня Галкин носился вокруг костра и выл. Сначала никто не мог разобраться, в чем дело. Вонюче пахло паленой ватой. Потом заметили, что дым и запах идет от Сениных ватных штанов. Все стало понятно: во сне Сеня жался к костру, уголек стрельнул, и штаны затлели. Сеня носился у костра, и от этого ветер еще пуще раздувал огонь. Сообразив все это, Венька бросился на него, намереваясь поймать. Но Сеня увернулся, он совсем ошалел от боли и непонимания того, что с ним происходит.
— Сгорит, дьявол, — орал Венька. — Алешка, бросайся ему под ноги, сшибай!
Алеша так и сделал — бросился, но Сеня перепрыгнул через него и опять понесся по кругу. В темноту бежать он боялся. Потом Веньке все же удалось ухватить его за ногу. Алеша навалился сверху.
— Танька, чего сидишь, помогай, сгорит ведь, жердина. Стаскивай с него штаны.
Танька фыркнула, закатилась смехом, но, видно, поняла, что Сене грозит что-то серьезное, тоже подскочила.
— О-о! — продолжал выть Сеня. — За что-о?
Он ничего не понимал, дикая боль отшибла соображение.
С помощью Таньки стащили наконец с него ватные штаны. Венька стал топтаться на них, гася огонь. Сеня отполз от костра в темень и там ерзал задом по мокрой от росы траве. Потом увидел, как Венька ожесточенно топчется на его совсем еще новых штанах, закричал:
— Осторожнее вы! Порвете!
— Сиди! — оборвал его Венька. — Выгорел бы до костей, было бы не на что надеть. На вот, одевайся. — Венька кинул ему истерзанные штаны.
Когда Сеня показался у костра и повернулся к ним спиной, они не могли удержаться — повалились на землю, сотрясаясь от хохота. Тоненько повизгивала Танька. Не меньше чайного блюдца желтела на штанах дыра.
— Господи, ой насмешили! — давилась от смеха Танька. — Как хорошо, что я с вами поехала.
Но Сене было вовсе не весело.
— Как же я теперь поеду? — сокрушался он. — По городу еще идти.
— Сосновую кору приладить. Да нет, провалится, — отсмеявшись, рассуждал Алеша. — Травы надо, во! Набить до отказа, сверху неплохо бы цветок, вроде георгина. И красиво, и дуть не будет.
— Глядите, юморист выискался, — обиделся Сеня.
— А что! — подхватил Алеша. — В этом меня уверили, когда я еще совсем маленький был. Вот как было… Скарлатиной заболел, да так сильно, ничего не помнил. Иногда только очнусь, а передо мной что-то шершавое вертится, такое жесткое и сухое. Все время хотелось пить. А потом опять мрак. А однажды очнулся — белые кровати, и вообще все белое. В больницу-то меня без памяти привезли, не знал, как выглядит больница. Слышу за дверью чьи-то тяжелые шаги. За мной, за кем же иначе? Соскользнул с кровати и спрятался под нее. Входит кто-то с бородой и в белом халате. Спрашивает он, удивляясь: «Куда же делся мой пациент? Наверно, залез под кровать». А я думаю, как он догадался, и еще больше меня испуг трясет. Потом не выдержал, говорю: «Нету его под кроватью». Доктор, а это был доктор, и сказал тогда: «У этого молодого человека есть чувство юмора». И вытащил меня за ногу. А ты говоришь…
Обратно все же пришлось ехать на крыше. Когда они подходили к полустанку, поезд уже стоял. Грибники облепили вагоны со всех сторон. Ребята покидались от вагона к вагону, но так и не смогли пробраться в тамбур. Полезли на буфер, а с него по железной лесенке выбрались на крышу, пристроились к вентиляционной трубе. Сеня так даже был доволен — некому обращать внимания на его прогоревшие штаны. На крыше было не так уж и страшно, и даже совсем неплохо. Вот только от паровоза вместе с дымом летели мелкие частички угля, засоряли глаза да чернили лицо. В какой-то миг Алеша взглянул на улыбавшуюся Таньку и расхохотался — Танька была черна, как арап, и белокурые волосы свалялись и почернели. Но у нее не было зеркала, и она ни о чем не догадывалась.
Будь с ними кто-то из взрослых, заметили бы им, что веселятся они не к добру…
В училище их встречал неулыбчивый, строгий Николай Алексеевич Качин. От него и узнали скорбную весть: их мастер Максим Петрович накануне скончался. Всей группой, строем, пошли проститься с ним.
Максим Петрович лежал в простом гробу, ничуть не изменился, словно ненадолго уснул. Гроб был поставлен на скамейках посреди той же комнаты, в которой он жил.
В комнате Алеша увидел заплаканную Зинаиду в черном платке и ее девочку Таню, которая серьезно поглядывала на вошедших и притихших ремесленников. Рядом с Зинаидой находился пожилой человек, чем-то похожий на Максима Петровича. Алеша подошел к ним поздороваться. Пожилой оказался старшим братом Максима Петровича — Василием Петровичем. Мастер никогда о нем не поминал. Василий Петрович с недоумением оглядывал пустую и жалкую комнату, наверно, никак не ожидал, что у Максима Петровича никаких вещей не оказалось.
Друг за другом ребята обошли гроб, и Николай Алексеевич увел их в мастерскую. Алеша не стал догонять группу, неторопливо шел один.
Он слышал, что в городе появились пленные немцы, которых заставляют восстанавливать разрушенные бомбами дома, но никогда ему не приходилось видеть их. Поэтому, когда он увидел большую группу людей в сопровождении двух вооруженных бойцов, он не сразу понял, кто они такие, а сообразив, почти непроизвольно вытянул в их сторону руку с обидно сложенными пальцами, выкрикнул ненавистно: «Видел, фашист, вот!» Ближний к нему немец тут же выкинул свой кулак и восторженно заорал: «Видель!»
Алеша задохнулся от возмущения. Потом уж догадался, что немец принял его кукиш за приветствие, и от этого стало еще хуже: советского человека в чем заподозрил!..
В мастерской ни говора, ни шума, даже будто и не работает никто.
Венька встретил его новостью:
— Николай Алексеевич сказал, что поступили заявки на рабочих с одного нового завода. Рискнем?
— Что ж, — Алеша согласно кивнул, — давай рискнем.
1986
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ