Часть I. Ведьма
Красноглазая старуха
Ворожеи не оставляй в живых.
Ворожеи не оставляй в живых.
Начнем, пожалуй, с самого «инициатического» персонажа. По подсчетам Э.И. Ивановой, в сказках братьев Гримм ведьма появляется в 50 текстах, в 20 из них — в виде сверхъестественного злобного существа женского пола [131]. На самом деле в 30 случаях женщину нельзя обозначить как ведьму. Это аналог нашей старушки или бабушки-задворенки.
Думаю, в глазах читателей гриммовская ведьма ассоциируется прежде всего со сказкой «Гензель и Гретель», относящейся к типу 327А («Дети и ведьма») в каталоге Аарне-Томпсона (в дальнейшем — АТ). Поддавшись на уговоры своей второй жены, лесоруб уводит в лес сына Гензеля и дочь Гретель. В первый раз дети спасаются благодаря камешкам, которые успел набрать Гензель, во второй из-за коварства мачехи он вынужден кидать на землю хлебные крошки. Крошки склевывают птицы. Белая птичка выводит заблудившихся детей к дому из хлеба с крышей из пряников и окнами из сахара. Обменявшись с живущей там ведьмой стихотворными репликами, мальчик и девочка оказываются в ее власти. О ведьме известно, что, «когда какой-нибудь ребенок попадался в ее лапы, она его убивала, варила его мясо и пожирала». Глаза у нее красные и близорукие, а чутье тонкое, как у зверя, она издалека чует приближение человека.
Ведьма притворяется ласковой, кормит детей досыта и укладывает спать. Наутро она сажает Гензеля в железную клетку и заставляет Гретель откармливать брата. Гензель обнаруживает в клетке косточку и сует ее подслеповатой старухе, когда та хочет проверить толщину его пальца. Наконец, ведьме надоедает ждать, и она собирается сварить мальчика, а заодно и его сестру, но Гретель обманом заталкивает ее в печку и закрывает заслонкой. Ведьма кричит от боли, пока не умирает. Дети грабят жилище сожженной хозяйки, переплывают озеро с помощью уточки и находят дорогу к отцовскому дому. Выясняется, что за время их отсутствия мачеха умерла по неизвестной причине. Украденных жемчуга и драгоценных камней хватает на дальнейшую жизнь в достатке.

Главное изменение, внесенное братьями Гримм в исходную версию сказки, касается мачехи. Поначалу она была матерью и разделяла с мужем вину за отказ от своих детей. В окончательном варианте нрав лесоруба смягчился, а его супруга обрела новый статус. Но авторы то ли сомневались в правомочности такой замены, то ли нарочно не акцентировали внимание на родственных связях героини: лишь однажды ее называют мачехой, дважды — матерью, и около десяти раз используется слово die Frau («женщина»).
Информация о красных глазах и обонянии ведьмы имела мифологические корни. Были добавлены также белая птичка и уточка, причем птичка сыграла зловещую роль, заманив детей в западню. Снимали напряжение стишки про «стуки-бряки» (в устах ведьмы) и про «ветерок, неба ясного сынок» (в устах детей). Появились религиозные назидания. «Успокойся и усни с Богом: Он нас не оставит. Не плачь и спи спокойно. Бог нам поможет», — утешает сестру Гензель. «Боже милостивый! — молится Гретель. — Помоги нам!» «Никто вам не поможет!» — злорадствует ведьма.
Не меньшей известностью пользовалась в XIX в. версия из Моравии. Ганс и Гретель сами заблудились в лесу, собирая землянику. Ночью Ганс влезает на дерево и видит вдалеке огонек. Дети выходят к домику, чьи стены из пряника, а крыша — из марципана. В доме живет ведьма-людоедка Старая Груль. Взобравшись на крышу, дети проедают ее до дыры. «Кто разоряет мой дом?» — кипятится ведьма. «Ветер», — отвечают догадливые нахлебники. Груль успокаивается, но вскоре всходит луна, освещающая дырку в крыше и головы детей. Ведьма запирает их в пустом курятнике и откармливает. Во время ощупывания пальцев Гретель протягивает Груль завязку передника, а Ганс — веревку от штанов. Потом ведьму обманывают и сжигают в печи [132].

Братья пытались германизировать сказку за счет лесной ведьмы, каковая, по мнению Якоба, встречается преимущественно у немцев. Прочие мотивы «Гензеля и Гретель» широко распространены в Западной Европе. В первую очередь это касается детей, угодивших в логово людоедов. Тип АТ 327В («Мальчик и людоед»), прославленный сказкой Перро, может считаться первичным с учетом письменных, а не устных преданий. Вильгельм отзывался о нем довольно снисходительно: «Двойственный характер Мальчика-с-пальчика виден уже в древних мифах и в нашем языке… переходит в дурака» (нем. Daumling — «дурак», Dummling — «простофиля»; второе слово произошло от Dumen — «большой палец») [133]. Братья знали, что в Германии бытует свой вариант сказки Перро, равно как и отдельные приемы оттуда вроде дерева и огонька в моравской версии, поэтому посвятили Мальчику-с-пальчику только сказку типа АТ 700. Намеком на «пальчиковый» сюжет может служить ощупывание пальца ведьмой, хотя Пропп видел в нем отголосок инициации.
О мачехе и птицах мы пока говорить не будем. Братья колебались неспроста: их настораживала связь мачехи с ведьмой. Мотив указывающих путь мелких предметов Якоб возводил к греческому мифу: «Фаэтон, чтобы обозначить себе путь, рассыпал раскаленный, тлеющий пепел, как дети в сказках — хлебные крошки». В средневековой легенде Макарий Египетский, идя в сад, посаженный магами-язычниками, отмечает свой путь стеблями камыша. У немецкого автора шванков Мартина Монтана (1537–1566) девочка Гретлин (Гретель) дважды находит дорогу домой по опилкам и по мякине, а в третий раз семена конопли склевывают птицы [134].
В Западной Европе образ врага-каннибала обычно соотносился с огром — мерзким и злобным великаном. В салонных сказках Италии и Франции огры — единственные мало-мальски страшные существа. У Базиле много огров, но в сказке, считающейся предшественницей гриммовской, их нет. Отец по настоянию мачехи заводит мальчика Неннилло и девочку Неннеллу в лес как на увеселительную прогулку. Он оставляет детям корзинку с едой и преподает утешение: «Деревья укроют вас от солнца, река напоит, мягкая трава убаюкает, а если вы захотите вернуться, ступайте по брошенным мною уголькам». Во второй раз отец кидает отруби, которые съедает ослик. Заблудившись, дети разлучаются: девочка попадает на пиратский корабль (ее удочеряет главарь пиратов), а мальчик — в королевский дворец, где его воспитывают как принца. Корабль гибнет, девочку глотает огромная рыба, внутри которой находятся роскошный дом и красивый сад. Затем рыба подплывает к берегу, где стоит дворец, сестра окликает брата и выходит из пасти рыбы. Детей ждет счастливое будущее, а мачеху — суровое наказание.
В сказке Перро мачехи нет. Родители отправляют своих семерых сыновей в лес из-за царящего в стране голода. В первый раз дети вернулись благодаря камешкам, но вторично камешками запастись не удалось. В ночном лесу меньший из братьев (Мальчик-с-пальчик) замечает с дерева огонек. В хижине они встречают жену огра, предупреждающую о людоедских привычках мужа. Придя домой, огр обнаруживает мальчиков по запаху, но по просьбе жены откладывает их съедение на завтра. Ночью Мальчик-с-пальчик меняет шапочки братьев на золотые венцы семи спящих дочерей огра, и тот, нащупав впотьмах шапочки, убивает девочек. Мальчики убегают, а огр гонится за ними в сапогах-скороходах. В ходе погони Мальчик-с-пальчик крадет сапоги у притомившегося огра и, вернувшись в хижину, хитростью выманивает у его жены деньги.
У Перро мы встречаем несколько популярных мотивов, отсутствующих в немецкой сказке: член семьи врага в роли заступника (помощника), убийство (поедание) врагом собственных детей, бегство, возвращение в дом врага ради обогащения. Последний мотив сформировал отдельный сказочный тип АТ 328 («Похищение сокровищ»).

Многие решили, что Перро писал сказку под впечатлением от голодных лет во Франции второй половины XVII в. «Гензель и Гретель» тоже связали с периодом Великого голода 1315–1321 гг., когда были зафиксированы случаи каннибализма. Если выискивать основания для всех таких сказок, придется всерьез проштудировать европейскую историю.
В сказке мадам д’Онуа страдающие от бедности король и королева бросают своих дочерей на лугу, но младшая из них по прозвищу Замарашка заранее берет у феи, своей крестной матери, волшебный клубок и угольки. В третий раз она сыплет на землю горох, и его склевывают птицы. Дело происходит не в лесу, подходящего дерева нигде нет, поэтому сестры находят чудо-желудь и сажают его в землю. Мигом вырастает дуб, с верхушки которого виден ослепительный замок. В замке живет чета огров. Пока муж и жена решают, кому первым кушать девушек, те прислуживают по дому. В одно прекрасное утро Замарашка расправляется с обоими хозяевами: огра впихивает в печь, а его супруге отрезает голову, когда та причесывается. Далее сюжет развивается по типу AT 510А («Золушка»). Как видим, у мадам д’Онуа появилась печь, а брата и сестру (братьев) сменили сестры.
Мотив гибели детей врага имеется в другой сказке мадам д’Онуа, зависящей от Базиле. Семейство огров удочеряет маленькую принцессу, выжившую в кораблекрушении. Спустя годы принцесса находит на берегу потерпевшего крушение принца, своего кузена. Поскольку огры кормятся тем, что выбросит море, девушка прячет юношу в пещере, но он по неосторожности попадает в плен. Принцесса меняет головные уборы, и вместо принца огры съедают своего сына, которого прочили в женихи доброй принцессе.
Вот так и образовался тип 327В, отрицательными героями которого стали огры. Кроме мужского рода ogres, Перро использует и женский — ogresse. Базиле же употребляет неаполитанское слово huorco, встречающееся у Фацио дельи Уберти (XIV в.), Луиджи Пульчи (1432–1484) и Лудовико Ариосто (1474–1533). В испанском фольклоре под именем Огсо фигурировал одноглазый дикий человек, карнавальный циклоп [135]. Согласно разным гипотезам, Ogre происходит от римского бога смерти, правителя загробного мира Оркуса, или Орка (Orcus; отсюда русские выражения «Орковые поля» или «Орковые страны»), библейских имен Гог и Магог, греческого бога Эагра (???????), отца Орфея.
Но этот великан-людоед может иметь и северное происхождение, которое подтверждается его сходством с норвежскими троллями. Древнеанглийское orcneas встречается в поэме «Беовульф» наряду с gigantas: «…чудищ подводных и древних гигантов, восставших на Бога» [136]. Кретьен де Труа (1135–1183) в романе «Персеваль» говорит о королевстве Logres (валлийское Lloegr, то есть королевство короля Артура — Англия), которое было когда-то царством огров (ogres). Возможно, Кретьен имел в виду тех гигантов (gygantibus), что населяли остров Альбион до прибытия туда троянцев Брута. Их упоминает Гальфрид Монмутский (1100–1155) в «Истории королей Британии»: «Остров тот средь зыбей гигантами был обитаем» [137]. Гальфрид употребляет название Loegria, возводя его к имени старшего сына Брута и второго короля бриттов — Локрина (Locrinus).

Для сказок Германии огры нетипичны. Афанасьев утверждает, что роль черного косматого великана немцы возлагают на черта, и в своей манере объясняет это смешение общими представлениями о «мрачных, сильно сгущенных тучах» [138]. Если бы мы возразили ученому, указав на взаимозаменяемость огра и ведьмы, он не смутился бы: последняя у него тоже населяет хляби небесные.
Что же остается на долю братьев Гримм? Пряничный домик? Но он есть и у мадам д’Онуа, и в сказке на швабском диалекте филолога Фридриха Грэтера (1768–1830), где в сахарном домике живет не старуха… волк [139]. Ведьма, только ведьма! И все, что с ней связано: лесной дом, откармливание и пожирание детей, сжигание в печи. Атрибуты эти — не специфически немецкие, они могут и меняться: ведьму не обязательно сжигают (ее могут топить в воде, вешать, обезглавливать, отдавать диким зверям), жить она может не в лесу, а, например, на стеклянной горе (сказка «Барабанщик»).
Только ли для немецких сказок типов 327 и 328 характерен образ ведьмы? Попробуем поискать его по миру. Во Франции его нет. Вообще здешние сказки имеют пародийный налет. Он ощущается уже у Перро, где беготня в сапогах взад-вперед портит впечатление от сумрачного жилища огра. В другой версии этой сказки Мальчик-с-пальчик изловчился стащить у людоеда даже спрятанную в дымоходе луну. Детей может встречать и дьявол. В сказке «Потерянные дети» он слишком жирен, чтобы пролезть в сарай, где томится мальчик, и поэтому вынужден щупать его палец, точнее — крысиный хвостик (тот же хвостик подсунули великану в сказке «Солнышко»). В другой сказке братьям и сестре дает советы умная собачка Куртийон-Куртийет. Убивший по ошибке своих детей дьявол преследует беглецов на черепахе, быстрой как ветер. В собачке вдруг пробуждается колдовской талант, она превращает детей в реку и прачек, и дьявол тонет.
В норвежских сказках возникают три новых мотива: похищение жертвы, убийство героем детей врага и передразнивание. Герой сказки типа 328 нагло таскает у тролля ценные предметы. Крадя золотую арфу, он попадается. Вместо пальца полуслепой тролль щупает гвоздь, березовый прутик и свечку. Отлучившись, он велит дочери сготовить пленника, но тот обманом отрубает ей голову, расчленяет и варит в котле, надев на себя ее одежду. Тролль съедает свою дочь, а герой, заполучив арфу, открывается ему. Тролль лопается с досады, а герой присваивает его золото и серебро.
В другой сказке мальчика по имени Пряничек на глазах у матери трижды уносит троллиха, заманив гостинцами (как раз тот случай, когда имя кодирует поведения героя). Первые два раза троллиха присаживается отдохнуть с мешком, и Пряничек удирает. В третий раз она оказывается сообразительнее и без остановки топает до дома, где велит дочке сварить из мальчика суп. Но и Пряничек проявляет смекалку, недостававшую ему прежде. «Как тебя не больно зарезать?» — спрашивает дочка. «Клади голову на скамеечку, сама увидишь», — инструктирует Пряничек. Теперь синдром скудоумия настигает дочку, и она лишается головы. Пристроив голову на подушке, Пряничек готовит суп, запасается корягой и камнем и прячется. Вернувшиеся из церкви (!) тролль и троллиха думают, что дочка спит, и с аппетитом лопают суп, приговаривая: «Вкусный из Пряничка суп получился!» «Вкусный из дочки суп получился!» — ехидничает Пряничек. Эта перекличка завершается убийственным броском коряги и камня в головы хозяевам.

Аналоги двух норвежских сказок в Англии — «Молли Вуппи» и «Джип и ведьма из Уолгрейва». Первая сказка развивается по сценарию «Мальчика-с-пальчика» с тремя сестрами вместо братьев. Младшая по имени Молли Вуппи осуществляет подмену шейных шнурков на цепочки, и великан забивает своих дочерей дубиной до смерти. Затем франкоитальянские настроения уступают место скандинавским: Молли трижды возвращается в дом великана, крадя поочередно меч, кошелек и кольцо. Убегая от хозяина, она переходит мост «тонкий как волос», а великан, боясь ступить на него, умоляет Молли больше не приходить. Но Молли обещает снова «навестить Испанию» (вероятно, сказка сочинена в период нелюбок между Англией и Испанией). На третий раз она попадается — попробуй-ка стянуть кольцо с пальца! — но вновь одурачивает великана, и тот вместо нее умерщвляет свою жену [140].
Во второй сказке наконец-то появляется ведьма! Но сказка эта явно поздняя, в ней много литературных деталей. В роли глуповатой жертвы выступает эльф Джип. Ведьма Хаулит приманивает эльфа то вишней, то клубникой, то сафьяновыми сапожками, и он сам залезает в мешок. По дороге ведьма собирает приправу для будущего блюда, оставив мешок без присмотра, и Джипа освобождает сначала дровосек, а потом — дорожный мастер. В доме ведьмы кот-мизантроп Чернулин помогает эльфу затолкнуть хозяйку в печку традиционным способом: «Покажи, как туда влезть». Похоже, мотив печи накрепко привязался к ведьме.
Аналогичная индийская сказка, судя по всему, обязана своей обработкой английским колонистам. Интересны аргументы, с помощью которых ведьма обманывает доверчивого пастушка: «У меня золотые зубы, а у вчерашней старухи их не было» и «Я родня твоей матери» (!). Пастушок убивает не ведьму, а ее дочь. Это нетипичный случай — ведьмы родом из Европы, как правило, одиноки. Но еще удивительнее заключительная фраза: «Узнала ведьма, что такое материнское горе, и с того дня перестала ловить и есть маленьких детей». Тут без толстовской ложки не обошлось.
В Исландии детей поедают тролль и скесса (горная великанша). Мелетинский отмечал древнее происхождение исландских сказок [141]. В них и вправду много деталей, европейскому фольклору не свойственных. Скесса крадет у людей шахматы — старинный, высоко ценимый предмет. Далее возникает новый мотив: мать посылает за шахматами сына, несмотря на его протесты (этот мотив отвечает скорее типу АТ 480, который будет рассмотрен позднее). Схватив мальчика, скесса велит дочери вытянуть ему сухожилия и привязать их к ручке котла. Девочка вооружается ножом, отказывается от инструктажа, но соглашается выполнить последнее желание умирающего: показать, где мать хранит свои драгоценности. Перед экзекуцией мальчик предлагает девочке… побороться. В процессе борьбы она оказывается внизу, мальчик овладевает ножом и перерезает ей горло. Войдя в раж, он расчленяет и варит жертву. Но где взять сухожилия? Рядом с пещерой пасется добрый говорящий конь. Он хочет дать герою совет, но мигом немеет, когда ему отрубают член и привязывают к ручке котла. Переодевшись в платье дочки, мальчик угощает скессу вареным мясом. В разгар трапезы из котла доносится голос: «Ох, мама, ты меня ешь!» У матери кусок застревает в горле, она падает и ломает себе шею. Покидая пещеру, мальчик, естественно, уносит не одни шахматы. Искалеченный конь с болью глядит ему вслед [142].

Великаны и великанши, огры и тролли — вот главные людоеды на севере, западе и юге Европы [143]. Ведьма присутствует только в литературных обработках вроде знаменитой шотландской сказки «Три зеленых человечка» [144]. Но на востоке обитает немало ведьм.
В литовской сказке мы найдем два новых мотива: сестра идет на выручку брату; умная и нерадивая девочки (тип 480). Малолетний Бебенчюкас (закодированное имя?) плавает на озере и ловит рыбу. Его утаскивает Лаума. Лаума — чрезвычайно сложный образ, богиня судьбы и одновременно дух смерти, похитительница детей и злая ведьма, среди ее атрибутов — метла и кость. Она имитирует голос сестры или матери мальчика (опять ведьма равняется на мать). Две (или три) сестры Бебенчюкаса поочередно спешат ему на помощь. Старшая отказывается потрясти яблоню, подоить корову, испечь тесто из квашни и помыть мостик (вновь мост!). Лаума сидит в избушке: одним плечом прислонилась к одной стене, другим — к другой, левой рукой весь стол покрыла, а нижняя губа до пола свисает. Бебенчюкас лежит под кроватью, сверху дремлет собачонка. Девочка расчесывает Лауме волосы, а когда та засыпает, накрывает собачонку горшком и убегает вместе с братом. Однако Лаума настигает беглянку по подсказке тех, кому не была оказана помощь. Младшая сестра помогает им, а они из благодарности задерживают Лауму.
В чешской сказке мальчика по имени Смоличек похищают некие Ескиньки (Jeskynky, Jezinky), которых Потебня считает разложением одного лица — Бабы Яги. Дома они сажают мальчика в клетку и кормят лакомствами, пробуя толщину пальчика. Смоличек зовет своего друга оленя, тот прибегает, подхватывает его на рога и уносит[145]. Польская сказка «Ян и Анна» повторяет моравскую версию. Брошенные отцом брат и сестра находят пряничный домик и отламывают от него по кусочку. Из домика выбегает с воплями Старая Вера, хватает детей, сажает в клетку и откармливает.

Вместо пальца они демонстрируют ей свистульку Яна, а потом, обманув, засовывают в печь [146].
Азиатский образ ведьмы расплывчат. В грузинских сказках детей, изгнанных из дома по приказу мачехи или сбежавших от нее, встречает добрая старушка из маленькой хижины на краю леса. Они живут у нее, пока не вырастают. Этот мотив звучит и в турецкой сказке «Три источника». Брат и сестра убегают от родителей, которые хотят их съесть. Старая женщина, сидящая у родника и расчесывающая свои волосы, дает им волшебные предметы, помогающие уйти от сумасшедшего отца. В филиппинской сказке «Хуан и Мария» изгнанные отцом дети набредают на хижину, крытую травой, в которой живет добрая старушка. Она оставляет их у себя и обращается с ними, как с родными. В бирманской сказке изгнанные маче хой брат и сестра вообще никого не встречают в лесу и сами возделывают землю и ведут хозяйство.
Больше всего ведьм германо-славянского типа описано в дагестанских сказках. Девушки и мальчик по имени Цинцир заблудились в лесу и, пойдя на огонек, очутились у старой лачуги, где их приветствовала клыкастая старуха. Как и все людоеды в кавказских сказках, она ждет, когда уставшие дети уснут, и раздраженно спрашивает: «Кто не спит?» Не спящий Цинцир уверяет ведьму, что мама на сон грядущий кормит его различными вкусностями. И ведьма подра жает маме вплоть до похода за водой с решетом. Пока она мучается на берегу, мальчик будит девушек, и они убегают. Ведьма преследует их и тонет в реке, по совету Цинцира надев на шею мельничный жернов. Девушки торопятся домой, но Цинцир напоминает: «Там, у ведьмы, наша черемша, наши ягоды остались». Но забирают они оттуда не только ягоды.
В другой сказке ведьма похищает у женщины Бацулай трех дочек. Мать разыскивает их в горах, где становится свидетельницей эффектного появления ведьмы: «Поднялся вихрь, вершины деревьев склонились до самой земли, и сквозь шум ветра послышался собачий лай. Верхом на собаке, сидя задом наперед, ехала людоедка Кацулай. Она везла корзины, полные краденых детей». Тайком освободив детей из темницы, Бацулай убегает с ними, а Кацулай с собакой, преследуя их, пытаются выпить озеро и лопаются, как норвежский тролль. Итак, мать впервые противостоит ведьме лицом к лицу.

В прочих кавказских сказках мы встретим уже знакомые нам мотивы. Девушка Аймисей в дагестанской сказке и мальчик Кокайчик в карачаевской влезают на дерево полакомиться плодами и падают оттуда в корзину (подол платья) ведьмы (великанши). Аймисей помогают спастись дочери ведьмы, сживающие со свету мамашу, а Кокайчик управляется с великаншей сам, раздав ее добро жителям аула. Обзаведение семьей — характерный признак горных и степных ведьм — воительниц.
В грузинских сказках дети попадают к дэву (злому великану), и тот ночь напролет хлопочет около младшего брата или эареэает по ошибке своих дочерей. Младший брат возвращается за диковинными вещицами и в конце концов убивает дэва. Во время бегства дэв не может пройти по мосту, в одном из вариантов этот мост волосяной, как в Англии. Неизвестный пока нам мотив есть в дагестанской сказке «Хитрый Байбурак»: двенадцать братьев идут свататься к дочерям старухи людоедки. Та укладывает гостей спать под одеяло, которым можно укрыть три тысячи человек. Ночью Байбурак заставляет старуху перерезать всю домашнюю живность, якобы мешающую ему спать. Удирая же, он ухитряется так топнуть ногой, что образуется непреодолимая пропасть.
В восточноазиатских сказках чудовищ нередко подменяют звери: тигр в Индии, медведь в Китае. В дом медведя приходят изгнанные отчимом сестры в сопровождении собачки. Гостей прячет живущая в доме старуха. Хотя собачка не такая умная, как французская, она все же кусает медведя за лапу в момент опасности, и тот не находит девушек. Затем зверь укладывается спать прямиком в котел, дипломатично именуемый «теплый кан» (возвышение с обогревом), и сестрам остается только закрыть его крышкой и подпалить[147].
В жутковатой дунганской сказке «Семь сестер» дочери старика плутают в ночном лесу. «Где-то жалобно застонала сова, завыли лисицы, ворона прокаркала над головой, кто-то мелькнул в кустах». Они в панике добегают до одинокой избушки, на полу которой сидит волосатое страшилище, а возле печки копошится его не менее уродливая мать. Девочки отпрашиваются по нужде во двор и слышат стоны, доносящиеся из сарая. Там лежат связанные людоедами женщины. Жизнь научила их разуму: они дают девочкам ценный совет, те меняются местами со спящей людоедкой, и сын ее убивает. В одноименной бирманской сказке в дом волшебницы Билумы попадают ослепленные ею девушки. Намерения хозяйки неясны, но, похоже, человечьим мясом она не питается. Старшие сестры готовят еду, а младшая, подружившись с дочерью волшебницы, выведывает ее секреты и расколдовывает сестер. Во время преследования Билума погибает.
На просторах бывшего СССР к ведьме возвращается ее обаяние. Многие башкирские сказки начинаются тем, что родители отводят детей в лес и бросают там. В одной из сказок находим новый мотив — путешествие героя за огнем (не его ли символизировал огонек лесного дома?). В отсутствие родителей четыре сестры расшалились и случайно потушили огонь в очаге. Две старшие идут его добывать и натыкаются на пещеру, в которой прядет шерсть Убыр (старуха упырь). Убыр — весьма любопытный персонаж, чье имя может восходить к корню per («жечь»). Это «несожженный» мертвец [148]. Старуха дает девушкам огонь с условием: «Наберите в подолы золы и посыпайте ею свою дорогу, а я по ней приду к вам ночевать». Замечательное «переворачивание» мотива, только птиц не хватает! Явившись в дом, Убыр съедает двух сестер и грызет их кости. Окончание сказки стандартное. Две выжившие сестры бегут, создавая препятствия на пути старухи, и та умудряется потонуть в озере, хотя гналась за ними в ступе с помелом.
В казахских сказках в качестве ведьмы выступает Жалмауыз Кемпир — похитительница детей, владычица «страны смерти», в одном из своих воплощений сосущая кровь у девушек из колена [149]. В сказке «Три девушки и прожорливая старуха» сестры варят в котле маленькую дочку ведьмы. Бегство совершается обычным способом. В другой сказке юноша Караглыш, случайно набредший на жилище ведьмы, умыкает пять ее дочерей. Мы вновь наблюдаем своеобразную смесь мотивов. «Караглыш, — просит догнавшая его ведьма, — завтра я отдам тебе своих дочерей, а сейчас ты сам у меня заночуй». Юноша соглашается, но его жеребенок горько плачет. Вы думаете, он вспомнил об исландских шахматах? Нет, он просто волнуется за хозяина и делится с ним своими подозрениями. По совету животного юноша не смыкает глаз. В течение ночи ведьма несколько раз проверяет, не спит ли он. Все завершается мирно — выдержав испытание сном, Караглыш снабжает невестами своих братьев.

Удэгейская сказка стилистически близка французским пародиям. Черт Зандарафу, у которого вместо головы молоток, вместо живота кузнечный мех, руки из железных палок, ноги из одних костей, а вместо глаз два угля, вваливается в юрту к двум девочкам и глотает младшую только потому, что та смеялась, когда он бил чашки. Старшая находит в тайге его юрту, вступает в сговор с местной старухой, вспарывает черту брюхо и освобождает сестру. Несмотря на проблемы с животом, Зандарафу преследует их и тонет.
Почти все выявленные мотивы, включая ряд еще не встретившихся нам деталей из «Гензеля и Гретель», присутствуют в русских сказках. В сказке «Баба Яга» мачеха отсылает падчерицу к своей сестре (!) Бабе Яге будто бы за иглой и ниткой, а на самом деле — на съедение. В доме Яги девочка задабривает березу, ворота, собак, кота и работницу, которая должна ее помыть и изжарить. С помощью волшебных предметов, подаренных котом, она уходит от Яги, хотя та выпивает реку и грызет деревья. В сказке «Гуси-лебеди» впервые после «Гензеля и Гретель» читаем о птицах, уносящих (приводящих) детей к Яге (ведьме). Сестра идет выручать брата, а на обратном пути угождает реке, яблоне и печи, которые укрывают ее от гусей. Нигде не говорится о планах Яги относительно мальчика [150].
Для восточнославянских сказок Андреев выделил отдельный тип 327С («Мальчик и ведьма»), с иноземными вариантами которого мы уже сталкивались. На Руси мальчиков, похищаемых ведьмой и расправляющихся с ней и ее детьми, пятеро: Ивашко, Жихарь, Филюшка, Лутонь и Терешечка.
Ивашко (украинский Ивасик) заталкивает в печь дочь ведьмы Аленку, чье мясо поедают хозяйка и ее гости. После сытного обеда ведьма идет покататься на траве (в другом варианте — на разложенных на земле костях дочери). Катание сопровождается дразнилкой: «Покатюся, повалюся, Ивашкина мясца наевшись!» — «Покатайся, поваляйся, Аленкина мясца наевшись!» Сидя на дереве, Ивашко просит помощи у гусака и улетает на нем. Гусак исполняет, вероятно, ту же функцию, что уточка у братьев Гримм. Терешечка (украинский Телесик, белорусский Пилипка) похищен, как и Бебенчюкас, прямо из лодки ведьмой Чувилихой, подделавшей голос его матери. Он спасается верхом на гусенке. Жихарь и Лутонь сумели изжарить трех дочерей Бабы Яги. Весьма аппетитно блюдо, приготовленное Филюшкой. Изжаренную дочь Яги он мажет маслом и прикрывает на сковороде полотенцем, а сам прячется на потолке с пехтилем (пестом для льна) в руках. Заслышав его дразнящий голос, Яга лезет на потолок и получает пехтилем по лбу [151].
В другой сказке три матери по примеру Бацулай идут за своими детьми. Хотя это довольно редкий мотив — обычно мать (мачеха) не встречается с ведьмой, а посылает к ней детей, — он, возможно, относится к глубокой древности: когда-то родители сами ходили к ведьме. В остальном эта сказка похожа на литовскую: оказание помощи, неправильное поведение и даже горшок, которым швыряют в ведьму [152].

В сказке «Баба Яга и Заморышек» герой и сорок его братьев приезжают на волшебных конях к дому Яги свататься к ее дочерям. Не смущенная таким количеством женихов — а одеяло на что? — Яга велит пить, гулять, свадьбы справлять. Заморышек выходит из-за свадебного стола во двор, и обезумевший от страха конь, не раздумывая, советует ему меняться платьями с женами. Обмен осуществляется на брачных ложах. В полночь Яга кричит зычным голосом (непонятно, зачем так шуметь — братья же спят?), приказывая слугам рубить головы незваным гостям. Понатыкав на спицы отрубленные головы покойных жен, молодцы покидают гостеприимный кров [153].
Мотив сватовства имеется и в датской сказке «Эсбен и ведьма», но он добавлен туда позднее под впечатлением от восточных сказок. Братьев двенадцать, как в «Хитром Байбураке». Сбежавший Эсбен возвращается к теще за сокровищами, она ловит его, сажает в подпол и откармливает. Его бывшая невеста питает к нему симпатию и помогает обмануть свою мать (гвоздь вместо пальца). Впоследствии неблагодарный Эсбен впихивает девушку в печь.
Ну а теперь «Василиса Прекрасная» — самая выдающаяся русская сказка, объединившая в себе несколько мотивов. Василису ненавидят и мачеха, и две сводных сестры. Поэтому, когда в доме недостает огня, к Бабе Яге посылают падчерицу. Огонь же необходим — мачеха специально потушила свечу в разгар ночных работ по плетению, вязанию и прядению. Покойная мать оставила Василисе куколку, изрекающую полезные советы. По мнению Проппа, это фетиш, представляющий собой инкарнацию умершего [154]. По дороге в лес Василиса встречает двух всадников — белого (день) и красного (солнце). Третьего всадника — черного как ночь — она видит рядом с избушкой Яги, окруженной забором из человеческих костей. На заборе торчат черепа, чьи пустые глазницы ярко освещают лесную чащу. Яга появляется не менее живописно, чем Кацулай: «Послышался в лесу страшный шум: деревья трещали, сухие листья хрустели; выехала из лесу Баба Яга — в ступе едет, пестом погоняет, помелом след заметает». Василиса нанимается служанкой и с помощью куколки выполняет сложные задания. Она не забывает подкармливать куколку, а та призывает ее не отчаиваться и молиться Богу. Кроме девочки, Яге прислуживают три пары рук, являющиеся на ее зов.
Перед уходом Василиса расспрашивает хозяйку о трех всадниках (это верные слуги Яги), но умалчивает о руках, за что удостаивается похвалы: «Я не люблю, чтоб у меня сор из избы выносили, и слишком любопытных ем!» Однако, узнав, что Василису оберегает благословение матери, Яга выталкивает ее, дав взамен огня череп с горящими глазами. «Не бросай меня, неси к мачехе», — требует череп. В доме в отсутствие Василисы творились необъяснимые вещи — зажженный огонь сам собой погасал. Встречают падчерицу ласково, радуясь огню. И напрасно — свет, исходящий от черепа, сжигает в уголь мачеху и ее родных дочек. Зарыв череп в землю, Василиса перебирается на жительство в город [155].

В этой сказке отсутствует печь, но мотив сжигания (испепеления) сохраняется. Губящий людей огонь прибывает в дом посредством мертвой головы, а в башкирской сказке Убыр (мертвец) приходит туда следом за огнем по уголькам. Отметим также события, происходящие в доме Василисы после ее ухода. Не случилось ли нечто подобное в доме Гензеля и Гретель? Не этим ли вызвана скоропостижная кончина мачехи?
Мотива карающего черепа мы пока касаться не будем. Трех разноцветных персонажей встречает на пути в дом ведьмы упрямая девочка из сказки братьев Гримм «Госпожа Труде», относящейся к типу АТ 334 («Дом ведьмы»). Наплевав на запрет родителей, девочка идет взглянуть на госпожу Труде, пользующуюся дурной репутацией. Труде устраивает гостье то же испытание вопросами, что и Яга — Василисе. Но, в отличие от Василисы, девочка спрашивает не только об увиденном вне дома (черный, зеленый и красный человек), но и о том, что она заприметила в окошке: «Потом я смотрела в окошко и вас-то не видела, а на вашем месте сидел черт, и голова у него была вся в огне». «Ого! — восклицает старуха. — Значит, ты видела ведьму во всей красе! А я давно тебя поджидала — ты мне посветишь!» Ведьма швыряет ее в печь, обратив в деревянный чурбан, и девочка светит ей, как череп на заборе. Если соединить «Василису» и «Труде», получится тип 480 («Две девушки») с нетрадиционным критерием «правильности» поведения девушек: «Неразумный сквозь дверь заглядывает в дом, а человек благовоспитанный остановится вне» (Сир. 21: 26).
По мнению специалистов, «Труде» представляет собой интерпретацию стихотворения Т. Майера из «Женского альманаха» (1823). Но не думаю, что братья внесли туда педагогический смысл в назидание детям, не слушающимся родителей. Непослушание девочки вторично, гораздо важнее — ее диалог с ведьмой. Наличие исторических корней у этой сказки подтверждается параллелями с возникшей независимо от нее «Василисой». Братья использовали ведьму в роли героини, тогда как в австрийской и баварской версиях фигурируют демоны по имени Трут и Друт [156].
Русский вариант «Госпожи Труде» можно найти в быличке о крестнице лешего. Девочка отпрашивается у матери и идет в гости к крестному. Дверь в его дом подперта человеческой ногой, а в доме находятся чан, полный крови; человеческие головы и руки, висящие в печке; брюшина и кишки возле нее; женские груди, варящиеся в плошке. Входит леший, и девочка подробно выспрашивает у него обо всем увиденном. Он отвечает — «это замочек» (о ноге), «это квасок» (о крови) и т. д., — а потом съедает девочку [157].
Непотребная инициация
Скривив улыбкой страшный рот,
Могильным голосом урод
Бормочет мне любви признанье.
Вообрази мое страданье!
Скривив улыбкой страшный рот,
Могильным голосом урод
Бормочет мне любви признанье.
Вообрази мое страданье!
Пора остановиться и перевести дух, иначе мы запутаемся в мотивах. Рассмотрим две главные сюжетные составляющие вышеизложенных сказок — изгнание (уход) детей и их встречу с враждебным существом, представляющим опасность для жизни. Первая составляющая неотделима от образа мачехи, вторая — от образа врага. Если враг — ведьма, между образами устанавливается взаимосвязь. Ведьма и мачеха связаны кровными узами (как правило, они сестры), а гибель одной нередко влечет за собой смерть другой, из хода событий отнюдь не вытекающую. Люти намекает, что злая мать (мачеха) и ведьма — одно и то же лицо или, по крайней мере, они сильно схожи [158].
Подтверждение этой мысли можно обнаружить в сказках других типов. У тех же братьев Гримм в сказках «Милый Роланд» и «Братец и сестрица» (первоначально так назывались «Гензель и Гретель») мачеха (Stiefmutter) является ведьмой (Hexe). Последняя сказка принадлежит к типу АТ 450 (русская версия — «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»). В сказке «Ягненок и рыбка» мачеха умеет колдовать и превращает детей в животных, а в сказке «Шесть лебедей» ведьма — это мать будущей мачехи, выдающая ее замуж за короля. В сказках о мертвой царевне и разбойниках (Андреев 709) мачеха частенько подменяет Бабу Ягу [159].

В сказке братьев Гримм «О заколдованном дереве» (АТ 720) мачеха убивает пасынка, разрубает его тело на куски и варит студень, которым угощает своего мужа, отца ребенка. Сестра хоронит косточки брата под деревом: «От дерева отделился как бы легкий туман, а среди тумана блистал и огонь (!), и из этого-то огня вылетела чудная птица и запела чудную песенку». Огненная птица донимает своей песней мачеху, которая в итоге гибнет, а мальчик оживает. Колдовскими способностями мачеха вроде бы не наделена, но ее повадки в точности такие же, как у ведьмы-людоедки. Поэтому во многих иноязычных вариантах типа 720 она названа ведьмой. Убитый мальчик может превращаться в дерево, пирог, птичку. Обычно птичка роняет на голову мачехи мельничный жернов — тот самый, что утопил ведьму в дагестанской сказке. Есть и другие параллели с типами 327 и 328. В румынской сказке перед историей с деревом и птицей отец заводит брата и сестру в лес, а девочка отмечает путь угольками [160].
У Я. Гримма были основания увязывать сказочное колдовство с существами женского пола [161]. Величая героиню «Гензеля и Гретель» то женщиной, то мачехой, то матерью, авторы, возможно, соотносили ее с красноглазой старухой из леса.
Образ мачехи тщательно изучен представителями различных школ. Для любителей природных и сезонных аллегорий падчерица — это заря (весна, солнце, молодая луна, новый год), а мачеха — ночное небо (зима, туча, убывающая луна, старый год). При таких ассоциациях толкование сказок выливается в некое подобие метеорологических прогнозов и фенологических наблюдений. Так, по мнению Афанасьева, в «Василисе Прекрасной» изображен конфликт между солнечным светом (Василиса), бурным ветром (мачеха) и темными тучами (сводные сестры). А если учесть трех всадников и Бабу Ягу, олицетворяющую злые силы природы, экологической катастрофы не избежать!
После изобретения первобытного общества к его традициям обратились за разрешением коллизии мачеха — падчерица. Одни решили, что там было принято изолировать девушек, достигших зрелости. Девушки, обиженные за это на мать или мачеху, со скуки насочиняли кучу сказок. Другие (понятно кто) сочли эти сказки порождением сексуальных желаний. Оказывается, мать заменили мачехой, чтобы замаскировать аморальность устремлений дочери. Затем в бой вступила тяжелая социальная артиллерия с ее главными орудиями — матриархатом и патриархатом. Профессор А.М. Смирнов-Кутачевский очень трогательно повествовал о бедной мачехе, отстаивающей интересы своих дочерей и воплощающей материнский инстинкт со всей его «неистребимой силой». Этот пережиток матриархата осуждается сказкой, принявшей сторону новых патриархальных ценностей.
Мелетинский, лучше профессора осведомленный об «эпохе материнского рода», полагал, что мачех тогда попросту не было. Они появились уже в патриархальном обществе в связи с нарушением первобытного брачного закона (эндогамии). Патриархи умыкают жен из чужих племен, а те издеваются над дочерьми неродного племени. Так что ни о какой семейной драме речи быть не может — ох, уж эта буржуйская семья! — в сказках отражена общественная трагедия, вызванная распадом рода. При патриархате иную оценку получает убийство детей. В прежнем обществе их убивали часто, особенно во время голода (после такого заявления отсылки к средневековому каннибализму покажутся цветочками), теперь же они стали гордостью отцов, и если кому и дозволяется зарезать пару-другую детишек, то только мачехе.

Чужеродностью мачехи вызвано ее сравнение с ведьмой: представители чужого племени рисовались первобытному человеку как исконные враги, людоеды. При этом Мелетинский понимает, что «первобытная» колдунья не похожа на ведьму европейских сказок. Ничего потустороннего, волшебного в ней нет (мы скоро в этом убедимся). Поэтому он отвергает полное тождество между ведьмой и мачехой. «Фантастичность» эпизодов с ведьмой, по его мнению, чужда «бытовым» эпизодам с мачехой [162]. А те сказки, где мачеха колдует или прямо именуется ведьмой, он нипочем бы не назвал архаическими.
Пропп тоже не хочет буквально понимать сродство Бабы Яги и мачехи (матери). Они лишь принадлежат к одному родовому объединению, в рамках которого вершится инициация. У Проппа образ мачехи тускнеет, уступая место образу врага — руководителя обряда. Поэтому мы на время оставим мачеху в покое и изучим механизм инициации.
С возрастом мальчики выходят из-под управления матери и переходят под управление отца или дяди, а девочки остаются под управлением матери. Место проведения обряда запретно для женщин, поэтому мальчика отводит в лес отец. О доисторической практике убийства детей Пропп не упоминает. Согласно полученным им «материалам», убийство это — символическое. Первоначально церемонией посвящения юношей в охотники руководила женщина-вещунья (с этим согласился даже такой солидный историк, как Рыбаков), а затем ее сменил учитель-мужчина.
Попытка Яги сжечь детей вызывает отчаянное сопротивление. Если же это делает лесной учитель (огра и дьявола Пропп не учитывает — они не архаичны), ученик приобретает всеведение. Матриархальные отношения вступают в конфликт с исторически вырабатывающейся властью мужчин [163].
Но как в доме, предназначенном для мальчиков, очутилась девочка (сестра)? Участие девочки отражает церемонии последующей возрастной стадии. В мужских домах живут не мальчики, а юноши. Такой дом запрещен для женщин в целом, но этот запрет не имеет обратной силы: женщина не запрещена в мужском доме. Там находятся незамужние подруги юношей, и прежде чем быть выпущенными оттуда, они тоже проходят обряд посвящения, чтобы гарантировать сохранение тайны дома. Лишь с развитием патриархальных отношений происходит отделение подруг (гетер) от жен и девственниц [164].
Рассмотрим же, наконец, мифы и сказки тех народов, что недалеко ушли от инициации. Начнем с эскимосов. Сказка «Великанша Майырахпак» очень схожа с европейскими и азиатскими. Тут и поимка девочек в мешок, и привязывание мешка к дереву, и бегство, и лопнувший живот великанши [165]. В другой сказке две дочери, брошенные отцом, поселяются в доме двух братьев-людоедов. Людоеды откармливают девиц, но при этом сожительствуют с ними. Младшая сестра жалуется старшей: «Каждую ночь муж тычет пальцем мне в бок». Обнаружив в углу хижины человеческие кости, они догадываются о цели этих тычков. Старшая дочь рожает мальчика, и тогда людоеды договариваются съесть младшую. Сестры убегают вместе с ребенком и приносят внука счастливому дедушке [166]. И в этой сказке, несмотря на эпизод с новорожденным, ощущается евразийское влияние. Надо копать глубже — в Африке и Америке.

Мадагаскарская сказка о храбром Фаралахи и шести его братьях — явная реплика на сюжет Перро, но в ней есть детали из иных знакомых нам сказок: откармливание, отправка врага за водой, животное-помощник (мышка), лопнувшие животы [167]. Ангольская сказка «Три сестры» начинается прозаически: сестры и их подруги направляются к одной старухе, мастерице по татуировкам. Старуха оставляет их у себя и поит вином, но младшая сестра Муйонго не пьет. После того как татуировка готова, старуха вдруг превращается в двухголовое чудовище и стучится ночью в дверь к девушкам, прося у бодрствующей Муйонго «дать огонька». Нигде не сказано, что это за огонек и зачем он понадобился старухе. Недоумевающая Муйонго отвечает песней: «Не дам огонька, я еще маленькая! Не дам огонька, я тебя боюсь, я плачу!» Старуха, похоже, сама не знает, чего хочет, а потому требует все подряд — трубку, табак, воду. В ответ звучит та же песенка. Побежденная ее неумолимой логикой старуха удаляется ни с чем. Протрезвевшие девушки, выслушав ночную песню Муйонго, решают бежать. Старуха созывает знакомых чудовищ и вместе с ними гонится за татуированными беглянками. Те взбираются на дерево, чудовища грызут ствол, как ведьма в русских сказках, а девицы поют хором: «Большая птица, возьми нас с собой!» Аналогия с Ивашкой и Терешечкой была бы полной, если бы не поведение птицы: раздраженная песней, она выражает желание… взять в жены Бебеку. Ценой Бебекиного замужества девушки спасаются, а рухнувшее дерево давит насмерть всех чудовищ (зачем же они его грызли?).
Видимо, в первоисточник угодили несколько занесенных колонистами мотивов (ночная беседа с врагом, просьба дать огонь, перегрызание дерева), которым был придан местный колорит. К счастью, у нас имеются записанные на местах сказки зулусов (Южная Африка). Они чрезвычайно путанны и многословны, но нужные нам мотивы оттуда можно выудить.
Хлаканьяна (говорящее имя: «маленький хитрец», «ловкач») ворует у людоеда птиц из ловушек и попадается на птичий клей. Он сразу же принимается инструктировать людоеда: тот должен очистить его от клея и ни в коем случае не бить, дабы он не утратил весь свой вкус. Затем он выпроваживает людоеда из дома: «Положи меня в свой дом, чтобы я мог быть сварен твоей матерью, положи меня, чтобы я высох; сам уйди, а меня оставь дома». Людоед уходит, а Хлаканьяна переключается на мать, предлагая ей: «Я тебя и ты меня будем варить немножко». В памяти сразу всплывает исландская борьба. С матерью людоеда у героя столь же двусмысленные отношения, что и у мальчика с дочерью скессы. Полежав в горшке с водой, он вылезает оттуда, разводит большой огонь и начинает развязывать одежды матери. Женщина конфузится, но герой напоминает ей, что он «лишь зверь, который будет съеден твоими сыновьями и тобою». Наконец, мать забирается в горшок и благополучно варится, а Хлаканьяна надевает ее одежды. Удирая от сожравших мать людоедов, он превращается в палку-копалку. Преследователи ни с того ни с сего кидают ее через реку. «Вы меня переправили!» — резюмирует Хлаканьяна.
В другой сказке бегство от каннибалов описано подробнее. Убегающая девушка швыряет им кукурузные початки, а они их едят. Девушка влезает на дерево, людоеды усаживаются под ним, думая, что упустили беглянку, но та, не в силах удержаться, пускает на них мочу. Такие вот незатейливые детали — без чудесных предметов, лесов и озер.
Сказки зулусов, несомненно, прошли цензуру, учитывая год их издания. Чтобы ощутить атмосферу подлинной инициации, надо воспользоваться грандиозным собранием мифов американских индейцев из книги Леви-Строса.
В мифе арауканов (Чили, Аргентина) птицы завлекают пятерых братьев на плантацию некоего хозяина табака. Птицы ему принадлежат, и братья тоже нанимаются к нему в работники. Далее описывается настоящая инициация. Чтобы сделать из мальчиков знахарей, хозяин дает им рвотное питье. Братья укрываются в хижине и, недоступные взорам женщин, блюют прямо в водопад, поглощающий звуки. Затем они нюхают и едят различные препараты, теряют разум и подвергаются болезненному испытанию: им протягивают волосяные веревочки через носоглотку. Двое отдают концы, а трое, став колдунами, возвращаются в родную деревню полностью облысевшими. Родственники с трудом узнают их, а они набрасываются на первую попавшуюся женщину. Та не хочет иметь дела с лысыми, и они обращают ее в камень, а членов собственной семьи — в духов, которые выращивают для них табак [168].
Функции ведьмы и мачехи совмещает в себе бабушка героев. В мифе кламатов (Южный Орегон) брат и сестра, уходя от бабушки, просят предметы домашней утвари не выдавать их. Шило, обделенное вниманием беглецов, рассказывает о них старухе. Бабушка неспроста преследует внуков, она уже давно заметила их настроения. Оказавшись на свободе, брат и сестра совокупляются, и у них рождается ребенок [169]. Бабушка находит шкуру медведя, надевает ее, становится зверем и убивает внука в чаще, где тот уединился для молитвы и поста. Затем она предстает перед внучкой и просит напиться. Пока бабушка утоляет жажду, молодая мать всовывает ей в задний проход докрасна раскаленные на огне камни и бьет в живот. Камни проскакивают в кишечник, выпитая вода закипает, и старуха сваривается изнутри. Внучка сжигает труп на костре. В другой версии того же сюжета говорится о распутстве бабушки, вероятно, имевшей свои виды на внука [170].
Инициации в этих мифах нет, но, на радость поклонников первобытной жрицы, мы можем отыскать следы участия бабушки в обряде. В мифе бороро (Боливия, Бразилия) подросток упорно отказывается посещать мужской дом в лесу и запирается в семейной хижине. Разгневанная бабушка решает по-своему «посвятить» внука. Она приходит к нему каждую ночь и, присев над его лицом, отравляет кишечными газами. Сон мальчика крепок, и он долго не может понять, откуда доносятся звуки и почему в доме такой «аромат». Он худеет, бледнеет, пока не догадывается притвориться спящим. Раскрыв секрет, он втыкает старухе в анальное отверстие заостренную стрелу, и ее внутренности вываливаются наружу. Очевидно, в этом мифе уже произошло «переворачивание» обряда: в отличие от хозяина табака, бывшая вещунья жестоко умерщвляется [171].
Продолжим поиски сказочных мотивов обрядового происхождения. В мифе варрау (Венесуэла, Суринам, Гайана) людоедка съедает младшего брата, а старшего приносит в корзине домой. Нарушив материнский запрет, две дочери людоедки открывают корзину. Их «борьба» с мальчиком происходит в гамаке. Сестры признаются в своем проступке, и мать соглашается женить победителя на младшей из них. Но тот должен ежедневно ловить рыбу. Устав от рыбалки, герой натравливает на тещу акулу и убегает вместе с женой. Измученная ревностью старшая сестра преследует их с наточенным ножом в руке. Они лезут на дерево, но свояченица успевает отрезать зятю ногу. Ради этой ноги и сочинялся миф — нога ожила и сделалась Матерью птиц. Однако вместо того чтобы спасти беглецов, она улетела на небо, превратившись в Пояс Ориона. Следом туда угодили одноногий муж и его супруга — Гиады и Плеяды соответственно. В аналогичном мифе анамбу (Бразилия) сбежавший от людоедки герой ищет приюта у обезьян, прячущих его в горшке; у змей, грозящих его съесть; у птицы макауан и у цапли туиуй, доставившей его домой к матери [172].
В другом мифе варрау мальчика Хабури прячет у себя (фактически похищает) колдунья Вау-ута. Она колдует над ребенком, чтобы тот поскорее вырос и стал ее любовником (вспоминаем Хлаканьяну и мать людоеда). Собственная мать и сестры Хабури, не узнавая его, старательно прочесывают лес. Истина открывается случайно. Дядья мальчика купаются в реке в обличье выдр. Хабури облегчился на берегу, и выдры сразу же учуяли экскременты племянника. После встречи с родными он хочет уйти от Вау-ута. Заманив ее в ствол дерева за медом, Хабури закрывает вход, и старуха превращается в лягушку. Теперь в древесных дуплах она квакает, оплакивая утраченного любовника. По поводу этого мифа Леви-Строс замечает: «С такой силой проявляется потрясающая творческая романтичность мифа… Рассказы такого рода позволяют нам с неотразимой очевидностью почувствовать, что первобытные люди наделены эстетическим чутьем, интеллектуальной утонченностью и моральным чувством».
Эстетическое чутье дает себя знать и в разновидностях мифа о Вау-ута. Уточняется, например, каким образом колдунья убыстряет рост мальчика: она удлиняет его пенис. У индейцев Великих равнин одинокая старая женщина ловит мальчика, ворующего плоды из ее сада, усыновляет его, а затем соблазняет. Научившись у своей матери и любовницы жизненно важным вещам (намек на инициацию), юноша убивает ее или выдает врагам [173].
В мифах о происхождении огня присутствует мотив сжигания приемной матери. В мифе варрау старуха (лягушка) воспитывает двух братьев, тщательно скрывая от них свое умение разводить костер. Но братья выслеживают старуху и сжигают из отвращения к тому, что она делает — изрыгает огонь и извлекает из горла белое вещество. В мифе таулипанг (Венесуэла, Бразилия) старуха разжигает костер посредством пламени, вырывающегося из ануса. Ее тайну выдает девочка. Упирающуюся старуху связывают, кладут на дрова и силой раскрывают анус [174].
Ну и наконец, вариант типа 328. В мифе крахо (Бразилия) обиженный женой индеец покидает дом вместе с сыновьями и дочерью. Встретив на реке людоеда, братья превращаются в водоплавающих птиц и воруют у него рыбу. Девочка же, не таясь, подходит к людоеду, а тот влюбляется и предлагает ей руку и сердце. «Ты недостаточно разукрашен для жениха, — говорят братья. — Давай мы поджарим тебя на костре». Людоед соглашается и умирает в огне. Веселая семейка уходит, но девочка вспоминает о забытом у костра браслете. Она возвращается, роется в золе и достает оттуда возбужденный пенис людоеда. Это новоявленное чудовище, не нуждающееся, конечно же, в сапогах-скороходах, яростно преследует беглянку. Та пересекает реку на спине крокодила. Крокодил соглашается на роль перевозчика при условии, что девочка после оказанной услуги… нанесет ему оскорбление. Для «оскорбления» девочке явно не хватает опыта, поэтому крокодил в свою очередь гонится за ней, а она спасается благодаря не столь изощренным во вкусах страусу и осам. В мифе варрау девочка, оказавшись в похожей ситуации, живет с похитившим ее ягуаром. Ягуар с наслаждением лижет ее менструальную кровь. В итоге она хитростью опрокидывает на него кипящий котел и убегает [175].
Мне не хотелось бы, читатель, навязывать тебе свое понимание «творческой романтичности». Ты вправе соглашаться и с Жирмунским, и с Леви-Стросом. Нам нужно лишь понять, насколько содержание этих мифов соответствует евразийским сказкам, связанным с инициацией. Предположим, что у предков цивилизованных народов были в древности подобные мифы. Тогда при переоформлении в сказку они должны были кардинально измениться.
Во-первых, из них должны были испариться все непотребства — помните жалобы Эстес на их отсутствие? Можно ли представить, чтобы Гензель спаривался с Гретель, ведьма домогалась Ивашко или Терешечку, а великан посылал вдогонку Молли Вуппи свой пенис? Не забудем, что сказки стали достоянием детской аудитории относительно недавно и следы разгула плоти вопреки христианскому влиянию (а большинство ученых признает языческие корни сказок) там должны были уцелеть. Но исландских шахмат и сватовства богатырей, право слово, маловато для такого заключения.
Во-вторых, сказки должны были сохранить как можно больше обрядовых деталей. Не только пресловутые глотание и извержение, не только сжигание и варка в котле, но и наркотическое и алкогольное опьянение, рвота и испускание газов, убийство через задний проход и, конечно, тот же секс: вступление в половую связь с участником обряда — один из самых устойчивых мотивов «первобытных» мифов [176].
С другой стороны, налицо сходство побочных мотивов, например бегства во всех его подробностях: влезание на дерево, переправа через водоем, использование птиц. Лишь образы помощников сильно разнятся — трудно найти в Европе кого-либо подобного шаловливому крокодилу. Огонь занимает важное место и в евразийских сказках, и в мифах дикарей, но в первых ему придано сакральное значение. Он не просто сжигает тела или применяется в быту.
Главное же отличие заключается в отсутствии у дикарей страшного волшебного существа — ведьмы, чьи повадки не свойственны обычным людям.
Мертвее некуда
Дом ее ведет к смерти, и стези ее — к мертвецам;
никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни.
Дом ее ведет к смерти, и стези ее — к мертвецам;
никто из вошедших к ней не возвращается и не вступает на путь жизни.
Обратимся же к подлинным истокам образа красноглазой старухи и прежде всего к самому яркому его аналогу — Бабе Яге. Яга-дарительница и Яга-воительница нас волновать не будут. В сказках типов 327 и 328 они практически не участвуют.
Благодушие Яги несколько преувеличено отечественными исследователями. Если М.Д. Чулков и М.М. Забылин сопоставляли ее с древней богиней — «адским страшилищем», поившим жертвенной кровью своих внучек, то Рыбаков, склонный идеализировать старых богов, вслед за Проппом величал Ягу повелительницей зверей, подчеркивая ее доброжелательность. По подсчетам Новикова, положительная роль Яги зафиксирована не более чем в трети всех текстов с ее участием, в остальных она — противник и гонитель героев, воплощение лжи, зависти, хитрости (но и глупости), скупости, жестокости, вероломства и коварства [177].
Ее имя подтверждает эту характеристику. По мнению М. Фасмера, Яга имеет соответствия во многих индоевропейских языках со значениями «болезнь, досада, чахнуть, гневаться, раздражать, скорбеть». Между тем jeza у сербов и хорватов — «ужас, дрожь, озноб», а у словенцев — «гнев»; jeze на старочешском — «ведьма, злая женщина»; jedza у поляков — «ведьма, злая баба, ярость»; jeza на старославянском — «болезнь». Другую этимологическую связь демонстрируют литовское neungti («пытать»), древнеанглийское inca и древнескандинавское ekki («беспокойство, боль»). Потебня возводит славянские формы к санскритскому корню «жечь» [178]. Все эти слова отражают свойства пропповской Яги — похитительницы детей (название не совсем точное — дети могут сами приходить к Яге).
На языке коми слово «яг» означает «бор, сосновый лес». Так именовали Яг-морта, человека звериного вида, жившего в лесу, промышлявшего разбоем и похищением людей. Пойманному чудовищу вбили в спину осиновый кол, а по другой версии, его сожгли живьем и пепел зарыли в землю. Вокруг кургана, служащего ему могилой, бродят призраки, а изнутри доносятся нечеловеческие вопли и завывания [179]. Сходство с Ягой несомненно. Сюда же отнесем болгарского Дядо Яга, съедающего непослушных детей. Тюркская, египетская, индийская и сибирская версии происхождения имени Яги кажутся мне сомнительными ввиду отсутствия в этих культурах соответствующего образа.
Внешний облик Яги недвусмысленно говорит о ее сущности. Яга изображается в виде огромной горбатой старухи, дряхлой и седой, с длинным крючковатым носом и торчащими зубами. В одной древней повести сказано о Яге, что она «пресмуглая и тощая, семи аршин ростом… на обе стороны торчали, равно как у дикой свиньи, зубы аршина полтора длиной; притом же руки ее украшали медвежьи когти» [180].
Где обитает Яга? Те, кто начитался Проппа, ответят: конечно, в лесу, на границе тридесятого царства. А вот и нет! О местности, где находится избушка Яги, в одних сказках почти ничего не говорится (таких сказок около половины), в остальных называются: лес; темный лес; густой лес; дремучий лес; «пусто кругом, не видать души человеческой»; непроходимый лес; лес и болото; «места пустынные»; места, где «конь по колена в воде, по грудь в траве»; болото; топкое болото; «ни стежки, ни дорожки»; чистое поле; «чистое место у моря». Иногда местоположение конкретизируется: в лесу «на воде у озера», у моря, у дороги, в тайге на лужайке, «возле дремучего леса», на лесной поляне. Отметим важнейший для нас факт: вода в не меньшей степени ассоциируется с Ягой, чем лес.
К тридесятому царству отнесена лишь дарительница, а похитительница детей, напротив, живет недалеко от людского поселения: на берегу реки, в близлежащем лесу, куда герои запросто отправляются за грибами. Порой Яга владеет яблоневым садом и богатством, переходящим затем к герою [181]. По наблюдению Новикова, на действиях похитительницы стоит печать деревенской обыденности, однако не в той степени, что у людоедок в мифах туземцев. Эта обыденность не простого человека, а деревенской ведьмы, которая, по словам С.В. Максимова, приравнивалась на Руси к Яге. Ведьма, как и Яга, живет в избушке на курьих ножках, где она, по олонецкому сказанию, вечно кудель прядет и в то же время «глазами в поле гусей пасет, а носом (вместо кочерги и ухватов) в печи поварует» [182]. Это некое существо в обличье бабы, живущее по соседству и копирующее человеческие манеры.
Прядение — одно из повседневных занятий Яги. Типичная сказочная коллизия — описание избушки на курьих ножках, в которой сидит одинокая женщина с веретеном [183]. По утверждению Н.В. Будур, именно Яга-пряха выполняет в сказке двойственную функцию: зла и страшна для тех, кто ее не почитает, но добра к тем, кто обращается к ней вежливо [184]. Такая двойственность наблюдается в основном в сказках типа 480. В остальных случаях пряха из избушки враждебна и прожорлива — помните Убыр, прядущую шерсть?
В трактовке образа Яги превалируют два взгляда: 1) Яга — мертвец; 2) Яга — проводник в мир мертвых. Я специально их разделяю: мертвец не обязан участвовать в «проводах». Пропп же хитроумно их смешивает, поскольку вторая трактовка для него важнее — она хорошо вписывается в инициацию.
Почему Яга — мертвец? Во-первых, она проживает в гробу. Во-вторых, у нее костяная нога. В-третьих, она слепа. Тело Яги занимает всю избу: «Впереди голова, в одном углу нога, в другом другая. На печке лежит Баба Яга, костяная нога, из угла в угол, нос в потолок врос». Это не хозяйка велика, а избушка мала. Яга напоминает собой труп в тесном гробу или в специальной клетушке, где хоронят или оставляют умирать [185]. Согласимся с Проппом с небольшой поправкой: размеры Яги все же могут колебаться — от щуплой старушки до великанши. Такие метаморфозы под силу представителю мира мертвых, например Лауме.

Пропп не акцентирует внимания на «специальной клетушке». Слово «курья» («курная») в его понимании свидетельствует о зооморфном облике Яги, доказывающем ее происхождение от тотемного животного. Ученый так увлечен дикарями, что готов приписывать несчастной Яге роль за ролью — она и хозяйка леса, и жрица, и тотем. Между тем фраза «курья нога» полна неясностей. Изба Яги могла сохранить куриные ноги по аналогии с избой крестьянина, чей декор имеет и птичью голову, и гребень, и крылья, и перья. Но слово «курная» может происходить не только от «кур» (петух), но и от «курити» («раскладывать огонь, разжигать») [186]. А слово «курья» на старорусских наречиях означает «продолговатый речной залив», «заводь» и т. п. Получается, Яга живет на болоте (курье), на курьей ниже (низина).
Болото и вправду входит в число местоположений избушки Яги. Но нас пока интересует очередной намек на огонь. Не исключено, что пропповская клетушка — это не что иное, как домовина, небольшой сруб, расположенный над землей на «курных», то есть окуренных дымом, столбах. В такой «избе смерти», по мнению А.Л. Барковой, славяне погребали своих мертвецов в VI–IX вв. Отверстие домовины было обращено в противоположную от поселения сторону, к лесу.
Рассуждая о костяной ноге — ноге скелета (мертвеца), Пропп снова вспоминает о тотеме. По его логике выходит, что первоначально Яга обладала ногой животного подобно карликам и демонам. А вот Г. Гюнтерт замечает, что представление о таких ногах могло родиться из описаний самих демонов как разлагающихся скелетов или чудовищных животных. Афанасьев связывает с ногой Яги нижнелужицкое слово kostlar — «колдун, чародей» (ср. готское skohsl — «злой дух») и старорусскую фразу «кощуны творить» — совершать действия, приличные колдунам и дьяволу [187]. Позднее мы встретим древнегерманский женский персонаж с птичьей лапой, у восточных же славян этими лапами наделялись русалки, оставлявшие следы на золе, пепле и песке [188].
Слепота Яги объясняется, по Проппу, ее нечувствительностью к миру живых: живые не видят мертвых, а мертвые не видят живых. Поэтому Яга вынуждена принюхиваться — не пахнет ли русским духом. Из тех же соображений ведьме приписаны тонкий нюх и красные глаза, указывающие на слабость ее зрения [189]. Этот вывод был принят большинством специалистов, и только Новиков усомнился: если Яга слепая, зачем герою, который наперед знает все уловки противника, прятаться от нее? Зачем превращаться в булавку и другие мелкие предметы? В некоторых сказках Яга не только слышит и чует, но и прекрасно видит. А главное — кроме ведьмы, принюхиваются и разыскивают спрятавшихся героев многие сказочные чудовища[190].
Для Проппа последний аргумент не важен — он всех таких чудовищ подчинил архаичной старухе. Мы же не должны забывать: то зрячими, то слепыми являются не только мертвецы, но и прочие выходцы с того света. В первую очередь это касается самого повелителя тьмы. Слепота — верный признак связей с дьяволом. Литовцы называют черта akiatis — «слепой». По замечанию А.Е. Махова, метафизическая «слепота» — одно из определяющих свойств падшего ангела: он слеп в том смысле, что чуждый ему миропорядок и принадлежащая к этому миропорядку человеческая душа ему недоступны. Не потому ли сказочная нечисть вслепую гоняется за душами? В то же время в материальном мире дьявол необыкновенно зорок — Августин говорит об «остроте чувств» демонов, наблюдающих земные приметы. Дьявол постоянно видит своих слуг — грешников[191]. Точно так же в сказках преследователь замечает нерадивых героев.
У Яги много общего с нечистой силой. Достаточно указать хотя бы на помело как один из ведьмовских атрибутов. Помело происходит от древних магических посохов и палочек, использовавшихся для перемещения в пространстве [192]. Красные глаза присущи не только ведьмам, но и упырям [193]. Подобно последним Яга сосет кровь из бедра девушки или белые груди купеческой дочери [194]. Параллелью второму случаю служит средневековая легенда об императрице, умерщвлявшей дам, прикладывая двух змей к их соскам [195]. Этот прием навеян романским образом Луксурии — грешницы (дьяволицы), чью грудь сосут змеи, или, если угодно, образом крито-минойской богини со змеями [196]. Кроме Убыр и Жалмауыз Кемпир, к вампиризму склонна старуха Гамсилг — злой дух в мифологии ингушей и чеченцев [197].
Яга — далеко не единственная родственница красноглазой ведьмы. Их чешская, польская и сербская (Баба Рога) товарки живут в избушке в лесу или в горах, в компании летучих мышей, кошек, воронов, вызывают бурю и град, питаются детьми. Венгерская Босоркань может вызывать засуху, насылать порчу на людей и животных. Сербам известна также Гвоздензуба — злая старуха с острыми клыками, которая покровительствует прядению и наказывает ленивых прях. Клыкастых и костлявых лесных старух много у народов Кавказа: абхазская Арупап, грузинская Кудиани и др. Длинные зубы — признак колдовского таланта. Финское наименование колдуна — хамассуу (зуборотый) — связано с поверьем, будто у него вырастает особый зуб [198].

Справедливости ради заметим, что среди так называемых хозяек леса попадаются не столь уродливые существа: болгарская Горска Майка, сербская Шумска Майка, румынская Мума Пэдурий, древнеиндийская Араньяни, дагестанская Суткъатын и др. Но и они зачастую опасны для человека. Шумска Майка в виде молодой обнаженной женщины вступает в половую связь с мужчинами, завлекая их в глубь леса и к водяным мельницам, а на маленьких детей нападает в обличье отвратительной старухи. Мума Пэдурий — это разновидность вылвы, женского ночного духа, который может быть и добрым (белым), и злым (черным). Схожий образ, по мнению Рыбакова, существовал у древних славян, к примеру богиня Макошь, связанная с прядением и с водной стихией (но не с лесом). В случае мора и угрозы для жизни людей Макошь превращалась в злобное божество вроде Морены (от «мор», «морить»), которое впоследствии приняло облик Яги [199].
В общем, и Яга, и красноглазая ведьма могут олицетворять как мертвеца, так и иную потустороннюю сущность. В книге об английских привидениях я подчеркнул чудовищный облик представителей мира духов, в том числе и умерших людей, поэтому для удобства мы будем именовать Ягу, ведьму и подобных им персонажей просто мертвецами.
Но приобщают ли эти дамы к инобытию героя? Одного напутствия перед экскурсом в тридесятое царство недостаточно для такого вывода: похитительница детей и враждебная герою Яга с этим царством не соприкасаются. Правда, есть птицы (гуси-лебеди, белая птичка, уточка, гусак) — древнейшие вестницы иного мира, связующие героев сказок с избушками Яги и ведьмы. Но такое толкование образа птицы — лишь одно из множества, и Пропп его не развивает. Хотя в мифах туземцев присутствует птица, к самой инициации ее не приткнешь. Приобщение к миру мертвых, а значит, и к рангу посвященных осуществляется через манипуляции, происходящие в избушке: накормление и омовение, испытание болью (отрубание пальца), съедение и сжигание.
Пир, огонь и загробная баня
Все тело у меня — огня добыча!
Все тело у меня — огня добыча!
Еда, которую ведьма дает Гензелю и Гретель, а Яга — мальчику или молодцу, имеет ритуальное значение. Отведав пищи мертвых, герой в состоянии проникнуть в их мир. Молодец туда рвется, поэтому не боится пищи и даже просит ее у Яги. С теми же целями он моется в бане.
Полноте! Оттого ли герой требователен? Ведь он «холодный и голодный» и потому напоминает хозяйке о законе гостеприимства [201]. Таков контраргумент Новикова. От себя добавлю следующее. Если уж ссылаться на древние обычаи, следовало бы помнить: это не мертвые кормят живых, а живые — мертвых. У славян в поминальные дни полагалось ухаживать за гостями из иного мира — кормить их, топить для них баню, а также согревать их (!) с помощью специально разведенных костров. В древнерусских книгах XIV–XVII вв. осуждаются «моления навьям (мертвым) в бане» [202]. Навьи — это само воплощение смерти (лат. nahwe — «смерть», nahweht — «убивать»; чеш. naw, nawa — «смерть, могила», unawiti — «загубить»), чье имя похоже на Nya, отождествляемого с римским Плутоном в списке польских богов Яна Длугоша (1415–1480). Навьям родственны украинские навки (мавки) и болгарские нави — колдуньи, сосущие кровь у беременных женщин и детей и пьющие молоко у скотины. Считалось, что мертвецов желательно ублажить: в баньку сводить, за стол посадить [203]. Православному читателю, полагаю, знакомы пережитки этого обычая.
Неужели опять совершилось обрядовое «переворачивание» и мертвец принялся кормить живого? Отнюдь нет. У отсталых народов бытуют такие же обычаи, например, у калифорнийских индейцев близкие приходят каждый день в течение года в те места, которые часто посещал покойник при жизни, и оставляют там еду [204].
Чтобы обосновать ритуальный характер отрубания пальца, аллюзией на которое служит его ощупывание, Пропп ссылается на Г. Вебстера, обнаружившего этот жестокий обычай у туземцев [205]. Мелетинский идет еще дальше. Он видит обрядовые следы в… отрубании головы, символизирующем временную смерть и новое рождение неофита. Таким испытаниям подвергаются средневековые ирландские герои и Гавейн в романе о Зеленом рыцаре [206]. Интересно, как выкрутился бы Гензель, если бы ведьма захотела пощупать его голову? Разве что в клетке завалялась бы бесхозная черепушка…
«Первобытные» ритуалы ни подтвердить, ни опровергнуть невозможно. Либо вы верите в Пещерного человека а-ля Хлаканьяна, либо нет. Между тем пальцы и головы почитались в древности наделенными магическими свойствами. О мертвых головах мы еще будем говорить, а сейчас о пальцах: «Ведьмы в Германии, вырывая трупы маленьких детей и выкидышей, отрезали у них пальцы и потом в случае надобности жгли их и тем самым усыпляли всех живущих в доме». Чешские и русские воры старались добыть «мертвые» руку или палец. Отрубленные пальцы применялись в лечебных целях, а те же ведьмы не гнушались убивать детей для отрезания у них различных частей тела. На процессе ведьм из Наварры в 1610 г. было сообщено об использовании свечи, сделанной из руки младенца, удушенного до крещения [207]. Так что интерес сказочной ведьмы к пальцу оправдан.
К отрубанию пальца функционально примыкает мотив расчленения. Герой разрезает дочку ведьмы, а туловище самой ведьмы (Яги) могут разрубать на части и «затаптывать в тину» [208]. Следовало бы предположить, что бедному туземцу при инициации рубили что ни попадя, но мы лучше вспомним о традиционной расправе над беспокойными мертвецами: извлечь из могилы труп, расчленить его на части и сжечь.
По поводу съедения детей — и чужих, и своих (при счастливом исходе сказки полагается кушать именно своих) — с поклонниками инициации спорить опасно.
Они потрясают, словно бумерангом, австралийской старухой Мутингой с ее разрезанным брюхом, из которого извлекли оживших детей. Не потому ли, кстати, дочь врага заступается в сказках за чужака? Кроме зова плоти, допустима иная мотивация: она хочет быть сожранной вместо него, чтобы обрести чудесные знания.
Смысл пожирания собственных детей был раскрыт Жирмунским на примере пира Атрея и родственных ему сюжетов. В древнегреческом мифе Атрей подносит своему брату Фиесту мясо двух его малолетних сыновей, а в древнегерманском сказании о Нибелунгах Гудруна мстит своему мужу Атли за убийство братьев (в более поздней версии Кримхильда мстит своим братьям за убийство ее мужа Зигфрида), давая ему съесть сердца двух его сыновей, изжаренные на вертеле. Связи с ритуальным каннибализмом здесь нет, поскольку каннибалам запрещалось вкушать мясо кровных родичей. В основу этого сюжета положен принцип «за равное воздается равным» («мера за меру»), нашедший затем воплощение в сказочных типах 327 и 720. В типе 327 наказание врага и месть его жертвы воспринимаются как справедливое возмездие. Принцип «мера за меру» был распространен уже в доклассовом обществе, а его дальнейшими вариациями послужили закон Хаммурапи, библейское «око за око, зуб за зуб» и римский «закон талиона» [209].
Пропповскую инициацию ссылка на доклассовое общество не опровергает. Об этом обществе можно фантазировать сколько угодно. Сказано ведь, что дидактический элемент внесен в миф и сказку позднее — вот тогда и возникла «мера за меру». Вначале же ели не своих, а чужих детей. И не ради назидательного переваривания, а ради символического извержения.
Давайте снова заглянем в мифологию и историю. В античной Греции женщины нередко убивали своих детей, но, если не ошибаюсь, никогда не поедали.
Но было одно трагическое происшествие, наверняка повлиявшее на известный нам мотив обмана врага. Фемисто решила из ревности убить детей своей соперницы Ино и поручила рабыне накрыть ночью ее собственных детей черным, а детей Ино — белым покрывалом. Этой рабыней была сама переодетая Ино, которая переменила покрывала, так что Фемисто убила собственных детей и, узнав об этом, повесилась.

Похищение человеческих детей и их замена собственными (подменышами) — традиционное занятие всякого рода нечисти (демоны, ночные духи, эльфы, лешие, тролли). Ведьмы — похитительницы детей были хорошо известны римлянам. Петроний рассказывает, как «ведьмы, ночные колдуньи, которые все вверх дном ставят», утащили тело мальчика, а взамен подсунули пук соломы [210].
О пожирании детей на черных мессах и шабашах я распространяться не буду. Тема не очень приятная. О кулинарных пристрастиях ведьм свидетельствуют все посвященные им трактаты. Авторы «Молота ведьм» (1487) рассказывают несколько таких случаев, например о горшке, наполненном детскими головами, или о способе достижения искусства молчания: нужно сварить в печи перворожденного мальчика [211].
На Руси ведьмы в облике сорок или иных птиц, а то и просто в виде старух прилетали через печную трубу в дом беременной женщины и вынимали плод из ее утробы. Сорока-ведьма в известном смысле отождествлялась с Ягой: обе они воруют детей и обе норовят их съесть в жареном виде [212]. Не отсюда ли курьи ножки растут?
Из всех мероприятий в избушке Яги мучительней всего Проппу далось сжигание в печи. В ритуалах туземцев роль огня не слишком велика, зато человеческие трупы они, случается, сжигают [213]. В мифологии же, хотя и происходит сожжение людей и даже детей (например, богиней Деметрой), о возможности обретения бессмертия или получения тайных знаний оно не свидетельствует [214]. Да и смерть самой Яги ученый так и не смог объяснить «переворачиванием». Поэтому продолжатели его дела В.Н. Топоров и В.Я. Петрухин, не лишив Ягу статуса жрицы, поставили ее во главе другого обряда — кремации мертвых или трупосожжения.
Оказывается, у русов-язычников в этом обряде участвовала старуха, осуществлявшая приготовления к сожжению и устраивавшая все для будущего путешествия в иной мир. Погребенному сопутствовали конь или птица (орел) — те самые, что дает Яга герою в качестве волшебных помощников. Топоров привносит сюда мотив соединяющего миры дерева (столб на кургане, столбы домовины) и окружающих его животных, а Петрухин упоминает о крайне редких превращениях Яги в змею, лягушку и придавливании ее под корнями осины. Аналогами служат вредоносные мертвецы, связь с которыми Яги и без того очевидна, и литовский Совий, основатель трупосожжения и проводник душ, которого тоже хоронят в дереве. А мне приходит на ум не Совий, а любвеобильная Вау-ута, квакающая в деревьях. Но вот досада — огня в этом мифе нет!
Велика Яга Ритуальная! Когда же она успела обернуться трупом? По сути, речь снова идет о забвении ритуала. Жрица сохранилась в образе дарительницы (благодетельного покойника), которая не покидает своей избушки (домовины), а мертвец, вторгающийся в мир живых, принял образ воительницы и похитительницы. Он удаляется в иной мир древним способом — кремацией [215].
Ученые указывают на древнеиндийские и хеттские параллели русской жрицы, но это параллели мифологические, а Яга — сказочный персонаж. Почему не рассматриваются аналогичные персонажи европейцев, кавказцев, башкир, казахов? Не потому ли, что в их сказках дети сами идут к ведьме? То есть мертвец никуда не вторгается, а преспокойно лежит в гробу, тем не менее он очень вредоносен.
Не знаю, существовало ли у других народов что-либо подобное древнерусским домовинам (археология нынче творит чудеса), но первое описание трупосожжения с участием старухи на Руси содержится в «Записках» арабского дипломата Ахмада ибн Фадлана, ставшего очевидцем кремации знатного руса в ладье. Обряд был зафиксирован на Волге в 921/22 г. Старуха, названная автором «ангелом смерти» и «ведьмой», закалывала девушку, сжигаемую вместе с господином, а огонь разводил ближайший родственник покойника. Литовский же Совий впервые упомянут во вставке 1261 г. к русскому переводу «Хроники» Иоанна Малалы [216]. Как помолодела Яга! Где ты, убеленная сединами глотательница неофитов из каменного века?
Оставим в покое обряды, реальные и мнимые, и постараемся понять истинную роль сказочного огня. Он горит не только в ведьмовской печи. Огонь этот переносится героями с места на место. Он опасен для отрицательных персонажей — для самой ведьмы и ее отпрысков, для мачехи и ее родных дочек (череп у Василисы, огненная птица), для неразумных героев (гостья госпожи Труде).
Огню в древности присваивались три функции: жертвенная, апотропеическая (от грен, «отклоняющий зло») и очистительная. Язычники проводили детей через огонь и приносили их в жертву Молоху и Ваалу. Обычай этот сохранялся вплоть до Средних веков. В рукописи XI столетия записано о манихеях: «Когда же рождается у них ребенок [плод свального греха], на восьмой день все они собираются вместе и разжигают посреди своего собрания большой огонь, и затем ребенок проносится в ходе церемонии через огонь… и наконец ребенка сжигают в огне. Оставшееся же они тщательным образом сохраняют… и дают тем, кто стоит на пороге смерти, как если бы это было последнее причастие» [217]. Жертвенного огня в сказках нет, если только не рассматривать изгнание детей родителями как аллегорию жертвоприношения лесной богине.
По мнению Фрэзера, огненный способ избавления от вредных существ — ведьм, колдунов — был известей еще кельтским друидам, причем он распространялся и на диких животных (их сжигают и в сказках). К отголоску этого действа Фрэзер относит карнавальные шествия и костры, на которых сгорают чучела людей, животных и великанов [218]. Может, поэтому в западноевропейском фольклоре превалируют огры и тролли? Когда-то их тоже жгли по-настоящему.
Немцы же и славяне, чтобы отогнать ведьм, сжигали на праздничных кострах преимущественно их чучела, а в Румынии и Сербии огонь разводили для отпугивания вампиров. Христианские святые прибегали к помощи огня для защиты от демонов. Якоб Ворагинский (1230–1298) в «Золотой легенде» рассказывает, как демоны, посланные к дому святого Амвросия для искушений, не могут к нему приблизиться, видя вокруг всего дома «огромное пламя» [219]. Иными словами, ведьма и мертвец представляют опасность до тех пор, пока не сожжены, поэтому Убыр — мертвец несожженный [220].
Огонь подтверждал чистоту обращенных из язычников христиан. В валлийской повести «Бранвен, дочь Ллира» из цикла «Мабиногион» (XII–XIV вв.) в пламя бросают мальчика, чья мать заподозрена в связях с нечистой силой. Это средство было сродни прыжкам через огонь, известным у многих народов. Прыжки не только защищали от мертвецов и демонов, но и изгоняли смерть, поэтому костры нередко разводили после визита на кладбище: «По зарытии покойника в землю скачут иные народы через огонь, веря, что смерть и душа покойника следовать за ними уже не может» [221].
Огнем лечили болезни, вызванные происками нечистых духов; в Германии, например, клали в печь хворых детей [222]. Ну и наконец, как мы видели, огнем «отогревали» покойников или «родителей». Думаю, трупосожжение тут ни при чем — таким способом славяне пытались отделить предков от злых духов. Недаром эти духи (навьи) зачастую являлись на огонек под личиной умерших.
Сказочный положительный герой за редким исключением избегает действия огня, что, вероятно, объясняется влиянием христианства, удалившего из сказок огонь очистительный, но сохранившего огонь апотропеический, хотя, скажем, костры инквизиции по смыслу объединяли в себе эти две функции. То, что ведьма владеет огнем и даже пытается им управлять (дает огонь детям, хочет их сжечь), удивлять не должно: бесы страшатся огня, но их главарь правит адом в виде огненной печи, в которой пылают грешники [223].
Гораздо любопытнее следующий факт: вода не менее опасна для ведьмы, чем огонь. Та же Убыр не сгорает, не разрубается на части, а тонет в воде. Ягу затаптывают в тину. Но ведь и такой способ борьбы с нечистью практиковался нашими предками. Трупы колдунов, ведьм, упырей, еретиков и самоубийц кидали в воду — топили в озерной тине, болоте, реке, «затаптывали в трясину» (sic!) или обливали их водой. Считалось, что вода составляет труднопреодолимое препятствие для беспокойных мертвецов [224].
Если все «ритуальные» сказочные мотивы списать на позднейшие наслоения, что, собственно, останется от инициации? Ничего! И право, жалеть о ней не стоит. Комплекс «ритуализма» с огромным трудом изживается нашими фольклористами, несмотря на осознание ими всей условности пропповской модели. При желании инициацию можно отыскать где угодно — хотя бы в русской мифологии. Не верите? Тогда давайте проведем маленький эксперимент.
Есть у нас один замечательный и очень древний персонаж — банник (баенник), злобный дух, опасный для тех, кто нарушает правила поведения в бане. Обычно он выглядит как маленький старичок с длинной бородой или высокий лохматый мужичина с железными руками и огненными глазами, но может принимать обличья разных животных, между прочим змеи. Его эквивалент — банница (обдериха), женщина с широко расставленными глазами, длинными распущенными волосами и большими зубами, или банная бабушка, дряхлая добрая старушка, которая лечит от всех болезней. Банник напрямую связан с огнем, дымом, очагом. Неугодного ему человека он может запарить до смерти или засунуть в горящую каменку. В старину женщины чаще всего рожали в бане, месте теплом и удобном. Банник или обдериха похищали ребенка и подменяли его своим [225].
Обитает банник в замкнутом, ограниченном стенами сруба пространстве. «Человек, вступающий в баню либо выходящий из нее, — пишет Н.А. Криничная, — оказывается одновременно в двух мирах и двух измерениях: одной ногой он стоит в сакральном банном пространстве либо на его границе (порог), другой — за пределами этого пространства». Когда-то под порогом новой бани хоронили умерших, а позднее там зарывали черную курицу. По версии Н.Н. Харузина, похороны проходили в самой бане. На северо-западе России баня осмысливалась в качестве домовины или вместилища для гроба. В ней происходила встреча живых и мертвых. В.Ф. Райан так прямо именует баню пограничьем между мирами [226].
Невест перед свадьбой изолировали в бане, где их напутствовали банник или обдериха. Баня служила местом проведения гаданий, заговоров и т. п. На Русском Севере будущий колдун шел в баню на рассвете и призывал там лягушку, которую должен был проглотить. По сведениям Криничной, обучающийся колдовству проходил, по сути, обряд инициации: в полночь он пролезал в пасть огромного, дышащего огнем мифического животного (чаще всего собаки), которое сидело на полке, и вылезал из его зада. Магическим ореолом было окружено лечение болезней в бане. Особое значение придавалось «живой» воде (воде из родника) и «живому» огню, добытому посредством трения дерева о дерево на пороге бани. В старинной легенде Николай Чудотворец и поп лечат людей в бане: рассекают их на куски, моют каждый кусок и «собирают» заново [227].
Теперь понятно, кто такая Яга? Это бывшая обдериха — матриархальный образ, который позднее был заменен мужским духом (карликом и великаном), но сохранил ряд светлых черт (банная бабушка = дарительница) и тотемных признаков. Курьи ножки произошли от черной курицы, зарытой под порогом. Деревянная баня так же тесна, как избушка Яги, и так же ассоциируется с домовиной. Именно через баню осуществлялся вход в царство мертвых. Правда, баня не связана с лесом, но и Яга не всегда живет в лесу. А связь с водой очевидна. Избушка может стоять на «чистом месте у моря», то есть на задах огорода, у реки. Яга моет героя в бане.
Поскольку в бане проходила инициация, банные духи были благорасположены к детям, а с утратой смысла обряда стали их похищать. Однако невестам они помогают до сих пор. Вызывает недоумение лишь обнаруженная Криничной пасть, но ведь и Пропп за своими пастями «за три моря» ходил. Зато всплыла связь с огнем, которой у Проппа не было. Сначала огонь лечил и очищал, а после забвения принялся уничтожать людей. Ну а как вам расчленение и «воскрешение»?
Несложная цепочка рассуждений — и готов новый ритуал! Вы спросите, откуда взялась русская баня у других народов? Но ведь стояли когда-то в британских и германских лесах туземные дома с пастями. Чем баня хуже? А русские сказки — вообще самые архаические…
Кстати, о доме. Избушка Яги иногда бывает «пирогом подперта», «блином крыта». Этот «дом еды» вкупе с пряничным домиком Пропп относит к яствам мертвых, предназначенным для накормления героя [228], так что можно запутаться: дом с его пастью кушает неофита или неофит — дом?
Пропп умолчал о родине пряничных домиков — французской стране Кокань и немецкой Шлараффии. О пищевом изобилии он помянул и даже отметил его реакционность: мол, такие представления исходили от «сословия жрецов», а «трудовые слои» ощущали их вредность [229]. А ведь в образах названных стран воплотились именно простонародные мечты. Кокань начинает оформляться примерно в XIII в., а Шлараффия впервые упоминается в поэме Г. Виттенвейлера «Кольцо» (1410), хотя братья Гримм считали ее источником старонемецкое стихотворение XIII в. Домик из оладий, пирогов, пряников является непременным компонентом Кокани и Шлараффии:
Покрыт блинами каждый дом,
И дверь из пряника притом.
Едва перешагнул порог —
Пол, стены — все сплошной пирог!
В русском народном стихотворении говорится: «Стоит-то церковь из пирогов состроена, лепешками вымощена, оладьями вывершена, блинами покрыта». Такова и избушка Яги. Вероятно, Ягу вселили в нее по аналогии с ведьмой. Та живет в пряничном домике неслучайно: слово Schlaraffe на верхненемецком языке обозначает маску или уродливое лицо, ведьму или старую уродливую бабу. Этой связью мы наверняка обязаны «жрецам», осудившим Шлараффию. В поэме начала XVI в. туда попадают те, «кто презирает Бога и христианский мир, кто бесчестен и порочен, кто без боязни и усилий служит туловищу» [230].
Были в этих странах и молочные реки с кисельными берегами, и всяческие твари, приглашающие гостей откушать их по примеру сказочных печи с пирожками, яблони с яблоками, коровы с молоком и т. д. Правда, в отличие от домика, эти образы встречаются уже в античных мифах и в Библии. Молочное море выдумывает Лукиан, винные потоки описывает Телеклид, Страбон находит в Индии «источники частично с водой, частично с молоком, другие снова с медом, следующие с вином, четвертые с маслом» [231].
Что же получается? Ведьма ощупывает палец, так как ведьмы интересуются пальцами. Ведьма хочет съесть детей, так как ведьмы их едят. Ведьму сжигают, так как ведьм положено сжигать. Даже в пряничном домике ведьма живет оттого, что она — ведьма. Следовательно, красноглазая ведьма — это… ведьма. Неожиданный вывод, не правда ли? Но он не окончателен. Ведьма не просто ведьма, она — мертвая ведьма, обитатель мира мертвых. Ее нужно устранить не столько как ведьму, сколько как мертвеца, чтобы она не беспокоила живых (здесь я согласен с Петрухиным).
Остается выяснить, зачем дети сами идут к ведьме. Их туда заманили? Они выручают украденных братьев и сестер? Но в нескольких рассмотренных нами сказках они оказываются там случайно, приходят из любопытства или за огнем. Маленькая зацепка у нас имеется. Наши жестокие предки не только убивали и кушали детей, но и оставляли их в лесу, в межевой канаве, между морем и берегом во время отлива, то есть как бы на границе между мирами. Так избавлялись от незаконнорожденных, умерших до крещения, больных или просто лишних детей [232]. Эти дети подпадали под власть мертвых, в них вселялись бесы (например, в исландских утбурдов), они поступали в услужение к колдуну или ведьме и выполняли их приказы [233]. Не схожим ли путем шли Гензель и Гретель, Василиса, другие мальчики и девочки? Героиня нижеследующей сказки добровольно идет за веретеном в гости к весьма необычному персонажу.
Зубастая госпожа
Сквозь зубы что-то напевала,
Клыками острыми звеня.
Сквозь зубы что-то напевала,
Клыками острыми звеня.
Я неоднократно упоминал о типе АТ 480. Хотя в относящейся к нему сказке братьев Гримм «Госпожа Холле» («Госпожа Метелица») на первый взгляд ужасов нет, мы обязаны исследовать ее персонаж. Фон Франц права: без «светлого» начала (Холле) нельзя понять «темное» (красноглазую ведьму). Светлое светлым, но меня в детстве, как и героиню сказки, немного пугали «длинные зубы» встретившей ее старухи, пусть и сочетающиеся с «добрым сердцем» (на испуг девушки обратил особое внимание Потебня). Уже потом я узнал, что зубастость ничего хорошего не сулит.
В колодце, куда прыгает за веретеном обижаемая мачехой падчерица, могут проживать весьма злобные твари. В другой гриммовской сказке брат и сестра, упав туда, попадают к мерзкой русалке и спасаются от нее бегством с препятствиями. Падчерица же приходит в чувство на цветущей лужайке, где вынимает из печи готовый хлеб и трясет яблоню со зрелыми яблоками. Госпожа Холле, назвав себя, приглашает девушку поработать, как Яга — Василису. Девушка взбивает хозяйскую перину, благодаря чему на всем белом свете идет снег. В конце концов, она уходит от Холле, затосковав по дому, и в воротах, ведущих на землю, на нее проливается золотой дождь, облепляя золотом всю одежду. Позавидовав счастью девушки, ее злая и некрасивая сводная сестра идет тем же путем, отказывая нуждающимся в помощи. Ее обращение с периной оставляет желать лучшего, и на выходе из ворот на ленивицу опрокидывается котел со смолой. Холле захлопывает за ней ворота.

Вам не бросилась в глаза одна несообразность? Для чего там очутились печь и яблоня? Неужели для того, чтобы лишний раз подчеркнуть трудолюбие первой девушки и нерадивость второй? Но закон сказки гласит: тот, кому ты оказал помощь, должен оказать ее тебе. А в каком случае может понадобиться помощь? Если тебя преследует враг. Значит, от «доброй» госпожи Холле такого вполне можно ожидать.
Братья не стали ломать голову над германизацией избитого сюжета. Ведь у них был под рукой конкретный персонаж национальной мифологии — богиня Холле (Хольда). В качестве источника Якоб сослался на французские сказочки о водных феях, якобы зависящие от немецких мифов о богине, обитающей в озерах и колодцах. Такая фея была в ранней гриммовской версии — прекрасная госпожа колодца, которая обласкала героиню, одела ее в драгоценное платье и наделила способностью сыпать из волос цветы. Потом братья отказались от салонной приторности и вставили в сказку Холле. Но исторические корни образа самой богини ими раскрыты не были [234].
Тип 480 — один из самых популярных. Андреев назвал его «Мачеха и падчерица» [235] и великодушно разделил на шесть частей с участием различных персонажей: ведьма, Морозко, медведь, леший, черт, кобылья голова, Баба Яга и т. д. А Пропп скупой рукой свел все части воедино. И оба исследователя не ошиблись! За исключением тех сказок, которых мы коснулись выше, гигантская масса остальных на редкость однообразна. После типа 327 мы найдем здесь крайне мало новых мотивов. Отличаются же эти сказки в первую очередь персонажами, с которыми сталкиваются добрая и злая девушки.
В немецкоязычной версии из Трансильвании мы впервые обнаружим запретную комнату, в которую не велит заглядывать ведьма. Именно в этой комнате на падчерицу проливается золотой дождь. Ведьма, естественно, преследует девушек, так что здесь помощники (печь, собака и яблоня) оказываются на своих местах [236]. Запретная комната есть также в версии из Ганновера: девушка похищает найденное там золото [237]. В версии из Швалъма (Гессен) домик ведьмы сделан из блинов, хотя действие происходит в колодце, куда упала прялка. В версии из Падерборна ведьма пускает вслед за девушкой черную собаку. В другой версии из Гессена девушка попадает в дом никсы (русалки) с отвратительными волосами, аккуратно их расчесывает и получает подарки. В версии из Силезии вновь фигурирует волк, которому девушка выбирает вшей.
В версии из Тюрингии, которую пересказал Бехштайн, героиня приходит к дикому человеку, и тот предлагает ей выбрать между лучшим и худшим вариантами: лечь спать в мягкой кровати или вместе с кошками и собаками, завтракать за столом или со зверьми, получить золото или смолу. Каждый раз девушка выбирает худший вариант, но удостаивается лучшего. Ее жадная сестра поступает наоборот и наказывается [238]. В версии из Люцерна (Швейцария) вместо дикого человека — дети, живущие во дворце, куда падчерица попадает через мышиную нору [239]. В версии из Каринтии (Австрия) в доме незнакомой женщины девушка готова питаться крошками, спать в навозной яме, ездить верхом на палке, но хозяйка кормит ее молоком и хлебом, укладывает спать на перине, дарит белого коня.
Наиболее богата деталями версия из Нижней Австрии. Старуха, у которой служит падчерица, не велит трогать горшки и стирать пыль с двух сундуков — старого и нового. За работу девушка получает мало еды, но делится ею с живущими в доме собакой и кошкой. Старуха отлучается на год. В первую же ночь невидимка колотит в дверь дома и кричит. Кошка с собакой жестами советуют не открывать дверь. В час ночи шум прекращается. Стук и крики слышны каждую ночь в течение года. Этот эпизод связан с испытанием страхом (в слово «испытание» я вкладываю психологический, а не ритуальный смысл), которое родственно испытанию сном. О них предстоит отдельный разговор.
В искаженном виде они угодили в ангольскую сказку о плаксивой Муйонго.
Вернувшаяся старуха приходит в восторг от порядка в доме. В награду она предлагает служанке выбрать старый или новый сундук. Девушка выбирает старый, наполненный мусором и пылью, а перед уходом открывает горшки. Оттуда вылетают плененные старухой души, они благодарят свою спасительницу и разлетаются. Девушка убегает, прихватив собаку и кошку, старуха не может их нагнать. Дома в сундуке обретаются драгоценности, собака превращается в принца, а кошка — в его сестру. Родная дочь мачехи не подвергается испытанию страхом, не освобождает души (ведь их уже нет), но вместе с новым сундуком забирает у старухи вторую пару животных. Дома из сундука вылезают горные духи, а собака и кошка оборачиваются демонами, которые хватают мать и дочь и бросают их в огонь [240].

Мотив освобождения пленников для типа 480 не характерен, в отличие от превращающегося в золото мусора, который имеется и в других типах. Такой мусор получает солдат в награду за службу черту в аду (сказка братьев Гримм «Чумазый братец черта»). Вопреки наказу хозяина солдат заглядывает в котлы, как падчерица в горшки, видит там души своих командиров и охотно подбрасывает дрова. Мотив выбора худшего предмета (сундука) — сугубо назидательный, он восходит к сборнику нравоучительных легенд «Римские деяния» (XIII в.) и был использован Боккаччо в «Декамероне» и Шекспиром в «Венецианском купце» [241].
С версией из Нижней Австрии перекликается сказка братьев Гримм «Лесной дом», отнесенная к типу АТ 431. В ней тоже есть испытание страхом. Три сестры поочередно несут обед своему отцу-дровосеку. Обозначающие путь на вырубку просо, чечевицу и горох склевывают птицы, и девушки попадают в дом седого старика с длинной бородой. Две старшие сестры не выполняют его указаний — застелив постели, ложатся спать, не дождавшись хозяина. К тому же они не кормят курочку, петушка и корову, сидящих у печки. Старик запирает девушек в подполе. Младшая сестра, приласкав животных и улегшись в свою постель после того, как уснул хозяин, просыпается в полночь от страшного шума: «В углу что-то трещало и стучало, дверь распахнулась настежь и ударилась о стену. Все балки гудели, словно кто их из стены выворачивал; а потом и лестница как будто обвалилась, и наконец, что-то так грохнуло, как будто весь дом рухнул разом. Потом все опять стихло». Наутро старик обернулся королевичем (его заколдовала ведьма), а животные — тремя слугами. Видимо, испытание страхом неотделимо от колдовского заклятия.
К позднейшей модификации типа 480 относятся распространенные в Германии и Австрии душеполезные сказки, в которых брат и сестра встречают в лесу или на улице Деву Марию под видом старушки или Христа под видом старичка. Брат грубит, сестра отвечает вежливо. Оба получают коробочки с чертями и ангелами соответственно.
Еще одна разновидность обязана своей обработкой Базиле, в чьей сказке добрый брат попадает к двенадцати месяцам и награждается шкатулкой, исполняющей любые желания. Богатый завистливый брат получает от месяцев кнут, который избивает его до тех пор, пока на помощь не приходит добряк, делящийся с братом своим счастьем. Сказки о двенадцати месяцах появились затем в Греции, Чехии, Словакии (самый известный вариант). Обычно в них действует мачеха, дающая падчерице невыполнимые задания вроде сбора земляники в зимнем лесу. Сказка с земляникой есть даже в Японии, где вместо месяцев падчерицу выручает старый дед с белой бородой — «дух — хранитель наших гор» [242]. В России такую сказку первым обработал С.Я. Маршак.
У братьев Гримм сказку о месяцах подменяют «Три маленьких лесовика» (АТ 403). Три крошечных лесных человечка не только помогают падчерице найти землянику, но и награждают ее красотой, золотыми монетами, падающими изо рта, и счастливой судьбой, то есть браком с королем. Такая судьба ждет многих героинь типа 480, поэтому сказки о них часто включают в себя мотивы из «Золушки». Нерадивая сестра получает от человечков уродство, жаб и позорную смерть в будущем. Вообще-то маленькие лесовики (Haulemannerchen) немецкого фольклора добросердечностью не славятся. Они мрачны и злобны, как большинство цвергов, и имеют обыкновение завлекать в лес детей. Братья, озабоченные наплывом ужасов в своих сказках, нарочно облагородили лесовиков, придав им ряд черт из итальянских и французских сказок.
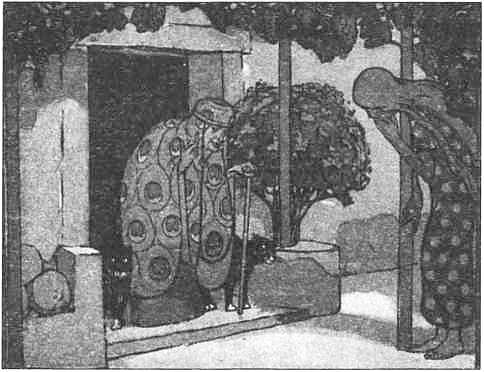
В Италии и Франции благодушие правит бал, а его главная распорядительница — фея — без устали размахивает волшебной палочкой. У Базиле скромная девочка, отказавшись от пышных платьев, прилежно расчесывает волосы трем красивым феям. Она проходит через золотые ворота, а ее сводная сестра — через двери конюшни со всеми вытекающими последствиями. В другой сказке, переделанной затем Перро, фея принимает облик старой женщины. У брата (младшей дочери) с уст сыплются розы, жемчуг и бриллианты, а у его сестры (старшей дочери) — лягушки и змеи. Добрые феи являются под видом нищих старушек в испанских и португальских сказках. Во французской сказке трудолюбивая девочка по указке Богоматери попадает в прекрасный сад с порхающими бабочками, а в бельгийской ей покровительствует Хлебная Мария, которую Фрэзер соотносит с древнегреческой Матерью Зерна — Деметрой [243].
В приторной итальянской сказке «Котята» падчерица через колодец попадает в дом, полный котят, хлопочет вместе с ними по хозяйству и награждается прибывшей кошкой. Сводная сестра издевается над котятами: одного тянет за хвост, другого дергает за уши, третьему обрывает усы; тому, кто шьет, ломает иглу, кто воду несет — опрокидывает ведро. Мотив издевательств над детьми хозяйки проник сюда из Восточной Европы.
Очень интересно начинается французская сказка «Ночные плясуны». Мачеха посылает падчерицу ночью в старинную часовню, где водятся привидения, якобы за забытым там молитвенником. По пути она должна миновать перекресток, где, по слухам, ночные плясуны (эльфы) устраивают свои игры и забавы. При свете полной луны девочка различает крохотных человечков в больших шляпах, которые вовлекают ее в свой хоровод, а поплясав, наделяют красотой и разумом. Сводная сестра обзывает человечков конским пометом и потом всю жизнь извергает этот помет с губ. В сказке совмещены две темы — британская с эльфами и восточноевропейская с нечистым местом, которая, увы, развития не получила, ведь девочки так и не дошли до часовни.
Норвежская сказка — копия нижнеавстрийской, только взамен старухи — троллиха, дающая нелепые задания (носить воду в решете, очищать до белизны черную шерсть). Но испытания страхом и заколдованных людей здесь нет [244]. В старой английской сказке девочек встречает настоящая ведьма, а роль запретной комнаты играет каминная труба, внутри которой они находят мешок с золотом [245].
В версии из Нортумберленда в доме ведьмы Клути живет кот — заурядное животное с оптимистическим взглядом на мир. Его мурлыкание наводит добрую Джанет на мысль заглянуть в трубу, хотя прежде ее умная, но жадная Кейт влезла туда без чьих-либо советов. Убегая, Кейт спрятала мешок на мельнице, но та, не дождавшись от нее помощи, дала подсказку ведьме. Джанет, поломавшись для вида («Вспомнила, что сталось с ее деревней: дома не топлены, дети сидят голодные, и все из-за этой ненасытной ведьмы»), без помех уносит золото. Но колебалась она не зря — ложка громко стучит по столу: узнав, что Клути утратила колдовскую силу и стала «бедной одинокой старухой», ей дарят немного гиней из мешка. Что-то я не припомню такой щепетильности у героев прежних сказок.

В других вариантах из Норвегии и Англии девушек одаривают и наказывают три огромных и страшных (или золотых) человеческих головы. Они всплывают из ручья (колодца) и требуют, чтобы девушки их умыли, причесали и поцеловали (положили на песок) [246].
Ну а как там в Исландии? Отыщутся архаические мотивы? Непременно! Три сестры поочередно отправляются за потухшим огнем. Они находят пещеру с горящим очагом и съестными припасами, готовят еду и дожидаются хозяина. Две старшие девушки гонят прочь вбежавшую в пещеру собаку, и та откусывает им руку и нос, после чего они, обиженные, удаляются. Младшая сестра Хельга, приласкав собаку, вежливо приветствует вошедшего тролля. Далее следует уже знакомый нам мотив выбора, вот только тролль гораздо прямолинейнее дикого человека и бородатого старика. Оставшись доволен стряпней Хельги, он предлагает ей поесть и лечь спать либо с ним, либо с собакой. Девушка выбирает пса, так как тролль чересчур уродлив. Вскоре снаружи раздается грохот, и Хельга в ужасе заскакивает на кровать тролля. Со спящего чудовища тут же спадает шкура, и оно оборачивается принцем [247].
В другой сказке нелюбимая дочь Хельга вообще никуда не уходит, а остается стеречь хутор в рождественскую ночь, когда ее семья уехала в церковь. На хутор заявляются аульвы (исландские эльфы, обитающие в холмах). Первым приходит голодный ребенок, и девушка его кормит, за ним — множество гостей. Девушка не обращает на них внимания и читает молитвенник. Наконец, в хлев, куда, она зашла подоить коров, заглядывает мужчина и приглашает ее отдохнуть с ним на сене. Хельга отказывается и за свое упорство удостаивается благодарности и награды от жены «отдыхающего». На следующее Рождество на хуторе остаются мать и любимая дочка. Должен разочаровать ценителей сказочной «клубнички»: до хлева дело не доходит. Все шишки достаются бедному ребенку. Раздраженные его приставаниями мать с дочкой ломают ему руку. Разъяренная мамаша-аульва избивает незадачливых женщин и переворачивает хутор вверх дном. С небольшой натяжкой эту сказку можно считать первой из тех, в которых описаны нечистые места.
Рассмотрев сказки Западной Европы, мы обнаружили практически все мотивы «Госпожи Холле», но не саму госпожу (Хлебная Мария не в счет). Правда, водная природа присуща некоторым персонажам, ее заменяющим (русалка, три головы), да и действие сказки часто происходит в колодце.
На востоке мы встретим целую россыпь заместителей, среди которых преобладают старушка и ведьма. В латышских сказках к доброжелательным персонажам относятся змея и старичок, живущий на небе, куда девушки забираются по бобовому стеблю, а к злобным — псоглавец (в славянских и балтийских землях так именовали кинокефала — человека с собачьей головой) [248]. В венгерских — Мать Луны и ведьма соответственно. С водой никто из них не связан, хотя Мать Луны велит девушкам окунуться в реку, чтобы обрести красоту. Жадная девушка окунается лишний раз, и на ее теле проступают темные пятна, а волосы спутываются [249].
Мотив выбора принимает порой откровенно морализаторскую форму. Старичок или старушка в приступе мазохизма распоряжаются топить баню костями, волочь себя за ноги и мыть навозной жижей, но добрая девушка использует дрова, несет хозяев на плечах и моет их водой. Нередко мать или мачеха погибают, удавившись с горя, лопнув от зависти, а иногда они прибегают к колдовству. Интересна в этом отношении карельская сказка «Пряхи у проруби». В роли мачехи здесь выступает Сюоятар — людоедка, на первый взгляд очень похожая на Бабу Ягу. Она живет в лесу, под землей, на берегу озера или реки и чаще всего сжигается героями. Само ее имя происходит от глагола «пожирать». Однако с водной стихией она связана прочнее Яги и даже передвигается по воде в лодке [250].
Прыгнувшая за веретеном в прорубь падчерица служит у безымянной старушки, в частности, моет и холит ее деток — ящериц и лягушек. Дочь Сюоятар хлещет и давит старушечьих деток, а дома из подаренного ей сундука вырывается огонь, палящий дотла и ее, и Сюоятар. В аналогичной сказке коми мачеха — обычная женщина, а девушки попадают в избушку Ёмы (старуха с железными зубами и когтями) и ее деток. Любимая дочка приносит в лукошке пожирающий огонь.
Гадких хозяйских деток приходится обслуживать героиням румынских, сербских и болгарских сказок. В Румынии детками заправляет старушка по имени Святое Воскресение, в Сербии — змееобразная Хала в виде уродливой старухи с волосами, полными вонючих червей (естественно, их надо вычесывать), в Болгарии — безымянная старушка, окунающая девушек в речные воды. Все эти добрые и недобрые персонажи расправляются с мачехой и ее дочкой, отослав им сундук со змеями [251]. Чешская сказка повторяет одну из немецких версий с ведьмой, запретной комнатой и погоней за девушками, причем среди помощников есть мостик.

Свои варианты с заколдованным принцем имеются в Сербии и Польше. В первом случае принц носит медвежью шкуру, во втором падчерица подвергается испытанию страхом (стук в дверь), пользуется советами петуха, собаки и кошки. То же испытание ждет сводную сестру. Она открывает дверь не вовремя, и ей сносят голову, сдирают кожу и прибивают ее к стене [252].
Самое популярное нечистое место в восточноевропейских сказках — это мельница. В греческой сказке падчерица отправлена мачехой на мельницу перед Рождеством. В полночь туда приходят калликанзарос (злые духи) и хотят ее съесть, но она обманом выманивает у них платья и драгоценности. Сводную сестру выручает мельник, и калликанзарос успевают лишь поцарапать ей лицо своими длинными когтями. Встреча девочек с калликанзарос (сербские караконджулы) неслучайна. Эти подземные демоны, имеющие связь с водой, появляются на Рождество и уносят младенцев из колыбели. Кстати, умершие на Святках дети тоже могут превратиться в калликанзарос [253].
В албанской сказке падчерицу на мельнице обступают джинны. Она заговаривает им зубы, стараясь протянуть время до крика петуха. Довольные беседой, они облепляют ее золотом, а невоспитанной сестре сворачивают голову набок. В польской сказке умная девушка обманывает чертей во главе с господином во фраке, желающим с ней потанцевать. Она заставляет их носить кучу вещей, якобы необходимых ей для туалета. Глупая сестра желает получить все разом и получает — господин танцует с ней до упаду, а потом отрывает голову. Сказка кончается неожиданно — примирением мачехи с падчерицей.
В украинских и белорусских сказках обман происходит в лесной избушке (обманывают лешего), в бане (чертей) или на кладбище (мертвеца). Мертвец может приползти домой к девушке подобно исландским аульвам, и ей приходится занимать его, пока не закричит петух [254]. Петух в мифах и легендах возвещает момент окончания власти нечистой силы над душами. Показательна в этом плане роль петуха в «Госпоже Холле» и других сказках — он кукарекает, когда девушки возвращаются домой из царства мертвых.
Забавный персонаж встречает девушек в украинских сказках. Это кобылья голова. Ее нужно пересадить через порог, посадить на печь и накормить. Исполнив эти поручения — особенно тяжело дается второе: голова так и норовит брякнуться с печи, — падчерица влезает в ее правое ухо, вылезает из левого красавицей и одаряется приданым. На радостях в кобыльей голове усмотрели не только обрядовую пасть, но и магический фетиш тотемного происхождения [255]. Мотив головы без тела не уникален — в русской сказке, как и на Западе, фигурирует человеческая голова. В нее, конечно, никто не залезает (она разваливается сама, образовав кучу золотых монет), а вот живым коням на Руси частенько доводится подставлять свои уши.

В ближневосточных сказках новых мотивов мы не обнаружим, да и коллеги госпожи Холле по большому счету те же, что в Европе. В кавказских сказках это мать дэва с волосами, полными насекомых, и Мать Ветров, льющая падчерице на голову воду из кувшина; в турецкой — старушка с зеркалом судьбы, с которой героиня вступает в нескончаемый обмен любезностями; в таджикских — демон Биби Се-Шамбе, покровительница ткачества и прядения, и т. п.
В Восточной Азии превалируют животные, в первую очередь — тигр с нарывами на голове, умудряющийся наполнить плетенку золотом для падчерицы и змеями для мачехи и ее дочки [256]. Обычно девушки отправляются куда-нибудь не за исчезнувшими предметами, а по хозяйственным нуждам: на поле к отцу, брату и невестке, как в пакистанской сказке, или на рисовые и кукурузные плантации, как во вьетнамской. В Индии, по наблюдению Мелетинского, падчерицу может заменять старая жена, изгоняемая из дома молодой. По приказанию дервиша она окунается в воду и становится красавицей; дервиш предлагает ей на выбор несколько корзин, и она выбирает худшую, которая оказывается полной золота [257].
Лишь японские сказки типа 480 богаты на демонов и ведьм. Есть в них и свои нечистые места. Умная старшая сестра помогает храму Дзидзосамы (божество — покровитель детей) избавиться от чертей-дебоширов, имитируя петушиный крик. Младшая, нагрубившая божеству, раньше времени кричит петухом и избивается полупьяными чертями.
Неоригинальны башкирские и татарские сказки — то подверженные мазохизму старухи (истопить баню соломой, затолкать туда в шею, попарить ручкой от веника) с волосами, наполненными золотом и самоцветами; то баня с нечистой силой, которой можно морочить голову до утра. Мачеха с дочкой гибнут от змей, выползших из сундука.
В нанайской сказке нет бегства, зато благоразумная девушка, возвращаясь из тайги от старушки, испытывается страхом: «Пока она шла по дорожке, ее преследовали разные звери, которые рычали, визжали, кричали на разные голоса, пугали и хватали ее за халат». Непослушная девушка прежде срока открывает свой сверток и атакуется змеями [258].
Персонажи русских сказок перечислены выше. Яга, по своему обыкновению, вредна сверх меры: заставляет носить воду в решете и мыть червяков, лягушек, крыс, насекомых. Из сундука вырывается губительное для мачехи и дочки пламя. В общем, Яга здесь сродни персонажам из Карелии и Коми.
Знаменитая русская игра в жмурки с медведем при участии мышки-помощницы описана также в латышской (псоглавец) и якутской (медведь) сказках. В одном из вариантов медведь женится на падчерице, не превратившись в царевича, но в целом такая дикость сказкам типа 480 не свойственна. Правда, есть странный вариант без родной дочки, но с падчерицей, которую мачеха услала в лес. Девушка готовит еду, а тем временем наступает «ночь длинная, жуткая, слова молвить не с кем, и скучно и страшно!». Не дождавшись старика, тролля и прочих кандидатов в царевичи, девица отворяет дверь в лес и зовет: «Кто в лесе, кто в темном — приди ко мне гостевать!» Услышал леший, обернулся молодцом, гостинцев принес. Повадился ходить каждый вечер, натаскал кучу добра. С таким вот, с позволения сказать, гонораром падчерица и возвращается домой [259].
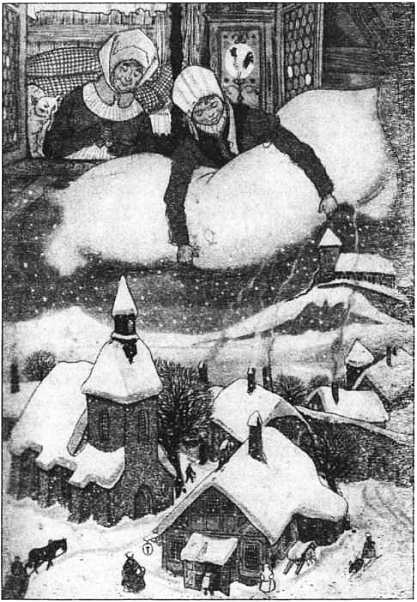
Зимняя Холле с ее вызывающей снегопад периной может ассоциироваться с Морозко, старичком с длинной седой бородой, сковывающим воду «железными» морозами. Сказки с участием Морозко стандартны — девушкам надо не замерзнуть и порадовать старика «хорошими речами». Как следствие, тамошняя лексика не всегда нормативна. Родные дочки на все корки честят Морозко: «Убирайся ко всем чертям в омут, сгинь, окаянный!» — а мачеха, получив их трупы, примиряется с падчерицей после не менее бодрящего вразумления со стороны мужа [260].
Благопристойный вариант этой сказки был создан В.Ф. Одоевским в 1840 г. под явным впечатлением от «Госпожи Холле». В нем взбивают перину, а ледяной дом Мороза Ивановича находится в колодце, куда спускаются за ведром девушки. Образ добродушного деда весьма далек от грозного и омертвляющего божества подобного финскому Морозу, который «вспоен гадюками в чужих землях, мать его без груди, отец — злодей» [261].
Согласись, читатель, в сказках типа 480 нет такой захватывающей дух атмосферы иного мира, как в типе 327. Их сюжет проще и схематичнее, а Пропп считал простоту сказки верным признаком ее древности. Тем не менее из-за ряда уже известных нам мероприятий он называл архаическими именно сказки о ведьме и детях. Остается только признать его правоту. Эти сказки древнее, но не потому, что они зародились из инструкций к обрядам, а потому, что они отражают в художественной форме древнейший опыт встречи разных народов с ведьмами и великанами. В них почти нет других отрицательных персонажей (об их замещении животными мы скажем ниже), тогда как тип 480 просто кишит различными чудовищами — и добрыми, и злыми.
Можно предположить, что он представляет собой позднейшую интерпретацию типа 327, обладающую сильно развитой моралью. Все эти старухи, старики, черти, мертвецы могли быть вставлены туда случайно. Вот пример: раз в типе 327 есть дэв, значит, в качестве благодетеля, а не людоеда в типе 480 должна выступать мать дэва — явно надуманный персонаж. Но этим выводом нельзя ограничиться. Пропп сумел показать, что действующие лица типа 480 наделены важными функциями, присущими и типу 327. Эти функции, а также ряд образов вроде зубастой госпожи и голов без тел заимствованием не объяснишь.
Лесной ужас и водная преграда
Типу 480 ввиду его дидактичности дано намного больше толкований, чем типу 327. Образа дарителя (губителя) толкователи почти не касались. Их внимание было сосредоточено на конфликте мачехи и падчерицы, поведении двух девушек и т. п.
Афанасьев писал о путешествии двух душ в загробное царство, ассоциирующееся с блаженной областью света. Добрая душа становится золотой, то есть осиянной солнечным блеском, а злая поступает в туманное жилище демонических змеев и осуждается пребывать среди мглы и ненастья. Потебня, упомянув о солнечных лучах, дожде и граде, не забыл и о христианских мотивах, уподобив возвращение девушек рождению в новом теле с его добродетелями и пороками, внешними достоинствами и недостатками [262]. Эти два толкования в наши дни соединил католический богослов и священник Е. Древерманн. Девушки у него выступают как Дева Солнца и Дева Луны, мачеха олицетворяет нечестие внешнего, материального мира, госпожа Холле — справедливость загробного [263].
Проппу очень хотелось прицепить тип 480 к инициации, поэтому он поспешил интерпретировать ряд существенных деталей этих сказок. Так, помощь нуждающимся, в частности накормление животных, он отнес к умилостивительным жертвам, а игру в жмурки — к ритуальным пляскам или очередному испытанию неофита. О его взглядах на место девушки в мужском доме и необходимость ее посвящения мы уже говорили. Такое понятие, как испытание страхом, Проппу незнакомо. Внезапное исчезновение хозяев, визит невидимок, а также феномен невидимых слуг вроде пар рук из «Василисы Прекрасной» он объясняет некоей условной маскировкой тех, кто пребывает в символическом царстве смерти. Поэтому и юноши, жившие в мужских домах («лесные братья»), маскировались животными — обычай, породивший заколдованного принца. Церемония посвящения включала запрет на умывание. Не умываться — все равно что обмазываться сажей или глиной, окрашиваться в черный или белый цвет (сказочные смола и золото), то есть делаться невидимыми [264].
Все эти мудреные процедуры должны были найти отражение в мифах «первобытных» народов. Но их там нет. У южноамериканских индейцев самая распространенная ситуация, связанная с пребыванием женщины в мужском доме, — насилие, совершаемое над матерью ее сыном (сыновьями). Мать приходит в лесной дом, живущие там сыновья насилуют ее, а отец пытается отомстить или убить их (или они его) [265]. Можно ли считать отголосками этого безобразия предложение исландского тролля и зазывание русского лешего? Или они содержат намек на проституцию, процветавшую в мужских домах?
Мотив бегства Пропп трактует с позиций первобытного коммунизма. В древнем обряде волшебный предмет давался и возвращался мирным путем, а с возникновением собственнических отношений он стал похищаться. Похищение влечет за собой преследование [266]. Тут ученый готов признать первенство типа 480, ведь именно там предмет не только похищается, но и даруется мирно. Но как тогда быть с базовой инициацией из типа 327? Даже ученики Проппа признают, что «преследование характерно лишь для ограниченной группы мифических вредителей», прежде всего для ситуации «дети во власти лесного демона» [267]. В этой ситуации кража тоже случается (тип 328), но цель бегства — не унести ценный предмет, а скрыться, чтобы тебя не съели. Лишь после смерти врага можно ограбить его дом, и вот тогда собственнический инстинкт по-настоящему дает себя знать.
Уход и бегство с чудесным предметом фигурируют в основном в евразийских сказках, а в мифах дикарей практически отсутствуют. Героев здесь преследуют сплошь одни каннибалы и сексуальные маньяки. К вышеприведенным мифам добавим рассказы тоба и пилага (Аргентина, Бразилия, Парагвай) о детях, удирающих от матери-ягуара. Они роют яму и прикрывают ее листвой или прячутся в стволе дерева [268].
Жмурки и прятки от врага — довольно распространенный мифологический мотив, ни с какими ритуалами, конечно же, не связанный. Прятаться могут и те, кто, по словам фон Франц, избирает «интровертарованный способ непротивления злу», например Будда, который, будучи преследуем властелином демонов, удалился и сделался недоступным для зла благодаря своей невидимости [269].
Мелетинский не питал иллюзий относительно ритуальных корней сказок типа 480 и даже признавал, что основное их содержание — встреча с «нечистой силой» — частично отражает христианские представления. Естественно, об этих представлениях речь у него не заходит. Главное внимание он уделяет притесняемой мужем (соперницей) жене, замещающей падчерицу в фольклоре чукчей, эскимосов, индусов и полинезийцев. Жен выгоняли из дома в обществе, где была принята полигамия, — том самом, которому мы обязаны злой мачехой [270].
Перед тем как приступить к рассмотрению образа госпожи Холле, поговорим о воде. В сказках типа 480 немало персонажей проживает в колодце, в проруби, на берегу реки, а в типах 327 и 328 на границе владений врага зачастую находится водоем с перекинутым через него мостом.
Российская фольклористика школы Проппа несколько затушевывала эти факты. О связи воды с потусторонним миром известно давно, а вот в инициацию ее вписать сложно. Пропп уверенно заявлял: «Обряд посвящения производился всегда именно в лесу. Это — постоянная, непременная черта его по всему миру. Там, где нет леса, детей уводят хотя бы в кустарник»[271] — и следом цитировал Вергилия, описывавшего вход в иной мир: «Свод был высокий пещеры, зевом широким безмерной, каменной, озером черным и сумерком леса хранимой» (Энеида, 6: 237–238). То есть не один лес окружает царство мертвых, но и озеро. А вот цитата из Овидия: «Есть по наклону тропа, затененная тисом зловещим. К адским жилищам она по немому уводит безлюдью. Медленный Стикс испаряет туман» (Метаморфозы, 4: 432–434). И здесь тисовый лес сочетается с речными водами.
Безусловно, Пропп знал и о колодце, и о болоте, и о реке. Изменение места действия сказки его не беспокоило. Если бывший руководитель обряда приходил на дом, ученый так и писал: «Испытание происходит в самом доме» (о «Золушке»), Но водоемов в сказках действительно много, и они успешно конкурируют с лесом. Поэтому Пропп счел нужным уточнить, что море (водоем) сменило лес позднее, в обществе земледельцев, когда «лесная охотничья дичь перестала быть единственным источником существования и соответствующие обряды потеряли свой смысл» [272]. Вот так! И попробуйте возразить. Вам сразу укажут на охотящихся дикарей, которые за получением знаний неизменно идут в кусты.
Доказывать знаковое сродство леса и воды с царством мертвых я не буду [273]. Его корни теряются в глубине веков, и отделить лес от воды не легче, чем тисы от Стикса, а доисторических охотников от земледельцев. «Мифологисты» соотносили водную стихию с воздушной — между прочим, в связи с той же Холле — и этим объясняли ее потусторонность. Мы же скажем пару слов о средневековом восприятии леса и воды.
Г. Рупнель в своей «Истории французской деревни» отмечает, что лес всегда, начиная с периода неолита и до конца Средневековья, являлся для человека местом, которое воображение его «населило ужасами». Святой Перегрин, войдя однажды в темный лес, услышал чудовищный шум, завывания и вопли (не те ли, что слышат герои сказок в избушках?) и обнаружил, что находится посреди скопища демонов во всевозможных обличьях, которые возопили к святому: «Зачем ты явился сюда? Этот лес — наш» [274]. Современное воображение (назовем это так, хотя я бы предпочел слово «вера») больше не населяет лес ужасами, но человеку, угодившему туда ночью или заблудившемуся днем, все равно страшно, и страх этот гораздо реальнее первобытных ритуалов.
У воды же не столь, простите за каламбур, подмоченная репутация. С одной стороны, «места влажные и болотистые» в трактате Петра Тирского (XVI в.) тоже названы местом обитания демонов [275], а водяные и русалки бывают вредоноснее лешего. Но с другой — существовало поверье, что злой дух не в состоянии пересечь водный поток. Румыны считали, что проточная вода снимает все заклятия и ведьма не может ее перейти. О борьбе с мертвецами мы уже сказали. Сербы не забывали лить воду перед домом после возвращения с похорон. В Греции было принято увозить мертвое тело на пустынный остров, дабы вампир не преодолел морскую преграду, а на Руси покойника нередко пускали по воде. Память об этом способе погребения сохранилась в названии знакомых нам монстров — навьи, которое родственно латинскому navis («корабль») [276].
Теперь логика поведения сказочных чудовищ отчасти проясняется. Людоеды и ведьмы обитают в лесу и около воды, а во время погони не могут пересечь реку или озеро. Лес тоже вырастает на их пути, но сквозь него они, как правило, прогрызаются, вода же останавливает их окончательно (это подчеркнул и Пропп). Иногда река бывает огненной — вода и огонь дополняют друг друга в качестве апотропеев. Ту же роль играет и мост, по которому не могут пройти не только великан или дэв, но и грешники в аду. Они падают с него в адскую реку, где плавают инфернальные твари (впервые в «Диалогах» Григория Великого) [277]. Не оттого ли в славянских поверьях души убийц помещены под мост? Впрочем, мост может просто связывать два мира подобно Мировому древу.
Осталось сделать последний шаг — признать возможность существования благодетельных мертвецов, живущих в воде. Один из них — «светлая» ведьма госпожа Холле.
Подозрительная доброта
Нет ничего более демократичного,
чем логика: она совершенно равнодушна
к тому, кто как выглядит, и даже крючковатые
носы нередко принимает за прямые.
Нет ничего более демократичного,
чем логика: она совершенно равнодушна
к тому, кто как выглядит, и даже крючковатые
носы нередко принимает за прямые.
Но стоит откинуть крышку сундука немецкой мифологии, чтобы извлечь оттуда светлую богиню, и на нас полезут змеи и лягушки, как на мачеху с дочкой. Не зря братья Гримм не учли родословную Холле — для добросердечной владелицы снеговой перины она чересчур зубаста. Ее имя, образуемое от Hohle («пещера, нора») и Holle («ад») [279], ни к воде, ни тем более к небу отношения не имеет.
Самое раннее письменное упоминание о Холле (Хольде) содержится в «Пенитенциалии германских церквей» Бурхарда (965-1025), архиепископа Вормского, написанном между 1008 и 1012 гг. Бурхард был родом из Гессена и Тюрингии, где Хольду особенно чтили. Архиепископ пишет о женщинах, которые в определенные ночи отправляются на свои сборища верхом на животных: «Народная глупость именует такую ведьму (striga) Хольдой». В другой рукописи пенитенциалия она названа Frigaholda, вероятно, по аналогии с древнегерманской богиней Фригг, или Фрейей. Термин striga (stria) был знаком еще франкам и лангобардам, чьи церковные проповедники осуждали народные верования в таких ведьм, готовящих в котле варево и пожирающих внутренности человека [280].
Сведения о Хольде, купающейся в прудах и озерах, живущей в недрах гор или на дне колодца, владеющей чудесным садом, повелевающей снегопадами, расчесывающей свои волосы и награждающей крестьян щепками, превращающимися в золото, поступают лишь на исходе Средневековья. Хольда почиталась на многочисленных горах. Ее главными резиденциями были гора Хоэр-Мейснер между Касселем и Эшвеге (Гессен) и горный хребет Херзельберг около Айзенаха (Тюрингия). Херзельберг (Horselberge) известен с языческих времен как резиденция богов[281], а гора Хоэр-Мейснер (Hoher MeiBner) — с 1195 г. под именем Wissener, происходящим от древневерхненемецкого wisa («луг»), wizon («провидец») или wiz («белый»). Последний вариант наиболее вероятен: на горных склонах рано выпадает и подолгу лежит снег. Новое имя впервые упоминается в 1530 г. На горе находится холодный и глубокий пруд, считающийся входом в подземный мир Холле. О пруде и о связанных с ним легендах впервые поведал в 1641 г. ландграф Герман фон Гессен-Ротенбург. В пруду купались молодые женщины в надежде на беременность. В 1850 г. на берегу пруда была найдена римская монета (I в. до н. э.), а в 1937 г. велись археологические раскопки, обнаружившие черепки посуды. Предположительно в древности здесь совершались жертвоприношения[282].
Пруд, образующий вход в подземный мир — мир мертвых, нас уже не удивит. Ту же функцию выполнял колодец. В финно-угорском фольклоре колодец знаменовал собой вход в преисподнюю и представлял опасность для девушек, похищаемых его обитателями. Чехи думали, что утопившихся в колодце девиц призвала Била Пани. Колодцы с их змеями и жабами предназначались для грешников, а праведники заселяли родники с чистой ключевой водой, на берегах которых благоухали цветы, зрели на деревьях плоды и пели райские птицы. Кроме того, колодцы были подвластны колдунам и ведьмам. Первые хранили там град, а вторые закрывали колодцы с дождевой водой, чтобы устроить засуху [283].
Подобно водной стихии Хольда двулична. Юная и красивая, она носит длинное платье и белое покрывало; волосы у нее густые и золотистые. Но гораздо чаще она предстает суровой уродливой старухой с больной ногой (она долго вертела колесо прялки — отсюда и увечье). У нее страшное лицо, всклоченные волосы, длинный нос, веник в руках и коровья шкура, наброшенная взамен верхней одежды. Такова и госпожа Берта (Перхта) — заместительница Хольды в Швабии, Эльзасе, Швейцарии, Баварии и Австрии. Берта почти всегда сгорбленна, длинноноса, космата и, как и Хольда, наделена острыми большими зубами. Она величается железной, поскольку имеет железные нос и грудь [284].
Другая черта облика Хольды и Берты, свидетельствующая об их двуличии, — отсутствие спины, на чьем месте находится корыто или дыра. Даже когда Хольда спереди выглядит как девушка, зад выдает ее сущность. Это особенность многих выходцев из преисподней. Великанши и сродные с ведьмами существа носят на спине корыто. По украинскому рассказу, черт — «пан такий убраний, а ззаду кишки висять»; у уральских казаков о черте говорилось прямо, что у него спина корытом. Древесные девы, прекрасные с первого взгляда, сзади трухлявы. Финская «лесная дева» только спереди имеет вид женщины, а сзади оказывается корягой или переплетением ветвей с хвостом. У некоторых скандинавских фей красивые лица, но с обратной стороны они пустые. Лесная или горная Хульдра, героиня норвежских и датских саг, танцующая вместе с нимфами на деревенских лужайках, распознается по кончику коровьего хвоста, торчащему из-под белоснежных одежд [285]. У нашей старой знакомой Убыр тоже не бывает спины.
Еще один лишенный спины персонаж — германская госпожа Вельт, аналог древнеримской богини Волупии, олицетворявшей сексуальное удовольствие, веселье и радость жизни. Статуя Вельт помещена на южный портал собора Вормса (1298). Спереди статуя красива и элегантна, но спина ее покрыта жабами и змеями. Древер-манн в своем толковании сказки братьев Гримм весьма символично сравнивал мачеху с Вельт, противопоставляя ее Холле. Но эти богини, как убедимся, схожи не одними спинами. Полюса сходятся, а мачеха сливается не только с красноглазой ведьмой, но и с госпожой Холле.
Бабу Ягу, о которой наверняка многие вспомнили, ознакомившись с описанием Хольды-старухи, крайне трудно соотнести с благодетельной языческой богиней (хотя Рыбаков пытался это сделать). Но Хольда-девушка в анфас обольстительна, и вот мы уже читаем о «светлой богине рая, кроткой владычице блаженных душ», позднее обретшей демонический характер (Афанасьев); о доброжелательном духе, превратившемся в ведьму (Я. Гримм); об «архетипе безобразной ведьмы, сложившемся в Средние века», под который угодила прекрасная Холле [286].
Неужели христианство так исказило образ древней богини? Потебня сомневался в этом, ведь «уродливые черты Хольды очень глубоко коренятся в мифах». Согласно его данным, «существо со всеми признаками ведьмы как враждебного образа» предшествовало христианской эпохе [287]. Мы видели, как священники успокаивали свою паству, напутанную Хольдой в ведьмовском обличье. В Средние века она считалась в народе предводительницей ведьм или ночных духов, покидающих свои дома и слетающихся на шабаш. В хронике аббатства Тегернзе (Бавария) в 1468 г. сказано, что «госпожа Перхт бродит по ночам, водя за собой толпу женщин» [288]. О ритуалах, связанных с культом Холле с «уродливым рылом и страшным носом», упоминает в 1522 г. Мартин Лютер. Мартин из Амберга называет ее «Перхтой с железным носом», а Эразм Альберус (1500–1553) говорит об армии женщин с серпами в руках, следующих за госпожой Холле. Доныне на Рождество в альпийских регионах Германии, Австрии и Швейцарии проводятся шествия в масках, имитирующие средневековую процессию Холле [289].
Но наряду с этими существовали иные представления. В XIII в. некоторые крестьяне сопоставляли Холле с Девой Марией, о чем свидетельствует цистерцианец Рудольф, автор сборника суеверий, составленного в 1236–1250 гг. [290] Благодаря фантазии народа, ожидающего земных благ от новой госпожи загробного мира, родилась на свет фея с палочкой, в сусальном облике которой, особенно со спины, время от времени проступают черты древней хозяйки преисподней. Наши современники забывают, что «бабушка Сатаны… на самом деле порождена воспоминанием о мрачной богине Кибеле, или Хольде» [291], и что именно христианство облагородило народную каргу.
Что общего в повадках Яги и Холле? В мифах (но не в сказках) Холле может исполнять роль воительницы, возглавляя Дикую охоту — конное войско мертвецов и уподобляясь самому богу Одину; в этих случаях ее иногда называют Годе или Воден. Охота нередко происходит на небесах, и мифологическая школа усмотрела в ней грандиозный спектакль с ветрами и облаками, дождями и колодцами. Ко двору пришлась снеговая перина, по поводу взбивания которой припомнили народное выражение «Старухи вытрясают свои юбки», употребляемое в смысле «Снег идет». Кстати, под старухами здесь разумеются именно ведьмы. В XVI в. многие полагали, что «ни град, ни снег, ни гром и ни молния, ни дождь и ни бурный ветер не сходят с небес по велению Господа, но поднимаются хитростью и силой ведьм и заклинателей» [292].

Склонность Хольды и Берты к прядению и ткачеству, их благоволение к трудолюбивым пряхам и ненависть к ленивым — черта почти всех волшебниц из мифов и сказок. Именно поэтому девушки из типа 480 отправляются добывать упавшее веретено (прялку) или улетевшую (уплывшую по воде) пряжу. На тему прядения как аллегории человеческой судьбы написаны тома книг. Перечислю самых известных прядильщиц: мойры, парки, норны, валькирии, Хольда, Фригг, Фрейя, шотландские феи (Хабетрот, Лориак), Лаума, сербские вилы, ближневосточные символы дней недели, Баба Яга, рожаницы, Макошь, кикимора, русалки, Параскева Пятница, Среда, Неделька (она же Святое Воскресение). Венчает этот список Пречистая Дева. Она пряла, когда к Ней явился архангел с Благой вестью, а затем вместе с другими пряхами стала наказывать грешниц, которые прядут и ткут в период от Рождества до Крещения и в прочие запретные дни.
Ярчайшее воплощение образа прях в сказках — тип АТ 501 («Три пряхи») с одноименной сказкой братьев Гримм. У одной из гриммовских прях широкая приплюснутая нога, как у Берты, а в иноязычных вариантах встречаются пряхи с длинными острыми зубами, коими удобно перекусывать нитку. Мифологические и сказочные пряхи бывают очень опасны, причем не только для ленивиц. Они могут убить героиню (к примеру, удавить на холсте) или потребовать отдать ребенка. В сети к трем прядущим ведьмам попадаются и мужчины, как в кельтском мифе о Финне Мак Кумале[293].
Кроме широкой ноги, Берта обладает гусиной и лебединой или оборачивается коровой и лебедем. Хольда предводительствует армией мышей, к тому же ей прислуживает кошка [294]. Ответьте-ка, что это может означать? Правильно. Эта богиня была когда-то тотемом, как и гипотетическая предшественница Яги. Потебне, конечно, не пришло в голову обосновать тотемизм Яги и Холле курьими ножками и костяными ногами, но он скрупулезно отследил связь злой бабки и доброй госпожи с животными. Получился такой список: мышь, ворона, сорока, лиса, кошка, собака, кобыла, змея, жаба, лягушка, черепаха, рак. По какому принципу сформировался зоосад? По сходству манеры поведения (пропповским функциям) и внутрисемейным отношениям. Мышь помогает девочке; ворона похищает детей; сорока прядет; лиса утаскивает мальчика; кошка дает огонь девочке; собака живет у Яги (кошка тоже там живет); жабы и змеи посылаются в наказание (мы видели, что Яга становится змеей, а змея подменяет Холле); лягушка и черепаха являются дочерьми Яги, равно как и кобыла (здесь пригодилась украинская голова); рак в аналогичной сказке хоть и не зубаст, но с клешнями [295].
Яга — неподходящая компания для светлой госпожи. Того и гляди, перед нами замаячит красноглазая ведьма. Пора отдать должное Холъде: детей она не пожирает, несмотря на давнишнюю ассоциацию со стригой. Подобно обитающей в колодце нечисти Хольда охотится за душами. Она увлекает к себе живых людей и некрещеных младенцев, легко подпадающих под власть колдунов и ведьм. Но эти действия не могут служить аллегорией людоедства. Та же Хольда снабжает душами рождающихся на свет младенцев. В городе Гота (Тюрингия) госпожу Холле называют хранительницей источника, где обитают души еще не рожденных детей [296].
Ближайшие родственники Хольды, с которыми она, по всей вероятности, составляла некогда одно лицо, — богини Фригг, Фрейя и Хель — известны преимущественно из скандинавской мифологии, прошедшей христианскую обработку. О верховной богине Фригт, жене Одина, многого не скажешь. Она прядет золотую нить и, как следствие, заведует человеческими судьбами, сидя в белоснежных или темных одеждах во дворце Фенсалир («болотный чертог», иногда переводится как «водный» или «океанический»). Ее связь с небом и облаками более очевидна, чем у Хольды [297].

Фрейя, кроме интереса к охоте, прядению и кошкам, славится сластолюбием, которое в дохристианские времена наверняка имело более откровенные формы. Словаки называли распутную женщину именем богини Прии (Лады), аналога Фрейи, а русские крестьяне — именем Макоши («мокосья»), тоже родственной Фрейе и Хольде. На репутацию Хольды-красавицы пятном ложится хребет Херзельберг (его второе название — Венерина гора). Местными жителями Хольда именуется госпожой Венус (Венерой), завлекающей мужчин в свое царство и оставляющей там погруженными в чувственные наслаждения (параллель с Вельт). Самая известная ее жертва — Тангейзер [298]. Однако в сказках эта ипостась доброй госпожи никак не отразилась.
Наиболее близка Хольде повелительница скандинавского мира мертвых Хель. Общее у них не только имя. Тело Хель состоит из двух половинок — черносиней и мертвенно-бледной (иногда разделительная линия проходит по лицу или по талии). Она держит в руках метлу или грабли и безжалостно ими пользуется. Дорога в ее царство ведет через мост и лес с голыми или покрытыми железными листьями деревьями, а ворота охраняет свирепый пес Гарм, которого можно умилостивить особым пирогом. Афанасьев утверждает, что первоначально царство Хель было местом пребывания усопших, а лишь потом туда стали отправлять людей злых и нечестивых. На самом деле у викингов это царство предназначалось не для всех умерших, а только для тех, кому не досталась смерть в бою. Фактически они приравнивались к грешникам — мирная смерть от старости и болезней казалась презренной. Так что древняя Хель была далеко не благородной дамой [299].
Но и законченной злодейкой она не была. В древнеанглийском Евангелии от Никодима (XI в.) упоминается персонаж женского рода Сео Хелл, участвующий в словесной перепалке с самим Сатаной и изгоняющий его из своего дома. При этом в древнескандинавском «Житии святого Варфоломея» (XIII в.) посрамленный святым дьявол упоминает «нашу королеву Хел», побежденную Христом [300].
Хель собирает души, разъезжая в колеснице или на трехногом коне и поражая людей болезнями. В Дании и Германии именем Хель (Хелгест) величали старую трехногую лошадь, шатающуюся каждую ночь по улицам. Если она останавливалась перед домом или заглядывала внутрь, кому-то из его обитателей предстояло умереть. Связь Хольды и Хель с лошадью довольно устойчива, а поскольку обе они правят мертвецами, уместно будет вспомнить о головах без тел, заменяющих госпожу Холле в сказках типа 480.
Дары мертвеца
Тут ее тоска взяла,
И царица умерла.
Тут ее тоска взяла,
И царица умерла.
Живительно, но кобылья голова столь же амбивалентна, что и вода, Хольда и Хель. И она тоже родственна царству мертвых. С одной стороны, в Германии, на Украине, на Руси она защищала от лихорадки и, будучи установленной на крыше (конек), на шестах в хлеву или зарытой в углу строящегося дома, оберегала от действия нечистой силы. С другой — сжигалась на купальских кострах, символизируя ведьму и даже ведьмой называясь [301].
Существовали обычаи, очевидно, легшие в основу влезания падчерицы в ухо головы. На Руси умирающего колдуна втаскивали на крышу и укладывали вдоль по коньку или князьку (продольный брус), а затем переносили к порогу дома. За душой умирающего колдуна мог приходить жеребец, просовывающий свою голову в окно. В украинской традиции женщина, пожелавшая стать ведьмой, забиралась ночью в труп околевшей лошади, пробив дыру в его боку, и, посидев там, вылезала через другой бок. Из трупа выходила ученая ведьма, способная превращаться в животных [302].
Страшные, но и апотропеические свойства кобыльей головы Р.Г. Назиров относит к глубокой древности. Он приводит отрывок из индийской Махабхараты, рассказывающий об огромной конской голове, выпускающей вселенский огонь, и объясняет смертоносное воздействие лика Медузы Горгоны его лошадиным происхождением (змеи на голове Медузы — это переосмысленная конская грива). Греки использовали Горгонейон в качестве оберега, а прежде на его месте находилась кобылья голова. Герой исландской «Саги об Эгиле» (XIII в.) изрекает проклятие, используя насаженный на шест конский череп. Колдовская сила этого черепа была известна и на Руси (рассказ о смерти Олега, совпадающий с исландской сагой об Одде Стреле). Славянское сжигание черепа символизировало смерть ведьмы от огня. Использовавшийся ведьмами череп в силу своей огненной природы оборачивался против них самих в полном соответствии с событиями, изложенными в сказках.
Назиров рассуждает о причинах замены надетого на шест конского черепа человеческим в сказке «Василиса Прекрасная». К его чести, он не списывает эту замену ни на тотемизм, ни на обычаи дикарей, украшающих ограды черепами врагов, а пытается объяснить ее аналогией с Медузой, людоедством Яги, которая предпочитала конине человечину, а также необходимостью стилистического усиления характеристики зла: Древняя Русь относилась почтительно к человеческой голове. Варяжское же волхование с лошадиным черепом у нас «не практиковалось реально, а приписывалось ведьме» [303].
Последнее выражение не совсем ясно. Что значит «не практиковалось реально»? А как его практиковали те же ведьмы? Да и человеческая голова издревле служила колдовским средством, что вовсе не противоречило уважительному отношению к ней. Цирцея, направляя Одиссея в Аид, велела, среди прочего, на границе мертвого царства принести «главам бессильным умерших мольбу» (Одиссея, 10: 521). По одной из версий, терафимы (идолы), похищенные Рахилью у ее отца (Быт. 31: 19), представляли собой мумифицированные человеческие головы, употреблявшиеся для гаданий. Один советовался с отрубленной головой великана Мимира, которой он придал способность предвещать судьбу. Кельты высоко ценили мертвые человеческие головы, а в их легендах отрубленная голова часто преследует преступника [304]. Напомню также о беспорядках, учиняемых в английских домах мстительными черепами. Угодили головы и в норвежский ручей и английский колодец, заменив в роли благодетелей подземную богиню или золотую рыбку (второе сравнение принадлежит Афанасьеву).
Злобными головами переполнены мифы американских индейцев. Эти головы превращаются в птицу, воду, камень, звезды и луну (тем самым они мстят женщинам, у которых начинаются менструации); катаются по земле, ругаются, кусаются, пожирают людей и даже беседуют по-свойски с человеческими экскрементами. В мифе кашинауа (Перу, Бразилия) голова-преследователь без труда пересекает реку и сторожит своих врагов под деревом [305]. Однако все эти головы действуют сами по себе и ничьим оружием не служат.
К традиции преследований относится и случай с Василием Буслаевым, на основании которого Назиров сделал вывод об «уважительном отношении». Василий пинает ногой пустую голову, а та пророчит ему смерть, которую он и находит, перескакивая через камень, очутившийся на месте головы. Славяне думали, что грешные души сидят под камнем и, споткнувшись об него, читали молитву [306]. Так что погубивший Буслаева череп принадлежит отнюдь не праведнику.

На Руси проводились церемонии с участием мертвых голов, например на могиле ногайского великана в Курской губернии. Отдельно хранимую голову катали вокруг памятника, поставленного на месте убийства великана. Тем самым куряне, по мнению Зеленина, образовывали магический круг около места смерти беспокойного мертвеца: последний не должен переходить за черту этого круга [307].
В связи с черепом из «Василисы» Афанасьев вспоминает об образе трубадура Бертрана де Борна (1140–1215) у Данте. Он несет за волосы свою собственную голову, отделенную от туловища, и освещает ею путь, как фонарем. Бертран «возмездья не избег», его мозг в наказание за грехи «отсечен навек от корня своего в обрубке этом» (Ад, 28: 134–142). Мертвую голову носит с собой бог Ярило, хтоничность образа которого «подчеркивает то, что в его праздники нередко доходило до смертоубийства и разнузданных сексуальных оргии» [308].
Языческая и христианская трактовки переплелись в сказке. Череп обладает карающим огнем — он смертоносен для злых сил, будь то мачеха, ведьма, великан и т. д. Но он взят у ведьмы — черепа не было бы, не скушай Яга его владельца, — и потому наделен магическими свойствами. С точки зрения язычника эта магия и опасна, и полезна, с точки зрения христианина — греховна. Василиса зарывает череп в землю после гибели мачехи и сестер. По толкованию фон Франц, она прерывает цепную реакцию зла, заключенного в «магической силе мести». Слово «магическая» у фон Франц столь же бессодержательно, что и слово «божественная». Ведь «сила мести» действенна только на психологическом уровне, а Василису она и вовсе не затронула — та «не собиралась мстить мачехе никоим образом; просто так вышло» [309]. Для нас же зло обладает, вне зависимости от настроя Василисы, реальностью колдовского дара — дара мертвеца. И хотя Василиса отказалась от дальнейших услуг мертвой головы, к магии она все-таки приобщилась.
Приобщились к ней и героини сказок типа 480. Дети из типа 327, изгнанные родителями, похищенные, завлеченные или заблудившиеся, вступают в конфликт с мертвецом и стараются удрать. Волшебных даров они не получают, за исключением огня. А огонь лучше не трогать — сжег ведьму, и до свидания! Унесенный огонь причиняет беды: вслед за ним приходит Убыр, да и к вящей славе Василисы он не послужил. Тем не менее дети могут попасть в зависимость от врага, особенно если они возвращаются в его дом за чудесными предметами (тип 328). Разграбление дома умершего врага я бы отнес к позднейшему наслоению. Социальный мотив в такой концовке выражен однозначно.
Среди героев типа 480 преобладают не дети, а юные девушки. Хотя мачехи недолюбливают их, в мир мертвых они нередко отправляются сами, как правило, за исчезнувшим предметом, который может являться и приманкой. Белая птичка помогает красноглазой ведьме, а веретено и прялка — покровительницам прядения.
Пора закрыть тему мачехи или матери — для нас, в отличие от Мелетинского, разница не принципиальна. Мачеха имеет отношение к другому миру. Она может колдовать, именуется ведьмой или ее родственницей, наконец, отсылает из дома приемных детей, падчерицу, а затем и родную (любимую) дочь.
В «Василисе» она заигрывает с огнем. В упомянутой нами венгерской сказке типа 480 у первой девушки пряжу подхватывает сильный ветер, а мать второй тайком запирает ворота, раскладывает у черного хода пряжу, что-то шепчет над ней и сажает дочь караулить. Резко поднявшийся ветер уносит пряжу в нужном направлении.
Зачем мачехе избавляться от детей? В типе 327 не исключен мотив жертвоприношения. Жертвенный огонь — одна из его форм. Не дождавшаяся жертвы богиня (идол) забирает вместо детей самого жертвователя — мачеха умирает следом за ведьмой. Николя Реми (1554–1600) рассказывает о пастухе, влюбившемся в соседку, под личиной которой скрывался демон Абраэль. Будущая мачеха потребовала от пастуха принести в жертву его дочь и дала ему отравленное яблоко. Откусив от яблока, дочь упала мертвой [310]. Этот прием, проникший в другую сказку, помогает лучше понять образ мачехи. Принцип же «мера за меру» добавился потом (тут я согласен с Проппом, а не с Жирмунским), когда маскирующийся под человека мертвец обзавелся собственными детьми.
В типе 480 интерес у мачехи иной — она, судя по всему, ждет от богини земных благ, но их получает падчерица, которая успешно прошла испытания. Не на стойкость, мужество, доброту, отзывчивость — это позднейшая интерполяция, — а на соответствие колдовскому кодексу. Из уха кобыльей головы и из чертогов госпожи Холле выходит новая девушка — настоящая ведьма, снабженная магическими атрибутами, дающими богатство и успех. Сводную сестру (незадачливую ведьму), не угодившую хозяйке или хозяину, ждет расплата.
Среди получаемых девушками «даров» есть и огонь — в своем исконном виде (в сундуке) или в форме угольков, превращающихся в золото. Каленые уголья вместо поддельного золота выпрашивает у черта баба-повитуха в украинской повести. Другой «дар» — жабы и змеи — вылезают из сундука и вцепляются в лицо грешникам (душат их) в рассказах доминиканца Этьена де Бурбона (XIII в.) [311]. Историю жабы, преследующей грешника, поведали и братья Гримм в сказке «Неблагодарный сын».
Как же так? Опровергали, опровергали инициацию — и на тебе! Чем это не обряд? Да, это обряд. Конечно, не тот, что у дикарей, — скорее тот, что у колдуна в русской бане, — но все-таки обряд. Из всех сказочных типов, о которых мы будем говорить, он присущ только этому. На правильности обрядовой гипотезы я не настаиваю. Тип 480 с течением времени сильно изменился. Изменения коснулись прежде всего манеры поведения героинь и образа дарителя (губителя), на чьем месте в итоге очутились Богоматерь и Христос! Колорит встречи с мертвецами поблек, растворился в моральных сентенциях и буйстве поэтических образов, но суть осталась: неуемное стремление человека к земному богатству и счастью, достигаемому с помощью «светлой» богини, чья истинная природа лишь изредка — изо рта или со спины — выступает наружу. Догадывались об этой природе и братья Гримм, наделившие Холле добрым сердцем, но не решившиеся изменить ее внешность (Одоевский в отношении Мороза был гораздо решительнее).

Следы испытания будущей ведьмы уцелели в отдельных сказках. Старик, тролль, дикий человек, леший — модификации того самого духа, в тесную связь с которым вступали участницы тайных сборищ. Однако мотив испытания страхом (сном) к этим сборищам не относится, он попал сюда из другого источника. На эти сборища могут намекать сказки с нечистыми местами. Хотя обитающие там существа враждебны и строптивы, кандидатке в ведьмы удается заставить их служить себе.
Теперь о необычном испытании Василисы и девочки из «Госпожи Труде». Девочка, на мой взгляд, сгорает в печке не из-за любопытства. Здесь нет никакого инфантильного вызова (выражение фон Франц). Я в детстве тоже страдал от любопытства, очень любопытны дети из многих изученных нами сказок. А вот вопросы, которые задают или не задают две героини, действительно важны. Фон Франц думает, что девочка была нетактична, указав богине (Труде) на ее «темную сторону». Василиса же о руках умолчала, тем самым побудив Ягу «устыдиться (!) своей темной стороны и признаться, что эту темную сторону не следовало разглашать». Зло само по себе не исходит от природы, воплощенной в Яге. Оно зависит от установки человека и его поведения. Василиса сумела совладать с природой, и потому природа расположена к ней [312]. Свойственный фон Франц пантеизм в этом толковании достигает кульминации.
Василиса и вправду не указывает на темную сторону Яги. Но не ради вежливости. Она вообще не считает эту сторону темной и не собирается докапываться до ее истинной сути. Потому она и выдерживает испытание. Так было в исходной версии. В дальнейшем само испытание вызвало подозрения. Скорей всего, первоначально куколка-мертвец помогала в колдовском обряде (возможно, ту же роль играли другие помощники — недаром кот в «Бабе Яге» дает героине волшебные предметы), и лишь затем она стала оберегать героиню от злой хозяйки. Благословение матери — языческий мотив, а гнев Яги на это благословение — уже христианский. Из-за него она выгоняет Василису и, заметьте, ничего не дарит ей, кроме огня, несмотря на выполненную работу. Посредством огня Яга отчасти добивается своего. Но почему госпожа Труде сожгла девочку? Да потому, что образ девочки возник позднее образа Василисы. Это христианка, и ведьму она оценивает по-христиански — как черта из пекла. Какой же ведьме это понравится?
Несчастливый исход сказки, напротив, очень древний. Он древнее колдовских обрядов и отражает подлинную атмосферу мира мертвых, а не позднейшие заигрывания с выходцами оттуда. В сказки типа 327 было внесено, не считая мелочей, одно-единственное изменение: оказавшись во власти старухи или людоеда, дети не умирают, не достаются мертвецам, а прячутся, убегают или побеждают. Этим изменением, равно как и смягчением древнего ужаса, мы тоже обязаны христианству и другим традиционным религиям.
Старушонка с прутиком
Ведьма веткою омелы
Головы моей коснулась.
Ведьма веткою омелы
Головы моей коснулась.
В каких еще сказках отражен древний образ ведьмы во «всей красе»? Пожалуй, в сказке братьев Гримм «Два брата» (АТ 303). Сказка эта очень длинная, она состоит из нескольких слабо связанных между собой эпизодов. Самый впечатляющий из них — колдунья, сидящая на ветке в ночном лесу.
До того, как попасть в лес, юноша успел отведать вместе с братом-близнецом печень чудесной птицы; научиться охотничьему искусству; пощадить зверей и получить от них в подарок по детенышу (лев, медведь, волк, лиса, заяц); расстаться с братом, воткнув нож в дерево (в случае смерти кого-либо из них половина ножа заржавеет); убить дракона, не равнодушного к девушкам; умереть от руки слуги и воскреснуть благодаря зверям; разоблачить самозванца, продемонстрировав отрубленные языки чудища; жениться на принцессе. После свадьбы он вдруг узнает о дремучем лесе, растущем недалеко от королевского замка и пользующемся недоброй славой. Отправившись туда на охоту, он и его звери гонятся за белой ланью, теряют ее из виду, забираются в глушь и остаются ночевать под деревом.
«У-у-у! Как мне холодно!» — завывает старушонка. Юноша приглашает ее спуститься к огню, но она боится зверей и протягивает юноше прутик, чтобы тот их ударил. После удара звери обращаются в камни. Ведьма спрыгивает с дерева и касается юноши прутиком (у нее был второй прут?), так что он окаменевает. Злорадно смеясь, ведьма сваливает зверей и их хозяина в глубокий ров, где уже валяется много таких камней.
Нож наполовину заржавел, и брат торопится на выручку к брату. Звучит мотив «обознатушек»: принцесса принимает спасителя за своего мужа. Но вот, наконец, он и его звери под деревом в лесу. Высказав свое мнение о прутике (ведьма огрызается в ответ), юноша берет в плен вредную старушонку. Пригрозив огнем, он выпытывает у нее информацию о камнях. По его приказу ведьма пускает в ход третий прутик и расколдовывает людей. Посовещавшись, братья швыряют ее в костер, и лес сразу редеет и светлеет. После маленького недоразумения в замке — брат брату отрубает голову, а потом оживляет — принцесса узнает, кто ее настоящий муж.

Прежде чем рассмотреть варианты этой сказки, давайте исключим все ненужные нам мотивы. Конфликт из ревности между братьями, знак оповещения о смерти брата (пиво выплескивается через край и мутится), воскрешение братом умершего брата и наказание повинной в его смерти жены-изменницы имеются в древнеегипетской «Повести о двух братьях», датируемой временем правления фараона Сети II (1200–1194 до н. э.). Мотив чудесной еды (чудесного рождения братьев — в других сказках типа 303) был широко известен в Древней Греции и Индии. Мотив животных-спутников, зародившийся в древнеиндийской традиции притч о превращениях Будды, распространился в Европе в XIII в. Краткое изложение всех сюжетов, связанных с убийством змея, заняло бы добрую треть этой книги. Братья Гримм, естественно, сослались на древнегерманский поединок Сигурда с драконом Фафниром. Кроме того, Сигурд учится, мужает, как братья в сказке, разлучается с возлюбленной, имеет кровного брата Гуннара [314].
Мотивы взаимовыручки и «обознатушек» характерны для куртуазных средневековых повестей вроде «Пуйла, властителя Дифеда» из цикла «Мабиногион», французской поэмы «Ами и Амиль» (XII в.), «Саги о Хрольфе Краки» (XIII в.). Один из чудесно родившихся друзей отказывается от жены другого (кладет меч посреди супружеского ложа), помогает одолеть врага, сражается с драконом. Оповещающий знак встречается во многих европейских мифах. В названной французской поэме ржавеющий золотой кубок возвещает о смерти друга, а финский герой Лемминкяйнен, отправляясь во враждебную страну, вешает гребень на стену избы — если с ним что-нибудь случится, из гребня потечет кровь [315].
Мотив погони за оленем и ланью был хорошо знаком кельтам и германцам. Если насчет птицы и возможны сомнения, то белый олень — бесспорный посланец мира мертвых. Самый известный случай такого путешествия в немецких легендах — погоня Дитриха Бернского за оленем с золотыми рогами. Дитрих вскакивает на неведомо откуда взявшегося черного жеребца и исчезает бесследно. Сторонники инициации редко вспоминали о сказке «Два брата». Герой отправляется в лес, явно ассоциирующийся с иным миром, и встречает там старуху, но ведь процедур никаких нет — сплошное волшебство. И только охоте на оленя при желании можно придать характер посвятительных испытаний, например интронизации, как в романе Кретьена де Труа «Эрек и Энида» [316].
В Средние века перечисленные мотивы частенько соседствовали друг с другом в рамках одного повествования. В немецкой «Легенде о Вольфдитрихе» (XIII в.) заключенная отцом в башню принцесса рожает ребенка от переодетого принца (см. гриммовскую сказку «Рапунцель» и рассуждения Фрэзера и Проппа о царских детях). Новорожденного уносят в лес волки (тотемные предки лесных духов), но затем его находят и возвращают домой. Подросший Вольфдитрих, блуждая в темном лесу, разводит костер, и на огонек выползает косматое чудовище. Скормив юноше волшебный корень, придающий сил, чудовище ныряет в источник молодости и оборачивается прекрасной королевой по имени Сигмина [317]. Влюбившись в нее, старый рыцарь Дразиан (дикий человек) посылает оленя с золотыми рогами. Вольфдитрих, позабыв о жене, бросается за зверем, а старик тем временем похищает Сигмину. Не догнавший оленя муж спешит ей на помощь. Спустя некоторое время Сигмина умирает, а овдовевший Вольфдитрих спохватывается, что еще не воевал с драконом. Покончив с ним и его детенышами, он отрезает им языки, разоблачает на пиру самозванца и женится на императрице Либхарде.
Ведьмы с прутиком мы нигде не находим, но злонамеренные женщины изредка попадаются. В сказке Страпаролы герой по имени Чезарино из Берни с помощью своих зверей убивает дракона, а потом женится на принцессе, устранив самозванца. Его завистливые мать и сестры затачивают кость, смазывают ее ядом и подкладывают в постель острием вверх. Уколовшись, Чезарино умирает, но его оживляют верные звери[318]. Хотя завистниц сжигают на костре, ведьмами их считать нельзя — в типе 303 им соответствует не лесная старуха, а самозванец, который умерщвляет героя, уснувшего после битвы с драконом.
Смертельный укол лишает жизни шестерых братьев в мифе арапахо (Вайоминг, Оклахома). Острое ребро выступает из бока старухи, которой братья поочередно топчут спину. Старуха прибивает трупы к земле и сыплет на них пепел из своей трубки. Умерших воскрешает племянник, которого их сестра родила, проглотив маленький камешек. Его каменное тело не реагирует на укол ребра. Злая старуха сгорает в огне[319]. Она представляет собой дальнюю родственницу лесной ведьмы.
В сказке Базиле отсутствуют звери-спутники (их заменяют охотничьи собаки) и поединок со змеем, а близнецы Каннелоро и Фонцо рождаются у разных матерей — королевы и служанки. Атмосфера тайны, увы, салонным сказкам чужда. Каннелоро становится мужем принцессы, и его тесть подробно рассказывает ему об огре, живущем в королевских лесах и умеющем оборачиваться различными животными. Превратившийся в лань людоед приводит Каннелоро к пещере. Затем в сказке возникает новый мотив: вошедшая в пещеру лань просит сидящего у костра охотника привязать собак. Каннелоро привязывает их, а огр, приняв свой истинный облик, хватает жертву и бросает в яму на съедение. Недоверчивый Фонцо натравливает со бак на лань, и те разрывают ее на куски.
Такова предыстория типа 303. В его немецкоязычных версиях отыщется ряд необычных деталей. У тех же братьев Гримм имелись параллельные варианты, в одном из которых на дереве сидит не старуха, а старый кот. Он просит положить на каждого зверя по три своих волоска. Соприкоснувшись с кошачьими волосками, звери умирают. Для их исцеления используется мертвая и живая вода. Затем они перекочевали в эпизод смерти от руки самозванца.
В гриммовской сказке «Золотые дети» первый брат, погнавшись за оленем, выезжает к лесной избушке и стучится в нее. Тут бы и начаться процедурам — накормила, напоила и т. д. Но вышедшая старуха говорит только, что знает этого оленя, и препирается с юношей из-за наглой собачонки. Рассердившись, она превращает его в камень (прутик не упоминается). Второй брат не приближается к избушке, а выкрикивает угрозы издали. Охрипшая от криков ведьма тычет пальцем в камень и оживляет его. Братья не трогают ее — что взять с бранчливой старухи? В одной из тирольских версий ведьма тоже живет в лесном доме, а в другой она выходит из чащи к огню, лязгая зубами от холода, и дотрагивается до своих жертв палочкой[320].
В западноевропейских вариантах прослеживается тенденция к установлению связи между эпизодом с колдовством и поединком с чудищем. В испанской сказке живущая в заколдованном замке старуха сталкивает первого брата в люк после того, как он отказался жениться на ней. Воссоединившиеся братья обнаруживают рядом с замком пещеру, где лежат тела девушек, принесенных в жертву уже убитому дракону, и оживляют их. В шведской сказке первый брат, спасая принцессу, убивает трех троллей, а четвертого загоняет на дерево. Тролль обещает заплатить выкуп, и, чтобы успокоить своих собак, облаивающих тролля, юноша кладет на них по три волоска из шкуры чудовища. В другой версии тролль, мстящий за своих родичей, оборачивается старухой, влезает на дерево и дает первому брату три соломинки для собак. Когда те умирают, тролль принимает свой настоящий вид и одолевает юношу в поединке. Второй брат кидает соломинки в огонь[321].
Очевидно, многих смущал эпизод с колдовством, который плохо вписывался в основную сюжетную линию. Эпизод этот чисто сказочный — его нет у Страпаролы, но у Базиле он уже появляется, — тогда как все остальные мотивы совмещаются в средневековых легендах. Подтверждением служат аналогичные сказки, посвященные только колдунье или колдуну (их особенно много у славян).
В шотландской сказке «Великан Дреглин Хогин» владелец замка успокаивает животных старшего и среднего братьев тремя волосами из своей шевелюры, а их хозяев оглушает дубиной. Младший брат тайком сжигает волосы великана, а когда тот хватается за дубину, натравливает на него животных. В рассказе о ведьме из Лагтана в лесной домик, где остановился охотник, заглядывает тощая кошка, предлагающая связать лающих на нее собак длинным волосом. Охотник прячет волос, и кошка начинает расти, превращаясь в огромную уродливую старуху. Она готова сожрать охотника, но с трудом уносит ноги от разъяренных псов[322].
Большинство ведьм из сказок типа 303 живут на востоке Европы. Очень популярен этот тип у латышей. В сказке «Как звери сыновьям рыбака помогали» первый брат сразу встречается со старухой, а приключения с драконом и принцессой выпадают на долю второго брата. Начало сказки почти такое же, как в типе 327. Заблудившийся в ночном лесу юноша замечает огонек и, пойдя на него, видит греющуюся у костра ведьму. Погладив зверей, она превращает их в камни. По названию сказки «Ведьмина осина» можно понять, каков ее главный сюжет. В сказку включена совершенно ненужная там принцесса, осведомленная и об осине, и о ведьме с прутиком. В результате грандиозной сюжетной путаницы ведьма попадается в ловушку. Звери трясут осину, а перепуганная старуха раскрывает секрет оживления камней. Ее все-таки спихивают с дерева и разрывают на части[323].
В румынской сказке сидящая на дереве ведьма дает первому брату свои волосы для связывания собак и проглатывает обессилевших зверей вместе с их хозяином. Второй брат сжигает волосы[324]. В албанской сказке первый брат подобно богатырям из типа 327 едет свататься к некоей Красе земли, живущей в доме ведьмы. Ведьма обращает в камень его льва и жеребца, не успевшего дать полезный совет. Наказав ведьму, второй брат расколдовывает брата, и они уезжают, прихватив с собой Красу земли.
Сродством невесты с ведьмой, возможно, объясняется наличие принцессы-всезнайки в подобных сказках. Есть она и в сербской сказке «Три угря». Принцесса рассказывает своему жениху об огненной горе: «Страшная это гора: днем сверкает, а ночью горит. Кто к ней подойдет, немым станет и окаменеет на месте». О ведьме не сказано ни слова, но та уже поджидает юношу на горе. Она сидит у входа во двор, огороженный человеческими костями и наполненный каменными истуканами, держа в одной руке палку, а в другой — пучок травы. С палкой все ясно, а зачем ведьме трава? Оказывается, трава припасена для будущего оживления камней[325].
Ведьма из словацких сказок подвергает героя изощренным издевательствам (внимание, инициация!). Спустившись с дерева, она жарит на огне жабу, приговаривая: «Ты жаришь сало, я жарю лягушку, мне будет сало, а тебе лягушка» — и мажет жабой по губам юноше. Юноша недоволен таким раскладом. Он науськивает на ведьму зверей, а та обороняется прутиком. С прибытием младшего брата ожившие звери рвут ведьму на куски, кругом рассветает, и лес зеленеет (до того он был желтым). Камни превращаются в рыцарей[326].
В другой сказке два старших брата обкрадывают в лесу младшего. Оставшись один, младший находит избушку, и навстречу ему выбегают два говорящих пса. Это его братья, заколдованные Бабой Ягой. Они каются в содеянном и подробно описывают колдовской механизм превращений. Их брату остается только поиграть с Ягой в игру «Кто первым схватит прутик». Побеждает молодость. После удара прутиком Яга обращается в кошку, а юноша кричит: «Отвечай, как братьев от злых чар освободить?!» Каким-то образом кошка умудряется промурлыкать нужный рецепт: трижды коснуться собак толстым концом прута.
Весьма колоритная старуха подползает к костру в польской сказке — скорченная, сморщенная, горбатая и вся льдом покрытая. Ее прутик наделен колоссальной мощью. Старший брат прикоснулся им к одной лишь собаке, но и сам с конем обратился в камень. Средний брат всего-навсего погрозил псу — с тем же эффектом. Почему-то к собаке тянутся все нити. Посрамленная младшим братом ведьма дает ей нюхнуть травки — и оживает вся компания. Устрашенные могуществом старухи братья разрубают ее на мелкие кусочки, скармливают их псам или зарывают в землю (иначе они срастаются обратно).
В Азии сказок типа 303 очень мало, что неудивительно, учитывая европейские корни самого сюжета, а не отдельных его мотивов. Татарская сказка «Золотая птица» повторяет сказку братьев Гримм до малейших подробностей (на дереве сидит Убыр) [327]. Башкирская сказка подобно западноевропейским соединяет родственными узами дракона (дэва) и колдунью с прутиком (мать дэва).
Русские сказки типа 303 были изучены Новиковым, обратившим внимание на маскировку нашей Бабы Яги. Она притворяется бедной и боязливой деревенской бабушкой, невзначай забредшей на огонек. Из этого можно заключить, что на дереве она не сидит — деревенские бабушки по деревьям не лазают. Она пользуется «лясиночкой» (весом в тридцать пудов) или просит связать «охоту» волосами. В единичных случаях Яга мстит за смерть змеев, своих сыновей [328]. Мы уже сказали об истоках такой мести — в немецких и славянских сказках ее почти не бывает.
Об одном случае, впрочем, стоит упомянуть. Вместо старухи двум Иванам мстит сестра трех змеев. Она принимает вид красавицы, а узнав, что первый из Иванов приехал на простом, а не волшебном коне, увеличивается в размерах, как шотландская кошка, превращается в львицу и глотает его. Со вторым Иваном этот номер не проходит — примчался его конь и «облапил львицу богатырскими ногами». Львица выплевывает Ивана-неофита и вновь становится девушкой. Иваны решают, что конских объятий с нее довольно. Милосердие оборачивается против них. Змеиная сестра является им в обличье нищего и, надувшись, съедает безвозвратно [329]. Эти раздувания попали в сказки из средневековых рассказов о призраках ведьм, принимающих вид небольших животных (например, курицы), заманивающих своих жертв и вырастающих до гигантских размеров [330]. Подобными метаморфозами, вероятно, объясняются габариты обитательницы избушки (Яга, Лаума), хотя версию с гробом исключать нельзя.
Итак, старушонка с прутиком как новая ипостась мертвой ведьмы. Она гораздо прочнее связана с другим миром, чем красноглазая старуха. За редким исключением (замок, гора, дом) она проживает в лесу и даже сидит на дереве. От нее зависит состояние самого леса — дремучего, желтого, гиблого. Тем не менее она не людоедка, и мотивы глотания людей в румынскую и русскую сказки, скорей всего, занесены извне. Как мертвеца ее наряду со сжиганием подвергают расчленению (разрыванию зверями).
Колдуя, старушонка может дотрагиваться до жертвы пальцем или ладонью, но основное ее орудие — прутик, древний предшественник палочки лучезарной феи. Палка — это не только средоточие магической силы колдуна, но и средство для удара, несущего смерть [331]. В своем антропоморфном обличье ведьма редко пользуется волосками, в отличие от тролля или великана, лишенных палочки. Магическая сила волос хорошо известна, достаточно назвать библейских назореев, франкских королей династии Меровингов или африканских жрецов. В сказку волосы внесены из-за великанов — волосатых и обросших шерстью, из-за колдовского искусства волшебной повязки (наузы), а также из-за кошачьего облика ведьмы. Кошке нелегко держать в лапе прутик. Иногда волоски сжигаются героем — явный апотропеический жест.
Превращение людей в камни мифологическая школа истолковала как наступление лютых холодов. В Сербии и Болгарии бытуют рассказы о бабе, погнавшей овец или коз в горы прежде срока — в марте.
Март, обидевшись, приударяет морозом с северным ветром, и баба с животными окаменевает [332]. Потебня видел в Яге аллегорию зимы. Старушонка с прутиком мерзнет и бывает покрыта льдом. Бросание старушонки в огонь — свойство теплого весеннего солнышка, растапливающего снег. Светлый юноша и его звери (согревающие лучи) уничтожают зиму, лес зеленеет и… что-то я увлекся. Стоит начать фантазировать, и с фенологией уже не развязаться.
Из огня да в полымя. Из обрядовой печи — в аллегорические штудии. Деталей инициации в типе 303 старый кот наплакал, зато другим школам — раздолье. В понимании фон Франц первый брат живет полноценной жизнью (отправляется в мир, женится) и превращается в камень, «следуя самому закону жизни, Великой Матери, которая становится воплощением закона смерти». Точно так же пациент, пребывающий в кататоническом состоянии, окаменевает под воздействием бессознательных эмоций. Его освобождает второй брат, стоящий в стороне от потока жизни, не вовлеченный в него физически или духовно. Этот новоявленный психоаналитик кладет конец пагубному воздействию Анимы [333].
Умение превращать людей в камни присуще не только лысым колдунам из Орегона, но и персонажам греческой мифологии — Медузе, чей хтонический образ тоже пострадал от фенологических толкований (дух холодной зимы, периодически посещающей север Древней Греции), и Гекате, загадочной фракийской богине, покровительнице колдовства и душ умерших. В «Рассказе первой девушки» (17-я ночь «Тысячи и одной ночи») описывается город, в котором все жители, включая царя и царицу, поклонялись огню и были обращены Аллахом в черный камень. В живых остался юноша, воспитанный в истинной вере одной старухой. Любопытное переосмысление сказочного сюжета!
Похоже, ислам, как и христианство, смягчил черты архаической ведьмы. Но даже в образе феи с палочкой они изредка проглядывают. Например, в сказке из Каринтии, отвечающей типу АТ 410 («Спящая красавица»), красавицу превращает в камень уродливая злая фея (вила) [334].
Животные и травяная колдунья
То ведьма кошкою бросается с дороги…
То ведьма кошкою бросается с дороги…
Ведьма в обличье кошки родилась на свет довольно поздно. Вплоть до XII–XIII вв. кошка в качестве дьявольского создания не фигурирует. Не потому ли братья Гримм отказались от версии со старым котом? Трудно определить причину, по которой кошка стала ассоциироваться с древней старухой. Афанасьев, пренебрегая родословной кошки, связал ее с ведьмой через тучу. Туча — это не только ведьма, но и кошка, чьи глаза светятся во тьме подобно сверкающим молниям. Некоторые историки указывали на звуковое сходство названия кошки в европейских языках с именованием катаров, чьи преследования инквизицией начались в XIII в. В эпоху охоты на ведьм распространились истории о нападении кошек на мужчин — будь то в городе, как в «Молоте ведьм», или в ночном замке, как в трактате Жана Бодена (1530–1596) [335].
Принимает облик кошки и совы «древняя колдунья» из сказки братьев Гримм «Йоринда и Йорин-гель» (АТ 405). Вот ее описание: «Горбатая старуха, желтая и худая; глаза у нее были красные, большие, а нос крючком опускался к самому подбородку». В лесу, растущем вокруг ее замка, она превращает в горлицу (соловья) девушку Йоринду, чей жених Йорингель застывает, словно окаменелый, не в силах ничему помешать. Позднее с помощью волшебного цветка он освобождает свою невесту из клетки. Сказка подверглась литературной обработке и практически не имеет иноязычных аналогов. Мне знакома только одна подобная сказка — сербская «Птица-девица», в которой старуха наделена взглядом, способным обращать в камень [336].

Здесь уместно будет завершить порядком наскучившую мне тему тотема. Леви-Брюль говорил о распространенных в «низших обществах» верованиях, согласно которым «между человеком и животными или, вернее, между определенными группами людей и некоторыми определенными животными существует тесное родство». Получается, высокоумные дикари нас опередили! Мы до этого додумались только в XIX столетии.
Именно поэтому «первобытные» герои так легко меняют свой облик: «Все животные былых времен не были просто животными: они были также и людьми, по своей воле они могли принимать либо человеческий, либо животный облик, облекаясь в шкуру животного или снимая ее» [337]. Во вступлении мы упомянули о таких случаях и о почитании животных в целом. Как следствие, превратившиеся в них люди не теряют ничего ни от своей мощи, ни от своего достоинства, чего не скажешь о животных, сделавшихся людьми [338]. Помните, как окрутили премудрого питона?
У цивилизованных народов все иначе. Нашим дремучим предкам казалось мерзким превращение в зверя. Чтобы завуалировать разницу в психологии дикаря и цивилизованного человека, исследователи сказок отдавали предпочтение не колдовским способам такого превращения, а весьма расплывчатым тотемным пережиткам. В «первобытных» мифах герой превращается в животное по собственному желанию. Мотив же колдовства, характерный для волшебных сказок, возник потом, когда «животная» форма стала восприниматься как унизительная [339].
Пропп знает и об иной трактовке превращения в животных. В них может превращаться «по своему собственному усмотрению» умерший человек, возвращающийся в мир живых. Такие представления существовали в Древнем Египте, есть они и у африканских негров. В Европе по сей день рассказывают о призраках людей, являющихся в животном обличье, например о черных собаках. Если из рассуждений Проппа убрать слова, взятые мною в кавычки, мы вновь придем к мотиву колдовского (потустороннего) вмешательства. Видимо, поэтому Пропп счел нужным оговориться, что «представление это сравнительно позднее» [340]. А ведь оно прекрасно гармонирует со сказочными визитами к ведьме и другим обитателям мира мертвых.
Когда нашим предкам разонравились зверушки, в точности сказать невозможно — этот вывод пусть остается на совести изобретателей доисторических верований. Ни спутники Одиссея, обращенные Цирцеей в свиней, ни бедняга Люций, перепутавший баночки Памфилы и ставший ослом («Золотой осел» Апулея), радостей зооморфного существования не испытывают. Радуются лишь те, кто, согласно Проппу, принимает облик животного по собственной воле. То есть колдуны и оборотни. Та же Памфила обращается в сову — древний хтонический символ, который для кельтов означал «ночную ведьму», а у римлян ассоциировался с приятельницей госпожи Холле — стригой (лат. strix — «ночная птица, сова, привидение или колдунья, занимающаяся порчей детей») [341].
Личность Цирцеи для нас еще интереснее. Во-первых, она владеет волшебным жезлом или тростью, прикосновением которых обращает людей в животных. Во-вторых, Одиссей побеждает ее чары с помощью растения, данного Гермесом. В-третьих, она учит своего гостя вязать «хитрые узлы» (Одиссея, 8: 448). Все эти мотивы прослеживаются в сказках.
Другая подружка сказочных ведьм — змея — чаще всего поминается в связи с бывшей повелительницей диких тварей (сказочных деток). Реальная Хозяйка животных, бесспорно, существовала, но ее крайне сложно отделить от языческих богинь (Артемида, Афрюдита) или пресловутой Богини-Матери. Птицами, рыбами, зверьми может командовать не только Яга, но и какая-нибудь царь-девица или королевна. Неужели и это богини? Между прочим, змея служила Медузе и Гекате, но не потому, что они относятся к числу хозяек, а потому, что змея (василиск) парализует свою жертву взглядом так же, как колдунья — свою.
Перед расставанием с ведьмой нельзя не затронуть сказку Гауфа «Карлик Нос» (1827) и ее самый волнительный эпизод — приход колдуньи на рынок. На мой взгляд, это самое эффектное вторжение мертвеца в мир живых в немецких сказках. Ведьма и выглядит соответствующе — шея тонкая, лицо маленькое и острое, с красными глазами и длинным крючковатым носом, спускающимся к подбородку. Тряся головой, она бредет между рыночными лотками, а торговцы и покупатели испуганно смотрят ей вслед. Но вот она склоняется над корзинами жены сапожника Ганны и ее сына Якоба и роется в них своими коричневыми руками. Вытаскивая пучки травы длинными паучьими пальцами, она подносит их один за другим к своему носу и обнюхивает. Позднее выясняется, что это была злая фея по имени Krauterweiss («Знающая травы»), которая раз в пятьдесят лет приходит в город за покупками. Рассердившись на привередливую старуху, Якоб высмеивает ее нос и шею. Она обещает, что нос у него будет такой же, а шея исчезнет совсем. Представляете, каково мальчику после угроз старухи нести ее корзины с капустой? Но делать нечего — надо помочь бедной женщине. Они добираются до ветхой хижины в отдаленной части города.
В дальнейшем ужас заметно слабеет. Описание жилища ведьмы как будто взято из французских салонных сказок: резные украшения, стеклянный пол, белки и морские свинки в платьях, шляпках и ореховых скорлупках. Не впечатляют даже мертвые головы, которые колдунья извлекает из корзин вместо капусты. Наевшись супа, приправленного ароматной травкой, Якоб засыпает и превращается сначала в белку, а потом в носатого карлика-горбуна. Думая, что спит, он семь лет прислуживает по дому и обучается поварскому искусству. С того момента, как он заснул, ведьма навсегда исчезает из сказки.

По возвращении в город карлик, не узнанный своими родителями, устраивается работать младшим поваром к герцогу. В описании службы у герцога много столь любимой автором социальной сатиры. Однажды Якоб покупает на рынке гусыню Мими, которая оказывается дочерью волшебника Веттербока с острова Готланд, заколдованной старой колдуньей (той самой?). Гусыня помогает карлику найти нужную приправу — травку Niesmitlust («чихай с удовольствием»). Якоб распознает в травке компонент рокового супа и, понюхав, возвращается в прежнее состояние. Свадьбы в сказке нет. Мими расколдовывает ее отец, награждающий юношу деньгами.
Гауф мастерски преобразует знакомые нам мотивы. Мальчик сам несет корзины ведьмы, но это не что иное, как похищение. Испытания сном он не выдерживает. Ведьма его не ест, но превращает в белку и уродца. Он проходит колдовское (поварское) посвящение. Гусыня — одновременно жертва заклятия и животное-помощник. Травка способна и заколдовывать, и расколдовывать. Скорей всего, Гауф описал ее произвольно: «Стебли и листья синевато-зеленые, а цветок маленький, огненно-красный с желтой каемкой». Но были высказаны мнения, что это либо бархатцы, либо вид тимьяна, оказывающий пьянящее воздействие на кошек. А вообще тимьян (чабрец) может защищать от колдовства.
Употребление трав в ведовской практике для превращения людей в животных зафиксировано давно. Еще Вергилий упоминал о таких травах, используемых оборотнями. В русской мифологии ведьма посредством чародейских трав может превратить человека в собаку, кобылу, птицу, волка или же, наоборот, вернуть ему прежний облик [342].
Со сказкой Гауфа чем-то схожа голландская литературная сказка «Угольный человечек» (тип 334).
Мальчик Кай попадает в старый заброшенный дом на окраине города и в одной из его комнат нарывается на старуху в черном платье, с бледным лицом, трясущейся головой и с длинными космами седых волос, торчащих из-под остроконечной шапки. После безуспешных попыток выбраться из дома Кай поступает в услужение к ведьме, обучающей его чародейству. Спасается он с помощью изготовленного из угля человечка — аналога куколки Василисы.

 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ