МАЛИ. ЦАРСТВО СУНДИАТЫ[5]
Малинке — «люди Мали»
Новое государство складывалось в верхнем течении Нигера, где невысокие скалистые холмы Мандингских гор отделяют Нигер от истоков другой большой реки — Сенегала. Уже очень давно жили здесь предки современного народа малинке, одного из самых известных и распространенных в Западной Африке. Как и сонинке, создатели Ганы, они принадлежали к большой семье народов, говорящих на языках манде; поэтому их иногда называют и мандингами. Но в этом имени — малинке — навсегда запечатлелось название государства, слава которого в XIV–XV вв. гремела по всему Средиземноморью: «малинке» означает «люди Мали».
Люди, жившие в междуречье Нигера и Сенегала, издавна занимались земледелием. До сих пор один из самых распространенных мотивов в устном поэтическом творчестве жителей этих мест — расчистка под посев участков леса или саванны. На таком участке растительность сначала вырубали, а потом срубленные растения сжигали. При посеве зола служила удобрением. Такая система земледелия носит название подсечно-огневой. Ее недостаток в том, что она требует частой смены обрабатываемых участков, так как почва под посевами истощается очень быстро. Но свободных земель в саваннах Западного Судана было очень много, так что этот недостаток не причинял земледельцам больших забот.
С незапамятных времен в этих местах сеяли дурру — она и служила основным пищевым злаком, сажали маниоку — травянистое растение с толстым мучнистым корнем, содержащим много крахмала. Довольно широко распространены были и посевы хлопка. Меньшее значение имело скотоводство. Как и повсюду в Западном Судане, здесь существовало разделение труда между жителями земледельческих местностей и скотоводами-кочевниками, разводившими скот дальше к северу, в Сахеле. Кочевники обменивали свой скот на продукты земледельческого труда оседлых людей.
Большое место в жизни древних малинке занимала охота. И сейчас еще видно ее хозяйственное значение: охота служит заметным подспорьем и в современном хозяйстве народов этого района, а к тому же у них сохранилось множество древних легенд, верований и обрядов, связанных с духами охоты. И хотя сюда давно пришел ислам, он так и не смог вытеснить из народного сознания эти древние традиции.
Но все же основой хозяйственной жизни оставалось земледелие. Оно требовало очень больших затрат труда. Ведь до самого недавнего времени народы Западной Африки не знали плуга: вся обработка земли велась мотыгами. И хотя многовековой производственный опыт африканских земледельцев привел к созданию множества особых, очень специализированных видов мотыг, прекрасно приспособленных к самым разнообразным видам земледельческих работ, все же при такой технике обработки земли производительность труда земледельца оставалась очень низкой. В одиночку крестьянин не смог бы справиться и с расчисткой участка, и с рыхлением почвы, и с посевом или посадкой. И поэтому основой хозяйства мандингских народов, т. е. народов, говоривших на языках группы манде, мог быть только коллективный труд.
Первичной ячейкой организации общества у этих народов была большая семья. В нее входили не одни только кровные родственники: отличительной особенностью большой семьи в Западном Судане было то, что в нее включались люди, не связанные с нею узами родства — вольноотпущенники и рабы. Рабы составляли часть общей собственности семьи — такая собственность включала помимо них постройки, орудия труда и скот.
Но не нужно преувеличивать тяжесть положения рабов у малинке, да и у других родственных им народов. Дело в том, что настоящими рабами, такими, которые, по классификации римских юристов, считались бы «говорящим орудием», а не человеческим существом, были только те, которых захватывали для того, чтобы впоследствии продать. Их участь действительно была незавидной. Но значительная часть пленников, особенно в ранний период, когда еще не вполне завершилось сложение у этих народов общества с антагонистическими классами, либо оказывалась посаженной на землю и работала на ту семью, в собственность которой попадала, либо же включалась в состав царского войска.
Очень важная особенность: рабство само по себе не считалось неизменным состоянием. Ребенок раба, рожденный в доме господина, уже пользовался некоторыми привилегиями по сравнению со своими родителями — его, в частности, уже ни при каких условиях нельзя было продать. А в четвертом поколении раб и вовсе переставал быть рабом, превращаясь в «дьонгорон» — вольноотпущенника. И как вольноотпущенник он продолжал считаться членом той большой семьи, к которой принадлежали его предки-рабы.
Хотя вольноотпущенник и не был вполне равноправен со свободными членами семьи, отличие его от низших категорий свободных — а сюда относились все ремесленники, которые образовывали касты, т. е. группы людей, наследственно занятых какой-нибудь одной профессией и могущих заключать браки лишь внутри своих групп, — почти не ощущалось. А уж когда речь шла о вольноотпущенниках царской семьи, их положение почти всегда оказывалось лучше положения рядовых свободных малинке. Из царских «дьонгорон» составлялись отборные части войска, вольноотпущенники, а зачастую и просто рабы правителей ставились наместниками городов и целых областей. И в конечном счете царь стремился к тому, чтобы все важнейшие должности в государстве оказывались заняты его рабами или бывшими рабами: ведь эти люди были связаны только с царем и его семьей, зависели только от них и только им были обязаны своим положением. А это на первое время давало некоторую гарантию, что «дьонгорон» и рабы будут верно служить своему господину.
Не. нужно думать, что внутри большой семьи у мандингских народов не возникало противоречий. Это была патриархальная семья — она называлась «тун», или «тон». Во главе ее стоял самый влиятельный, обычно старейший, мужчина. Ему принадлежала очень большая власть над всеми остальными членами семьи — он распоряжался их трудом, он был их командиром в военных предприятиях, он же был и жрецом местного божества. Власть его, таким образом, имела и светский, и духовный характер. И потому уже на ранних стадиях развития у главы семьи появлялись возможности эксплуатировать труд не только рабов «тун», но и свободных членов семьи — как полностью свободных и полноправных, так и не вполне полноправных: ремесленников и вольноотпущенников.
Среди неполноправных каст, в которые входили все ремесленники (свободный полноправный малинке мог быть только земледельцем или охотником), выделялись своим авторитетом и своей ролью в обществе гриоты. Это была каста певцов-сказителей, которые хранили народные предания, передавая их из поколения в поколение, от отца к сыну. Очень часто гриоты, в особенности царские (ведь каждая семья имела своих гриотов), занимали исключительно высокое положение в государственном аппарате.
Из нескольких больших патриархальных семей складывалась «дугу» — сельская община. Она распоряжалась землей, причем на практике эту функцию осуществлял глара той семьи, которая в данной местности поселилась первой. Внутри общины существовало уже несколько слоев. Выше всех стояли главы отдельных патриархальных семей; они пользовались преимущественным правом занимать высокие должности в войске и в управлении. За ними следовали рядовые свободные общинники; из них, особенно в раннее время, составлялось войско. Ниже стояли ремесленные касты, среди них тоже существовал определенный порядок старшинства: выше всех были кузнецы, дальше шли кожевники, ткачи и остальные ремесленники. Самой «младшей» из неполноправных каст считались гриоты, но и у них была градация: гриот кузнецов, например, оказывался выше гриота ткачей. И наконец, на нижней ступеньке общественной иерархии стояли «дьонгорон» и рабы.
Положение главы «дугу» — он назывался «дугу-тиго» — создавало еще большие возможности для накопления богатств в одних руках, чем положение главы отдельной большой патриархальной семьи. Он распределял земли между отдельными «тун», и все, кто входил в их состав, обязаны были отдавать главе общины часть своего урожая. Точно так же облагался налогом любой доход, полученный во владениях общины с чего бы то ни было — от охоты, рубки леса или добычи полезных ископаемых. Считалось, что налог этот принадлежит всей общине и должен расходоваться на ее нужды по указаниям совета глав отдельных «тун». Первоначально это так и делалось, но уже довольно скоро «дугу-тиго» стал распоряжаться налогом единолично, все меньше обращая внимания на совет.
Более того, глава общины имел возможность по своему усмотрению использовать и труд свободных людей, объединявшихся в так называемые возрастные классы. Эти объединения лиц одного возраста создавались первоначально для взаимной помощи в хозяйстве, в частности для обработки полей будущих или настоящих родственников жены каждого из входивших в такое объединение. Создание возрастных классов относилось к очень давнему времени, они составляли часть системы воспитания молодежи и ее подготовки к исполнению, так сказать, гражданских обязанностей. Но впоследствии труд возрастных классов стали использовать и верховная власть, и местные вожди для выполнения различных тяжелых работ, в особенности ирригационных. И труд этот фактически превращался в разновидность барщины.
Такими путями выделялся сильный в имущественном отношении слой вождей, так складывалась родовая аристократия.
Несколько общин объединялось в союз — этого требовали и интересы военной безопасности, и торговые дела. И в результате военных столкновений, под влиянием караванной торговли, которая способствовала накоплению богатств в руках знати «дугу», какой-нибудь из этих союзов начинал возвышаться. В конечном счете под его властью оказывалась более или менее обширная область, которую населяли не только разные союзы общин, но часто и разные народы.
Считалось, что входящие в союз люди происходят от некоего общего предка. Но союз «дугу», особенно осуществлявший главенство на более или менее значительной территории, включал не одних только кровных родственников; в него входили многочисленные категории зависимых свободных людей, вольноотпущенников и рабов. И все же представление о родственной связи сохранялось, хотя она уже давно была чисто условной. Такой союз носит в науке название «клан» — и так мы его и будем называть дальше.
Возвышение какого-нибудь клана прямо зависело от того, каким количеством рабов он распоряжался. Ведь их можно было использовать и как рабочую силу в земледелии, и как воинов. При этом очень часто разница между свободным общинником и рабом клана не только стиралась, но и обращалась не в пользу свободного. И поэтому нередко многие общинники добровольно становились рабами клана. Французский ученый Шарль Монтей имел все основания писать, что для свободного бедняка счастьем было попасть в число клановых рабов (особенно в более поздние времена, когда понятие «клановый раб» стало равнозначно понятию «царский раб»): с одной стороны, он таким способом избавлялся от произвола и вымогательств этих же самых рабов, занимавших в клане привилегированное положение, а с другой — сам приобретал их права и привилегии.
Опираясь на войско, составленное из рабов, глава правящего клана мог себя чувствовать более или менее независимым от старой родовой знати. К тому же караванная торговля давала в его руки немалые богатства, а они тоже помогали укреплению некоторой независимости правителя. Торговля заметно ускорила процесс сложения классов у малинке и родственных им народов: от нее основные выгоды доставались знати (мы уже видели это — в меньшей, правда, степени — в Гане). В руках главы клана — у малинке он носил титул «манса», т. е. «царь», — и его ближайшего окружения находилась основная масса товаров, которые больше всего интересовали купцов с другого «берега» Сахары, — золота и рабов. Эта же верхушка клана покупала и дорогие товары, которые везли в Судан из Северной Африки, — ткани, утварь, оружие, украшения. А рядовые общинники, не говоря уж о рабах, мало чем могли воспользоваться из египетских или североафриканских товаров. Их из статей «большой торговли» интересовала по существу одна только соль.
Так у малинке складывалось классовое общество. С одной стороны, была аристократия клана — родовая и новая, сложившаяся из царских и клановых рабов. С другой — рядовые общинники, ремесленники и посаженные на землю рабы, из которых постепенно образовывался единый общественный класс — зависимое крестьянство.
А вслед за классовым обществом появлялись и первые государства. Сейчас нельзя точно сказать, когда они сложились на Верхнем Нигере. Письменных сообщений о раннем Мали нет, а исторические предания народов Западного Судана не могут нам дать представления о времени: для гриота, сказителя, передававшего такие предания, разница в несколько сот лет не имела никакого значения. Только очень приблизительно можно установить, что первые княжества существовали здесь уже к IX в., если не раньше. Именно во второй половине IX в. арабский историк и географ ал-Якуби впервые упомянул «царство Маллил», одно среди многих царств Западной Африки. Сам он никогда не выезжал южнее Верхнего Египта. И сообщение его отразило многолетний опыт египетских купцов, участников никогда не прекращавшейся древней торговли через пустыню.
Это Мали, самое раннее, состояло из двух областей. Одна из них лежала в верхнем течении реки Бакой, а другая — между нынешним городом Сигири и селением Каба, в северо-восточной части современной Гвинейской Республики. Первая называлась «До», вторая носила название «Кири». И слова «До ни Кири» — «До и Кири» — и поныне обозначают в малийских исторических преданиях древнейшее государство Мали.
Область До знали уже те, на чьих сведениях основывал ал-Бекри свою «Книгу путей и государств»: он называл До «большим царством» и даже отметил его протяженность: восемь дней пути. Ал-Идрис и в XII в. тоже упомянул Мали — он описал столицу его и указал расстояние между нею и городом «Великая Гана». Это расстояние, по словам ал-Идриси, составляло двенадцать дневных переходов.
Сундиата, сын Соголон
Когда во второй половине XI в. нашествие Альморавидов подорвало могущество Ганы и бывшие вассалы ее стали понемногу освобождаться от зависимости, между ними сразу же вспыхнула упорная борьба за первенство. Победитель в этой борьбе определился далеко не сразу, и Мали пришлось еще раз испытать на себе все тяготы, которые мог возложить на своих вассалов могущественный сюзерен. На сей раз им оказался Сумаоро Канте, царь государства Сосо — тот самый, что нанес Гане окончательный удар.
Сосо занимало оба берега Нигера в районе нынешней столицы Республики Мали — Бамако, а столицей Сумаоро была Кань-яга. Народ сусу, также один из народов группы манде, сейчас живет в Гвинейской Республике, в прибрежных ее областях; между прочим, столица Гвинеи — Конакри — стоит как раз в местности, населенной преимущественно сусу. Но пока наука не располагает данными, которые бы позволили отождествить современных сусу с народом, управляемым Сумаоро Канте. Скорее всего подданные царя Сосо были только одним из народов, которые после многих веков развития образовали в конце концов нынешний народ сусу.
Из нескольких кланов малинке, оспаривавших друг у друга верховную власть в древнем Мали, в конце XII — начале XIII в. выделился клан Кейта, занявший в течение второй половины XII в. господствующее положение. На долю правителей из клана Кейта, особенно же Сундиаты, национального героя народа малинке, а отчасти и родственного малинке народа бамбара, выпала трудная задача: освободиться от власти царей Сосо и создать крупное и могущественное малийское государство.
Мало кто из исторических деятелей средневековья, и западного и восточного, окружен таким количеством легенд, как Сундиата. Первоначальный вариант рассказа о подвигах великого воина и правителя оброс множеством подробностей; очень немногие из них могли появиться при жизни героя или даже хотя бы при жизни его ближайших преемников. Содержание рассказа при передаче из поколения в поколение профессиональными сказителями-гриотами неизбежно, хотя и очень медленно, изменялось, теряя одни детали и приобретая другие. Со временем сложилось несколько вариантов сказания о Сундиате, и варианты эти порой очень отличаются друг от друга.

И тем не менее Сундиата Кейта — лицо несомненно историческое, реально существовавшее и действовавшее. И когда удается очистить легенду от позднейших напластований, когда исчезают из нее пусть интересные и живописные, но, увы, совершенно сказочные подробности, в особенности подробности, связанные с разного рода магическими верованиями и обрядами, — тогда остается очень реальная фактическая основа: рассказ о подлинных исторических событиях, волновавших Западный Судан в начале XIII в.
Европейские и африканские исследователи приложили много сил и трудов, чтобы как можно полнее записать разные варианты сказания о Сундиате. Лучше всего это удалось гвинейскому ученому Нианю: в 1960 г. он смог опубликовать перевод полной записи сказания, сделанной в селении Каба, где издавна селились гриоты клана Кейта.
Сундиата, рассказывает легенда, был сыном Фа Мцгана Кейта, правителя Мали. После смерти отца совет старейшин клана отстранил Сундиату от наследования престола и мансой стал сын Фа Магана от другой жены — Данкаран Туман Кейта. От рождения Сундиата был парализован и не мог ходить. Только в 17 лет он впервые встал на ноги, когда понадобилось защитить мать от насмешек соседок (по другому варианту, Сундиата смог подняться, как только прикоснулся к царскому жезлу своего отца). После этого он вместе со своим любимым братом Манде Бори занимался охотой, нимало не заботясь о судьбах государства. Легенда наделила Сундиату сверхъестественными способностями к охоте: он будто бы унаследовал их от матери, существа совершенно легендарного — полуженщины-полубуйвола. Здесь нашли свое отражение широко распространенные у малинке и родственных им народов представления об охотничьих божествах: Сундиату считают посвященным в их таинства.
Однако Данкаран Туман и его мать боялись Сундиаты и замыслили от него избавиться. Сундиате пришлось бежать из Мали вместе с матерью — Соголон, братом и сестрой. После долгих скитаний он добрался до государства Мема — на левом берегу Нигера, к западу от Томбукту, встретил там дружественный прием и занял высокое положение при дворе правителя — Мусы Тун-кара.
Тем временем Данкаран Туман после неудачной попытки оказать вооруженное сопротивление Сумаоро Канте, царю Сосо, бежал из Мали. Страна оказалась во власти Сумаоро, и Сундиате предстояла тяжелая борьба за восстановление независимости своего государства.
Легенда изображает Сумаоро великим волшебником, обладателем многочисленных талисманов. Его не могло поразить простое оружие. Лишь хитростью удалось сестре Сундиаты, выданной за Сумаоро замуж, выведать у мужа его тайну: убить Сумаоро можно было только стрелой с наконечником из шпоры белого петуха.
Сундиата начал собирать силы для войны. Ему помогли войсками правители Мемы и Ганы, постепенно к нему присоединились, гласит предание, двенадцать вождей, в том числе вожди сильнейших кланов малинке — Траоре, Дабо, Сисоко. Когда войско было наконец собрано, Сундиату избрали царем — мансой. После этого он выступил в поход и принялся подчинять себе прежние владения Мали, отпавшие от него после разгрома Данкаран Тумана войсками Сосо.
Сумаоро, сначала не обращавший на Сундиату никакого внимания, теперь двинулся с войском ему навстречу. Противники несколько раз встретились, но никому не удавалось одержать решающей победы. Наконец оба войска сошлись около селения Крина, недалеко от нынешнего города Куликоро. Исход боя долго оставался сомнительным. Но в конце концов Сундиата смог поразить Сумаоро стрелой с наконечником из шпоры белого петуха, и царь Сосо обратился в бегство. Спасаясь ют преследовавшего его Сундиаты, Сумаоро скрылся в пещере и исчез. И сейчас еще около города Куликоро показывают огромную скалистую гору, одиноко стоящую посреди равнины, а в этой горе — пещеру, где, по преданию, скрылся Сумаоро.
Воины царя Сосо рассеялись, частью они были перебиты, а частью взяты в плен — после окончательной победы Сундиаты им суждено было стать рабами. Сосо перестало существовать.
Победой при Крине Сундиата заложил основы последующего могущества Мали. Но в 1235 г., когда битва произошла, Мали занимало все еще сравнительно небольшую территорию на Верхнем Нигере. После Крины Сундиата начал быстро и неуклонно расширять свои владения. Егб ближайшими помощниками были талантливые полководцы. Предание сохранило нам имена самых выдающихся из их числа — Манде Бори (брата Сундиаты), Тирамахана Кейта и Факоли Курумы. Они предводительствовали войсками, которые еще при жизни Сундиаты подчинили его власти не только земли по обоим берегам Нигера в его верховьях, но и такие области, как плато Фута-Джаллон в нынешней Гвинее, плато Фута-Торо в Сенегале, и многие другие. Малийские воины покорили Бамбук — одну из главных областей добычи золота в Западной Африке, лежащую между притоками Сенегала — Бафином и Фалеме. Другие отряды упорно продвигались вниз по течению Нигера.
Если взглянуть на карту, станет понятно, почему именно эти два направления сделались основными в завоевательной политике Сундиаты и его преемников. Наступая на юг и юго-запад от раннего центра государства, мандингские государи подчиняли своей власти главные области золотодобычи. А движение на север и на северо-восток позволяло овладеть важнейшими центрами большой караванной торговли с Северной Африкой и Египтом — торговыми городами Томбукту и Гао, а в более позднее время — и Дженне. Если бы удалось добиться успеха на обоих направлениях, во власти правителей Мали оказалась бы вся южная половина транссахарской торговли — от золотых россыпей до сухопутных «портов» на южной окраине Сахары. Правители из клана Кейта не были новичками в этой торговле и хорошо понимали, какие огромные выгоды она может принести.
На вновь завоеванных землях обычно не происходило серьезных изменений в жизни населения. Признав верховную власть Мали, оно платило дань, но во внутреннюю его жизнь мандинги не вмешивались. Наместниками таких земель становились те военачальники, которые командовали покорившими их отрядами. Они собирали дань, часть ее отправляли маисе в столицу государства, а остальное становилось их собственностью — из этой второй части оплачивалось содержание воинов и личные нужды наместника и его семейства. Вероятнее всего, зависимость наместников от центральной власти и ограничивалась отсылкой маисе дани да предоставлением в его распоряжение воинских сил.
Но даже такая форма зависимости очень скоро показалась чрезмерной самым могущественным из наместников. Всего спустя год после Крины, говорит легенда, Сундиате пришлось отобрать владения у одного из самых близких своих соратников — Факоли Курумы. Племянник Сумаоро Курума, перешедший на сторону Сундиаты и оказавший ему очень важные услуги во время войны с Сосо, повел себя настолько независимо, что практически не приходилось говорить о признании им верховной власти мансы. Этот эпизод предвещал многие тяжелые потрясения в последующей истории Мали. Но в середине XIII в. он пока оставался только эпизодом — слишком силен был Сундиата, слишком велик был авторитет победителя Сумаоро.
Деятельность Сундиаты не ограничилась завоеваниями. Много внимания он уделял развитию сельского хозяйства, основы экономики своего государства. Сказание приписывает ему создание множества земледельческих поселков на вновь завоеванных территориях. Земли раздавались воинам для обработки. Часто вместо малийских воинов на таких землях селили пленников, обращенных в рабство; но этот способ расширения площади обработанных земель особенное распространение получил позднее, когда в середине XV в. Мали сменила сонгайская держава.
Сундиата перенес и столицу государства. До него столицей Мали было селение Дьелиба на правом берегу Нигера, там, где в него впадает река Санкарани. Но в середине XIII в., в последние годы правления Сундиаты, на Санкарани выше Дьелибы был основан новый город — Ниани. Этот город оставался столицей во все время существования великого малийского государства. Только три столетия спустя, в 1545 г., аския Дауд, правитель Сонгай, взял Ниани. После этого центром Мали довольно скоро стало селение Каба, у слияния Нигера и Санкарани.
«Муса Мали — государь негров Гвинеи»
В 1250 г. Сундиата умер. Впрочем, по другим вариантам легенды, он погиб на охоте от случайной стрелы, и произошло это будто бы в 1255 г. Как бы то ни было, своему сыну и преемнику, которого великий арабский историк Ибн Халдун называл «маиса Уле», а легенда — «йерелинкон», он оставил сильное и процветающее государство с мощной армией и налаженной торговлей с Северной Африкой.
При маисе Уле завоевания продолжались. Их размах был настолько велик, что в правление этого государя были созданы три новых крупных наместничества. Как сообщает Ибн Халдун, Уле совершил паломничество — «хадж» — в Мекку. Отсюда видно, что новый государь Мали был уже мусульманином, тогда как Сундиата в исторических сказаниях народа малинке почти никогда и никак не связывался с исламом.
В 1270 г. мансу Уле сменил на престоле другой сын Сундиаты — маиса Уати. Но уже через пять лет он был свергнут своим братом Халифой. Однако Халифе суждено было продержаться шу власти еще меньше: через несколько месяцев командиры гвардии, составленной из рабов клана Кейта, сместили его и убили. Так выступила на сцену новая политическая сила — рабская гвардия и ее начальники. Этой силе предстояло сыграть важнейшую роль во всей последующей истории Мали. В конечном счете она совершенно оттеснила от власти старую родоплеменную аристократию, причем произошло это очень быстро. Между первым вмешательством гвардии в политику и захватом верховной власти в государстве одним из ее руководителей прошло всего десять, лет: в 1275 г. рабы решили судьбу мансы Халифы, а уже в 1285 г., после смерти мансы Манде Бори, брата Сундиаты, царем провозглашен был некий Сакура — «клиент», или вольноотпущенник, клана Кейта.
При этом правителе завершился территориальный рост Мали. Сакура окончательно подчинил себе главный центр караванной торговли с Египтом — Гао. Этот город был столицей полунезависимого княжества, население которого составлял народ сонгаев, и сейчас живущий по обоим берегам Нигера вдоль всей средней дельты его и ниже по течению. Сонгай были покорены уже в правление мансы Уле. Однако во время смут, которыми сопровождалось свержение Халифы в 1275 г., двум сонгайским царевичам — Али Колену и его брату Слиман Нару — удалось бежать из Ниани, где они содержались заложниками при малийском дворе. Они восстановили независимость Гао, но продлилась эта независимость недолго. Уже через пятнадцать лет войско Сакуры вновь подчинило правителям Мали и город Гао, и прилегавшие к нему сонгайские земли — на сей раз на полтораста лет, до конца XIV в.
В правление Сакуры очень вырос и укрепился международный авторитет молодого государства. Ибн Халдун рассказывал, что как раз в это время в Мали стало прибывать множество купцов из Магриба и Ифрикии, т. е. из Северной Африки. Это свидетельствовало об успехе внешней политики малийских царей в главном — стремлении взять в свои руки главные торговые пути и города Западной Африки.
Сакура погиб в 1300 г., возвращаясь из хаджа в Мекку. К этому времени владения Мали простирались от Гао до побережья Атлантического океана, от Уалаты до тропических лесов, прилегающих к Гвинейскому заливу. Бывший вольноотпущенник оказался крупным и талантливым государственным деятелем и полководцем, его царствование подготовило ту славу Мали, которая широко распространилась после поездки в Египет мансы Мусы I, одного из ближайших преемников Сакуры.
Муса вступил на престол в 1312 г. Он был внучатым племянником Сундиаты, внуком его брата Манде Бори. Манса Муса, или Канку Муса, как его называли по имени матери, получил наибольшую известность из всех государей клана Кейта, если не считать Сундиату. Впрочем, между славой этих двух царей существует довольно интересное различие: хотя оба они считаются национальными героями малинке и некоторых родственных народов, все же мусульмане особенно выделяют Мусу, тогда как немусульмане предпочитают Сундиату.
Именно Мусе посвящены наиболее подробные рассказы арабских авторов, именно его изображения помещены на самых ранних европейских картах Западной Африки. Между тем славой своей Муса I обязан был вовсе не военной или административной деятельности, а главным образом пышности, которой был обставлен его хадж в 1324 г. и которая произвела в Египте совершенно ошеломляющее впечатление.
К этому времени трудами таких предшественников Мусы I, как Сундиата, Уле и Сакура, Мали достигло апогея своего могущества. И следует отдать мансе Мусе должное: он с большим достоинством представлял свое государство в сношениях с другими правителями, в частности с султанами Египта. В тогдашних исторических условиях самый хадж царя превращался в важнейшую внешнеполитическую акцию — он демонстрировал устойчивость и могущество государства. С этой задачей Муса справился превосходно, проявив незаурядные дипломатические способности.
Он выступил из Ниани во главе огромной свиты: кроме восьми тысяч воинов его сопровождало от восьми до девяти тысяч рабов. Манса вез с собой сто вьюков золота весом по три кинтара[6] каждый. Помимо того что пышность свиты должна была поддержать авторитет Мали в далеких странах, численность ее определяли и другие мотивы — более близкие и практические. Маршрут мансы проходил через восточную часть малийских владений, в частности через Гао. Сонгайские вассалы никогда не внушали государям из клана Кейта особого доверия, и такая демонстрация военной силы должна была лишний раз воззвать к их благоразумию. Да и путь на север через пустыню был далеко не безопасен: кочевники фактически ничьей власти не признавали, и маисе, рассказывает арабский историк ал-Омари, младший современник этих событий, приходилось раздавать немалые суммы тем племенам, через земли которых ему пришлось проходить во время движения по Сахаре.
Ибн Фадлаллаху ал-Омари, крупному египетскому чиновнику, бывшему одно время начальником финансового ведомства в Сирии, мы обязаны подробным описанием пребывания мансы Мусы в Каире. Но ал-Омари не ограничился этим. От людей, проживших в Мали долгое время и хорошо знавших это государство, от тех, кому по должности пришлось часто встречаться и беседовать с мансой в Египте, он узнал множество сведений о Мали. Его сухой и бесстрастный рассказ содержит массу интересных подробностей, освещающих самые разные, иногда очень неожиданные, стороны жизни средневекового Мали. Здесь есть и перечисление главных земледельческих культур, и политическая характеристика страны, и описание церемониала приемов при дворе мансы, и конечно же многочисленные детали золотой торговли и добычи драгоценного металла, вплоть до сообщения о золотоносных растениях.
Именно с добычи золота начал свой рассказ первый из тех, к кому обращался ал-Омари за сведениями, — мусульманский богослов шейх Абу Сайд Осман ад-Дуккали. И рассказ этот вполне заслуживает того, чтобы его привести здесь полностью — настолько хорошо в нем отразилась своеобразная обстановка, веками существовавшая на границах золотоносных областей Западной Африки в средние века. «Султан этого царства, — рассказывал шейх, — имеет в своем подчинении страну пустынь самородного золота. Жители ее — дикие язычники, и если бы султан пожелал, то он бы их покорил. Однако правители этого царства узнали по опыту, что, когда кто-нибудь из них завоевывает один из золотых городов, утверждает там ислам и велит огласить там призыв к молитве, сбор золота падает и сходит на нет, в то же время возрастая и увеличиваясь в соседних языческих областях. Когда опыт подтвердил это наблюдение, они оставили страну золота во власти ее обитателей-язычников и удовольствовались тем, что обеспечили себе их повиновение и получение дани, которую они наложили на тех».
Такая система отношений сохранялась на всем протяжении средневековой истории Западного Судана. Ни одно из великих государств этого времени не имело своих наместников в золотоносных районах на границе с тропическим лесом. Каждый год после окончания дождей из важных торговых городов и из столицы государства отправлялись на юг и юго-запад большие караваны. Сотни рабов несли на головах драгоценный груз — сахарскую соль. Когда такой караван достигал местности, где добывалось золото, соль обменивали на металл, и караван отправлялся в обратный путь. Купцы, хозяева такого каравана, выполняли во время этих торговых экспедиций роль царских сборщиков дани. Ведь все полученное золото они были обязаны сдавать мансе: в Мали порядки были строже, чем в Гане, — даже золотая пыль считалась монопольной собственностью государя.
Этот порядок вполне устраивал обе стороны. В самом деле, мирные торговые караваны были куда приятнее военных экспедиций, а купцы гораздо лучше справлялись со сбором дани, чем это бы смогли сделать наместники-генералы. Не случайно Муса рассказывал своим каирским собеседникам, что на западной и юго-западной границах его державы царит вечный мир.
Но так было не везде. Сам же манса Муса говорил одному из принимавших его сановников египетского султана, что у малийцев был злейший враг: народ, который для них то же, что татары для египтян. Сомнительно, чтобы малийский государь слышал что-нибудь о татарах; скорее всего сравнение принадлежало самому собеседнику мансы — эмиру Ибн Амир Хаджибу. Ведь за несколько десятков лет до хаджа Мусы египетским султанам пришлось столкнуться в Сирии с полчищами монголо-татарских завоевателей. Египтяне, правда, сумели отразить их натиск, но самое название татар надолго закрепилось в памяти современников столкновения и их сыновей как обозначение опасного и сильного врага, постоянной угрозы египетским владениям в Азии: ведь столкновения между войсками каирских султанов и монгольских ильханов, властителей Ирана и Месопотамии, продолжались многие годы. А манса Муса имел в виду, вероятно, воинственный народ моей, который и ныне живет в Западной Африке в республике Буркина-Фасо. В средние века моей не раз совершали успешные набеги на владения Мали и Сонгай, и нам еще не раз придется с ними встретиться.
Канку Муса держал себя в Каире как правитель могущественного, ни от кого не зависящего и никому ничем не обязанного государства. Он старался это подчеркнуть на каждом шагу. Арабский ученый XV в. Таки ад-дин Ахмед ал-Макризи в одном из своих исторических сочинений рассказал, как мансе было предложено поцеловать землю при представлении его египетскому султану ал-Малику ан-Насиру. Это было обязательное требование церемониала во время приемов при дворе мамлюкских султанов. Но малийский государь наотрез отказался выполнить это требование протокола. «Я мусульманин-маликит (один из четырех толков суннитского ислама. — Авт.), — гордо ответил он, — и падаю ниц только перед Аллахом!» Придворным чинам ал-Малика ан Насира пришлось уступить.
На каждом шагу подчеркивал манса и свое мусульманское благочестие: ведь этим он тоже утверждал свое равенство с любым другим властителем мусульманского мира. Ал-Омари рассказывал даже, будто манса Муса поднес султану трактат о приличиях, написанный по-арабски специально для этого случая по его, Мусы, повелению.
Этой же цели служила и баснословная щедрость, с которой манса тратил привезенное с собой золото. Все, с кем пришлось беседовать ал-Омари, наперебой восхищались широтой натуры малийского высокого гостя. Манса не торгуясь платил любую цену, которую с него запрашивали. Он раздавал огромные суммы просто как милостыню: ведь раздача милостыни бедным — это одна из основных обязанностей благочестивого мусульманина, Немало золота оставил Муса и в Мекке, пожертвовав его на «дела веры». В итоге нескольких месяцев пребывания малийского царского каравана в Каире курс золота в городе резко упал — так много драгоценного металла выбросил на рынок манса Канку Муса, сын мансы Бубакара. Так укреплял он репутацию своей державы.
Надо сказать, что каирские купцы и ростовщики неплохо нажились на мандингском государе и его придворных. Используя доверчивость гостей, их незнаие многих товаров, они сплошь и рядом продавали им втридорога самые ходовые и дешевые вещи. И как ни велики были запасы, привезенные мансой, но и их в конце концов не хватило: на обратном пути из Мекки Мусе пришлось взять у каирских купцов много золота взаймы, притом под огромные проценты. Все тот же Ибн Амир Хаджиб рассказывал, что многие из купцов получили за триста динаров ссуды до семисот динаров чистой прибыли. А ведь уже при отправлении в хадж пришлось обложить особой данью все население государства, так как царская казна не могла обеспечить мансу достаточным количеством золота, для того чтобы достойно представлять Мали за его рубежами. Что и говорить, поддержание международного престижа государства всегда обходилось дорого…
Впрочем, Муса мог рассчитывать не только на уже накопленные сокровища. Беседуя с сановниками каирского двора, он рассказал им историю, которая хоть и не была, мягко говоря, чистой правдой, но все же показывала, на какие экономические возможности могли опираться правители Мали в пору расцвета своей державы. Мусу спросили, как он пришел к власти. И он ответил на этот вопрос так: «Мы происходим из дома, где власть передается по наследству. Мой предшественник не хотел поверить, что невозможно достигнуть конца Окружающего моря[7]. Он желал его достичь и упорствовал в своем намерении. Он велел снарядить двести судов, полных людьми, и другие, в таком же количестве, — наполненные золотом, водой и съестными припасами, которых бы хватило на годы. Тем, кто командовал судами, он повелел: «Возвращайтесь лишь тогда, когда израсходуете продовольствие и воду!». Они отправились, прошло долгое время, но ни один из них не возвращался. Наконец один корабль появился, и мы расспросили капитана о их приключениях. «Царь, — ответил он, — мы плыли долго, пока не встретили в открытом море как бы реку с сильным течением. Мой корабль шел последним. Другие продвигались вперед, но как только какой-нибудь из них достигал этого места, он исчезал и больше не появлялся. Мы не знали, что с ними случилось, и я возвратился обратно — я в это течение не входил вовсе…» Но правитель ему не поверил. Он снарядил две тысячи судов: тысячу — для себя и для людей, что его сопровождали, и тысячу — для воды и съестных припасов. Он передал мне власть и отправился в море со своими товарищами. То был последний раз, что мы видели его и остальных. И я остался неограниченным государем…»
В этом рассказе — на его основании некоторые ученые пытались доказывать, что подданные средневекового Мали будто бы открыли Америку за триста лет до Колумба, — поражает число «две тысячи». Чтобы построить такое количество судов, нужен был сравнительно высокий уровень развития судостроительного ремесла на берегах Нигера и на океанском побережье. Ведь позднейшие европейские мореплаватели — такие, например, как венецианец на португальской службе Альвизе да Мосто, возглавлявший морскую экспедицию к побережью Западной Африки в 1455–1457 гг., — рассказывали о пирогах, не уступавших по длине португальским каравеллам и вмещавших до 30 человек. Правда, к тому времени на побережье, у устья реки Казаманс, где видел такие суда венецианец, давно уже не признавали власти царей Мали. Но в начале XIV в. здешние правители беспрекословно подчинялись повелениям мансы и аккуратно выплачивали ему дань. И при всей неправдоподобности рассказа мансы Мусы — а он наверняка преувеличил число судов второй экспедиции раз в десять — нужно согласиться, что и двести больших пирог были бы неплохим доказательством экономической мощи Мали.
В правление Мусы I оживленные и дружественные отношения поддерживались не только с Египтом. Ибн Халдун подробно рассказал о том, как Муса обменивался посольствами с Абул-Хасаном — султаном Марокко из династии Меринидов. Когда 1 мая 1337 г. Абул-Хасан одержал победу возле города Тлемсена, у нынешней алжиро-марокканской границы, манса направил ему свои сердечные поздравления. Нет сомнения, что в Ниани постоянно и внимательно следили за событиями, происходившими на другой стороне пустыни.
Да и в самой Сахаре кочевникам приходилось действовать с оглядкой на силу малийских гарнизонов в пограничных пунктах. Племена, кочевавшие вдоль северной границы державы Кейта, вынуждены были признать верховную власть мансы. Ход истории изменчив: в число этих новых вассалов мандингских царей входили как раз потомки тех грозных племен, которые двумя с половиной веками раньше сокрушили могущество Ганы. Авторитет правителей Мали был настолько высок, что к мансе Мусе I обратился за помощью один из многочисленных мелких вождей, что непрестанно дрались между собой на северных окраинах Сахары. Этот авантюрист почтительно просил мансу дать ему отряд малийских воинов для сведения счетов со своими противниками.
Если царствование Канку Мусы и не богато было громкими военными победами и завоевательными походами, то, пожалуй, никто из малийских правителей не сделал больше его для укрепления международного авторитета государства. Упорно и последовательно развивал он дружественные отношения с соседями, добившись блестящих успехов. «Он оставил после себя, — говорит современный английский исследователь, — империю, примечательную в истории чисто африканских государств своим богатством и протяженностью, равно как и впечатляющим примером способности африканца к политической организации».
Свидетельством полного успеха внешней политики Мусы 1 стали и те сведения о средневековой великой державе Кейта, которые очень ярко и недвусмысленно отразились в трудах европейских картографов того времени. Сведения эти распространились очень быстро — конечно, по тогдашним понятиям.
Муса совершил свой знаменитый хадж в 1324 г. Спустя 13 лет этот хадж описал по рассказам очевидцев и по документам правительственных канцелярий Каира Ибн Фадлаллах ал-Омари. А еще через два года, в 1339 г., на карте мира, составителем которой был житель острова Майорки на Средиземном море Анжелино Дульсерт, в середине Сахары был изображен «Rex Melli» — «Король Мелли», облаченный в царские одежды и корону, со скипетром в руке. Дульсерт не ограничился показом местоположения Мали, как оно ему представлялось, но и обозначил путь, ведший в Мали: на его карте Атласские горы рассекает «долина Сус, ведущая к королю черных».
Понятно, что своими представлениями о географии Западного Судана картографы обязаны были главным образом купцам. Это, естественно, отразилось и в их трудах. Через 28 лет после Дульсерта венецианец Пиццигани нашел нужным пометить на своей карте возле той же дороги, что по ней «проходят товары, идущие от короля Мали».
И наконец, в 1375 г. другой житель Майорки — Авраам Крескес, старший в знаменитой семье картографов, — изобразил в центре великой пустыни правителя Мали с золотым самородком в руке; ниже его был показан «город Мали». А около фигуры правителя Крескес дал следующее пояснение: «Этого государя зовут Мусой Мали, государем негров Гвинеи. Золото, находимое в его землях, столь обильно, что он — богатейший и самый знатный король во всей стране». Пожалуй, более убедительного доказательства того, что цель всей внешнеполитической деятельности Мусы Кейта — Канку Мусы, мансы Мусы I — была блестяще достигнута, быть не может.
Рассказывает Ибн Баттута
После смерти Мусы в 1337 г. на престол вступил его сын Маган. Царствование его было коротким — всего четыре года, и славы Мали оно не прибавило. Скорее даже наоборот: сразу же после смерти мансы Мусы, в том же самом 1337 г., войско моей, предводительствуемое вождем Насеге, выбило малийский гарнизон из Томбукту, разграбило город и сожгло его. Правда, моей и не помышляли о том, чтобы закрепиться в Томбукту; сразу же после своего неожиданного и блестящего успеха они ушли. И все же этот набег был уж очень неприятным симптомом начинавшегося ослабления державы Кейта.
Впрочем, когда в 1341 г. Магана сменил последний из крупных правителей средневекового Мали — Сулейман, ему удалось на время задержать этот опасный процесс. Но даже самое восшествие Сулеймана на престол произошло при условиях, которые свидетельствовали о неблагополучии внутри правящего клана.
Сулейман был братом Мусы, и к власти он пришел в обход сыновей своего племянника Магана. По всей видимости, не обошлось без применения силы: нараставшее могущество рабской гвардии обеспечивало ей последнее слово в вопросах престолонаследия. И тот, кому удавалось привлечь на свою сторону «начальников рабов», мог рассчитывать на успех своих честолюбивых замыслов, даже не имея, казалось бы, прав на малийский престол. После смерти мансы Сулеймана в этом пришлось убедиться на собственном опыте его сыну и преемнику, продержавшемуся на престоле всего девять месяцев, а затем свергнутому сыном Магана I при поддержке гвардии и ее командиров.
Но первое время после прихода к власти Сулейман сумел восстановить спокойствие в стране. Манса отстроил разрушенный Томбукту и смог установить мирные отношения с южным, самым опасным соседом. Во всяком случае в его правление моей на малийские владения не нападали. Так царствование Сулеймана оказалось последним этапом расцвета Мали; после него наступил стремительный упадок.
В 1352 г. меринидский султан Марокко Абу Иная, сын султана Абул — Хасана, с которым обменивался посольствами манса Муса I, послал в Мали с официальным дипломатическим поручением одного из самых интересных людей восточного средневековья — знаменитого путешественника Мухаммеда ибн Аб-даллаха ал-Лавати ат-Танджи, больше известного под именем Ибн Баттута. Этот человек уже успел к тому времени объездить всю восточную половину тогдашнего мусульманского мира, но оставался, несмотря на немолодые уже годы, в душе молодым и любознательным, живо воспринимая все новое. Ибн Баттута преодолел с караваном Сахару, проехал до Ниани и прожил в столице Сулеймана несколько месяцев. Записки Ибн Баттуты, продиктованные им на склоне лет, — не только ценнейший источник для исследователя, но и очень занятный человеческий документ. И притом единственный в своем роде: ни один человек, кроме Ибн Баттуты, не оставил нам свидетельств очевидца о Мали начала 50-х годов XIV в.
Выехав из Сиджилмасы, Ибн Баттута направился с караваном в Тегаззу. В этом захудалом поселке внимание его привлекли соляные разработки. Он так описал соляную торговлю, которой жила Тегазза, ради которой она, собственно, и существовала: «Черные приезжают из своей страны и увозят из Тегаззы соль. Соль из Тегаззы продается в Уалате по цене от 8 до 10 мискалей за вьюк, а в городе Мали[8] — от 20 до 30 мискалей, часто же доходит и до 40. Соль служит черным средством обмена, как служат средствами обмена золото и серебро. Черные режут соль на куски и торгуют ею. И, несмотря на ничтожность селения Тегазза, в нем продают и покупают много кинтаров золотого песка». Наблюдательный Ибн Баттута верно определил главную особенность совершавшегося на его глазах обмена: для африканцев золото не было деньгами. Это был товар, очень нужный и полезный товар — ведь он обменивался на столь необходимую соль! — но все же только товар.
Ибн Баттута подробно рассказал о своем пути через пустыню. Когда караван из Марокко достиг селения Тасарахла, он там задержался на несколько дней для отдыха. А вперед, в Уалату, выслали гонца — «такшиф». Так поступали всегда, и делалось это не просто из вежливости. На долгий и трудный путь через Сахару требовалось столько воды, сколько не мог взять с собой никакой караван — если бы, конечно, он не вез воду в качестве единственного полезного груза. Поэтому и отправляли вестника, который должен был позаботиться, чтобы из Уалаты выслали навстречу путникам воду. Случалось, такшиф запаздывал; и тогда к многочисленным костям, рассеянным вдоль всего великого торгового пути через Сахару, добавлялись новые — в таких случаях помощи ждать было неоткуда.
Понятно, что купцы не жалели золота на оплату услуг гонцов. Тому, который шел с караваном Ибн Баттуты, заплатили 100 мискалей золота — больше 400 рублей на наши деньги. Эти люди настолько хорошо знали дорогу, что даже слепота не мешала некоторым из них продолжать водить караваны: через полтораста лет после Ибн Баттуты такой слепой проводник спас заблудившийся караван, определяя его местонахождение по запаху песка, который ему давали понюхать через каждую милю пути. Но у Ибн Баттуты все обошлось благополучно: через два месяца после выхода из Сиджилмасы он оказался в Уалате, малийском форпосте в Сахаре.
После нескольких дней отдыха он двинулся дальше, в столицу Мали. На сей раз можно было не ждать, пока соберется караван. «Когда я решился на путешествие в Мали, — рассказывает Ибн Баттута, — а между этим городом и Уалатой 24 дня пути для едущего быстро, то нанял только проводника из племени мессу-фа, так как из-за безопасности этой дороги нет нужды путешествовать большим караваном». Именно безопасность дороги больше всего заинтересовала Ибн Баттуту, достаточно насмотревшегося за свои странствования по восточной части мусульманского мира на разного рода дорожные неприятности. Спокойный путь, богатые селения вдоль дороги, где можно было закупить все необходимое путешественнику продовольствие, — такое не столь уж часто можно было встретить в первой половине XIV в. где-нибудь в Иране или мусульманской Индии.
Манса Сулейман прилагал большие старания к тому, чтобы торговля с Северной Африкой развивалась спокойно и беспрепятственно. А безопасность главных караванных дорог— Ибн Баттута двигался как раз по одной из них — была для этого жизненно необходима. Мало того, малийское правительство внимательно следило, чтобы никто не чинил притеснений приезжим купцам. Этим поддерживалась высокая деловая репутация царей Мали, сложившаяся при предшественниках Сулеймана и особенно окрепшая в царствование все того же Мусы I.
«Однажды в пятницу я присутствовал на проповеди, — рассказывал Ибн Баттута, — как вдруг один купец из числа ученых мессуфа, которого звали Абу Хафс, встал и сказал: «Присутствующие в мечети! Призываю вас в свидетели моей жалобы на маису Сулеймана…». Когда он это сказал, из-за загородки, за которой сидел султан, вышли несколько человек и сказали ему: «Кто твой обидчик? И кто у тебя что взял?». Купец ответил: «Мансадьон Уалаты — то есть ее правитель — взял у меня ценностей на 600 мискалей, а заплатить за все хочет 100!». Султан сразу же послал за правителем. Через несколько дней тот явился, и государь отправил их обоих к судье. Последний подтвердил правоту купца и взятие у него ценностей. И после этого султан сместил правителя с его должности».
Из этого рассказа Ибн Баттуты очень хорошо видно, как заботился Сулейман об интересах транссахарской торговли. Терпеть в таком важном пункте, как Уалата, самоуправство и вымогательство наместника — значило поставить под угрозу хорошие отношения с богатым и влиятельным североафриканским купечеством. И Сулейман без колебаний пожертвовал своим доверенным рабом.
А экономические возможности и влияние купцов, ведших караванную торговлю, и в самом деле были огромны. В такой торговле, требовавшей колоссальных затрат на снаряжение караванов и транспортировку товара, только очень богатые люди могли принимать участие. За многие столетия, предшествовавшие правлению Сулеймана, сложились настоящие купеческие династии, чьим главным занятием была торговля между Северной и Западной Африкой. Эти династии в конце концов молчаливо поделили между собой весь великий торговый путь от торгово-ремесленных городов Марокко или Египта до глухих углов на границе саванны и тропического леса, путь, по которому двигался непрерывный поток: соль и ремесленные изделия — на юг, золото и рабы — на север.
Могут возразить: но какое значение имела эта торговля для простых земледельцев или охотников Мали и подчиненных ему княжеств? Ведь все выгоды от торговли золотом получали крупные купцы и знать.
Верно, конечно, что от золота огромное большинство жителей страны никакой непосредственной пользы получить не могло. Но нельзя отделять в этом товарообороте золото от соли — в ней нуждались все без исключения, а получить соль в достаточном количестве можно было только в обмен на золото. Торговый поток был единым целым, так что разрывать его нельзя.
Северную половину торгового пути обслуживали североафриканские купцы. Они доставляли ремесленные изделия и соль в города Судана — Гао, Томбукту, Дженне. Здесь грузы переваливали на речные суда или на головы рабов-носильщиков и торговля переходила уже в руки местных, суданских, купцов. Чаще всего это были «диула» — так в Западной Африке и сейчас еще называют малинке, занятых торговлей. Это были те самые «ванга-ра», или «ванджарата», с которыми мы уже встречались в древней Гане. Именно они возглавляли сбор золота. И именно они собирали и дань с подданных государей из династии Кейта, о чем недавно у нас шла речь.
Крупный филолог XVII в. Ахмед ибн Мухаммед ал-Маккари рассказывал, что его старшие родственники, пятеро братьев ал-Маккари, занимали видное место в транссахарской торговле. Двое жили в Тлемсене, где получали европейские или марокканские товары. Эти товары они отправляли двум другим братьям, сидевшим в Уалате. Те обменивали их на золото и слоновую кость и переправляли полученные в обмен ценности на север, А старший брат, глава всего этого крупного торгового дома, поселился в Сиджилмасе — она оставалась важнейшим центром и рынком караванной торговли, и отсюда удобнее всего было следить за движением цен и давать необходимые инструкции остальным участникам дела.
В Мали североафриканские купцы занимали очень видное положение. Им принадлежали особые кварталы в главных городах страны, и в пределах этих кварталов пришельцы с севера пользовались полнейшим самоуправлением — старая традиция сохранялась. Вес купцов в общественной иерархии столицы государства был настолько велик, что манса Сулейман выдал свою племянницу за сына одного из старейшин североафриканской торговой колонии в Ниани.
И все же главной силой в Ниани были не мусульманские купцы, как ни велико было их влияние. Первое место среди окружения мансы Сулеймана занимали командиры гвардейских отрядов, сформированных из рабов клана Кейта. Ибн Баттута называл всех этих «начальников рабов» тем словом, которое ему было более привычно: «эмир».
И весь его рассказ подтверждает, насколько выросла сила этой новой аристократии. И мансе она причиняла немалое беспокойство.
Среди сановников малийского двора самой видной фигурой был человек, которого Ибн Баттута называл «дуга»; сам он разъяснял, что это слово означает «переводчик». На самом же деле это был личный гриот мансы. Дело в том, что старинный обычай не позволял мансе непосредственно общаться с подданными. Тот, кто желал испросить у повелителя какую-нибудь милость или же подать ему жалобу, должен был обратиться к гриоту; только тот мог говорить с государем. И когда манса желал обратиться с речью к своим подданным, то гриот его выслушивал, а затем громким голосом повторял его слова присутствующим. Ибо «манса не кричит, как глашатай», поясняет сказание о Сундиате. Высокое положение царского гриота было у малинке твердо устоявшейся традицией. В сказании о Сундиате видное место занял верный гриот героя, его наставник и советник Балла Фасеке. Не раз этот умный и проницательный певец выручал своего господина из беды. Это он возглавлял посольство к Сумаоро и, сбежав от царя Сосо, который пожелал сделать его своим гриотом, неизменно сопровождал Сундиату в его походах. А после окончательной победы Сун-диата назначил Баллу руководителем всех обрядов, так сказать, «начальником протокола» при своем дворе.
Вот как раз в этой роли и видим мы «переводчика» при мансе Сулеймане. Только влияние его еще больше возросло по сравнению с временами Сундиаты. И теперь уже манса должен был делать подношения своему гриоту. Ибн Баттута рассказывал, что в дни больших торжеств «дуга» оказывался центральной фигурой. Он, правда, как настоящий гриот пел хвалебный гимн, превознося доблести мансы и его славные деяния. Зато после этого он получал от мансы кошель с двумястами мискалями золота. Но поток милостей на этом не кончался: на следующий же день после этого пожалования все высшие сановники обязаны были сделать гриоту подарки — «в меру своих возможностей», поясняет Ибн Баттута. Другими словами, могущественного советника царя приходилось задабривать всем — сам манса тоже не избежал этой малоприятной обязанности. По всей видимости, ему приходилось задабривать не одного только своего гриота. Еще ал-Омари сообщал со слов своих собеседников, бывавших в Мали при Мусе I, что тот жаловал своих особо отличившихся военачальников золотыми браслетами или почетными одеяниями — чем выше была степень заслуг, тем шире должно было быть одеяние. А Ибн Баттута уже по собственным впечатлениям сообщал, что приближенные мансы Сулеймана попросту требовали от него признания их заслуг и вознаграждения.
Но полного спокойствия Сулейману не могли уже обеспечить даже богатые подачки знати. Удовлетворить всех недовольных было невозможно, а опасность они представляли немалую. Ибн Баттута оказался свидетелем довольно любопытного заговора, который пыталась организовать против мансы его жена и соправительница. Такие соправительницы существовали во многих африканских государствах до колониального раздела Африки; с ними могли встретиться европейские ученые даже в начале нашего века. Обычно такая жена была одновременно и сестрой царя; она считалась повелительницей всех женщин страны, имела свой царский двор и располагала большой властью. В некоторых случаях эта власть равна была власти ее мужа.

С такой вот соправительницей и оказался связан заговор, о котором нам на страницах своих записок повествует знаменитый путешественник. Вот его рассказ.
«Случилось так, что в дни моего пребывания в Мали султан разгневался на свою главную жену, дочь своего дяди по отцу, именуемую Каса («каса» обозначает у них «царица»). По обычаю черных, она — его соправительница в делах верховной власти, и имя ее упоминают в молитве вместе с именем царя… Каждый день Каса выезжала верхом со своими невольницами и рабами; их головы посыпаны были прахом. Она останавливалась перед помещением совета, а лицо ее было закрыто покрывалом и невидимо. Эмиры много говорили о ее деле. Но султан собрал их в помещении совета, и дуга сказал им от имени султана:
«Вот вы много говорите о деле Касы. Но ведь она совершила великий грех!». Затем привели одну из невольниц царицы со связанными ногами и с колодкой на шее и сказали ей: «Говори, что у тебя!». И невольница рассказала, что Каса посылала ее к Дьяте, сыну дяди султана по отцу, бежавшему от государя… что она призывала Дьяту свергнуть султана с престола и говорила ему: «Я и все войска покорны твоему приказу!». Когда эмиры услышали это, они заявили: «Это великое преступление, и за него она заслуживает смерти!». Каса испугалась этого и укрылась в доме хатиба (проповедника): обычай черных таков, что они ищут убежища в мечети, а если это невозможно, то в доме хатиба».
На сей раз Сулейману удалось заблаговременно раскрыть заговор и предотвратить покушение на свою власть. И однако же именно этот самый Дьята, о котором шла речь при допросе, все-таки впоследствии сверг с престола сына Сулеймана и воцарился в 1361 г. под именем Мари Дьяты II.
И все же время визита Ибн Баттуты в Мали было относительно спокойным. Наверное, поэтому он так высоко оценил Достоинства жителей Мали. В записках его целая глава посвящена тому, «что он одобрил из поступков черных», и тому, «что ему у них не понравилось». Нужно сразу сказать, что достоинств оказалось намного больше.
«К их добрым качествам относится малое число несправедливостей. Они самый далекий от несправедливости народ, ее их султан никому не прощает! — говорит Ибн Баттута. — К добрым качествам относится и полная безопасность в их стране: ни путешественник, ни оседлый житель в ней не боится ни вора, ни притеснителя…».
Среди прочих достоинств жителей Мали Ибн Баттуту больше всего восхитило их благочестие, их усердие в отправлении обрядов и исполнении предписаний ислама. Собственно говоря, первыми сообщениями об исламе в Мали мы обязаны еще ал-Бекри. По его рассказу, обращение царя этого государства в ислам произошло таким образом: «Их царь известен под именем ал-Мусли-манш Называется он так потому только, что его страна год от года страдала от голода. Жители просили о дожде, принося в жертву коров, так что почти их уничтожили, но неурожаи и несчастья только множились.
У царя жил гость-мусульманин, читавший Коран и знавший сунну, священную книгу мусульман-суннитов. Царь ему пожаловался на их несчастья, а тот ему ответил: «Царь, если бы ты уверовал в Аллаха всевышнего… признал бы книгу Аллаха и твердо усвоил бы все предписания ислама, то я просил бы Аллаха утешить тебя и разрешить твои затруднения, чтобы на народ твоей страны снизошла милость и чтобы завидовали тебе враждебные тебе и удаленные от тебя!». Он продолжал это говорить, пока царь не принял ислам и не очистил свои помыслы».
Эти события произошли, по-видимому, в первой половине XI в., и, таким образом, ислам мог ко времени Ибн Баттуты быть хорошо известен и распространен в Мали.
Но Ибн Баттута одновременно многое и не одобрил. Очень не понравились ему ни свобода, которой пользовались африканские женщины, ни, еще того пуще, обряды, которые ему довелось видеть во время мусульманских праздников при дворе мансы Сулеймана. Относительно этих обрядов Ибн Баттута, который мог себя считать не только правоверным, но и достаточно образованным мусульманином — во время путешествия по Индии ему даже пришлось одно время исполнять в Гуджерате функции мусульманского судьи, кадия, — ограничился несколько пренебрежительным недоумением. Он назвал их «смешными обстоятельствами». Но так ли это было на самом деле?
Действительно, многое в рассказе марокканского путешественника как будто создает впечатление, что в правление мансы Сулеймана Мали было такой же мусульманской страной, как, скажем, Марокко или Египет. Ибн Баттута много говорит о пятничных молитвах, называет имена многочисленных мусульманских законоведов и проповедников. Он, например, с большим уважением поминает некоего кадия Абдаррахмана — черного африканца по происхождению, человека, по его словам, очень достойного и преисполненного добрых качеств. Манса Сулейман устроил поминальный пир по меринидскому султану Абул — Хасану, и на этом пиру был целиком прочтен Коран..
Но как только дело доходит до описания церемониала торжеств или до рассказа о жене-соправительнице мансы, сразу же оказывается, что распространен ислам был вовсе не так широко, да и в самом исламе при малийском дворе много было такого, что в сознании Ибн Баттуты никак не вязалось с его представлениями о том, каким должен быть настоящий ислам.
Объяснение этого несоответствия заключалось в том, что Ибн Баттута в Мали имел дело с очень ограниченным кругом людей — точнее сказать, довольно широким количественно, но очень ограниченным социально. Он встречался главным образом, или даже почти исключительно, с верхушкой малийского общества — сановниками двора мансы, его наместниками в провинции, крупными купцами, мусульманскими богословами и законоведами. А с основной массой населения великой державы Кейта он в общем-то и не сталкивался. Между тем как раз оно-то, это население, и служило фоном для нарисованной путешественником картины процветания мусульманства в Мали. Причем фон имел с картиной крайне мало общего…
Даже несколько сот лет спустя после пребывания Ибн Баттуты в Западной Африке население того района, где некогда находилась столица великой державы Кейта — Ниани, оставалось при своих прежних верованиях и в ислам обратилось не раньше XVIII в. По выражению французского ученого Шарля Монтея, посвятившего всю жизнь изучению истории и культуры народов, живущих на территории средневекового Мали, это произошло потому, что «мусульманская организация в Мали не превышала своим размером двора мансы».
И даже при дворе сохранялись очень многочисленные следы старых верований и обычаев. Только задолго до ислама в условиях, когда еще сильны были пережитки родового строя, могла появиться фигура жены-соправительницы царя, совершенно немыслимая в «обычном» мусульманском государстве. Предание упорно сохраняет древние охотничьи прозвища царей, восходящие в конечном счете тоже к верованиям родового общества. Танцы, которые видел Ибн Баттута и которые он посчитал смешными, — это танцы масок тайных союзов. А такие союзы (их задачей была подготовка молодежи к исполнению обязанностей взрослых членов общества) также сложились внутри родового общества, задолго до того, как появился ислам. Европейские авторы начала XVI в. рассказывают о сохранении древних трудовых обрядов — и эти обряды тоже восходят еще к той эпохе, когда глава большой семьи или общины принимал участие в коллективном труде вместе с рядовыми общинниками.
Все это сохранялось при дворе мансы, где и сам правитель, и его ближайшее окружение уже считались мусульманами. А вдалеке от столицы и от больших торговых городов крестьяне продолжали верить в тех же самых духов, которым поклонялись их предки задолго до появления в Западном Судане первых мусульман. И главными представителями новой религии были для этих крестьян не законоведы и богословы, а все те же купцы-вангара, приходившие обменивать соль на золото и слоновую кость, а иногда и прихватить рабов. Конечно, и эти торговые экспедиции не проходили бесследно — отдельные люди могли принять новую религию и объявить себя мусульманами. Но, во-первых, делалось это очень медленно и ни о каком массовом обращении населения Мали в ислам ко времени Ибн Баттуты не могло быть и речи. А во-вторых, даже если кто-то из крестьян-малинке и объявлял себя Мусульманином, то его ислам непременно оказывался «разбавлен» огромным количеством верований и обрядов, обычаев и суеверий, уходивших своими корнями. в очень и очень отдаленные времена.
И дело было здесь совсем не в том, что вновь обращенные плохо представляли себе основы мусульманского вероучения. Нет, причины были гораздо проще — и в то же время гораздо глубже. Сравнительно просто было произнести мусульманский символ веры: «Нет бога, кроме Аллаха, и Мухаммед — посланник его!». Но ведь и потом, когда эти слова, достаточные для того, чтобы иметь право считаться мусульманином, были произнесены, человек оставался в своей общине — «дугу». Он просто не мог из нее уйти: вести хозяйство в одиночку ему было не под силу. А раз оставалась община, значит, оставались и все связанные с ней и освященные многовековой традицией обычаи и порядки. Человек мог себя считать мусульманином, но для его соседей земля по-прежнему оставалась собственностью духа — покровителя Местности. И перед духом представлял общину, а значит, и каждого из ее членов все тот же дугу-тиго — следовательно, и землей распоряжался он. И значит, все обряды, нужные, чтобы духа умилостивить, ты обязан выполнить — а ведь обряды-то эти никакого отношения к исламу не имеют. Подавляющее большинство новообращенных простых земледельцев и охотников выходило из этого затруднения просто: считая себя мусульманами, люди продолжали исправно выполнять все свои общинные обязанности, связанные с прежними верованиями. И так как традиционный порядок ведения хозяйства не нарушался, то соседи не протестовали против таких новообращенных мусульман, и, в конечном счете, принятие ислама оставалось их частным делом.
Не мог не считаться с устойчивостью общины и нарождавшийся в Мали феодальный класс. В самой системе управления кланом оставалось очень много традиционного, так что дань в пользу мансы и его наместников во многом сохраняла и характер, и форму старых общинных повинностей, и потому обычно отдельные дугу выплачивали их беспрекословно. До поры до времени такое положение устраивало и верхушку малийского общества. Она не видела нужды вводить насильственно новую религию среди своих подданных, хотя сама по большей части уже стала мусульманской.
Торговля золотом и солью, пронизывавшая всю жизнь западноафриканских государств средневековья, и здесь сыграла очень важную роль. Она давала в руки верхушки правящего клана Кейта и связанных с ним аристократических кланов огромные по тем временам количества золота. Ведь в главных золотоносных районах, откуда металл поступал в Мали, средняя годовая добыча, по очень осторожным подсчетам французского ученого Раймона Мони, составляла от 4,5 до 5 тонн. Это золото позволяло знати получать все необходимые ей товары (главным образом предметы роскоши), не прибегая к усиленному нажиму на данников-земледельцев. Царские сборщики дани довольствовались сравнительно немногим.
А раз так — у общинников не возникало необходимости добиваться того, чтобы их хозяйство стало более производительным. И поэтому экономика оставалась почти на одном и том же уровне, внутренний обмен развивался очень слабо — ведь внутри каждой дугу ремесленники производили все самое нужное: Единственным предметом торговли, который очень требовался общине, была соль. Но в основном хозяйство почти всей огромной территории от Гао до Атлантики оставалось натуральным, и никаких внутренних экономических связей внутри государства между разными его частями практически не существовало. И может показаться парадоксом, но, к сожалению, совершенно несомненно: богатство Мали золотом принесло государству больше вреда, чем пользы, так как золото стало одной из главных причин хозяйственного застоя.
И все же принятие ислама большинством правящей верхушки было свидетельством того, что в малийском обществе происходят определенные изменения. Конечно, мансе и его приближенным было бы гораздо выгоднее взимать дань с подданных по нормам, предусматривавшимся мусульманским правом: эти нормы были выше, намного выше, чем традиционные. Но поскольку в то время у правящего класса еще не было достаточно сил для того, чтобы резко усилить эксплуатацию крестьянства, не опасаясь его сопротивления, и о широком распространении новой религии, которая могла бы послужить идеологическим оправданием такого усиления, речи еще не было, вся малийская знать — и старая, родовая, и новая, вышедшая из рабов, — стремилась на первых порах использовать новую религию во вполне определенных внешнеполитических целях.
Это очень хорошо продемонстрировал манса Муса, стараясь везде, где только можно, подчеркнуть свое правоверие. Речь шла об укреплении международного престижа Мали — о том, чтобы показать соседям, что они имеют перед собой не каких-то там дикарей, а могущественную мусульманскую страну, которая им ни в чем не уступает, а по богатству намного превосходит.
Поэтому и появились пышные царские титулы, относящиеся к правлению Мусы I. Ал-Омари рассказывал, что малийский государь называл себя «Опорой повелителя верующих», — правда, сам повелитель верующих, номинальный духовный глава всех правоверных мусульман, был к этому моменту всего лишь марионеткой, которую мамлюкские султаны для придания своей светской власти большего авторитета содержали на иждивении.
Эти титулы включали и упоминание золотоносных растений, которые будто бы существовали в Мали.
Принятие ислама обеспечивало малийской верхушке преимущества и в торговле с североафриканцами: дела велись между двумя равными партнерами. Малийские государи пошли даже на то, чтобы вести разбор дел между малийскими подданными и североафриканскими купцами не по обычному праву малинке, а по мусульманским правовым нормам. И среди иностранцев-мусульман первое место по численности после купцов занимали кадии.
Впрочем, как это нередко бывало, законоведы, призванные блюсти чистоту нравов и следить за честным характером торговых сделок, иногда сами оказывались отъявленными мошенниками. Мы встречались уже с шейхом ад-Дуккали, прожившим в Мали 35 лет и поведавшим ал-Омари множество подробных сведений о Мали, его жителях, их обычаях и занятиях. Но едва ли он рассказал историку о неприятном происшествии, в котором ему, шейху ад-Дуккали, пришлось сыграть не самую почетную и благовидную роль. Однако через четверть века после этого Ибн Баттута простодушно изложил эту историю в своих записках.
Как рассказал Ибн Баттуте один из малийских наместников в восточной части государства, ад-Дуккали получил в подарок от майсы Мусы I четыре тысячи мискалей золота. Когда караван мансы прибыл в Мему, шейх пожаловался государю, что золото у него украли. Муса повелел наместнику Мемы под страхом смертной казни найти и доставить к нему вора.
Расследование долго не давало никакого результата. Ибн Баттута поясняет: «Эмир искал укравшего, но никого не нашел, ибо в той стране нет ни одного вора…» Наконец, допросив слуг кадия, наместник дознался, что их хозяин попросту зарыл свое золото, рассчитывая, несомненно, получить от Мусы возмещение мнимой потери: щедрость мансы по отношению к мусульманским законоведам была хорошо известна, а из-за четырех тысяч мискалей золота можно было и рискнуть. Когда, золото было извлечено из тайника и доставлено мансе, тот разгневался и изгнал кадия из пределов Мали, как говорит Ибн Баттута, «в страну неверных, которые едят людей». В изгнании ад-Дуккали провел четыре года, потом Муса его простил. При этом Ибн Баттута добавляет совершенно серьезно:
«Черные же не съели кадия только из-за белого цвета его кожи, ибо они говорят, что поедать белого вредно, так как он не созрел».
Закат державы
В 1360 г. умер манса Сулейман. И снова вопрос о том, кому стать мансой, решала гвардия — это уже превращалось в традицию. Камба, сын Сулеймана, почему-то не устраивал ее командиров. И Дьята, претендент на престол, о заговоре в пользу которого рассказывал Ибн Баттута, получив поддержку рабской знати, выступил против мансы. Камба погиб в бою, и Дьята стал мансой йод именем Мари Дьяты. Обычно его называют вторым, так как в некоторых преданиях и у части арабских историков именем Мари Дьята обозначается основатель державы — Сунди-ата Кейта.
Мари Дьята пробыл на престоле четырнадцать лет — с 1361 до 1375 г. За эти годы упадок Мали стал уже совершенно очевиден. Конечно, отблески прежней славы еще падали время от времени на царствование Мари Дьяты II. Например, в 1366 г. мансу посетил претендент на марокканский престол Абд ал-Халим, потерпевший неудачу в борьбе с соперниками. Он, вероятно, надеялся получить от мансы помощь для дальнейшей борьбы. Но тот уже не располагал для этого никакими возможностями.
Историк Ибн Халдун очень резко отозвался о правлении Мари Дьяты II: он-де был извергом и тираном, он промотал сокровища, накопленные предшественниками. Что этот манса был не слишком симпатичной личностью, вполне возможно. Но дело, конечно, было не в этом. Просто ко времени его правления многие внутренние пороки политической и общественной организации Мали, не выступавшие прежде на поверхность, проявились с полной силой. И это было вполне закономерно. А залезать в казну мансе приходилось потому, что доходы резко уменьшились, данники начинали отпадать от Мали.
Главной причиной все ускорявшегося упадка государства было то, что крупные сановники и отдельные вассальные правители упорно старались освободиться от зависимости, стремились превратиться в самостоятельных государей. Основы этого заложил еще Сундиата, хотя, конечно, он не мог предвидеть такого развития событий. Предание рассказывает, что после победы над Сумаоро Сундиата на общем сборе всего своего войска роздал целые области своим ближайшим сподвижникам, обязав их только платить дань и выставлять по требованию мансы вспомогательные военные отряды. К чему это повело почти немедленно, мы видели на примере Факоли Курумы, которого пришлось лишить владения всего через год.
Но пока продолжался территориальный рост государства, у высшей малийской знати (да и у военных чинами поменьше) не было особых причин выступать против центральной власти. Ведь сильная центральная власть была необходима для успешного осуществления широкой завоевательной программы. А завоевания увеличивали фонд свободных земель, и за счет этого фонда мансы жаловали своим воинам земельные участки, население которых обязано было платить дань уже не казне, а новому владельцу. Здесь, в Западной Африке, на краю тогдашнего цивилизованного мира, историческое развитие шло тем же путем, как, скажем, в Египте или в Европе. Оставались, конечно, местные особенности — ими были прежде всего многочисленные следы родового, доклассового общества, которых давно уже не оставалось ни в Западной Европе, ни у большинства народов Ближнего Востока. Особенности эти замедляли развитие, часто они маскировали совершенно новые явления, прикрывали их древними формами общественной и хозяйственной организации. Но смысл развития оставался тот же: возникало, росло и крепло классовое, феодальное по своей сущности общество. И внутри него действовали те же законы, что и в любом другом феодальном обществе.
Одной из таких закономерностей и было стремление отдельных владетелей обособиться, раздробить единое государство на множество мелких княжеств. И как только прекратились завоевания, отпала надобность в существовании единого государства и центробежные стремления аристократии немедленно проявились во всей их полноте. А завоевывать было больше нечего: на юге захват золотоносных Областей сулил прямые невыгоды из-за сокращения добычи металла, а кроме того, Мали и в лучшие-то времена бессильно было справиться с моей; на севере и на востоке соседей надежно прикрывала от малийских войск пустыня, да к тому же как раз в конце XIII и в XIV в. очень усилился восточный сосед — государство Канем-Борну, центр которого лежал на западном берегу озера Чад.
Раздача земель военачальникам еще больше увеличивала влияние верхушки клановых рабов: они превращались в настоящих феодальных владетелей. А став ими, «начальники рабов» стремились сделаться самостоятельными ничуть не меньше, чем, скажем, родня мансы. И в итоге власть царя делалась все более и более призрачной, а сам он понемногу превращался в игрушку в руках дравшихся между собой группировок знати.
И когда Мари Дьята II умер, его сын и преемник Муса II оказался фактически пленником одного из своих военачальников, которого тоже звали Мари Дьята. Манса находился под стражей и ни к какому участию в делах государства не привлекался — Мари Дьята вершил все дела один. Вероятно, его вдохновлял при этом пример почти столетней давности — Сакура. Так, он, следуя примеру своего предшественника, попытался вновь подчинить малийской власти отпавшие было владения на востоке. Увы! Времена были уже не те: Мали очень ослабло, войска было недостаточно, да и боевые качества его резко упали. И попытка возвратить под власть номинального мансы медные рудники в Такедде, к северо-востоку от Гао, закончилась полным провалом. А ведь еще при Ибн Баттуте вывоз меди составлял важную статью доходов казны!
Но Муса II оставался мансой хотя бы по видимости. А вот его преемнику, Магану II, повезло гораздо меньше: на престол он вступил в 1387 г., а всего через год некий Сандиги, которого Ибн Халдун называл арабским словом «везир», т. е. «помощник, министр», сверг мансу с престола и сам занял его место. Здесь интересно вот что: «Сандиги» — не собственное имя, как полагал Ибн Халдун, а название должности. Малинкское слово «сан-тиго» означает «начальник» — в данном случае «начальник рабов».
Как видите, пример Сакуры продолжал вдохновлять честолюбцев из числа командиров рабской гвардии — они по-прежнему рвались к царской власти. Но у узурпатора оказалось много соперников: продержаться у власти он смог всего несколько месяцев. По истечении этого срока его убил какой-то «человек из числа родных Мари Дьяты», сообщает Ибн Халдун, причем так и остается неясным: то ли идет речь о мансе Мари Дьяте, то ли о временщике Мусы II. Однако после этого убийства прошло не меньше года, прежде чем на престоле Мали оказался манса Маган III — династия Кейта была восстановлена (Ибн Халдун считал Магана потомком Сундиаты). Но для достижения такого благого результата понадобился год или даже полтора. И в течение всего этого времени «начальники рабов» клана Кейта дрались между собой: каждый надеялся захватить царскую власть.
Несмотря на упадок авторитета и военно-политического могущества Мали, к началу XV в. в составе государства еще сохранялись почти все важнейшие его области. Даже беспокойные сонгайские вассалы еще считали себя номинально зависимыми от Ниани, хотя на самом деле давно уже были вполне самостоятельны. Но малийское государство уже не в состоянии было удержать под своей властью все эти земли.
С начала XV в. Мали начало терять одну область за другой. Вновь оживились моей: в 1400 г. район озера Дебо подвергся их опустошительному набегу. Сонгайские правители Гао теперь сами перешли в наступление. Почти одновременно с моей предводитель сонгаев Мухаммед Дао совершил набег на малийские владения. Несколько лет спустя другой сонгайский царь, Сулейман Дама, разоряет область Мема. Наконец, в 1433 г. туареги, которых уже не сдерживала больше угроза малийских карательных экспедиций, захватывают Уалату, Араван и Томбукту — это означало, что участию Мали в транссахарской торговле приходит конец. А окончательно вытеснил Мали из этой торговли сонгайский царь — сонни[9] Али Бер, с которым мы не раз еще встретимся в дальнейшем. Через 35 лет, в 1468 г., его отряды овладели Дженне и Томбукту. В руках сонгаев оказался весь торговый центр Западного Судана: ведь Ниани имел торговое значение лишь пока был столицей великой державы, которой подчинялся весь Западный Судан.
Теперь уже мало кому из местных правителей могло прийти в голову соблюдать верность ослабевшим мансам, неспособным ни защитить от опасных соседей, ни наказать за попытку отделиться. Один из более поздних западносуданских историков рассказывал о довольно любопытной фигуре: некоем Мухаммеде Надди. Этот человек управлял важнейшим торговым и культурным центром — городом Томбукту. Сначала он это делал от имени мансы Мали. Потом, когда туарегский вождь Акил аг-Малвал выгнал из города малийский гарнизон, Мухаммед Надди остался правителем, но уже от имени Акила. Это не помешало ему впоследствии обратиться к сонгайскому сонни Али с предложением передать последнему город при условии, что он, Мухаммед Надди, останется его наместником. И, рассказав об этом, автор хроники совершенно спокойно, как будто речь идет о чем-то само собой разумеющемся, пояснил: «А при перемене державы менялся его титул».
С начала XV в. Мали упоминают чаще всего как цель походов сонгайских царей или их полководцев. Правда, на западе, в прибрежных местностях, куда не могли дойти сонгайские отряды, авторитет Мали более или менее сохранялся. Ранние европейские мореплаватели получали от жителей побережья такие сведения, как те, которые передает нам в своей записке уже знакомый да Мосто. О жителях местностей, что прилегали к реке Гамбия, венецианец писал: «Их главный синьор — форофанголь. Этот форофанголь подчинен императору Мелли, который и есть великий император черных…». Но даже в этих областях власть Мали заметно ослабла. Европейцы отметили, что многие из местных вождей, с которыми им приходилось иметь дело, носили во второй половине XV в. титул «манса». Веком раньше этот титул принадлежал исключительно верховному владыке Мали и никто из мелких вассальных владетелей и помыслить не мог о том, чтобы его принять. Но теперь все изменилось. И распад великой державы Кейта проявился в ее западных областях прежде всего в такой форме.
Со второй половины XV в. набеги моей и сонгаев участились. Оказывать им сопротивление не было сил. И в 1483 г. Мали спас от набега моей другой его враг — все тот же сонгайский сонни Али. Столкнувшись во время набега с сонгаями, моей потерпели жестокое поражение и были обращены в паническое бегство.
Мали приходилось искать союзников. В Западной Африке это было бы бесполезно: здесь в тот момент не было силы, которая бы посмела попытаться противостоять победоносным армиям сонни Али и его соратников. Сонгайская держава уверенно шла к зениту могущества. И в Ниани, видимо, не без интереса присматривались к тому, как внедрялись на побережье Гвинейского залива португальцы. Со своей стороны и португальцы не прочь были завязать непосредственные сношения с таким могущественным государем, каким представлялся им манса Мали по рассказам прибрежных жителей.
И вот в 1481 г. португальский король Жуан II отправил посольство к «королю Мандиманса» — к этому времени название «Мали» все чаще начало вытесняться словом «Мандинг», или «Мандинга». Об этом посольстве мы знаем по рассказу португальского чиновника Жуана де Барруша, который в 30-х годах XVI в. был королевским уполномоченным в главной португальской фактории на берегу Гвинейского залива — Сан-Жоржи-да-Мина. Эта фактория, которую чаще называли просто Эльминой, находилась в районе современного города Аккры — столицы Республики Гана.
Послы благополучно прибыли к «королю» по имени «Маха-мед бен Манзугул», т. е. Мухаммед, сын мансы Уле. Этот государь выразил послам свое удивление по поводу такой невиданной вещи, как посольство от христианского короля. Держался манса весьма независимо и всячески старался показать древность своей династии и ее могущество: по его словам, до него царствовали из нее 4404 правителя! Помощи у португальцев он не просил: к этому времени становилось уже ясно, что столкновение между моей и сонгаями неизбежно, а для Мали это на какое-то время означало передышку.
Но зато, когда в 30-х годах XVI в. народы фульбе и тукулер двинулись вверх по Сенегалу в область Бамбука и при этом вытеснили, а частично и перебили мандингское население, жившее вдоль течения реки Фалеме, манса Мамаду, внук того государя, что впервые принял португальское посольство, сам обратился к Баррушу за помощью. С ответным посольством Барруш отправил одного из своих подчиненных — Перу Фернандиша. Тот прибыл к малийскому двору; во время переговоров выяснилось, что в Ниани помнили о предыдущем посольстве и даже выразили удовлетворение по случаю возобновления связей. Конечно, португальцы были бы не в состоянии оказать реальную военную помощь, но к тому времени обстановка на западных окраинах Мали немного разрядилась: в 1535 г. тукулеры и фульбе ушли за Фалеме и нашествие прекратилось.
Весь XVI в. продолжались опустошительные походы сонгайских царей на Мали. Они сопровождались жестоким разграблением страны и угоном в рабство многочисленных пленных. Единственной передышкой было время между 1509 и 1545 гг. Обстановка тогда была настолько спокойная, что малийское правительство даже могло себе позволить предоставлять убежище свергнутым правителям Сонгай. Но зато с 1545 г. страна подверглась нескольким нападениям подряд. Не раз сонгай брали столицу и разоряли ее. А в 1558 г. победитель, аския Дауд, женился на дочери царя Мали и тем закрепил свои права на малийский престол. Ведь хотя власть в Мали передавалась от отца к сыну, но родство и здесь считалось по матери, и даже такого благочестивого мусульманина, как Муса I, называли «Канку Муса», по имени его матери — местный обычай оказался сильнее норм мусульманского права, для которого просто немыслим материнский счет родства.
К концу XVI в. Мали уже окончательно превратилось в третьестепенное государство. Ему не могло принести пользы даже и нашествие марокканцев, разгромивших Сонгай, — не было сил для того, чтобы воспользоваться удобной обстановкой. Правда, манса Мамаду III попытался было захватить часть сонгайского наследства и даже на очень короткое время занял Дженне. Но возвратились марокканские войска, и мансе пришлось со всей возможной поспешностью оставить город. В 1598 г. Мамаду попытался в союзе с правителем Масины овладеть районом Томбукту — и снова безуспешно. И наконец в 1599 г. марокканцы и жители Дженне нанесли Малийским войскам жестокое поражение около этого города.
Так плачевно завершились последние попытки возродить великодержавную политику династии Кейта. Причиной неудачи, не говоря уж о неблагоприятной общей обстановке, было в немалой степени то же самое обстоятельство, которое вызвало еще в предшествующие столетия фактический распад Мали на множество мелких феодальных владений. Из трех наместников важнейших областей государства только один откликнулся на требование мансы явиться к нему на помощь с войсками. Двое остальных даже не сочли нужным хотя бы как-то ответить мансе. Феодальное раздробление бывшей великой западноафриканской державы завершилось.
В руках правителей из клана Кейта остался только район селения Каба. Здесь власть правителей из этого клана просуществовала до начала XX века. А на месте центральных областей средневекового Мали в 40-х годах XVIII в. сложились два сильных государства народа бамбара, родственного малинке. В новых исторических условиях и на измененной этнической основе продолжалось развитие тех традиций государственности, ярким выражением которых стала великая держава Кейта в XIII–XIV вв.
Держава аскиев, или Сонгай — наследник Мали
К середине XV в. в Западном Судане существовало несколько более или менее независимых княжеств. Пришло в упадок могущество Мали, территория его сократилась очень заметно: в северо-западной части бывших малийских владений возникло сильное государство народа диавара с Центром в городе Диаре. В прибрежных областях множество мелких местных вождей с трудом соглашались признавать хотя бы номинальную зависимость от Царей Ниани. Туареги подчинили себе важнейшие торговые центры — Томбукту и Уалату, а третий торговый город — Дженне, прикрытый от любого противника бесчисленными протоками и островами средней дельты Нигера, давно уже считал себя независимым. Через 200 лет автор одной из исторических хроник Западного Судана писал об этом печальном периоде в истории Мали: «Каждый на своем клочке земли со своим отрядом считал себя султаном…». А на востоке вырастал новый страшный противник — сонгайское государство со столицей в Гао.
На протяжении столетий эти города оставались важнейшими пунктами обмена между Западной и Северной Африкой и все время были как бы опорными точками целой сети торговых маршрутов. В средние века, так же, впрочем, как и много позднее — в некоторых местах до начала XX века, — по всему огромному пространству Западного Судана существовало много местных рынков. Каждый такой рынок обслуживал селения в радиусе примерно 20 км от него — так, чтобы можно было за один день сходить на рынок и вернуться домой. Между отдельными рынками почти не существовало связи, потому что натуральное хозяйство тысяч замкнутых общин не испытывало надобности в широком обмене продуктами, а ремесленники, входившие в состав таких общин, могли их обеспечить всеми необходимыми изделиями.
Единственным исключением из этого общего правила была, как мы видели, соль. В ней нуждались все, и именно соль сделала все эти рынки «исходной точкой целой цепи обменов», по выражению современного французского исследователя. А большие торговые города как раз и были главнейшими узловыми точками этой цепи.
Если взглянуть на карту, становится ясно, почему именно в этих городах сосредоточилась вся внешняя торговля средневекового Западного Судана. Дженне служил тем центром, в который стекались отдельные ручейки золота — того золота, что добывали в обмен на соль в глубинных районах купцы-вангара. Пока Ниани был столицей великой державы, он мог соперничать с Дженне в этом отношении. Но как только наступил упадок Мали, Ниани еще быстрее потерял торговое значение. И скоро Дженне остался без конкурентов. Тем более что географически он расположен гораздо удобнее: ближе к северным «портам» Судана — Томбукту и Гао.
А эти два города были главными соляными рынками Западной Африки, и через них проходила вся торговля со странами Средиземноморья. Из Томбукту караваны шли через Уалату на север, в Марокко; из Гао — в Египет или Триполитанию через Такедду или Тадмекку.
Все ранние европейские источники, с которыми приходится иметь дело исследователю этой эпохи, в один голос твердят об огромном значении торговых городов Западного Судана. Наш старый знакомый Барруш рассказывает, что торговля первых португальских факторий на Гвинейском побережье во многом зависела от положения дел на рынках Дженне и Томбукту. Другой наш знакомый, венецианец на португальской службе Альвизе да Мосто, а также португальский офицер Диогу Гомиш, плававший к берегам Западной Африки в начале 60-х годов XV в., и чех (или моравский немец) Валентин Фердинанд, известный больше под именем Валентин Фернандиш, — один из интереснейших людей португальского Возрождения, собравший в начале XVI в. рассказы португальских моряков о их плаваниях к побережью Гвинейского залива, — все они восхваляли богатства Дженне, Томбукту и Гао, их роль в экспортной торговле.
Сами жители Западного Судана того времени рассматривали эти города прежде всего как торговые центры. Именно во всемерном развитии торговли видели они основу их процветания и единственно верную политику для их правителей. Историческая хроника «Тарих ас-Судан», написанная в Томбукту в середине XVII в., передает нам легенду о том, как после принятия ислама султан Конборо, правитель Дженне, собрал у себя всех мусульманских законоведов города и предложил им обратиться к Аллаху с молитвой о даровании Дженне благоденствия. И вот просьбы, с которыми они обратились к Аллаху, настолько любопытны, что стоит, пожалуй, их привести здесь целиком. Вот они: «Чтобы каждому, кто бежит со своей родины в Дженне из-за бедности и нищеты, Аллах их заменил достатком и богатством, так, чтобы тот человек забыл свою родину. Чтобы, кроме коренных жителей города, в нем жило бы приезжих больше, чем этих коренных горожан. И чтобы Аллах отнял терпение у приезжающих в Дженне для торговли тем, что они имеют, дабы эти люди быстро уезжали из города и продавали бы свои товары его жителям по низкой цене, а жители бы получали от этого прибыль!». Яснее, кажется, сказать трудно….
Все рассказы португальских моряков и купцов основывались на сведениях, относившихся к самой середине XV в. К этому времени гегемония Мали давно уже была в прошлом, а сонгайская держава еще не достигла полного расцвета. Торговые города как будто не пострадали от распадения государства Кейта: торговля продолжалась, традиционные хозяйственные связи сохранились. И все же у купеческой верхушки этих городов были достаточные основания для недовольства политической обстановкой, для того, чтобы желать решительного ее изменения.
Да, конечно, торговля продолжалась: ведь она была жизненной необходимостью для всех ее участников. Но после того как исчезла устрашающая мощь малийского войска, трудности и опасности торговли намного увеличились, а прибыли крупного купечества заметно упали. Ведь когда Ибн Баттута восхищался безопасностью дорог в Мали, он отлично понимал: это возможно только потому, что Сулейман, так же как и его предшественники из династии Кейта, считает важнейшей задачей царской власти поддержание и охрану интересов торговли. А о какой безопасности можно было говорить в условиях непрерывных столкновений между десятками мелких вождей? И к тому же каждый из них требовал свою долю за «обеспечение» этой самой безопасности… Действительно, первое время города не пострадали; как и в былые времена, они принимали и отправляли десятки караванов в обоих направлениях. Но когда из городов ушли малийские военные гарнизоны, сразу же оживились воинственные соседи-кочевники. Они совсем не прочь были подчинить себе богатые торговые города, так же как подчинили земледельческие оазисы пустыни. И после признания верховной власти туарегского вождя Акила аг-Мал вал а над Томбукту городской верхушке довольно скоро пришлось убедиться, что аппетиты новых хозяев города непрерывно растут и что туареги все меньше и меньше проявляют желания делиться доходами.
Многовековой опыт научил купцов непреложной истине: торговля требует для своего процветания сильного и более или менее централизованного государства. Так было везде: и в Африке, и в Азии, и в Европе. В хаосе великого множества дравшихся между собой мелких владений только сильная царская или королевская власть могла обеспечить купцам спокойную торговлю и высокие прибыли. И поэтому, когда в Гао пришел к власти сонни Али Бер и начал одно за другим подчинять себе мелкие княжества вдоль среднего течения Нигера, он определенно мог рассчитывать на поддержку крупного купечества: новое политическое объединение становилось экономической необходимостью. А обстановка в Западном Судане к этому времени тоже благоприятствовала сонгайским завоеваниям — разрозненные противники, неспособные объединиться против общего врага, не представляли серьезной угрозы широким завоевательным планам нового сонгайского правителя. Так с 1465 г. началась новая страница истории областей по среднему и верхнему течению Нигера — их объединение в составе сонгайской державы, которая во второй половине XV в. и до последнего десятилетия XVI стала господствующей политической силой в Западном Судане.
На протяжении всего среднего течения Нигера по обоим его берегам с незапамятных времен живет народ сонгаев. Первоначально сонгай населяли район Денди, уже после поворота течения реки на юго-восток, немного выше порогов возле нынешнего городка Буса, а затем распространились вверх по течению, так что сейчас сонгайские селения в большом количестве встречаются в районе озер Дебо и Фагибин, к западу от Томбукту.
Вдоль обоих берегов реки лежат заливные луга, покрытые водяной травой «боргу» — прекрасным кормом для скота. На землях, которые река заливает в половодье, прекрасно растет рис; всегда он был главной продовольственной культурой, которую разводили сонгай. Как раз поливное рисоводство и рыбная ловля и были основными отраслями хозяйства сонгаев. Гораздо меньшее значение для хозяйства имело скотоводство: ведь за пределами заливных земель по обеим сторонам реки простирается пустыня, где кочуют туареги со своими стадами. Обычное разделение труда между кочевниками и земледельцами действовало и здесь: туареги пригоняли в прибрежные районы скот и получали за него от сонгаев зерно и рыбу. Конечно, не всегда отношения носили такой идиллически мирный характер. Случалось туарегам и нападать на беззащитные сонгайские селения, и угонять в рабство их жителей. Но и туареги не в состоянии были установить прочное господство на берегах Нигера: здесь очень много было проток, травяных зарослей и островов, а к передвижению по ним кочевники совершенно не были приспособлены. Поэтому набеги оставались неприятными эпизодами, а господствующей формой взаимоотношений всегда был обмен продуктами скотоводства и земледелия.
Условия, в которых жила основная часть сонгаев, сильно отличались от тех, что определяли формы общественной организации у малинке и родственных им народов. Все хозяйство сонгаев связано было с рекой, от нее одинаково зависели и рисоводы, и рыбаки. Подсечно-огневая система земледелия почти не применялась в местностях, населенных сонгаями. Поэтому не было особой нужды в существовании более крупных объединений, чем большая патриархальная семья, похожая на ту, с которой мы встречались у малинке. И делились сонгай на две большие группы соответственно двум главным отраслям хозяйства: рыбаки носили название «сорко», а земледельцы — «габион». А внутри этих двух групп существовали многочисленные патриархальные семьи.
В самом центре сонгайских областей, чуть ниже излучины Нигера, к реке выходит долина Тилемси. По ней проходила главная караванная дорога на север — к Гадамесу и Кайруану. И совершенно естественно, что у выхода Тилемси к Нигеру возник большой торговый город — самый старый из западносуданских городов. Это был Гао, с которым мы встречались уже не раз. И как мы видели, в 70-х годах IX в. ал-Якуби уже называл Гао столицей большого и могущественного царства.
Точно сказать, когда это государство возникло, мы, конечно, не можем. Если верить рассказу хрониста, то до принятия ислама царем сонгаев (а это произошло в 1010 г.) на престоле сменилось 14 правителей. Считая продолжительность жизни одного поколения в 25–30 лет, можно предположить, что первый сонгайский царь правил примерно в первой половине VII в. (а такой подсчет возможен потому, что у сонгаев сын наследовал отцу). Конечно, этот подсчет очень и очень приблизителен. Но во всяком случае можно с уверенностью сказать, что в конце VIII в. мусульманские купцы, принадлежавшие к секте ибадитов, о которой у нас уже шла речь, торговали с Гао.
Едва ли можно довериться хронистам в том, что касается происхождения первой сонгайской династии. Дело в том, что, после того как ислам утвердился в Западной Африке, многие местные правители принялись создавать себе родословные, возводившие их либо прямо к пророку Мухаммеду, либо к его ближайшему окружению, либо, уж на худой конец, просто к арабам, народу, давшему миру основателя мусульманской религии. Легенды эти сложились довольно поздно, никак не раньше XVI–XVII вв., а затем их просто прибавили к устному историческому преданию народов Западного Судана. Так и получилось, что династию Кейта в Мали позднейшие сказители стали возводить к некоему Билалю, любимому черному рабу Мухаммеда, а первого сонгайского царя хронист объявил пришельцем из Южной Аравии — из Йемена. Конечно же, принять такие легенды всерьез-нельзя. Поэтому некоторые исследователи, стремясь найти в них «рациональное зерно», решили, что основой для таких преданий послужило якобы северное, берберское происхождение первых сонгайских царей. В конечном счете дело опять-таки сводилось к попытке объявить создателями государства «белых» африканцев, а не негроидное население Судана. И только сравнительно недавно французский ученый Жан Руш неопровержимо доказал, что сонгайское государство создали сами сонгай, а вовсе не пришельцы с севера.
В Гао, пожалуй, раньше, чем в других местах Западного Судана, занял прочные позиции ислам. Вероятно, первыми, кто принес сюда новую религию, были купцы-ибадиты. И эта новая религия довольно долго просуществовала в Гао в своей сектантской форме. Любопытно, что во время раскопок в Гао обнаружили надгробные плиты с надписями на арабском языке, относящиеся к XI–XII вв. Причем тексты надписей удивительно похожи на те, что хорошо известны науке по мусульманским погребениям Испании. Очень могло быть, что и изготовляли такие надгробные плиты для Судана сначала в Испании и только позднее их изготовление перешло в руки местных мастеров. На одной из царских могильных плит был выбит пышный титул: «защитник веры господней». Это достаточно ярко рисует и размах международных связей Гао, и претензии сонгайских царей еще задолго до появления на исторической арене великого сонгайского государства, созданного трудами сонни Али и его преемника, основателя второй сонгайской династии, цари из которой носили титул «аския», — ал-Хадж Мухаммеда I.
Но до того как это государство было создано, сонгаям пришлось пройти через стадию вассального государства, подчиненного мансам Мали, В конце XIII в., после неудачной попытки царя Али Колена освободиться от мандингского владычества, войско Сакуры, тогдашнего правителя Мали, надолго привело царей Гао к покорности. Правда, попытки проявить независимость бывали и после этого — не случайно мансе Мусе пришлось пройти через Гао с большим войском на обратном пути из Египта. Но до наступления периода смут в Мали в последней четверти XIV в. сонгаям все же приходилось считаться с волей правителей Ниани. Зато когда это смутное время настало, сонгай довольно быстро и безболезненно избавились от необходимости признавать малийскую верховную власть. Уже в последние годы XIV в. Гао окончательно стал фактически независимым владением. А став самостоятельными, сонгайские цари немедленно принялись опустошать своими набегами восточные владения Мали. С этого момента начался неудержимый рост военной мощи сонгайского государства. Для его соседей наступало мрачное время.
Хроники Сонгаи
Прежде чем приступить к разговору о правлении сонни Али, нам, пожалуй, будет полезно познакомиться с теми источниками, которые позволят нам получить о государстве Сонгай гораздо больше интересных сведений, чем мы имели до этого, когда говорили о Гане и о Мали. Полезно еще и потому, что это покажет, насколько высок был уровень культуры в главных центрах Западного Судана и какую большую роль играли местные уроженцы.
Речь идет о двух исторических хрониках, написанных в XVI и XVII вв. Первая из них носит довольно обычное для средневековой поздней арабской литературы пышное название: «История искателя сообщений о странах, армиях и знатнейших людях». Ее автора звали Махмуд Кати. Этот первый известный нам западноафриканский историк принадлежал к народу сонинке и родился в знатной семье в 1468 г. Знатное происхождение открыло перед молодым человеком широкие возможности. Он получил превосходное по тому времени и тем условиям образование и еще очень молодым занял один из самых важных по значению постов в сонгайской администрации — пост кадия, мусульманского судьи, в Томбукту. Но и помимо этого Махмуду могли позавидовать многие: он вошел в число ближайших советников аскии ал-Хадж Мухаммеда I и сохранил это положение и при его преемниках.
Махмуд Кати прожил очень долгую жизнь — он умер в 1593 г. в возрасте 125 лет. За эти годы перед его глазами прошла вся история головокружительно быстрого подъема и такого же падения сонгайской державы. И по своей должности, и по своим обширнейшим личным связям он превосходно знал жизнь тех областей Западной Африки, которые входили в состав государства Сонгай. А то, что в судейской своей практике Кати сталкивался непосредственно и ближе всего с имущественными отношениями, делает его хронику совершенно бесценным источником: немного найдется в средневековой арабской исторической литературе трудов, которые бы содержали такое количество подробностей жизни и положения настоящих творцов истории — крестьян, ремесленников, рабов, — как «История искателя».
Писать книгу Махмуд начал в 1519 г. На протяжении всей остальной своей жизни он неустанно собирал все новые и новые дополнения. В конце концов ему удалось написать полностью только первые главы — жизнеописание своего покровителя — аскии ал-Хадж Мухаммеда I. Остальную часть хроники дописал уже в XVII в. один из его внуков по материалам, которые собрал дед. Внук этот оказался настолько скромен, что даже не оставил нам своего имени, как бы подчеркнув этим: вся заслуга принадлежит Махмуду Кати.
Автор второй хроники, носящей очень краткое и простое название: «История Судана», родился и жил уже в совсем другое время, в другой исторической обстановке, чем Махмуд Кати. Его звали Абдаррахман ас-Сади, и родился он уже после покорения Западного Судана марокканцами — в 1596 г. в Томбукту. На его личной судьбе смена правителей Судана не слишком отразилась. Он был родом из знатной фульбской или мандингской семьи, и это ему обеспечило должность имама — настоятеля мечети — сначала в Дженне, потом в Томбукту. А с 1629 г. ас-Сади стал одним из главных чинов в административном аппарате марокканского наместника Томбукту. В этой должности он и умер в 1655 г.
И все же благополучная личная судьба, высокое служебное положение при марокканцах не вытравили из души Абдаррахмана ас-Сади патриотических чувств. Весь текст хроники пронизан гордостью за великую сонгайскую державу, за крупнейших ее государей. С любовью рассказывал хронист о своем родном городе Томбукту, о его высокой культуре, о выдающихся и прославленных ученых, живших в этом городе. Недаром мог сказать об этой книге первый ее европейский издатель: «Этот народ, которому пытались отказать во всякой инициативе в деле прогресса, имел собственную культуру, не навязанную ему народом другой расы… Хроника связывает со всеобщей историей человечества целую группу народов, которые до сего времени были почти совершенно от этой истории отстранены».
Положение ас-Сади в марокканской администрации все же сказалось на его книге. Она, наверно, и задумана была благодаря тем возможностям, которые предоставляло автору исторического труда место активного участника «большой политики» Западного Судана во второй четверти XVII в. Именно политической стороной событий ас-Сади интересовался в первую очередь, здесь он широко пользовался и собственными наблюдениями, и какими-то не дошедшими до нашего времени документами.
«Великий колдун»
Имея в своем распоряжении эти две хроники, мы можем теперь возвратиться к правлению первого из великих сонгайских царей — сонни Али Бера, «Али Великого». Впрочем, и Махмуд Кати, и Абдаррахман ас-Сади, хоть и признавали Али видным полководцем и крупным правителем, никаких теплых чувств к нему не питали. «Притеснителем, лжецом., проклятым» именует его Кати. «Был он притеснителем, порочным, несправедливым, кровожадным тираном», — поддерживает его ас-Сади. Оба они рассказывают разные ужасы о преступлениях, которые якобы совершались по повелению Али. «Он приказывал бросать дитя в ступку, а матери — толочь его. И мать толкла ребенка живьем, и его скармливали лошадям», — рассказывает Кати. Особенное неудовольствие у обоих хронистов вызывало враждебное отношение Али к мусульманским законоведам и богословам. Они так и кипят благородным негодованием, когда речь доходит до бесчинств, действительных или мнимых, которые совершались по приказанию сонни Али и были направлены против благочестивых ученых. В чем же все-таки было дело? И действительно ли сонни Али был таким страшным извергом? Попробуем в этом разобраться.
Что касается жестокости правителя, то нам, право же, трудно судить, насколько правы или не правы авторы хроник. Не надо забывать, что речь идет о второй половине XV в. — времени, когда представления о гуманном довольно основательно отличались от нынешних. Очень может быть, что сонни Али и впрямь виноват был во многом из того, что ему приписывали. И все же, если бы дело заключалось только в личных качествах Али, едва ли Кати и ас-Сади обратили бы на них такое большое внимание. Ведь в конце концов аския ал-Хадж Мухаммед I, которого оба они описывали с почтительным восхищением, тоже не отличался чрезмерной мягкостью и перед пролитием крови противников не останавливался, когда это бывало необходимо.
Нет, главная причина враждебности хронистов к сонни Али заключалась именно в его неприязни к богословам и юристам. Оба они принадлежали как раз к этой социальной группе. А Кати был к тому же еще и приближенным аскии ал-Хадж Мухаммеда I, который отнял престол у законного наследника — сына сонни Али. И положение его обязывало…
Было и еще одно обстоятельство, которому Али был обязан ненавистью к себе факихов[10]. Обе хроники старательно подчеркивают: ислам сонни Али был-де очень поверхностен. Он исполнял многие обряды, связанные с прежними, домусульманскими культами; ас-Сади даже назвал его «великим колдуном». Но даже и в этом не было ничего необычного: ведь так по всему Западному Судану поступало великое множество новообращенных мусульман, и мы уже говорили об этом. Но говорили и о том, что первыми проповедниками ислама в Судане были сектанты-ибадиты, а Гао стал главным центром сектантства в Западной Африке. И вот как раз хариджитские симпатии первой сонгайской династии и возбуждали непримиримую ненависть у правоверных мусульман Дженне и Томбукту, а отсюда и ответные репрессии, направленные в особенности против Томбукту — признанного центра мусульманского правоверия в Западной Африке.
И все же за сонни Али нельзя было не признать многих достоинств. Кати рассказывает: «Был он победоносен и разорял любую страну, к которой обращал лицо. Войско, при котором он находился, никогда не бывало разбито: это был победитель, а не побежденный». Ас-Сади добавляет к этому отзыву: «Он располагал великой мощью, и большой твердостью». Всю свою жизнь Али провел в походах. За 27 лет ему пришлось помериться силами со многими противниками. Первыми среди них оказались моей — опасный южный сосед, против которого в свое время были бессильны армии государей Мали. Вскоре после своего вступления на престол сонни Али встретился в поле с царем моей Комдао, разбил и обратил в бегство его войско. Так началась целая серия походов на южных соседей, которая в конечном счете привела к полному спокойствию на южных рубежах Сонгай.
Но успехи в борьбе с моей имели лишь второстепенное значение. Главное внимание сонни Али и главные его усилия были обращены на запад и юго-запад: во второй половине XV в. сонгайский царь стремился к тому же, что за 200 лет до него удалось Сундиате и его ближайшим преемникам, — объединить под одной властью весь торгово-ремесленный центр тогдашнего Судана, лежавший вдоль среднего течения Нигера. Только на сей раз завоевание шло в обратном направлении — вверх по реке.
В 1468 г. правитель Томбукту призвал сонгайские войска в свой город. За 35 лет своего владычества туареги, возглавляемые Аки-лом аг-Малвалем, сумели достаточно убедительно продемонстрировать жителям все неудобства, которые влекло за собой господство кочевников над большим торговым городом. При этом они не делали особого различия между простым народом и городской знатью. И поэтому именно верхушка города — правитель и окружавшие его крупные купцы и факихи — проявила инициативу, призвав сонгайского царя принять город под свою высокую руку.
Однажды к султану поступили три тысячи мискалей золота, и он палкой, что была у него в руке, разделил их на три части для своих людей (их обычай — не касаться золота руками). И сказал султан: «Это — доля ваших одежд, это — доля ваших бичей, а это — вам в подарок!». Они ответили ему: «Но ведь это, по обычаю, принадлежит томбукту-кою…»[11]. Султан возразил: «А кто такой томбукту-кой? Что он значит? И в чем его преимущество? Унесите это — оно ваше!».
Это было уже слишком. Стерпеть — значило навсегда лишиться всех огромных выгод, с которыми связано было положение верхушки томбуктского купечества. И вот, говорит ас-Сади, правитель города «тайком послал к сонни Али, дабы тот пришел, а он-де сдаст ему Томбукту, и сонни будет им править. Он описал ему слабость Акила во всем — слабость его власти и его тела. И в доказательство своей правдивости послал сонни сандалию Акила — ведь Акил был человеком очень маленьким и щуплым. А сонни ответил ему согласием».
В конце января 1469 г. сонни Али вступил в Томбукту. Туареги не оказали сонгаям никакого сопротивления. Больше того: узнав о приближении войска сонгаев, Акил заблаговременно пригнал множество верблюдов и вывез из города виднейших мусульманских богословов. Ушли многие: отношение сонни Али к этой категории людей было достаточно хорошо известно. И в самом деле, войдя в город, Али довольно круто обошелся со многими из оставшихся там факихов. И все-таки эти преследования, наверняка, не были так ужасны, как потом расписали их хронисты. Во-первых, сонгайский царь обвинял факихов, в значительной части выходцев из североафриканских городов, в пособничестве туарегам, традиционным нарушителям порядка и тишины в караванной торговле. А поведение мусульманской верхушки Томбукту во время туарегского владычества давало к такому обвинению предостаточно оснований. Во-вторых, довольно скоро после эвакуации в Уалату очень многие из беглецов проделали этот же путь в обратном направлении и спокойно водворились на прежних местах, не испытав со стороны сонгаев никаких притеснений. В-третьих, те из факихов, кто честно сотрудничал с новым хозяином Томбукту, и вовсе не имели оснований жаловаться на его дурное отношение. И вообще ас-Сади, не связанный придворным положением, как Махмуд Кати, добросовестно описав жестокости, которые будто бы чинил сонни Али, вдруг совершенно неожиданно заявил: «Но при всех несчастьях, что причинил он ученым, сонни Али признавал их превосходство и говаривал: «Если бы не ученые, жизнь не была бы ни сладка, ни приятна!». Иным из них он оказывал благодеяния и почитал их. А когда выступил против фульбе племени санфатир, то послал много своих женщин в подарок старейшинам Томбукту и некоторым ученым и праведникам». Кстати, сам ас-Сади был правнуком одной из этих женщин.
Так мало-помалу объективная оценка деятельности последнего сонгайского государя из династии ши[12] пробивала себе дорогу через густой туман предубеждения. При всей нелюбви купеческо-мусульманской верхушки Томбукту к сонни Али она не могла не признать, что, подчиняя себе среднее течение Нигера, этот, по выражению Махмуда Кати, «могущественный султан, жестокий сердцем», делал нужное ей дело.
Вслед за Томбукту наступила очередь Дженне. Этот город имел то преимущество, что стоял в самом центре средней дельты, среди бесчисленных рукавов реки Бани, озер и болот. Обилие воды облегчало доступ в город купцам и надежно прикрывало его от врагов. Хотя во времена расцвета Мали царь Дженне — «дженне-вере» — и считался вассалом даже не самого мансы, а его жены, которой и платил дань, но хроники утверждают, что жители Дженне выдержали 99 осад! Цифра, конечно, совершенно невероятная, но в таком предании очень хорошо отразилось уважение к богатому и самостоятельному городу, которое испытывал даже такой патриот Томбукту, как автор «Истории Судана».
Надо сказать, что ас-Сади вообще описал Дженне очень подробно и красочно. «Дженне, — говорит он, — крупный рынок мусульман. В нем встречаются обладатели соли из рудников Тегаззы и хозяева золота из рудника Биту. Эти благословенные рудники не имеют себе равных во всем этом мире. Люди находят в торговле в этом городе большую выгоду; в нем сложились крупные состояния, которые может счесть только Аллах.
Из этого благословенного города в Томбукту прибывают караваны со всех сторон света — с востока и запада, с юга и севера… Дженне окружен стенами, а в них было одиннадцать ворот; впоследствии трое ворот заложили и их осталось всего восемь. Когда ты находишься вне города и в отдалении от него, он тебе кажется всего лишь рощей из-за обилия в нем деревьев. Но когда войдешь в город, то кажется, будто в нем нет ни единого дерева…
Земля Дженне плодородна и возделана; она полна рынками во все дни недели. Говорят, в этой земле имеется семь тысяч семьдесят семь селений, прилегающих одно к другому. Чтобы доказать тебе их близость, достаточно сказать, что когда султану понадобится присутствие какого-либо человека, что живет в селении близ озера Дебо, то посланный выходит к воротам в стене и зовет того, чьего присутствия желает государь. Люди передают призыв от селения к селению — он достигает нужного человека в течение часа, и тот является».
Человек своего времени и своего круга, ас-Сади твердо усвоил, что Дженне и Томбукту составляли две половины единого торгового центра всего Западного Судана, что, следовательно, благоденствие одного из них было неразрывно связано с богатством и процветанием другого.
Но не хуже ас-Сади в середине XVII в. понимал эту истину и сонни Али во второй половине XV в. И в начале 70-х годов сонгайское войско подступило к стенам Дженне. Осада тянулась долго, и осажденные, и осаждающие испытывали жестокую нужду в продовольствии. А взять город приступом сонгай не могли: мешала вода, окружавшая город со всех сторон. Наконец, истощенные защитники города сдались — это произошло в 1473 г. Победитель обошелся с Дженне в высшей степени милостиво: оказал почтение правителю города (ас-Сади объяснял: «Это и есть причина того, что до сего времени султан Сонгай и султан Дженне сидят на одном ковре») и женился на его матери — вдове прежнего дженне-вере, умершего во время осады. Этим Али закрепил за собой права на верховную власть над городом и прилегающими местностями. После этого он мог спокойно возвратиться в коренные сонгайские владения.
Взятием Дженне сонни Али завершил воссоединение экономического центра Западного Судана под верховной властью царей Гао. Вместо власти мелких царьков установилась сильная, централизованная и обладавшая поддержкой крупного купечества власть сонгаев. Это и было результатом всей деятельности последнего ши, этим важнейшим достижением и заслужил он ту высокую оценку, которую неохотно, так сказать сквозь зубы, дал ему даже Махмуд Кати: «Он не оставил ни одной области, ни одного города, ни одного селения, куда бы он ни пришел со своей конницей, воюя с жителями этих местностей и совершая нападения на них».
Теперь, когда сонгайское государство заняло на политической арене Западного Судана то место, которое перед этим почти два века занимала держава Кейта, произошло передвижение к северо-востоку центра всей караванной торговли. С падением Мали пришел в упадок и экономический центр, сложившийся вокруг Ниани, когда этот город был политической столицей страны. А так как возник этот новый узел торговых путей на искусственной основе, без прочных хозяйственных предпосылок, то совершенно закономерным оказалось и последующее возвращение торгового центра Судана в те места, где его существование было оправдано и географией торговых путей, и древними устойчивыми хозяйственными связями: в треугольник, который образуют на карте три города — Гао, Дженне и Томбукту.
Неукротимый воитель, сонни Али и умер в походе. В ноябре 1492 г., возвращаясь из победоносной военной экспедиции в область Гурма, на правом берегу Нигера выше Гао (в языке сонгай слово «гурма» и сейчас обозначает правый берег Нигера, так же как слово «хауса» — левый), он утонул в одном из рукавов реки. Многочисленные его недоброжелатели, конечно, сразу же объявили такую смерть карой Аллаха за недостаточно почтительное отношение к мусульманскому духовенству.
Ко времени смерти сонни Али сонгаям подчинялась вся долина Нигера, от Денди до озер Дебо и Фагибии. Всем было ясно, что в Западном Судане складывается новая великая держава. И завершить работу сонни Али досталось другому великому правителю— ал-Хадж Мухаммеду I, основателю новой династии.
После кончины Али престол перешел к его сыну Бубакару, по прозванию «ши Баро». Войско, сопровождавшее Али в его последнем походе, провозгласило Бубакара царем. Но ему пришлось царствовать всего четыре месяца — даже добраться до столицы государства новый ши не успел.
Создатель династии
Среди ближайшего окружения сонни Али выделялся своими военными и дипломатическими способностями некий Мухаммед Туре. Сонинке по происхождению, он выдвинулся во время непрерывных походов сонни Али и достиг высшего военного звания в сонгайском государства — «аскии». Он и возглавил заговор против ши Баро.
Хронисты всячески превозносят личные достоинства Мухаммеда. Его называют счастливейшим, праведнейшим, ведомым прямым путем и многими другими эпитетами такого же характера. Несомненно, это был незаурядный человек, опытный и смелый военачальник и не менее опытный и ловкий придворный. Как деликатно рассказывает ас-Сади, аския «в глубине души замыслил добиться халифской власти и ради того прибегнул ко многим хитростям. А когда завершил укрепление веревки тех хитростей, то выступил вместе со своими приближенными против Бубакара Дао и напал на него…» Если учесть, что между смертью сонни Али и открытым выступлением аскии против преемника Али прошло всего два месяца, то придется признать, что интриганом новый претендент на сонгайский престол был выдающимся.
Первое нападение окончилось неудачно: ши Баро, правда, обратился в бегство, но захватить его не удалось. Теперь нужно было собрать войско и решать спор о власти в большом сражении. И тут вдруг обнаружилось, что силы претендента совсем не так уж велики, чтобы можно было быть уверенным в победе. Почти все вассальные князья остались верны сыну Али, а с претендентом пошел только один из них: наместник области Бара, который носил сразу два титула: сонгайский — «бара-кой» и мандингский — «манса».
В этой сложной обстановке и проявились политические таланты Мухаммеда Туре. Он сумел привлечь на свою сторону очень сильного союзника — мусульманскую верхушку торговых центров страны. При войске Мухаммеда находились многие видные факихи, они входили в состав его совета, им пришлось выполнять сложные дипломатические поручения аскии. Формальной причиной оттяжки решающего сражения были неоднократные посольства от претендента к ши Баро. Таким путем аския достигал сразу трех целей: во-первых, оттягивая время столкновения, занимался подготовкой своего войска; во-вторых, демонстрировал свое миролюбие; в-третьих, доказывал свое мусульманское благочестие. Ведь главным предложением, которое он делал своему законному государю, было: «Прими ислам и подчинись!». По всей вероятности, ши Баро продолжал держаться отцовской линии в делах веры, а это играло на руку Мухаммеду.
Одним из послов Мухаммеда к сыну сонни Али во время этого почти двухмесячного стояния обеих армий друг против друга неподалеку от Гао стал автор «Истории искателя» Махмуд Кати, несмотря на свою молодость — ему тогда было всего 25 лет. Он довольно красочно описал свое посольство: «И аския послал меня к нему — меня, то есть нуждающегося бедняка альфу[13] Кати. Я отправился к ши и нашел его в местности Анфао, а это поблизости от Гао. Я передал ему послание повелителя верующих, аскии, и обратил к нему речи, сколь я мог красноречивые, как приказал повелитель верующих аския ал-Хадж Мухаммед. Я был с ним любезен, страстно желая, чтобы повел его Аллах благим путем. Но ши отказался наотрез, разгневался и приказал в тот же момент ударить в барабан, начав собирать войско. Он грозил и метал молнии, чтобы запугать меня. А я к себе самому прилагал слова поэта: «И погибну сегодня, побеждая людей креста и его почитателей!». Факихи из окружения аскии отлично понимали, что победа претендента обеспечит им небывалые до того привилегии в государстве, и старались не за страх, а за совесть.
Как и следовало ожидать, переговоры не привели ни к какому результату: слишком крупной была ставка в той игре, которую вели оба противника. И 12 апреля 1493 г. произошло решительное столкновение. Ши Баро был разбит наголову, обращен в бегство и больше не предпринимал никаких попыток вернуть себе отцовское наследие. Аския Мухаммед стал неограниченным повелителем сонгайского государства.
За 37 лет своего царствования аския Мухаммед совершил не меньше походов, чем сонни Али. Его военачальники небывало расширили пределы государства: власть сонгаев пришлось признать городам нынешней Северной Нигерии, брат и ближайший помощник аскии Амар Комдиаго положил начало заселению сонгаями областей к юго-западу от Томбукту, на западе сонгайские генералы со своими отрядами доходили до плоскогорья Фута-Джаллон. И все же не это оказалось главной заслугой первого царя из династии аскиев (прежнее высшее военное звание Мухаммед сделал царским титулом) перед государством. В отличие от великого воителя сонни Али аския Мухаммед I может считаться великим устроителем сонгайской державы. Именно ему она была обязана своим государственным строем в пору наивысшего расцвета.
Одним из первых законодательных актов нового правителя Сонгай было разделение народа на две категории: на «подданных и войско», рассказывает хроника. Так определилась одна из главных особенностей, отличавших Сонгай от его предшественника Мали. В государстве аскиев войско состояло преимущественно из свободных сонгаев; рабы в его состав не включались (особенно в первое время), их использовали либо для продажи, либо сажали на землю. А это имело и дальнейшие последствия, причем немаловажные: раз не было рабского войска, значит, не могло быть и рабской аристократии, сыгравшей такую грустную роль в истории Мали.
Аския Мухаммед I создал и систему управления государством. Конечно, многое в ней досталось сонгаям в наследство от Мали. И конечно же, у всех предшественников аскии, у всех царей, носивших титул «ши», тоже был какой-то административный аппарат. Но настоящую продуманную и централизованную администрацию создал только Мухаммед.
Обе хроники — и «История искателя», и «История Судана» — полны названий должностей — государственных и придворных. Причем эти должности охватывали самые разнообразные области жизни государства. Здесь были и «канфари», или «курмина-фари», — высший сановник державы, наместник ее западных областей; и следующий за ним по значению «балама» — начальник управления и армии в центральной части государства; и «хи-кой» — начальник царских кораблей; и «уандо» — начальник дворцовой полиции; и великое множество наместников отдельных областей и городов с самыми разными титулами. Среди этих названий часть составляли сонгайские, часть — мандингские, и это вполне понятно. Многие местности, до того как попасть под власть сонгаев, были провинциями Мали, и правители Гао, точно так же как и их предшественники, старались не разрушать, а использовать прежнюю систему управления новыми владениями. К тому же новая династия — у нас уже была об этом речь — происходила из народа сонинке, относящегося к той же группе, что и малинке. И при дворе аскии не слишком задумывались над происхождением того или иного титула или звания; в этом отношении там не страдали национальной ограниченностью.
Участие мусульманского духовенства в борьбе аскии Мухаммеда против ши Баро заставило нового правителя подчеркнуто демонстрировать свою почтительность в отношении факихов. Но одними внешними знаками почтения дело не обошлось. Одним из первых шагов, которые аския предпринял, придя к власти, стало назначение кадиев, мусульманских судей, во все мало-мальски заметные города страны, не говоря уж о таких центрах, как Дженне или Томбукту. А кадии пользовались многими преимуществами, имели очень реальную власть в своих городах. Правда, аския и в этом случае проявил себя трезвым и практичным политиком. Большинство привилегий дано было в начале его царствования, а впоследствии он их мало-помалу отобрал. Махмуд Кати, человек, чья осведомленность не вызывает ни малейшего сомнения, так же как и его преданность аскии, очень хорошо понял смысл этого. «Все это было, — рассказывал он, — в начале его деятельности ради согласия сердец его народа. Когда же его власть укрепилась и государство утвердилось, аския от всего этого отступил». Но все-таки если отнять ту или иную привилегию в церемониале было несложно, то гораздо труднее было отобрать у факихов реальную их власть там, где они ее получили.
Вот как обстояли, например, дела в Томбукту. Здесь кадий Махмуд ибн Омар возымел такую силу, что аскии пришлось специально приехать к нему для выяснения животрепещущего вопроса: кто же все-таки хозяин в городе?
Махмуд Кати очень живо рассказал, как аския, помянув своих предшественников и предшественников кадия, Спрашивал: «Разве же эти кадии препятствовали государям свободно распоряжаться в Томбукту и делать в нем то, что им хотелось: повелевать, запрещать, взимать дань?!». Махмуд ибн Омар хладнокровно ответствовал: нет, не препятствовали. «Так почему же ты, — возмутился аския, — мешаешь мне, отталкиваешь мою руку, выгоняешь моих посланцев, которых я отправлял по своим делам, бьешь их и велишь гнать из города?!». В ответ кадий сослался на то, что в начале своего правления аския попросил у него, Махмуда ибн Омара, духовного покровительства и заступничества, дабы спасти его от адского пламени.
Интереснее всего то, что, хотя произвольный характер такого расширенного толкования просьбы аскии был совершенно очевиден, Мухаммеду пришлось уступить: он сделал вид, что вполне удовлетворен объяснениями кадия, и уехал. Даже на вершине своего могущества он не мог себе позволить вступить в открытую борьбу с городской знатью Томбукту, которую представлял кадий Махмуд.
Через четыре с половиной года после своего вступления на престол, в октябре 1496 г., аския Мухаммед I отправился в хадж. В истории средневековых западносуданских государств такое путешествие всегда было важнейшей внешнеполитической акцией — мы видели это на примере хаджа Мусы I. Для аскии же совершить хадж значило, кроме того, еще и подтвердить ту репутацию борца за мусульманское правоверие, которой он добился во время войны против «безбожной» династии, ши.
Оформление хаджа на сей раз было несравненно более скромным, чем во времена мансы Мусы. Аскию сопровождали всего полторы тысячи воинов — пятьсот конных и тысяча пеших. И ни о каких ста вьюках золота не было и речи: караван вез всего триста тысяч мискалей, которые в свое время оставил сонни Али на хранение хатибу мечети в Томбукту. Конечно, и это были немалые средства: на треть этой суммы аския смог купить в Медине большие участки земли, которые затем пожаловал в пользу мусульман-паломников из Западной Африки. Но все же экономические возможности Мухаммеда Туре оказались меньше возможностей Мусы Кейта. Западный Судан, разоренный беспрерывными войнами на протяжении всего XV в., не мог обеспечить первого аскию такими же богатствами, как его прославленного предшественника.
Как и следовало ожидать, и Кати, и ас-Сади много рассказывают об образцовом благочестии аскии Мухаммеда, о его многочисленных беседах с богословами и потомками пророка в Каире, Мекке и Медине. Во всех этих рассказах почти неизменно присутствуют два ближайших советника аскии — факихи Салих Диавара и Мухаммед Туле. Многое в рассказах о пребывании Мухаммеда— откровенная легенда, так же, как и в сообщениях о чудесных встречах его приближенных со сверхъестественными существами — джиннами. И причина здесь одна (не говоря уж, конечно, об обычном стремлении хронистов приукрасить личность и заслуги любимого героя): не было ничего более существенного, о чем стоило бы рассказывать. Хадж сонгайского государя не вызвал на тогдашнем Переднем Востоке почти никакого отклика. На этот район надвигалась страшная турецкая угроза, и в Дамаске или в Каире было попросту не до хаджа царя далекой страны, лежавшей где-то позади великой пустыни.
Единственным существенным результатом паломничества аскии оказалось то, что он был провозглашен халифом, т. е. не только светским, но и духовным главой мусульман Западной Африки. Никто из его предшественников этого титула не имел. Впрочем, внешнеполитического значения этот акт не имел никакого, никто не собирался считаться с мнением мекканского шерифа[14]. Зато внутри своей державы Мухаммед мог надеяться извлечь из нового титула некоторую пользу: титул делал его более независимым от мусульманской верхушки Западного Судана, позволял как-то ограничить ее постоянно растущие аппетиты.
В августе 1498 г. аския Мухаммед — теперь уже ал-Хадж Мухаммед— возвратился в Гао. И сразу же отправился в поход на моей. А на следующий год последовал второй поход — на запад, в Тендирму, а за ним другие с редкими перерывами. Государство росло, и хлопот у аскии не убавлялось. То один, то другой «мятежник» выступал против сонгайской власти. Большинство из них терпело жестокие поражения от самого Мухаммеда или от его генералов. Но одному все же удалось освободиться от зависимости, отразив все сонгайские карательные экспедиции. Случай этот заслуживает того, чтобы о нем рассказать поподробнее.
В 1516 г. аския возвращался из похода на Агадес; в походе этом его сопровождал правитель города Кебби, расположенного на севере современной Нигерии. Этот правитель, носивший титул «канта», выставил вспомогательный отряд и по окончании похода рассчитывал получить свою долю добычи. Время шло, но никто не торопился выделять союзнику его долю. Тогда канта обратился к «денди-фари», наместнику провинции Денди, которая граничила с его владениями, но тот ответил ему грубой насмешкой. Между тем войско царя Кебби взволновалось, угрожая мятежом. Но и на повторную просьбу канты денди-фари ответил отказом. И тогда жители Кебби открыто выступили против сон-гайского владычества.
Наместник Денди попытался справиться с восстанием своими силами, но это не привело ни к какому результату. Не больше успеха выпало и на долю самого аскии Мухаммеда, явившегося на следующий год на выручку своему наместнику. Жители Кебби успешно отразили все приступы сонгаев и отстояли свою независимость — «до конца державы Сонгай», как пояснял ас-Сади.
Но поражение в Кебби осталось пока что единственным темным пятном на блестящем общем фоне, какой представляло собой царствование ал-Хадж Мухаммеда I.
«Описание Африки, третьей части света»
Между 1511 и 1515 гг. Западный Судан дважды посетил молодой араб по имени ал-Хасан ибн Мухаммед ал-Ваззан аз-Зайяти. Даже для богатого интересными человеческими судьбами времени Возрождения его жизнь оказалась на редкость своеобразной, можно даже сказать — удивительной.
Он родился в Гранаде в 1493 или 1494 г., через год-два после падения последнего мусульманского княжества в Испании. Вскоре после его появления на едет родители увезли мальчика в Фее. В столице султанов Марокко — сначала из династии Бану Ваттас, а потом шерифов-саадитов — ал-Хасан получил блестящее образование и рано начал успешную карьеру при дворе. В Западную Африку он ездил вместе с отцом в составе официальных марокканских миссий султана Мулай Ахмеда ал-Касима. Затем ал-Хасан отправился в хадж и несколько лет провел на Востоке. И когда в 1520 г. он возвращался из этого путешествия, его судно было захвачено сицилийскими пиратами у побережья Туниса. Молодой образованный араб, превосходно говоривший по-испански — ведь это был его второй родной язык! — произвел на морских разбойников такое большое впечатление, что, вместо того чтобы продать его на невольничьем рынке где-нибудь в Генуе или в Пизе, они подарили его папе Льву X вместе с таким диковинным зверем, как жирафа. Папа, сын известного покровителя гуманистов Лоренцо Медичи, прозванного Великолепным, сумел оценить подарок по достоинству. По его поручению пленник, получивший при крещении имя Джованни Леоне, преподавал арабский язык в Риме и Болонье. В 1526 г. он закончил свой самый известный труд: «Описание Африки, третьей части света, и примечательных вещей, какие там есть». Как автор этого «Описания» он и приобрел мировую славу под именем Льва Африканского. Около 1528 г. ему Удалось вернуться в Северную Африку, там он снова принял ислам и спокойно закончил свои дни в Тунисе в 1552 г.
Рассказ Льва Африканского о Западной Африке был создан в пору самого расцвета сонгайского государства. И поэтому в нем нарисована, по словам современного английского исследователя, «картина одной из величайших политических организаций, какую когда-либо создавали негры». Но надо сказать, что экономическая сторона увиденного гораздо больше интересовала автора «Описания Африки», чем политика. Он впитал в себя многовековую традицию, рассматривавшую страны по южную сторону Сахары как постоянных торговых контрагентов купцов Северной Африки. В начале XVI в. эта традиция была ничуть не менее живой, чем в середине XIV в., когда о Западном Судане писал Ибн Баттута.
Подробнее всего описал Лев Африканский великие торговые города — Гао и Томбукту. Однако он обратил внимание и на Ниани, где тоже побывал. И его описание малийской столицы очень выразительно показывает, насколько упало могущество правителей из династии Кейта к этому времени, хотя хозяйство Мали все еще сохраняло достаточно высокий уровень развития. Вот это описание.
«В этой стране есть крупное поселение, где находится почти шесть тысяч очагов. И по этому селению Мелли названа остальная часть королевства. В том селении живут король и его двор.
Страна изобилует зерном, мясом и хлопком. В селении Мелли есть множество ремесленников и купцов — туземцев и иноземных; но иностранцы гораздо более любезны королю. Жители богаты от торговли, которую они ведут, снабжая многими вещами Гвинею и Томбутто. У них есть много храмов и священников, а также преподавателей, читающих в храмах, ибо коллегий они не имеют.
Именно эти люди — те, кто более всего культурен, более всего разумен и более всего прославлен из всех черных, тем более что они первыми примкнули к вере Махумета. С того времени они находились под владычеством великого государя… И власть оставалась у его потомков до времени Аскии, который их сделал данниками, так что ныне этому сеньору[15] нечем прокормить свое семейство из-за тягот, которые на него возложены».
Лев Африканский был объективным и трезвым наблюдателем. Блеск победоносной сонгайской державы и жалкое состояние, к какому сведен был в эту пору авторитет государей Мали, не могли скрыть от него той роли, которую сыграли малинке и родственные им народы в политической и культурной истории Западной Африки.
Гораздо мажорнее звучит описание Томбукту — города, который к этому времени переживал самый расцвет, хозяйственный и культурный. И Лев при рассказе об этом городе не пожалел ярких красок.
«В этом городе, — говорит он, — много лавок ремесленников, купцов и в особенности ткачей, изготовляющих хлопчатобумажные ткани. Попадаются также европейские ткани, привозимые берберийскими купцами… Жители очень богаты, особенно чужестранцы, что здесь поселились. Так что нынешний король выдал двух своих дочерей за двоих братьев-купцов из-за богатства последних.
В упомянутом городе есть много колодцев с пресной водой, хотя, когда Нигер разливается, вода доходит до города по нескольким каналам. Имеется величайшее изобилие зерна и скота, поэтому жители потребляют много молока и масла. Однако очень не хватает соли, так как она доставляется из Тегазы, отстоящей от Томбутто примерно на пятьсот миль. И один раз, когда я оказался в Томбутто, вьюк соли стоил восемьдесят дукатов.
Королю принадлежит большое богатство в пиастрах и золотых слитках, один из которых весит тысячу триста фунтов. Двор короля хорошо устроен и великолепен. Когда король отправляется со своими придворными из одного города в другой, то едет верхом на верблюде, а лошадей конюхи ведут под уздцы. Если же приходится сражаться, то конюхи стреноживают верблюдов и все солдаты садятся на лошадей.
Всякий раз, как кто-либо хочет говорить с этим королем, он становится перед ним на колени, берет горсть земли и сыплет ее себе на голову и на плечи: это знак почтения. Но его требуют лишь от тех, кто не говорил с королем раньше, или же от послов.
Король содержит около трех тысяч всадников и бесчисленных пехотинцев, которые вооружены луками… и обычно стреляют отравленными стрелами. Король часто воюет с недружественными соседями и с теми, кто не желает ему платить дань. Одержав победу, он приказывает продать в Томбутто всех взятых с боя, вплоть до детей.
В этой стране не водятся лошади, исключая некоторых мелких иноходцев — на них ездят в своих путешествиях купцы, а также некоторые придворные в городах. Хорошие же лошади доставляются из Берберии. Как только они приходят с берберийским караваном, король приказывает записать их количество. Проходит двенадцать дней, он выбирает ту, которая ему больше нравится, и оплачивает достаточно честно…
В этом городе есть много судей, ученых и священников. Все они получают хорошее жалованье от короля. Король весьма почитает людей ученых. В городе продаются также многие рукописные книги, которые приходят из Берберии. И они дают больше дохода, чем остальные товары.
Вместо монеты они обычно используют куски чистого, без примесей золота, а для мелких покупок — привозимые из Персии раковины, четыре сотни которых оцениваются в дукат. Шесть и две трети их дуката составляют римскую унцию[16].
Эти жители — люди приятного нрава. Они имеют обыкновение проводить время с десяти часов вечера до часу ночи, почти непрерывно играя на музыкальных инструментах и танцуя по всему городу. Горожане держат в услужении много рабынь и рабов…».
И уж совсем восторженным гимном западноафриканской торговле звучит рассказ о рынках Гао: «Здесь есть исключительно богатые купцы, и сюда постоянно приезжает большое количество черных, которые здесь покупают ткани, привезенные из Берберии и из Европы… Здесь есть также определенное место, где должны продаваться рабы, особенно в такие дни, когда обыкновенно собираются купцы. И молодой раб в возрасте пятнадцати лет продается за шесть дукатов; также продают и детей…
Удивительно видеть, какое множество товара доставляется сюда ежедневно и сколь дороги и великолепны все предметы. Лошади, купленные в Европе за десять дукатов, перепродаются по сорока, а иной раз и по пятидесяти дукатов за штуку. Нет такой грубой европейской ткани, которую бы здесь не продали по четыре дуката за локоть. А если бывает что-нибудь толкое, они дадут за локоть и пятнадцать дукатов. Локоть же венецианского пурпура или турецкой ткани стоит здесь тридцать дукатов. Меч здесь оценивают в три или четыре кроны, равно как и шпоры, уздечки и прочие подобные товары. Пряности тоже продаются по высоким ценам. Но из всех других товаров наиболее, до крайности, дорога соль».
И вот, когда читаешь эти отзывы умного и наблюдательного современника аскии Мухаммеда, все настойчивее возникает желание спросить — так что же лежало в основе всего этого великолепия? На чем держалась в конечном счете вся держава аскиев? Проще говоря, что служило экономической базой сонгайского государства в период недолгого его расцвета — практически меньше ста лет, с середины 90-х годов XV в. до того страшного мартовского дня 1591 г., когда разгром марокканцами отборных сил аскии Исхака II при Тондиби решил судьбу Сонгай?
И здесь нам приходится снова обратиться к хроникам Махмуда Кати и Абдаррахмана ас-Сади. Очень многое становится понятным при чтении отдельных рассказов, которые сами-то хронисты считали в лучшем случае просто юридическими казусами.
Крестьяне и рабы
В начале этой главы нам уже привелось говорить, что поливное рисоводство и рыболовство были основой хозяйства народа сонгай еще в очень отдаленные времена. Так было и в течение XV–XVI вв., то же остается и в наши дни. Говорили мы и о том, что при поливном земледелии не было надобности в таких многочисленных по своему составу объединениях людей, каких неизбежно требовала подсечно-огневая система обработки земли, господствовавшая в средневековом Мали. К тому же поливное земледелие вообще, а рисоводство в особенности гораздо более продуктивная форма хозяйства, чем подсека, и дает оно гораздо большие урожаи. Но зато и требует оно намного больше труда, как всякая вообще интенсивная форма хозяйства. И поэтому в сонгайских селениях никогда не бывало излишка рабочих рук.
В течение всего XV в. сонгайские цари, от ши Мухаммеда Дао до сонни Али Бера, вели непрерывные войны. До правления аскии ал-Хадж Мухаммеда I военнообязанным считалось все мужское население царства. Это, несомненно, очень тяжело отзывалось на состоянии земледелия, так же как и всех остальных отраслей хозяйства: народ сонгай немногочислен, даже недавно, в 60-х годах XX в., он насчитывал всего около 800 тысяч.
А 500 лет назад эта цифра была намного меньше.
Поэтому, когда аския Мухаммед разделил народ на «войско» и «подданных», обязав подданных заниматься крестьянским трудом, он руководствовался прежде всего хозяйственной необходимостью: войны требовали людей, способных сражаться, но людей этих надо было кормить. А для этого требовалось поддерживать на каком-то минимальном уровне сельское хозяйство.
Впрочем, можно предположить, что не только эти соображения заставили основателя новой династии осуществить такую капитальную реформу общественного устройства сонгаев. В XV в. войны стали не только традиционным занятием правителей, знати и войска, но и огромным источником доходов для них всех. Ведь вся добыча подлежала разделу. А отсюда следовало простое рассуждение, что в таком случае правящей верхушке выгоднее содержать сравнительно немногочисленное профессиональное войско, так сказать, военное сословие, чем созывать ополчение для каждого набега, — выше военные качества солдат и меньше недовольных при разделе добычи. Тем более, что реформа ал-Хадж Мухаммеда I отстраняла от военной службы беднейшие, самые беспокойные и потенциально самые «опасные» слои сонгайского населения.
Но даже реформа ал-Хаджа не могла бы обеспечить быстрый подъем разоренного хозяйства. Рабочих рук не хватало. Выход же из этого затруднения был один, давно уже известный и довольно широко применявшийся в Мали, — а для сонгаев Мали всегда служил образцом. Речь идет о сажании на землю рабов, захваченных в походах.
И с правления аскии ал-Хадж Мухаммеда I начинается стремительное увеличение числа рабских поселков на территории Сонгай.
Суданские хроники, особенно «История искателя» Махмуда Кати, полны рассказами о таких поселениях. Жителей их хронисты обычно называли «зинджами». У этого названия довольно любопытная история. В классической арабской литературе домонгольского времени, т. е. до середины XIII в., слово «аз-зиндж» обозначало чернокожих коренных жителей восточного побережья Африки, население же Западной Африки арабы называли просто «черными» — «ас-судан». А кроме того, «зинджами» называли и африканских рабов — их в большом количестве вывозили из Восточной Африки в Южный Ирак и там использовали на самых тяжелых оросительных работах. В XVI и XVII вв. это слово в первоначальном значении уже почти никто не применял. Но зато в лексикон западноафриканских чиновников и хронистов вошло вторичное, уже переосмысленное значение слова «аз-зиндж». И называли им любую из очень многочисленных зависимых и неполноправных групп населения Западного Судана.
Сам первый аския во время своих походов захватил у сонни Али 24 «племени» рабов[17], которых Али отобрал у царей Мали; ал-Хадж рассматривал эти «племена» как свое законное наследство. Каждая из этих рабских групп несла определенные повинности: часть из них должна была поставлять установленное количество зерна с каждой супружеской пары, часть изготовляла оружие для царского войска — это были кузнецы, некоторых использовали как личных слуг аскии и его родни или же в качестве прислуги при царских лошадях.
Повинности могли изменяться. Так, во времена правителей Мали с тех, кто обязан был поставлять зерно, брали урожай с 40 локтей обработанной земли. Во времена сонни Али было приказано объединять рабов в «бригады» по 100 человек каждая — такие бригады работали в поле под наблюдением надсмотрщиков с барабанщиками и флейтистами, а весь урожай уходил на прокормление воинов сонни. Когда же эти люди перешли в собственность аскии ал-Хаджа, он установил для них подать зерном, причем размер ее не мог превысить 30 мер. По сравнению с предыдущим периодом это могло показаться облегчением. Так бы оно и было, если бы аския одновременно не наложил на рабов гораздо более тяжкую дань. «И брал аския Мухаммед некоторых из их детей, обращая их в цену лошадей»[18], — спокойно поясняет Кати. Он оставался человеком своей эпохи и своего круга, и такие вещи были для него совершенно обыденным явлением.
Но помимо тех рабов, что достались аскии ал-Хадж Мухаммеду, так сказать, по наследству от прежней династии, он и сам в своих походах угонял в полон многие тысячи людей. Когда в 1495 г. его войско завоевало город Диагу, аския, рассказывает хроника, «захватил в ней 500 строителей и 400 увел в Гао, дабы использовать их для себя… вместе с их строительным инструментом. Брату же своему, Амару Комдиаго, он пожаловал оставшуюся сотню». Амар в эту пору строил город Тендирму, будущую резиденцию наместника западных областей — «канфари», и опытные строители ему были очень кстати. При этом, когда захваченных людей, перегоняли в назначенные им для жительства местности, им приходилось проходить зачастую не одну сотню километров: одну из местностей возле Тендирмы заселили моей, угнанными аскией после одного из походов на их страну, а в то же время царские земли, находившиеся в затопляемой части Масины, обрабатывали люди, которых захватили в области Галам, на верхнем течении Сенегала.
Основой политики аскии ал-Хадж Мухаммеда I в этом отношении было создание развитой сети рабских поселков, принадлежавших короне и размещенных по всему пространству Сонгай. Если отметить, на карте земледельческие рабские поселки, принадлежавшие самому заметному из преемников ал-Хаджа — аскии Дауду (1549–1583), то они разместятся от Денди почти до Ниоро. «Во всех подчинявшихся ему землях, от Эрей-Денди… до окончания гаваней озера Дебо, были у аскии возделанные участки. В иные годы ему поступало продовольствия более 400 тысяч сунну[19]. Не было ни одного селения среди поселков, что мы назвали, где бы у аскии не было рабов и начальника над ними. Под началом некоторых из них возделывали землю до 100 рабов, а у других — 50, 60, 40 и 20». Так рассказал об этом Махмуд Кати. Но главная масса этих поселений находилась в средней дельте Нигера — рисовой житнице Сонгай, самой плодородной области государства. И это лишний раз показывает прямую связь между рисоводе вом и использованием рабского труда в сельском хозяйстве.
Широко распространено было обыкновение дарить рабов; делалось это как на вывод (если употребить русское выражение крепостного времени), так и вместе с селениями, где эти рабы жили. И делали это аскии не скупясь. Ал-Хадж Мухаммед I пожаловал одному из многочисленных шерифов своего окружения, по одному рассказу, 1700, а по другому — 2700 рабов за один раз. Уже знакомые нам факихи Салих Диавара и Мухаммед Туле получили в 1501–1502 гг. целых шесть «племен» рабов — по три на каждого. В 1581 г. еще один шериф получил сразу три поселка с рабами в дар от аскии Дауда. Не оставался обиженным и автор «Истории искателя»: тот же Дауд подарил ему поместье с рабами. В поместье, правда, числилось всего 13 рабов, но надо полагать, что это был не единственный подарок такого рода, полученный нашим знакомцем за время его долгой и преданной службы династии.
Но мало было обратить людей в рабство и посадить их на землю. Нужно было еще и закрепить их в этом состоянии: ведь никому из хозяев таких рабских деревень не хотелось терять рабочие руки. Для этого существовала целая система ограничений, которой подчинялись все без исключения рабы. В основе системы лежало запрещение людям рабского состояния заключать браки вне своих «племен». Другими словами, все такие объединения зависимых людей были строго эндогамны.
Что это значило на практике? Просто-напросто то, что свободный человек не мог жениться или выйти замуж за члена рабского племени, не обрекая себя самого совершенно автоматически на потерю свободы. Правда, существовало заметное различие между положением мужчины и положением женщины. Дело в том, что счет родства по линии матери — мы с этим встречались и в Гане, и в Мали — очень устойчиво держался и у сонгаев. В отдельных случаях счет родства по отцу уже сам по себе означал принадлежность человека к той или иной группе рабов. Особенно часто это случалось в кастах кузнецов — так было, например, с теми пятью «племенами» оружейников, которые унаследовал от сонни Али аския ал-Хадж Мухаммед I. Свободные же люди считали родство только по матери, хотя наследование имущества шло уже по отцовской линии (что свидетельствует о сравнительной давности сложения классового общества).
По всем этим причинам решающее значение имело социальное положение матери или жены. Сонгайские правители обеих династий строго следили за соблюдением соответствующих правил. При этом важную роль играло, конечно, желание обеспечить сохранение за собственником возможно большего количества рабов. Мужчинам из все тех же унаследованных ал-Хаджем 24 «племен» еще в ту пору, когда они были собственностью царей Мали, было строжайше предписано: жениться на свободных женщинах они могут только в тех случаях, когда внесут семье невесты большой выкуп. «Из опасения, как бы женщина или ее дети не потребовали себе свободы, и желая, чтобы они со своими детьми оставались в собственности малли-коя», — так разъяснил смысл запрета Махмуд Кати. Другими словами, зависимому разрешалась женитьба на свободной женщине только при условии, что родня этой женщины попросту согласится продать в рабство ее, а значит, и ее детей.
Аския ал-Хадж Мухаммед I после консультации с факихами внес изменение в форму запрета. По установленному им порядку при свободном отце и матери-рабыне ребенок безоговорочно признавался рабом; а при отце-рабе и свободной матери он считался рабом, только если оставался в семье отца и продолжал заниматься тем же, чем занимался отец. Уйдя в семью матери, он получал свободу. Легко заметить, что, несколько изменив правило в пользу хозяина раба, ал-Хадж все-таки вынужден был сохранить его основной смысл: социальное положение человека определено социальным положением его матери. Мусульманской правовой теории пришлось и здесь отступить перед древним обычаем.
«История искателя» включает довольно любопытный рассказ, в котором очень хорошо видно отношение и самого ал-Хаджа, и его преемников к соблюдению таких запретов. В местности Анганда, к востоку от озера Дебо, рассказывает хронист, некогда обитало смешанное население, состоявшее из свободных сонгаев, «зинджей» и диам-кириа (так называлась одна из каст). Сонни Али завоевал Анганду, сонгаев перебил, а части «зинджей» и кузнецов сохранил жизнь. Когда воцарился ал-Хадж Мухаммед I, уцелевшие мужчины этой местности обратились к нему с покорнейшей просьбой: дать им жен. Аския выполнил эту просьбу, но довольно своеобразно. В жены они получили женщин, тоже принадлежавших к «зинджам», а кроме того, новобрачным предписано было сохранять эндогамию внутри потомства каждой пары.
Что интересно в этой истории? Во-первых, то, что аския согласился на смешение разных зависимых групп только при условии, что сохранится их зависимое положение. А во-вторых, создав новые неполноправные группы, он сразу же постарался их сделать еще более замкнутыми.
Но на этом дело не кончилось. Очень много лет спустя, когда аскии ал-Хадж Мухаммеда I давно не было в живых, к его внучатому племяннику, аскии Исхаку II, обратились трое мужчин, прося его принять их в свое владение. Исхак поначалу обошелся с просителями милостиво, но когда узнал, что все трое родом из Анганды, то не только возвратил зависимых — «зинджа» и кузнеца — хозяину Анганды, но и объявил его собственностью также третьего просителя. А тот был свободный сонгай, имевший неосторожность взять в жены женщину из Анганды. И при этом в обоснование своего решения Исхак сослался на указ ал-Хаджа Мухаммеда!.
Большое число поселений такого типа сильно расширяло экономическую основу центральной власти. Изобилие продуктов, которое поразило на западносуданских рынках Льва Африканского, во многом именно этим и объяснялось. Ведь помимо посаженных на землю рабов в сонгайской державе существовало и свободное крестьянство. И рабы сильно облегчали его положение. Их эксплуатировали гораздо сильнее, чем это делалось в Мали; и свободные благодаря усилению эксплуатации рабов имели возможность сохранить большую долю плодов своего труда, которую иначе постаралась бы у них отобрать «своя» же сонгайская знать.
И все же, даже если учесть усиленное использование рабского труда, положение тех, кого мы на всем протяжении этой главы называем рабами, очень сильно отличалось от того, что мы привыкли видеть в классических, если так можно сказать, странах рабовладения — Древней Греции и Древнем Риме. В сущности, так же как и в Мали, рабы в сонгайском государстве были скорее полурабами-полукрепостными. Они сохраняли какое-то собственное хозяйство. Настоящая барщина (единственную попытку ввести ее предпринял сонни Али) просуществовала очень недолго: просто не по силам было царской администрации обеспечить тот жесткий контроль, который один только и мог сделать успешной такую форму использования труда зависимого населения. Но кое-что и отличало полурабов-полукрепостных времен аскиев от их малийских предшественников: прежде всего то, что они были ближе к крепостному, чем к рабу. Зато в сонгайской державе не существовало тех довольно широких рамок, в которых могло меняться положение раба в Мали, хотя и признавалось, что рабы, рожденные в доме господина, имеют преимущества перед «новенькими». Но в целом все здесь было намного жестче, сословное неравенство между свободным и несвободным сохранялось гораздо строже, а следов рабства патриархального, домашнего, оставалось куда меньше!
Хроника Махмуда Кати содержит очень любопытный рассказ, из которого хорошо видно, насколько различались взгляды на положение раба в Мали и в Сонгай. Один из начальников рабских поселков сумел накопить немалые богатства, так что не только покрыл за счет своих запасов риса от предыдущего урожая взнос следующего года, но и роздал в виде благочестивой милостыни тысячу сунну зерна. Аскии Дауду это очень не понравилось. «Этот раб при его положении, бедности и ничтожестве, — сказал аския своим советникам, — дает милостыню тысячу сунну! А что же буду раздавать милостыней я?! И чего он этим добивается, как не прославления своего имени?». Но советники успокоили Дауда. «Все рабы одинаковы, — пренебрежительно ответили они, — ни один из них не возвысится иначе, как через возвышение своего господина, а его достояние — собственность его господина. Ведь когда царь, подобный тебе… возгордится тем, что раб, который ему принадлежит, подарил-де то-то и то-то, ему отвечают: «Раб аскии подарил бедным тысячу сунну»…» Иными словами, как бы ни был богат зависимый человек (а таких начальников рабов, как герой этого рассказа, было немало), он и думать не мог сравняться со свободным сонгаем в социально-политическом отношении.
Конечно, непрерывное усиление сонгайской знати должно было сопровождаться и таким же непрерывным ухудшением положения свободного сонгайского крестьянства, хотя сохранение большой патриархальной семьи и замедляло этот процесс. Не исключено, что какая-то часть аристократии уже в начале XVI в. использовала на своих землях труд свободных сонгаев напряду с рабским. Свободное трудовое население, так же как и в Мали, постепенно попадало в зависимое состояние, когда отличие его от рабов становилось почти исключительно правовым, а экономическая разница и вовсе переставала чувствоваться. Всегда и повсюду в истории сложение общественного класса крупных земельных собственников неизменно сопровождалось другим явлением: постепенно рождался и противоположный класс — зависимое крестьянство, причем в этой общей массе поначалу совсем разных, по выражению одного исследователя, «категорий свободы, полусвободы и несвободы» мало-помалу пропадала разница между бывшим рабом и бывшим свободным. С разных сторон и тот, и другой приходили к одному и тому же зависимому состоянию. Об этом нам уже приходилось говорить в главе о Мали, а в Сонгай развитие шло в том же направлении. Только в первый период после прихода к власти династии аскиев, в конце XV и начале XVI в., на некоторое время в этом непрерывном процессе усилилась его рабская «составляющая».
Но вот наступило царствование аскии Дауда, сына ал-Хадж Мухаммеда I. Оно оказалось вершиной расцвета сонгайской державы. И все тот же Махмуд Кати рассказывает о Дауде: «Он был первый, кто начал получать наследство воинов, говоря, что они-Де его рабы. Раньше так не бывало и после воина наследовались только лошадь, щит, копье — не более того…». И желая как-то оправдать Дауда, хронист сокрушенно добавляет: «А что касается захвата аскиями дочерей воинов и превращения их в наложниц, то эти прискорбные случаи предшествовали его правлению. Все мы принадлежим Аллаху, и к нему мы возвратимся…». Так к середине XVI в. господствующий класс начал наступление на права и интересы свободных сонгаев, стремясь понемногу уравнять их со своими рабами и вольноотпущенниками.
Царевичи и факихи
Но и для господствующего класса изменение условий по сравнению с Мали имело очень существенные последствия. Только что у нас шла речь о сравнительной жесткости сословных границ у сонгаев. А отсюда следовал совершенно недвусмысленный вывод: рабы, захваченные сонгайскими армиями в непрестанных военных экспедициях, могли быть либо использованы для продажи, либо посажены на землю. Ни о каком рабском войске не было речи до самого конца 80-х годов XVI в., когда хронисты впервые рассказывают об отряде евнухов-телохранителей при особе аскии Исхака II. И сонгайская военная знать могла не бояться опаснейшего конкурента — военачальников и прочих вельмож рабского происхождения.
И главный наш источник, суданские хроники, целиком такой вывод подтверждают. Они называют множество высших государственных, военных и придворных должностей, но напрасно стали бы мы искать на пятистах с лишним страницах арабского текста обеих хроник — а там названы не одни только должности, но и имена тех, кто их занимал в разные годы и при разных царях, — хоть что-то похожее на всесилие «ближних рабов», малийских «дьон-сандиги». Нет, на всех этих постах сидели свободные люди. И не просто свободные, а, так сказать, сливки сонгайского общества: царевичи всех рангов и всех степеней родства с царствовавшими особами — сыновья, братья, дядья. Пожалуй, единственным исключением был пост «кабара-фармы» — наместника города Кабары, гавани Томбукту: по традиции его всегда занимал доверенный раб аскии. Да еще аския Дауд, пришедший на царство с должности «канфари», дважды назначал на эту важнейшую должность государства своих вольноотпущенников.
Царевичи были очень многочисленны. Махмуд Кати постарался как можно аккуратнее перечислить всех детей аскии ал-Хадж Мухаммеда I, но и он, насчитав 31 имя сыновей основателя второй сонгайской династии, вынужден был закончить перечисление такими словами: «…и прочие, кого не счесть из-за их многочисленности. Это были те, кто мне сейчас вспомнился, но большая часть их пропущена».
При таком количестве лиц, которые, по крайней мере теоретически, имели право на престол — ведь в Сонгай, как и во всех мусульманских государствах средневековья, не существовало твердо урегулированного порядка наследования престола, — интриги и склоки между претендентами были совершенно неизбежны. В этом пришлось убедиться даже самому аскии ал-Хаджу Мухаммеду I; а последние дни сонгайского государства были омрачены мелкой и смешной в тогдашних трагических условиях усобицей между претендовавшими на престол аскиев царевичами. Как ни странно, но среди десятков этих царских родственников очень мало оказывалось в нужные моменты не то что талантливых и мужественных, а и просто мало-мальски распорядительных людей. Зато вся история царской семьи полна заговоров, предательств, подлостей и выглядит на редкость несимпатичной. В этом смысле отсутствие рабской аристократии вполне «компенсировалось» существованием многочисленной царской родни, к которой примыкала сонгайская военно-административная аристократия и правители вассальных княжеств.
Но правящий класс державы аскиев отличался не только отсутствием рабской знати. Второе важное его отличие было заложено уже в той поддержке, что оказали аскии ал-Хадж Мухаммеду влиятельные мусульманские круги во время его борьбы с ши Баро. Они не ошиблись в выборе: аскии пришлось расплачиваться за их помощь такими уступками, что очень скоро внутри господствующего класса мусульманская аристократия (кадии, хатибы, имамы мечетей крупных городов, а особенно шерифы, которых к тому времени по всему Судану развелось довольно много) — эта самая паразитическая группа знати — почти догнала по силе и влиянию военное окружение государей. Может быть, аскии и хотели таким путем столкнуть лбами две группировки знати, чтобы свою власть обезопасить от обеих. Но эта надежда не оправдалась, феодалы духовные оказались для центральной власти не лучше военных. Во всяком случае они им не уступали ни своевольством, ни жадностью. А в конечном-то счете именно духовные феодалы предали предпоследнего аскию — Мухаммеда Гао, отдали его в руки марокканских захватчиков, в то время как высшие военные чины остались ему верны до конца и готовы были продолжать сопротивление.
Мы познакомились уже с томбуктским кадием Махмудом и его притязаниями на объединение в своих руках светской и духовной власти в городе. Но аппетиты столпов правосудия этой торговой столицы Судана вовсе не ограничивались только городом. Еще отец Махмуда, кадий Омар, публично обругал не кого-нибудь, а самого аскию ал-Хадж Мухаммеда I только за то, что тот своей властью назначил кадия в один из соседних с Томбукту городков. С годами отношения между кадиями Томбукту и царским двором в Гао не делались лучше. Последние десятилетия существования сонгайского государства духовные князья Томбукту вообще были чем-то вроде молчаливой оппозиции — а впрочем, совсем не всегда такой уж молчаливой. Недаром один из последних правителей династии, потерпев поражение во время карательной экспедиции в Гурму, больше всего огорчался тем злорадным шушуканьем, которое-де поднимется в Томбукту, когда туда дойдет весть о его неудаче.
А открыто ссориться с томбуктской знатью, в руках которой была добрая половина всей внешней торговли государства, — этой роскоши аскии себе позволить не могли. Особенно последние. Вот и пришлось аскии ал-Хаджу II в 80-х годах XVI в. покорнейше просить у кадия ал-Акиба разрешения принять участие в расходах на перестройку большой мечети Санкоре в Томбукту.
Сила «князей церкви» заключалась, конечно, не только, да и не столько в их духовном авторитете. В их руках скопились огромные богатства. Мы только что видели, как аскии раздаривали им целые области с сотнями и тысячами душ зависимого населения. В начале марокканского нашествия на Западный Судан один из шерифов владел 297 «домами» зависимого населения. Слово «дом» скорее всего обозначало здесь патриархальную семью, жившую в одной усадьбе, — речь, следовательно, шла о нескольких тысячах человек. А ведь шериф Мухаммед ибн ал-Касим, которому все они принадлежали, не был самым богатым человеком! И притом раздавали не только земледельческое население, но и ремесленников. Не раз уже упоминавшиеся на страницах этой книги факихи Салих Диарара и Мухаммед Туле, самые ближайшие советники ал-Хадж Мухаммеда I, получили от своего покровителя в дар целые «племена» кузнецов.
Томбукту был только самым ярким примером. И вовсе не единственным. Еще при мансах Мали, рассказывает «История искателя», города Диаба и Кундиоро, первый из которых находился в самом центре коренных малийских земель, а второй — в районе Каньяги, бывшей столицы Сосо, управлялись своими кадиями и пользовались полным административным и налоговым иммунитетом. Другими словами, верховная власть не имела права вмешиваться в какие бы то ни было дела управления в этих городах, отдавать распоряжения кому бы то ни было или собирать налоги. Все это могли делать только кадии — единственная правомочная власть в городах.
В результате окончательно стиралась граница между военно-административными сановниками и высшим мусульманским духовенством: князья духовные превращались одновременно и в светских князей. Но все же оставалась область, где духовенство в истории Сонгай всегда оказывалось сильнее высших военных чинов и высших сановников двора аскиев, — внешняя, т. е. караванная, торговля. Здесь у духовенства существовали давние и прочные традиции, оно располагало обширными налаженными связями и немалым опытом. За несколько веков факихи настолько переплелись с купечеством, что порой их очень трудно бывало отличить друг от друга, особенно когда эти, казалось бы, довольно разнородные занятия совмещал один и тот же человек.
Абдаррахман ас-Сади, автор «Истории Судана», с глубоким уважением относившийся ко всем благочестивым мужам, когда-либо жившим в Томбукту, выделял в числе особо почтенных шерифа Сиди Яхью ат-Таделси, по имени которого названа одна из трех больших мечетей в Томбукту, сохранившаяся до наших дней. И все же он не заметил в своем почтительном рвении, что одна из историй, которую он рассказал в доказательство святости шерифа, может показаться постороннему наблюдателю довольно ехидной насмешкой над святым.
«Вначале, — рассказывал хронист, — Сиди Яхья… воздерживался от торговых дел, но впоследствии в конце концов ими занялся. И рассказывал он, что, до того как занялся торговлей, видел пророка во сне каждую ночь… Потом стал он его видеть только раз в неделю, затем — раз в месяц и, наконец, раз в год. Его спросили, что же тому причиной. Он ответил: «Я полагаю — только те торговые дела…». Тогда ему предложили: «Почему же ты их не бросишь?». Но Сиди Яхья ответствовал: «Нет, я не люблю нуждаться в помощи людей!».
Так впервые в истории Западного Судана в державе аскии ал-Хадж Мухаммеда I и его преемников появился единый господствующий класс, который сумел объединить в одних руках руководство всеми сторонами жизни общества — хозяйственной, военно-политической и идеологической. Восторжествовала новая идеология, которая больше соответствовала тогдашнему уровню развития производительных сил и производственных отношений. В Сонгай уже безраздельно господствовали феодальные отношения — тоже в их ранней форме; это не был, конечно, высокоразвитый феодализм Западной Европы или Ирана. Но все же это были именно феодальные отношения, пусть раннефеодальные, но зато уже окончательно утвердившиеся и неуклонно шедшие к дальнейшему укреплению крепостнических форм эксплуатации. Поэтому мы можем сказать, что с точки зрения уровня социально-экономического развития государство Сонгай оказалось высшим достижением народов Западной Африки в доколониальный период.
Цена расцвета
Общий подъем сонгайского государства отразился и на росте местного ремесла. Собственно, отделение ремесла от земледелия, второе великое разделение труда, началось в Западной Африке довольно давно. Здесь уже в глубокой древности умели обрабатывать различные металлы, в том числе и железо, что было особенно важно для развития хозяйства. Существовало в Западной Африке и гончарство. При этом, когда в Гао при археологических раскопках найдены были черепки местного производства, их качество оказалось намного лучше того, что выделывают в этом городе современные гончары. Но больше всего было развито текстильное производство.
О нем рассказывал еще ал-Бекри. Из описания Томбукту, оставленного Львом Африканским, мы видели, что в Томбукту было много ткачей. А по словам Махмуда Кати, в этом городе было даже 26 больших портновских мастерских, и в каждой из них под руководством опытного мастера работало от 50 до 100 подмастерьев и учеников. Хлопчатобумажные ткани и грубые шерстяные покрывала, изготовленные в Западном Судане, довольно хорошо знали на многих зарубежных рынках. Мандингское название этих тканей — «биринкан» — было подхвачено арабскими купцами, а от них попало в средневековую французскую литературу. Что же касается спроса на местных рынках, то интересно вот что: в XV и начале XVI в. португальцы усиленно скупали в одних районах хлопчатобумажные ткани местного изготовления, с тем чтобы в других местностях той же Западной Африки получить за них золотой песок.

В сонгайское время сохранялось на высоком уровне и изготовление речных судов — мы говорили уже об этом производстве, когда вспоминали рассказ мансы Мусы I о заокеанской экспедиции его предшественника.
Так что с внешней стороны все как будто обстояло благополучно. Но если повнимательнее вчитаться в описания западноафриканских рынков, которыми мы обязаны Льву Африканскому, то рано или поздно привлекает внимание деталь, которая сначала удивляет, а потом начинает беспокоить.
В самом деле, если так развито было текстильное производство, то почему и зачем на рынках крупных городов было столько европейских и берберских, т. е., проще говоря, североафриканских, тканей? А главное, почему за них платили такие высокие, а подчас и просто бешеные цены? И отчего Лев Африканский подчеркивал: «…сколь дороги и великолепны все предметы»? А начав единожды вспоминать, мы дойдем и до рассказов Ибн Баттуты и ал-Омари о том, как высоко ценили в Мали парчу и другие дорогие ткани… Так в чем же было дело?!
Беда западноафриканского ремесленного производства была в том, что оно не могло соперничать с европейским или ближневосточным по качеству своих изделий. Поэтому все, что мало-мальски превосходило обычную местную ремесленную продукцию своим качеством, приходилось покупать в Северной Африке или через нее. Ввоз изделий иноземного ремесла в Западный Судан был невелик количественно, но зато сравнительно очень дорог. А значит, и покупать привозные товары могла только верхушка общества. Но раз так, то эта верхушка, располагая большими-запасами золота и большим числом рабов на продажу (а в сонгайское время эта статья вывоза стала особенно важной, в то время как поступление золота в руки сонгайских царей и их окружения несколько уменьшилось), не испытывала никакого интереса к расширению местного ремесла и повышению качества его изделий. В конечном счете здесь, как и в сельском хозяйстве, золотые запасы Западной Африки содействовали не процветанию, а застою. И те цифры, которые приводит Лев Африканский, говорят только о количественном росте ремесла. Этот рост был вызван некоторым общим оживлением хозяйственной жизни в первые годы правления династии аскиев и частичным Увеличением спроса на ремесленные изделия. Но этого было явно недостаточно, чтобы ускорить технический прогресс местного, западно-суданского ремесла. А пускаться вдогонку за европейским производством, которому великие географические открытия и первоначальное накопление капитала дали небывалый стимул к ускорению темпов развития, и вовсе было безнадежно. При отсутствии же потребности в таком ускорении ремесло Западного Судана было обречено на застой.
В какой-то мере относилось это и к культурной жизни Сонгай. Конечно, ислам и связанные с ним арабский язык и арабская литература способствовали приобщению Западного Судана к средиземноморской культуре. И действительно, мусульманская культура, как ее обычно, хоть и не вполне правильно, называют, достигла в сонгайской державе, в таких городах, как Гао, Дженне и особенно Томбукту, блестящего расцвета. И в этот расцвет достойный вклад внесли местные уроженцы. Очень недвусмысленно рассказывал об этом ас-Сади. Некий факих Сиди Абдаррахман ат-Темими, которого манса Муса I привез с собой из хаджа с намерением поднять при его помощи уровень преподавания в мечети Санкоре, поселился было в Томбукту. Но тут он сразу обнаружил пренеприятное обстоятельство: в городе и при мечети оказалось множество «суданских факихов» — другими словами, местных африканцев, которые намного его, Сиди Абдаррахмана, превосходили знаниями. Приезжему пришлось отправиться в Фес и там доучиваться. И лишь после этого он смог, возвратясь в Томбукту, не ударить лицом в грязь перед здешними коллегами.
Конечно, уже одно то, что в Западной Африке могли быть написаны такие книги, как обе хроники — «История искателя» и «История Судана» — и многочисленные труды видного ученого Ахмеда Баба, которому одно время приписывали и создание «Истории Судана», может доказать, что уровень развития науки и литературы в Судане той эпохи был не ниже, чем в Марокко того же времени. Беда только в том, что для арабской культуры XV и XVI века были уже периодом упадка. Литература ограничивалась в большинстве случаев перепевом классических образцов, юристы и богословы старательно комментировали труды своих именитых предшественников — а живого движения мысли почти не наблюдалось. А в Марокко к тому же установилась еще и обстановка фанатической нетерпимости ко всему, что хоть как-то выходило за рамки канонов многовековой давности. Западносуданская же мусульманская ученость была в первую очередь отражением того, что в этой области происходило в Марракеше или в Фесе. Так что на этом фоне достижения культуры Западного Судана, бесспорно довольно значительные сами по себе, все же выглядят более скромно, чем это себе иногда представляли иные писатели, говоря о «блестящем расцвете» культуры в Дженне или Томбукту. Но вместе с тем не следует и забывать, что культурная жизнь все же была в более выгодном положении, чем хозяйственная: те условия, которые тормозили прогресс западноафриканской экономики, на культуру непосредственно не воздействовали. Поэтому и возможно было появление многих интересных сочинений, созданных в Западном Судане местными авторами-африканцами.

Устроителю великой сонгайской державы аскии ал-Хадж Мухаммеду I пришлось на себе испытать некоторые недостатки созданной им системы. К концу жизни он ослеп и превратился в больного, немощного старца. Вокруг него почти не осталось старых боевых соратников. Самой тяжкой потерей была смерть канфари Амара Комдиаго, младшего брата аскии. Больше четверти века Амар оставался первым помощником повелителя. Он управлял государством, когда тот находился в хадже; он заселил огромные территории в западной части средней дельты Нигера и организовал их хозяйственное освоение; он успешно отражал нападения фульбе и, нанеся им жестокое поражение на их собственной земле, в Фута-Джаллоне, надолго обезопасил западную границу Сонгай. Но когда на склоне лет аскии Мухаммеду стало известно, что его сыновья, возглавляемые Мусой, который носил высшее военное звание — «аския» уже при жизни отца, составили заговор, чтобы отстранить отца от власти, опереться ему оказалось не на кого. Правда, ал-Хадж вызвал из Тендирмы преемника Амара Комдиаго на посту канфари — другого своего брата, Яхью. Но заговорщики сумели подстеречь Яхью на прогулке, когда он оказался без охраны, и убили его. А через несколько дней после этого, 15 августа 1529 г., во время праздничной молитвы, Муса заставил отца отречься от престола и объявить его, Мусу, своим преемником.
Махмуд Кати, оставшийся верным ал-Хадж Мухаммеду I даже после его свержения, очень невысоко оценивал личность аскии Мусы. «Царской властью у сонгаев, — писал он, — и саном их аскии не распоряжался никто более ничтожный и низкий, чем он!». Эти же слова можно было бы приложить к очень многим из участников династических смут, ставших в истории Сонгай после смещения ал-Хадж Мухаммеда I почти обыденным делом. Пример Мусы оказался заразителен: сразу же после захвата власти ему пришлось отбиваться от собственных восставших братьев. Вначале он одержал над ними верх. Но уже в апреле 1531 г. Муса был убит, и власть перешла к племяннику аскии Мухаммеда — Мухаммеду Бенкан-Керей, которого молва наделила прозвищем «Мар-Бенкан».
В переводе это прозвище означало «порвавший узы родства», рассказывал Мухаммед Кати. И в объяснение приводил такую легенду. Когда Мухаммед Бенкан-Керей родился — это случилось еще в царствование сонни Али, — он своим громким криком потревожил царя. Тот призвал аскию Мухаммеда и его брата, будущего канфари Амара, и повелел им убить ребенка, родившегося той ночью в их покоях и притом родившегося со всеми зубами во рту. Братья стали упрашивать царя оставить новорожденного в живых. Али в конце концов согласился, но сказал при этом, обращаясь к аскии Мухаммеду: «Этот ребенок жалкий и беспутный. Однако я его оставляю в живых, но ущерб потерпишь ты, только ты! И ты еще увидишь, что он принесет тебе и твоим детям!». Хронист полагал, что предсказание сонни Али полностью оправдалось: ведь Мухаммед Бенкан-Керей действительно сослал бывшего аскию ал-Хадж Мухаммеда I на пустынный остров неподалеку от Гао, хотя Муса, выдворив отца из царской резиденции и оставив себе всех его жен и наложниц (Махмуда Кати это особенно возмутило), все же разрешил ему оставаться в Гао. На этом острове ал-Хаджу и пришлось провести все шесть с лишним лет царствования Мухаммеда Мар-Бенкана. И лишь когда Исмаил, сын аскии ал-Хадж Мухаммеда I, в 1537 г. восстал против двоюродного брата и сверг его, основатель династии был возвращен из ссылки в Гао, где вскоре и умер.
После девятилетнего правления аскии Исхака I (1540–1549), который ничем, кроме благочестия, не прославился, на престол вступил еще один из сыновей ал-Хадж Мухаммеда I — аския Дауд. Обстоятельства его прихода к власти довольно туманно изложены у Махмуда Кати: Исхак-де назначил было преемником своего сына, «но жители Сонгай согласились только на аскию Дауда». Довольно сомнительно, конечно, чтобы мнением «жителей Сонгай» особенно интересовались, — скорее всего Дауд просто захватил власть. Но его правление, бесспорно, оказалось апогеем державы, которую создали сонни Али и аския ал-Хадж.
Современники Дауда почувствовали это очень хорошо. Вот как отзывался о его царствовании Махмуд Кати, человек очень осведомленный и имевший, так сказать, базу для сравнения: «Этот свет ему споспешествовал: он получил власть и главенство, каких желал, и к нему пришли обширные мирские богатства. Он следовал за своим отцом, аскией Мухаммедом, и братьями своими. Они посеяли для него, он же пришел и собрал урожай; они выровняли землю, а Дауд пришел спать на ней. И в стране Текрур, от Мали до Лоло, не было никого, кто смел бы поднять руку: в день восшествия своего на престол Дауд нашел людей послушными покорными рабами».
Собственно говоря, у аскии не было даже особой нужды совершать завоевательные походы: никому не приходило в голову оспаривать, его военное и политическое первенство в Западной Африке. И цели его военных экспедиций были главным образом чисто грабительские: захват рабов и прочих богатств у соседей. Эти захваты сопровождались внутри Сонгай раздачей огромных земельных владений с рабами и рабов без земли. Больше всего таких даров получала верхушка факихов. Пожалуй, в этом отношении аския Дауд превзошел даже своего отца, ал-Хадж Мухаммеда I. Не мудрено, что «История искателя» восторженно оценивала благочестие аскии и его благоговение перед факихами! Кстати, сам «альфа Кати» не стеснялся просто выпрашивать подарки у государя: именно так обстояло дело с пожалованием ему поместья Диангадья с 13 рабами и надсмотрщиком при них — об этом у нас уже шла речь несколькими страницами раньше. Причем имение пришлось отобрать у очень важного сановника — кабара-фармы, наместника Кабары, гавани Томбукту. «Из-за этого, — комментирует хроника, — альфа поссорился с кабара-фармой Алу». Как после этого было потомкам Махмуда Кати не говорить о «славных свойствах и прекрасном поведении» аскии!
Конечно, кроме религиозного благочестия — а эту причину никогда нельзя сбрасывать со счетов, когда мы имеем дело с людьми средневековья, будь то в Африке, на Ближнем Востоке или в Европе, — Даудом руководил и трезвый политический расчет. Он старался еще больше укрепить одну из социальных опор своей власти — мусульманское духовенство. При Дауде государство не знало никаких серьезных внутренних неприятностей — ни восстаний вассалов, ни усобиц.
Дауд, по-видимому, был и в самом деле фигурой незаурядной по тем временам: он — единственный из сонгайских царей, о котором сообщали, что он обучался Корану и другим мусульманским дисциплинам. Он первый устроил книгохранилище и держал переписчиков, которые для него переписывали книги.
Преемникам своим аския Дауд оставил сильное и богатое государство. Но его блестящее правление не могло преодолеть коренных пороков социальной и политической организации державы аскиев. Это проявилось сразу же после смерти Дауда: сам он попытался сделать своим наследником своего сына Мухаммеда-Бани, но власть захватил другой его сын, правивший под именем аскии ал-Хадж Мухаммеда II. Его царствование продолжалось всего три года с небольшим, с августа 1583 г. по декабрь 1586 г., и не отмечено было ничем особо примечательным, не считая склоку, вспыхнувшую между верхушкой факихов Томбукту из-за должности кадия, которая освободилась после смерти кадия ал-Акиба. При этом любопытно, что аския старался как можно дольше остаться в стороне от этой истории. Только под сильным, очень сильным нажимом назначил он в Томбукту нового судью — сына того самого кадия Махмуда, который еще в правление аскии ал-Хадж Мухаммеда I претендовал на всю полноту власти в Томбукту.
В самом конце 1586 г царевичу Мухаммеду-Бани наконец удалось-таки свергнуть аскию. ал-Хадж Мухаммеда II и провозгласить себя царем. Но его царствование оказалось еще короче — меньше полутора лет. Зато именно в это время вспыхнула самая крупная из всех междоусобных войн, какие знала история сонгайского государства. Она началось ссорой между наместником Кабары, тем самым кабара-фармой Алу, у которого отобрали имение для передачи Махмуду Кати, и Садиком, сыном аскии Дауда, занимавшим второй после канфари пост в государстве — наместника и командующего войсками в центральных областях страны, «баламы». Вернее всего, ссора послужила только поводом для выступления баламы Садика против власти брата-аскии. Балама собрал войска и после неудачной попытки привлечь на свою сторону еще одного из сыновей аскии Дауда — канфари Салиха — двинулся на Гао. Аския Мухаммед-Бани выступил ему навстречу, но неожиданно умер в походе еще до столкновения с противником.
И встретиться с мятежниками в поле, нанести им поражение и закончить войну пришлось уже новому аскии — Исхаку II, тоже сыну аскии Дауда. Матерью Исхака была вольноотпущенница, поэтому царевичем он носил прозвище «дьогорани» — так звучал в сонгайской передаче. малинкский термин «дьонгорон» — «вольноотпущенник».
В апреле 1588 г. усобица была ликвидирована. Но она сильно подорвала мощь государства, и сказалось это уже очень скоро, в начале 1591 г., когда Исхаку II пришлось встретиться с куда более опасным врагом, чем балама Садик, — марокканским экспедиционным корпусом паши Джудара. И самый приход Исхака к власти был отмечен все той же печатью интриганства, склоки и борьбы мелких честолюбий. Дело в том, что, когда умер аския Мухаммед-Бани, несколько сановников попытались воспользоваться тем, что произошло это на стоянке, и провозгласить аскией одного из сыновей аскии Исмаила до того, как о смерти Мухаммеда-Бани узнают находившиеся в лагере сыновья и внуки аскии Дауда. Последних — а их там было около семидесяти — предполагалось просто-напросто перебить, так сказать, во избежание смуты. Исхак случайно узнал об этом плане и сумел его сорвать, заставив заговорщиков под угрозой смерти провозгласить царем его, Исхака.
Махмуд Кати довольно высоко оценивал личность нового аскии. Исхак-де «был благороден, добр, щедр и приятен лицом». Но это не помешало авторам хроники оценить царствование Исхака совсем по-другому. «Исхак, — говорит хроника, — пробыл у власти три года. В его дни обнаружился упадок их державы и стали очевидны в ней смута и потрясение».
Гроза с севера
Мы подходим к завершающему этапу истории Сонгай — его падению под натиском марокканских завоевателей. Поход паши Джудара имел довольно долгую предысторию. Мы не раз уже говорили, что главным источником соли для Западного Судана были копи Тегаззы. Тот, кто держал их в руках, мог практически держать в руках и всю золотую торговлю с Западной Африкой. По обе стороны Сахары это прекрасно понимали. Но до начала XVI в. Тегазза оставалась подчинена кочевникам-мессуфа, тем самым, о которых писал Ибн Хаукал еще в X в. Только после создания великой сонгайской державы кочевникам пришлось признать верховную власть аскии. Так цари Гао сделались хозяевами соляных копей.
Саадитские султаны Марокко тоже попробовали проявить активный интерес к Тегаззе. В 1546 г. султан Мухаммед аш-Шейх обратился к аскии Исхаку I с просьбой уступить ему соляные копи. Аския холодно ответил, как рассказывал Абдаррахман асСади, что он — не тот Исхак, который станет выслушивать подобные предложения: такой-де Исхак еще не родился на свет. И в подтверждение своих слов приказал своим вассалам-туарегам выслать двухтысячный отряд: пограбить Доа, южную пограничную провинцию Марокко. Только 10 лет спустя марокканцы смогли ответить на эту обиду, послав в Тегаззу отряд, который убил сонгайского правителя поселения и нескольких туарегов, грузивших соль, а затем ушел назад.
После этого в соляных делах больше 10 лет стояло полное затишье. Марокканцам было не до сахарской торговли: угроза турецкого и португальского нашествий заставляла все усилия обращать соответственно на восток и на север. И только после блистательной победы над португальцами при ал-Ксар ал-Кеби-ре в 1578 г. и последовавшего за ней объединения Марокко под властью молодого султана Мулай Ахмеда, принявшего почетный титул «ал-Мансур» — «Победоносный», в Марракеше стали снова подумывать о захвате золотой торговли: это могло бы сильно поправить дела разоренной страны.
Первая попытка захватить Тегаззу не принесла успеха: черные невольники-горняки бежали еще до появления марокканцев, и победа оказалась бесплодной — добывать соль все равно было некому. Тем временем аския Дауд, строжайше запретивший своим подданным возвращаться в Тегаззу, открыл на полпути из нее в Томбукту, в Таотенни, новые соляные разработки. Позднее сонгай мало-помалу вернулись к разработке соляных месторождений в Тегаззе, но и на этот раз аския — теперь уже ал-Хадж Мухаммед II — наотрез отказался выполнить требование марокканцев об уплате им пошлины в размере одного мис-каля золота за каждый вьюк соли.
В середине 80-х годов XVI в. у Мулай Ахмеда не было еще возможности сразу же предпринять крупную военную акцию. Поэтому до 1589 г. ничего не изменилось. Но в столице султана все больше убеждались: нельзя стать хозяевами торговли суданским золотом, пока в Судане существует сильное сонгайское государство. К тому же Мулай Ахмед был неплохо осведомлен о смутах в Сонгай после низложения аскии ал-Хадж Мухаммеда II, ослаблявших некогда непобедимую державу. Да и слабость сонгайского войска в сравнении с марокканским, которое имело огнестрельное оружие, тоже не составляла секрета. Так постепенно вызревала мысль: попытаться разгромить сонгайское государство или подчинить его своей власти — и тем самым стать безраздельными хозяевами суданского золота.
В 1589 г. нашелся и повод для вторжения. Некий авантюрист, по имени Улд Киринфил, сосланный Исхаком II в Тегаззу, сбежал в Марракеш, объявил себя там старшим братом аскии, которого тот будто бы отстранил от власти, и обратился к султану Мулай Ахмеду за помощью. Конечно, и сам султан, и его советники превосходно понимали, что имеют дело с самозванцем. Но это их не остановило, так же как не остановили подобные соображения и польского короля Сигизмунда III и его советников полтора десятилетия спустя, когда они «признали» беглого монаха сыном царя Ивана IV — уж слишком удобен был случай. Началась срочная подготовка военной экспедиции через Сахару.
Марокканцы ясно представляли себе, с какими трудностями будет сопряжен переход через великую пустыню. Такая операция требовала тщательнейшей подготовки. И надо отдать должное организационным способностям самого Мулай Ахмеда и его помощников: армия была укомплектована лучшими солдатами, получила лучшее снаряжение, каким только могло снабдить ее правительство, — специально для этой цели делались крупные закупки за рубежом. И притом всю эту подготовку сумели провести с максимальным сохранением тайны.
К октябрю 1590 г. экспедиционная армия была сформирована. Она состояла из 4 тысяч солдат — 2000 пеших и 500 конных аркебузиров и 1500 человек легкой конницы, вооруженной только копьями, — с шестью пушками. Ее сопровождали 600 землекопов и тысяча погонщиков вьючных животных. Самое, пожалуй, интересное, что почти все аркебузиры были не марокканцами, а либо бывшими христианами, принявшими ислам, которых в Испании называли «ренегадос», либо же мусульманами, эмигрировавшими из Испании, где в эти годы особенно усилилась католическая реакция; их так и называли «андалусцами». А кроме того, в состав армии входили еще несколько десятков аркебузиров-христиан — из пленников, взятых при ал-Ксар ал-Кебире, кто был слишком беден, чтобы из плена выкупиться. Во главе всей армии султан поставил евнуха Джудара — тоже испанца, захваченного в плен еще ребенком.
В последних числах октября 1590 г. войско Джудара выступило из пограничной области Дра и углубилось в пустыню. А через четыре месяца, в начале марта 1591 г., марокканцы появились в окрестностях Гао.
Решающее сражение произошло в окрестностях селения Тондиби, в 50 с небольшим километрах от Гао. Сонгай были разбиты наголову, хотя Джудар после труднейшего перехода мог выставить против них всего тысячу человек, а у аскии Исхака одной конницы было 18 тысяч. Сказалось решающее военно-техническое преимущество марокканцев: огнестрельное оружие, которого не знали в Западной Африке. Так проявился один из главных результатов общей экономической отсталости Западного Судана, в особенности — ремесла: военная слабость огромной сонгайской державы, оказавшейся колоссом на глиняных ногах. — Войско аскиев еще годилось для того, чтобы держать в страхе слабых соседей, чтобы успешно осуществлять многочисленные походы за рабами, но первое же столкновение с настоящим, хорошо организованным и обученным противником дало совершенно катастрофические результаты.
Аския Исхак II бежал с остатками войска на юг. Остановившись, он выслал навстречу врагу тысячу всадников во главе со своим братом, баламой Мухаммедом Гао, и приказал им нападать на марокканцев, где бы они их ни повстречали. Но вместо этого Мухаммед Гао предпочел, отойдя на два перехода от лагеря аскии, провозгласить царем себя самого.
Исхак II не проявил ни удивления, ни возмущения, ни желания наказать мятежника. Когда до него дошло известие о том, что брат провозглашен аскией, он попросту снялся с лагеря и с небольшим отрядом отправился в Гурму. Ранее сопровождавшие его сановники во главе с хикоем, начальником царских кораблей, заставили аскию передать им все царские знамена, барабаны и лошадей. Эти вещи, заявили они Исхаку, принадлежат не какому-либо одному аскии, а всему государству. Хотели у него отобрать и сына на этом же основании, но здесь уж Исхак воспротивился, и его оставили в покое. После этого бывший государь прибыл в Гурму и там через несколько дней был убит в. мес-те со всеми своими спутниками: в пору своего могущества он не раз хаживал в эту область с карательными экспедициями и за рабами. Теперь жители не преминули воспользоваться возможностью свести с ним счеты.
Для характеристики моральных достоинств нового аскии, Мухаммеда Гао, любопытно будет вспомнить рассказ Махмуда Кати. Однажды ал-Хадж Мухаммед II, сидя в своем совете, предсказал, что к нему должен вот-вот войти кто-то из его братьев, которому суждено быть последним царем династии и чье царствование продлится всего 41 день, причем-де «гибель народа сонгай произойдет при его посредстве». Вошедшим оказался Мухаммед Гао и на вопрос аскии, пожелал бы он царской власти всего на 41 день и такой ценой, после недолгого колебания ответил утвердительно. Это скорее всего просто легенда, но облик беспринципного властолюбца и карьериста в ней виден очень ясно.
Видимо, именно поэтому первым действием нового правителя Сонгай было обращение к паше Джудару: Мухаммед Гао просил пашу принять его в марокканское подданство и оставить его правителем с выплатой дани султану. Джудар ответил, что сам принять решение по такому поводу он не может, будучи всего лишь рабом султана, но что просьбу аскии он-де султану непременно сообщит.
Тем временем марокканцы продолжали завоевание страны. Они заняли Гао и Томбукту, причем столица аскиев поразила их своим жалким обликом в сравнении с обеими столицами Марокко — Фесом и Марракешем. Джудар остался в Томбукту до прибытия к нему подкреплений во главе с пашой Махмудом бен Зергуном. И тогда, объединив свои силы, оба паши двинулись вниз по течению Нигера против аскии Мухаммеда Гао. Тот снова попробовал начать с марокканцами мирные переговоры. К паше Махмуду был послан личный секретарь аскии — «аския-альфа» — Букар Ланбаро вместе с хи-коем. Паша принял посланцев очень дружественно и пообещал, что буде аския к нему, Махмуду, приедет, то он гарантирует Мухаммеду Гао полную безопасность. Он-де, паша Махмуд бен Зергун, только и ожидает, что приезда аскии, так как сам собирается возвратиться в Марокко.
После этого послы возвратились к аскии, и аския-альфа принялся убеждать своего господина отправиться к паше. Но, заметил автор «Истории искателя», «говорят, будто паша посвятил аския-альфу во все свои тайны и сделал его другом и поверенным своим, а тот продал ему аскию Мухаммеда Гао. Махмуд пообещал ему всяческие блага, буде он найдет предлог для приезда аскии к паше…». Этот же самый Букар Ланбаро убедил и аскию Исхака II оставить поле боя при Тондиби, когда далеко еще не решен был исход сражения.
Так мусульманская духовная знать предала династию, столько сделавшую для укрепления ее экономического и политического могущества. Мусульманская верхушка Западного Судана рассчитывала и при марокканцах сохранить свое привилегированное положение. Ведь недаром именно мусульманские круги в Гао и Томбукту поначалу встретили завоевателей только что не с распростертыми объятиями. Только позднее, когда бесчинства марокканской солдатни стали задевать интересы и этой группы знати, она решилась оказать сопротивление. Но было уже слишком поздно. Марокканцы легко справились с попыткой восстания в Томбукту, и в 1593 г. цвет юристов, богословов и литераторов города был под конвоем угнан в Марракеш, откуда через полтора десятка лет в родные места вернулись совсем немногие.
Через неделю после возвращения послов аския Мухаммед Гао отправился к паше Махмуду, не обратив внимания на предостережения тех своих советников, которые почуяли что-то неладное в яростной настойчивости, с какой аския-альфа уговаривал царя явиться к победителям. Как и следовало ожидать, марокканцы изменнически захватили аскию и его спутников, сковали их всех одной цепью и отправили в Гац. Через некоторое время их всех перебили в отместку за успешное нападение сонгайских воинов на один из марокканских отрядов.
Последним независимым аскией оказался Нух, еще один сын аскии Даула. Ему удалось избежать пленения вместе с Мухаммедом Гао, и, провозглашенный царем, он возглавил сопротивление захватчикам. Он продержался до 1595 г., успешно сопротивляясь паше Махмуду, сменившему Джудара, и ведя партизанскую войну в гористых и заболоченных местностях на правобережье Нигера, к юго-западу и западу от Гао. Марокканцы несли здесь тяжелые потери от непривычного климата, от недостатка продовольствия, от болезней. Паша Махмуд бен Зергун погиб здесь, пытаясь настичь в горах Хомбори войско аскии. Но вскоре погиб в бою и Нух. С его гибелью организованное сопротивление прекратилось. Великая держава Сонгай окончила свое существование (хотя в Томбукту марокканцы и посадили марионеточного аскию Сулеймана с могучим войском из 100 человек).
В последние годы существования державы аскиев начались грандиозные восстания посаженных на землю рабов. Как только марокканцы разгромили армию Исхака II, эти восстания вспыхнули по всей территории государства. Пользуясь тем, что заняты были и марокканцы, и сонгай, дьогорани — самая многочисленная группа зависимого населения страны — опустошали целые области. Отряды повстанцев не боялись нападать и на крупные города, где иной раз даже стояли марокканские гарнизоны: так было осенью 1591 г. под Томбукту. Временами при этом создавалось нечто вроде, так сказать, «единого фронта» зависимых крестьян и кочевников-фульбе и туарегов (эти два народа всегда были у сонгайской администрации «на подозрении», в особенности фульбе; еще об ал-Хадж Мухаммеде I «История искателя» рассказывала, что он не переносил фульбе, истребляя их, где бы ни встретил). В течение 1593 г., жаловался составитель хроники, «воинственные фульбе причиняли вред стране, опустошали города, грабили ее богатства и проливали кровь мусульман. И еще туареги от Гао до Дженне, так что дьогорани вместе с ними начали опустошение и возмущение». Так с треском рушилась система полурабской-полукрепостнической эксплуатации, сложившаяся за полтора века в сонгайском государстве. И очень прав был все тот же хронист, когда главными причинами падения великой державы аскиев назвал (кроме, конечно, гнева Аллаха!) «заносчивость и бесстыдство знатных и возмущение рабов».
Прошлое и настоящее
Разгром Сонгай действительно в первое время обеспечил султану Мулай Ахмеду огромный приток золота. Запасы казны в Марракеше выросли настолько, что впервые за многие годы Мулай Ахмед мог платить жалованье своим чиновникам настоящим золотым песком или полновесной монетой. Султан производил большие закупки ценных товаров в Европе, он нанимал европейских ремесленников, строил новые и украшал старые резиденции.
Обогатился не один султан, прозванный за эти сокровища «Золотым» — «аз-Захаби». Английский купец Лоренс Мэдок, бывший в Марракеше в момент прибытия конвоя из Судана, который доставил султану представителей оппозиционных мусульманских кругов Томбукту, писал в Лондон о сопровождавших конвой марокканских офицерах: «Эти люди пришли не бедными, а с таким богатством, отнятым без повеления короля, что за это король не станет им платить жалованье за то время, что они пробыли там…».
Только простым людям в Марокко эта, казалось бы, блестящая победа не принесла никакой пользы. Им не перепало даже ничтожной доли тех сокровищ, какие сумели награбить в Западном Судане полководцы их государя. Но это как раз меньше всего волновало султана и его советников…
Однако очень скоро выяснилось, что и сокровища-то тоже ограниченны, что количество золота, которое можно вывезти из дотла разоренного Судана, вовсе не беспредельно. Ведь марокканцы так и не смогли захватить главные месторождения драгоценного металла, а старую систему его добычи разрушили довольно основательно. Было и еще одно не выгодное для марокканской торговли обстоятельство: к концу XVI в. спрос на африканское золото в Европе сильно понизился. В это время из Америки уже ввозили в Старый Свет столько драгоценных металлов, что не было необходимости получать золото из Судана через североафриканских посредников.
Правда, караваны продолжали ходить, доставляя и золото, и — во все больших количествах — рабов, и слоновую кость. Но на западном торговом пути объем операций резко упал. Торговый центр Западного Судана снова сместился, на сей раз к юго-востоку, к хаусанским городам. Отсюда, от Кано, Кацины, Дауры и других торгово-ремесленных городов, главные караванные дороги, продержавшиеся до конца XIX века, выводили уже не в Марокко, а в Триполитанию.
Между тем жизнь в Западном Судане не остановилась. На место разгромленного сонгайского государства одно за другим приходили новые, созданные другими народами. На Верхнем Нигере сложились два сильных царства народа бамбара — около города Сегу и в области Каарта. На плоскогорье Фута-Джаллон создали свое феодально-теократическое государство фульбе. Фульбские княжества сложились и в Масине, и в Северной Нигерии — передвижения этого народа привели к широчайшему его распространению по всей Западной Африке вплоть до Северного Камеруна. Позднее, на рубеже XVIII и XIX вв., образовались мусульманские теократические государства в Северной Нигерии и в Масине.
А жизнь продолжалась. Все так же люди занимались хозяйством, все так же строили города и деревни, все так же рожали и воспитывали детей. Многое сохранялось и в быту, и в общественной жизни. Но самым дорогим наследием оставалась память народа о героическом прошлом его предков. Во время борьбы за национальное освобождение от колониального гнета, за государственную независимость напоминание о былой славе Ганы, Мали и Сонгай было в руках борцов против колониализма острейшим идейным оружием. Не так уж важно ведь, что древняя Гана находилась на территории современных Мавритании, Сенегала и Мали, а нынешняя — за сотни километров оттуда, на Гвинейском побережье. Назвав бывшую английскую колонию Золотой Берег, которая первой из колоний Западной Африки стала независимой, именем великого древнего государства, африканцы ясно дали понять: они не отказываются от своего славного прошлого, которого их так стремились лишить колонизаторы.
Интригующие находки в долине Нок[20]
В 1949 г. в Лондоне было объявлено об открытии выставки «Традиционное искусство британских колоний». Искусство Африки в это время было уже хорошо известно в Европе и пользовалось заслуженным признанием. Оно уже было широко представлено во всех крупнейших музеях мира, ему посвящено множество книг, альбомов, статен, изучение его входит в учебные программы наряду с изучением классического и современного искусства. Поэтому, хотя такие выставки и привлекают обычно большое число посетителей, они тем не менее не сулят ничего неожиданного.
Однако на этот раз было не так. Проходя по выставочным залам, посетители с изумлением останавливались у стенда со странной терракотовой скульптурой, непохожей ни на один из многочисленных экспонатов этой выставки. Необычайно выразительная голова из коричневатой обожженной глины будто гипнотизировала взглядом широко открытых глаз с черными, глубоко высверленными зрачками. Огромный нависающий куполообразный лоб, высокие надбровные дуги, небольшой тонко смоделированный прямой нос, усы, бородка, переходящая в узкую полосу бакенбардов, — каждая деталь этой головы и вся скульптура в целом производили странное впечатление на фоне обычных традиционных масок и статуэток.
Загадочная терракотовая скульптура вызвала бурное восхищение у любителей и художников и серьезно озадачила специалистов. В аннотации говорилось, что скульптура происходит из Северной Нигерии. Однако ничего похожего на стиль этой скульптуры до тех пор не встречалось ни в Нигерии, ни где бы то ни было в другом месте. Необычным был также и ее возраст — начало 1 тысячелетия до н. э. Иначе говоря, странная терракотовая голова более чем на тысячелетие старше самых древних бронзовых и терракотовых скульптур Ифе!
Скульптура, получившая название по месту, где были сделаны первые находки (долина и деревня Нок в Северной Нигерии), была обнаружена при довольно необычных обстоятельствах.

В южных районах Северной Нигерии уже более полувека существуют оловянные рудники, разработка которых ведется открытым способом. В 1943 г. в одной из шахт из-под 8-метрового слоя породы были извлечены фрагменты керамики, привлекшие внимание специалистов. Исследования, проведенные здесь английским археологом Б. Фэггом, показали, что из шахт за время их разработки на поверхность вместе с землей было выброшено множество интереснейших предметов, в том числе уникальные произведения искусства: терракотовые головы, статуэтки, различные украшения и т. д. Как же попали все эти созданные человеком вещи в рудные отложения? Вот как объясняет этот процесс сам Б. Фэгг:
«Во второй половине I тысячелетия до н. э. Центральная Африка от Нигерии до Кении переживала «влажную фазу, которую геологи называют «накуру» по имени города Накуру в Кении). В это время в возвышенной части Центральной Нигерии существовала обширная речная система, по которой дождевые воды имели сток в долину Бенуэ, а затем через нижний Нигер в бухту Бенина. В те времена реки играли гораздо более существенную роль в жизни народов центральной Нигерии, чём в наши дни, и пейзаж страны сильно отличался от современного. Огромные массы почв, по-видимому, быстро размывались, и продукты этого распада, уносимые водой, откладывались в аллювиальных слоях; более тяжелые минеральные породы откладывались в реках быстрее, чем легкие. Эти тяжелые осадки, богатые касситерием («оловянной землей»), и создали почвы для современной оловодобывающей промышленности Нигерии.
Но эрозии подверглись также и места поселения человека. Жители многих прибрежных деревень вынуждены были поспешно покидать насиженные места и приносить свои жилища в жертву водной стихии. В результате этого аллювиальные слои богаты не только минеральными отложениями, но также и различными изделиями вроде полированных каменных топоров, ритуальных предметов, украшений, которые попадали в реку после того, как священные дома были заброшены. Все они почти без исключения были разломаны на куски, но, к счастью, головы терракотовых фигур, как и человеческие черепа, сохранились лучше, чем их остальные части, благодаря сферической форме, особенно в тех случаях, когда они попадали в естественные убежища на дне реки.
Эти великие реки давно исчезли, но по крайней мере в прошлом веке, если не за две тысячи лет до этого, племена, жившие на холмах, уже умели добывать в шахтах олово, и именно появление олова на рынке страны Тив к югу от Бенуэ усилило интересы европейцев к обширным залежам его руды в ста милях к северу».
Так благодаря чистой случайности в залежах оловянной руды сохранились бесценные произведения древнейшей африканской скульптуры. Высокое техническое мастерство и законченный стиль художественных изделий, найденных в шахтах близ деревни Нок, свидетельствовали о том, что археологам посчастливилось открыть неизвестную культуру, существовавшую на протяжении длительного времени, и естественно было предположить, что территориально она не могла быть ограничена одним-двумя пунктами.
Обследования, проведенные на соседних оловянных и золотых приисках, дали новый материал, причем художественные изделия, найденные в различных и часто далеко отстоящих друг от друга пунктах, обнаруживали ярко выраженное стилистическое сходство с ранее найденной скульптурой.

Стиль голов и фрагментов терракотовых статуй, находящихся в настоящее время в музее города Джос (Нигерия) является неопровержимым доказательством их принадлежности к одной культуре: «Прежде всего они поражают удивительным разнообразием форм, которое сочетается с глубоким единством стиля, позволяющим безошибочно отнести их к одной художественной школе, несмотря на то что один из фрагментов приближается к тому, что мы бы назвали натуралистическим стилем, в то время как другой удален от него настолько, что лишь с трудом может быть причислен к фигуративному искусству… причём общие формальные признаки очень просты; прежде всего это особая трактовка глаз, которая обычно приближается к треугольной или полуциркульной форме, а также носовых и ушных отверстий (иногда также и рта)».
Если говорить о пластических формах этой скульптуры, а не о технических приемах, таких, как, например, высверливание (что определяет форму зрачка, уха и т. д.), то надо отметить, что прежде всего бросается в глаза именно это разнообразие, а не черты стилистического сходства, которые проявляются здесь как бы вопреки намерениям художника, стремившегося к созданию совершенно непохожих друг на друга, оригинальных, выразительных образов. К примеру, форма головы, казалось бы меньше всего поддающаяся превращениям, изменяется неожиданным, образом. Она может принимать самые разнообразные формы: то конуса, обращенного острием вверх или вниз, то шара или цилиндра. Уши, иногда отмеченные лишь небольшими углублениями, в иных случаях принимают причудливую форму и достигают огромных размеров (выделяют даже особый подстиль «длинноухих голов»).
Только один внешний признак объединяет почти все головы Нок — это способ изображения глаз. Замечено, что глаза большинства терракотовых голов имеют глубоко высверленный зрачок, прямое верхнее веко и нижнее в виде полукруга или равнобедренного треугольника. Следует добавить, что такое же единство сохраняется в трактовке дугообразных броней, наложенных сверху в виде плетеного шнурка. Единообразие этих деталей тем более удивительно, что именно глаза являются тем элементом традиционной африканской пластики, который трактуется наиболее разнообразно. Подобную форму глаза можно обнаружить в Африке в искусстве только одного из современных народов — в искусстве йоруба.
Еще большие стилистические параллели с искусством Нок обнаруживаются в древнем, но исторически более позднем искусстве той же страны — в искусстве Ифе. Кроме сходных сюжетов, таких, как, например, изображение людей, страдающих слоновой болезнью, и различных мелких предметов и украшений, в скульптуре Ифе имеются целые статуи, нашедшие своих двойников среди скульптур Нок.
Одна из них, найденная в Джемаа терракотовая фигура без головы, поразительно похожа на бронзовую статую, выполненную в традициях Ифе (найдена в Бенине). Размеры и пропорции этих статуй совершенно одинаковы. Присмотревшись внимательнее, можно увидеть, что не только пропорции, но и характер моделировки, например ступней, ног и других деталей, повторяется во всех подробностях. На торсах обеих фигур, из которых одна мужская, а другая женская, имеются одинаковые украшения в виде пояса и ожерелья. Если бы не огромный промежуток времени в 1000 лет, разделяющий две культуры, можно было бы сказать, что они соотносятся между собой, как скульптура Греции периода архаики и скульптура эпохи Фидия.
Пропорции статуи и фрагментов фигур Нок свидетельствуют также об их стилистической близости к современной африканской скульптуре. Одной из отличительных особенностей традиционной африканской деревянной скульптуры является то, что головы статуй сильно увеличены по отношению к торсу и обычно занимают по высоте третью или четвертую часть всей фигуры. Немногие из сохранившихся целиком статуэток Нок имеют точно такие же соотношения основных частей. Имеются и другие аналогии: например, так называемая голова Януса, найденная в Нок, воспроизводит один из типичных образов традиционной африканской скульптуры, встречается здесь у многих народов от Гвинеи до Конго. Хотя таких прямых аналогий и немного, они тем не менее дают достаточно оснований для сопоставления вновь открытой скульптуры с местными художественными традициями.
Кому же обязана своим появлением эта культура и каково ее место в искусстве народов Африки?
Автор открытия английский археолог Бернард Фэгг и его брат искусствовед Уильям Фэгг считают, что создателями культуры Нок являются предки племен, населяющих центральные районы Нигерии.
«Подобно народам культуры Нок они были одновременно и земледельцами, и охотниками, и совершенно ясно, что ранее они заселяли не только холмы, но и равнины, тогда как современные «язычники» были вытеснены на холмы после проникновения мусульман в северные районы. Вполне вероятно, что многие современные племена сохранили ту же религию, которая процветала в период культуры Нок. Эта религия — культ мифических предков племени, представлявшихся как основной источник жизненной силы, через которых она распространялась на ныне живущих. Можно с большой уверенностью предположить, что терракотовые фигуры Нок исполняли ту же функцию связи между миром невидимым и материальным, что и деревянные (а иногда и терракотовые) фигурки предков, которые, возможно, являются потомками культуры Нок».
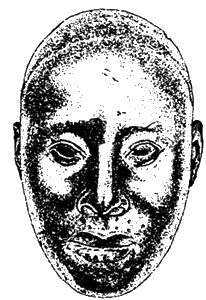
Присутствие металлических предметов в отложениях культуры Нок, а также находки некоторых органических остатков, в том числе очищенного от коры ствола дерева, давшие возможность провести датировку радиоуглеродным методом, позволили установить время расцвета этой культуры, которое приходится приблизительно на третье столетие до нашей эры (нижний слой, в котором были найдены предметы, датирован 900 г. до н. э.; слой, покрывавший их, — II веком н. э.). Незаконченные еще исследования показывают уже обширную территорию распространения этой культуры, общая площадь которой превышает 500 км с запада на восток и 360 км с севера на юг.
Широкое распространение культуры Нок, ее преклонный возраст (более двух тысяч лет), а главное, ее законченный, сформировавшийся стиль изменили представление об истории изобразительного искусства народов Африки, заставили пересмотреть отношение не только к древней, но и к более поздней деревянной скульптуре одного-двух последних столетий.
До недавнего времени существовало множество самых различных точек зрения на эту скульптуру: одни считают ее продуктом эволюции, в основе которой якобы лежали образцы натуралистического искусства, завезенные в Африку из Европы; по мнению других, специфические стили африканской пластики являются выражением особой религиозно-философской концепции, присущей исключительно африканским народам, — воплощением некоей «жизненной силы»; одни считают африканскую скульптуру единственным подлинным искусством, говорящим языком пластических символов в отличие от «литературного» языка европейской скульптуры, другие — что африканские маски и статуэтки вообще не являются произведениями искусства, так как они имеют всегда определенное утилитарное назначение, и т. д.
Условный, символический характер африканской скульптуры, придающий ей в наших глазах загадочную, мистическую окраску, может быть правильно понят лишь в свете последовательных этапов эволюции художественных форм, в свете тех постепенных изменений, которые привели к появлению специфических стилей поздней традиционной пластики. Большинство странных и парадоксальных высказываний, которыми пестрит литература об африканском искусстве, объясняется отчасти отсутствием материала, отчасти игнорированием тех известных уже исторических факторов, под влиянием которых складывались и формировались жанры и стили африканской скульптуры двух последних столетий. В результате язык символов и пластической идеограммы, которым пользуется африканская скульптура, воспринимается порой как продукт какой-то особой, замкнутой в себе культуры.
По-разному оценивая причины и следствия процессов, и белые приверженцы расовых теорий, и сторонники негритюда настаивают на якобы существующем коренном различии между «культурой белых» и «культурой черных». В числе прочих ссылаются на условный характер африканского искусства, его «консерватизм», отсутствие реалистических традиций и т. д., говорят об особом пути развития, якобы не имеющем ничего общего с историей искусства других народов.
Воссоздание истории искусства народов Африки остается пока делом будущего. Большие пробелы в этой области, вызванные отсутствием материала, все еще оставляют много места для всевозможных домыслов. Однако эти белые пятна неуклонно сокращаются. До недавнего времени сравнительно хорошо было известно лишь так называемое племенное, традиционное искусство одного-двух последних столетий. К знаменитым очагам искусства — Ифе и Бенину — теперь прибавились новые очаги, обнаруженные в разных пунктах Западной Тропической Африки, в частности культуры Гао и Нок, которые проливают свет на ранние периоды развития искусства на Африканском континенте.
Мы уже говорили о том, что стиль, пропорции терракотовой скульптуры Нок достаточно убедительно свидетельствуют о ее косвенной связи с условной традиционной африканской скульптурой. Хотя в настоящее время решены еще далеко не все вопросы, вызванные этим открытием, теперь уже можно определенно сказать, что культура Нок, создавшая замечательные произведения искусства, является глубоко самобытной местной африканской культурой, в которой можно ясно видеть многие основные тенденции, получившие позднее свое развитие в традиционной африканской пластике: острая выразительность, экспрессивность, характерные пропорции, выделение главного при помощи размера, даже некоторые более частные особенности. Вместе с тем с точки зрения эволюции стиля особый интерес представляет то обстоятельство, что многие из скульптурных портретов Нок, такие, как, например, головы из Джемаа, Абуджи и другие, отнюдь не чужды реализму; известная мера условности, присущая этому искусству (как и всякому искусству вообще), равна примерно той, какую мы находим в средневековой европейской или древней мексиканской скульптуре. Условность более поздней скульптуры сао уже значительно выше: созданные сао терракотовые головы и статуи, все эти полулюди-полузвери уже гораздо ближе по своему стилю к поздним деревянным маскам и статуэткам.
Это и понятно, так как они гораздо ближе к ним и по времени.
Если же, с другой стороны, мы обратимся к самым древним скульптурным памятникам на африканском континенте, к высеченным в камне барельефным изображениям, находящимся в Феццане и других местах, где сохранились памятники доисторического наскального искусства, то увидим, что по своему характеру они аналогичны памятникам первобытного искусства, находящимся во многих районах земного шара — от Белого моря до Австралии и от Скандинавии до Южной Америки. Примитивный, натуралистический стиль ранних наскальных изображений сменяется позднее реалистическим и затем, через стилизацию и обобщение, постепенно переходит к условности и символизму, проходя примерно те же этапы эволюции, что и скульптура.
Пока еще не найдены многие звенья той цепи, которая соединяет терракоты Нок с деревянной традиционной скульптурой, с одной стороны, и барельефы Феццана с терракотами Нок — с другой, но уже теперь ясно, что это лишь разные этапы одной линии эволюции. Находки в долине Нок подтверждают правильность выводов относительно того, что современные формы традиционной африканской скульптуры, которые воспринимаются некоторыми как извечно присущие африканскому искусству, складывались в процессе длительного развития на протяжении многих тысячелетий. Это развитие шло обычным путем — от примитивного натурализма к все большему обобщению, сгущению образов, известной стилизации; шло путем отбора и экономии изобразительных средств, следуя в общих чертах основной тенденции развития всякого искусства.
Замечательное открытие расширило наши знания об истории африканской культуры и обогатило мировую сокровищницу искусства великолепными памятниками скульптуры.
Загадки священного Ифе[21]
Наверное, многие помнят фантастическую историю переселения атлантов с Земли на Марс в «Аэлите» Алексея Толстого.
В заброшенном марсианском доме изобретатель Лось находит следы атлантов — «склеенные вазы, странно напоминающие очертанием и рисунком этрусские амфоры», и золотую маску. «Это было изображение широкоскулого человеческого лица со спокойно закрытыми глазами. Лунообразный рот улыбался. Нос острый, клювом. На лбу и между бровей припухлость в виде увеличенного стрекозьего глаза… Лось сжег половину коробки спичек, с волнением рассматривая удивительную маску. Незадолго до отлета с Земли он видел снимки подобных масок, открытых недавно среди развалин гигантских городов по берегам Нигера в той части Африки, где теперь предполагают следы культуры исчезнувшей таинственной расы».
В этом отрывке только перелет на Марс — плод воображения писателя. Африканские маски, их связь с Атлантидой и этрусками всего лишь художественная интерпретация научной гипотезы крупного немецкого археолога и этнографа Лео Фробениуса о происхождении одной из самых высоких и своеобразных древних цивилизаций Западной Африки — цивилизации Ифе, обнаруженной в Йорубе — стране народа йоруба (современная Юго-Западная Нигерия). «Я утверждаю, — писал в 1913 г. Фробениус после археологических изысканий в городе Ифе, — что Йоруба с ее пышной и буйной тропической растительностью, Йоруба с ее цепью озер на побережье (Атлантического океана. — Авт.) и близостью к Нигеру, Йоруба, чьи характерные особенности довольно точно обрисованы в сочинении Платона, — эта Йоруба, я утверждаю, является Атлантидой, родиной наследников Посейдона, бога моря, названного ими Опекуном, страна людей, о которых Солон сказал: они распространили свою власть вплоть до Египта и Тирренского моря».
Какими данными располагал Фробениус, строя свою гипотезу?
Внутренние области Нигерии стали впервые известны европейцам лишь в первой четверти XIX в. Англичане Клаппертон и братья Лэндер пересекли страну Йоруба с юга на север и нашли там развалины некогда могущественного государства. Оно называлось Оно — по имени столицы, расположенной в крайнем северо-восточном углу Йорубы. Город Ифе входил в его состав. Судя по преданиям, правители Оно некогда подчиняли себе огромную территорию, включавшую всю юго-западную и часть северной Нигерии и современные Бенин и Того. Внутри страны процветали торговля и ремесла. Ремесленные изделия Оно, особенно ткани, славились далеко за его пределами.
Но все это было в прошлом. Европейские путешественники застали страну йорубов уже в состоянии глубокого упадка. Они проезжали через огромные укрепленные города с населением в сорок, шестьдесят, сто тысяч человек. Однако на улицах не чувствовалось оживления, глинобитные крепостные стены разрушались, крепостные рвы зарастали травой и кустарником, по караванным тропам рыскали отряды охотников за рабами, которых они сбывали европейским купцам. Словом, ничто не наводило на мысль о том, что где-то в стране хранятся бесценные предметы искусства. На протяжении всего XIX в. никому из ученых и не приходило в голову искать на территории Нигерии следы забытой цивилизации.
Интерес к поискам вспыхнул внезапно и при весьма трагических обстоятельствах. В конце XIX в. колониальным захватам англичан в бассейне Нигера воспрепятствовало небольшое, но сильное государство Бенин (к юго-востоку от Йорубы). Оба, царь Бенина, закрыл свою страну для европейских купцов и миссионеров. Спровоцировав убийство бенинским жречеством членов английской миссии, пытавшихся проникнуть к царю для переговоров об установлении протектората над страной, англичане бомбардировали столицу с моря, сожгли и разграбили Бенин, разрушили царский дворец. Вскоре после этого на рынках и в антикварных лавках Европы стали появляться великолепные по мастерству исполнения и необычайные по художественной манере скульптуры животных и стилизованных мужских и женских голов почти в натуральную величину, украшенные коническими коронами и тяжелыми воротниками, изображающими ряды бус. На затылках многих голов были проделаны отверстия, в которые вставлялись резные слоновые бивни, а на низких постаментах можно было обнаружить маленькие барельефы животных и предметов. Расположенные в определенной последовательности, они наводили на мысль о том, что в них сокрыта некая недоступная для непосвященных символика.
Крупнейшие авторитеты Европы признали, что в техническом отношении бронзовое литье Бенина не уступает лучшим изделиям мастеров эпохи Возрождения. Однако — и в этом сказались прежде всего расовые предрассудки — бенинцам… отказали в авторстве. Исследователи пошли по пути поисков иноземных влияний, между тем как еще португальские и голландские мореплаватели конца XV–XVII вв. с восхищением рассказывали о великолепии Бенина, о бронзовых скульптурах и барельефах, украшавших царский дворец!

Причем уже тогда сами бенинцы рассказывали своим европейским гостям, что своими политическими институтами и культурными достижениями они обязаны другому, более могущественному африканскому государству, расположенному вдали от побережья, внутри страны. Так, в XVI в. португалец Жоан Афонсу д’Авейру доносил своему королю:
«В двадцати лунах пути от Бенина… живет еще более могущественный монарх, которого зовут Огане. Среди языческих князей Бени (то есть Бенина. — Авт.) его почитают так же, как у нас папу римского. В соответствии с очень древним обычаем цари Бени, перед тем как взойти на престол, посылают к нему гонцов с богатыми подарками для того, чтобы сообщить ему о смерти их предшественника и просить его утвердить их на царство. В знак согласия этот князь, Огане, посылает им в качестве скипетра и короны жезл и шлем наподобие испанского шлема, сделанные из сверкающей бронзы.
Он также посылает крест, тоже из бронзы… который они надевают на шею как нечто религиозное и святое. Без этих эмблем народ не считает их царствование законным, а их самих настоящими царями. Все время, пока гонцы находятся при дворе Огане, они видят не его самого, а шелковые занавески, за которыми он находится, и эти занавески считаются священными. Когда гонцы собираются в обратный путь, Огане показывает им из-за занавески свою ногу в знак признания их миссии. И они благоговеют перед этой ногой, как если бы это было что-то священное».
Но можно ли с доверием относиться к рассказу средневекового мореплавателя? И царем какого государства был в таком случае этот «Огане»? Что касается той части рассказа, где говорится о занавеске, скрывающей царя от взоров людей, и о поклонении его ноге, то современная Фробениусу наука уже располагала достаточным количеством фактов о сходных обычаях, в разное время существовавших у очень многих народов земного шара[22]. Так что в этом смысле этнография не могла оказать помощь в установлении родины «Огане». Но если обратиться к устным традициям Бенина, то они давали совершенно определенный адрес.

Устные дворцовые хроники бенинских царей, передаваемые из поколения в поколение многие сотни лет, говорят о том, что некогда Бенин не имел царя и народ, уставший от безвластия и беспорядков, обратился к правителю йорубского города Ифе — они (по-бенински произносится «охэне», то есть почти «огане») с просьбой прислать им царя. Их просьба была выполнена.
Согласно другой бенинской легенде, родиной бронзового литья, так восхитившего западноевропейских экспертов, также был город Ифе. Сначала, говорится в предании, все бронзовые изделия поступали в Бенин из Ифе в готовом виде от случая к случаю. Оба (царь) Огуола (приблизительно XIV в.) обратился к они с просьбой прислать мастера, который бы научил его народ литью из бронзы. Из Ифе прибыл кузнец Игуа-игхе. Он основал в Бенине цех царских литейщиков и после смерти был обожествлен.
Схема Фробениуса
Фробениус слышал легенды об Ифе задолго до приезда в Нигерию от западноафриканских рабов, увезенных на чужбину. Мысль о наследии древних атлантов где-то в Западной Африке оформилась у него до начала раскопок в Ифе, во время странствий но африканскому континенту. Связав в одно целое легенды об Ифе, первые исследования бенинских бронз и некоторые другие находки в близлежащих странах Африки, Фробениус с уверенностью предположил, что в Юго-Западной Нигерии, в стране йорубов, должен находиться древний культурный центр, а бенинские бронзы появились позднее под его влиянием.
В 1910 г., заручившись согласием английских властей, уже обративших Нигерию в свою колонию, Фробениус уверенно начал раскопки в городе Ифе. И буквально с первых же шагов маленькой немецкой экспедиции удалось сделать замечательные открытия.
На задворках полуразвалившегося дворца местного правителя — они совсем неглубоко от поверхности земли Фробениус увидел куски разбитой красновато-коричневой терракотовой скульптуры, изображавшей лицо человека.
«Это были следы очень древнего и прекрасного искусства, — писал Фробениус под свежим впечатлением от своего открытия. — Эти разрозненные остатки были воплощением симметрии, живости, утонченности формы, которая непосредственно напоминает Древнюю Грецию и служит доказательством того, что здесь некогда обитала раса, превосходящая негров. Таким образом, ценность находки не оставляет никаких сомнений: она указывает на что-то, безусловно, экзотичное, на существование необычайно древней цивилизации».
В последующие дни экспедиция нашла или выменяла у африканцев еще несколько терракот. Фробениус заметил, что местные жители довольно легко расстаются со скульптурами, которые они сами некогда нашли в древних святилищах, и не могут дать удовлетворительного объяснения их назначению. Это еще более укрепило немецкого этнографа в предположении, что современный ему Ифе не более чем случайный и невежественный наследник давно погибших атлантов: «Мы скоро узнали, что находимся не в городе, где поклоняются древности, а в городе развалин, в котором траншеи глубиной от пяти до пятнадцати футов свидетельствуют о том, что в течение многих веков сюда наведывались охотники за сокровищами. Еще немного, и я смогу с уверенностью утверждать, что мы находимся сейчас там, где некогда стояла священная обитель Посейдона».
Последним аргументом, окончательно убедившим Фробениуса, стала находка в священной роще, посвященной йорубскому богу моря Олокуну, бронзовой, несомненно, древней прекрасной скульптуры, по манере исполнения непохожей на бенинские и превосходившей их по техническому совершенству: «Перед нами лежала голова изумительной красоты, чудесно отлитая из античной бронзы, правдивая в своей жизненности, покрытая темно-зеленой патиной. Это был в самом деле Олокун, Посейдон Атлантической Африки».

Находки Фробениуса произвели сильнейшее впечатление на научные и литературно-художественные круги Европы. Немалую роль в этом сыграли его увлекательные книги, например «И Африка заговорила…» и «Дорогой атлантов», где он популяризировал свои гипотезы. Теперь, спустя много лет, когда наука накопила много новых фактов, мы можем с достаточной беспристрастностью оценить результаты его исследований.
Экспедиция Фробениуса находилась в Йорубе всего два месяца и лишь около двух недель имела возможность вести раскопки в Ифе. Кроме терракотовых и бронзовых скульптур она нашла остатки древней гончарни, тигли для плавки разноцветных стеклянных бус, стеклянные кольца, обломки глиняной посуды. Раскопки велись на очень узком участке (точнее, на двух участках), их методы с точки зрения современной археологии были просто варварскими: экспедиция нанимала местных жителей, которые рыли глубокие ямы; работа археологов сводилась к поискам сокровищ — отдельных предметов искусства. Ни о каких стратиграфии и планомерном изучении материальной культуры не могло быть и речи. Эти задачи вовсе не ставились. Фробениус, убежденный, как и многие его современники, в неспособности африканцев к творческому труду, приступил к работе уже зараженный идеей о возможных следах атлантов в этой части Африки и каждую новую находку фактически нанизывал на нить уже сложившейся гипотезы.
В своем окончательном виде ход его рассуждений сводился к следующему:
1. «Цивилизация йоруба в ее современном виде должна быть объявлена без колебаний по существу африканской… Мы, однако, сталкиваемся с проблемой, развилась ли она на месте или была пересажена извне, то есть можем ли мы считать ее самозародившейся или же находящейся в гармоническом сочетании с иноземными цивилизациями.
2. В то же время современная цивилизация йоруба явно упадочная и регрессирует уже по крайней мере на протяжении нескольких веков. Сфера ее влияния постепенно сужается, хотя в прошлом она, по-видимому, распространялась по всему Атлантическому побережью от Гамбии до Анголы. Об этом свидетельствуют легенды Бенина и иджо (народа в дельте Нигера) и данные этнографии.
3. Ее многие черты, например такие, как конструкция водостоков, тип ручного женского станка, форма луков, повторяются и на северном побережье Африки. Однако нет никаких следов культурных влияний и заимствований в результате связей между Северной и прибрежной Западной Африкой по суше, через пустыню Сахару и Западный Судан.
4. В то же время обнаруживается явное сходство между цивилизацией йоруба и средиземноморской цивилизацией древних этрусков. У обоих сходная система водостоков и бассейнов для хранения дождевой воды. Только у йорубов и этрусков найдены столь совершенные по исполнению терракотовые скульптуры, выполненные в сходной художественной манере, и т. п. Очевидно, обе эти цивилизации — сестры. Расцвет цивилизации этрусков приходится на XII в. до н. э. В это время этруски наступали на восточную цивилизацию (в частности, на государства Малой Азии). Это движение с запада на восток, — продолжает Фробениус, — вообще говоря, противоречит общепринятой концепции всемирной истории, но противоречие отпадает, если принять во внимание сообщения древних о государстве атлантов, которые жили «за столбами Геракла».
По Фробениусу, эта цивилизация Запада, то есть цивилизация атлантов, включала, в частности, Галлию, Испанию и Ливию. Однако со временем более молодая цивилизация Востока стала наступать на западную, оттесняя ее к морю, что неизбежно вело к заселению побережья Атлантического океана. Если опираться на анализ косвенных данных из древнеегипетских источников, процесс этот шел в XIII в. до н. э. и Йоруба была одной из периферий этой цивилизации: «Культура Йорубы представляет собой кристаллизацию того могучего потока западной цивилизации, который в своей евроазиатской форме хлынул из Европы в Африку».
«История атлантов, так как она передана Солоном, — заключает Фробениус, — в действительности является выдумкой, сагой, вплетенной в миф, но ее зерно настолько же реально, насколько оказались реальными рассказы о пигмеях… или сказка о Трое, которая трудами Шлимана раскрылась как исторический факт…»
Искусственность и слабая аргументированность общеисторических построений Фробениуса ясна даже неискушенному читателю. Порочна и основная посылка, порожденная эпохой колониализма, о невозможности самозарождения культуры Ифе в самой Йорубе, без воздействия активной западной культуры (этому не противоречит и то, что именно Фробениус впервые заявил о чисто африканском характере цивилизаций Ифе и Бенина). Гипотеза Фробениуса в целом не была принята ученым миром, хотя многие его мысли, главным образом результаты непосредственных полевых исследований, оказывали и продолжают оказывать сильное влияние на этнографов и археологов.
Без прошлого и без будущего?
Итак, в начале второго десятилетия XX в. благодаря трудам Фробениуса перед ученым миром встала загадка Ифе. Были обнаружены прекрасные в своем совершенстве и законченности бронзовые и терракотовые скульптуры, резко отличающиеся по реалистической трактовке образов от традиционно условного африканского искусства и скорее напоминающие древнегреческие скульптуры. Кем они были сделаны? Когда? Почему местное население не может объяснить, кого они изображают, или дает явно путаные толкования?
На все эти вопросы долго не находилось ответов. Начавшаяся вскоре Первая мировая война и последующее колониальное «освоение» Нигерии отодвинули проблему Ифе на задний план.
И вдруг — в 1938 г. — новая случайность, новая сенсационная находка.
Занимаясь починкой стены покосившегося здания в самом центре города, землекопы неожиданно натолкнулись на целую коллекцию терракотовых голов. Позднее было найдено и несколько бронзовых. И терракоты, и бронзы были выполнены в той же художественной манере, что и находки Фробениуса.
В большинстве случаев это реалистические скульптурные портреты мужчин и женщин почти в натуральную величину. По стилю они близки к античным, но черты лица ифских скульптур типично негроидные. В щеках и подбородках мужских голов проделано множество мелких отверстий, возможно для волос или драгоценных камней. Продольные борозды на лицах символизируют татуировку. В шее каждой головы проделано по два-три отверстия, очевидно, для того, чтобы насаживать их на деревянные опоры или туловища. На макушках также имеются отверстия для резных слоновых бивней.
Бронзовые скульптуры были выполнены по методу «потерянного воска», известного еще древним египтянам; он до сих пор практикуется в Бенине и многих других местах Западной Африки. По этому методу грубую глиняную форму заливали воском, из которого лепили модель. После этого модель покрывали несколькими слоями глины и высушивали. Затем в оставленное сверху отверстие лили расплавленный металл. Металл растоплял воск, который вытекал в нижнее отверстие, а его место занимал металл. Затем наружный слой глины разбивали, и обнажалась бронзовая скульптура, которую подвергали заключительной гравировке.
По мнению экспертов, техническое мастерство изделий Ифе было исключительно высоким и превосходило все созданное подобным образом в других местах.
Наибольшее недоумение и искусствоведов, и археологов вызывало то обстоятельство, что бронзовые и терракотовые скульптуры Ифе, как казалось, не имели ни прошлого, ни будущего. Ифские шедевры, по-видимому, были созданы за очень короткий срок, может быть даже на протяжении жизни поколения мастеров одной школы или даже единственным мастером. Не удавалось заметить ни малейших отклонений в их художественной манере: ни улучшений, ни декаданса. Они как бы застыли в своем совершенстве. Находки последующих 40-х годов XX в. в этом смысле не прибавили ничего нового.
Искусствоведы разных стран искали (и находили) в ифских скульптурах следы древнегреческого, древнеримского, древнеиндийского, древнеперсидского, древнеегипетского влияния, но все это звучало малоубедительно. А в начале 50-х годов древний Ифе подбросил исследователям новую загадку.
Во время раскопок святилища Огунлади близ дворца правителя Ифе — они археологи неожиданно наткнулись на странную мостовую. Выложенная специально обработанными глиняными черепками, она походила на мозаику. На сорок пять сантиметров ниже первой лежала вторая мостовая.
Строительный материал — глиняные черепки — по характеру обработки археологи разделили на три типа. В первом случае черепки имели форму многогранников диаметром от полутора до трех дюймов (7,5 см). Во втором — глиняных кругов около одного дюйма с четвертью в диаметре; их ставили рядами край в край, так что образовывался полосатый Узор, как на вельветовых тканях. И наконец, третий тип — это также круги, но совсем маленькие (около одного дюйма в диаметре), сделанные из более тонкой глины.

Древние мастера мостили влажную землю поставленными на ребро более грубыми черепками, а затем полученное основание покрывали слоем тонких и изящных черепков, из которых — в сочетании с мелкими кварцевыми булыжниками — составляли различные геометрические рисунки.
В течение 50-х и в начале 60-х годов в Ифе в общей сложности нашли более 3,2 кв. км таких замощенных участков. С точки зрения древней примитивной техники это колоссальная цифра. Один из участников раскопок, английский археолог Гудвин, попытался подсчитать затраты труда на создание ифских мостовых. Вот что он пишет: «Десятки миллионов глиняных черепков были собраны, и каждый тщательно обточен до размера двухшиллинговой монеты, отшлифован, и каждому была придана форма плоского диска размером в один дюйм в диаметре. Для того чтобы обточить таким образом черепок, требовалось, по крайней мере, несколько минут. Затем черепки тщательно укладывали край в край лицевыми сторонами друг к другу по три на каждый квадратный дюйм, и так, возможно, на площади в две квадратные мили. Но это еще не все. Края разбитых сосудов, очевидно, откладывали в сторону и обтачивали до размеров одного дюйма в высоту и двух дюймов в длину. Потом их укладывали на основание из «двухшиллинговых» черепков по типу елочки так, чтобы их края образовали поверхность мостовой. Усилия, потраченные на эту работу, должны быть огромными! Исходя из расчета трех «двухшиллинговых» черенпков на квадратный дюйм, мы уже имеем 432 черепка на площади в один квадратный фут. На это основание накладывались ободки от сосудов в среднем по два на каждый квадратный дюйм, или 288 на квадратный фут; т. е. всего 720 черепков на каждый квадратный фут. Умножив это число на количество замощенных квадратных футов, мы получаем астрономическую цифру, которую я просто не в силах выразить!»
Каково было назначение мостовых? Когда и кем они были построены? До сих пор это не вполне ясно. Европейские путешественники XIX в., несомненно, упомянули бы о таком замечательном явлении, если бы столкнулись с ним. Но ни в одном из источников о мостовых нет ни слова. Не нашел их и Фробениус.
Правда, в современном Ифе вам расскажут на эту тему легенду. Некогда правительницей города была женщина. Во время дождливого сезона края ее одежды пачкались в уличной грязи. Поэтому она заставила своих подданных замостить все улицы глиняными черепками. Работа была очень тяжела, народ в конце концов сверг правительницу и с тех пор ни разу не допускал женщин к власти.
Но скорее всего это предание появилось совсем недавно. В последние годы в связи с расширением городского строительства в Ифе землекопы то и дело натыкаются на древние замощенные участки, о происхождении которых народу ничего не известно. И вот, для того чтобы объяснить непонятное, была придумана легенда…
У археологов имеется своя версия. По их наблюдениям, мостили не улицы, а скорее внутренние дворы в жилых кварталах и у общественных зданий.
При раскопках святилища Огунлади, вся территория которого была покрыта прекрасной мостовой, обнаружено тщательно замощенное углубление, образующее водосток. Во время дождей вода стекала по нему и скапливалась в большом глиняном сосуде. Археологи нашли и затычку к сосуду — художественно выполненную терракотовую голову барана. Водостоки и бассейны, связанные с мостовыми, были раскопаны и в других районах города. Поэтому можно предположить, что они представляют часть водосборной системы.
Возможно также, что они имели какое-то ритуальное значение. Ведь не случайно больше всего мостовых найдено в царском квартале. Кроме того, если бы строители руководствовались лишь чисто практическими нуждами, зачем бы они избрали такой трудоемкий и сложный метод?
Существует ли какая-нибудь связь между мостовыми и скульптурами? Видимо, да, но определенный ответ пока невозможен, тем более что до сих пор не удается датировать ни мостовые, ни скульптуры. Как уже говорилось, все скульптуры были найдены не на своих первоначальных местах. В прошлом веке, а может быть, и много ранее местные жители выкапывали их и прятали в новые тайники. Поэтому к ифским находкам до сих пор не удавалось применить такой совершенный метод датировки, как радиоуглеродный.
Что же касается мостовых, то на одном из черепков археолог Уиллетт заметил изображение маиса. Полагая, что маис был завезен в Западную Африку в XVI в. португальцами, Уиллетт предложил Датировать мостовые этим временем. Однако несколько крупных авторитетов возразили Уиллетту, доказывая, что маис проникал в Западную Африку многими путями, с суши и с моря, и в разное время. Таким образом, пока и этот вопрос остается открытым.
И все же за последние годы в разрешении загадки Ифе сделан огромный шаг вперед. Теперь исследовательские работы ведутся комплексно учеными разных специальностей: археологами, этнографами, филологами, которые (и в этом главная заслуга принадлежит нигерийским ученым) делают упор на изучение местного материала, в то время как Фробениус и искусствоведы 30-х годов, занятые главным образом поисками заимствований, в сущности, абстрагировались от африканской среды. Между тем город Ифе и связанные с ним легенды предоставляют обильный материал для размышлений.
«Меч справедливости»
Слово «Ифе» считают производным от йорубского глагола fе — «быть обширным». В наши дни в этом городе живет более четырехсот тысяч человек, главным образом крестьян, занятых выращиванием какао. Однако для йорубов (которых сейчас насчитывается около десяти миллионов) Ифе — это прежде всего национальная святыня, колыбель нации и религиозный центр, куда со всех концов Нигерии ежегодно стекаются сотни паломников-язычников. Среди современных жилых зданий, но главным образом в священных рощах за городскими стенами прячутся древние храмы и святилища; по преданию, их насчитывается 401, однако до сих пор обнаружено только 120.
Легенды йорубов говорят о том, что Ифе был местом зарождения человечества. Когда-то на месте земли была вода. Решив создать мир, бог Олорун (хозяин неба) сбросил с неба цепь, по которой спустился мифический предок народа йоруба Одудува, нося петуха, горсть земли и пальмовый орех. Одудува швырнул землю на воду, петух взрыл ее, и так образовалась суша. На земле из пальмового ореха выросло дерево с шестнадцатью ветвями, которые символизировали шестнадцать парных оба, правителей йорубских городов-государств. На месте, где все это произошло, Одудува основал город Ифе. Создание земли было закончено в четыре дня. Поэтому йорубская неделя длится пять дней, где последний, пятый день отводится для отдыха и богослужений.
Чуть ли не каждый старинный уголок города связан с какой-нибудь легендой…
Жрецы Ифе и в наши дни демонстрируют паломникам святыни, якобы сохранившиеся со времен сотворения мира: два водных бассейна — Осара (лагуна) и Окун (море), от которых, как считают, произошли все моря и лагуны, и каменные памятники — следы первых людей. Один из них — Бада Гонгиди — грубое каменное изваяние мужчины, который, по преданию, был великим воином. Вместо того чтобы умереть обычным путем, он предпочел обратиться в камень подобно некоторым другим героям йорубской древности.
Другой знаменитый памятник — Опа Ораньян (жезл Ораньяна) — гранитная колонна высотой в несколько метров. Это, по преданию, обращенный в камень жезл древнего героя Ораньяна, сына первого правителя Ифе и прародителя народа йоруба[23].
Говорили также, что старинная пещера с замурованным входом когда-то вела прямо на небо. Первоначально входом пещеру пользовались старики, которые уже были вполне готовы для постоянной жизни на небесах, и те, кто забирался туда на время, чтобы испросить у богов каких-нибудь милостей для себя. Постепенно, однако, просителей стало слишком много, и, для того чтобы мирские дела не были окончательно заброшены, вход в пещеру пришлось замуровать…
Можно посмеяться над наивными историями, подивиться причудливой фантазии их безвестных создателей. А что, если попытаться оценить их с точки зрения интересующей нас загадки Ифе?
Те легенды, которые связаны с памятниками и святынями, явно появились для объяснения непонятного современному человеку назначения этих предметов. Для ученого они служат, таким образом, лишним свидетельством глубокой древности каменных памятников Ифе; ведь, по крайней мере, уже несколько поколений йорубов пребывали в неизвестности относительно того, кем и для чего они были созданы. Что же касается легенды о сотворении мира, то к ней, видимо, следует отнестись серьезнее: не является ли она отблеском былого величия Ифе, оказавшего культурное и политическое влияние на окружающие государства и народы? Данные этнографии как будто подтверждают это предположение.
Например, почти все оба — цари других городов-государств йоруба — во время обряда коронации получали из Ифе «меч справедливости», без которого коронация считалась недействительной. Вручая меч царским посланцам, представитель они — правителя Ифе — обращался к ним со словами:
«Возьми этот меч, это меч победы. С ним ты можешь сражаться, и он обеспечит тебе успех; ты можешь идти с ним направо и налево, и победа будет сопутствовать тебе. Но ты никогда не должен обращать свой меч назад (то есть в сторону Ифе), потому что там твоя прародина и источник твоей силы. И если ты ослушаешься, ты погибнешь».
Соседнее государство Бенин, по-видимому, также некогда находилось в какой-то форме политической зависимости от Ифе. Рассказы стариков о том, что в старину части тел умерших бенинских царей перевозились в Ифе для захоронения, подтвердились недавними археологическими раскопками: в окрестностях города обнаружено несколько таких могил.
Влияние Ифе на Бенин подтверждают и бенинские устные хроники.
Можно ли связать в одно целое легенды о величии Ифе и шедевры его искусства как материальное выражение этого величия?
Уже говорилось, что Фробениус видел в скульптурах Ифе изображения средиземноморских богов, перенесенных на африканскую почву. Например, йорубский бог (или богиня) моря Олокун был для него древнегреческим Посейдоном.
Современные же исследователи на основании данных этнографии и мифологии Йоруба установили, что скульптуры изображают местных богов, царей или придворных и, по всей вероятности, первоначально стояли в алтарях, где им поклонялись при отправлении культа царских предков. Очевидно, в древнем Ифе (так же как и в Бенине) верили, что изображение головы предка служит посредником между загробным миром и живыми людьми. Потому-то большинство скульптур — это одни головы без туловищ.
Но было найдено и несколько целых фигурок: царь в полном облачении, точно таком, какое носили в предыдущем веке; правители Ифе во время церемонии коронации; царь и царица, исполняющие, судя ко положению тел, ритуальный танец. Фигурка правителя, восседающего на круглом царском стуле, с ногами, покоящимися на четырехугольном стуле меньшего размера, могла отражать верование, еще и прошлом веке распространенное среди йорубов, в то, что священный царь не должен касаться ногами земли, чтобы не утерять святость. Выразительные скульптурные головы с кляпами во рту, украшающие бронзовые сосуды, — это явное свидетельство обычая человеческих жертвоприношений (при похоронах царей и в некоторых других случаях), также практиковавшегося народами Нигерии в XIX в.
Слишком простые ответы
Как уже говорилось, реалистическое искусство Ифе выглядит изолированным на фоне традиционно условного искусства Африки. Однако несколько лет назад обнаружилось поразительное сходство между терракотами Ифе и культурой Нок, о которой говорилось выше. Неизвестный народ, создавший эту культуру, занимался охотой и земледелием (найдены зернотерки и оружие), умел обрабатывать железо и олово и изготовлять терракотовые скульптуры людей и животных. «Нок и Ифе являются единственными из известных нам африканских культур, в которых имелись терракотовые скульптуры людей почти в натуральную величину, — пишут археологи Уиллетт и Фэгг, вот уже много лет ведущие раскопки в Ифе. — И если фрагменты тел и конечностей из этих двух культур перемешать, то будет очень трудно различить их на основании только стилевых особенностей».
Таким образом, точные археологические данные окончательно похоронили беспочвенные теории об иноземном происхождении терракотовых скульптур Ифе. Корни культуры народа йоруба находятся в Северной Нигерии. Эта культура создана людьми эпохи неолита или начала железного века.
И все же, несмотря на эти неоспоримые данные, вопрос о происхождении йорубской цивилизации еще далек от разрешения. Хотя существует прямая преемственность в терракотовых скульптурах разных эпох, остается неясным, как и когда зародилась в Ифе техника изготовления бронзовых скульптур.
Еще большую путаницу в разрешение этого вопроса вносят легенды о происхождении народа йоруба. До сих пор не вполне ясно, являются ли йорубы местными — автохтонами, или они пришли на территорию Нигерии из каких-то других краев. Дело в том, что помимо уже известной нам легенды об Ифе как прародине человечества есть много других преданий о переселении йорубов откуда-то с северо-востока. Некоторые ученые на Западе и в Нигерии видят в этих преданиях отзвуки реальных событий глубокой древности и связывают с пришельцами внедрение бронзового литья. Кроме того, говорят они, таким путем разрешается и другая загадка Ифе, а именно устанавливается связь между его каменными памятниками и бронзовыми и терракотовыми скульптурами;
Дело в том, что каменные памятники, такие, как уже известные нам Опа Ораньян, Бада Шигиди и другие, сделаны довольно примитивно, особенно по сравнению с прекрасными скульптурами из терракоты и бронзы. Фробениус считал их проявлением африканского декаданса, который неизбежно последовал в результате истощения могучего потока «западной цивилизации». Напротив, по мнению' современных исследователей, изделия из камня — это следы древнейшей культуры, а терракотовая и бронзовая скульптура появилась позднее. Странно только, что между ними нет никакой преемственности. Единственное сходство, которое удалось до сих пор подметить — это железные гвозди, присутствующие во всех трех типах памятников — и каменных, и терракотовых, и бронзовых. Например, в Опа Ораньян вбито девяносто два гвоздя, образующие рисунок наподобие трезубца. Сделано это для украшения, видимо, в ритуальных целях, тогда как в терракотовых и бронзовых скульптурах железные гвозди, вероятно, служили опорой при отливке фигур.
Но так или иначе, если принять версию о переселении йорубов, вопрос о взаимоотношении каменных памятников и скульптур периода расцвета Ифе разрешается просто, даже, пожалуй, слишком просто для серьезного исследования: было несколько волн переселений, разделенных значительными промежутками времени, и каждая волна несла свои элементы культуры…
Увы, до сих пор ни одна из схем, будь то идея самозарождения культуры Ифе или перенесения ее откуда-то извне, не может достаточно удовлетворительно увязать цивилизацию йоруба со всем комплексом других родственных культур на территории Нигерии — в Бенине, в стране ибо (Восточная Нигерия), в средневековом государстве Нупе (Северо-Восточная Нигерия). Например, в местечках Тада и Джебба (на Нигере) в тайниках обнаружено несколько бронзовых фигур, которым местное языческое население поклоняется и поныне и считает, что в далекой древности их доставил сюда с юга (но не из Ифе!) полумифический основатель государства Нупе Тсоеде. Среди этих скульптур выделяется фигура сидящего человека высотой около полутора метров. По стилю она походит на скульптуры Ифе, но ее поза необычайна для африканского искусства и скорее напоминает скульптуру Индии. Есть основания предполагать, что в государстве Нупе на заре его существования, то есть примерно в XII в., находился центр бронзового литья. Но в каком отношении он находился к культуре Ифе?
Даже утвердившаяся точка зрения на происхождение бенинского искусства от Ифе в последнее время подвергается сомнению. В самом деле, по преданию, кузнец из Ифе научил бенинцев литью из бронзы. В Бенине цех потомственных литейщиков-скульпторов существует и в наши дни, но в Ифе, где, кажется, зародилось это искусство, ничего подобного нет и в помине. Более того, археологи не нашли никаких следов древних мастерских!
Может быть, этот город, как и его младший брат Ойо, несколько раз менял свое местоположение и в действительности существовал не один, а несколько Ифе?..
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ