1981
Силуэты Палеха
(Проселки)

Всемирно известные расписные шкатулки рождаются в обыкновенном селе… Полчаса езды от города Шуи, и вот он — Палех. Дымы из труб.
Хруст первого снега. Гуси и куры за оградами палисадников. Воробьи на припеке. Село как село. Таких было много в нечерноземных краях.
Почти каждое, помимо работы в полях, еще и чем-нибудь промышляло. Одни кормились извозом, изготовленьем деревянной посуды, плетеньем корзин, гончарным делом, изготовленьем телег и саней, детских игрушек, бочек, рогожи, дегтя, угля…
Палех кормился промыслом благородным.
Исстари жили тут иконописцы. И, казалось бы, здешний умелец в первую голову должен был оказаться без дела. Этого не случилось. Богов писала рука художника, и поворот жизни закономерно дал новое направление древнему ремеслу. Палех обрел второе дыханье, глубокое и здоровое.
Шкатулки мастеров-палешан известны всем.
И нет нужды говорить об умении тончайшими средствами превращать бумажную коробочку в драгоценность. Народные сказки, картинки быта, родная природа, моменты нашей истории — на все палешанин умеет посмотреть через волшебное стеклышко самородного мастерства.
Издалека кажется: само село тоже похоже на самобытную роспись. Что все в нем сказочное, все земное! Лужок у речки, припорошенный снегом. Ледок на речке звенит от брошенной палки так же, как и везде он звенит. Рябины и вербы такие же, как и в селе по соседству. И поленницы дров у домов, и белье на веревке, закоченевшее от мороза, и гусак, неспешно переходящий дорогу, — все нам привычно. И не жар-птица вовсе, а сорока сверкнула черно-белым пером у чьей-то трубы. Короче, обычная жизнь, обычные краски и звуки питают здешнего мастера. Все зависит лишь от того, какими глазами смотрит на мир человек, как чутко сердце его и насколько послушна, искусна рука, творящая из обычного необычное…
Но, конечно, палешане стараются и украсить свое село. Крылечки, резные наличники на окнах, колодезные журавли, белая стройная колокольня, вот эта пожарная каланча, эта старая мельница на пригорке — все тут радует глаз и помогает пробудить чувство, следы которого видим мы на черном лаке знаменитых шкатулок.

Фото автора. 1 января 1981 г.
После «урока»
Обзор писем в редакцию
Публикация «Комсомольской правды» «Урок» (6 декабря 1980 года) вызвала много откликов.
Бакинская драма никого не оставила равнодушным, и рассказ о ней правильно понят читателями.
В письмах есть сообщения о ряде других не менее драматических случаев. В Днепропетровске женщина убита ручным медведем. В Кишиневе двое людей погибли от укуса лисенка — оказался носителем бешенства. В Магадане для потехи заведенный медведь покалечил несколько ребятишек. В Липецке, в центре города, объявилась, видимо, выпущенная кем-то волчица, и так далее.
Нет нужды в назидание легкомыслию перечислять все, что случилось или может случиться, если люди превращают животных в игрушку.
Лишний раз уместно лишь вспомнить слова Михаила Михайловича Пришвина, одинаково хорошо знавшего природу и зверя, и человека.
В документальном очерке он писал: «Иван Янковский вырастил… барсенка и потом никогда не расставался со своим Самсоном. Бывало, в горы пойдет, и начинается игра: леопард прыгает в камни и заляжет там, по своей барсьей манере, так, что видны бывают одни только глаза, и потом прыгает оттуда… Кончается… такая дружба всегда печально… И чем нежнее дружба, тем, значит, печальнее конец».
Тут и поставим точку на бакинской истории, сообщив в заключение: Нина Петровна Берберова поправляется. Жизнь ее вне опасности.
* * *
Как и следовало ожидать, наибольшее число откликов касается той части «Урока», где речь идет о собаках. Писем так много, что для газеты это верный сигнал: попали в болевую точку проблемы.
Ответим сразу на замечания в части писем: «Согласны, проблема есть. Но почему рядом — лев и собака. То дикое животное, а то домашнее. Есть же разница?»
Есть, конечно. Но надо ли объяснять, что крупные собаки при очень быстро растущей их численности угрозу безопасности людей в городе представляют гораздо большую, чем злополучный исключительный лев. Огромное число писем это со всей очевидностью подтверждает.
«Пишу, что называется, по горячим следам. Был покусан собакой. Владелец трусливо скрылся. Мне же, поскольку нет справки, что собака не бешеная, пришлось ходить на уколы. Их было сорок. Представляете, как это приятно!» (С. Малоземов, Алма-Ата).
«Извините за почерк — с того злополучного вечера руки дрожат. На подходе к автобусной остановке меня сбила с ног огромная черная собака. И вот уже третью неделю лечусь от нервного потрясения и бессонницы. На улицу просто боюсь выходить» (Татьяна Т. Кочина, Москва).
«Меня сильно покусала овчарка… Всегда приходила в эту квартиру с бандеролями. Ничего. А в этот раз как будто с цепи сорвалась. Одежда в клочья, и я сама вся в крови. Хозяева еле-еле оттащили собаку. Люди они неплохие. Дали мне порядочно денег, чтобы молчала. Я, слава богу, выздоровела. А на сердце нехорошо. Решила написать, какие случаи бывают…» (Москва. Письмо без подписи).
Очень много писем от людей пожилых, бегающих в парках трусцой. «…Меня уже два раза прихватывала собака. Услышав протест, владелица колли мне изрекла: «А что вы бегаете, руками машете. Собаки этого не любят» (Н. Н., инженер, Ленинград).
«На школьной спортивной площадке дог покусал моего сына…» (А. И. Кацюба, Днепропетровск).
«Собака породы доберман-пинчер бросилась на меня у телефонной будки, сорвала с головы песцовую шапку и порвала ее в клочья» (Раиса Гришина, Малаховка Московской области).
«Уже несколько лет страдаем от злобной овчарки, принадлежащей И. Кузнецовой. Весь двор терроризирован. Несколько человек в разное время покусано…» (Тула, много подписей, прилагается справка городской больницы с перечислением имен покусанных собакой людей).
«Не всегда кровь является показателем травмы. Часто травма бывает психическая. Все чаще на мои вопросы о причине дефекта речи отвечают: в пять-шесть лет испугался собаки» (Н. Д. Николаева, врач-оториноларинголог, Москва). При каких обстоятельствах это происходит, дают представление два письма из Сибири и с Украины.
«Моего двухлетнего сынишку, катавшегося на санках с горки, сбила огромная немецкая овчарка. Схватив за воротник, она протащила его несколько метров по снегу, а потом, поставив лапы ему на грудь и высунув язык, заозиралась в поисках хозяина, дескать, погляди и похвали.
Я думаю, все понимают мое состояние в те мгновения, когда я, подбежав, схватил мальчишку на руки и когда самодовольный холеный хозяин собаки не спеша подошел, взял собаку на поводок, процедив сквозь зубы: «Это она играет» (В. П. Шатов, Красноярск).
А это письмо из Киева. Пишет Мальский В. П.: «11 декабря, когда я шел утром на работу через сквер у площади Богдана Хмельницкого, одна из бегавших там овчарок (разумеется, без намордника) с лаем бросилась на меня и свалила в снежно-земляную жижу. Порычав над моей головой, она помчалась к своей хозяйке, которая стояла метрах в десяти и… хохотала.
Скажу откровенно: настроение на весь день и позже всерьез было испорчено. И не столько из-за испачканной мокрой одежды, сколько из бессилия перед уверенным в своей безнаказанности торжествующим злом. До каких пор будет продолжаться эта бескультурная, эгоистическая «любовь к животным», поразительно сочетающаяся с пренебрежением к человеку? Всякая безнаказанность развращает. И нужен в этом деле какой-то порядок».
Подчеркнем: подобные строчки характерны для большинства писем. Приводить мы старались лишь суть сообщений, опуская эмоции.
А вот совсем уже «голые факты» — статистика.
За минувший год собаки в Москве покусали около десяти тысяч человек. Одиннадцать процентов, то есть более тысячи людей, были покусаны так, что их пришлось госпитализировать. (Есть случаи, когда люди потеряли работоспособность и стали инвалидами.) Характерно, что лишь 18,4 процента людей покусаны собаками безнадзорными, а 81,6 процента — собаками при хозяине. Более чем половине покусанных — 54,7 процента, то есть пяти с половиной тысячам людей, — пришлось принимать печально известные «40 уколов», страхующие от бешенства, но и сами по себе далеко не безвредные.
Какие собаки нападают чаще всего? Вот данные все той же статистики (сообщение врача эпидемической станции Л. К. Алексеевой): доги, борзые, овчарки, колли, боксеры, доберман-пинчеры и, представьте себе, болонки.
Похожие данные есть в каждом городе. Это и есть ответ на вопрос «почему рядом — лев и собаки?».
Что пишут еще о проблеме животных в городе? Следом за безопасностью главным образом два момента волнуют людей — вопросы санитарии и шум. Большинство пишут лишь об эстетической стороне дела, не подозревая, что собачьи и кошачьи «следы» нередко таят в себе и болезни. «У детей процветают аллергические бронхиты с астматическими компонентами, глистные инвазии и лишаи» (заслуженный врач УССР Л. И. Трунова).
О шуме есть коллективные письма. «Обсуждали вашу статью всем цехом, — пишут с николаевского Черноморского судостроительного завода. — Автомобильные гудки запрещены. Но что делать с лаем, который будит тебя в шесть часов и не дает уснуть в двенадцать ночи? Поверьте, многие из-за этого не высыпаются».
Такие же письма из Костромы, Горького, Харькова.
Много жалоб такого рода: «В домах, сами знаете, слышимость идеальная. Каково при этом больному или работающему дома человеку внимать почти непрерывному лаю и тоскливому визгу на целый день запертой в соседней квартире собаки».
* * *
О чем пишут владельцы собак? В очень своеобразной реакции на проблему выделим главное и существенное: площадки для выгула.
Редкое письмо лишено сетований на этот счет: площадки либо не выделены, либо они плохи, либо находятся далеко. Надо признать справедливость этих претензий. Я бы сказал: во многих случаях площадки для выгула — самая середина больного вопроса. Но вот настораживающее письмо из Москвы: «Много говорят о площадках. Видел я их в гробу. Там собаки только заразятся друг от друга» (письмо без подписи).
К сожалению, подобный тон и подход к делу характерен для многих писем. Нет никакого желания конструктивно участвовать в решении проблемы, созданной самими же владельцами собак, часто нет даже желания признать наличие проблемы. Содержание большинства писем суммируется словами: «Не трогайте нас, не мешайте любить животных». И поразительная логика. Заикается ребенок… «Виноваты родители — не приучили не бояться собак». Загрязняется двор, испачкана чья-то одежда… «Автомобиль обдает грязью — не жалуетесь!» «Моя собака чище твоего ребенка!» — типичный ответ на дворовых детских площадках. «На эту красавицу намордник?!» — прикладываются снимки действительно очень красивых овчарок. В. Со ловьева (Москва) пишет: «Поводок… Но я уже пожилая, я не могу удержать Рекса на поводке!»
В некоторых письмах прослеживается высокомерие и торжествующая мысль: обзаводясь собакой, человек как бы сразу возвышается над бессобачными смертными.
Очень много писем, обычно 10–15 страниц, в которых автору «Урока» назидательно перечисляют заслуги собак перед человечеством. Перечисляются писатели, отдававшие должное уму и привязанности собаки. Напоминается: «Автор «Урока» тоже не раз хорошо писал о собаке.
Почему же теперь присоединяетесь к гонению на собак?» «Собака — друг человека!!!!!!» Именно так, полдюжиной восклицательных знаков оканчиваются некоторые письма.
* * *
Гонение на собак?.. Вот тут и давайте поставим все на свое место. Заслуги собаки перед человеком и ее нынешняя многообразная служба ему никем под сомнение не ставятся. Автор «Урока» вполне осведомлен, где, в каких странах и городах поставлены собаке памятники и за что ей надо поставить памятники еще. Но ведь все это не имеет ни малейшего отношения к предмету нашего разговора, к проблеме, которую мы обсуждаем.
Собака ли виновата во всем, что мы наблюдаем сейчас в городах? Определенно надо сказать: собака как таковая ни за что вины не несет. И впредь давайте собаку (всех пород, во всех без исключения случаях!) винить в чем-либо не будем. Виноват ли лев в злополучной бакинской истории? Каждый скажет, что нет. Но ведь практически то же самое происходит с собаками. Многие собаки выведены человеком для специальной, очень серьезной службы, они генетически запрограммированы для выслеживания, преследования, сбивания с ног, иногда и хватанья за горло. Можно ли винить собак, что стали они игрушкой любви, моды и еще каких-то наших страстей? Без поводка и намордника собака делает свое, предписанное ей природой дело, естественно, не вызывая этим восторгов живущих скученно горожан. В этой обстановке винить собаку — значит ставить телегу впереди лошади.
Да, собака — друг человека, но не следует забывать, что друг она только одного человека, ее хозяина, все остальные для нее — отнюдь не друзья. За это именно собака всегда и ценилась. В нынешней городской неестественной для животного обстановке поводок и намордник ставят барьер между хозяином собаки и возможными жертвами ее естественного усердия.
Так почему же мы не видим этих барьеров?
Почему владельцы собак практически совершенно игнорируют намордник и очень часто пускают собаку без поводка? Приходится говорить об отсутствии культуры, о безответственности и моде, которая вывела собаку из-под контроля когда-то неплохо работавших клубов собаководства, сделала собаку предметом показного престижа (шутка ли, цена щенков некоторых пород «под полою» достигает 500 рублей!).
Требования поводка и намордника — это что, требование луны с неба? Да нет же! Во всех правилах содержания собак в городе четко записано: «Без короткого поводка или намордника собаку за порог квартиры выпускать запрещается». Стало быть, мы имеем дело с почти стопроцентным нарушением правил.
Во многих письмах звучит вопрос: «А где купить этот самый намордник?» Вопрос законный. Местной промышленности необходимо срочно нарушить это никого не устраивающее равновесие: «нет спроса — нет предложений».
Заметим, однако: владельцы собак находят пути остричь собаку по моде, по существующим образцам обрезать собаке уши и хвост, сшить для любимицы утепляющую жилетку. На этих путях можно найти и несложную технику безопасности. Добрая воля многое может сделать.
Урок всем владельцам собак дает Любовь Тихоновна Плентюк (Мелитополь). Вот ее отношение к животному и человеку. «У нас много лет живет овчарка Тайфун. Имеем свой дом. Он огорожен, но собаку держим на привязи, хотя она и очень спокойна — мало ли что может случиться, если войдет человек. Когда муж берет поводок и намордник, Тайфун радостно подбегает, вытягивает морду, понимает: это прогулка. Никаких проблем с собакой мы не имеем. Никто на нас не жалуется. И мы всегда спокойны».
Достижим ли этот идеал (а по сути, добросовестное соблюдение элементарных правил)?
В некоторых письмах есть строчки: «Удивительное дело, после статьи в газете наблюдаются поводки!» Что ж, будем считать это шагом в нужном направлении.
Что касается санитарного состояния в городах, вызывающего особое беспокойство матерей и врачей, то вот какой опыт стоит внимания там, где «собачья проблема» существует уже давно. В Нью-Йорке в 1972 году я видел большие плакаты с надписью: «Ведешь собаку, бери с собой метелку и пластиковый мешочек!»
Этот порядок, не без боя и сопротивления владельцев собак, в Нью-Йорке возобладал. Нарушение карается очень чувствительным штрафом. В Праге ту же проблему решают без штрафа. Что предпочесть: понукание штрафом или опыт пражан? Предпочтительней культурное, сознательное начало! Кто покажет пример?
* * *
Особо больная сторона всей проблемы — бездомные собаки. Их много. Уже несколько лет редакции газет получают множество писем-жалоб на ловцов бродячих собак. Такие письма обильно публиковались, с приписками от редакций их посылали в горисполкомы. Проблема, однако, нисколько не уменьшается.
У нее теперь появился новый оттенок: «Засилье бродячих собак! Сделайте что-нибудь — опасно стало ходить». А вот откровенный ответ одного председателя горисполкома: «Не следует думать, что городскими властями критикуемый метод отлова санкционирован. Вы должны знать: отлов безнадзорных собак-дело не очень простое. Найти людей (даже за хорошие деньги, в нарушение финансовых норм) становится все труднее — кому приятно это всеми проклинаемое дело! Ясно, что берутся за него в конце концов люди без университетского образования и не во фраках с ласточкиными хвостами. Берем на работу и пьющих. Да и запьешь на таком «производстве».
Разъясним сразу встающий вопрос: «А зачем их ловить? Пусть живут». Возможно, не все это знают, но это должны знать все: служба отлова бездомных и беспризорных собак — абсолютная необходимость. Она существует во всех странах.
Ни один город не может позволить себе пренебречь этой службой — слишком грозна эпидемическая болезнь, разносчиками которой служат собаки.
Давайте, однако, глянем на этих обездоленных жителей города вот с какой стороны.
Откуда они берутся? Падают с неба? Без труда обнаруживаем: бездомные собаки — это несчастные пасынки неверной любви, безответственности, моды и просто жестокости человека.
«Взяли щенка, а подрос — увидели, что не нужен, и вон его!» — пишет В. Николаев из Минска.
Бросают всяко: оставляют на дачах, вывозят за город и, вытолкнув из «Жигулей», хлопают дверцей, бросают при поездках на юг (о чем весьма колоритно пишет почтальон Л. Волкова из поселка Баканский Краснодарского края).
Преданные человеком существа выглядят жалко. Но особенно жалки изнеженные породистые собаки. К бездомной жизни им приспособиться трудно. «Во время урока в класс, приоткрыв мордой дверь, неожиданно вошел дог. Огромный, с теленка. У меня душа ушла в пятки. И дети тоже, конечно, перепугались.
А собака подошла, стала тереться о ногу и заскулила. С ребятами мы несколько дней искали хозяев собаки и не нашли. Через неделю точно так же «домоустраивали» брошенную кем-то, скорее всего приезжими, овчарку. Хорошо хоть в милиции взяли собак» (С. В. Балиева, преподаватель, Уфа).
Брошенные собаки все же приспосабливаются к жизни. Мы видим их группами на задворках столовых, возле вокзалов, на пристанях, возле аэродромов, у городских свалок.
Все помнят. Как смотрят обычно эти собаки, не зная, что получат от человека — сосиску из сумки или пинок? Ловцов они узнают безошибочно и, спасаясь от них, часто поселяются на окраинах городов, в окрестных лесах. Во втором поколении — это уже дикие звери, нападающие на домашних животных (в том числе на собак!), небезопасные для человека, и, конечно, все живое в лесу они метут под метелку. (В Хоперском заповеднике несколько лет собаки куда ловчее волков убивали оленей.)
Вот какая цепочка последствий тянется от необдуманного, скоропалительного желания завести в городской квартире собаку. Люди, знающие, какой крест взваливает на себя добросовестный и ответственный человек, обзаводясь собакой, пишут: «Часто щенка приносят домой люди, не имеющие ни малейшего представления о том, какой заботой, терпением, трудом, ответственностью надо платить за удовольствие общаться с животными… Не готов к этому — собаку нельзя заводить ни в коем случае!»
Здравое суждение насчет искусственного побуждения заводить собак высказывает В. Бурова (Куйбышев): «В газетах, по радио, в книгах и особенно в беседах по телевидению надо быть осмотрительными. Однажды милая ведущая детской программы задает в заключение беседы вопрос: «А у вас есть надежный друг? Кто? Кошечка или собачка?» После этого был у нас почти что трехдневный скандал. Живую собачку и только! — требовала внучка. И можно представить, сколько любящих родителей, бабушек, дедушек, глядя, как топает ножкой ребенок, побежали добывать щенка».
«О собаках сказано столько всего хорошего, что это хорошее по каким-то законам у нас на глазах обращается в дурное. Некоторые молодые матери стали считать, что собака едва ли не лучшая нянька ребенка. Молодые супруги, посмотришь, не имеют ребенка, предпочитая собаку. Для престарелой матери не находится в доме места, а собаку лелеют… Дружба с собакой должна быть мудрой, не извращенной.
Иначе проверенная веками философская истина — «человек — мера всех ценностей» — может претерпеть нехорошие изменения» (Д. Протопопова, Москва).
Эти же мысли содержит письмо профессора, заслуженного деятеля науки РСФСР С. Н. Никольского (Ставрополь). Он пишет: «Мне, ветеринарному врачу, проработавшему полвека по своей специальности, более, чем другим людям, понятны основы привязанности человека к животным. Но то, что я наблюдаю в последнее время, заставляет сказать: слезливо-умилительное отношение к животным и слепое следование моде не принесло добра. Общение с животными должно способствовать повышению собственных человеческих качеств — и никак иначе! В противном же случае закономерно может возникнуть вопрос: а всегда ли собака — друг человека?»
* * *
Все должны понимать: содержание животных в условиях города требует ответственности, культуры и каких-то регламентаций, ясно сформулированных правил. Недавно трем государственным учреждениям поручено выработать такие правила. Будем надеяться, в поле зрения комиссии окажется и эта публикация.
Суммируем в ней конкретные предложения, содержащиеся в большинстве писем-откликов на «Урок».
Подтвердить существующие правила: в пределах городской зоны собаки, особенно крупные, должны быть на коротком поводке или в наморднике, за исключением мест, отведенных для выгула. За нарушение правил наказывать штрафом.
Места для выгула собак должны обязательно отводиться, и не только на бумаге городских служб. Хозяин собаки должен нести ответственность за травмы и ущерб, нанесенный людям его собакой.
При ежегодной регистрации собак выдавать достаточно крупным жетоны с хорошо видимыми цифрами. Жетоны обязательно должны быть на ошейнике у собаки. Это сразу повысит ответственность владельца.
В регулировании данной проблемы должны обязательно и активно принимать участие милиция и народные дружины.
Средства от налога на животных должны направляться строго по установленному назначению — ветеринарной и санитарной службам. (Мы бы прибавили: людей, живущих на пенсию, от налога освободить.)
Вменить в обязанность владельца собаки поддержание санитарного порядка в городе с учетом уже существующего опыта. Выполнение этого пункта считать вопросом культуры владельцев животных.
Собак, нарушающих тишину лаем, хозяева не должны выводить на прогулку раньше 7 утра и позже 23 часов вечера.
Отлов бездомных животных вести таким образом, чтобы не травмировать людей.
* * *
Не будем обсуждаемую проблему преувеличивать, но не следует ее и преуменьшать. Сложившееся положение беспокоит многих людей.
Вот что недавно писал, например, Сергей Владимирович Образцов:
«…С содержанием в жилище диких животных, по-моему, все ясно: это и хлопотно, и чаще всего опасно, и еще противоестественно. Запирать дикого зверя в четырех стенах — значит в любом случае обрекать его на мучения, о которых он не может поведать…
Мы же говорим теперь о традиционно домашних, комнатных животных и об отношении к ним. И вот тут я целиком на стороне тех, кто борется за порядок.
…У нас во дворе носится чей-то огромный черный терьер. Он и лает, и кусается, и тем не менее хозяева выпускают его без поводка: «Пусть погуляет».
Может, хозяева и любят своего терьера, но они не любят людей, не любят детей. Им наплевать на них, лишь бы собачка «побегала». Вот таких людей надо призывать к порядку…
Дорогие товарищи! Давайте отвечать за наши поступки, давайте всем, чем только можем, помогать тем, кто озабочен в наведении порядка в содержании домашних животных. И прежде всего каждый из нас должен не только любить щенка или котенка, которые живут с ним, но отвечать за них… Без такой ответственности любовь к животным становится пустым звуком» (газета «Советская культура», 20 января 1981 г.).
В ответ на предыдущую публикацию редакция получила около полутора тысяч писем. Благодарим всех откликнувшихся.
7 февраля 1981 г.
«Кобона… Я не забыла ее»
Интересно, наверное, знать, чьи руки первыми коснутся письма, отправленного вами в редакцию? Представляю вам этого человека: Лилия Ивановна Чубукова. Я зову ее Лиля по старой памяти, потому что оба в газету мы пришли молодыми. Два десятка лет, поднявшись на шестой этаж «Комсомолки» и проходя мимо крайней комнаты, я окликаю: «Лиля, какие новости?» Она отвечает всегда одинаково, всегда улыбаясь: «Новости? Да вот гора новостей!»
И в самом деле на столе всегда гора писем.
Ежедневно к редакции подъезжает машина. Из нее в руки Лили почтари отдают большой бумажный мешок — восемьсот — девятьсот, иногда и более тысячи писем. И вот Лиля стоит, подтачивает эту гору, определяя: это личное, это редактору, это в отделы, это отклик на конкурс, это особо срочное — на контроль. Тоненьким ножичком вскрывает она конверты, на карточке пишет номер письма и непременно шифр территории.
Я недавно узнал: вся страна для отдела писем редакции поделена на девяносто пронумерованных территорий. Москва тут значится под номером 1, Московская область — 2, Камчатка — 88, Белоруссия — номер 4, Харьковская область — 5 и так далее. Сравнительно «молодые» области Белгородская и Липецкая замыкают цифровой перечень, придуманный для того, чтобы легче было найти письмо при вторичном запросе, при переписке.
Лиля в комнате не одна. Рядом с нею «письмоводители» молодые, но Лиля («бабушка Лиля» — у нее уже внуки!) не только не отстает в деле, но и частенько материнским голосом говорит: «Девчонки!..» Это значит, что темп работы замедлился и надо встряхнуться…
На каждом производстве есть люди, которых так давно знают, с которыми на ходу столько говорено, что кажется: все тебе в человеке известно. Но вдруг какое-то слово, за ним неожиданный разговор, и человека вновь для себя открываешь.
* * *

Лидия Чубукова. Я зову ее Лиля по старой памяти.
Война началась, когда Лиля окончила семилетку. Вместе со взрослыми она тушила на крышах и чердаках немецкие «зажигалки».
А когда фронт подвинулся к самой Москве, из восьмого класса ушла на курсы почтовых работников. На Ярославском вокзале из пятнадцатилетних девчонок готовили поездных почтарей.
«Почтовый вагон мне показался похожим на улей — множество деревянных полочек-сот.
В каждую соту, пока идет поезд, надо из груды писем положить нужное. И не дремать, когда остановится поезд, — в одну минуту на какой-нибудь маленькой станции ночью надо взять с нужной полки письма и бандероли, принять местную почту. Скоро я поняла: люди в почтовом вагоне тоже похожи на пчел — в сутки спать приходится три-четыре часа».
Учил девчонок на Ярославском вокзале старик почтарь, начинавший работать еще в царское время. «В нашем деле география — главная из наук!» — говорил суховатый наставник. Сам он почтовую географию знал превосходно. Он знал, от какой станции письмо пойдет далее по реке, от какой его повезут на оленях, на лошадях; он знал расписание местных поездов, пароходов; знал, когда начинается навигация на реках, где и когда прекращается санный путь. Стоя у клеток, похожих на соты, он говорил: «Письма из ваших рук должны разлетаться, как птицы!» — и показывал, как должны разлетаться: полсекунды на чтение адреса, и письмо попадало в нужную клетку.
«И помните: в письме — человеческая судьба! Сейчас — особенно…» Такими словами старик закончил учебу.
Это было осенью 1941 года. С Ярославского вокзала поезда уходили тогда на север, северо-запад и на восток. На восток в почтовых вагонах ездили женщины, оставлявшие дома детей, — восточные линии были долгими, но неопасными. На опасных из-за бомбежек маршрутах работала молодежь. «Ни одна поездка в Мурманск или Архангельск без бомбежек не обходилась. Но особой опасности подвергался поезд Москва — Кобона».
Кобона?.. Кто-нибудь знает сегодня, что это значит? Звучит как столица какого-то государства. Но где расположена? Мы подошли с Лилей к карте и не нашли. Очень мала населенная точка.
Кобона — это деревня, небольшая деревня, стоявшая вблизи Ладоги и волею судеб ставшая ключевым местом на пути Москва — Ленинград.
Ленинград был в блокаде, и поезда из Москвы ходили лишь до Кобоны. «Тяжкий был путь. Шли сначала до Вологды, потом — Череповец, Тихвин, Волхов. У Волхова от магистральной линии была спешно до Ладоги проложена ветка с конечным пунктом на берег: Кобона. Тут был тупик. Приезжали, разгружались и тихо — назад. Грузы и люди далее двигались к Ленинграду знаменитой Дорогой жизни: зимой — по льду, летом и осенью — по воде».
Поезда из Кобоны приходили всегда побитые — немцы всеми средствами старались разорвать ниточку, шедшую к Ленинграду. Но, несмотря на бомбежки, линия действовала.
«Из Москвы состав, уходивший в Кобону, провожали со страхом и восхищением. И не всегда поездные бригады целиком возвращались в Москву. Однажды узнали: бомба попала прямо в почтовый вагон. «В тот день я с подругами попросилась ездить в Кобону».
Сегодня поезд Москва — Ленинград идет шесть часов. Тогда до Кобоны почтовый поезд ходил трое суток. Трое суток — туда, трое — обратно. Это по расписанию. Бомбежки, особенно сильные на участке Тихвин — Волхов, расписание это ломали, и поезд Москва — Кобона, случалось, в пути находился до трех недель.
«В почтовом вагоне нас было шестеро: трое моих ровесниц, наставница тетя Катя Сокольская и проводник дядя Паша Суханов, ему тогда было под шестьдесят. Брали в дорогу мы старенький самовар — варили в нем свеклу, картошку, а после кипятили чай. Давали нам на неделю свечей. Но их всегда не хватало. Дядя Паша на остановках находил сосновые чурбачки и щепал сухую лучину. При лучине мы письма и разбирали. У Кати-наставницы был пистолет: мы принимали на станциях вместе с почтой и деньги».
Первый же рейс в Кобону был для подруг-почтарей большим испытанием. Под Тихвином поезд атаковали немецкие самолеты. «Я помню, как побежали все из вагонов. Помню, лежали у полотна, не зная, кто жив, кто мертв. Помню лицо летчика — мессершмит несколько раз проносился над самой землей… Вагоны остались целы. А люди во множестве не поднялись.
Я считала своих: Шура, Тося, Клава, тетя Катя Сокольская, дядя Паша. Чудо — все целы! Собирали в вагоны раненых и убитых. Странное дело, не было страха. Была ненависть. И было желание: отомстить!.. В Москве Клава Страхова, Тося Белова, Шура Червякова и я пошли в военкомат проситься на фронт медицинскими сестрами».
Немолодой военком со шрамом на правой щеке и палочкой-костылем внимательно выслушал четырех добровольцев, спросил, сколько им лет, где работают. При слове «Кобона» он вдруг особо внимательно посмотрел на подруг.
— Кобона… Идите работать. И считайте, дочки, что вы на фронте…
В Кобону из Волхова шло обычно всего три вагона. Багажный вагон, с продуктами главным образом; потом почтовый вагон с целевою почтой для Ленинграда — газеты, письма, бандероли, посылки; и третий — с трактовой почтой, в нем в Ленинград уходило то, что собрано было на станциях по пути из Москвы.
В конце состава из паровоза и трех вагонов цеплялась платформа с двумя зенитками. «Тихо, без единого огонька ночью из Волхова мы двигались на Кобону. Недлинный путь, но очень опасный. Помню землянки по сторонам, стволы зениток, воронки от бомб. В конце пути была полусожженная деревенька. Но обычным жильем тут не пахло. Помню запах соленой рыбы, квашеных овощей, каких-то других продуктовых припасов. В Кобоне были штаб и склад всего, что с огромными трудностями и потерями перевозили по Ладоге в Ленинград».
Почтовый поезд привозил в Кобону много посылок, главным образом из Средней Азии, и больше всего из Ташкента. От полотняных мешков и ящиков шел запах сушеных фруктов и дынь. В бандеролях ленинградцам посылали тоже еду, кто что мог, — «однажды из треснувшей бандероли посыпались ломтики сушеной свеклы».
Посылки на склад в Кобоне сдавались в стандартной почтовой таре — в больших старинных баулах из свиной кожи. Назад баулы не возвращались. И однажды подруги узнали: там, за Ладогой, кожу баулов вымачивали и варили. С того дня в тару поверх посылок они клали украдкой пакеты без адреса — с хлебом, картошкой, кусочками сахара — для почтарей, разбиравших драгоценную почту там, в Ленинграде.
В Кобоне же принималась почта с той стороны. Ее привозили по Ладоге. «Забирая мешки, мы все хорошо понимали: дорога по озеру была адом. Мешки навылет прошиты осколками.
Часто осколки мы извлекали из массы порванных писем. Почтовый груз попадал в воду, и мы сразу же спешно сушили письма, восстанавливая расплывшиеся адреса на конвертах и треугольниках.
Однажды из мешка мы вытряхнули письма вперемешку с кровавым снегом и льдом. Как видно, взрывом их разметало, и кто-то, будучи раненым, торопливо сгребал их в мешок. Мы плакали, прислоняя конверты к горячему самовару, — на них оставались следы чьей-то крови. Такая это была дорога…»
* * *
Напомню, Лиле и подругам ее было в ту пору по шестнадцать годков. Вся мера взрослой ответственности и сурового долга лежала на хрупких плечах девчушек. Лиле, когда наставница тяжело заболела, доверили пистолет. И она по тракту Москва — Кобона — Москва принимала не только письма, но и почтовые деньги. А когда блокада была разорвана и уже не в Кобону, а прямо в сам Ленинград пошли поезда, юные почтари стали ездить на Мурманск. Тут бомбежки еще бывали.
И не один раз залегшие у полотна люди видели взрывы, опрокинутые вагоны, скрюченные рельсы. Кто-то на тех путях уцелел, о ком-то сохранилась лишь память…
Такой была юность у нашей Лили. После войны уже много лет работает она в «Комсомолке». Поездами, автомобилями и самолетами идут сейчас письма. Пути почтовые их собирают в конце концов в большой бумажный мешок, который привозят на улицу «Правды» в Москве.
Этот мешок открывает Лилия Ивановна. — Из множества обратных адресов какой адрес мог бы тебя взволновать? — спросил я Лилю вчера, сдавая эту заметку в набор.
Она ответила сразу:
— Кобона!
Из Кобоны в редакцию письма, насколько помню, ни разу не приходили. Затерялось то место. А было ведь знаменитым, на стратегической карте обозначено было. И поезд ходил, как в какую-нибудь столицу: Москва — Кобона!
Очень интересно узнать — что там и как? Помнят ли год 41-й, 42-й? Хотя бы небольшое письмо, хотя бы страничку. Такие письма очень дороги человеку.
Фото автора. 8 марта 1981 г.
В день, когда ты родился…
Письмо в редакцию
«Уважаемый Василий Михайлович. 12 апреля все мы вспомним первый полет человека в космическое пространство. Мне этот день особенно дорог — я родился 12 апреля 1961 года. Мама рассказывает: Юрием меня назвали в честь первого космонавта. Она говорила еще, что так тогда называли многих мальчишек. Значит, всем нам скоро исполнится двадцать. Не знаю, понятна ли моя просьба, но очень хочется знать: каким был этот день? Лично к Вам обращаюсь потому, что мама сказала: в роддоме все тогда читали «Комсомолку» и Ваш рассказ о Гагарине…»
Рядовой Юрий Павлов. Краснознаменный Дальневосточный военный округ.
Письмо из редакции
Дорогой Юра, просьба твоя понятна. Я и сам когда-то в подшивке старых газет нашел нужный номер и с любопытством прочел его целиком.
Каждому человеку хочется знать: а что было, когда я родился?
Твой день, конечно, особый. Но вполне могло бы случиться: ты родился, а в ракете или в самом историческом теперь корабле замудрила какая-то «гайка». Полет был бы, конечно, отложен. Но в мире, полном случайностей, в тот замечательный день никакая «гайка» не подвела. И теперь уже навсегда двенадцатый день апреля окрашен радостью очень большой победы людей. Определен ли судьбою тот день заранее, задолго? Нет, конечно. Но существуют все же цепи закономерностей, определившие: в 1961-м весною должно было случиться то, что случилось.
Прокрутим катушку времени от замечательной даты на три с половиной года назад.
4 октября 1957 года запущен был первый спутник. Тебе, Юра, с детства привыкшему к слову «спутник» (кафе «Спутник», игрушка «Спутник», пионерский лагерь, электробритва, приемник, часы — все «Спутник»), трудно представить, какой новизною вдруг тогда зазвучало доброе русское слово и немедленно, сразу вошло во все языки во всем мире. Сегодня, глянув погожей ночью на небо, непременно увидишь летящую быстро звезду — спутник. Сколько их вертится! А до осени 1957 года лишь математики да механики твердо знали, что какое-то тело может лететь подобно Луне и не падать на Землю.
Большинство же людей пожимали плечами: как это так, лететь и не падать? И вдруг сообщенье: Запущен! Летит!..
Будешь, Юра, в хорошей библиотеке — попроси подшивку газеты за памятный год.
Увидишь: как сводку погоды, ежедневно в газетах печатали время пролета спутника над городами Земли. Рейкьявик, Париж, Москва…
И всюду — в Канаде, Австралии, Соединенных Штатах, в городах Европы и, конечно, дома у нас люди вечерами толпами выходили увидеть летящую быстро звезду. Звезда имела радиоголос.
Был он, правда, младенческий, но задорный и громкий: бип… бип… бип…
Одним из ярких доказательств могущества науки, Юра, является возможность ученых за тысячи лет с точностью до минуты предсказать затменье Луны или Солнца. Полет спутника был тоже сильным и убедительным доказательством мощи науки и техники. Но мир ошеломило и то, что «83-килограммовое тело» запущено в небо Советским Союзом. Такого тогда не ждали.
Думали: разоренной войною «аграрной» стране далеко до космических дел.
А дела между тем пошли очень споро. Менее чем через месяц был запущен еще один спутник, весом уже в полтонны и с пассажиром — собакой
Лайкой. Думал ли кто-нибудь в тот памятный год о полете в космос людей? Да, эта мысль уже прорастала. Мы в редакции, помню, строили всякие предположенья, пытались выведать что-нибудь у ученых. Никто, однако, скорых побед не сулил. Академик Василий Васильевич Парин, стоявший у истоков космической медицины, сказал: «Да, это, конечно, возможно, но вряд ли я до этого доживу».
Но вот из космоса живыми и невредимыми стали возвращаться четвероногие участники экспериментов. Небольшие собаки Белка, Стрелка, Чернушка, Звездочка приветствовали журналистов на пресс-конференциях жизнерадостным лаем. И даже скептикам стало ясно: час человека уже недалек. А романтики уже прямо просились в космос. В бумагах истории космонавтики сохранились их письма. Трогательными и наивными были эти заявления добровольцев с одинаковой мыслью: «Хочу полететь! Моя жизнь и судьба в вашем распоряжении». В космос просились студенты, военные, шахтер, рабочий литейного цеха из города Славянска, пятидесятилетний ветеран Великой Отечественной войны со станции Джаркурган, девушка из Ульяновска Валя Харламова. Их письма — свидетельство атмосферы волнующего ожидания, каким начинались для нас 60-е годы.
В начале 1961-го журналистам с их повышенным нюхом стало известно кое-что из реальных деталей ожидаемого события. Я узнал, например, что есть уже группа людей, которых готовят к полетам. Но что за люди? Какие они?
Щелка «занавеса над сценой» была так ничтожно мала, что ни лиц, ни имен за кулисами невозможно было узнать. Мы в газете сгорали от любопытства профессионального и человеческого. Очень может быть, что где-то в московском метро, в музее, на подмосковной лыжне встречали в ту зиму мы энергичных, невысокого роста молодых лейтенантов. Но кто мог подумать тогда, что это и есть космонавты?
Земля, согласно законам небесной механики, не быстрей и не медленней, чем миллионы лет назад, неслась в ту весну по орбите, подставляя солнцу Северное свое полушарие.
Твое появление, Юра, на свет в апреле было уже предопределено. Все это шло по извечным законам природы. И вот так случилось, к апрелю, как раз к двенадцатому дню, приспела и кульминация человеческих дел и усилий, которые время опережали.

Юрий Гагарин — первые минуты после приземления.
* * *
Событие ждали, и все же случилось оно неожиданно. 11 апреля вечером главный редактор позвал меня в кабинет и сказал: «Только что позвонили: утром возможно сообщение чрезвычайной важности…» Он посмотрел, понимает ли репортер, о чем идет речь, неторопливо открыл сейф и достал из него клочок бумаги с двумя фамилиями и адресами. Так я впервые узнал, что существуют на свете Титов и Гагарин.
«Завтра в машине дежурьте около городка. Чью фамилию по радио услышите, туда и мчитесь».
Более почетного, Юра, задания за свою теперь уже немалую журналистскую жизнь я не получал.
Рано утром с Тамарой Апенченко, в прошлом работницей «Комсомолки», а потом журналисткой многотиражной газеты у космонавтов (она-то и принесла в сейф редактору две фамилии!), мы дежурили на дороге у городка к северу от Москвы. Городок нынешнего названия — Звездный — тогда не имел, у него, кажется, и не было никакого названия. Мы остановили машину у въезда, включили радио и стали ждать. Утро было неяркое, облачное, с выпавшим ночью снежком. Буднично проносились по дороге машины, из леска в посадку с шоссе вышла пара лосей. Я соблазнился их поснимать и вдруг услышал радостный вопль у машины.
— Скорее! Скорее!..
Из приемника плыли знакомые позывные Москвы, предвещавшие обыкновенно что-нибудь важное… И уже на ходу мы услышали два ключевых слова: «Космос… Гагарин…»
Помню, без большого труда нашли нужный дом. Но смутились, больно уж все обычно — серый силикатный кирпич, полинявший штакетник, обычная лестница, дверь с номерком. Размеры грянувшего события в представлении нашем предполагали и встречу с чем-то не таким будничным.
— Мы не ошиблись — квартира Гагарина?
Нет, не ошиблись, это была квартира Гагарина. И все, что могло рассказать о еще не известном для нас человеке, было на месте. Обстановка жилья, домашний фотоальбом, книги на полках… Молоденькая жена космонавта держала на руках грудного ребенка и не знала, куда себя деть от волненья. Помню множество набежавших соседок. Каждая долгом считала сказать свое слово успокоенья, но получался сбивчивый хор, способный только разволновать. Валя то улыбалась, то вытирала слезы.
Державным голосом говорил по радио диктор, на экране телевизора с фотографии всем улыбался виновник небывалого торжества, непрерывно звонил телефон. Мы с Тамарой, блюдя газетные интересы, снимали, листали альбом фотоснимков, что-то пытались расспрашивать…
Оглядываясь сейчас назад, понимаешь: в тот утренний час Валя (Валентина Ивановна) Гагарина уже ощутила всю тяжесть креста — быть женой известного, популярного человека.
Двое в доме Гагариных были совершенно спокойны. Старшая дочь, четырехлетняя Лена, спокойно жевала яблоко, не понимая причины крайнего возбуждения взрослых. Был спокоен и молодой капитан-летчик. Внимательно слушая радио, он делал пометки в тетрадке, был собран, уверен. Я принял его за родственника Гагариных, прибывшего поддержать Валю. Но, приехав три года спустя на космодром провожать в полет Владимира Комарова, я вдруг узнал в космонавте того самого спокойного капитана, «родственника Гагариных»…
Из дома Гагариных мы с Тамарой уезжали счастливыми — первыми из журналистов мы знали жизненный путь космонавта, его нам поведал (хвала любительской фотографии) домашний альбом. Сейчас, Юра, когда биография дорогого для нас человека прослежена, просвечена чуть ли не рентгеновскими лучами, может быть, странно слышать о волнении перед семейными снимками. Но в тот первый час все для нас было открытием. Пелена неизвестности до полета заставляла думать о человеке, «которому предстоит», как о существе почти что из фантастического романа. И вдруг — босоногий мальчишка, потом куртка ремесленника, три лычки на погонах курсанта, шлем военного летчика. «Свой в доску!» — воскликнул кто-то из журналистов, когда едва ли не вся редакция «Комсомолки» собралась у стола, где листали альбом.
И, конечно, все в этот день были счастливы оттого, что этот летавший парень — «из нашего дома», что он советский, смоленский, крестьянский! Радость, Юра, в тот день была полной, всеобщей, неописуемой. По дороге из городка мы видели на шоссе у обочины автомобили с открытыми дверцами: люди слушали радио и обменивались впечатлениями. Перед лицом большого общего горя и при большой общей радости людям свойственно единенье.
И все в тот день стремились друг к другу — собирались у репродукторов, телевизоров, спешили на улицу послушать других и излиться самим.
Люди счастливо обнимались. Возникали стихийные демонстрации. Студенты чувства свои выражали с юмором и задором. Медики, например, шли по улицам в белых халатах с надписями: «Все в космос!», «Мы первые!», «Следующий — я!» В родильных домах всех матерей объединяло единодушие: самое лучшее имя для мальчика — Юрий! Радость была большая и искренняя. Каждый чувствовал и свою, хоть маленькую, причастность к событию. Это был в полном смысле праздник на нашей советской улице. Пережившие войну люди говорят, что такую же полноту радости они испытали 9 мая 1945 года.
И очень существенно подчеркнуть: эту радость разделяла с нами и вся Земля. Это был случай, когда все люди вдруг почувствовали родство, почувствовали: все они жители одного дома, не такого уж и большого, если можно его облететь за какие-то 108 минут.
Тебе, Юра, сейчас интересны подробности тех событий, а представь себе жажду всяческих новостей в тот самый день. Журналисты сбились с ног, пытаясь срочно узнать родословную космонавта и подробности его жизни.
Не обошлось без курьезов. В Москве «по подозрению в родстве с космонавтом» был атакован старый профессор Гагарин. За рубежом фамилия дала повод предположить, что в космос летал «не пролетарских кровей человек, а потомок знаменитых князей Гагариных». Нашествию журналистов подвергся домик Гагариных в Гжатске. Сюда звонили, слали срочные телеграммы, ехали и летели (даже на вертолетах!).
Все хотели знать возможно больше из того, что воплотилось в единое слово «Гагарин».
Это был памятный день для Земли. Нам в Северном полушарии казалось даже, что солнце светило тогда как-то особо и Земля вокруг Солнца бежала проворнее, чем обычно. Таким, Юра, был день, когда ты родился.
Большое свидание с космонавтом на виду у телекамер и, значит, на виду у всего мира состоялось в Москве двумя днями позже. И можно еще рассказать. Как с другим репортером из «Комсомолки» — Павлом Барашевым, дойдя «до самого верха» и получив разрешенье, мы полетели в район приземленья брать у Гагарина первое интервью, как летели потом в Москву с Гагариным вместе и как проводили его в самолете до трапа, от которого он зашагал по ковровой дорожке.
Позже я бывал на космодроме. Не единожды видел, как улетают ракеты, видел обожженные корабли в момент приземленья. С Гагариным мы много раз встречались в нашей редакции, у него дома, на рыбалке, на службе его в космическом городке. Это были счастливые дни журналистской работы. Но день 12 апреля 1961 года все же особый. И, Юра, я вполне понимаю твой к нему интерес.

Семья первого космонавта.
* * *
На все вопросы твои в этом письме ответить мне трудно. Хотя бы коротко попытаюсь ответить на главные. Был ли Гагарин «сверхчеловеком»? Нет, конечно. И это не у нас рожденное слово никак к нему не подходит. Он был «как все», и именно это делало его особенно привлекательным для всех. Но был он человеком незаурядным. Ум, талант, смелость, находчивость, обаяние — это все у Гагарина было. Качества эти (или даже часть их) любому другому человеку в любом хорошем деле принесли бы успех.
Как относился он к своей славе? Я думаю, подходящим было бы слово «терпеливо». Большая слава — штука обременительная.
И во все времена мудрецы считали ее самым большим испытанием человека. Гагарин испытание это выдержал. Слава его не деформировала, и, насколько я знаю, пожаловался он лишь однажды. В городке Клинцы Брянской области на вопрос местного журналиста «А что для вас самое трудное?» Гагарин сказал: «Носить славу». О сложностях его жизни можно было только догадываться: космические дела, учеба в академии, семья, депутатские обязанности, общественная работа, друзья, бесконечное число всяких просьб от самых разных людей…
Выходящая сейчас в «Молодой гвардии» книга Валентины Гагариной «108 минут и вся жизнь» содержит дневниковые записи Юрия. В них чувствуешь почти стон: «личного времени нет…»
Как относился Гагарин к тому, что писалось о нем? Опять же можно сказать — терпеливо и со спасительным в этом случае юмором. Но, конечно, сладким любого человека можно перекормить. И Гагарин привкус «сладости» чувствовал несомненно. Из многочисленных высказываний о нем больше всего Гагарина, я думаю, порадовали бы слова, сказанные уже после его гибели Константином Феоктистовым: «Гагарин никогда не играл и не пытался играть роль человека-уникума. Он отдавал себе ясный отчет в том, что является обыкновенным человеком, попавшим в необыкновенные обстоятельства…»
Еще ты спрашиваешь, Юра, почему не сделан художественный фильм о Гагарине и не написана большая книга о его жизни. Вопросы не новые. Но легко ли снять фильм? Легко ли найти актера, обаянье которого приближалось хотя бы к обаянью подлинного Гагарина. Непростая задача! Ярок, памятен, впечатляющ был конкретный живой человек. Художественный образ грозит оказаться лишь слабой тенью «документального Гагарина», и создатели фильмов, несомненно, понимают все это.
То же самое, Юра, с книгой. Попытки описать жизнь Гагарина сделаны. И сделаны, надо сказать, людьми небесталанными. Однако беллетризация, олитературивание яркой, но в то же время простой и ясной жизни Гагарина дают тот же опасный эффект, какого боятся в кино.
Мне кажется, ближе всего к правильному решению задачи подошли составители недавно вышедшей книги «Наш Гагарин» (издательство «Прогресс»). Получился коллективный документальный рассказ-свидетельство о первом из космонавтов и о космических делах начиная с первого спутника. Чисто издательски книга не вполне удалась. Она велика по формату, громоздкая, недешевая, и, понятное дело, тираж ее невелик. Это скорее памятник к юбилею, чем книга для чтенья. А между тем содержанье ее таково, что я, открыв книгу, не мог уже оторваться, заново и с волнением пережил то, чему сам был свидетелем, и узнал много нового.
Я нашел в ней много ответов и на вопросы, интересующие тебя, двадцатилетнего. Если издание повторить, максимально приблизив его к читателю, это, мне кажется, и будет та желанная книга, о которой ты, Юра, спросил.
Еще ты просишь разыскать, по возможности, самый первый из снимков Гагарина в час приземления, а также снимок семьи космонавта, сделанный в этом году. Ну что же, вот эти снимки. На первом, сделанном утром 12 апреля 1961 года, мы видим Гагарина, только что приземлившегося. На втором снимке — семья Гагарина: Валентина Ивановна с дочерьми Галей и Леной. Опережая твои вопросы, скажу: Лена оканчивает Московский университет, Галя (она стоит слева) — студентка Института народного хозяйства.
Ну вот и все, дорогой солдат. Поздравляю с днем рождения тебя, а также и всех Юриев «образца 1961 года». В хороший день родились!
Фото из архива В. Пескова. 11 апреля 1981 г.
Про лошадь…
(Проселки)
В подмосковной деревне Зименки я видел недавно картину, с которой и надо начать этот очерк. На огородах поспела земля, и невеликое население деревеньки поднимало ее всяк на свой лад. В поисках тягловой силы наблюдались тут две занятные крайности. Гаврилов Владимир Георгиевич, как водится, «за бутылку» заманил совхозного тракториста на оранжевом, в 75 лошадиных сил тракторе. Трактор пер до Зименок километра четыре и ворвался на маленький огород с синим дымком и полный нерастраченной молодой мощи. За десять минут участок земли с кустами сирени и смородины по краям и аккуратной изгородью уподобился месту, где врезался в землю Тунгусский метеорит: ограда повалена, кусты растений подпаханы и подмяты, по углам огорода большие огрехи, а рыжий лоскут суглинка горбился огромными глыбами.
— Да… — почесал под рубахой живот Владимир Георгиевич, соображая, с чего начать исправление погрома, учиненного в огороде.
Его сосед, через дорогу живущий Сергей Васильевич Квасов, тоже сказал: «Да…» — и вернулся на свой огород к работе, прерванной появлением трактора. Свои двадцать соток старик пахал… на ослике.
Занятно и грустно было глядеть на два огорода, вспаханных одинаково экзотическим и каким-то противоестественным способом.
— А что делать? — сказал Сергей Васильевич, присаживаясь после очередной борозды отдохнуть и накрывая вспотевшего ослика полушубком. — Что делать?
— Но ведь есть же хорошая середина между трактором и ослом…
— Лошадь в виду имеете?.. Да, лошадь была бы тут впору.
— За чем же дело?
— Э, Василий Михайлович, чего меня спрашивать? Вам не хуже известно, как обстоит дело…
Посидели, поговорили. Отдохнувший ишак с тупым любопытством разглядывал на меже лягушонка и вдруг тоскливо и зычно, как это умеют делать ослы, стал вспоминать свою родину, далекую теплую Среднюю Азию.
— Ну, искренний ты мой, продолжим наши труды. — Сергей Васильевич скинул с осла полушубок и, чертыхаясь, повел борозду.
А лошадь… У лошади сегодня своя судьба, драматическая, полная парадоксов.
Под Москвою, в местечке Алабино, разместился кавалерийский полк. Это все, что осталось от когда-то огромного кавалерийского войска (эскадроны, полки, дивизии). В 1956 году кавалерия в нашей стране упразднена. Оставили только один полк, для «Мосфильма». Нагрузка на лошадей и людей в этом последнем конном подразделении очень большая. Кино способно показать нам грядущее — звездолеты, ракетопланы, фантастические жилища, сверхскоростной транспорт, — но чаще кино обращается к прошлому, и тут без лошади жизнь человека просто немыслима. Какую сторону бытия ни возьми, всюду лошадь! Туманно далекие времена — кочевья на лошадях. Пахарь на поле — лошадь главная сила. Сражения — рядом в дыму люди и лошади. В шахте — лошадь. В дальних походах к неведомым землям — верховые и вьючные лошади. Пастух — на коне, лесоруб — за конем, ямщик — на облучке. Извозчики, кавалеристы, коногоны, табунщики, земледельцы, охотники, скотоводы, переселенцы, коннозаводчики, конокрады, гонцы, почтари, ковбои, жокеи, форейторы, цирковые наездники, кузнецы, коновалы, ремонтеры, объездчики — не перечислить всех дел и профессий, связанных с лошадью.


Вся история человека — это история лошади тоже. От мышастой масти тарпана, дикой лошади, еще в прошлом веке обитавшей в степных районах у Дона, человек вывел много прекрасных пород лошадей. И лошадь верно служила людям. Повсюду. Всегда. И преданно.
В канун революции (1916 год) в России было тридцать восемь миллионов лошадей. Сейчас их пять миллионов. И эта цифра пока продолжает снижаться. Причина такой перемены в пояснении не нуждается. Мотор повсюду потеснил лошадь. Процесс особенно быстрым был после минувшей войны. И, конечно, не только в нашей стране. В Соединенных Штатах число лошадей упало до 3,5 миллиона, но потом стало быстро расти, достигло сейчас 11,5 миллиона, и рост продолжается. Считают, он может достигнуть 13–15 миллионов.
Хочется верить, что этот процесс интернационален. Примеры растущего интереса к лошади и у нас это как будто бы подтверждают. Продолжают плодотворно работать более сотни конных заводов, растет интерес к конноспортивным секциям, появилась возможность брать лошадей напрокат для туристских походов (Алтай). От хороших хозяев можно услышать: «Лошадь как рабочая сила в хозяйстве нужна обязательно!» Ренессанс лошади, словом, возможен, но для этого нужны мудрость, способность трезво взглянуть на реальности бытия и общее наше желание найти давнему нашему другу достойное место в жизни и современном хозяйстве.
Осмыслим для начала явление тревожное и до крайности нехорошее. Подростки и молодые парни в селах и деревнях угоняют и мучают лошадей. За несколько лет у меня скопилась пухлая папка писем, газетных вырезок, телеграмм, милицейских протоколов и записей разговоров. Адреса разные: Московская, Рязанская, Гомельская, Харьковская области, Красноярский и Краснодарский края, Омская область, Тамбовская… География эта позволяет говорить не о случаях, а именно о явлении, природа которого касается сути нашего разговора.
«Угоняют лошадей покататься, — пишут ветеринар и двое художников из поселка Пески Подмосковья. — Потом их бросают на произвол судьбы, часто за многие километры от места кражи. И почти всегда истерзанными, с разорванными проволокой ртами, сбитыми спинами, запаленными, нередко загнанными насмерть». Лошадей нередко бросают в лесу привязанными, и тогда у обглоданных деревьев находят только скелеты животных. Лошадей юные «экспериментаторы» привязывали на железнодорожных переездах, вечером заводили в тамбуры проходящих электричек, завязывали глаза и стегали, получая удовольствие от того, что лошадь с разгону налетала на какое-нибудь препятствие.
Эти современные конокрады, «всадники без головы и без сердца», доставляют много хлопот милиции, приносят большие убытки хозяйствам, но главный убыток — нравственный. Издевательство над живым существом не проходит бесследно для человека. И закрывать глаза на это явление больше нельзя. В письмах в редакцию мера пресечения бедствия выражается просто: «Надо судить…» Но положение дел таково, что мало кто хочет судебных дел из-за лошади. Да и кто предстанет перед судом? Подростки двенадцати — пятнадцати лет! И это обязывает нас смотреть не только на последствия, но главным образом на причинность явления.
Почему внуки и правнуки людей, для которых лошадь была существом почти что священным, обращаются с лошадью варварски?
Ответ прост и ясен: лошадь сейчас беспризорна, и именно в этом причина извращенного к ней отношения.
Я имею опыт собственных наблюдений и могу утверждать: во многих хозяйствах лошадей бросили на произвол судьбы. Конюшня почти развалилась. Присмотра за лошадьми никакого. Подковать, подлечить и почистить — давно забытое дело. Летом на лошадях работают — возят воду, пасут скотину, ездят за сеном. А зимой бросили и забыли. Лошадей не поят, не кормят, ни килограмма фуража, ни клочка сена на них не дается. Какой-нибудь сердобольный старик по своей доброй воле привезет им с поля соломы, а так — на подножном корму. Зимой! Копытят снег, добираясь до зеленей, подобно лосям, гложут в лесу деревья, едят молодые побеги. Ночуют в стогах. Дичают, конечно. Приходилось видеть таких «мустангов» — человека сторонятся, как огня.
При таком положении надо ли удивляться извращенному отношению к лошади деревенских подростков. Угон лошадей начинается там, где угоном-то он не является, поймали и тешатся — никто не хватится, не пожурит даже. А когда «мустанги» переловлены, загнаны, угонщики забираются и в конюшни соседних хозяйств, туда, где лошади под присмотром.
С судов ли следует начинать войну с этим бедствием? При здравом размышлении видишь: нет, не с судов, а с конюшен следует начинать, с ответственного и традиционно заботливого отношения к лошади.
Нетрудно понять: действиями пятнадцатилетних угонщиков движет естественный интерес к лошади. При ином порядке вещей интерес этот мог бы стать мощным воспитательным фактором, и не безнравственная распущенность, а хозяйственная заботливость и сердечность могли бы формироваться в начинающем жить на селе человеке. Эта мудрость кое-где уже понята. В журнале «Коневодство и конный спорт» я прочел размышления секретаря Полтавского обкома партии Федора Трофимовича Моргуна. Он, ссылаясь на опыт многих колхозов Полтавщины, объясняет роль лошади в современном хозяйстве. Особо Федор Трофимович говорит о колхозе «Победа коммунизма», где лошадь нашла законное место рядом с тракторами и автомобилями, где уважение к лошади воспитывают у людей с малого возраста, где создана конноспортивная секция молодежи.
Как можно понять, к спортивным рекордам в колхозе особенно не стремятся. Но есть кое-что более важное, чем рекорды. Ни один праздник в колхозе не обходится без молодых конников и без конных упряжек. Свадьба — обязательно лошади в лентах. Захотел прогуляться верхом на лошади — пожалуйста, захотел научиться держаться в седле, научиться запрягать лошадь — пожалуйста. На лошадях тут работают, и содержание их полностью окупается. Но нечто большее увидели в лошади в этом хозяйстве.
«Лошадь придает сельской жизни особый колорит, дает человеку радость, какую в городе испытать ему не дано», — говорит председатель колхоза. И нет у этого председателя головоломной задачи, как удержать на селе рабочие руки, — полный колхоз работящей, старательной молодежи!
Наверное, преувеличением будет сказать: это лошадь удержала ребят и девчат на селе. Несомненно, однако, что лошадь является частью культурных традиций сельского человека.
И там, где остатки этих традиций бездумно, бесхозяйственно разрушают, результаты плачевны.
Там же, где на них опираются, берегут, многое в деревенских проблемах разрешается просто и безболезненно. Ну зачем, скажите, ребятам в полтавском селе утонять лошадей, когда можно без всякого воровства прийти на конюшню, попросить прокатиться или хотя бы подойти к стойлу, потрогать рукою уставшую лошадь, дать ей с ладони полизать соли или достать из кармана припрятанный с ужина кубик сахара.
Очень много хорошего и очень полезного может пробудить в человеке ответное благодарное ржанье. Автомобиль, трактор и мотоцикл, при всем почтении к технике человека, благодарно заржать не могут.
Все понимают, конечно, журналист не зовет пересесть с трактора на лошадей. Но важно нам всем осознать: человек, подростком взнуздавший лошадь колючей проволокой, и с трактором тоже обращаться будет не так, как следует, и с землей тоже, и легко расстанется со своей деревенькой, и ничего святого не будет для него в этой жизни. Мало ли горьких плодов мы уже пожинаем?! На лошадь следует посмотреть не только с хозяйственной, но и с нравственной точки зрения. Возможен вопрос: но если в хозяйстве лошадь себя изжила, не проще-ли остатки конного поголовья отправить на бойни, благо лучшие сорта колбасы не обходятся без конины?
И с угонами разом будет покончено, и с плеч долой заботы о лошадях. Правду надо сказать, во многих местах поступают именно так. Но правда состоит и в том, что место в сельском хозяйстве для лошади есть! Моторы коней потеснили, и, конечно, не на живую лошадиную силу теперь опора. Но, честное слово, больно глядеть, как в ином колхозе бидон молока везет трактор в сто лошадиных сил, охапка сена — тоже на тракторе. В одном колхозе Калининской области мне позарез надо было попасть в «неперспективную» деревеньку, лежащую за болотами.
«Утром пришлю к вам транспорт», — сказал председатель. Транспорт утром пришел. Это был новенький трактор «К-700» (300 лошадиных сил!).
Я, смущенный, пошел к председателю. «Но туда ни на чем другом не доедешь». — «А лошадь?..»
Лошадью на санях было бы можно. Но десятка два лошадей были в колхозе на положении упомянутых выше «мустангов», никто не знал, где их даже искать.
Заблуждение думать, что лошадь исчезает в первую очередь там, где выше механизация.
Совершенно наоборот! На проселках Нечерноземья именно по наличию лошадей сразу определяешь: в порядке хозяйство или разлажено.
Пасутся лошади за селом — значит, и техника тут на ходу, «не развинчена», и остальное все «в абажуре», как сказал мне однажды старый веселый бухгалтер колхоза.
Конкретный пример. Я однажды уже рассказывал о хозяйстве «Заветы Ильича» на Рязанщине. Колхоз очень крепкий. Механизация работ приближается к девяноста процентам. Помимо разных специальных машин, автомобилей тут 69, тракторов 70, комбайнов 15, картофелекопалок 16, молоковозов 2. И 100 лошадей! «Все сто в работе?» «А как же, — сказал председатель Петр Иванович Жидков, — в нынешнем сложном хозяйстве автомобилем и трактором до всего дойти невозможно. Есть «тысяча мелочей», которые требуют всего лишь одну натуральную лошадиную силу. А сено без лошади на неудобьях, на дальних лесных полянах и в пойме просто не взять». В хорошо механизированном колхозе им. Шевченко Миргородского района Полтавщины считают необходимым иметь в хозяйстве 300 лошадей.
Выгодно! Но это все, к сожалению, хорошие исключения из сложившейся практики.
Ошибкой было бы упрощать дело, утверждать, что нынешнее положение с лошадью — только лишь результат нерадивости и отсутствия мудрости у конкретных хозяев и в конкретных хозяйствах. Положение требует изменения взгляда на лошадь в широком смысле. К этому обязывает и опыт хозяйствования, и нравственная сторона дела, и проблемы с нефтепродуктами, которые следует экономить, и растущие нужды приусадебного хозяйства. Словом, нужен какой-то поворот общественного сознания, подкрепленный и поощренный законодательством и институтами нашей социальной системы.


Отдельно, особо надо сказать еще об одном пункте проблемы. Передо мною письмо инвалида Отечественной войны Шалишида Башиева из села Кичмалка Зольского района Кабардино-Балкарии. Он сообщает, что обратился к местным властям с просьбой разрешить приобрести в личное пользование лошадь — «Необходима для передвижения и главным образом для заготовки сена. На горных склонах сделать это иначе, чем с помощью лошади, невозможно». Ответ был коротким: «Не положено…»
Такой же ответ в Российской республике получит сегодня, наверное, каждый, кто захотел бы приобрести лошадь. Почему? В поисках ответа на этот вопрос я побывал у юриста Верховного Совета СССР и получил разъяснение. Законом сельскому жителю Российской республики разрешено иметь корову, телку, овец, коз, кур, свиней. Лошадь в этом перечне не упомянута.
Значит, иметь ее, как ответили Шалишиду Башиеву, «не положено».
Но почему не положено? Дело в том, что закон принимался в 30-х годах, когда лошадь — основная тягловая сила на селе — определяла социальный статус крестьянина. Но за полвека жизнь на селе ведь коренным образом изменилась. Владение лошадью сегодня никакого ущерба социальному укладу нанести не может.
Анахронизм этой части закона всем очевиден. Автомобиль в 90 лошадиных сил купить можно, а одну лошадиную силу на четырех копытах — нет. Инвалидам Отечественной войны автомобили сейчас государство дает бесплатно, а тут человек просит разрешения купить лошадь для того, чтобы можно было передвигаться и корове припасти сено, — не положено! Жизнь требует исправления этой почти курьезной ситуации.
В случае если закон откроет ворота для лошади в сельское подворье, означает ли это, что все немедленно захотят ее приобрести? Нет, конечно. Лишь единицы людей, сообразуясь с возрастом и обстоятельствами жизни, захотят иметь лошадь. Но такие люди, несомненно, найдутся.
В Нечерноземье с малыми деревеньками, куда мощеных дорог не построено, лошадь, помимо всего прочего (огород, сено, дрова), — единственный транспорт во всякое время года, на котором и хлеб подвезешь из пекарни, и почту, и керосин — соль — спички — мыло, и в больницу человека без проволочек доставишь. Человеку, который в этих «неперспективных» Зименках, Хотьминках, Березовках, Забугорьях и тысячах других селений решился бы держать лошадь, не препятствовать надо, а сказать спасибо.
Да и в тех местах, где урчат постоянно автомобили и тракторы, лошадь в приусадебном хозяйстве — надежное средство облегчить труды себе и соседям. Когда-то еще будут обещанные конструкторами огородные тракторы, а лошадь уже давно «сконструирована». Важно не разучиться ее запрягать.
…Ну а пока суд да дело, мой знакомый старик в Зименках запрягает по утрам ишака. Трогательно и грустно глядеть на его хлопоты.
На зимнее время Сергей Васильевич сшил для ослика овчинную телогрейку, сам смастерил тележку и сбрую. У осла, известно дело, характер строптивый, но старик к нему приспособился. В соседней с Зименками деревеньке Валуево на положении тягловой силы живет еще один ослик. Ослика я видел во дворе Ивана Васильевича Верстунова (деревня Пакушево Рязанской области). Во всех случаях «азиатская животина» помогает сельским жителям заготовить для коровы сено, привезти дрова, вывезти навоз, управиться в огороде. Но не в упрек ли нам эта картина: русский крестьянин на ишаке?
На ишаке в то самое время, когда лошадь находится на положении существа беспризорного и неприкаянного. Здравый смысл требует все поставить на свое место во благо и лошади, и человека, и хозяйства как такового.
Фото автора. 15 мая 1981 г.
22 июня

«Тот самый длинный день в году с его безоблачной погодой нам выдал общую беду на всех, на все четыре года». Это сказано позже. А в «тот день» мы не знали, не могли знать: все, что принес нам ранний июньский рассвет, продлится долго, продлится — было бы страшно подумать в тот день — четыре года!
И вот уже сорок лет, когда календарь нам покажет в июне две рядом стоящие двойки, немедленно пробуждается память — прямо как лампочку в голове зажигает эта ставшая частью нашей истории, частью судьбы летописная дата 22 июня…
Воспоминания у людей разные. Я помню: на полуслове замолк патефон на крылечке, игравший популярную в предвоенные годы «Загудели, заиграли провода…» Шедшие с поезда люди озабоченно говорили: «Война…» Радио не было. И эти идущие по селу со станции люди остались в памяти вестниками беды. Было это после полудня. И мы не знали тогда, что к этому часу уже много людей полегло, много домов обрушилось, многое уже горело, стонало, захлебывалось кровью, кто-то отстреливался, прорывался к своим, звал на помощь, кто-то осиротел, был изувечен, уже прославлен…
Колесным и пешим ходом война продвигалась хотя и скоро, но все же путь ее сдерживал фронт не жалевших жизни своей людей. А в глубине от границы с первого дня и с первого часа война предстала для многих в образе сеющих смерть самолетов. И даже народная песня это запечатлела: «22 июня ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что началася война»…
Этот снимок я увидел в музее на родине маршала Жукова. Стоявший около снимка седой человек сказал: «Таким я помню 22 июня… Беженцы на дороге, дым, стоны, ржание раненой лошади, плач потерявшейся девочки. А они вот так низко и друг за другом…»
Да, летали они нахально низко, чувствуя безнаказанность. Улетали заправиться, наполнить бомбами люки и нависали опять над дорогами, шедшими на восток от границы.
В июне 41-го невозможно было предположить, что такие вот самолеты со свастикой появятся через год под Воронежем, что я увижу из вырытой ямы убежища молодое лицо немецкого летчика в шлеме, увижу вспученный бомбой бабушкин деревянный домишко и буду держать на ладони еще горячий осколок от бомбы…
В том далеком июне, ожидая тревожных вестей, провожая отцов и братьев на фронт, оклеивая наивными бумажными крестами окна и затемняя их на ночь, мы не знали еще полных размеров беды, не знали, какие жертвы придется нам всем принести, не знали, что день за днем предстоит продержаться четыре невыразимо тяжелых года, что война дойдет до Москвы и до Волги, до Воронежа, до оконечности Крымского полуострова. Это все надо было выстрадать, вытерпеть, превозмочь и в мае обозначить еще одну дату в календаре — счастливую дату нашей Победы.
Близко одна от другой стоят в году эти даты. Красная учит: мужество, выдержка, вера в победу победой венчаются. Июньская дата тоже многому учит. И первая заповедь в этих уроках — бдительность.
Фото из архива В. Пескова. 21 июня 1981 г.
Кузня в Карасихе
(Проселки)
Издали, из-за леса, из-за глинистого бугра, мы услышали характерный стук молотка по металлу.
— Кузня?
— Кузня, — сказал мой спутник, краевед с Волги. И мы почти побежали на знакомые с детства звуки.
Кузня! Деревянный приземистый сруб у ручья. Массивный бревенчатый стан для ковки коней. Запах угля, свежей окалины. И, конечно, пропасть всяких железок, все, чему обязательно полагается быть подле кузни: колеса, старые бороны, сошники, шестеренки, кованый мельничный жернов, трубы, шпоры от старого трактора, неизвестно как попавшая в деревенскую глушь лепешка вагонного буфера.
И тысяча всяких железок помельче. Ими увешан был весь деревянный сруб. Все заботливо собиралось, как видно, многие годы. Такова традиция сельских кузниц, уходящая к тем временам, когда каждый прутик железа был драгоценным.
Это все интересно увидеть было бы даже в музее. И такие музеи старого быта очень важны. Но перед нами была вовсе не мертвая старина.
Мы стояли возле старушки преклонного возраста, однако здоровой, жизнеспособной и, как видно, весьма ценимой в Карасихе.
В широкую дверь виднелась бархатно-черная внутренность кузни. В углу малиновым светом тлел в горне уголь. У наковальни под электрической лампой двое людей плющили замысловатой формы поковку. Работа, судя по разговору и по тому, как кузнец нам кивнул: «Подождите…», была очень спешной. Оказалось, тракторист явился в кузню прямо из борозды. Когда он, бережно завернув в мешковину готовую к новой жизни деталь, умчался в поле на мотоцикле, кузнец неторопливо снял фартук, вытер красной тряпицей пот на лице и вышел из кузни на солнце.
— Извините: сев, горячее время…
Каким же чудом в наше станочно-машинное время уцелела почти первобытная кузня? Сам кузнец, потомственный житель Карасихи Василий Иванович Коротышов, ответил на это просто: «Нужна, потому и стоит. И действует».
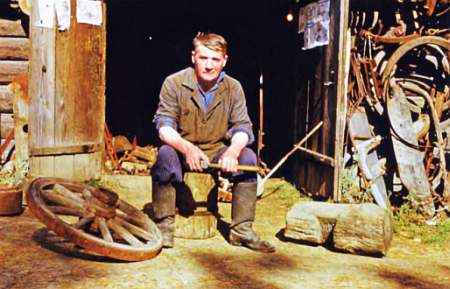
Кузнец и потомственный житель Карасихи Василий Коротышов.

Подкова на счастье.
Что нужна — это правда. Карасиха — деревня дальняя и глухая, лежащая по правую сторону от Ветлуги за лесами, логами, за полями ржи, картошки и льна. До мастерских со станками, электросваркой и современной кузницей далеко. Наверно, эта причина в первую очередь заставляла беречь старинную кузню. Случись что в поле с комбайном, сеялкой, трактором — вот она, первая помощь, прямо под боком. Стучитесь в окно кузнеца хоть в полночь — сейчас же возьмется за дело. И в каждом доме деревни есть дело для кузнеца. Кому кастрюлю-самовар-бидон запаять, кому донышко для ведра, кому мотоцикл починить, кому замок, кому тяпку для огорода, обруч на кадку, петли для двери, колодезный ворот, железного петушка на конек крыши — все это быстро и с радостью сделает у своей наковальни Василий Иванович.
Но, пройдясь по деревне, мы поняли: не только эти малые, но насущные нужды сохранили Карасихе кузню. Сам кузнец своим обликом мастера и трудом, своей преданностью деревне хранил тут очень давно зажженный огонь.
Кузне — семьдесят, ему — шестьдесят. Десятилетним мальчишкой он стал приходить сюда — «слушать, как стучат молотки, глядеть, как краснеет железо». И вот «присох» на всю жизнь.
В тринадцать лет Василий Иванович в первый раз увидел велосипед. Только увидел и потрогал его руками, но этого было довольно, чтобы взяться сделать велосипед. И он его сделал. Из дерева. «Шестеренки и цепь выковал из железа. Все остальное — береза, клен, можжевельник». И это не была игрушка на погляденье.
Молодому кузнецу велосипед служил целых шесть лет — «даже в поле ездил на нем».
Неудивительно после этого было узнать: руками мастера по железу сделаны многие ульи в деревне, сундуки, лодки, столы, диваны и табуретки, наличники на окна, чемоданы для ребят, отбывающих в армию. Удивительно было слышать: руками кузнеца в Карасихе и окрестностях сложено восемьдесят печей. А после войны, в 1947 году, он построил радиоузел, сам его обслуживал и был первым диктором. Когда же появились в Карасихе телевизоры, кузнец вполне разобрался в устройстве «ящиков для гляденья», стал их чинить и чинит до сего часа.
Вот такие руки у человека. Надо ли говорить, что все в его доме — от щеколды на двери и до трубы — сделано собственными руками.

Работы кузнецу — хоть отбавляй.
Вырастил Василий Иванович двух сыновей.
«После люльки у горна грелись». На вопрос: «А что теперь сыновья?» — кузнец улыбнулся: «Сыновья должны выше отцов подыматься. Не пожалуюсь — люди умелые. Когда их работу гляжу, чувствую себя самоучкой и подмастерьем. Оба в Горьком на большом производстве».
Пока мы сидели у кузни, привели ковать лошадь. Кажется, лошадь хорошо кузнеца знала: чуть подошел — подняла и согнула в колене ногу.
— Ковать, давно пора ковать тебя, милая…
Мы увидели, как это делается. Как подбирает кузнец подкову, как примеряет ухналь (ковочный гвоздь), как расчетливо-точно вгоняет его в копыто.
Древнейшее дело у всех народов! И древнейшая из профессий — кузнец. Фамилии Кузнецов, Ковалев, Коваленко и Коваль — производные от профессии. То же самое у поляков — Ковальский, то же у англичан — Смит, Фабр (кузнец) — у французов. Говорю об этом Василию Ивановичу, но он прилежно занимается лошадью.
— Кажется, дело простое. А вот книжка для сельского кузнеца наполовину состоит из инструкции, как подковать лошадь…
Подъезжает парень на мотоцикле. Василий Иванович встречает его насмешкой:
— Ну что, и твой расковался?..
Узнав, в чем дело, выносит сверло и маленький молоток.
— Такой пустяк, и не можешь своими руками. Ну а если я завтра умру…
У парня свои заботы. Садится на подправленный мотоцикл — и только пыль столбом над дорогой.
Кузнец вздыхает:
— Не могу я этого понимать. Кузня, хорошо это знаю, деревне нужна. А ведь никто не придет, не скажет: так, мол, и так, дядя Вася, покажи, научи. Со мною вместе умрет и кузня. Даже, пожалуй, раньше.
Показав гостям, как работает горн, как закаляют и отпускают поковку, кузнец вернулся к прерванной мысли:
— Исчезнет… А ведь она последняя тут, над Ветлугой. Мне особенно жалко. Шутка сказать — полвека в ней отстучал.
Когда прощались, кузнец салютом три раза стукнул по наковальне.
— Спасибо за интерес. И счастливой дороги! А я в свое удовольствие часик-другой поиграю с железом…
С пригорка в черемухе за ручьем было слышно состязание двух соловьев. А между пением — стук по железу железом. И синий дымок над черемухой. Старушка кузня еще дышала и подавала свой голос.
Колодец
Первый раз я увидел такой колодец в музее деревянного быта под Горьким и поразился: неужто были такие?!
— Почему «были»? Если поехать в дальние села по-над Ветлугой, и сейчас колодцы увидишь.
Из-за колодцев в Карасиху мы и поехали.
На опрятной, ухоженной улице сооружение это заметишь сразу — четыре огромных столба, над ними обширный шатер из досок, а под шатром сам колодец. Глубокий. Настоящая шахта. Вода в глубине далекой неясной луной серебрится. Подъемник у этой водяной шахты поражает больше всего. Это привычный ворот, но не с ручкою для верченья, а с огромным, едва ли не в два городских этажа колесом. Как сдвинешь такую махину?..
К колодцу из дома напротив семенит бабушка лет под семьдесят. Подошла, поставила ведра и немедленно — к колесу. Вернее, прямо в его исподнюю часть. И пошла внутри колеса по ступеням, как белка. Свободно, привычно пошла… Смотрим в колодец — бадья достигла воды, и старушка сейчас же, изменив положенье, пошла в обратную сторону.
И вот бадья уже наверху. Вода ломит зубы, вкусная, чистая. Ковшиком бабка отлила воду в ведра и, отказавшись от помощи, закачалась под коромыслом к дому… Примерно четвертого класса школьница подошла. Тот же порядок — белочкой бег в колесе, а потом ковшиком разливанье воды по ведрам. Никаких заметных усилий, как будто играючи подымалась из глуби пода.
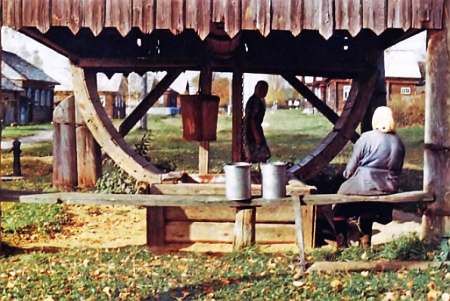
Колодец с колесным агрегатом.
В этот же день колодцы с колесными агрегатами мы увидели в соседних с Карасихой деревнях. Узнали: когда-то такие колодцы строили в каждом селенье («Четыре недели — колодец готов»). Потом появились колонки с водой. Удобная с виду новинка, однако не всех осчастливила. «Зимой в трубах вода замерзает, и ржавчина в ней — для чая уже не то, и для стирки вода не годится». Стали спешно чинить заброшенные было колодцы.
А в Карасиху и в соседнее с ней Благовещенское снабженье водой по трубам прийти не успело. По этой причине «ступные» колодцы тут в полном и образцовом порядке. Ось у ворота смазана. Место возле колодца песочком посыпано. Две скамьи под навесом. Не только воды наберешь, но можно передохнуть у колодца, узнать деревенские новости. Кое-где тут же почтовый ящик, чугунное било на случай пожара…
Загадка же колеса над колодцем разрешается просто. Там, где близко вода, ее черпают прямо рукой (помню, в нашем селе был для этого крюк на шесте). Всем известны колодцы с журавликом.
Колодец с воротом распространен повсеместно. Но там, где вода глубоко (в Благовещенском до нее сорок метров!), слишком долгое дело — опускать-подымать обычных размеров ведро.
На цепь укрепляют бадью ведер на пять. Но попытайтесь верчением рукоятки вынуть бадью из колодца — тяжелая штука! И тогда какой-то смекалистый мастер придумал огромное колесо. Он, возможно, не знал учения Архимеда о рычагах.
Но именно закон рычага лежит в конструкции знаменитых и редких теперь «ступных» колодцев. Дотронься рукой — колесо уже закрутилось. Но проще и легче идти внутри колеса…
Даже в музее «ступной» колодец производит сильное впечатленье. Но есть места, где «мужицкая техника» исправно, с большим запасом надежности продолжает служить человеку.
Фото автора. 1 июля 1981 г.
Бычок на веревочке

По бычкам у дороги вы сразу поймете: пересекли границу Полтавщины. Полоса отчуждения справа и слева от шоссейной дороги обжита скотиной: бычок на приколе, полсотни метров — еще бычок. И так многие километры и на многих дорогах.
Бычки не просто пасутся, бычки живут у шоссе. Утром и вечером навещает их маленький трактор с поилкой, в нужное время поменяют бычку место прикола. И так продолжается с мая и по октябрь, пока у дороги зеленеет трава.
Так просто и по-хозяйски используют все, что вырастает за лето под жарким полтавским солнцем. Лугов в этом крае немного — земли заняты пашней. Трава в полосе у дороги — сама драгоценность. Но скосить ее трудно. Механизмам тут тесновато, да и портятся они часто, натыкаясь возле дороги то на камень, то на железо. Берут траву местами косой. Но много надо косцов! И вот уже четвертый год на Полтавщине траву у дорог, у оврагов и на крутых склонах убирают сами бычки. И хорошо получается! Держит бычка, разумеется, не веревка, а хорошая цепь. Прикол — металлический, кованный в кузне. Затраты рабочей силы по такому содержанью скотины невелики — два человека опекают две сотни бычков. А всего на приколе на Полтавщине в этом году 67 тысяч бычков.
К осени, к октябрю, это будут уже не бычки, а упитанные быки, нагулявшие тело на полоске придорожной травы.
Нехитрому новшеству не полезно ли поучиться у полтавчан?
Фото автора. 7 июля 1981 г.
Кочемарские луки
(Окно в природу)
Если плыть до Горького по Оке пароходом, то после древнего правобережного села Копаново замечаешь: река, повсюду спокойная, вдруг начинает петлять — солнце видишь то прямо по курсу, то сбоку, то за кормою. «Проплываем Кочемарские луки», — скажет знающий пассажир.
Село Кочемары, давшее лукам названье, с реки не увидишь — оно остается где-то слева по борту, за островами ольхи и ветел, за зубцами мещерского хвойного бора. На Кочемарских луках вообще никакого селенья не видишь.
А если плыть, скажем, в августе, то и людей тут тоже не видно. Одни стога! Десятки верст они тянутся над рекою слева и справа, то открытые глазу, то затененные зеленью пойменных ветел, лип и гривами леса. Они стоят то цепочкой возле озер, то кучно, как африканские хижины.
Поднимаешься выше на палубу — горизонт отступает, и продлевается в глубь равнины царство стогов. «Луговая столица», — говорит все тот же знающий пассажир и просит бинокль рассмотреть какую-то крупную птицу, сидящую на стожке.
Тишина. Звенят кузнечики. Синеет вдалеке лес. И ни единой души на этой накопившей тепла на зиму равнине. А ведь недавно совсем, в июле, все тут звенело, пестрело цветами легких летних одежд, синело дымом костров: голоса песни, урчанье моторов, ржание лошадей… «Смотрите… — говорит сосед-пассажир, возвращая бинокль с предвкушеньем твоей улыбки… — У ручья темнеет шалаш, а возле него на большой перекладине две черные посудины ведер на восемь каждая. И на дощечке, привязанной к столбику, надпись «Котлодром».
Остатки костра… Чей-то картуз, надетый на бурый кустик конского щавеля… Колея, по отаве уходящая к лесу… «Луковая столица…» — влюбленно говорит спутник. И я в тот момент оставляю в памяти метку — «прекрасное место» — и даю себе слово побывать на луках в июле.
* * *
Разливу трав предшествуют тут разливы воды. Я видел эти разливы не раз, проплывая по ним на лодке со стороны песчаных бугров Брыкина бора и стоя на крутом берегу у околицы Копанова.
Кочемарские луки в апреле — сплошное море воды. На многие километры — только вода! В воде стоят островками ольхи и ветлы. Из воды торчит дощатая крыша летнего лагеря для скота.
Дорожный знак на столбе затопило по маковку.
Бескрайнее море воды!
И везде, где весной вода побывала, с приходом тепла, с мая месяца, «дуром земля гонит травы».
К июню разливы весенней воды сменяют разливы трав. И слово «море» опять подходяще. Однако для глаза заливные луга привлекательней, радостней и богаче воспетой морской красоты. Зазеленев в мае, луга непрерывно меняют краски до самых покосов. Теплые брызги лютиков сменяет тепло одуванчиков, потом начнут серебриться под ветром жесткие спицы злаков — овсяницы, лисохвоста, тимофеевки, мятлика. В какой-то день луг покрывается дымкой розовых васильков и травы-полевицы; и тут же куртинами — белая кашка, ромашки, как желтые плотные скатерти, пятна медовой свербиги, разливы донника, сизо-белое кружево купырей, колокольчиков синие скромные звезды, сивые шишки мордовника, розоватая белизна дикой мальвы, вызывающе синий дельфиниум… Все это луг взрастил в тесноте необычной, в плотности непролазной. Все образует сообщество с названием «разнотравье».
По-над Окою луговое сообщество необычайно богато. Ученые эту зону выделяют даже в особый ботанический регион с названием «окская флора». Паустовский, эти края исходивший, признавался в скудости ботанических знаний, в растерянности перед многоликим миром растений. С прогулок он приносил пучки трав, чтобы дома под крышей по книгам, по атласам узнавать: это имеет названье мышиный горошек, это — смолка, это — душистый луговой колосок, кровохлебка, козлобородник… Ботаники насчитывают в Окской пойме до сотни различных трав. Обилие это — результат особых условий климатических, почвенных, пограничных. (По Оке проходит граница леса и степи. И тут в особо благоприятных условиях дружно соседствуют растения-северяне и выходцы с юга, со знаменитого некогда Дикого поля.)
Что же касается щедрости окской земли, то вот что писал Паустовский: «Эти луга иные ученые сравнивают по плодородию с поймой Нила. Луга дают великолепное сено». Мой друг Данила Кузьмич Архипов, живущий в селе Кочемары семьдесят с лишним лет, называет Окскую пойму «золотым дном, даром небесным». «До войны у нас в Кочемарах держали 1000 лошадей упряжных и полтысячи молодых. И держали еще 1500 коров. Весь этот скот кормили луга, кормил пай сена, полагавшийся кочемарцам. И такие паи были у каждого поселенья, хотя стоят они от реки нередко за двадцать пять верст. Сена всегда хватало. Излишки возили в Туму, в Касимов».
Добавим: окское сено знавали сенные рынки даже в Москве, даже, говорят, в Петербурге.
В жизни приокских мещерских сел сено играло большую роль, чем хлеба. «С хлебами бабы справлялись. А мужики, убывавшие на отход в города, непременно, где бы ни находились, в сенокос возвращались домой. Сложили сено в стога — главное дело сделано».
Ширина луговой поймы у Кочемарских лук достигает местами двадцати километров. Представьте себе этот зеленый пестрящий цветами пояс с островками кустов и деревьев, с озерцами, с холодными ручейками — истинное золотое дно, дарованное человеку природой! («Только черпай и не теряй добра между пальцев», — говорит Данила Кузьмич.)
Конечно, не только Оку обрамляет зеленая самобраная скатерть. Любая река и речонка имела пойменный луг. К сожаленью, о многих лугах говорить приходится как о богатстве утраченном. Соблазны брать у поймы больше, чем давала она сама добровольно, привели к распашке лугов. И во многих местах сразу потеряны были и луга, и сами речки — полые воды смывали пойменный слой плодородной земли, заиляли речные русла. Между тем документы начала 30-х годов говорят: «Пойменные луга давали 20 процентов всей кормовой продукции страны». Есть чему подивиться!
Полоски земли у речек давали пятую часть всех кормов, давали стабильно, не будучи подверженными засухе, давали почти без затрат. Обжегшись в 30-х годах на распашке, в начале 60-х опять подверглись искусам подымать луга под морковку, свеклу, кукурузу. Успех во многих местах был временным, потери — долговременными.
На той же Оке появились песчаные пустыри с лопухами мать-и-мачехи, с полупустынными будяками. Спохватились. Остановились. В немалой степени способствовал этому (хорошо помню газетные публикации!) писатель, уроженец Мещеры Борис Андреевич Можаев, восставший против шаблонного, необдуманного вторжения в пойму с плугами. Противники у Можаева были сильными, но союзником у воителя была сама жизнь. И правоту Можаева пришлось признавать.
Кочемарских лук распашка коснулась несильно по причине естественной главным образом — долго стоят тут вешние воды, с механизмами можно сунуться только в июле.
Правда, озерную воду тут кое-где ухитрились спустить в Оку, автоматически понизив уровень грунтовых вод и, естественно, ухудшив луга (Можаев и против этого воевал!). И все-таки Кочемарские луки остались с лугами. Травы растут ежегодно без перебоев. Судьба урожая решается тут в июле во время уборки, когда все зависит лишь от погоды и человеческой расторопности.
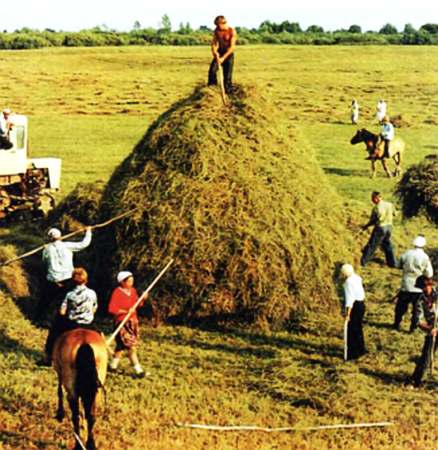
Сенокос — пора добрая…

Будет обед в поле.
* * *
Лучшее время в здешних местах — недели перед покосом. Вполне понимаешь откровение Паустовского, предпочитавшего всем заморским красотам, всем чудесам света «росистую тропку в окских лугах».
В конце июня все тут созрело. Все цветы стоят напоказ пролетающим тяжело груженным шмелям и пчелам. Все источает медовый запах.
Желтые трясогузки качаются на верхушках конского щавеля. Летает кругами потревоженный чибис. Прощально кукует кукушка. Соловья еще можно услышать. Но чаще из синего леса доносится тонкая флейта иволги.
И есть у луга свои певцы. «Пить подать! Пить подать!» — изнывает от летней жары перепелка.
А под ветлами в бочаге хор лягушек славит лучшее для лугов время: «Как-кова! Трава как-кова!..»
И отклик лягушкам тоже ласкает ухо: «Хо-рош! Хо-рош!» Всю ночь дергач-коростель хвалит травы, с непостижимым проворством перебегая в их тесноте с места на место.
Даже и не поэта в этих лугах посещает потребность каким-нибудь образом выразить набежавшие чувства. Мой друг однажды стал в лугах на колени: «Ты знаешь, хочется или молиться, или лаять от радости по-собачьи».
Однако красота красотою, а приходит час лечь траве под косой. Этот час у Оки совпадает обычно с Ивановым днем (7 июля). Но жаркий июнь, как было в этом году, приближает день косовицы. Важно, дождавшись полной спелости трав, не упустить потом времени («Летний день год кормит», «Убрать сено в пору — в каждый стог пуд меда отвесить»).
Все знают: нет для скота более желанной и полноценной еды, чем упавшее под косой погожее разнотравье. «Хотел бы я пить молоко от коровы, у которой все это будет хрустеть зимой на зубах», — сказал мне ботаник, лучше других понимающий: силос из кукурузы или даже царь-трава — сеяный клевер — не могут сообщить молоку тот вкус и целебную силу, какие дает букет-сено. В духе времени можно тут вставить словцо о ферментах, о витаминах, микроэлементах и фитонцидах. Но можно о том же сказать очень просто, как это сделал рязанский поэт Борис Сильвестров. «Бродят буренки по белым ромашкам. Щиплют клубнику и красную кашку.
Медом пропахли кусты и ракиты. Вот почему молоко духовито». Так объясняют ценность лугов детишкам. Взрослым тоже, как видим, надо напоминать: ценность! Величайшая ценность — заливные луга! «Беречь их надо, как курицу, несущую золотые яички», — говорит старожил Окской поймы Данила Кузьмич Архипов.
* * *
В лугах сейчас самый разгар работы. Кочемарские луки полны людских голосов. Из всех деревень, стоящих по краю травяного разлива, все, кто способен работать, сейчас находятся в пойме. Есть тут, в лугах, люди и городские. Живут в шалашах. Едят из таких вот старинных чугунных котлов. И работа с утра до заката.
Работа нелегкая. Но нет труда поэтичней и благодарней, чем этот на летнем лугу…
Стог сена — украшенье любого пейзажа. У любого человека этот маленький складец сушеной травы рождает теплое чувство. У художников это любимый объект для картины.
Почему? Потому что стога — это память о лете, итоги труда на лугу, это запас на зиму тепла, залог благополучия…
Всему, что родила земля на лугах и полянах, к августу полагается быть в стогах. В луговой столице, на Кочемарских луках, таких стожков за лето вырастают многие тысячи.
Фото автора. Рязанская область.
12 июля 1981 г.
Белая ночь
(Окно в природу)

Свет без теней. Тихий шелест воды по песку. Сон камышей. И бессонный крик кулика-веретенника. Гортанные звуки гагары. Темный силуэт лодки. Стрекоза, прикорнувшая на осоке.
Всю ночь немеркнущая заря вполнеба. Ощущение с непривычки то радости, то тревоги…
Волшебный перламутровый свет! Лампа не может с ним спорить. И сон на ум не идет.
Можно писать у окна, фотографировать, наблюдать, как в полночной воде у баркаса играют рыбы. И думать: это награда всему живому за долгую зимнюю ночь.
Кто был хоть однажды на севере летом, всю жизнь будет помнить задумчивый мир белой ночи.


Фото автора. 18 июля 1981 г.
Карл в гостях у Петра
Постоянные наши читатели помнят: в прошлом году (4 мая и 18 июня) в «Комсомольской правде» было рассказано о дружбе и о судьбе двух людей — швейцарца Карла Келлера и русского — Петра Билана.
Восстановим в памяти эту историю…
В Швейцарии, случайно встретив советского журналиста, учитель-пенсионер Карл Келлер рассказал, как в 1942 году из немецкого концлагеря вплавь через Рейн бежал в Швейцарию молодой советский солдат. До последней степени изможденного человека приютили, выходили, спрятали в горной деревне. Тридцатилетний тогда учитель Карл Келлер и солдат — студент Одесской художественной школы — Петр Билан стали друзьями. «Должен признаться, лучшего друга в жизни у меня не было», — закончил рассказ журналисту седой швейцарец. Об этой дружбе в суровое время мы написали с надеждой: а вдруг Билан жив и откликнется?.. Откликнулся! «Жив-здоров. И все помню!»
Судьба киевского художника Петра Ильича Билана — частица общей нашей судьбы в минувшей войне. Раненым оказавшись в плену, солдат испытал ад лагерей смерти, однако не потерял воли к жизни, к сопротивлению. Приговоренный за саботаж к повешенью, в ночь перед казнью он решился вплавь пересечь быстро текущий в Альпах, холодный в весеннем разливе Рейн… Благодарная память сохранила всех, кто помог беглецу в нейтральной тогда, но ощущавшей угрозу фашизма Швейцарии. «Дружба с Карлом — это особые дни моей жизни. Все помню и очень хочу увидеть этого человека», — сказал художник, заключая рассказ о прожитом. В Швейцарию по сообщенному адресу Петр Ильич сразу направил письмо: «Карл, возьми билет в Киев и прилетай. Об остальном позаботимся мы, Биланы».
* * *
Я специально прилетел в Киев, чтобы увидеть момент их встречи.
Самолет из Цюриха припоздал, и Петр Ильич от волнения прикуривал сигареты одну от другой… Но вот по трапу резво сбегают туристы, чинно плывут дипломаты, деловые дамы и господа… Наконец-то! В проеме двери — белая голова. И сразу вверх две руки и возглас, как у мальчишки: «Петр!!!» А снизу у трапа — «Карл!!!»
И вот уже два человека тискают друг друга, хлопают по спине, смеясь и плача от радости, дергают друг друга за щеки, теребят волосы.
Потом у двери аэропорта еще волна чувств. Карл, обнимая встречающих, говорит: «Ниночка!.. Галя!.. Игорь!..» По письмам он уже знает семью Биланов и безошибочно всех узнает. Потом, спохватившись, тщательно подбирая слова, почти торжественно Карл говорит: «Петр, я очень счастливый, что мой ноги стоит в Киев на твой земле».
Никогда еще давнего выпуска «Волга» семьи Биланов не ехала так рискованно, как в этот вечер. За рулем был привычный ее хозяин, но волнение и желание обратить внимание гостя на мост через Днепр, на сиявшие в синеве купола, на многое другое, чем законно гордится любой старожил-киевлянин, да еще почти непрерывные «Помнишь?» делали в этот момент Петра Ильича шофером весьма ненадежным.
В переулок Бастионный мы все же добрались благополучно. И сразу попали за стол с яствами и питьем. Два десятка художников, друзей Петра Ильича, пожелавших оказать Карлу «щирое гостеприимство», без промедленья взялись задело…
Закончилось все по моему посредническому настоянию («Пощадите, братцы, человеку 69!») где-то часа в два ночи. Все было в тот вечер: приветствия, воспоминания о войне, речи о человеческой дружбе, о мире, объятия, целованье, и, конечно, не обошлось без песен. Пели дружно и хорошо. Счастливый Петр говорил Карлу то по-русски, то по-немецки. «Ну что? Что я тебе говорил!» Карл, бывший за этим столом центром внимания, раза три держал речь и расплакался под конец: «Это счастливый день моей жизни. Спасибо!»
Среди песен «Катюшу» он принял как давнюю свою знакомую. А когда грянули «Стеньку Разина», гость вдруг вскочил и радостно стал подпевать. Позже выяснилось, на этот русский мотив поют в Швейцарии жгуче-любовную песню: «Тот, кто придумал расставанья, то не подумал о любви». Оказалось, именно эти слова по-немецки пел гость, когда хор бородатых и безбородых художников выводил: «И за борт ее бросает в набежавшую волну…»
Расходились все нехотя, желая виновникам торжества спокойной ночи и поздравляя обоих со встречей.
«Надо же! Тридцать восемь лет не виделись. Молодцы, мужики!»
Утром, когда освежались чаем и два старых друга шутили, вспоминая забавные случаи из былого, Карл дотронулся вилкой до бутерброда с красной икрой: «А что это есть?» Оказалось, за вчерашним застольем он принял икру за варенье и был озадачен — «варенье почему-то было несладким и пахло рыбой». Столь же занятное недоразумение произошло с жевательной резинкой, которую Карл, послушавшись чьих-то советов — «русские это любят», — привез гостинцем в изрядном количестве, чем очень развеселил друга. Карл, оказалось, тоже не знает, в чем прелесть жеванья резины… Было приятно видеть: два человека сохранили дух молодости, говорили с прежним доверием, с пониманием, с шутками, как будто и не было тридцати восьми лет без вестей друг о друге.
Среди привезенных гостинцев пакет цветных фотографий был главным. Перед отъездом Карл объехал места, знакомые его другу, и теперь все утро рассказывал.
«Это Рейн. Вот тут ты его переплыл… Тюрьма в Аарау. Помнишь, я заглядывал в это окошко…
Старик и старуха — хозяева фермы, где ты батрачил. Передавали тебе привет. Помнят: на сенокосе ты выливал пот из сандалий… А это место, где был когда-то лагерь военнопленных…»
Дольше всего ходила по рукам фотография старой женщины. Она стояла у дома, куда апрельской ночью 42-го на огонек от Рейна дополз беглец. «После той ночи Амалия Мерке и ее муж не гасили свет в одном из окошек.
Их дом, ты помнишь, крайний в селении Шифизгейм. И к ним летом и осенью постучалось более сорока бежавших из плена. До сих пор Амалию Мерке в этих местах зовут «Русская мама». Она сильно разволновалась, когда узнала, что скоро я буду в Советском Союзе. Петр, она хорошо тебя помнит и просила обнять».
Бережно Карл разложил на столе реликвии давней дружбы — пожелтевшие письма Петра из альпийской деревни, листки, по которым они учились русскому и немецкому языкам, снимки картин, написанных в 42-м.
В заключение Карл рассказал о себе.
Шестой год он на пенсии. Живет в деревушке Мондах с двумя незамужними сестрами. Сохранил прежнюю страсть к языкам. Знает французский, немецкий, итальянский, испанский.
«Учился у Петра русскому. Теперь с жадностью слушаю вашу речь. И вот тетрадка — буду записывать. У меня норма: запомнить пятнадцать — двадцать слов в день».
В деревеньке Мондах 301 житель. «Многие знали, что я отправляюсь в Советский Союз. Местечко у нас глухое, и провожали меня, почти как в космос. Многие завидовали. И правда, путешествие для меня — едва ли не главное событие в жизни.
Такой была встреча и первый разговор за столом, когда волнения улеглись. Я расстался с друзьями в момент обсуждения плана на «ближайшие три недели». «Ну, обживем как следует Киев, — говорил Петр Ильич. — Съездим в Канев, потом — Москва, Ленинград. А вернемся на Украину — поставим палатку где-нибудь у воды и будем кормить комаров…»
У палатки возле днепровских разливов я и застал именинников. Они приходили в себя после немалой нагрузки, но были, как сказал Карл по-русски: «Совсем молодцы». Закатав штаны, они стояли в теплой воде с удочками.
Рыба, как водится, не ловилась. Обстоятельство это весьма удручало парня из местного рыбнадзора. Узнав, что за люди разбили палатку, а также, что Карл первый раз в жизни держал в руках удочку, парень считал рыбий клев делом престижа всей Украины. Рыба, однако, в сатанински жаркие дни клевать не хотела. И парень в доказательство, что она в Днепре еще водится, привез ведерко лещей, пойманных не на удочку.

Петр и Карл.
Была в тот вечер уха. И был разговор у костра.
«Старики» вспоминали. Вперемежку вспоминали Швейцарию, лето 42-го года и только что завершенное странствие. Я спросил Карла о впечатлениях, о том, что скажет он на пороге старой сестре, когда вернется в Мондах.
«Что я скажу… Я скажу: сестра, я очень счастливый человек! Потом скажу: я был у хороших людей, в большой интересной стране. Скажу, что все три недели чувствовал себя как дома.
Я расскажу о Петре, о его доме и о друзьях…
Нет, сразу все рассказать не смогу. Я буду рассказывать каждый вечер отдельно: о Киеве, о всех местах, где мы побывали, о Каневе, о картинах Петра. Отдельно расскажу о Москве.
Кремль! Возле него я чувствовал себя как во сне. У Кремля стоял, возможно, мой дед, ходивший в Россию с Наполеоном и отморозивший в этом походе ноги. Я расскажу, что был на спектакле в Большом театре и в Эрмитаже, видел дворцы в окрестностях Ленинграда, стоял на корабле «Аврора» и даже дернул шнурок у пушки… Ну и, конечно, как водится, буду шутить. Скажу, что не видел в России ни единой горы. «Как же так, неужели нет ни одной?!» — всплеснет руками мой сосед — крестьянин, не ездивший дальше Аарау. Я сейчас уже вижу лица и других слушателей: как же так — жить без гор?! Скажу еще, что в России я человек известный — нас с Петром снимали на телевидении. Я думаю, непременно меня пригласят и в соседнюю деревушку, в крестьянский клуб. У нас ведь очень немного знают о Советском Союзе».
…Петр Ильич постарался показать другу все, о чем когда-то ему рассказывал, чем сам гордился, что полагается показать желанному гостю. Он и сам встряхнулся в поездках, что же касается Карла, то он переполнен был впечатлениями — «Мне кажется, все происходит со мною во сне». В ряду всего, что задержало внимание и поразило, Карл вслед за Кремлем, Эрмитажем, могилой Шевченко, образцовским театром кукол назвал лягушек, которых услышал в первый же день пребывания в Киеве, на Днепре. «В Швейцарии, в наших местах, их давно уже нет. Я слышал их только в детстве».
Поразило его пение соловья у Петра Ильича под окном. «Об этой птице я знал, но никогда не слышал ее». Поразил аист, летавший низко над камышами во время нашей беседы возле костра. «В Швейцарии этих птиц осталось несколько пар. В нашей красивой Швейцарии дикой природы почти не осталось».
По привычке профессиональной Карл все, что видел, старался запомнить в русском названии. Возле костра у Днепра он спрашивал то и дело: «А это как?» В конце дня я попросил прочесть страничку слов из тетрадки. Он прочитал: лещ, трясогузка, костер, удочка, сено, поляна, квас, весло и — с пометкой «грузинское слово» — чача… Переводчика у друзей не было. Петр Ильич, к своему удивлению, сразу же вспомнил приобретенный в печальное время немецкий, а Карл, слушая русскую речь, говорил: «Я понимаю… Я почти понимаю…»
Из множества фотографий — встреча, поездки, застолье, беседы, проводы Карла — я выбрал вот этот снимок не очень удачной рыбалки. Мы видим тут наших друзей, по-детски счастливых от того, что жизнь на заключительных ее верстах поднесла им подарок, лучше которого не бывает, — такую вот встречу.
Жаркий июньский вечер. Летают стрекозы, ходит по мелководью аист, ловит на песке комаров трясогузка… Швейцарская газета, пересказавшая по «Комсомольской правде» историю дружбы Петра и Карла, назвала ее «Пять актов человеческой сказки». История правда похожа на сказку. Однако все это быль — война, лагерь смерти, побег, начало дружбы, память и эта вот встреча, — быль, трогающая наше сердце. «Вот так люди должны бы жить!» — сказал на проводах Карла один из друзей Петра Ильича. И это естественное, насущное желание человека.
В нынешней круговерти страстей, отчуждений, сознательно раздуваемой злобы, угроз, в атмосфере общей для всех тревоги две этих судьбы, две песчинки в человеческом океане показывают нам лучшее, что есть в людях: способность обнять друг друга на ветру жизни, не дать поссорить себя, стать рядом перед угрозой общей вполне реальной беды.
Фото автора. 23 июля 1981 г.
Воды!
(Окно в природу)


От жажды страдают не только люди… В пустыне приземлившийся самолет был потным, как бутылка, вынутая из холодильника. По нему на бетон стекали струйки воды. Аэродромные собаки это явление хорошо знали и сбегались лакать «небесную воду»… Нынешним летом я видел, как аист, прилетая к гнезду, выливал на птенцов в зобу принесенную воду… Я видел, как, мучаясь жаждой, теряли всякую осторожность куланы — шли к водопою при явной опасности…
В сухое лето 72-го года мы наблюдали ежа, приходившего пить из плошки, какую ставили во дворе курам. В тех же местах у Оки я снял куницу, искавшую, почти не страшась человека, влагу в воронке большого гриба…
И две картинки текущего лета — пчелы, льнущие к крану с водой, и гуси, подолгу стоящие у колодца в ожиданьи, что кто-то придет за водой…
Если бы звери и птицы в большую жару вдруг заговорили, первым бы словом было: «Воды!»
Фото В. Пескова и из архива автора.
24 июля 1981 г.
28-е лето
Удивительной прочности эти камеры от самолетных колес! Послужили сколько следует авиаторам и уже двадцать восемь лет служат вот этой необычной флотилии. В августе воздух из камер спускают, а приходит новое лето — надувать их готовы воздухом собственных легких, так велико нетерпенье увидеть на воде плот.
Спуск проходит в верховьях Волги, у Большой Коши, куда грузовая машина доставляет продукты, настил и камеры для плота и самих речников. Полдня работы — и плот готов!
Не «Кон-Тики», конечно, не «Ра», но Гек и Том Сойер на Миссисипи такого плота не имели.
Тридцать шесть резиновых камер держат восемь тонн груза. Все помещается на плоту — экипаж (тридцать матросов и Адмирал), ящики, рюкзаки. В последние годы в кильватере основного плота ходит еще и грузовой плотик с картошкой, репчатым луком, консервами и кое-каким добавочным снаряженьем.
Вблизи Селигера поднимают на плоту парус и флаг с эмблемой — «птичьи птенцы в ладони у человека», и путешествие начинается.
Несколько лет назад я писал об этой удивительной экспедиции, снаряжаемой в 717-й московской школе учителем и наставником ребятишек Николаем Николаевичем Щербаковым.
Что изменилось с тех пор? Ничего, к счастью, не изменилось! Все тот же плот, прежний на плоту Адмирал (он же Ник-Ник), маршрут по Волге, по лучшей, самой живописной части ее, все тот же. П степенно меняется лишь команда. Кончая школу, уходят «старики-плотогоны». И каждый год появляются десять — пятнадцать «салаг» — мальчишек тринадцати лет, которых (пусть не пугаются мамы) «крестят» в самом начале похода — бросают в Волгу с плота. И начинается жизнь, о которой потом в письмах уже взрослые люди признаются наставнику-Адмиралу: «Плот — это лучшее, что было в моей школьной жизни».
И это легко понять. Школа многому учит. Но везде ли учат юного гражданина не бояться воды, темноты, тесноты, дождя, комаров? Везде ли учат, как ставить палатку, управлять лодкой, чинить в походе одежду и обувь, готовить еду на костре, дежурить ночью, ориентироваться в лесу, сообща преодолевать препятствия, находить хорошую для питья воду, знать в лесу основные хотя бы породы деревьев, знать, что съедобно, узнавать птиц и зверей? Нет, этому школа чаще всего, к сожаленью, не учит. Уже взрослые люди, столкнувшись с несложными неизбежными испытаниями, с горечью сознают: «Это не проходили».
На плоту же как раз все это «проходят». Да нет, «проходить» это было бы скучно, неинтересно. На плоту живут, как и полагается жить в походе. Тут все интересно и увлекательно. Тут есть где себя проявить, отличиться, но можно заработать, конечно, и «чистку бачка» из-под каши (суровое наказанье!), и вахту возле костра в самое трудное время — с часа ночи до четырех.
Но при чистке бачка можно увидеть, как собирается к берегу мелкая рыба, как пикируют на воду чайки. А к костру ночью неслышно приходит еж, летают какие-то странные птицы, ухают совы… Даже двухдневное путешествие в детстве иной человек помнит всю жизнь. Тут же сорок пять дней с заботами, играми, приключениями. А некоторые плавают на плоту три-четыре лета подряд. Такое везение в детстве!..
Неделю назад, получив телеграмму: «Стали лагерем у Зубцова…», я не смог удержаться и поехал на Волгу глянуть на плот, повидаться с его Адмиралом и всей командой.
Застал я команду на шестом по счету причале у местечка Попова Заводь. Трещали кузнечики.
Шмели собирали в приволжских травах летние сладости. Плотогоны во главе с Адмиралом паслись по-над Волгой в малинниках. Часть команды ушла на разведку ручьев и лесных муравейников. Трое мальчишек возились с приборами, измеряли скорость течения Волги. Трое дежурных готовили ужин. Возле костра сидела мамаша одного из мальчишек. (Приехала специально увидеть: жив ли, здоров ли отрок?) Сын чистил картошку, демонстрируя маме уменье, какого дома не наблюдалось.
Вечером перед ужином все искупались. Потом гомонили возле огня, обсуждали происшествия дня, ударяя по животам, вспоминали пастьбу в малиннике, показали гостю целый картуз стреляных гильз, найденных в окопе над Волгой.
А в одиннадцать дежурный дернул веревку до блеска натертого колокола, и сразу же лагерь притих. У костра осталась смена дежурных и потевший над дневником-бортжурналом плота «летописец». На вопросы о приключениях «летописец» почти с наслажденьем сказал: «Приключения?.. Были…» И показал запись 7 июля.
В этот день на трудном участке пути сломалась мачта, сломалось рулевое весло, но самое главное, дежурные зеванули грузовой плотик.
Ночью его унесло. Искали плотик и тянули вверх по теченью много часов. «Во! И все в один день, — сказал «летописец». — А сегодня — малина!
Ну ели. Ну заболел у Моршанина Гошки живот. Ну гильзы еще нашли… Записывать нечего».
«Летописец», простившись, полез в палатку…
Далеко за полночь сидели мы у воды с самим Адмиралом. У Николая Николаевича это двадцать восьмая летняя вахта. Вздохнул:
— Наверное, последняя — годы, фронт за плечами, семья внимания требует. И хоть очень люблю я эту компанию — тяжело! Их тридцать.
И беру всяких: и «легких», и «трудных», был бы лишь пропуск — «умею плавать!» Одни матери молят: возьми ради бога, другие трясутся: а вдруг какой случай? Я же двадцать восьмое лето живу с ними так, как будто случаи эти вовсе не существуют. И даже ни полслова кому-нибудь об ответственности…

Не «Кон-Тики» и не «Ра», но Гек и Том Сойер такого плота не имели.

По тихим водам.
Николай Николаевич помолчал, зная, что собеседник вполне понимает и меру его ответственности, и все, что связано с почти отцовскими заботами об этой любознательной, еще не окрепшей как следует ни телом, ни умом ребятне.
— Но знаю, как это нужно! И каждый год соглашаюсь. Не могу отказать… Первый раз мы плыли в этих местах в 1953-м. На бакенах были тогда керосиновые лампы, ходили тут колесные пароходы «Добролюбов» и «Чернышевский», на маленьких речках, впадающих в Волгу, было много водяных мельниц, и много стояло деревенек по берегам. Сколько воды утекло! Первым моим «морякам» по сорок уже. Уже своих ребятишек растят. Один пишет: «Возьмите, Николай Николаевич, сорванца. Сладу с ним нету». Вот ведь какая вера в наш плот…
Утром была побудка все тем же гулко звучащим колоколом. Ранняя, в шесть часов.
Зарядка, завтрак, мытье посуды. И вот уже лагеря как не бывало, только примятые травы на берегу. Парус на плоту поднят. Все на плоту уместились. И движется плот. За ним поодаль — грузовой плотик с тремя пассажирами…
Я успеваю подняться на высокий, лесом поросший берег. Успеваю помахать картузом и крикнуть: «Счастливо!» Услышали! Ответно прозвучал колокол, и закачался на высоком штоке флажок с эмблемою «солнце и птенцы на ладони»…
В самом начале августа плот прибывает на конечную остановку. Приедут к Волге родители ребятишек. Будет прощальный костер.
Николай Николаевич, как всегда волнуясь, сбивчиво скажет речь у костра. И разъедутся ребятишки от Волги, загорелые и беспечные.
Чувство большой благодарности придет к ним позже, когда узнают, что почем в этой жизни, когда сами станут отцами, когда поймут, как это важно — мужчине расти мужчиной.
Фото автора. 7 августа 1981 г.
Ельня
Маленький городок на Смоленщине отмечает славную дату своей истории. Тут в 41-м году в жестоких боях родилась советская гвардия.

Памятник рождению гвардии…
* * *
Кружочек Ельни вы найдете на карте юго-восточней Смоленска. Обратите внимание: Ельня — перекресток дорог и место, откуда берут начало многие реки. Синие хвостики убегают от Ельни на карте в разные стороны. Десна и Остер текут на юг, Хмара — на запад, Устром и Волость — на северо-запад, Ужа — на север, Угра — на восток. Ельня стоит в центре возвышенности. Верховые болота соседствуют тут с холмами.
Густая зелень низин оттеняется желтизною ржаных и овсяных полей. Лесов, вопреки ожиданию (Ельня!), немного. Леса кудрявые, невысокие — ольха, береза, осина. Но Ельня не зря имела на гербе три ели. Город родился в гуще еловых боров. Главным богатством края были «леса и глина». На шумные ярмарки в Ельню съезжались колесники, бондари, гончары, лыкодеры. Ель затрещала под топором, как только легла через Ельню рельсовая дорога. Старожилы еще помнят лесопромышленников Левыко и Сухино, «ставивших бочки вина мужикам» и гнавших здешнюю ель в степные районы, на Орел и Козлов.
Леса валили и после войны. Маленький город война спалила, сровняла с землей. Лес рубили на местные нужды и для лежавшего в пепле Смоленска. Так постепенно лесная Ельня стала городом полевым.
Городок этот древний (упомянут впервые в 1150 году), но искать старины тут не следует. Война поглотила и камень, и дерево. От Ельни осталось лишь место, где заново («начинали с землянок») был выстроен городок. Роль архитектора в этой застройке — «не до жиру, быть бы живу» — была очень скромной. «Мы вторые за Ленинградом: посмотрите, улицы все — по линейке», — улыбнулся мой провожатый.
И все-таки есть в городке милая прелесть небогатого, глуховатого, однако прочно обжитого и щедро озелененного места. Единственный пятиэтажный дом выглядит тут небоскребом.
Все остальные постройки укутаны липами, тополями, кленами и березами. Вдоль улиц посажен шиповник. За заборами во дворе желтеют подсолнухи, синеют капуста, головки мака, пахнет укропом, помидорной ботвой, смолою от накаленных солнцем колотых дров. С забора тебя провожает глазами ленивый, не понимающий, что живет не в деревне, а в городе, кот.
По части «окружающей среды» все тут пока что благополучно. Ельня варит сыры, шьет из хлопковой ткани рубашонки и ползунки для детишек, снабжает поредевшее гужевое хозяйство России телегами и санями.
Все вместе взятое производство не отравляет воздух, не загрязняет текущую через город Десну, не создает шума, однако ничего почти не дает в коммунальный кошель городка.
И местные власти находятся на распутье: заманчиво залучить, посадить в городке какое-нибудь предприятие — будут места для работы, будут городские удобства. Но, наезжая в соседние городки, власти не могут не видеть: за удобства в домах заплатить придется «средою».
И пока что обозный завод (200 рабочих, в год — 8500 телег) — основное предприятие Ельни, которого местный музей почему-то стыдится: на стендах представлена вся городская продукция, исключая телегу. А между тем заводик из семнадцати ему подобных на самом хорошем счету в государстве — «низкая себестоимость изделий, сносное качество, умение сделать телегу по любому заказу». Директор завода назвал мне больше десятка фильмов, в которых снимались повозки прежних времен либо целый обоз из телег, специально сработанных в Ельне…
Среди знаменитых людей, либо живших в этом краю, либо посетивших Ельню в исторически важное время, вам назовут фельдмаршала Кутузова, маршала Жукова, композитора Глинку, поэтов Исаковского и Твардовского… Исаковский в здешнем уезде родился, два года редактировал ельнинскую газету и до смерти сохранил нежность к этой земле — «Край мой смоленский, край мой родимый! Здесь моя юность когда-то бродила». Твардовский рожден и крещен был в здешнем краю, учился тут грамоте, написал первые стихи и уже знаменитым много раз приезжал в Ельню. «Страну Муравию» впервые прочитал здесь. Писал позже о том, что Никиту Моргунка встретил на шумной ельнинской ярмарке. И родиной главного своего героя Василия Теркина он тоже считал окрестности Ельни. Вспомним поэму (Теркин с боями идет по родной стороне: «Здравствуй, пестрая осинка, ранней осени краса, здравствуй, Ельня, здравствуй, Глинка, здравствуй, речка Лучеса…»
Восемь веков истории Ельни в тихих еловых лесах тихими не были. Великие бури накрывали маленький городок. Сюда дотянулась рука ордынского хана, позднее Ельня попала под иго Литвы и Польши, множество раз сжигалась и разорялась. В партизанской войне с войсками Наполеона здешние чащи укрывали Дениса Давыдова. Но главное испытание и громкая слава выпали Ельне в веке текущем, в 41-м его году.
На генеральных картах штабов немецких и наших в августе 41-го года район, прилегающий к Ельне, считался важнейшим и напряженным пунктом войны. Шло драматическое смоленское сражение. В этом районе фашистская армия, наступая, несла большие потери и в конце концов, хоть и временно, забуксовала, остановилась.
«Это был… первый в истории Второй мировой войны случай вынужденной обороны гитлеровских войск на главном стратегическом на правлении» (Г. К. Жуков, «Воспоминания и размышления»).
Глядя сейчас на карту фронтовой обстановки тех дней, даже и не военный человек сразу заметит юго-восточней Смоленска выступ фронта, обращенный прямо к Москве. По обводу этого выступа (десятки километров в ширину и длину) ни на минуту не утихали бои. «Позднее стало известно, что, ссылаясь на тяжелые потери, командование группы армий «Центр» просило у Гитлера разрешения оставить ельнинский выступ. Но гитлеровское руководство эту просьбу отклонило: район Ельни рассматривался как выгодный плацдарм для нанесения удара в дальнейшем наступлении на Москву» (Г. К. Жуков).
В Москве значение выступа тоже вполне понимали. Читая воспоминания маршала, мы чувствуем драматизм и крайнюю сложность обстановки тех дней. Ельнинский выступ был только частью проблем, при оценке которых мнения Сталина и Жукова не вполне совпадали. После крутого, нелегкого разговора Жуков сказал, что хотел бы быть в действующей армии. Эту просьбу его, освобождая с поста начальника Генерального штаба, Сталин удовлетворил с поручением руководства войсками Резервного фронта в верховьях Днепра и ликвидации выступа.
Вот так по-лучилось, что Ельня стала местом первого испытания полководца. На склоне лет, давая оценку всему пережитому, Жуков писал: «Ельнинская операция была моей первой самостоятельной операцией, первой пробой личных оперативно-стратегических способностей в большой войне с гитлеровской Германией.
Думаю, каждому понятно, с каким волнением, особой осмотрительностью и вниманием я приступил к ее организации и проведению».
Ельнинскую возвышенность со многими ее высотами немцы превратили в хорошо укрепленный район. По фронту и в глубине обороны в землю были зарыты танки, артиллерия, штурмовые орудия, низины между холмами перекрывались пулеметным и минометным огнем, были густо минированы, затянуты колючей проволокой. Непрерывные, но неуспешные попытки нашей 24-й армии сдвинуть противника стоили многих потерь, войска были измотаны, обессилены. Нужны были сильная воля и вера в победу, способность внушить командирам и всем, кто дрался у выступа, возможность успеха.
Военные историки хорошо теперь изучили эту не очень большую в масштабах войны, но очень важную на фоне событий лета 41-го года операцию. Времени на ее подготовку было немного — менее двух недель. Но сделано было все возможное для успеха: намечен план операции (два встречных удара в основание выступа), втайне группировались войска, тщательно были разведаны огневые точки врага, инженерные сооружения, выявлены слабые и сильные стороны обороны.
Решительное сражение началось 30 августа и длилось, не затихая, по 8-е число сентября.
Не быстро, по километру, по два за сутки, атаковавшие двигались в глубь обороны врага, и скоро немцы поняли, что взяты в клещи. Бои тут были кровопролитными, потери большими с обеих сторон. «Противник противопоставил нашим наступавшим дивизиям хорошо организованный плотный артиллерийский и минометный огонь. Со своей стороны, мы также ввели в дело всю наличную авиацию, танки, артиллерию и реактивные минометы» (Г. К. Жуков).
Пытаясь спасти положение, немцы спешно двинули к Ельне отборные свежие силы. Но ничего не могло уже остановить порыв наступавших. И, пожалуй, впервые немцы не только узнали мужество противника, но и почувствовали «грамотную войну» — наступавшие хорошо взаимодействовали, умело маневрировали, точно вели огонь, захватив орудия, били врага его же снарядами и готовы были сомкнуть уже клещи первого за войну окружения.
В узенький коридор немцы еле-еле успели вывести остатки потрепанных войск. 6 сентября наши первые батальоны ворвались в Ельню, а два дня спустя с ельнинским выступом было покончено. Потери наши в этих боях были большими, но и немцам это сражение стоило более 45 тысяч солдат.
Радостным в горькое лето 41-го года был этот успех под Ельней. Появилась точка опоры в оценке наших возможностей. Убедительно было доказано: можем не только обороняться, можем уверенно наступать, можем гнать немцев, брать в окружение, можем воевать не только самоотверженно, но и умело, талантливо.

Закаты под Ельней бывают тревожными, словно помнят всполохи войны.

Поле боя стало мирным полем.
Ельнинская операция родила много героев.
Нынешнему читателю мало что могут сказать номера полков и дивизий, штурмовавших холмы под Ельней. Но на этом вот цифровом перечне внимание надо остановить. Дивизии 100-я, 127-я, 107-я и 120-я дрались под Ельней особо успешно. Жуков, вернувшись в Москву, доложил об этом Главнокомандующему. «Сталин внимательно слушал и что-то коротко заносил в свою записную книжку, затем сказал:
— Молодцы! Это именно то, что нам теперь так нужно» (Г. К. Жуков).
В сентябре приказами народного комиссара обороны СССР перечисленные дивизии были поименованы гвардейскими. Так родилась советская гвардия. Это звание, отличаясь в боях, получили потом тысячи соединений сухопутных, авиационных, морских. От гвардии старой России и многих стран («привилегированные, отборные части войска») советская гвардия отличалась тем, что только испытание боем, доблесть в сражении давали право воину называться гвардейцем. И привилегия новой гвардии была лишь одна — быть впереди в грядущих боях. Свои знамена гвардейцы донесли до Берлина. А зачиналась эта мощная сила на холмах Ельни.
Смоленский городок с гордостью носит звание родины гвардии. В самом центре его стоит обелиск, напоминающий о событиях лета и осени 41-го года. В местном музее — реликвии битвы за Ельню, портреты героев. Среди них мы видим и маршала Жукова. Он по праву считается первым в первой шеренге гвардейцев.
Его авторитет полководца по возвращении из-под Ельни укрепился и вырос. Ставкой Жуков был сразу же послан на новый, крайне тяжелый участок фронта — под Ленинград. И в ту же осень была московская битва… Многие города считают Жукова почетным своим гражданином.
И Ельня тоже. Среди экспонатов музея рядом с истлевшими в земле пулеметами, штыками, осколками бомб и снарядными гильзами лежит рубашка с полевыми погонами маршала. Она прислана Жуковым в Ельню незадолго до смерти.
В Ельне я увиделся с человеком, который тут воевал. Им оказался пулеметчик 107-й гвардейской дивизии Иван Федорович Неудахин.
Для этого уроженца Сибири Ельня с 41-го года стала судьбою. Тут в жестоких летне-осенних боях он отличился. Был ранен. Воевал потом под Орлом, у Тулы, под Москвою у Рузы, на Калининском фронте под Ржевом. После второго ранения в госпитале санитарка (тоже раненая) сказала потерявшему глаз пулеметчику: Иван, а поедем-ка в Ельню, ко мне на родину. И они поехали в Ельню в 43-м году. «Имущество: у нее шинель и юбка, у меня шинель и штаны. И дите на руках. Жить начали во фронтовом блиндаже. Через год срубили избенку».
И вот почти сорок лет Иван Неудахин живет и работает в Ельне. В первые годы был трактористом — заготавливал лес на строительство в тех же местах, где лежал с пулеметом. «Подорвался в лесу на мине. Трактор списали, а я оказался живучим». Строил гвардеец в Ельне сыроварный завод, работал в школе завхозом, «на почте служил ямщиком» — развозил газеты, посылки и письма по дальним ельнинским деревням. Вышел на пенсию. Но последние годы снова работает, возглавляет районный ОСВОД (Общество спасения на водах). «Сам себе и начальник, и подчиненный — одна штатная единица».
Характер у бывшего гвардии пулеметчика остался солдатским, причем с чертами Василия Теркина и того солдата из сказки, который суп из топора сварит и огниво добудет, несмотря на препятствия. Над фамилией своей Иван Федорович посмеивается. «Неудахин… А я как раз удачлив во всем. Все превозмог, — говорит он с гордостью, на какую имеет полное право. — Землю свою защитил, сына вырастил, внуков вынянчил и пока еще хоть куда — хоть по ягоды, хоть по орехи».

Спасибо тебе, солдат…
Лето и осень 41-го года — особая часть «ельнинской биографии» Неудахина. И он ничего не забыл из пережитого тут. На «газике» мы поехали по деревням, окаймляющим город, точно следуя карте кипевшего тут сраженья. Но солдат и без карты помнит все бугорки и лощины, политые кровью. У деревни Ушаково он показал оплывший окоп и место, где стоял его пулемет.
«Высотка с деревней восемь раз переходила из рук в руки. Дрались врукопашную лопатами и штыками. Я тут много патронов спалил. Наши лежали на склоне снопами, но и немцу мы показали кузькину мать. Он с неба гвоздил самолетами, а мы полыхнули «катюшей».
Опираясь на палку, Иван Федорович ведет меня вдоль заросших траншей на высотке.
«Отсюда на семь километров все видно. И на семь километров почти по кругу вся местность простреливалась. Железа тут!..» Подрезаем лопатой уже задерненную землю, и на ладонь вместе с божьими коровками и муравьиными яйцами падают ржавые гильзы, осколки бомб и снарядов. «Семьсот жизней стоила эта высотка. Все лежат вот тут, под березами…»
У деревни Садки Иван Федорович показал место, где полз с пулеметом из оврага по полю к деревне Митино. «На этом вот месте стоял сарай. Оттуда немец ударил из пулемета. И две мины, помню, сзади меня взорвались. Вот следы, посмотрите». Два места, где сорок лет назад взорвались мины, обозначены на траве кругами темно-зеленой крапивы и лебеды. В воронках от бомб на склоне оврага, как в плошках, растут высокие ольхи. В сосне наверху — осколок снаряда. И такие следы у каждой деревни, где сжималось кольцо окружения немцев…
«Под Орлом я едва не заплакал, когда узнал, что Ельню мы снова отдали. Думал: за что же там полегли? И только потом рядовым умом своим понял: очень важной, очень нужной была наша стойкость под Ельней».
Иван Федорович не первый раз проходит местами боев. «Сначала самого любопытство брало: что там и как? Потом водил военных историков. Приезжали однополчане. В прошлом году приехали земляки из Сибири, сироты из детдома: покажи, дядя Ваня, где воевал. Все показал. Приютил детишек у себя в доме. Вместе в земле покопались, нашли в ней кое-что для музея. Сам я тоже Сибирь навестил. Встретил там своего командира Батракова Матвея Степановича. Старый уже. Обнял меня: Ельню, говорит, никогда не забуду! У него, между прочим, за Ельню и знак гвардейца, и Золотая Звезда».
Этим летом Ельня жила двумя новостями. Новость первая и большая: город, где родилась гвардия, награжден орденом Отечественной войны. Новость вторая, небольшая, но трогательная: неожиданно и впервые в истории города в самом центре его, в городском парке загнездилась парочка аистов. И где загнездилась — на самом верху монумента гвардейцам! Городские власти попали в трудное положенье. С одной стороны, милые сердцу птицы, с другой — гнездо-то на монументе.
Решили было гнездо передвинуть на специально поставленный столб. Но столб кто-то ночью распилил и унес. Позвонили в Смоленск: как быть? Там сказали: решайте сами… Судили-рядили, спорили, а аисты между тем гнездо достроили, вывели в нем птенцов и стали любимцами ельничан. Человеческое чувство воедино соединило и птиц, и монумент, и вести об ордене Ельне. Поток людей к монументу был небывалым. Старушки видели в аистах знаки памяти о погибших, молодежь собиралась фотографировать птиц, матери приводили к монументу детей. Приехал скульптор и, говорят, прослезился: «Это же замечательно!»

Аисты над полями боев.
В Ельне я был в момент, когда аисты-старики парили над городом, а две молодые птицы уже пробовали крылья в гнезде. На дорожках парка ельничане оживленно гадали: улетят птицы или останутся до момента, когда в город съедутся гости? Всем хотелось, чтобы остались.
В августе Ельня готовилась принять награду, готовилась почтить мужество тех, кто сражался за город в суровом 41-м году, готовилась отметить славную годовщину рождения гвардии.
Два слова: Ельня и Гвардия в истории нашей армии неразрывны.
Фото автора. 30 августа 1981 г.
Дон в колыбели
(Проселки)
— Скажи-ка, Лена, где течет Дон?
— В Ростовской области, там, где Шолохов, — сказала, минуту подумав, девятиклассница…
При слове «Дон» мы все представляем себе широкую реку с казачьими станицами по берегам и с жизнью, знакомой по «Тихому Дону».
Литературный образ реки стирает школьные знания географии, и нам кажется: Дон течет только в «донском казачьем краю», что он всегда тихий и от рожденья большой. Ростовчане, живущие в самом низовье реки, места у Вешенской называют Верхним Доном. Между тем Вешенская — это среднее течение Дона. Взгляните на карту — хвостик реки мелькает почти в Подмосковье, на тульских холмах, и до первых казачьих станиц путь Дона лежит по землям тульским, липецким и воронежским.
Проезжая в прошлом году на Куликово поле, я был поражен, увидев у тощей степной речушки дорожную надпись Дон. По речке плавали гуси, мальчишки, стоя в воде по колено, удили пескарей. Я сразу вспомнил низовье реки, где, подобно гусям, плывут по тихой воде белые пароходы, где еще ловятся осетры и где лишь хороший пловец решится одолеть реку. То был «хрестоматийный», прославленный Дон, на рисунках изображаемый в образе казака в шароварах с лампасами и с усами из пшеничных колосьев. Тут же, на тульской земле, я видел худощавого мальчика, которому предстояло одолеть тысячу верст пространства, прежде чем стать казаком.
Нашим предкам времен Куликовской битвы нижний Дон был почти что неведом. Верховье Дона было для них границей, отделявшей обжитую землю от Дикого поля. Беды и разоренья, подобно пожарам, шли на Русь из-за Дона. В верховьях реки состоялась решающая историческая схватка со степняками, однако долго еще и после княженья Дмитрия Донского река оставалась пограничьем Руси. И сословие казаки тут зарождалось из храбро-отчаянных хлебопашцев, «державших одной рукой соху, а другою — ружье». По Дону к Азову плыл построенный на Воронеже изначальный российский флот. На памяти нынешних поколений донская вода каналом соединилась с волжской…
У переправы на тульской земле я бросил в реку спичечный коробок и представил путь его до Азова. Тысяча девятьсот километров!
И почти всюду эта дорога была по степям. Всюду река открыта ветрам и солнцу. Притоки в верховьях водой небогаты, и силу река набирает с трудом и не сразу. Теченье, в верховьях достаточно резвое (наши предки называли Дон «быстрым»), становится медленным, и уже в липецких землях Дон равниною укрощен. Слово «тихий» к нему подходит вполне.
У Лисок (нынешнее название городка — Георгиу-Деж), помню, появлялась на Дону первая пристань. И далее вниз шли уже пароходы. От Лисок до Вешенской Дон может хвастаться красотою. Тут он течет то в меловых кручах, то в дубовых густо-зеленых лесах, выходящих к нему из степи, то в лесах пойменных, непролазных и непроглядных. Я, помню, плыл осенью в этих местах. Ветерок с берега приносил запах хмеля, запах диких лежалых груш, опавших дубовых листьев. Это был запах Дона, знакомый по знаменитой книге.
Ниже река впечатляет уже не красою, а силой. Большая вода неспешно течет степями к столице Дона, к Ростову. А там рукой подать уже до Азова, до устья, где в камышовых дебрях не сразу поймешь, где река, а где уже море. Тут, петляя на лодке по тихим пространствам воды, невольно думаешь о начале ее, о месте, где река зачиналась…
Исток у Дона не окружен тайной. Иные реки берут начало в непроходимых болотах, в малодоступных замшелых лесах, в ледяных расщелинах гор. Колыбелька реки почти всегда, как будто нарочно, упрятана, увидеть ее дано не каждому.
С Доном все обстоит иначе. Его исток мы нашли в шумном промышленном городе. Нашли в полном смысле под ногами людей.
Город Новомосковск — заметная точка на карте. И синяя жилка реки именно тут появляется.
— Можно ль увидеть, где начинается Дон? — спросили мы с другом парня, чинившего возле дороги автомобильное колесо.
— О, это просто! Езжайте автобусом, потом на трамвае…
Не менее часа мы колесили по городу, пока кондуктор назвал остановку: «Березовая роща! Кто спрашивал про исток Дона, выходите!»
Мы вышли и увидели городской парк — река людей, скамейки, деревянные терема для детишек, киоски с мороженым… Под дубами, возле дорожки, покрытой асфальтом, затейливый столбик нес наверху надпись: «Исток реки Дон». Все основательно — столб металлический, буквы резаны из металла… Но где же река? Под ногами сухо — асфальт, в ста шагах за забором — городская шумная площадь. Ищем хотя бы след от воды… Вот он! — трава, непохожая на растущую в парке зелень, узенькой лентой тянется от асфальта. Пониженье — и видим осоку, сначала робкие кустики, потом грива осоки, потом уже космы водолюбивой травы. Но воды еще нет. Тропа-переход через травы сухая. Еще полсотни шагов — чувствуем запах сырого места. И вот они, первые блестки — вода! Она еще не течет. Она робко сочится из потного русла. Ржавый кружочек воды. Упавший лист дуба почти целиком его накрывает. Но солнце уже отразилось в крошечном зеркальце, зяблик, присевший возле травы, может напиться из водяной лунки.
И вот уже не отдельные блестки, а полоска воды показалась из трав. Теченье еще незаметно, ширина — один шаг, даже старушка, опираясь на палку, одолела преграду… А вот уже и дощечка положена через воду, вот первый мосток, явно великоватый для тощего ручейка, — точь-в-точь шапка взрослого человека на мальчике.

И не поверить, что могучий Дон начинается здесь.
А дальше — запруда, и сколько ни есть воды в ручейке с названием Дон, перед запрудой она выглядит озерцом. И в озерцо глядятся двенадцать из бревен тесанных казаков в латах, с копьями и секирами, глядятся чугунные пушки и горки ядер. Так город Новомосковск обозначил свою принадлежность к великой реке. Суждено было вырасти городу на самом ее истоке. И потому колыбель Дона у всех на виду, освещена электричеством, над ней постоянно слышны голоса и шаги, звоны трамваев, музыка из приемников, молодой смех и стариковские вздохи. Такое у Дона начало.

Так река набирает силу.
Из Новомосковска река пускается в древний путь до Азова. Чего только нет на ее берегах!
Угольные шахты (сразу у Новомосковска и ниже, в Донбассе), поля хлебов на всем пути от истока до устья, места сражений полузабытых и недавних совсем, от которых болят еще раны, атомная станция стоит на Дону под Воронежем, Цимлянским морем разливается Дон, соседствуя с Волгой, в меловых кручах у Белогорья увидишь пещеры, у Костенок — мирового значенья раскопки древнейшего поселения человека. Сотни речек, ручьев и немаленьких рек принимает Дон на пути к морю. Тысячи деревень, сел, хуторов и станиц приютили его берега. И есть у Дона преданный старожил, воспевший реку и большие страсти людей на Дону…
Нельзя перечислить всего, что помнит и видит река на пути к морю. И потому с волнением смотришь на ключик воды, дающий всему начало.
Фото автора. 24 сентября 1981
Бабье лето
(Окно в природу)


После первых осенних ненастий оно приходит как утешенье — теплые тихие сине-желтые дни, белая паутина на борозде, дневные росы в тени и летняя сухость на солнце, посветлевшие воды, просветленные дали… Бабье лето. Даже и в словарях встречаешь два эти слова о двух-трех погожих неделях в сентябре — октябре, которые дарит природа средним широтам земли (в Северной Америке — «индейское лето»).
Все в это время уже готово к движению в зимнюю даль. Но все как будто присело перед дорогой — собраться с мыслями, тихо взгрустнуть или в час-другой, встрепенувшись, доделать то, что было упущено в слякотный день. В садах жгут листья, на огородах скрипят капустой, у дома — стук молотка, на дорогах торопливая гонка машин, груженных картошкой и свеклой.
Пахнет нелетним дымком, дразнящей водной травою, дубовым листом, грибами…
«Бабье лето живет на опушке», — сказал однажды лесник, предоставив мне докопаться до смысла его поэтических наблюдений. А состоят они в том, как я теперь понимаю, что в пору погожего листопада нет места для глаз привлекательнее, чем граница леса и поля. Ты видишь даль, залитую солнцем, с зелеными полосами озимых посевов, с кораблями стогов, крышами деревеньки, и тут же у тебя над плечом золоченые стены царства деревьев. Прямых линий природа не любит. Граница леса и поля причудлива, как морской берег. Тут есть заливы и бухты, есть острова из берез, из огненно-красных осин, диких груш и боярышника. Кое-где в поле выступают дубы-одиночки, а в понижениях — ветлы и ольхи.
Тут, на границе света и тени, деревья как на витрине — одно к одному. Весной и летом опушка красками небогата — лишь зелень разных оттенков. Теперь же — буйство теплых тонов, узоры сосен и елок шиты по солнечной, светлой канве, а недра леса при золоченых воротах опушки особо таинственны и манящи.
Все живое в эти погожие дни потянулось из чащи к опушкам. Пищат синицы у трухлявого пня. Божьи коровки снуют по желтым коврам.
Облетая опушку, прокричал ворон. Скворец на дуплистой ветле поет так же самозабвенно, как в мартовский день. Сойка, не заметив людей, нырнула с верхушки ели, пытаясь в теплом стоящем воздухе изловить стрекозу. Почти до земли кувыркалась, но неуспешно. Большая стрекоза-коромысло, слюдой сверкая на солнце, продолжала неторопливый праздный полет.
Ветер еле заметный. Его выдает мерцающий трепет осиновых листьев да полет пауков на ослепительно-белых нитях. Плавно кружится в синеве коршун. Солнце просвечивает его маховые перья, и кажется, птица принарядилась к погожему дню.
Встречный грибник говорит:
— Бабье лето…
— Да, лето…
Больше говорить и не нужно. Главной радостью мы поделились…
День короток уже по-осеннему. И все же много еще успеваешь увидеть. Видишь кротовые свежие кучи возле болотца. Шумливая стайка щеглов опустилась на бурьяны. Три молодых статных лося перебежали поляну возле опушки. И, наконец, на пути уже к станции редкая встреча — кедровка! Размером с дрозда, длинноносая, в крапинках птица непугливо прыгает рядом с тропою. Я потратил катушку пленки, снимая залетную сибирячку. Подпуская человека на пять шагов, птица не проявляла ни малейшего беспокойства, деловито хватала в траве не знаю уж что — семена ли, козявок?
Кедровка в наших местах — нечастая гостья. За свою жизнь я видел ее раз пять. И всегда это было вот так же в погожую осень.
В электричке мы говорили об этой сибирской птице, о свинушках и сыроежках, о бабьем лете.
— А что это — бабье лето? — спросил вдруг мальчик, сидевший с охапкой кленовых листьев на коленях у бабки. — Это твое «бабушкино лето», да?
Явно довольная толкованьем хорошей погоды, бабка вздохнула, обращаясь к соседке:
— Лето — было и нету. Все как во сне: весна — осень, весна — осень… Как электричка, жизнь проскочила…
В тамбуре под заклинанье магнитофона «Ах, лето…» обнималась парочка в джинсах. Два грибника у двери, запуская руки в корзины, выясняли первенство по числу рыжиков. Мальчишка на коленях у бабки лукаво протянул контролеру кленовый лист. Контролер с нарочито серьезным видом разглядел лист на свет и деловито лязгнул компостером. Все засмеялись, стали советовать сохранить «проверенный» лист на память. И опять пошел разговор о грибах, об улетающих птицах, о том, о сем, о хорошей погоде и о том, что теперь уже со дня на день следует ждать и дождей.
Бабье лето… На языке синоптиков — это «устойчивый антициклон, регулярный в Северном полушарии в сентябре — октябре».
Фото автора. 7 октября 1981 г.
«А выстрел?..»
(Окно в природу)
Старая Пальма — работница. Ее дело: учуять, выследить дичь, подвести к ней на выстрел охотника. И она знает: взлетела птица — сейчас же бухнет двустволка. Хозяин частенько мажет, и Пальма вполне понимает: не каждый выстрел приносит добычу. Но если выстрел раздался, Пальма считает: собачье дело исполнено добросовестно…
Я собираюсь к болотам фотографировать уток.
— Возьми Пальму, — говорит лесник, занятый в этот день починкой сарая. — Пусть разомнется.
Для Пальмы каждый выход к болотам — праздник. Она, благодарная, бегает взад-вперед, а возле воды напрягается, сразу почуяв уток.
Утки кормятся ряской и взлетать не спешат. Пальма, приподняв одну ногу, неподвижно ждет, когда я, крадучись, подойду. И вот он, момент, волнующий сердце. Утка с кряканьем, с треском и плеском взлетает. В глазок фотокамеры вижу серебристые брызги, светлую полосу на воде от разбега и, кажется, вовремя успеваю нажать на кнопку. Еще пять уток взлетают над камышами. И тут я вижу недоуменную морду Пальмы: «А где же выстрел? Так близко были…»
Не объяснишь собаке, почему не пахнет дразнящим пороховым дымом и почему невредимыми взмыли утки.
Утешается Пальма скоро, как только подходим еще к одному бочагу. Опять она добросовестно делает свое дело, и я как будто не опоздал. Но опять вижу недоуменную морду: «А выстрел?» Так повторяется несколько раз, и Пальма, чувствую, начинает привыкать к бескровному состязанию с утками.
У лампы вечером обсуждаем итоги моей охоты. Лесник смеется, набивая патроны утиной дробью.
— Выстрелу полагается быть. Иначе испортим собаку…
Пальме тонкости нашей беседы неведомы. Она сладко спит у порога и тихо поскуливает. Очень возможно, что снятся ей улетевшие утки.

Фото автора. 14 октября 1981 г.
Птичья дорога
(Окно в природу)
На карте Союза это всего лишь желтая нитка у прибрежной синевы Балтики. С самолета, когда он идет на посадку в Калининграде, видишь полоску суши среди воды. Три цвета лентой бегут под крыльями: синий, желтый, зеленый — море, песок и лес. Ширина этой суши в среднем полтора километра. Длина немалая — чуть не сто километров. Еще не ступив на косу, предчувствуешь необычность всего, что увидишь. И предчувствие не обманывает.
Небоязливый лось стоит у дороги, исполненный достоинства и сознания, что он со всеми поровну делит тут территорию и чего ж ему опасаться. Кабаны тоже неторопливо перебегают асфальт, а есть такие, что прямо к машине бегут из леса и не страшатся из рук человека взять пищу — житье бок о бок без взаимных обид рождает доверие.
Сам лес, наклоненный постоянным давлением ветра в сторону суши, — тоже немалое чудо. Когда-то природа с усилием и терпением, трудясь непрерывно тысячи лет, опушила бесплодный песок зеленым воротником. Люди, придя на косу, соблазнились рубить этот лес на постройку домов и лодок, на утварь и на дрова. И были наказаны. Оголенный песок пришел в движенье, и никакая сила не могла его успокоить, остановить. Песком засыпаны были остатки древних лесов, засыпаны были четырнадцать человеческих поселений. Человек с косы не ушел, но был принужден ежечасно бороться с песком и ощутил уверенность, что победит, лишь начав сажать леса. Вырастить лес в новорожденной Сахаре — труд, не поддающийся описанию. Но лес все-таки выращен, и пески успокоились, задремали.
Есть места на косе, где мощью песков можно полюбоваться. Живописные горы песка называют дюнами. Тут они достигают рекордных высот — семьдесят метров! Песок под ветром подернут барханной рябью. Без удивления узнаешь: сюда приезжают снимать «пустынные кадры» для фильмов. Пустыня! Не хватает только цепочки верблюдов.
Но за горбами песка сразу же зелень, и тут же вода. Вода и пресная, и соленая. Слева, если ехать на север, бьется о косу Балтийское море, справа — серовато-зеленые волны неглубокого, теплого, богатого рыбой залива, в который стекает Неман.
В пресной воде попадается рыбакам легендарная прибалтийская рыба — угорь. Однако хозяйство здешних рыбацких артелей держится рыбой попроще — плотвою, окунем и лещом.
Зимой промысел окуня ведут и на удочку. («И работа, и удовольствие!» — сказал моторист рыболовного катера Иван Васильевич Тронников. Минувшей зимой он с двумя сыновьями выловил за день пятнадцать пудов окуней. Для подмосковного рыбака — сказка, четверть тонны за день на удочку!)
Все хозяйство косы — рыболовное. Собирают тут еще ягоды для домашних запасов, а грибы — промышляют. Этой осенью грибоварня в Рыбачьем едва справлялась с наплывом рыжиков и маслят…
Знаменита коса янтарем, который невесть откуда давно с поразительным постоянством приносят, швыряют на берег балтийские волны.
Время от времени находят в янтаре мошек, комаров, паучков, словно бы упакованных для посылки издалека, — в прозрачном камешке видно каждую лапку, каждую жилку на крыльях.
Ползал комарик по нагретому солнцем древу, увяз в потеке смолы… Когда это было? Голова кружится. Если представить — двадцать пять миллионов лет назад! Не чудо ли это послание из темноты времени, если присутствие на земле человека исчисляется всего лишь десятками тысяч лет?!
И, наконец, еще одно широко известное чудо Куршской косы — птичья дорога над ней.

Летят птицы от заката до рассвета.
* * *
Весной и осенью пролетающих птиц мы видим повсюду. Но есть места, где распыленная масса птиц стекается в некие русла, идущие над долинами рек, вдоль горных хребтов, над цепями озер, над морским побережьем. Часто эти пути и не очень заметны. Они подобны небесным проселкам. Но есть места на земле, где воздушные странники собираются особенно кучно и летят буквально рекой, поражая воображение человека. В Европе два таких места. Первое — полоса суши между Средиземным и Черным морями (многие птицы не могут долго лететь над водным пространством, им нужна суша с подъемной силой теплых воздушных струй для паренья, с остановками для кормежки). Второе место — коса на Балтике. Сюда, к побережью, множеством разных воздушных путей стекаются птицы с лесного пространства, лежащего аж до северной части Урала (Литва, Эстония, Латвия, области — Псковская, Ленинградская, Вологодская, Архангельская, Коми АССР. В этот поток вливаются также птицы Карелии, Финляндии). Отправляясь на зимовку в Африку и в более теплые части Европы, они держатся юго-западной линии и у Балтики, достигая края земли, этим краем и продолжают лететь.
Коса (самая крайняя полоса суши) в точности совпадает с направлением их полета, а воздушный поток над песками и близость воды с двух сторон создают особо благоприятные условия для полета. И можно тут задержаться — подкормиться, передохнуть. Бывает, что над косой за сутки пролетает до миллиона птиц.
Высота разная. Чаще всего летят высоко (от шестисот метров до трех километров). Птицу размером с оседлого нашего воробья глаз различает лишь метров за двести, да бывают еще туманы и низкие облака, поэтому птичью стаю нередко не видишь, а только слышишь. Но часто ветер прижимает странников к самой земле. Летят очень низко над дюнами, над кустами и лесом.
Летят и ночью, и днем. Теперь уже установлено: одни (их больше) приспособлены к путешествиям ночью, другие летят только в светлое время. Летят в одиночку и стаями, снизу похожими на огромную частую сеть или даже на облако. Летят птицы малые и большие, от лебедя до крошечных корольков (пять граммов веса!). Лететь начинают уже в конце лета — кукушки, стрижи, иволги. (Теплолюбивые птицы. Последними прилетают, первыми улетают.)
Наивысшая плотность пролета — конец сентября, первая треть октября. За мелкими воробьиными (мухоловки, синицы, скворцы, чечетки, зяблики, жаворонки, вьюрки, чижи, корольки, завирушки, пеночки, трясогузки) летят птицы-хищники: за теми, кто путешествует днем, — ястреба, за теми, кто ночью, — совы. Иногда отдельные виды смешиваются в одну стаю, но чаще, перекликаясь, чтобы не потеряться, летят группами только своего вида. Скопления наибольшие образуют лесные голуби и скворцы. Ласточки, делая на косе остановку, гирляндами облепляют деревья и провода. Но рекордсменами по числу прохождения над косой являются зяблики — самая распространенная наша лесная птица. Летят над косою также и сойки, сорокопуты, удоды, дрозды, осоеды, вороны, грачи, журавли, утки, чайки…
Зрелище массовых перелетов волнует каждого человека, для тех же, кто птиц изучает, коса — уникальное на земле место.
* * *
Рыболовные сети и верши на косе видишь часто. Они сушатся на шестах у рыбачьих поселков, лежат грудами на причалах. И вдруг совсем необычная сеть. Точнее сказать, ловушка. Но огромных размеров — «может поймать самолет!» И владеют ловушкой явно не рыбаки, хотя по конструкции она в точности повторяет рыболовную вершу — гигантский вход на корабельной высоты мачтах. А далее сеть, имея внутри боковые отсечки, постепенно сужается, и если заглянуть в самую оконечность, увидишь в верше массу пойманных птиц. Самых разных.
Больших и маленьких. Очень встревоженных появлением человека.
Люди в период «путины» дежурят тут постоянно, просыпаясь вместе с птицами очень рано. Улов помещается в плоские ящики (птицы сидят в них тихо, не бьются), и под крышей бревенчатой, на пеньках стоящей избушки происходит оснастка птицы колечком. Примерно минута уходит на каждую птицу: определяется вид, пол, возраст, накопление жира, взвешивание, измеренье крыла (все помечается в специальном журнале), и, наконец, надевают на лапку нумерованное кольцо — все, улетай!
Работа отлажена до совершенства и позволяет кольцевать в сутки до семи тысяч птиц (за сезон — пятьдесят — семьдесят тысяч).
Тут, на косе, впервые в мире стали кольцевать птиц такой массой. И обеспечили это ловушки. Поначалу были сомнения, и серьезные: «Птицы не дураки, в ловушку не полетят». Птицы и правда не дураки, но, исключая хитрых ворон, грачей и галок, подозрительно относящихся к человеческим сооружениям, лесные птицы, не чувствуя подвоха, летят в зев ловушки и замечают опасность, когда вернуться уже почти невозможно — дорога показана только вперед.
В плену разные птицы держат себя по-разному. Зяблики паникуют и даже впадают в истерику — лежат, задрав головы и подняв кверху лапки, вьюрки спокойны и даже норовят клюнуть входящих в камеру. Полны достоинства совы, сидят, наблюдают: «Ну и что будет дальше?» Инстинкты хищника неволя не у всех подавляет. Соек, например, близость добычи сводит с ума, они ведут себя, словно волки в овечьем стаде, и, если быстро их не поймать, успевают не только взбудоражить всю массу пленных, но и пролить много крови.
Заходя в зев ловушки, видишь следы на песке едва ли не всех обитателей здешнего леса.
Мыши сновали. Лиса, соблазненная писком мышей и птичьим переполохом, зашла. Заяц петлял в поисках выхода и нашел его наконец. Почуяв неладное, аккуратно вышли своим же следом два лося. Кабаны обычно выход не ищут, проходят сетку подобно танку, доставляя орнитологам много хлопот.
Залетают в ловушку большие массы бабочек и стрекоз (подобно птицам, они тоже летят над косой). Это помеха в работе — сети теряют прозрачность, и, как ни печально, стрекоз и бабочек приходится выметать. Но главные хлопоты птицеловам доставляет штормовой ветер. Сети, подобные огромной площади парусам, рвутся. В штормовую погоду их надо немедленно опускать. Иногда команда «Аврал!» раздается и среди ночи. А утром, бывает, все успокоилось — надо немедленно ставить. Работы в «путину» всем достает: и новичкам, и тем, кто многие годы работает тут, на косе, — биологическая станция Ленинградского зоологического института основана в 1956 году.
* * *
За двадцать три года тут окольцовано миллион птиц. Из каждой сотни колец три возвращаются к орнитологам. Из разных точек земли присылаются сами кольца или сообщается номер. Таким образом орнитологи получают ключи к многим загадкам и тайнам птичьего мира.
Только кольцевание помогло выяснить место гнездовий, маршруты пролетов, места зимовок различных птиц. Сейчас, например, известно: скворцы нашего северо-запада проводят зиму на островах Англии, чижи — в Альпах и окрестностях Альп, коньки и вьюрки — в Италии, зяблики — в Испании, Португалии, Франции.
В Южную и Центральную Африку улетают сорокопуты, пеночки, соловьи, славки, стрижи, иволги, желтые трясогузки.
Как находят дорогу? Здравый смысл заставляет подумать: старые птицы ведут молодых. Оказалось, что нет. Молодые и старые часто летят на зимовку в разное время, причем у многих видов улетают первыми молодые.
Стало быть, надо предположить: генеральный маршрут перелета птицы наследуют от рождения, так же как наследуют песню и способность вить гнезда? Да, это так. Это доказано экспериментами. Но что на птичьей дороге служит вехами, маяками? Генеральный путь определяется по ориентирам астрономическим: ночью — по звездам, а днем — по солнцу.
Это доказано. Говорят еще о магнитных силах земли.
И очень возможно, что есть у пернатых некий «магнитный компас», но это пока нуждается в доказательстве.
С возрастом каждая птица приобретает еще и опыт передвижения. В расчет берется земной рельеф, очертания рек, берегов. Несомненна и цепкая память у птиц. В период после вылета из гнезда до поразительных мелочей запечатляется место рождения. Именно сюда потом всю свою жизнь птица будет стремиться.
И всегда это будет нас поражать: аист из Африки вернулся в гнездо на крышу лесной деревушки в Литве, скворец из Англии вернулся в родную дуплянку на Вологодчине, садовая славка, перелетев Африку, Средиземное море и пол-Европы, отыскала знакомый кустик, знакомые очертанья деревьев под Ленинградом. Чувство родины! — иначе не назовешь.
Кольцевание помогает выяснить возраст и продолжительность жизни у птиц. Статистический средний срок жизни у мелких птиц небольшой — полтора года. Но статистика принимает в расчет и раннюю гибель (она велика), и возраст птиц-долгожителей. Зяблик шестилетнего возраста — это для птицелова уже заметная «личность», а зяблик, попавший в ловушку вторично через десять-одиннадцать лет, заставляет глядеть на себя как на гения — сколько невзгод и опасностей превозмог! Ощущение чуда всегда вызывает пичуга, залетевшая снова в ловушку после далеких таинственных странствий.
Как долго птицы летят без посадки на землю?
Это важный вопрос миграций. И ответы на него существуют. Так же как самолетам, птицам нужна дозаправка. Без горючего (жира) птица не полетит, она усиленно будет кормиться.
Запасы жира в ее организме служат сигналом: можно полет продолжать. Стало быть, есть у птиц на дальних путях свои «аэродромы»?
Можно сказать, что да. И чем птица крупнее, тем чаще нужен аэродром. (Лебеди могут лететь без посадки всего лишь шестьсот километров.)
Для крупной птицы аэродром должен быть безопасным и абсолютно надежным в смысле запасов пищи. Если «аэродром» почему-либо «не принимает», для стаи птиц возникает экстремальная ситуация — надо искать запасное место посадки. Нередко при этих посадках птицы попадают в беду и гибнут. Вот почему так важно держать в безопасности пути перелетов, объявляя птичьи аэродромы заказниками, заповедниками, резерватами.
Мелкие птицы, как и малые самолеты, приземлиться могут и на случайных площадках.
Но и у них есть районы, где происходит основательная заправка. Перепела, например, усиленно кормятся и неохотно взлетают даже при близкой опасности, готовясь к броску через Черное море. Славки и пеночки, которым предстоит одолеть Средиземное море и пустыню Сахару (без посадки две с лишним тысячи километров!), усиленно кормятся перед этим отрезком пути. Сколько ж горючего потребляет за 35–40 часов беспосадочного полета крошечный организм всем нам знакомой садовой славки?
Тринадцать граммов жира. Один грамм — на 150 километров. Есть ли в природе двигатель экономней, чем этот?!
Имеют многие птицы и точные расписания перелетов. Пример классический: ласточки, проводящие зиму в Мексике, в Калифорнию, в местечко с названием Капистрано, прилетают в один и тот же день — 19 марта. В один и тот же день (23 октября) они улетают. Толпы людей собираются встретить и проводить ласточек.
Часовой механизм этих крошек за сотню лет наблюдений за ними ни разу не сделал сбоя…
Эти и многие другие сведения из жизни птиц получены орнитологами не только с помощью кольцевания. В последние годы за миграцией птиц наблюдают и с помощью самолетов, радаров, крошечных передатчиков, укрепленных на перьях, с помощью остроумных методик и тонких приборов. Но не вышло из моды, не устарело и простое колечко из алюминия.
Птиц продолжают кольцевать во многих точках земли. Но нет места для этой работы благоприятней, чем здесь, на косе, на оживленной птичьей дороге. И эту возможность увлеченный коллектив орнитологов (возглавляет его Виктор Рафаэлович Дольник) использует полностью.
Авторитет биостанции, глубина и серьезность выполняемых тут работ широко признаны.
…Конец октября на косе — окончанье работ. Птицы еще продолжают лететь, но редко. И по традиции 1 ноября полевая станция «Фрингилла» (латинское название зяблика) опускает свои паруса — снимает сети с ловушек, чтобы вновь их поставить, лицом уже к югу, весной, когда над косою курсом на родину полетят поредевшие на чужбине стаи близких наших друзей.
Фото автора. 1 ноября 1981 г.
Дикий мед
(Проселки)
Нас трое. На трех лошадях. Путь не дальний, но и не близкий — километров за восемнадцать от деревни Максютово на реке Белой. Слова «медвежий угол» для этих мест характерны не в образном только смысле — конный след по росной траве раза четыре пересекают медвежьи следы.
У нас троих и у медведя, которого мы не видим, но который нас может видеть, цель одинакова: добыть дикий мед из дупел, скрытых в первобытных здешних лесах. Конкуренция давняя, тысячелетняя. Название «медведь» дано человеком лесному зверю за постоянный интерес к меду — «мед ведает».
В большинстве мест медведи исчезли вместе с дикими пчелами. В других (крайне холодных местах) пчелы не водятся и мед медведям неведом. Но есть еще уголок, где сохранились дикие пчелы, сохранились медведи и сохранились люди, ведущие промысел меда.
Вот они передо мной покачиваются в седлах, последние из могикан-бортников. К седлу у Заки приторочен топор, дымарь, снаряжение для лазания по деревьям, два чиляка — долбленки из липы для меда. Все аккуратно подогнано, всему свое место, и только изредка при подъемах и спусках ритмично, в такт ходу лошади стукает деревяшка о деревяшку.
Едем вначале по сеновозной дороге, по полянам, уставленным копнами, потом по узеньким тропам и, наконец, лесной целиною.
И вот наконец перед нами первое бортное дерево — большая сосна, стоящая у ручья над джунглями дудника и малины. Заки обращает мое внимание на клеймо («тамгу»). Заплывший, топором рубленный знак говорит о том, что дерево принадлежит бортникам деревни Максютово, а специальное добавление к знаку — свидетельство: владеет бортью Заки Ахметович Мустафьин.
На длинной привязи лошади пущены в стороне попастись. А мы приступаем к ревизии борти. Заки проверяет свой инвентарь и, охватив сосну длинным ремнем — кирамом, устремляется кверху. Носками ног Заки безошибочно быстро находит в сосне идущие кверху зарубки, а продолжением рук служит ему плетеный ремень. Взмах — и обнявший сосну кирам взлетает выше, еще один взмах, еще… Об этом дольше рассказывать — Заки уже у цели, на высоте примерно двенадцати метров. Петлю он замыкает узлом — ременный круг выше пояса подвижно соединяет его с сосной. Еще одна операция — укрепить на сосне приступку для ног. Цирковая работа! Но все проделано в три минуты. Заки надевает на голову сетку, быстро вскрывает борть, с веселым приговором «Предупреждаю!..» пускает в дупло пахучее облачко дыма.
— План выполнили. А сверху плана ничего нету! — кричит он с дерева.
Это значит, что пчелы заготовили меда без большого запаса, килограммов десять — двенадцать. Меда хватит лишь самим на зимовку.
Такие запасы бортник трогать не должен. Заки приводит в порядок все входы и борть, приводит в готовность «автоматику» против медведей и спускается вниз.
Заки все борти свои (их сорок) знает так же хорошо, как семерых детей своих.
— Вот тут пчелки с нами, пожалуй, поделятся, — говорит он гадательно возле третьей по счету сосны с фамильным клеймом.
Опять почти цирковые приемы влезания к борти. Дымарь в руке, неизменная шутка «Предупреждаю!..» и голос: «Давай чиляк!» Напарник Заки Сагит Галин быстро цепляет к висящей веревке липовую долбленку, и я вижу в бинокль подробности изымания меда из борти.
— Двенадцать — им, двенадцать — нам! — весело, как рыболов, поймавший хорошую рыбу, балагурит Заки, и тяжелый чиляк плывет на веревке к земле.
За день мы успеваем проверить шесть бортей и возвращаемся уже в сумерки. Четыре чиляка, полные меда, по два за седлами у Заки и Сагита, мерно качаются над дорогой.

Бортники.
* * *
Добыча меда и воска — древнейший человеческий промысел. Можно представить одетого в шкуры далекого нашего предка, на равных началах с медведем искавшего в лесах желанные дупла. В отличие от медведя человек понял, что увеличит шансы добытчика, если будет выдалбливать дупла-борти в деревьях, — охотник за медом сделал полшага к занятию пчеловодством.
Бортничество в богатой лесами Руси было делом повсеместно распространенным. Главной сладостью до появления сахара у человека был мед. Свет до появления стеарина, керосина и электричества давали лучина и восковая свеча. Мед и воск Древняя Русь потребляла сама в огромных количествах. Мед и воск наравне с мехами служили главным предметом экспорта из Руси.
С приходом в леса дровосека бортник вынужден был, спасая дупла, вырезать куски вековых сосен и вешать дуплянки в спокойных местах. Отсюда был один шаг уже и до пасек — дуплянки свозились поближе к жилью либо в особо благоприятные уголки леса.
Революцию в пчеловодстве сделал рамочный улей. Это было великое изобретение «великого пасечника» Петра Ивановича Прокоповича. (В селе Пальчики на Черниговщине Прокоповичу поставлен памятник.)
Улей, совершенствуясь непрерывно, в принципе, оставался тем же, что было предложено Прокоповичем в 1814 году. Но от борти, «вписанной» в первобытную жизнь леса, улей отличается так же, как первобытная охота от современного животноводства. И потому не чудо ли нынче встретить в лесу охотника за диким медом?! Такого же охотника, каким был он тысячи лет назад.
Почему древнейший человеческий промысел сохранился в Башкирии и нигде больше?
Этому есть причины. Первая из них — особые природные условия, обилие липовых и кленовых лесов — источника массовых медосборов.
Второе — башкирские леса до недавних времен оставались нетронутыми. Местное население земли не пахало, занимаясь лишь кочевым скотоводством, охотой и сбором меда. Лес для башкира был убежищем и кормильцем. И пчелы в нем — едва ли не главными спутниками жизни.
Полагают даже, что слово «башкир» (башкурт, баш — голова, курт — пчела) следует понимать как «башковитый пчеловод». Таковым башкир и являлся всегда.
Бортное дерево в здешних лесах было мерилом всех ценностей. Оно кормило несколько поколений людей, переходя от отца к сыну, от деда к внуку. За бортное дерево можно было выменять ценной породы лошадь, бортное дерево было лучшим подарком другу. «Счастливые борти» (дупла, где пчелы селились охотно), как корабли, имели названия. Стоят и поныне в лесах по-над Белой борти «Бакый», «Баскура», «Айгыр каскан», выдолбленные еще в прошлом веке.
Каждая борть в урожайный год давала до пуда ценнейшего меда. Мед был «валютой» башкирского края. Зимой охотник промышлял в лесу зверя, летом он промышлял мед. Разбросанность бортей обеспечивала здоровье пчел, максимальные медосборы и, конечно, сохранность лесного богатства — при набегах такую «пасеку» не ограбишь. Что касается сородичей, то строгие племенные законы повсюду остерегали покуситься на борть, помеченную «тамгой» соседа. (На Руси разорение борти каралось штрафом в «четыре лошади или шесть коров», а в Литве — смертной казнью.)
Массовая распашка земель и сведение лесов в Башкирии начались поздно (сто с небольшим лет назад). И это продлило сохранность давнего промысла. Но бурная перестройка векового уклада жизни охоты за медом коснулась немедленно.
И все же остался в Башкирии островок древнейшего промысла. В глухих, поныне почти бездорожных отрогах Уральских гор леса сохранились нетронутыми. Сохранилась и черная лесная пчела, жизнеспособная, трудолюбивая, выносливая. В 1958 году природная зона обитания пчелы была объявлена заповедной. Бортничество стало и поощряться, и изучаться. В заповеднике работают лесники-бортники. Есть по здешним глухим деревням еще и любители древнего промысла. Дома у них пасеки, но три раза в год — зимой, весной и под самую осень — седлают они лошадей и только им известными тропами направляются в лес.
* * *
Во дворе у Заки листаем пожелтевшую книгу прошлого века о башкирах и бортничестве.
Сравниваем инструменты и снаряжение, какими мог пользоваться прадед Заки, и нынешние. Все — ремешки, деревяшки, железки — одинаково по конструкции и названию. От современной жизни для бортного дела Заки приспособил лишь кеды, в них по деревьям лазать удобней, чем в шерстяных носках.
Строительство борти начинается с поиска подходящего дерева. Оно должно быть достаточно толстым (около метра в диаметре). Очень желательна близко вода, очень важно, есть ли вблизи поляна с лесным разнотравьем и каков рядом лес. Есть и еще какие-то тонкости, известные разве что пчелам, ибо заселяют они лишь треть приготовленных бортей, упорно предпочитая одни («счастливые») и оставляя другие осам и паукам.
Долбится борть на высоте от шести до двенадцати метров. Сначала бортник вырезает в дереве неширокую щель и потом уже специальными инструментами выбирает дупло высотою около метра, довольно просторное, но не грозящее дереву переломом.
После этого борть оставляют сушиться.
И только через два года ее можно готовить к заселению пчелами. Подготовка эта, как мог я понять со слов увлеченного делом Заки, похожа на подготовку к очень серьезной рыбалке. Тут нет несущественных мелочей. Бортник в этот момент не работает — священнодействует!


Снаряжение бортника — ремни, веревки, дымарь, топор, посуда для меда.
Лошадь привяжет он в стороне от сосны, чтобы не было запаха пота. Одежда тоже не должна иметь пугающих запахов. (Заки: «Коровьего масла в это время не ем».) Очистив борть от всего, что могло появиться за время сушки, Заки натирает ее изнутри ольховыми или осиновыми листьями. Ставит внутри из жердочек крестовину-опору для сот и кленовыми шпильками укрепляет «приманку» — полоски вощины или сухие соты. Оформив как надо леток, он тщательно закрывает заслонкой большую щель. Для утепления накрывает заслонку «матрацем», похожим на банный веник, и заслоняет сверху еще горбылем. «Борть должна быть теплой, сухой, но иметь хорошую вентиляцию». В совокупности все это пчелы оценят сразу, как только борть обнаружат. Принудить их к выбору бортник не может. Его дело теперь — ожиданье.
В середине лета, объезжая участок, бортник с волнением приближается к «новостройкам».
И сердце его счастливо бьется, если сверху он слышит приглушенный пчелиный гул. В июле главный взяток — с цветущей липы. Июльский день буквально год кормит. Работая по семнадцать часов, дикие пчелы за день могут припасти в борти до двенадцати килограммов меду.
О том, что в борти кипит работа, известно становится не только тому, кто оставил клеймо на сосне. Свои клейма когтистой лапой ставит на дереве и медведь. Чутким ухом косматый любитель меда нередко ранее человека берет на контроль пчелиную семью. Конкурентами бортника могут стать и муравьи, а также куница и дятел. (Заки: «Эти работают в паре, дятел долбит, куница грызет».) Разумеется, бортник придумал немало хитростей, чтобы уберечься от конкурентов. Помимо беспощадной войны с медведем (теперь заповедник эту войну ограничил), у борти ставится много упреждающей грабежи «техники». Возможно, не самое эффективное, но занятное и древнейшее средство прогнать медведя — тукмак — висящее на веревке у борти бревно. Оно мешает медведю орудовать, и он его раздраженно пихает, но чем сильнее бревно он толкнет, тем больнее, качнувшись, оно его ударяет. Сами пчелы, не щадя жизни, защищают свое богатство, выступая союзником человека, который потом забирает добычу, попугав пчел дымком.

Все снаряжение искусно приторочено к седлу для дальнего перехода.


Подходы к бортному дереву. И вот уже сборщик устроился наверху. На веревке уплывают к нему инструменты, а вниз в деревянном чиляке опускается мед.
* * *
— Борть человека переживает, — задумчиво говорит Заки, вынимая самодельным пинцетом занозу из пальца. — Мы с вами сегодня ели мед из борти, которую сделал мой дед. Счастливая борть! Отец говорил: «Эту борть береги всеми силами». Даже в письмах с войны спрашивал: «А как там борть у поляны Буйлау?»
Отец Заки до конца войны не дожил четырнадцати дней. Похоронен в братской могиле где-то в Германии. Сыну в том давнем апреле было тринадцать — самое время учиться бортному делу. В последнем письме отец, как будто предчувствуя смерть, написал: «Мои инструменты — теперь твои. Пользуйся. Бортное дело даст тебе силу и радость».
Все так и вышло в жизни Закия Мустафьина. На армейском призывном пункте положили в руку ему железку, сказали: сожми. Сжал — удивились, думали, неисправен прибор. Еще попросили сжать. Расспрашивать стали: откуда, мол, сила? «А я говорю: бортник я, понимаете, бортник — лазаю по деревьям…» И радость… Радости этого человека можем мы позавидовать, представив его на лошадке, идущей с горы на гору, по лесу, звенящему птицами, пестрому от цветов, гудящему пчелами.
Профессия бортника нелегка, требует смелости, ловкости, острого глаза, хороших знаний природы, силы и страсти, сходной со страстью охотника. Заки это все в себе сочетает, авторитет его в здешних местах высокий, но к прочим его достоинствам надо прибавить еще и скромность. С любовью вспоминает отца, называет других максютовских бортников. Их сейчас шесть. О каждом Заки говорит с удовольствием. Но первым среди мастеров называет живущего где-то поблизости бурзянского бортника Искужу, возрастом близкого к столетью. «В девяносто два года он лазал по соснам, как молодой!»
Наш разговор неизбежно касается также и тех, кто должен сменить стариков. Тут Заки долго мнет в пальцах шарик из воска и кивает на сына, с молчаливой улыбкой сидящего рядом.
— Ну, Марат, говори…
Я понимаю, как был бы счастлив отец, если бы сын вдруг сказал, что дорого и ему старинное дело. Марат, однако, по-прежнему улыбаясь, молчит, деликатно не принимая вызов отца поспорить.

Бортник Заки Мустафьин — сильный, тренированный человек.

После трудов — чайку с медом…
— В нашем деле нужен охотник, страсть нужна, — с пониманием и примирительно говорит Заки. — В нашем деле невольник — не богомольник…
Надежды отца связаны с сыном Булатом. Он старший, последний год в армии. Пишет, что борти видит во сне и что даже на чемодане вырезал бортевой знак.
— У Булата дело пойдет. Тоскует… А я понимаю, что значит тоска по лесу…
Из этого разговора я понял: «проблема кадров» для продолжения промысла существует.
Это заботит Закия Мустафьина, это забота всего заповедника, забота выходит и за пределы бурзянских лесов. И не с меркою только ценности меда из борти следует подходить к делу. Оно касается ценностей более значительных.
О многом в древней жизни людей мы судим по «черепкам», раскапывая в земле и в книгах свидетельства о былом. Островок же бортничества в Башкирии — не черепок былого, не полустертая надпись на камне о древнейшем из промыслов — живое дело, дошедшее из глубин времени! Целый, без трещин сосуд народного опыта и вековой мудрости! Бурзянский девственный лес — единственное в стране место, где под гул высоко пролетающих самолетов человек вершит старинное дело так же, как вершил его предок еще при жизни мамонтов.
Всеми доступными средствами промысел надо поддержать. И не сделать при этом ошибки.
От одного вовсе не глупого человека я услыхал: «Надо им труд облегчить. Придумать, скажем, подъемник. Что же они лазят по соснам, как обезьяны». Сказавший это имеет к данному делу служебное отношение. И будем надеяться, эти заметки его образумят. Оснащать бортное дело подъемниками или другим каким механизмом — все равно что лошади «для облегчения» вместо ног попытаться приделать колеса.
Лазанье по деревьям настоящего бортника не тяготит, как не тяготит альпиниста лазанье по горам, а охотника — по болотам. Это спорт для него и удаль, и способ сберечь здоровье до конца жизни, как правило, очень долгой.
Помочь промыслу надо мудро и осторожно, всячески поощряя местных людей его продолжать, приобщая к нему не пришлого человека, пусть и с пчеловодным образованием, а местного парня, с детства знакомого с дикой пчелой.
И если уж говорить о помощи бортнику, то непременно нужна ему обыкновенная лошадь, нужно доброе к нему отношение и поддержка в его заботах. Нужна такая же мудрость, какой обязаны нынешним процветанием чеканщики селения Кубачи и живописцы селения Палех. Не меньшая.
Заинтересованность наша в бурзянском бортничестве должна подкрепляться еще и тем, что только в здешних лесах сохранилась дикая лесная пчела, не подпорченная повсеместной гибридизацией с южными формами пчел. На всем земном шаре только «бурзянка» способна переносить суровые зимы с морозами в пятьдесят градусов и все другие невзгоды жизни в дикой природе. Для пчеловодства «бурзянка» — величайшая драгоценность, надежный страховой материал в селекции, веками проверенный генофонд.
Таким образом, ценность, как видим, двойная — и «сосуд», и его содержимое. Не расплескать бы, не уронить, не кинуть, как устаревшую вещь, на свалку — потомкам пришлось бы бережно собирать черепки.
* * *
Такие дела и заботы в «медвежьем углу», в бурзянских лесах… Живо сейчас представляю себе этот лес. Высокие сосны уже в белых шапках. Медведи спят. А куницы и дятлы, объединившись, уже воровски хлопочут у бортей.
Если Булат Мустафьин уже вернулся в родную деревню, представляю его нетерпенье проехать с отцом по лесу. Представляю долгие вечера в деревянном уютном доме. Булат рассказывает о службе, отец — о новостях леса. На столе большой самовар, коржи с сушеной черемухой и, конечно, посуда с мутноватым («пыльца и нектар вперемешку») бортевым медом. В такое время особо приятна беседа о лете. О лете, которое было, и о том, которое будет.
Фото автора. 6 декабря 1981 г.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ