Степная книга
Начало
Жила-была девочка, чьё лицо напоминало молодую луну, сияющую над кипарисовой рощей, и перья птиц, что живут у воды. Девочку эту переполняли тайны. Зимой по ночам она любила сидеть посреди огромного дворцового Сада, прижав ладони к снегу, и наблюдать, как он тает от тепла. Она носила венок из побегов чеснока и глицинии; утоляла жажду, черпая воду из фонтанов, украшенных лазуритом; дождливыми вечерами ела холодные груши под соснами.
С самого рождения у девочки имелась странная и удивительная отметина: её веки и кожа вокруг глаз были окрашены в густой иссиня-чёрный цвет и походили на чернила в фарфоровых чашечках. Из-за этого она выглядела загадочной и угрюмой, будто сова, сидящая на жердочке из слоновой кости, или енот на берегу игривой реки. Повзрослев, девочка могла бы не подводить глаза тёмным карандашом.
Отметина вызывала страх у людей, поэтому девочку в совсем юном возрасте бросили в Саду, что простирался вокруг многобашенного Дворца, где она с той поры и бродила. Родители смотрели на неё с содроганием и ужасом, гадая, не испортило ли уродство дочери их собственную репутацию. Вельможи были твёрдо уверены, что она – демон, посланный уничтожить блистательный двор. Дети вельмож, носившиеся по Саду стайкой диких гусей, старались держаться от девочки подальше, опасаясь проклятия, наложенного ужасными силами. Султан колебался: окажись она и впрямь демоном, не стоило навлекать на себя гнев её адской родни, небрежно покончив с девочкой, как если бы речь шла о необходимости скосить сорную траву. В конце концов, её молчаливость и уединённый образ жизни оказались весьма кстати – благодаря им можно было делать вид, что всё хорошо.
Так продолжалось много лет, и тринадцать раз расцвело лето, словно большая оранжевая роза, – расцвело, а затем увяло.
Как-то раз к девочке подошло другое дитя – не слишком близко и осторожно, как олень, готовый в любой момент исчезнуть среди теней. Это был мальчик, с лицом, напоминавшим зимнее солнце, и стройный, будто речной тростник. Он остановился перед девочкой, одетой в потрёпанное шелковое платье и поношенный плащ, некогда бывший белым, и провёл по её векам указательным пальцем, источавшим сладкий аромат. К своему удивлению, она не отшатнулась – ведь ей было одиноко, и её, как обычно, переполняла печаль.
– Ты в самом деле дух? Очень-очень злобный? Почему у тебя такие глаза – тёмные, как озеро перед рассветом? – спросил хорошенький мальчик и наклонил голову, словно ибис, замерший посреди реки.
Девочка ничего не сказала.
– Я тебя не боюсь!
Мальчик вёл себя храбро, но его голос дрогнул. Девочка продолжала смотреть на него, а ивы вокруг качались на восточном ветру. Когда она заговорила, её голос вторил тихому шуршанию цикад на далёких холмах, укрытых туманом:
– Почему?
– Я очень смелый. Однажды я стану великим Генералом и буду носить алый плащ.
На бледных губах девочки мелькнула тень улыбки.
– Значит, ты пришел, чтобы убить грозное демоническое отродье, поселившееся в Саду? – прошептала она.
– Нет, я…
Мальчик развёл руками, сообразив, что такое поведение не делало ему чести.
– Никто не говорил мне так много слов с той поры, когда я видела зимние снега сквозь щель между тёплыми меховыми шторами. – Девочка снова уставилась на гостя, неподвижная как изваяние. Потом в её сумеречных глазах сверкнула искорка, и она будто приняла какое-то решение. – Рассказать тебе правду? Поведать мой секрет? Одному тебе из всех детей, что носят кольца с рубинами и пахнут оливковым мылом? – Её голос звучал всё тише, словно ей не хватало дыхания.
– Так ведь я об этом и попросил, верно? Я умею хранить секреты! Моя сестра говорит, у меня это хорошо получается – я как Король воров из няниной сказки.
Они надолго замолчали; солнце спряталось за облаками. Потом девочка заговорила – чуть слышно, будто собственный голос вызывал у неё страх:
– Однажды вечером, когда я была совсем малышкой, к большим серебряным воротам пришла старая женщина и, протянув руки сквозь ветви роз, сказала мне, что я не родилась с этой отметиной. Когда мне исполнилось семь месяцев и семь дней, у колыбели явился призрак, и, пока моя мать спала в белоснежной постели, он коснулся моего лица, покрыл его множеством сказок и заклинаний, как моряки покрывают свое тело татуировками. Стихов и песен было так много, и их записали так плотно, что они превратились в длинные непрерывные полосы цвета чёрного янтаря на моих веках. Это слова рек и болот, озёр и ветров. Вместе они творят великую магию. Когда все сказки будут прочитаны вслух и выслушаны до блистательного завершения каждой, когда отзвучит последний слог – призрак вернётся, чтобы судить меня. Старуха исчезла в синеликой ночи, а я день за днём пряталась в кустах жасмина и олеандра, всматриваясь в бронзовое зеркало, найденное среди мусора, или застывала над своим отражением в водах одного из садовых прудов. Но это оказалось трудной задачей: приходится читать задом наперёд, и только с одного века. – Девочка умолкла, а потом произнесла совсем тихо, не громче шуршания паучьих лапок, плетущих опаловую нить: – И никто меня не слушает.
Мальчик уставился на неё. Приглядевшись, он различил дрожащие строчки в густой черноте век, намёки на алфавит, состоящий из невероятных букв. И чем внимательнее он смотрел, тем отчётливее казались их очертания, словно буквы рвались к нему, хватались за него. От этого становилось не по себе.
Мальчик облизнул пересохшие губы. Теперь они шептались вдвоём, как заговорщики, или злоумышленники. Другие дети ушли, оставив их наедине под косматой гривой сгорбленной ивы.
– Расскажи мне одну из сказок, записанных на твоих веках. Пожалуйста! Всего одну.
Он до смерти боялся, что девочка оттолкнёт его и сбежит, как собака, постоянно терпящая побои. Но она продолжала смотреть на него странными тёмными глазами.
– Ты добр ко мне, другие не осмеливаются даже приблизиться. Отблагодарить за это я могу лишь сказками. Но тебе придётся перейти из открытой части Сада в моё убежище, потому что никто не должен знать, чем мы заняты. Иначе тебя накажут, а у меня заберут зеркало и нож, моё скромное имущество, и запрут куда-нибудь, чтобы демон-дух не опустошил чьи-нибудь прекрасные дома.
И вот они осторожно двинулись прочь от желто-зелёной ивы, вдоль бесконечных клумб, усаженных розами. Нырнули под арку цветущих каштанов и внезапно очутились в беседке из белых цветов, аромат которых можно было чувствовать кожей, как прикосновения невидимых рук. Красные ветви переплелись, образовав подобие низкой крыши, и на мягкой земле, покрытой слоем листьев, хватило места обоим.
– Я расскажу тебе первую сказку, которую смогла прочесть на своём левом веке.
Мальчик замер, точно заяц в лесной чаще, навостривший шелковистые ушки.
– Давным-давно в далёкой стране жил неугомонный Принц, которому было мало богатств отца, красоты придворных дам и веселья пиршественного зала. Принца звали Леандр, в честь рыжевато-коричневого льва, что носится по степи как грозный ветер. Однажды ночью он вырвался, словно ястреб-охотник, из величественного замка с увитыми плющом стенами и отправился искать подвиги, желая успокоить терзавшую его тоску.
Сказка о Принце и Гусыне
Принц крался в ночи. Тени скользили по его телу, будто речные угри, он легко и беззвучно ступал по устилавшим землю сосновым иголкам, углубляясь в лес. Звёздный свет струился как река, прорвавшая плотину. У Принца не было особых планов, не считая желания уйти подальше от дворца до восхода солнца и до того момента, когда гончие отца возьмут его след. Ветви деревьев над головой сплетались в подобие черепичной крыши, сквозь которую местами проглядывали синеватые облака; вокруг пахло сосновой смолой. Впервые за свою не слишком долгую жизнь юный Принц почувствовал, как счастье переполняет его и рвётся наружу, будто солнечный свет.
Когда светило ринулось прочь от горизонта, словно шустрый вор, Принц устроился на отдых, прислонившись к узловатому стволу большого баобаба. Он позавтракал сыром и соленым мясом, взятым на кухне. Мясо оказалось вкуснее всего, что ему доводилось пробовать. Следующие несколько часов Принц проспал под открытым небом, на котором расцветали утренние силуэты глициний и лилий.
Немного позднее, продолжив свой путь, он набрёл на выросшую посреди симпатичной лужайки маленькую хижину с тростниковой крышей и добротной деревянной дверью – круглой и с узором из медных гвоздей. Над трубой весело клубился дымок, пахнувший шалфеем и кедром. Вокруг дома паслась стайка серых гусей, похожих на беспокойное перистое облако, зыбкое и пугливое. Изящные красивые птицы гоготали и чистили пёрышки, устроившись под изогнутым навесом из ветвей камфорного дерева и свежей соломы.

Принц был смышлёным, но его молодости, как водится, не хватало мудрости: кроме скромных припасов, взятых на кухне, у него оказалось с собой лишь несколько яблок из сада. Он полагал, что с лёгкостью добудет пропитание: весь мир должен быть таким же изобильным, как земли его отца; на деревьях должно быть так же много покрытых бриллиантовой росой фруктов; все животные должны обладать такой же покорностью и быть не менее приятны на вкус, а все крестьяне – так же сговорчивы и щедры. Принц начал понимать, что на самом деле всё не так. Его желудок беспокойно ворчал и явно сигнализировал о необходимости пополнить запасы, прежде чем продолжить путь. К тому же гусей около дома было много – добрые и весёлые обитатели милой хижины даже не заметят исчезновения одного из длинношеих созданий.
Принца с раннего детства учили охотиться и подкрадываться. Уверенно ступая на мускулистых полусогнутых ногах, он тихонько выбрался из своего убежища, притаился за большим плугом и замер в высокой летней траве, выжидая подходящий момент, управляя дыханием и замедляя биение сердца. Было позднее утро, и солнце напекло ему шею. Струйки пота текли по коже, проникая за воротник, но Принц не шевелился до тех пор, пока одна милая гусыня наконец не отделилась от стаи и, заглянув за лезвие плуга, не уставилась на чужака. Взгляд её умных чёрных глаз был проницательным и глубоким, как осенняя ночь.
Принц, напоминавший проворного молодого волка, не смотрел гусыне в глаза, а поймал её и одним ловким движением свернул изящную шею, будто сухую ветку. Выйдя из травяных зарослей, он двинулся назад, к роще. Однако гуси заприметили исчезновение товарки и разразились пронзительными испуганными криками.
Дверь хижины распахнулась, и оттуда выкатилась женщина жуткого вида, с развевающимися седыми волосами и блестящим топором в руках. Лицо у неё было широкое и плоское, покрытое зловещими таинственными отметинами: большие чёрные татуировки и шрамы исказили черты до такой степени, что не представлялось возможным сказать, отличалась ли она когда-нибудь красотой. На широком кожаном поясе с серебряными заклёпками висели два длинных блестящих ножа. От страшного крика старухи вздрогнули дубы и кипарисы; он раскатился по округе последним звуком разбитой флейты.
– Что ты наделал? Мерзкий мальчишка! Злодей, демон!
Женщина снова завопила, выше и пронзительнее любой совы. Гуси присоединились к ней, причитая и плача. Их горе рвало на части воздух и плодородную красную землю. Издаваемые ими звуки были одновременно чудовищными и чуждыми, полными нечеловеческой, бездонной скорби. Казалось, чьи-то невидимые когти впились в уши Принца.
Наконец старуха замолчала, продолжая трясти большой головой и плакать. Принц замер, потрясённый и огорчённый скорее собственной неловкостью, чем её гневом. Она ведь была всего лишь женщиной, а птица – птицей. Зачем бояться какой-то карлицы, чья молодость давно миновала?
Держа гусиный трупик за спиной и надеясь, что широкие плечи его скрывают, Принц сказал:
– Я случайно наткнулся на ваш дом, госпожа, и не причиню вам вреда.
Несчастная опять испустила страшный вопль, а её глаза сделались до отвращения большими. До сих пор Принц не замечал в них желтоватого блеска, но сейчас он точно был, дикий и безумный.
– Ты лжешь! Ты убил мою гусыню, мою прекрасную птицу, моё дитя! Она была моей, а ты свернул ей шею! Милая моя, деточка моя!
Старуха горько зарыдала. Принц ничего не понимал. Он вынул из-за спины тушку, чтобы передать ее старой карге. И вдруг увидел, что сжимает в кулаке не птицу, а девушку, ослепительно-красивую и изящную, словно замерший над водой журавль, и что длинные чёрные волосы прекрасной незнакомки по-змеиному обвили его руки, потому что он держал её за шею у основания заплетённой в косу гривы. Девушка была одета в лохмотья, сквозь которые просвечивало мерцающее тело. Её длинная гладкая шея была аккуратно сломана.
Старуха с татуированным лицом ринулась на Принца, замахнувшись на него топором, как серпом на пшеницу, и он выронил тело девушки, с ужасным глухим звуком упавшее на траву. Карга настигла незваного гостя и, на миг замерев, шумно дыхнула ему в лицо гнилыми сливами и загадочными зельями из тёмных мхов. Сверкнуло лезвие – и она отсекла два пальца на левой руке Принца, а потом слизнула с потрескавшихся губ брызнувшие капли крови. Выпад был таким внезапным и безупречным, что он не успел уклониться, лишь заорал и вцепился в искалеченную руку. Принц понял: если пытаться бежать, потеряешь намного больше, чем пальцы. Он наобещал тысячи тысяч королевств и сокровища сотни драконов; сыпал невнятными клятвами, точно ребёнок. Но старухе всё было не нужно, её свободная рука медленно тянулась к одному из длинных ножей.
– Ты убил моё дитя, мою единственную дочь!
Она положила увесистый топор на влажную землю и с долгим судорожным вздохом потянула из ножен отполированное лезвие…
Девочка замолчала и посмотрела своему слушателю в глаза, напоминавшие глубокие болота на закате.
– Не останавливайся! – попросил он, задыхаясь от волнения. – Рассказывай! Она убила его прямо на месте?
– Уже ночь, мальчик. Ты должен идти ужинать, а я должна устроиться на ночлег в ветвях кедра. Каждому своё.
Мальчик разинул рот, отчаянно ища причину, по которой он мог бы остаться и узнать судьбу раненого принца. Он бормотал:
– Погоди-погоди. Я пойду на ужин и украду для нас еды, как это сделал бы отважный принц Леандр. Затем выберусь под покровом темноты, словно ястреб-охотник, и проведу ночь с тобой, здесь, под звёздами, сияющими будто журавлиные перья на солнце. И ты закончишь свою историю.
Он взглянул на неё с надеждой, которая полыхала сильнее факелов, что горели по всему дворцу.
Девочка молчала, опустив голову, как храмовая послушница. Затем кивнула, не поднимая глаз, и сказала:
– Очень хорошо.
Жила-была девочка, чьё лицо напоминало молодую луну, сияющую над кипарисовой рощей, и перья птиц, что живут у воды. Девочку эту переполняли тайны. Зимой по ночам она любила сидеть посреди огромного дворцового Сада, прижав ладони к снегу, и наблюдать, как он тает от тепла. Она носила венок из побегов чеснока и глицинии; утоляла жажду, черпая воду из фонтанов, украшенных лазуритом; дождливыми вечерами ела холодные груши под соснами.
С самого рождения у девочки имелась странная и удивительная отметина: её веки и кожа вокруг глаз были окрашены в густой иссиня-чёрный цвет и походили на чернила в фарфоровых чашечках. Из-за этого она выглядела загадочной и угрюмой, будто сова, сидящая на жердочке из слоновой кости, или енот на берегу игривой реки. Повзрослев, девочка могла бы не подводить глаза тёмным карандашом.
Отметина вызывала страх у людей, поэтому девочку в совсем юном возрасте бросили в Саду, что простирался вокруг многобашенного Дворца, где она с той поры и бродила. Родители смотрели на неё с содроганием и ужасом, гадая, не испортило ли уродство дочери их собственную репутацию. Вельможи были твёрдо уверены, что она – демон, посланный уничтожить блистательный двор. Дети вельмож, носившиеся по Саду стайкой диких гусей, старались держаться от девочки подальше, опасаясь проклятия, наложенного ужасными силами. Султан колебался: окажись она и впрямь демоном, не стоило навлекать на себя гнев её адской родни, небрежно покончив с девочкой, как если бы речь шла о необходимости скосить сорную траву. В конце концов, её молчаливость и уединённый образ жизни оказались весьма кстати – благодаря им можно было делать вид, что всё хорошо.
Так продолжалось много лет, и тринадцать раз расцвело лето, словно большая оранжевая роза, – расцвело, а затем увяло.
Как-то раз к девочке подошло другое дитя – не слишком близко и осторожно, как олень, готовый в любой момент исчезнуть среди теней. Это был мальчик, с лицом, напоминавшим зимнее солнце, и стройный, будто речной тростник. Он остановился перед девочкой, одетой в потрёпанное шелковое платье и поношенный плащ, некогда бывший белым, и провёл по её векам указательным пальцем, источавшим сладкий аромат. К своему удивлению, она не отшатнулась – ведь ей было одиноко, и её, как обычно, переполняла печаль.
– Ты в самом деле дух? Очень-очень злобный? Почему у тебя такие глаза – тёмные, как озеро перед рассветом? – спросил хорошенький мальчик и наклонил голову, словно ибис, замерший посреди реки.
Девочка ничего не сказала.
– Я тебя не боюсь!
Мальчик вёл себя храбро, но его голос дрогнул. Девочка продолжала смотреть на него, а ивы вокруг качались на восточном ветру. Когда она заговорила, её голос вторил тихому шуршанию цикад на далёких холмах, укрытых туманом:
– Почему?
– Я очень смелый. Однажды я стану великим Генералом и буду носить алый плащ.
На бледных губах девочки мелькнула тень улыбки.
– Значит, ты пришел, чтобы убить грозное демоническое отродье, поселившееся в Саду? – прошептала она.
– Нет, я…
Мальчик развёл руками, сообразив, что такое поведение не делало ему чести.
– Никто не говорил мне так много слов с той поры, когда я видела зимние снега сквозь щель между тёплыми меховыми шторами. – Девочка снова уставилась на гостя, неподвижная как изваяние. Потом в её сумеречных глазах сверкнула искорка, и она будто приняла какое-то решение. – Рассказать тебе правду? Поведать мой секрет? Одному тебе из всех детей, что носят кольца с рубинами и пахнут оливковым мылом? – Её голос звучал всё тише, словно ей не хватало дыхания.
– Так ведь я об этом и попросил, верно? Я умею хранить секреты! Моя сестра говорит, у меня это хорошо получается – я как Король воров из няниной сказки.
Они надолго замолчали; солнце спряталось за облаками. Потом девочка заговорила – чуть слышно, будто собственный голос вызывал у неё страх:
– Однажды вечером, когда я была совсем малышкой, к большим серебряным воротам пришла старая женщина и, протянув руки сквозь ветви роз, сказала мне, что я не родилась с этой отметиной. Когда мне исполнилось семь месяцев и семь дней, у колыбели явился призрак, и, пока моя мать спала в белоснежной постели, он коснулся моего лица, покрыл его множеством сказок и заклинаний, как моряки покрывают свое тело татуировками. Стихов и песен было так много, и их записали так плотно, что они превратились в длинные непрерывные полосы цвета чёрного янтаря на моих веках. Это слова рек и болот, озёр и ветров. Вместе они творят великую магию. Когда все сказки будут прочитаны вслух и выслушаны до блистательного завершения каждой, когда отзвучит последний слог – призрак вернётся, чтобы судить меня. Старуха исчезла в синеликой ночи, а я день за днём пряталась в кустах жасмина и олеандра, всматриваясь в бронзовое зеркало, найденное среди мусора, или застывала над своим отражением в водах одного из садовых прудов. Но это оказалось трудной задачей: приходится читать задом наперёд, и только с одного века. – Девочка умолкла, а потом произнесла совсем тихо, не громче шуршания паучьих лапок, плетущих опаловую нить: – И никто меня не слушает.
Мальчик уставился на неё. Приглядевшись, он различил дрожащие строчки в густой черноте век, намёки на алфавит, состоящий из невероятных букв. И чем внимательнее он смотрел, тем отчётливее казались их очертания, словно буквы рвались к нему, хватались за него. От этого становилось не по себе.
Мальчик облизнул пересохшие губы. Теперь они шептались вдвоём, как заговорщики, или злоумышленники. Другие дети ушли, оставив их наедине под косматой гривой сгорбленной ивы.
– Расскажи мне одну из сказок, записанных на твоих веках. Пожалуйста! Всего одну.
Он до смерти боялся, что девочка оттолкнёт его и сбежит, как собака, постоянно терпящая побои. Но она продолжала смотреть на него странными тёмными глазами.
– Ты добр ко мне, другие не осмеливаются даже приблизиться. Отблагодарить за это я могу лишь сказками. Но тебе придётся перейти из открытой части Сада в моё убежище, потому что никто не должен знать, чем мы заняты. Иначе тебя накажут, а у меня заберут зеркало и нож, моё скромное имущество, и запрут куда-нибудь, чтобы демон-дух не опустошил чьи-нибудь прекрасные дома.
И вот они осторожно двинулись прочь от желто-зелёной ивы, вдоль бесконечных клумб, усаженных розами. Нырнули под арку цветущих каштанов и внезапно очутились в беседке из белых цветов, аромат которых можно было чувствовать кожей, как прикосновения невидимых рук. Красные ветви переплелись, образовав подобие низкой крыши, и на мягкой земле, покрытой слоем листьев, хватило места обоим.
– Я расскажу тебе первую сказку, которую смогла прочесть на своём левом веке.
Мальчик замер, точно заяц в лесной чаще, навостривший шелковистые ушки.
– Давным-давно в далёкой стране жил неугомонный Принц, которому было мало богатств отца, красоты придворных дам и веселья пиршественного зала. Принца звали Леандр, в честь рыжевато-коричневого льва, что носится по степи как грозный ветер. Однажды ночью он вырвался, словно ястреб-охотник, из величественного замка с увитыми плющом стенами и отправился искать подвиги, желая успокоить терзавшую его тоску.
Сказка о Принце и Гусыне
Принц крался в ночи. Тени скользили по его телу, будто речные угри, он легко и беззвучно ступал по устилавшим землю сосновым иголкам, углубляясь в лес. Звёздный свет струился как река, прорвавшая плотину. У Принца не было особых планов, не считая желания уйти подальше от дворца до восхода солнца и до того момента, когда гончие отца возьмут его след. Ветви деревьев над головой сплетались в подобие черепичной крыши, сквозь которую местами проглядывали синеватые облака; вокруг пахло сосновой смолой. Впервые за свою не слишком долгую жизнь юный Принц почувствовал, как счастье переполняет его и рвётся наружу, будто солнечный свет.
Когда светило ринулось прочь от горизонта, словно шустрый вор, Принц устроился на отдых, прислонившись к узловатому стволу большого баобаба. Он позавтракал сыром и соленым мясом, взятым на кухне. Мясо оказалось вкуснее всего, что ему доводилось пробовать. Следующие несколько часов Принц проспал под открытым небом, на котором расцветали утренние силуэты глициний и лилий.
Немного позднее, продолжив свой путь, он набрёл на выросшую посреди симпатичной лужайки маленькую хижину с тростниковой крышей и добротной деревянной дверью – круглой и с узором из медных гвоздей. Над трубой весело клубился дымок, пахнувший шалфеем и кедром. Вокруг дома паслась стайка серых гусей, похожих на беспокойное перистое облако, зыбкое и пугливое. Изящные красивые птицы гоготали и чистили пёрышки, устроившись под изогнутым навесом из ветвей камфорного дерева и свежей соломы.

Принц был смышлёным, но его молодости, как водится, не хватало мудрости: кроме скромных припасов, взятых на кухне, у него оказалось с собой лишь несколько яблок из сада. Он полагал, что с лёгкостью добудет пропитание: весь мир должен быть таким же изобильным, как земли его отца; на деревьях должно быть так же много покрытых бриллиантовой росой фруктов; все животные должны обладать такой же покорностью и быть не менее приятны на вкус, а все крестьяне – так же сговорчивы и щедры. Принц начал понимать, что на самом деле всё не так. Его желудок беспокойно ворчал и явно сигнализировал о необходимости пополнить запасы, прежде чем продолжить путь. К тому же гусей около дома было много – добрые и весёлые обитатели милой хижины даже не заметят исчезновения одного из длинношеих созданий.
Принца с раннего детства учили охотиться и подкрадываться. Уверенно ступая на мускулистых полусогнутых ногах, он тихонько выбрался из своего убежища, притаился за большим плугом и замер в высокой летней траве, выжидая подходящий момент, управляя дыханием и замедляя биение сердца. Было позднее утро, и солнце напекло ему шею. Струйки пота текли по коже, проникая за воротник, но Принц не шевелился до тех пор, пока одна милая гусыня наконец не отделилась от стаи и, заглянув за лезвие плуга, не уставилась на чужака. Взгляд её умных чёрных глаз был проницательным и глубоким, как осенняя ночь.
Принц, напоминавший проворного молодого волка, не смотрел гусыне в глаза, а поймал её и одним ловким движением свернул изящную шею, будто сухую ветку. Выйдя из травяных зарослей, он двинулся назад, к роще. Однако гуси заприметили исчезновение товарки и разразились пронзительными испуганными криками.
Дверь хижины распахнулась, и оттуда выкатилась женщина жуткого вида, с развевающимися седыми волосами и блестящим топором в руках. Лицо у неё было широкое и плоское, покрытое зловещими таинственными отметинами: большие чёрные татуировки и шрамы исказили черты до такой степени, что не представлялось возможным сказать, отличалась ли она когда-нибудь красотой. На широком кожаном поясе с серебряными заклёпками висели два длинных блестящих ножа. От страшного крика старухи вздрогнули дубы и кипарисы; он раскатился по округе последним звуком разбитой флейты.
– Что ты наделал? Мерзкий мальчишка! Злодей, демон!
Женщина снова завопила, выше и пронзительнее любой совы. Гуси присоединились к ней, причитая и плача. Их горе рвало на части воздух и плодородную красную землю. Издаваемые ими звуки были одновременно чудовищными и чуждыми, полными нечеловеческой, бездонной скорби. Казалось, чьи-то невидимые когти впились в уши Принца.
Наконец старуха замолчала, продолжая трясти большой головой и плакать. Принц замер, потрясённый и огорчённый скорее собственной неловкостью, чем её гневом. Она ведь была всего лишь женщиной, а птица – птицей. Зачем бояться какой-то карлицы, чья молодость давно миновала?
Держа гусиный трупик за спиной и надеясь, что широкие плечи его скрывают, Принц сказал:
– Я случайно наткнулся на ваш дом, госпожа, и не причиню вам вреда.
Несчастная опять испустила страшный вопль, а её глаза сделались до отвращения большими. До сих пор Принц не замечал в них желтоватого блеска, но сейчас он точно был, дикий и безумный.
– Ты лжешь! Ты убил мою гусыню, мою прекрасную птицу, моё дитя! Она была моей, а ты свернул ей шею! Милая моя, деточка моя!
Старуха горько зарыдала. Принц ничего не понимал. Он вынул из-за спины тушку, чтобы передать ее старой карге. И вдруг увидел, что сжимает в кулаке не птицу, а девушку, ослепительно-красивую и изящную, словно замерший над водой журавль, и что длинные чёрные волосы прекрасной незнакомки по-змеиному обвили его руки, потому что он держал её за шею у основания заплетённой в косу гривы. Девушка была одета в лохмотья, сквозь которые просвечивало мерцающее тело. Её длинная гладкая шея была аккуратно сломана.
Старуха с татуированным лицом ринулась на Принца, замахнувшись на него топором, как серпом на пшеницу, и он выронил тело девушки, с ужасным глухим звуком упавшее на траву. Карга настигла незваного гостя и, на миг замерев, шумно дыхнула ему в лицо гнилыми сливами и загадочными зельями из тёмных мхов. Сверкнуло лезвие – и она отсекла два пальца на левой руке Принца, а потом слизнула с потрескавшихся губ брызнувшие капли крови. Выпад был таким внезапным и безупречным, что он не успел уклониться, лишь заорал и вцепился в искалеченную руку. Принц понял: если пытаться бежать, потеряешь намного больше, чем пальцы. Он наобещал тысячи тысяч королевств и сокровища сотни драконов; сыпал невнятными клятвами, точно ребёнок. Но старухе всё было не нужно, её свободная рука медленно тянулась к одному из длинных ножей.
– Ты убил моё дитя, мою единственную дочь!
Она положила увесистый топор на влажную землю и с долгим судорожным вздохом потянула из ножен отполированное лезвие…
Девочка замолчала и посмотрела своему слушателю в глаза, напоминавшие глубокие болота на закате.
– Не останавливайся! – попросил он, задыхаясь от волнения. – Рассказывай! Она убила его прямо на месте?
– Уже ночь, мальчик. Ты должен идти ужинать, а я должна устроиться на ночлег в ветвях кедра. Каждому своё.
Мальчик разинул рот, отчаянно ища причину, по которой он мог бы остаться и узнать судьбу раненого принца. Он бормотал:
– Погоди-погоди. Я пойду на ужин и украду для нас еды, как это сделал бы отважный принц Леандр. Затем выберусь под покровом темноты, словно ястреб-охотник, и проведу ночь с тобой, здесь, под звёздами, сияющими будто журавлиные перья на солнце. И ты закончишь свою историю.
Он взглянул на неё с надеждой, которая полыхала сильнее факелов, что горели по всему дворцу.
Девочка молчала, опустив голову, как храмовая послушница. Затем кивнула, не поднимая глаз, и сказала:
– Очень хорошо.
В Саду
Когда последние багровые аккорды заката растаяли во тьме на западе, мальчик вернулся, сжимая в руках плотно набитый платок. Он протиснулся в заросли и с гордостью выложил свою добычу. Девочка сидела там же, где он её оставил, неподвижная, как одно из каменных садовых изваяний. Её странное спокойствие тревожило и пугало гостя. Он не мог вынести этот тёмный взгляд и смотреть в большие миндалевидные глаза, окруженные странными знаками, поэтому уставился на тёплую еду. На квадратике из шелка лежала, поблескивая, запечённая голубка, рядом – сочные персики и холодные груши, а ещё половина хлебного ломтя, намазанного маслом и вареньем, варёные репки и картофелины, кусок твёрдого сыра и несколько засахаренных фиалок, недавно украшавших стол и прихваченных с собой. Мальчик вытащил из кармана флягу разведённого водой вина – главный приз его кухонных приключений.
Девочка не шевельнулась, даже не притронулась к голубке и грушам. Тёплый бриз всколыхнул её волосы цвета воронова крыла, несколько прядей упали на лицо; вдруг она задрожала и расплакалась. Мальчик не знал, куда себя деть, не желая ещё больше смущать её тем, что оказался свидетелем внезапных слёз. Он сосредоточился на подрагивающих ветках росшего поодаль кипариса и стал ждать. Вскоре всхлипывания утихли, и мальчик опять повернулся к рассказчице.
Он понимал, что она ни разу в жизни так не пировала, поскольку её никогда не приглашали ужинать во Дворец, – догадывался, что девочка питалась фруктами и орехами из Сада, подбирая их с земли, словно нищенка. Но он не мог понять, зачем плакать при виде изобилия. Его руки были мягкими и пахли розовым маслом, волосы блестели. Мальчик не знал жизни за пределами двора, а при дворе красивые и юные удостаивались особого обожания. Будучи ребёнком из знатной семьи, он привык видеть в сочувствии повод для обиды и не мог обидеть её.
Не сказав ни слова, девочка оторвала крылышко у медной голубки и стала деликатно его жевать. Вытащив из складок простого одеяния узорчатый серебряный нож, разрезала грушу и протянула мальчику бледно-зелёную половину. Он невольно подивился тому, что она где-то раздобыла такой красивый предмет. У него точно не нашлось бы ничего похожего, а ведь её платье, если это одеяние вообще можно было назвать таковым, износилось до дыр, под ногтями виднелась грязь. Струйка ароматного сока потекла по девичьему подбородку, и она впервые улыбнулась. Происходящее напоминало восход луны над горной рекой; свет, запутавшийся среди бледных оленьих рогов; чистую воду, текущую под ночным небом. Когда девочка снова заговорила, мальчик нетерпеливо подался вперёд, отбросил с лица густые тёмные волосы, впился зубами в спелый персик, а потом запихнул в рот кусок сыра – бездумно, не чувствуя вкуса.
Продолжая свой рассказ, она закрыла глаза, и мозаика, покрывавшая её веки, стала подобием чёрных лилий на бледной поверхности пруда.
– Дикарка вытащила длинный нож из ножен, висевших на поясе, и на миг, играючи, приложила его к гладкой шее Принца – так, что лишь лёгкий вздох отделял его от фатальной раны…
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
– Пощадите меня, госпожа, – прошептал Принц, – умоляю вас. Я останусь здесь и буду вашим слугой; займу место девы-птицы и сохраню верность вам до конца своих дней. Я буду вашим. Я молод и силён. Прошу вас!
Принц сам не знал, что его вынудило сделать такое предложение, и сдержит ли он клятву, которая вернее закона. Слова вырвались изо рта, будто женщина засунула кулак ему в глотку и вытащила их оттуда. Её глаза сверкали, словно тучи, готовые породить тысячу молний. Но теперь в них появился расчётливый блеск – и через миг нож больше не угрожал Принцу.
– Даже если я соглашусь, это тебя не спасёт, – прошипела она, как большая жаба, поющая на закате. – Но я расскажу тебе историю моей дочери и о том, как она стала крылатой. Тогда ты, вероятно, поймёшь, что предложил, и, быть может, предпочтёшь смерть.
Однако рассказ пришлось отложить. Сначала старуха оторвала длинную полосу потрёпанного меха от ворота своего одеяния и замотала руку Принца. Её прикосновение оказалось умелым и более мягким, чем можно было бы ожидать; в нём даже ощущалось подобие нежности. Из мешочка на поясе она достала сушеные листья, среди которых, как ему показалось, были лавр и можжевельник. Старуха прижала эти листья к обрубкам пальцев на руке Принца. Затянув узлы, осмотрела повязку и осталась всем довольна.
– Перво-наперво, я не слепая, вижу, что ты молод и силён. Но нет сомнений, что твою молодость и жизненную силу я могу выпить как воду из колодца. Дело не в этом. Можешь ли ты слушать? Можешь ли ты учиться? Можешь ли ты молчать? Мне это неведомо. Думаю, ты просто избалованный паршивец, у которого и ушей-то нет.
Принц покаянно опустил голову. Его рука прекратила пульсировать, и он не произнёс ни слова, рассудив, что молчание – лучший щит, способный уберечь от старой карги. Она присела на большой камень, теребя в узловатых пальцах несколько листьев, испускавших мускусный запах.
Сказка Ведьмы
Я родом из обитавшего на севере племени степнячек, у которых были косматые лошади и волосы, присыпанные снегом. Уверена, ты слышал истории о нас – мы были чудовищами, противоестественными, и заслужили свою участь.
Среди всех противоестественных чудовищ я была самой чудовищной и противоестественной. Нож – такое имя мне дали. В молодости, когда сила гудела во мне, словно натянутая тетива, я слыла лучшей наездницей из всех юных девушек. У меня было много ожерелий из яшмы и волчьих зубов, три отличных охотничьих ножа, тугой лук, который я могла натянуть так, что он превращался в полную луну, колчан со стрелами, украшенными перьями ястреба, и шкура дикой кошки, моей первой добычи. Вокруг, куда ни кинь взгляд, простирались дикие степи медового цвета, где племя охотилось на жирных оленей и обитали гнедые лошади, лоснящиеся и пахучие, которых я любила. Их бег был подобен ряби на поверхности горного озера. Я бегала и спала с ними бок о бок, ездила на них верхом. Я была счастлива: солнце стояло в зените, а больше мне ничего не требовалось.
Мои сёстры все были старше, мои братья сражались у границ наших земель, потому я была свободна и дика, а моя улыбка частенько напоминала оскал. Однажды бабушка Согнутый Лук – её все называли бабушкой, хотя она приходилась таковой лишь мне, – чьё лицо напоминало обглоданную кору и было самым уродливым из всех, что мне доводилось видеть, призвала меня к себе в новолуние. Она сказала, что нашла человека, за которого я выйду замуж. Я очень любила свою бабушку, но не желала становиться чьей-то женой. Я была мускулистой кобылицей, и жеребец мог лишь замедлить мой бег. Но слово бабушки считалось ближе всего к тому, что мы могли бы назвать законом. (Видишь ли, чудовища не ценят прелесть заповедей, высеченных на камне.) И потому, хоть я и была очень молода, надела её красивые штаны из оленьей кожи, гордо набросила на плечи свою шкуру дикой кошки и стала женой мужчины, которого она выбрала. Он был смуглым, с очень яркими глазами, и мы охотились вдвоем – сначала лишь вместе резали мясо, но постепенно превратились в одного охотника, который прыгал на крупного оленя, сверкая двумя ножами. Мы улыбались и рычали друг на друга, а потом снова улыбались, и в небе над нами сияли звёзды, точно брызги молока на чёрной шкуре.
Когда мы с ним не охотились, сёстры Ножны и Колчан – дочерей у нас всегда по три – скакали со мной наперегонки, разучивали песни нашего племени и гортанные песни наших луков, а у бабушки мы учились магии. Я заплетала её серебряные волосы, и она учила нас тайным вещам – чудовищным и противоестественным. Под Змеёй-Звездой и Уздой-Звездой и Ножом-Звездой, моей тёзкой, бабушка покрыла моё лицо искусными татуировками и назвала меня своей лучшей девочкой, посвящённой, настоящей лошадницей.
Мы росли, охотились, смеялись. Я была счастлива и не знала, что солнце миновало зенит и двинулось вниз.
Однажды армия твоего отца…
Закрой рот, мальчик. Думаешь, я не узнала тебя в тот самый миг, когда твоя нога ступила на мою землю?
Однажды армия твоего отца пришла с юга, как степной пожар, и возвестила о своём появлении пронзительными воплями. Он хотел заполучить наши жирные стада и сильных лошадей. Он хотел повесить головы чудовищ к себе на стену. Он хотел очистить своё королевство от противоестественных созданий, которые верещали и передвигались на полусогнутых ногах, своим присутствием оскверняли белый свет.
Я и не знала, что бывают такие солдаты. Они носили броню, похожую на рыбью чешую, и высоченные плюмажи, похожие на дым; они сверкали, будто тысяча серебряных облаков верхом на лошадях, чёрных как демоны. Я выпустила в эти «облака» все свои стрелы и все украшенные вороньими перьями стрелы Ножен, лишившейся руки, в которой она держала меч. Из крови и тёмных влажных внутренностей сестры я подняла её клинок и попыталась вогнать его в брюхо одному «облаку». Но от меня с мечом никогда не было особого проку, и имя моё тут ни при чём: не успела я и замахнуться, как меня одолели.
Он был грязный человек. А когда дикое существо, ночующее не под крышей, а втиснувшись между лошадьми, называет кого-то грязным, будь уверен, дело не в обычной вони немытого тела. Потрясая увитой кожаными лентами и пропитанной кровью вшивой бородой, он схватил меня за талию и водрузил на своего боевого коня. Чтобы прервать поток проклятий, лившийся из моего рта, он ударил меня по лицу рукой в латной перчатке. Она мелькнула перед моими глазами, серебряная и до странности красивая, затем мне рассекло лоб и всё вокруг сделалось красным.
Что же я была за чудовище – не выстояла против единственного рыцаря, не сумела вогнать меч в визжащего борова. Я глядела сквозь завесу из слёз, крови и глинистой грязи, как мой муж бежит следом и кричит, словно раненый волк, а за ним скачет твой отец с вороньим плюмажем на шлеме. Этот чёрный всадник вонзил огромное лезвие прямо в грудь моего мужа так небрежно и легко, будто поймал муху двумя пальцами. Я видела, как сгустки крови и частички костей полетели во все стороны; я смотрела, как кровь хлынула изо рта моего мужа на траву, как он упал на колени, будто собираясь помолиться, а потом рухнул лицом вниз, в грязь, перемешанную с кровью.
Я старалась перестать плакать и вжалась лицом в утешительный бок незнакомой лошади – по крайней мере, это была лошадь, её пот и шкура мало чем отличались от моих длинноногих друзей, – выискивая в запахе толстых мощных ног хоть какую-то надежду для моей семьи.
Мы ехали на юг.
Солнце скрылось из вида.
Тот кулак был первым, что отметил моё лицо, и от него у меня на лбу остался шрам, похожий на морской узел. Остальные шрамы – моя работа. Мы ехали долго. Я потеряла счёт дням. Кислый запах грязного мужчины и его изголодавшаяся лошадь мешали мне думать. Провизии для рыцарей и женщин не хватало, что уж говорить о бедных животных, которых стоило бы холить, лелеять и поить только чистой водой.
Через несколько дней Колчан сумела покончить с собой, прыгнув в реку; течение, словно дыхание ночи, унесло её далеко от меня, не позволило поймать и прижать своё лицо к её лицу. Она была самой старшей, но я живая, а её больше нет.
Я знала, чего мне ждать, ещё до прибытия во Дворец. Чудовища ведь не глупы. Мне предстояло стать рабыней, чтобы ублажать твоего отца и его грязных солдат. Меня бы хорошо одевали и холили, как шлюху. Рабство меня не тревожило: сбежать было бы нетрудно. Но я не желала доставлять им удовольствие, не хотела быть красивой для них. Они говорили, что татуировки, которыми меня наделила бабушка, эти красивые тёмные линии, змеящиеся по моему лицу, эк-зо-тич-ны.
Во мне, как в железной печи, горела чёрная и яростная ненависть. И потому однажды ночью, когда мой приятель-грязнуля напился и захрапел, я вытащила кинжал из ножен на его боку. Прекрасное оружие! С прямым чистым лезвием, которое мерцало, точно вода, ставшая могилой Колчан. Я приложила его к одной щеке, затем к другой и провела по ним сверху вниз – дважды, трижды, – рассекая плоть и навеки разрушая единственную красоту, какой было наделено чудовище.

Конечно, мужчины были в ярости, когда наутро выяснилось, что моё лицо покрыто толстым слоем крови, словно я набросила на себя багровую шкуру. Меня вытащили из палатки и бросили к веренице настоящих рабов, бедолаг, которым предстояло отправиться в шахты и каменоломни. Я всерьёз поверила, что туда отправят и меня, рубить скалу и собирать крохи металла, и возликовала. Что проще побега, когда горы вокруг так и зовут в гости? Я чувствовала себя будто нарядилась в лисью шкуру и припасла достаточно трюков, предвкушая победу. Но я ошибалась.
Дворец возник перед нами, словно вставший на дыбы жеребец, крупный и грозный, и, к моему ужасу, меня не отправили дальше, в золотоносные холмы или укрытые известковым покровом лощины, а затащили внутрь. Вниз, вниз, вниз, вниз – я прошла тысячу ступеней и сотню ворот, ведомая грубыми руками, и очутилась в маленьком и сыром подвале. «Ах, – решила я тогда, – вот и кара за испорченный военный трофей».
Я выла. Я кричала и вопила, как стая обезумевших сов, выдирала волосы и царапала каменный пол, пока напрочь не стёрла пальцы. Я лежала на полу, свернувшись калачиком, словно ребёнок, и рыдала: мой побег стал невозможен, мне предстояло провести остаток жизни в этом месте, в тысяче ночей от моих заснеженных, открытых всем ветрам степей. И вот тогда-то в темноте раздался смешок, а потом знакомый грубовато-нежный голос, напоминавший волчью шерсть, о которую трёшься щекой. Он негромко произнёс:
– Ну что, девочка моя, ты наконец-то успокоилась?
Я всмотрелась в густую тьму, обозревая комнату до самых углов. Там, где я ожидала увидеть груду костей да пучки старых волос, скрестив ноги и смеясь, сидела моя бабушка, одетая в лохмотья.
– Тебе нужно было немного побуянить, знаю, но сейчас ты просто потакаешь своей слабости. Разве я плохо тебя учила?
Она развела худые руки, кожа на которых напоминала обглоданную кору, и я упала в её объятия. Не знаю, как долго она меня держала, сколько раз я умирала, воскресала и умирала вновь. Но, когда я подняла глаза и посмотрела ей в лицо, она гладила мои волосы и улыбалась.
– Всё не так плохо, милая, они могли тебя убить.
– Это хуже, – проворчала я. Бабушка тотчас же ударила меня по изуродованному лицу, словно лошадь по крупу шлёпнула.
– Нет! Ты жива, а обе твои сестры мертвы. Что же ты себя жалеешь, маленькая паршивка? Кажется, я тебя избаловала.
Потрясённая, я уставилась на неё, точно глупый зверь.
– Они притащили меня сюда, так как думают, что могут сломать меня или использовать, либо и то и другое, – задумчиво произнесла она. – Я ведь, как-никак, весьма необычная рабыня и принадлежу глупому придворному волшебнику, мастеру фокусов со шляпой и кроликом. Я решила, пока и так сойдёт… Они продержат меня здесь достаточно долго, чтобы я поняла, кто главный, а кто нет, и тогда меня приведут к Королю, чтобы показать, какая я послушная собачка. Я окажусь достаточно близко, чтобы перерезать ему глотку. – Бабушка лучезарно улыбнулась, не скрывая ликования. – А потому у нас с тобой мало времени на разговоры, я должна рассказать историю, которая позволит тебе примириться с собственной судьбой. – Поджав губы, она изучила мои изуродованные щёки. – Хорошо, что ты погубила своё лицо. И не только потому, что это привело тебя ко мне, а ещё и потому, что красавицам редко удаётся сильная магия.
Я смотрела на неё и слушала, слова текли вокруг меня, будто я погрузилась в холодный пруд, и его вода качала меня, охлаждая разгорячённую кожу. Бабушкины глаза блестели, точно совиные, а её лицо было спокойным ликом луны.
– Теперь слушай меня. Прежде чем нас разлучат, я должна рассказать историю своего ученичества, чтобы ты узнала то, что знаю я, то, чему могли бы научиться вы с сёстрами, не свались Король на наши головы, словно камень, брошенный с горы. Раз уж так случилось, тебе придётся взять то, что можно взять с этой дряхлой развалины.
Девочка замолчала, сжав нежные губы и глядя в темноту глазами, окруженными тенями и паутиной из слов.
– Ты так внезапно умолкаешь, – уныло заметил мальчик, – словно упрямая черепаха, которая прячет голову в панцирь именно в тот момент, когда мне хочется услышать, что было дальше. Это сильно раздражает.
Девочка вяло улыбнулась, словно извиняясь, но нужных слов не нашла. Она аккуратно облизнула губы, вкушая последние крупицы запечённой голубки.
– Просто мне надо немного отдохнуть. Мы можем поспать час, а потом я продолжу. – Она покраснела до ушей. – Можешь лечь рядом со мной, если хочешь; по ночам здесь холодно.
Девочка устроилась в высокой траве, мальчик неуклюже улёгся рядом. Они долго не могли заснуть, дрожа от напряжения в присутствии друг друга, будто он не спал каждую ночь рядом с братом или сестрой, а она не проводила каждую ночь то в цветущей беседке, то в древесном дупле. Мальчик следил за тем, как ветер играет её волосами, словно тростником у реки, и, когда она наконец уснула, сам расслабился и задремал.
Но вскоре уже будил её, томимый желанием услышать историю, как бродяга в бескрайней пустыне жаждой.
Сказка Бабушки
Моё ученичество длилось много лет, и, чтобы рассказать тебе всё, не хватит времени, которое мы сможем провести вместе в этом тесном и тёмном подвале. Я поведаю тебе лишь об одной-единственной ночи – последней ночи, когда я ещё считалась ученицей, последней ночи детства. Истории вроде этой живут среди теней, в глубине-на-дне-глубины, куда солнцу нет хода.
Моя мать умерла во время налёта, когда я была совсем малышкой, а её мать умерла при родах. Поэтому меня было некому учить, никто не мог поделиться со мной секретами и указать моё место в племени. Когда я достигла совершеннолетия, меня отослали в соседний посёлок на телеге, груженной шкурами и драгоценностями, которыми тамошней ведьме заплатили за мое обучение и приют. В те времена мои волосы были густыми, рыжими и яркими, как степной пожар. Руки и ноги гладки и крепки, словно копыта, – я почти не замечала, что, пересекая широкую пустошь между деревнями, телега дребезжала и подпрыгивала.
Я прибыла на место. Моя наставница оказалась свирепой, красивой и жуткой. Турайя была очень строга: она не доверяла мне, чужачке, моим рыжим волосам, простому имени и, самое главное, моему упрямству. Целый год я была лишь её служанкой: подметала пол в хижине, полировала ножи, носила ей воду и чесала лошадей. Турайя не разговаривала со мной. Я спала снаружи, под звёздами, постель мне заменяла сухая трава. Только на второй год она позволила мне спать рядом с собой и начала моё обучение. Может, так и надо поступать с девочками? Не знаю. Я не была такой, когда растила тебя, Колчан или Ножны. Наверное, я просто оказалась слабее, чем моя старая наставница.
В первую же ночь второго года я лежала рядом с ней, напряжённая, ощущая запах плесени, который шел от её старой кожи, её острые локти и колени, её жесткие белые волосы, в свете угасающих углей костра казавшиеся почти того же оттенка, что и мои, как вдруг она, не глядя на меня, сказала:
– Слушай, Согнутый Лук, козочка моя. Посмотрим, сможешь ли ты научиться ещё чему-нибудь, кроме дойки яков…
Сказка Лошадницы
Открой уши свои, впусти в них небо.
В самом начале – до того, как вшивый и косматый козёл да одинокий батрак в своих грёзах увидели тебя, – существовало одно лишь небо. Оно было чёрным и огромным, каким и должно быть небо, в котором больше ничего нет. Но небо выглядело небом, только если на него смотреть искоса, а если взглянуть прямо – чего, конечно, никто не мог сделать, так как смотреть было некому, – оно представлялось длинным и гладким боком Кобылы.
Черна и огромна была Кобыла, какой и должна быть лошадь размером с целый мир.
Прошло много времени, и Кобыла прогрызла в себе дыру, по причинам, которыми ни с кем не поделилась. Дыра заполнилась светом тем же образом, каким дыра в тебе или во мне заполнилась бы кровью, а то, что получилось, называли Звездой. Таковы были первые, истинные дети Кобылы, созданные из её собственной плоти. И поскольку ей понравился свет и чьё-то присутствие, она прогрызла другие дыры, по форме напоминавшие Барсуков и Плуги, Оленей и Ножи, Улиток и Лис, Траву и Воду, и так далее, и тому подобное, пока Кобыла не заполыхала множеством дыр, и все они были Звёздами, и небо теперь не было таким уж пустым.
И вот дыры ожили, стали двигаться, как движемся мы с тобой, и одна, по форме напоминавшая Всадника, забралась на Кобылу верхом – и Кобыла сделалась полна и огромна, какой и должна быть лошадь размером с целый мир, и целый мир появился из неё, как жеребёнок, в потоке света и молока и чёрной, чёрной крови из самых тайных глубин неба. И трава, и реки, и камни, и женщины, и лошади, и новые Звёзды, и мужчины, и облака, и птицы, и деревья явились, танцуя, сквозь послед Кобылы и радостно плавали в её молоке, и тайная её кровь перестала течь, и весь мир был создан, и океаны омыли берега, и Кобыла лёгким галопом удалилась в дальние углы самой себя, которые лишь самую малость проглядывали сквозь пылающее поле её Звёзд. Там, на пастбище, которое ни ты, ни я не сможем вообразить, она мирно жуёт любимые Травинки-Звёзды.
А дыры, которые были Звёздами, всё ещё оставались полны света и бродили по небу, неуклюжие, словно трёхлапые собаки. Без Кобылы тьма была просто тьмой, а не боком, не шкурой, не тем, у чего есть запах, и соль, и шерсть. Разумеется, дыры испугались, ведь до той поры их ноздри ощущали запах кобылы, и сами они спиной чуяли её присутствие. Несколько дыр посмотрели вниз, на то, что вышло из Кобылы, прежде чем она их всех покинула, и подумали, что там не так страшно и темно, как в небе… Кроме того, там многое походило на них: барсуки и плуги, олени и ножи, улитки и лисы, трава и вода. И даже лошади, которые походили на Кобылу, какой они её помнили, только намного меньше и самых разных цветов.
Тогда, козочка ты моя чесоточная, стали они жить как мы с тобой, в то время как их не столь смелые братья и сёстры по-прежнему пребывали в небе и освещали им путь. И были они и учителями, и учениками, и матерями, и дочерями, и братьями, и дядьями, и брюзгливыми стариками. И ничего они не могли поделать с собой: их везде сопровождал свет, тот свет, который, как ты помнишь, был на самом деле не светом, но кровью Кобылы, пролитой в первые дни мира.
Стало быть, вначале кровесвет переполнял их до такой степени, что всё, к чему они прикасались, становилось серебряным и белым, – он сочился из них, словно пот, и всё им пропитывалось. Но время шло, света оставалось меньше, и они испугались, что потеряют то единственное, чем их наделила мать Кобыла. Ещё сильнее они боялись огромного тёмного неба, в котором не было матери, и не хотели снова покидать мир. И потому они начали прижиматься друг к другу, как цветы, растущие среди камней, и ушли в пещеры и холмы, реки и долины, как можно дальше от всех, и касались лишь себе подобных, потому что свет, перетекая из одного тела в другое, переливался и мерцал, но не утрачивался навеки.
Но хоть Звёзды скрылись от всех, вещи, к которым они прикасались, остались на прежних местах, полные света, который был кровью, и они излучали серебристо-белое сияние. И были эти вещи особенными, блохастик мой… Камни и растения передавали свет камням, лежавшим глубже, или семенам, а люди передавали свет детям, и он уменьшался в точности так, как когда Звёзды впервые трогали мир, истекая кровью. Вскоре никто уже не мог понять, к чему прикасались в первые дни, а к чему – нет. Свет был погребён под покровом тайны.
Но не исчез. Во многих вещах и людях он ещё мерцает глубоко внутри. И этот свет, моя неряшливая, охочая до молочка детка, и зовётся магией.
Сказка Бабушки (продолжение)
Я слушала её историю и думала о том, что она сладко пахнет кровью, молоком и шкурой, будто сама Кобыла, и я позволила себе по чуть-чуть придвигаться к ней. Той ночью она больше ничего не сказала.
Я росла под её хмурым взглядом много лет, как лоснящийся жеребёнок, училась искать мерцание внутри себя, управлять этим светом, силой, быть для неё уздой и удилами. Мир бежал подо мной, словно поле под янтарными копытами, и я чувствовала, как в моём теле пульсирует кровесвет, будто новая жизнь… А я многим помогла родиться, девочка моя, как под руководством Турайи, так и сама.
Свет собирался в моей душе, и я ликовала. Я училась превращать его в снадобья, заклинания и амулеты, выталкивать его из себя и придавать разные формы. Сколько ночей я провела с ней под открытым небом во время грозы, когда её волосы струились на ветру, как обезумевшие змеи, а руки обращались к разгневанным тучам, извергавшим молнии? Я изучала и то, в чём не было света: дороги животных и степные пути. Я узнала, как спасти жеребёнка, который застрял в утробе матери, как поймать и подоить косматых коров, что жевали траву в прериях. В молодости время летит быстро, я любила свою госпожу, и мне ещё многому предстояло научиться.
Но однажды ночью Турайя пришла ко мне в короне из лунного света и тьмы.
– Согнутый Лук, – прошипела она, – козочка моего сердца. Ты должна сейчас пойти за мной. Раз в жизни постарайся не задавать никаких вопросов.
Я открыла неугомонный рот, потом хорошенько подумала и закрыла его, взяла свой мешок и последовала за худой фигурой через длинный луг, окружавший деревню. Мы шли милю за милей, и её расплывчатый силуэт маячил впереди, так что я погрузилась в полудрёму, а небо и жестокий зимний ветер плавно скользили по моим щекам.
Через некоторое время мы подошли к исполинскому утёсу, который возник перед нами, будто огромный медведь. Ведьма притянула меня к себе и обняла, чего раньше не делала ни разу. Когда она отстранилась, её грубоватое лицо было влажным от слёз.
– Ты была моей лучшей ученицей. Я тобой горжусь. Но сегодня вечером мне нельзя идти с тобой. Я такого никогда не делала… у меня нет на это права. Оно есть только у тебя, и, останься в твоей семье хотя бы одна женщина, мы бы никогда не встретились. Если утром ты вернёшься в деревню, это будет означать конец твоего ученичества. Ты станешь полным колодцем: в нём будет достаточно серебряной воды, чтобы ты могла вернуться к своим людям, напоить их, указать путь и научить. Дальше будешь учиться сама, как все мы, до конца своих дней сами себе учительницы и ученицы, наставницы и подмастерья. Ты вернёшься, отягощённая знанием, и передашь его своему племени, и сила твоя будет расти, точно дитя, и ты проведёшь остаток жизни в труде. Но сначала ты должна пережить эту ночь и родиться заново. Тогда ты будешь готова, моя прекрасная, прекрасная дочь. Моя прекрасная козочка.
Её рот изогнулся в сердечной улыбке, сделавшись похожим на скимитар[1], и она указала на дыру, зиявшую в скале. Я неуклюже поцеловала её в щёку, заглянула в её сияющие глаза. Я решила, что спрячу свой страх, овладею им и войду в него, буду бродить внутри, пока он не исчезнет в моём тихом, спокойном нутре. Я отвернулась от Турайи, моей жизни с ней и юности, и вошла в пасть пещеры.
Вскоре я уже ничего не видела: тьма будто руками закрыла мои глаза. Я расчистила себе место на прохладной твёрдой земле, прислушиваясь к медленному и ленивому шуршанию летучих мышей где-то очень высоко. И стала ждать, скованная чернотой.
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
Краснеющее солнце освещало лицо Нож, её нос отбрасывал тень на шрамы, а глаза были глубоки и непроницаемы, словно заснеженные горы. Вокруг дома, тут и там, как цветы на лугу, стояли деревянные вёдра с водой из колодца, на её поверхности играли багровые и шафрановые блики, вторя полыхающему небу. Принц покачался на пятках, провёл рукой по густым чёрным волосам, увлажнившимся от пота. Встрепенулся, будто сбросив чары, и внимательно посмотрел на старую Ведьму.
– Ну, – выпалил он, – и что было потом?
Женщина издала сиплый смешок.
– Потом красавчик Принц вошел в хижину, потому что близилась ночь, и замесил тесто, чтобы мерзкая, уродливая Ведьма смогла испечь хлеб.
Принц, до сих пор умудрявшийся вести себя с достоинством, чуть не сорвался. И что же, теперь он должен трудиться на кухне у этого убожества, словно какая-нибудь судомойка? Леандр из Восьми королевств, Двукровный повелитель границ, сын Хелии Блистающей точно не станет печь мерзкий хлеб для тощей крестьянки в дрянном местечке. Да, он пообещал служить ей, но собирался делать это подобающим мужчине способом, сокрушая одних существ и спасая других. Хлеб не нужно было ни сокрушать, ни спасать.
Принц открыл свой благородный рот, чтобы кое-что сказать старухе, но её ледяной взгляд превратился в петлю вокруг его шеи и не дал вымолвить ни слова. Её зубы до жути ярко блестели между потрескавшимися губами и будто удлинялись, превращаясь в наползающие друг на друга ножи цвета слоновой кости. Через миг видение исчезло, но теперь Принц был убежден, что хлебопечение – самое достойное и приятное занятие, а замес теста, возможно, не сильно отличается от сокрушения.
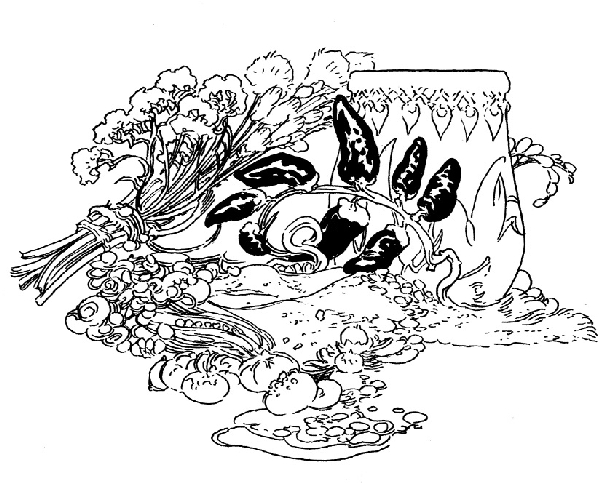
Хотя ему пришлось согнуться, чтобы войти в хижину, там оказалось удобнее и просторнее, чем можно было предположить: в углу пламя лизало кривые поленья боярышника, вдоль стен выстроились книги в переплётах. Нож повернулась, когда он снял свои сапоги из отменной кожи.
– Уж прости за дверь. Мой народ всегда был низкорослым.
Пучки сушеных трав и некогда ярких цветов свисали с крючков на потолке, будто серые, красные и коричневые сталактиты. Он увидел увядшие цветы персика, покрытые пылью люпины, розы и связки грибов, похожих на розы, дягиль, трифоль, бурую водоросль, мать-и-мачеху, руту и просвирняк… на чём его невеликие, как у всех принцев, познания в ботанике закончились. Блестящие чёрные шкуры покрывали пол, точно осенние листья. Границы просторной главной комнаты отмечали развешенные повсюду отрезы необычных тканей ярких цветов, на полу были расставлены большие терракотовые вазы и загадочные сундуки с медными и серебряными замками, а также бесчисленные трости из самых разных материалов; массивный стол из полированного дерева громоздился возле очага. В целом Принц увидел именно то, что ожидал увидеть в жилище Ведьмы.
На столе виднелись куски только что замешанного теста и керамические горшочки с душистыми специями. Старуха взмахом руки указала на них и низкий стул. Сама она повернулась к большой железной плите, и её мускулистая спина закрыла то, что там готовилось, исходя паром. Воцарилась долгая тишина, которую нарушали тихие хлюпающие звуки: Принц одной рукой, медленно и неуклюже, замешивал тесто, не касаясь его раненой кистью, чтобы сочащаяся из неё кровь не запачкала хлеб. Обрубки пальцев почти не болели. Через некоторое время Нож, оторвав взгляд от плиты, потрясла седоволосой головой, как жеребёнок гривой, и произнесла, обращаясь к стене из неотёсанных брёвен:
– Знаешь, у тебя волосы матери, такие же длинные кудри, будто полосы коры. Только цвет другой.
В её грубоватом голосе звучала боль. Повернувшись, она подошла к столу с двумя глиняными чашками, в которых дымился зеленовато-желтый чай.
– Ивовая кора и дикая мята, – проворчала она, касаясь столешницы. Пламя очага чётко высвечивало её профиль. – И глаза у вас похожие, хотя не обошлось без твоего отца – он наделил тебя чернотой, в которой ничего не отражается.
У Принца перехватило дыхание, слова ринулись к его губам и умерли, задохнувшись на языке. Всё его тело будто боролось само с собой, и в какой-то момент он понял, что тихонько плачет, орошая солёными слезами хлеб, а его молодые плечи судорожно вздрагивают.
– Прошу, скажи, – взмолился он, – что ты знаешь о моей матери? Нет… не говори, ничего мне о ней не рассказывай. Никогда не рассказывай. – Принц вытер глаза грязным рукавом. – Говори мне о том, что случилось с твоей бабушкой в пещере, рассказывай старые сказки о Звёздах, в которые больше никто не верит, но не проси, чтобы я вспоминал мою мать.
Ведьма отхлебнула чая.
– Сидя в темнице, бабушка потёрла виски и выпила немного грязной воды из ржавого железного ковшика, который нам оставили. Я ждала терпеливо, как подобает хорошей ученице. Наконец она продолжила…
Сказка Бабушки (продолжение)
Разумеется, было темно. Такие вещи всегда начинаются в темноте. Я прислонилась к скале, чувствуя её влажноватую поверхность, вдохнула тяжелый воздух каменной утробы, что была темнее самой черноты.
Шли века. Или минуты.
Тени вокруг меня были плотными, с конечностями, а их тела имели вес. Временами я была спокойна и внимательна, будто сидела на гигантском лепестке иссиня-чёрной лилии, и её мясистая плоть изгибалась подо мной, настолько совершенная, что никакая часть меня не устояла бы перед желанием стать её частью.
И моё тело менялось, превращаясь в её угольно-сумеречное тело. Порой мне становилось холодно, я чувствовала себя одинокой и очень маленькой. Но я ощущала внутри непокорный огонёк, от которого исходило тепло, как от костра у ног. Его свет прошел сквозь меня, словно я была решетом из шелка, оставил чистой и непорочной в тишине пещеры. Я сидела, повернув руки ладонями кверху, пытаясь удержать изгиб темноты, похожий на свисающее брюхо цвета грозовой тучи, покрытое тёмными символами, живыми, дышащими, кружащимися в фиолетовой мгле, что приходит после заката.
Наверное, я почти уснула, как вдруг моё тело вспыхнуло и вздрогнуло, и в гематитовом воздухе появилось нечто. Сначала я не могла разглядеть ничего, кроме пятна, ещё более черного, чем чернота вокруг. Его края, излучавшие слабый свет, были границами некоей формы, очерченными жаром молнии, мерцающим послеобразом[2]. Я испугалась, внучка, конечно же я испугалась. Протиснулась в углубление, имевшееся в стене, и дрожала как новорожденный оленёнок.
В конце концов я разглядела длинную голову и струящуюся гриву, сияющие глаза, круглые, точно луны. Она казалась частью камня, частью ночи, частью того, с чем мне ещё ни разу не приходилось сталкиваться. Мои глаза закатились, кожа покрылась липким потом. Моё сердце билось так сильно, будто я проглотила колибри.
И вот фигура, обрамлённая белым огнём, сделалась ясной и чёткой.
Я мгновенно узнала изгиб её длинной чёрной шеи, гладкий круп и бархатистую шкуру, толстый хвост из тысячи кос, подметающий пол пещеры, дыхание, облачками вырывающееся из больших ноздрей, словно дымок из трубки: то была лошадь, превосходящая лошадей мечты, предвосхищавшая любые догадки о размере или надежды на красоту. Её уши, напоминавшие жесткие перья, достигали потолка пещеры и, подёргиваясь, вырезали на камне загадочные стихи. Её копыта ступали по беспорядочно разбросанным обугленным челюстям, лопаткам и грудным костям, похожим на скипетры.
Кобыла спокойно глядела на меня, изредка похрапывая и моргая добела раскалёнными глазами. Наступила тишина – такая же, как там, где тысяча зим сходятся у края вечных снегов.
Я по-прежнему не знаю, откуда взялась храбрость, из какого тайника во мне она выскочила, будто весело журчащий родник. Но я приподнялась на слабых ногах и протянула свою маленькую руку к существу, не замечая защитного круга из дребезжащих костей. Я погладила её нос и чело, не знавшее света… Внучка, я даже теперь не могу описать гладкость её плоти и лёгкость, с которой моя рука скользила по густой мерцающей шкуре. Её кожа была точно свежие сливки или тень ворона, летящего высоко в безлунной ночи. Она была красива и ужасна, дика и чиста. Её глаза врощались как солнца, а её огромное сердце громыхало напротив меня. Я припала лицом к её гриве, вдохнула запах дикой земли и горящего неба. Кроме неё, не осталось другого мира.
Внезапно, без предупреждения, громадная голова повернулась, словно распахнулась дверь, – и чёрная Кобыла вонзила в моё плечо полыхающие зубы, разрывая мышцы до костей. Мой беспомощный крик раскатился эхом по пещере, и кровь потекла из раны, словно река по красному каньону, тёплым потоком проливаясь на мои груди и руки. Я забилась, колотя руками по её боку, но зубы лишь глубже входили в мою плоть. Наверное, я потеряла сознание и, падая к её ногам, не ждала ничего, кроме смерти.
Придя в себя, я обнаружила, что снова лежу у скальной стены, вымокшая в собственной крови, как после ливня. Кобыла исчезла. Я залилась горькими слезами… Хотя она вонзила в меня свои зубы, мне их не хватало, я чувствовала себя пустой без их обжигающего света. Кобыла сделала то, что делала всегда, – прогрызла дыру в плоти, и теперь, когда она ушла, края этой дыры по ней тосковали. Её отсутствие заполняло пещеру, точно угасающее эхо.

На месте, где появилась Кобыла, возникло создание поменьше, в котором не было ничего внушительного или ужасного: оно сидело на задних лапах, и его глаза посверкивали в заново сгустившейся тьме. Увидев, что я ожила, существо прошло по земляному полу и остановилось прямо перед моим лицом. Это был красивый рыжий Лис с восхитительным пушистым хвостом. От него пахло жженой травой и медной стружкой, а по его шерсти пробегали зловещие ржавые искры.
К моему удивлению, Лис склонил свою любознательную мордочку и стал слизывать кровь с моей раны. Он закрыл блестящие глаза и трудился, делая грубые долгие и ужасно болезненные движения колючим розовым языком. Я прикусила губу и не всхлипнула, хотя прикосновение его шерсти к моей истерзанной коже вызывало агонию. Алый прилив постепенно отступил. Но маленький Лис не закончил со мной. Он открыл рот и довольно чётко проговорил:
– Прижми к ране немного желтокорня и корня одуванчика из твоего мешка, а сверху положи листья лавра, чтобы примочка держалась. Это поможет. Но важно полностью не останавливать кровотечение. Моя мать подготовила тебя, но кровь твоего тела тебе ещё понадобится.
Я безропотно повиновалась. Когда я закончила, Лис подался вперёд, чтобы понюхать моё плечо и проверить работу. Я внимательно следила за ним и, когда его голова наклонилась, быстро схватила его за поросшую жесткой шерстью шею. Хотя он забился в моих сильных руках и попытался укусить, я зашипела сквозь собственные острые зубы:
– Ты сейчас же расскажешь мне, что здесь происходит, Лис, или я сниму с тебя шкуру и засуну в мешок с лавром и корнем одуванчика быстрее, чем лев смог бы проглотить мышь.
Лис фыркнул и плюнул в меня, словно капризный ребёнок, но, потратив ещё какое-то время на сопение да ворчание и сообразив, что я не выпущу его шею из рук, ответил с уязвлённой гордостью:
– Ты, девчонка, не должна… трогать меня, ты не должна… набрасываться на меня или задавать мне… вопросы. Так нельзя! Но ты притронулась к Кобыле, а это тоже запрещено. Я лишь могу надеяться, что боль от её укуса была неимоверной. Она стерпела прикосновение твоих рук. Мерзость! Они такие грязные, ты такая грязная и тёмная, и ты прикоснулась к ней, прикоснулась ко мне!
Я осторожно отпустила его и отодвинулась, а он, разъярённый, начал тереть нос и шею и отчаянными движениями розового язычка мыть свою шерсть. Я улыбнулась, изображая храбрость, и кивнула, демонстрируя мнимую уверенность в своих силах.
– Лис, думаю, я вела себя хорошо и достаточно настрадалась, чтобы узнать, зачем я здесь.
Лис издевательски ухнул. Этот звук не слишком вязался с его изящной красновато-коричневой мордочкой.
– О, ты думаешь, что была… хорошей? Да? Ты думаешь, что страдала?! Ничего ты не знаешь, глупая коза. – Он встал на задние лапы. – Я Слуга Чёрной Кобылы. Ты мою мать… приласкала, дрянная девчонка. Она сотворила слова, но не говорит; она приносит мечты и видения, но не спит; она поглощает бурю, но ничего не знает о дожде или ветре. Я говорю за неё; я ей… принадлежу. Это не было испытанием, человеческое дитя; оно тебе ещё предстоит. Боль – не испытание. По мне, ты уже всё провалила: посмела тронуть ту, что несёт Луну в своём брюхе, ту, что ожеребилась Звёздами в Начале Мира. Но она стерпела твои нечистые руки на своём теле и благословила тебя своими священными зубами, так что где-то в тебе должно быть то, что родилось в ней.
Лис раздраженно потоптался на месте и уставился на меня с мольбой во взгляде.
– Зачем, ну зачем ты это сделала? Зачем тебе понадобилось гладить её, словно она твоя лошадь, твой домашний зверёк? Ох, мать моя, уж не собиралась ли ты на ней прокатиться?! Даже… даже я не удостоился разрешения прикоснуться к ней за все годы службы, ни разу… Ужасное дитя, почему ты не держала свои руки при себе?
Лис снова придвинулся ко мне. Превратившись в багровую вспышку, он жестоко полоснул меня когтями по левой груди, рассекая плоть, как спелую сливу. Я могла бы поклясться, что слёзы блестели в его чёрных глазках, золотой шерсти и усах.
– Вот тебе, – прорычал он, – это за твоё преступление: моя отметина. Я Слуга! Я иду подле Кобылы; я пил её молоко и охотился с нею! Я жевал маленькие Травинки-Звёзды сотнями и тысячами вместе с нею! И это я не буду исцелять!
Теперь маленький зверь, поднявший шерсть дыбом, по-настоящему меня испугал; в темноте раздалось наше учащённое дыхание. Я прижала руку к новой ране, кровь сочилась сквозь сомкнутые пальцы. Лис будто пришел в себя, его шерсть улеглась.
– Я уже половину отпущенного тебе времени растратил, маленькая идиотка. – Он возвращался к ритуалу, сверкая глазами. – Но ты не пройдёшь испытания, так что вряд ли это важно. Иди вперёд, дитя мерзости, во вторую пещеру, что зовётся Пещерой Волков, а оттуда – в Пещеру Семи Спящих. Там и ждёт тебя испытание. Пройди три пещеры и стань взрослой женщиной. Или умри в одной из них. Помни, боль – не испытание. Знаний недостаточно. Многие были здесь до тебя, малышка, и никто из них никогда не рассказывал о том, через что прошел. Это запрещено. Ты можешь взять с собой только собственное тело, мешок останется здесь. Иди, с тобой благословение Кобылы. И исполни свой долг, если негодница вроде тебя на такое вообще способна.
Лис ещё раз клацнул острыми как иголки зубами в моём направлении и, направившись к дальнему концу пещеры, прошел сквозь каменную стену и исчез, будто его и не было. Из раны ещё шла кровь; хотя немного листьев и порошков из моего мешка помогли, на платье осталось тёмное пятно. Я пригладила волосы, встала, чуть увереннее держась на ногах, и попыталась разглядеть проход во вторую пещеру. Там, где исчез Лис, взмахнув красивым хвостом, у самого пола в скале появилась маленькая дыра цвета свежей крови. Мне с трудом удалось бы протиснуться сквозь неё. Я подошла ближе, внушая себе, что спокойна, как отблеск лунного света на перьях журавля.
Девочка говорила, держа большие глаза закрытыми, так что её веки и покрывавшая их мозаика казались тёмными лилиями на поверхности бледного пруда. К небесам летели изумрудные песни лягушек, и совы пели в мерцающих прибрежных зарослях, сидя на чёрных ветвях, укутанные в фиолетовое дыхание цветов палисандрового дерева. Голос рассказчицы становился то громче, то тише, в такт этим мелодичным звукам. Девочка отпила вина из фляги и провела пальцами по выгравированному на ней узору. Ветер шевельнул её волосы, как лепестки на поверхности воды.
Несмотря на отдых, её голос снова заставил мальчика погрузиться в неглубокий сон. История то и дело вторгалась в его разум, будто игла, за которой тянется шелковая нить. Его голова лежала у девочки на коленях, и она, продолжая рассказ, погладила его мягкие тёмные волосы – сначала робко, а затем с нарастающей нежностью. Звёзды в вышине горели, точно свечи во Дворце. Луна была высоко – полная, как парус на ветру; она спокойно продвигалась сквозь валы синих туч, рассекая их пенистую сапфировую плоть мерцающим плугом. Тени длинными минаретами упали на сады, дворы, лимонные деревья и оливы, акации и ползучие лозы, на бело-желтые, как кость, лилии и спящий Дворец. Голос девочки был словно шелест тростника на тёплом ветру, заблудившегося в лабиринте мощёных дорожек.
Сказка Бабушки (продолжение)
Я опустилась на корточки, втиснулась в дыру, и гладкая скала начала таять на глазах, становясь грязью, как лёд превращается в воду. Я, еле дыша, под гнётом скользкого камня ползла на животе, будто земляной червяк, а сверху на меня капала жидкая грязь. Я говорила себе, что грязь – это всего лишь грязь, что я её не боюсь и что любая дыра где-то заканчивается. Тем временем грязь забила мой рот и нос, залепила глаза. Я чувствовала вкус земли и не видела ничего вокруг.
Но я выбралась – в конце концов мы всегда выбираемся – на другую сторону, ещё в одну пещеру с таким же земляным полом. Было слишком темно, чтобы разглядеть, где она заканчивается, но скальные стены сужались кверху, превращаясь в узкую щель, сквозь которую лился лунный свет, и откуда-то издалека доносились отголоски ласкового дождя.
Я должна была всё понять в тот самый момент, когда мои ноги коснулись пола. Я слышала бурю, разразившуюся ужасно далеко; как с толстых сосновых иголок падают капли, трава пьёт воду, грибы всасывают её и мхи пропитываются ею. Серебристый, слегка мерцающий отблеск дождя на сочных зелёных листьях и липкий запах отсыревших, гниющих цветов звучали в моих ушах, как бубенчики на лошадином седле. Но круп небесной кобылы, видимый через отверстие в потолке пещеры, был чист и полон ярких суровых звёзд.
Дождь не тревожил небо надо мной, потому что шел где-то очень далеко. Но мои уши и нос чуяли его, как лезвие ощущает молот, высекающий искры. Я быстро обежала полутёмное помещение, изучая его и пытаясь вынюхать испытание до того, как оно бросится на меня из засады. Я должна была всё понять… Но тыкать влажным носом в дальние углы пещеры казалось столь же естественным, как и передвигаться лёгким галопом, вздыбливать шерсть и щёлкать челюстями в темноте.
Я искала вторую дверь, но её не оказалось, хотя часть обращенной ко мне скалы была на удивление отполированной и имела глубокий янтарный цвет; в ней отражалось помещение, залитое лунным светом, и я сама. Я увидела нечто серо-белое, когда проходила мимо, и резко остановилась: сердце трепыхнулось в груди, комок подступил к горлу. Это было мое отражение в камне.
С блестящей стены пещеры на меня глядел очень большой и красивый серый волк. Длинные косматые уши подёргивались, язык вывалился между пугающе свирепыми зубами. Мои чёрные глаза поблескивали, а шерсть была цвета теней, отбрасываемых на воду луной, – цвета звёзд, всех оттенков мерцающего бледного серебра, от камня до снега, – от сильных ног до кончика моего необычайно длинного и горделивого хвоста, который с величественной тяжестью опускался на земляной пол.
В общем и целом, внученька, выглядела я прекрасно. Я завыла, чтобы услышать свой голос, который отразился от стен, будто стрела от зелёного дерева. Он был такой громкий, что я подпрыгнула от неожиданности. Но, кроме меня, вокруг по-прежнему никого не было. Я прошлась туда-сюда, словно раньше мне не приходилось передвигаться всего на двух ногах. Казалось, нет ничего более естественного, чем моя новая пружинистая поступь, умение держать равновесие с помощью хвоста, прикосновение цепких когтей к незаметным корням и камням. Быстрый глухой перестук новых лап отправил в небытие смешные воспоминания о том, что я когда-то была девчонкой и спала в мягкой постели. Мои мысли стали волчьими, меня обуяло желание вырваться в ночь, на охоту, припустить на сильных лапах через поля. Мою душу заполнили воспоминания о том, как я со всех ног бегу по пушистому снегу со своей стаей, выкармливаю красивых серых щенков в тёплом логове, выслеживаю зайцев и оленей в зелёных горах, забираюсь на фермы, где полным-полно жирных свиней и беспомощных весенних ягнят. Я была безмолвной и свирепой, знать не знала о бесконечных подметаниях пола в хижине и чистке очага. Вообще, что такое «хижина»? И что такое «очаг»? Я с большим трудом вспоминала собственное имя, а потом – то, что оно у меня когда-то было и что значит «имя». Я будто погрузилась в сон, накрывшись тёплым одеялом, которым стало волчье тело. Ведь я устала, понимаешь, так устала…
Ты должна понять, Нож моего сердца: случившееся со мной изменило не только тело, но и разум; это поглотило меня без остатка, вобрало в себя.
Ночь всё длилась и длилась, но ничего не происходило. Поэтому я, свернувшись в клубок мерцающей шерсти посреди пещеры, уснула, затерялась в черноте бесконечной ночи и снах, где я охотилась и ела, всё время ела.
Вспоминая об этом теперь, я думаю, что вряд ли спала – волкам нет нужны слишком долго дрыхнуть. Я проснулась внезапно, хотя ни один звук меня не потревожил, и увидела три высокие фигуры на почтительном расстоянии.
Первой стояла белая волчица со скошенными ушами и нежными глазами цвета дождя. Её мерцающая шерсть была синеватой, как новая луна среди заснеженных ветвей, хвост медленно колыхался, словно поток льда, рисуя узоры на земляном полу.
Вторым был волк – чёрный как ночь в разгар зимы, с глазами, подобными грозовым тучам, в которых сверкают молнии, с шерстью густой и темной, словно глубины горного озера.
Третья блистала всеми оттенками золота, как я – всеми оттенками серебра, от белизны яростного огня до тёмной бронзы; цвета перетекали, сливаясь друг с другом, точно жидкое пламя. Даже в её глазах искрилось и мерцало золото.
Во рту у меня совсем пересохло, я даже сглотнуть не могла. Понадобилась вся моя новообретённая волчья сущность, чтобы не ринуться прочь от страшных ликов. Я боролась, цепляясь за остатки разума и своё человеческое «я», погребённое под внешностью волка.
Фигуры заговорили в унисон, их удлинённые морды выговаривали слова странно, но красиво, с какой-то рычащей нежностью:
– Добро пожаловать, юная псица. Кого из нас ты выберешь?
Я попыталась заговорить, но не смогла: лишь заикалась, задыхалась и взвизгивала. Моя шелковистая морда с кинжальными зубами не смогла изречь ни слова, а серебристый лоб покрылся морщинами от усилий.
– Дитя, – сказала белая волчица, и голос её был ветром с гор, доброжелательным и сладким, – ты должна выбрать. Если не можешь говорить, подойди к одной из нас и прикоснись к шерсти носом. Мы ведь волки и не слишком высоко ценим слова.
– Она не понимает, сестра, – вмешался чёрный волк, и говорил он так, словно рубил молодые деревца бронзовым топором. Он обратил ко мне раздраженный и горделивый взгляд и произнёс так медленно, словно я была очень тупой и упрямой лошадью: – Проводник, юная псица. Ты должна выбрать одного из нас своим проводником. Ты должна знать, как делать такие вещи.
Чёрный зверь фыркнул – ему явно было скучно продолжать.
Эти двое, белая волчица и чёрный волк, были высокими и страшными. Третья фигура, излучавшая мягкое мерцание золота, молчала. Лишь её хвост лениво покачивался из стороны в сторону, спокойные глаза походили на драгоценные луны. Я подошла к ней и прижала влажный нос к её шее, словно уткнулась в поле нарциссов. Её шерсть пахла хорошо и сладко, больше я ни о чём не могла думать… Она пахла правильно, а в запахе, как ни крути, вся суть. Клянусь, она мне улыбнулась! Когда я отстранилась от её тёплого душистого тела, двое других исчезли. Она посмотрела на меня – её глаза напоминали ячейки медовых сот, – потом её взгляд скользнул мимо, туда, где исчезли собратья по стае.
– Знаешь, мы ведь совсем заблудились, – прошептала она.
Я не понимала – могла ли я догадаться, о чём она говорит? – но ткнулась в неё мордой, желая подбодрить, и закрыла глаза, купаясь в приятном запахе. В горле у неё родилось рычание, но не угрожающее, а то, каким приветствуют щенков, и всё мое тело завибрировало в унисон ему.
– Мы и не думали, что так заблудимся…

Сказка Волчицы
Ступая по первой траве в начале времён, мы сжигали её, даже если пытались идти как можно легче. Она исчезала в череде вспышек белого пламени, и нам делалось страшно от того, что мы могли сотворить с этим местом. Мы старались ступать только по камням – немым и мёртвым, понимаешь? И по немой, мёртвой траве, но не по живым травинкам и камням, которые… Ох, не имеет значения. Наши ноги убивали всё, к чему прикасались, и мы съёживались от страха перед пожарами, которые не могли погасить.
Но то ли трава стала сильнее, то ли мы ослабели, вскоре от нас начали оставаться лишь горелые отпечатки. Да, чёрные и уродливые, но мы уже не вершили всесожжение на своём пути и принялись исследовать мир, который оставила Кобыла, покинув небо.
Я была молода, как и все. Мы дали имена всему и назвали самих себя. Пчела-Звезда, маленькая и яркая, счастливее любого из нас – этой солнечная искорке ни разу не довелось убить траву или камень на своём пути, – назвала меня Лиульфур[3], и, когда она жужжала над моим ухом, я слышала своё имя в шуме её крыльев.
Всё оказалось сложнее, чем можно было бы предположить. Нас было много, а их ещё больше. Настоящие дети Кобылы, явившиеся из её тела в лунной первородной смазке и небесной слюне, куда более необузданные и многочисленные, чем мы. Мы ведь как-никак – просто дыры, наполненные светом, в потаённых глубинах души обеспокоенные тем, что нас породил случай, что мы не более чем лужи, которые встали и дали друг другу имена, а родиться по-настоящему должны были только создания, лишённые света, которым под силу ступать легко, так легко!
И поэтому мы следили за ними: шли следом и пытались им подражать. Некоторые из нас были похожи на них – дыры в форме людей, животных, растений, инструментов и камней, – и естественным образом нас тянуло к тем, с кем имелось нечто общее. Но, кроме всего прочего, мы пытались подражать мужчинам и женщинам, казавшимся самыми преднамеренными из всех вещей, порождённых Кобылой, которые умели говорить и давать имена, возделывать землю и топтать её, точь-в-точь как мы.
Однако они боялись нас, того, как мы горели и сжигали всё хорошее и красивое, называли нас призраками и даже хуже. Но мы не могли их покинуть – ведь они побывали внутри Кобылы, а мы не знали, каково это, и какой она была под рёбрами, под сердцем. Мы хотели узнать, желали в её отсутствие любить то, что являлось её частью.
И да, мы видели, как наш свет уходит к ним, к людям, растениям, инструментам и камням, потому многие из нас покинули их, стали жить в общинах среди себе подобных – Розы-Звёзды с Пчёлами-Звёздами, Черви-Звёзды с Улитками-Звёздами, – намереваясь остаться в целости и сохранности.
Но некоторые из нас плелись за людьми, как побитая собака за жестоким хозяином, и старались походить на них. Ибо мы совершили открытие сродни тому, какое сделали они, когда научились засевать часть поля, а часть оставлять под паром. Мы узнали, что, даже если нас выгрызли в какой-то определённой форме, это не значит, что её следует сохранять. В первый раз стряхивать форму, которую нам придала нам мать, больно, но со временем становится легче. Это было нашим главным умением, и мы продолжали учиться. Мы были детьми и играли с миром, как с кубиками и куклами. Однако наши братья и сёстры не хотели играть. Поэтому Маникарника постигла роковая участь, и мы узнали, что способны на вещь, которая значительнее и ужаснее смены одной шкуры на другую.
Хотела бы я сказать, что знала их. И я знала – в том смысле, в каком троюродные братья и сёстры в большой семье знают друг друга, – совсем чуть-чуть. Они были другими – Камни-Звёзды, – а я была Волчицей-Звездой. И они обратились в женщин, в то время как я после нескольких экспериментов упрямо держалась за лапы и хвост, данные мне матерью.
Среди нас нет того, кто не знал бы эту историю.
Маникарника – это семь сестёр. Когда Кобыла выгрызла их из своей плоти, они были Камнями: Нефрит, Гранит и Опал, Гранат, Сланец и Железняк, а также маленькая Алмаз, бледная, как лапа, окунувшаяся в молоко.
Они пришли в ужас, катясь и грохоча по мёртвым скалами, сожгли их, расплавили, превратили в блестящие реки жидкой лавы. Научившись ходить на двух ногах, сёстры избегали гор, как болезни, отказываясь причинять вред тому, что походило на их первые тела. Я рассказываю тебе это, чтобы ты поняла их нежность, чтобы знала – пламя было не тем, чего хотели мои соплеменники. Но, видишь ли, одни несчастные случаи влекут за собой другие. Мы ничего не могли с этим поделать. И они ничего не могли с этим поделать.
После того как первые из нас начали тускнеть, отправились в ссылку за болота и холмы, Маникарника остались. Они не берегли свой свет и преисполнились решимости показать нам, что можно жить в мире, сотворённом Кобылой, что он предназначен для нас, как и для её истинных детей.
Чтобы это доказать, сёстры отправились в поселения людей и попросили приюта, как нищенки, одетые в лохмотья и без гроша в кармане. Они были уверены, что их примут, и мы увидим, как второе потомство Кобылы назовёт нас сёстрами, братьями и женами, первые породнятся со вторыми. Конечно, сёстры ещё излучали сияние, но кто откажет красивой девушке, у которой только и есть, что ветхое платье, даже если она ярко светится? Кто откажет семерым?
Первый дом, к которому пришли Маникарника, был дворцом Короля – таким, какими были дворцы в те дни: большой глинобитной хижиной на холме, чуть повыше других глинобитных хижин. Король послал своих людей узнать, что за шум у дверей, и они обнаружили там полураздетых Нефрит, Гранит и Опал, чья кожа сияла разными цветами; Гранат, красную, точно залившуюся румянцем; Сланец и Железняк, серебристо мерцавших, как поверхность воды, и малышку Алмаз, бледную и нежную, как тончайшая нить в паутине. Сёстры жались друг к другу, робко просили пустить их за стены из глиняных кирпичей, накормить и одеть, полюбить.
Увидев странный свет, люди Короля содрогнулись и заперли деревянные ворота на засов. Маникарника это не смутило, они направились к скоплению маленьких глинобитных хижин, где постучали в двери бедной вдовы. Конечно – муж умер, дети выросли, она примет их и назовёт дочерями. Старая вдова отперла обитую шкурой дверь и увидела Нефрит, Гранит и Опал с гладкими, отполированными руками; Гранат с острыми локотками; тёмных и блестящих Сланец и Железняк да малышку Алмаз, чистую, словно утро. Сёстры приникли друг к другу, смиренно прося убежища от ночного холода, супа, тёплых рук и ласковых слов.
Увидев странный свет, вдова содрогнулась, начала плакать о тех, кого потеряла, и, не переставая лить слёзы, заперла обитую шкурой дверь, оставив странных гостей за порогом. Но сёстры не сдались. Они покинули посёлок из глинобитных хижин и отправились к людям с волосами цвета глины, которые передвигались с места на место, странствовали по открытым степям в фургонах, запряженных лошадьми, и на санях. Они подошли к одному из шатров, ничем не отличавшемуся от других, и призвали девушку, которая там жила. Прижимая к себе новорожденное дитя, девушка откинула полог шатра и увидела Нефрит, Гранит и Опал, прохладных, как обдуваемый ветром снег; Гранат, жаркую, как раскалившийся на солнце песок; Сланец и Железняк, которые замёрзли так, что пальцы почернели, да малышку Алмаз, светлую и сладкую, как дождь. Маникарника опирались друг на друга, вконец измученные, и просили дать им приют, укутать в шкуры и напоить молоком.
Девушка рассмеялась и сказала, что у неё есть много всего, чем можно поделиться. Улыбки сестёр были подобны семи рассветам, и они, обрадованные, устроились на ночлег рядом с кочевницей, прямо на полу простого шатра. И были они счастливы, и земля под ними лишь самую малость потемнела от того, что на неё давил их свет.
К утру все они оказались мертвы.
Сказка Ведьмы (продолжение)
Пыль и солома покрывали сырой пол темницы, и ни один косой осколок света не рассёк тьму. Тишину нарушал звук воды, падавшей капля за каплей с влажного потолка на влажный пол. Я не заметила, как под дверь протолкнули ошмётки незнакомого мяса и коричневую болотную воду – я ничего не слышала, кроме бабушкиного голоса. Она положила иссохшую руку мне на голову, поглаживая густые волосы с нежностью, отточенной на десятках детей. Я подняла глаза, высматривая среди густых теней её потрескавшиеся губы и изрезанное морщинами лицо; свернулась клубочком у бабушки на коленях, пытаясь прикрыть своим изношенным платьем, превратившимся в лохмотья, её болезненно худые ноги. Она улыбнулась, глядя на меня сверху вниз, отбросила ткань, словно та ничего для неё не значила, и, хотя губы были рассечены и покрыты пятнами запёкшейся крови, её лицо светилось, как праздничный фонарь. Я мечтала быть такой же храброй, как она, чтобы неведомая сила, полученная ею в пещере, стала и моей силой.
Я принесла помятый ковшик с грязной водой, что стоял у двери, старясь весело ухаживать за бабушкой, как было когда-то. Но она отказалась и руками, покрытыми синяками и ссадинами, оставленными теми, кто притащил её сюда, принялась развязывать кожаные узлы на своём одеянии, пока не смогла стянуть грязную ткань с плеча. На коричневой коже, будто ядовитая змея, извивался длинный шрам – свидетельство того, как нечто пронзило и изувечило её плоть. Я не могла глаз от него оторвать.
– Чтобы ты знала, что я рассказываю правду, – сказала она, хихикнув, и снова завязала платье.
– Я… я и не сомневалась…
Бабушка легонько коснулась моей щеки:
– Нет-нет, конечно, ты не сомневалась. Ты всегда была хорошей девушкой. Вот видишь, я нарушила своё слово, не подчинилась Лису и рассказываю тебе всё, что должна была держать в секрете, как тайну появления зеленоглазого малыша в доме мужчины с карими глазами. Но меня никогда особо не заботило, что думало это старое красное чудище. И знаешь, теперь Кобыла является мне во сне: я езжу на ней верхом, она несёт меня по побелевшим степям, и жаркое солнце золотит наши спины.
Бабушка не договорила, но я почувствовала нутром, что ко мне Кобыла никогда не придёт, и мои бёдра не ощутят прикосновения её шкуры.
Согнутый Лук кашлянула – звук был такой, словно стрела ударилась в дерево.
– Прости, малышка Нож, я могла бы сейчас укачивать тебя в своих объятиях, напевая песни наших матерей. Но ты обязательно должна узнать, что мне пришлось вынести в пещере. Мы обе знаем, что тебе не суждено пройти эти испытания. Никто не подведёт тебя к пасти пещеры, не поцелует и не назовёт своей лучшей, самой красивой козочкой. Никто не заберёт тебя, дрожащую и трясущуюся, домой, когда всё закончится, и не укроет грубым одеялом. У тебя и у ребёнка, которого ты носишь, такого маленького, словно подёнка над стоячей водой, никого нет. Вместо сладкого воссоединения со своей старой бабушкой ты получаешь урок, тебе стоит его усвоить, и как следует.
У меня перехватило дыхание, будто в пересохшее горло попал клок свежей шерсти. Я не знала, что моё чрево приняло дитя из тела моего мужа до того, как он умер. Но я в тот же миг поняла, что она права. Мне с трудом удавалось сохранять спокойствие. Дрожа, я прошептала:
– Я слушаю, бабушка. Я иду за тобой, читая твои следы.
Её морщинистые веки сомкнулись, и, когда она снова начала говорить, они подрагивали, словно маленькие волки прыгали под её кожей.
Сказка Волчицы (продолжение)
Лагерь кочевников проснулся от криков юной девушки. Мужчины вбежали в её шатёр и увидели, что она, всхлипывая, прижимает к себе ребёнка, и её покрывает свет. Свет капал с её волос, струился по переносице, стекал по мочкам ушей. Он каплями затекал ей в рот, пятнал лоб ребёнка, собирался чахлой лужицей между её грудями. Бледный и яркий, как белки девичьих глаз, он намочил подол её платья из шкур… Свет пятнами покрывал стены и превратил земляной пол шатра в мерцающую хлюпающую грязь.
Вокруг девушки лежали семь каменных тел, которые не мерцали, не светились, не сияли.
Нефрит, Гранит и Опал, тёмные и полые, как трухлявые деревья; Гранат, пустая и пересохшая; Сланец и Железняк, бледные, как бумага, да малышка Алмаз – от неё осталась лишь оболочка цикады, хрустальная, чистая и пустая внутри, лишенная даже мёртвых костей.
Заливаясь слезами, девушка рассказала, что под покровом темноты пришли люди Короля. Они знали, какие гостьи постучались к ней днём, сочли это странным и опасным. Пока убивали бедных сестёр, ей заломили руки за спину. Маникарника даже не кричали, когда из них вытекал свет – брызги света, точно кровь, летели во все стороны; на лицо девушки упали тёплые капли, она ощутила их вкус, вкус сладкой воды и клевера. Люди Короля перерезали горло Звёздам и ушли, а девушка пыталась зажимать раны, но их было слишком много, а она была слишком слаба. Разве кто-то мог знать, как исцелить создание, истекающее светом, точно кровью?
Люди племени испугались и не знали, что делать. Они смыли свет с бедной девушки и отнесли семь каменных тел в поле, где росли маки, совершили известные им погребальные обряды.
Так Звёзды узнали, что могут умирать. Это наше самое значительное умение. Последние из нас покинули мир, спрятались в расщелинах и тайных норах, будто испуганные кролики.
Через некоторое время девушка и её черноглазое дитя посмотрели на небо сквозь отверстия во всё ещё мокром потолке шатра и заметили новые звёзды – их было семь, и они прильнули друг к другу, как сёстры.
Сказка Бабушки (продолжение)
Лиульфур Волчица-Звезда не шевельнула ни одним мускулом под золотой шкурой, пока говорила. Её голос не стал ни громче, ни тише. Она просто смотрела куда-то вперёд.
– Мы не знаем, куда они уходят – те, кто умирает. Куда все мы уходим. Тела остаются здесь, и новые звёзды появляются в небе, но где они сами?
Что я могла сказать, чтобы успокоить её?
– Бедная девушка-кочевница чуть не утонула в свете, излившемся из семи тел. Она и ребёнок наглотались света, до них никто не получал его в таком количестве. Свет едва не свёл с ума её детей и внуков, и они один за другим принялись искать нас, хотя в каждом из них сияния Маникарника оставалось всё меньше. Они наступали как упрямый прилив, и вот пришла твоя очередь – ты стоишь в самом конце цепи из внучек, которые словно передают из рук в руки ведро с водой. Всякий раз немного проливается на землю. – Она покачала большой лохматой головой. – Мы больше не избегаем вас. К нам будто возвращаются наши кузины.
Стена из полированного кварца, в которой я впервые увидела свой волчий облик, медленно растворилась, открыв длинный туннель, уходящий в черноту. Волчица вздохнула с усталой покорностью и нежно подтолкнула меня носом, как мать, которая показывает детёнышу дорогу к свежей воде. Наши сияющие тела слились и канули во тьму за стеной.
Лиульфур тихонько шла впереди меня, её лапы ступали уверенно и прямо. Она мерцала, точно медная лампа. Туннель был длиннее предыдущего и такой чёрный, что я едва подавила отчаянный возглас, впервые заглянув в него. В какой-то момент нам пришлось пробираться сквозь скалу на брюхе, чувствуя себя куском хлеба, застрявшим в длинной глотке; наши передние лапы загребали землю, а задние болели от того, что их было невозможно выпрямить.
Наконец скалистая глотка превратилась в комнату с высоким потолком, до самых дальних углов залитую светом – безупречно чистым, ярче дневного, будто кто-то растёр в руках солнце, превратившееся в мыло. Перемена оказалась столь внезапной, что я почти ослепла. В центре свечения находилась звезда, похожая на волка и испускающая нежное сияние.
Пещера оказалась не пустой: семь погребальных носилок были расставлены по кругу, и на каждых лежала женщина, спящая или мёртвая; семь пар тонких рук скрестились на семи бездыханных грудях. Волосы усопших ниспадали с носилок, будто росли тысячу лет; вокруг их тел лежали груды драгоценных камней, точно горы яблок в сезон урожая, превосходящие всё, что мне доводилось видеть ранее. Бесчисленное множество нефритов, гранитных осколков, опалов, ярких как кровь гранатов, кусков сланца и железной руды, а также маленьких алмазов, блестевших как снег.
Когда последние багровые аккорды заката растаяли во тьме на западе, мальчик вернулся, сжимая в руках плотно набитый платок. Он протиснулся в заросли и с гордостью выложил свою добычу. Девочка сидела там же, где он её оставил, неподвижная, как одно из каменных садовых изваяний. Её странное спокойствие тревожило и пугало гостя. Он не мог вынести этот тёмный взгляд и смотреть в большие миндалевидные глаза, окруженные странными знаками, поэтому уставился на тёплую еду. На квадратике из шелка лежала, поблескивая, запечённая голубка, рядом – сочные персики и холодные груши, а ещё половина хлебного ломтя, намазанного маслом и вареньем, варёные репки и картофелины, кусок твёрдого сыра и несколько засахаренных фиалок, недавно украшавших стол и прихваченных с собой. Мальчик вытащил из кармана флягу разведённого водой вина – главный приз его кухонных приключений.
Девочка не шевельнулась, даже не притронулась к голубке и грушам. Тёплый бриз всколыхнул её волосы цвета воронова крыла, несколько прядей упали на лицо; вдруг она задрожала и расплакалась. Мальчик не знал, куда себя деть, не желая ещё больше смущать её тем, что оказался свидетелем внезапных слёз. Он сосредоточился на подрагивающих ветках росшего поодаль кипариса и стал ждать. Вскоре всхлипывания утихли, и мальчик опять повернулся к рассказчице.
Он понимал, что она ни разу в жизни так не пировала, поскольку её никогда не приглашали ужинать во Дворец, – догадывался, что девочка питалась фруктами и орехами из Сада, подбирая их с земли, словно нищенка. Но он не мог понять, зачем плакать при виде изобилия. Его руки были мягкими и пахли розовым маслом, волосы блестели. Мальчик не знал жизни за пределами двора, а при дворе красивые и юные удостаивались особого обожания. Будучи ребёнком из знатной семьи, он привык видеть в сочувствии повод для обиды и не мог обидеть её.
Не сказав ни слова, девочка оторвала крылышко у медной голубки и стала деликатно его жевать. Вытащив из складок простого одеяния узорчатый серебряный нож, разрезала грушу и протянула мальчику бледно-зелёную половину. Он невольно подивился тому, что она где-то раздобыла такой красивый предмет. У него точно не нашлось бы ничего похожего, а ведь её платье, если это одеяние вообще можно было назвать таковым, износилось до дыр, под ногтями виднелась грязь. Струйка ароматного сока потекла по девичьему подбородку, и она впервые улыбнулась. Происходящее напоминало восход луны над горной рекой; свет, запутавшийся среди бледных оленьих рогов; чистую воду, текущую под ночным небом. Когда девочка снова заговорила, мальчик нетерпеливо подался вперёд, отбросил с лица густые тёмные волосы, впился зубами в спелый персик, а потом запихнул в рот кусок сыра – бездумно, не чувствуя вкуса.
Продолжая свой рассказ, она закрыла глаза, и мозаика, покрывавшая её веки, стала подобием чёрных лилий на бледной поверхности пруда.
– Дикарка вытащила длинный нож из ножен, висевших на поясе, и на миг, играючи, приложила его к гладкой шее Принца – так, что лишь лёгкий вздох отделял его от фатальной раны…
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
– Пощадите меня, госпожа, – прошептал Принц, – умоляю вас. Я останусь здесь и буду вашим слугой; займу место девы-птицы и сохраню верность вам до конца своих дней. Я буду вашим. Я молод и силён. Прошу вас!
Принц сам не знал, что его вынудило сделать такое предложение, и сдержит ли он клятву, которая вернее закона. Слова вырвались изо рта, будто женщина засунула кулак ему в глотку и вытащила их оттуда. Её глаза сверкали, словно тучи, готовые породить тысячу молний. Но теперь в них появился расчётливый блеск – и через миг нож больше не угрожал Принцу.
– Даже если я соглашусь, это тебя не спасёт, – прошипела она, как большая жаба, поющая на закате. – Но я расскажу тебе историю моей дочери и о том, как она стала крылатой. Тогда ты, вероятно, поймёшь, что предложил, и, быть может, предпочтёшь смерть.
Однако рассказ пришлось отложить. Сначала старуха оторвала длинную полосу потрёпанного меха от ворота своего одеяния и замотала руку Принца. Её прикосновение оказалось умелым и более мягким, чем можно было бы ожидать; в нём даже ощущалось подобие нежности. Из мешочка на поясе она достала сушеные листья, среди которых, как ему показалось, были лавр и можжевельник. Старуха прижала эти листья к обрубкам пальцев на руке Принца. Затянув узлы, осмотрела повязку и осталась всем довольна.
– Перво-наперво, я не слепая, вижу, что ты молод и силён. Но нет сомнений, что твою молодость и жизненную силу я могу выпить как воду из колодца. Дело не в этом. Можешь ли ты слушать? Можешь ли ты учиться? Можешь ли ты молчать? Мне это неведомо. Думаю, ты просто избалованный паршивец, у которого и ушей-то нет.
Принц покаянно опустил голову. Его рука прекратила пульсировать, и он не произнёс ни слова, рассудив, что молчание – лучший щит, способный уберечь от старой карги. Она присела на большой камень, теребя в узловатых пальцах несколько листьев, испускавших мускусный запах.
Сказка Ведьмы
Я родом из обитавшего на севере племени степнячек, у которых были косматые лошади и волосы, присыпанные снегом. Уверена, ты слышал истории о нас – мы были чудовищами, противоестественными, и заслужили свою участь.
Среди всех противоестественных чудовищ я была самой чудовищной и противоестественной. Нож – такое имя мне дали. В молодости, когда сила гудела во мне, словно натянутая тетива, я слыла лучшей наездницей из всех юных девушек. У меня было много ожерелий из яшмы и волчьих зубов, три отличных охотничьих ножа, тугой лук, который я могла натянуть так, что он превращался в полную луну, колчан со стрелами, украшенными перьями ястреба, и шкура дикой кошки, моей первой добычи. Вокруг, куда ни кинь взгляд, простирались дикие степи медового цвета, где племя охотилось на жирных оленей и обитали гнедые лошади, лоснящиеся и пахучие, которых я любила. Их бег был подобен ряби на поверхности горного озера. Я бегала и спала с ними бок о бок, ездила на них верхом. Я была счастлива: солнце стояло в зените, а больше мне ничего не требовалось.
Мои сёстры все были старше, мои братья сражались у границ наших земель, потому я была свободна и дика, а моя улыбка частенько напоминала оскал. Однажды бабушка Согнутый Лук – её все называли бабушкой, хотя она приходилась таковой лишь мне, – чьё лицо напоминало обглоданную кору и было самым уродливым из всех, что мне доводилось видеть, призвала меня к себе в новолуние. Она сказала, что нашла человека, за которого я выйду замуж. Я очень любила свою бабушку, но не желала становиться чьей-то женой. Я была мускулистой кобылицей, и жеребец мог лишь замедлить мой бег. Но слово бабушки считалось ближе всего к тому, что мы могли бы назвать законом. (Видишь ли, чудовища не ценят прелесть заповедей, высеченных на камне.) И потому, хоть я и была очень молода, надела её красивые штаны из оленьей кожи, гордо набросила на плечи свою шкуру дикой кошки и стала женой мужчины, которого она выбрала. Он был смуглым, с очень яркими глазами, и мы охотились вдвоем – сначала лишь вместе резали мясо, но постепенно превратились в одного охотника, который прыгал на крупного оленя, сверкая двумя ножами. Мы улыбались и рычали друг на друга, а потом снова улыбались, и в небе над нами сияли звёзды, точно брызги молока на чёрной шкуре.
Когда мы с ним не охотились, сёстры Ножны и Колчан – дочерей у нас всегда по три – скакали со мной наперегонки, разучивали песни нашего племени и гортанные песни наших луков, а у бабушки мы учились магии. Я заплетала её серебряные волосы, и она учила нас тайным вещам – чудовищным и противоестественным. Под Змеёй-Звездой и Уздой-Звездой и Ножом-Звездой, моей тёзкой, бабушка покрыла моё лицо искусными татуировками и назвала меня своей лучшей девочкой, посвящённой, настоящей лошадницей.
Мы росли, охотились, смеялись. Я была счастлива и не знала, что солнце миновало зенит и двинулось вниз.
Однажды армия твоего отца…
Закрой рот, мальчик. Думаешь, я не узнала тебя в тот самый миг, когда твоя нога ступила на мою землю?
Однажды армия твоего отца пришла с юга, как степной пожар, и возвестила о своём появлении пронзительными воплями. Он хотел заполучить наши жирные стада и сильных лошадей. Он хотел повесить головы чудовищ к себе на стену. Он хотел очистить своё королевство от противоестественных созданий, которые верещали и передвигались на полусогнутых ногах, своим присутствием оскверняли белый свет.
Я и не знала, что бывают такие солдаты. Они носили броню, похожую на рыбью чешую, и высоченные плюмажи, похожие на дым; они сверкали, будто тысяча серебряных облаков верхом на лошадях, чёрных как демоны. Я выпустила в эти «облака» все свои стрелы и все украшенные вороньими перьями стрелы Ножен, лишившейся руки, в которой она держала меч. Из крови и тёмных влажных внутренностей сестры я подняла её клинок и попыталась вогнать его в брюхо одному «облаку». Но от меня с мечом никогда не было особого проку, и имя моё тут ни при чём: не успела я и замахнуться, как меня одолели.
Он был грязный человек. А когда дикое существо, ночующее не под крышей, а втиснувшись между лошадьми, называет кого-то грязным, будь уверен, дело не в обычной вони немытого тела. Потрясая увитой кожаными лентами и пропитанной кровью вшивой бородой, он схватил меня за талию и водрузил на своего боевого коня. Чтобы прервать поток проклятий, лившийся из моего рта, он ударил меня по лицу рукой в латной перчатке. Она мелькнула перед моими глазами, серебряная и до странности красивая, затем мне рассекло лоб и всё вокруг сделалось красным.
Что же я была за чудовище – не выстояла против единственного рыцаря, не сумела вогнать меч в визжащего борова. Я глядела сквозь завесу из слёз, крови и глинистой грязи, как мой муж бежит следом и кричит, словно раненый волк, а за ним скачет твой отец с вороньим плюмажем на шлеме. Этот чёрный всадник вонзил огромное лезвие прямо в грудь моего мужа так небрежно и легко, будто поймал муху двумя пальцами. Я видела, как сгустки крови и частички костей полетели во все стороны; я смотрела, как кровь хлынула изо рта моего мужа на траву, как он упал на колени, будто собираясь помолиться, а потом рухнул лицом вниз, в грязь, перемешанную с кровью.
Я старалась перестать плакать и вжалась лицом в утешительный бок незнакомой лошади – по крайней мере, это была лошадь, её пот и шкура мало чем отличались от моих длинноногих друзей, – выискивая в запахе толстых мощных ног хоть какую-то надежду для моей семьи.
Мы ехали на юг.
Солнце скрылось из вида.
Тот кулак был первым, что отметил моё лицо, и от него у меня на лбу остался шрам, похожий на морской узел. Остальные шрамы – моя работа. Мы ехали долго. Я потеряла счёт дням. Кислый запах грязного мужчины и его изголодавшаяся лошадь мешали мне думать. Провизии для рыцарей и женщин не хватало, что уж говорить о бедных животных, которых стоило бы холить, лелеять и поить только чистой водой.
Через несколько дней Колчан сумела покончить с собой, прыгнув в реку; течение, словно дыхание ночи, унесло её далеко от меня, не позволило поймать и прижать своё лицо к её лицу. Она была самой старшей, но я живая, а её больше нет.
Я знала, чего мне ждать, ещё до прибытия во Дворец. Чудовища ведь не глупы. Мне предстояло стать рабыней, чтобы ублажать твоего отца и его грязных солдат. Меня бы хорошо одевали и холили, как шлюху. Рабство меня не тревожило: сбежать было бы нетрудно. Но я не желала доставлять им удовольствие, не хотела быть красивой для них. Они говорили, что татуировки, которыми меня наделила бабушка, эти красивые тёмные линии, змеящиеся по моему лицу, эк-зо-тич-ны.
Во мне, как в железной печи, горела чёрная и яростная ненависть. И потому однажды ночью, когда мой приятель-грязнуля напился и захрапел, я вытащила кинжал из ножен на его боку. Прекрасное оружие! С прямым чистым лезвием, которое мерцало, точно вода, ставшая могилой Колчан. Я приложила его к одной щеке, затем к другой и провела по ним сверху вниз – дважды, трижды, – рассекая плоть и навеки разрушая единственную красоту, какой было наделено чудовище.

Конечно, мужчины были в ярости, когда наутро выяснилось, что моё лицо покрыто толстым слоем крови, словно я набросила на себя багровую шкуру. Меня вытащили из палатки и бросили к веренице настоящих рабов, бедолаг, которым предстояло отправиться в шахты и каменоломни. Я всерьёз поверила, что туда отправят и меня, рубить скалу и собирать крохи металла, и возликовала. Что проще побега, когда горы вокруг так и зовут в гости? Я чувствовала себя будто нарядилась в лисью шкуру и припасла достаточно трюков, предвкушая победу. Но я ошибалась.
Дворец возник перед нами, словно вставший на дыбы жеребец, крупный и грозный, и, к моему ужасу, меня не отправили дальше, в золотоносные холмы или укрытые известковым покровом лощины, а затащили внутрь. Вниз, вниз, вниз, вниз – я прошла тысячу ступеней и сотню ворот, ведомая грубыми руками, и очутилась в маленьком и сыром подвале. «Ах, – решила я тогда, – вот и кара за испорченный военный трофей».
Я выла. Я кричала и вопила, как стая обезумевших сов, выдирала волосы и царапала каменный пол, пока напрочь не стёрла пальцы. Я лежала на полу, свернувшись калачиком, словно ребёнок, и рыдала: мой побег стал невозможен, мне предстояло провести остаток жизни в этом месте, в тысяче ночей от моих заснеженных, открытых всем ветрам степей. И вот тогда-то в темноте раздался смешок, а потом знакомый грубовато-нежный голос, напоминавший волчью шерсть, о которую трёшься щекой. Он негромко произнёс:
– Ну что, девочка моя, ты наконец-то успокоилась?
Я всмотрелась в густую тьму, обозревая комнату до самых углов. Там, где я ожидала увидеть груду костей да пучки старых волос, скрестив ноги и смеясь, сидела моя бабушка, одетая в лохмотья.
– Тебе нужно было немного побуянить, знаю, но сейчас ты просто потакаешь своей слабости. Разве я плохо тебя учила?
Она развела худые руки, кожа на которых напоминала обглоданную кору, и я упала в её объятия. Не знаю, как долго она меня держала, сколько раз я умирала, воскресала и умирала вновь. Но, когда я подняла глаза и посмотрела ей в лицо, она гладила мои волосы и улыбалась.
– Всё не так плохо, милая, они могли тебя убить.
– Это хуже, – проворчала я. Бабушка тотчас же ударила меня по изуродованному лицу, словно лошадь по крупу шлёпнула.
– Нет! Ты жива, а обе твои сестры мертвы. Что же ты себя жалеешь, маленькая паршивка? Кажется, я тебя избаловала.
Потрясённая, я уставилась на неё, точно глупый зверь.
– Они притащили меня сюда, так как думают, что могут сломать меня или использовать, либо и то и другое, – задумчиво произнесла она. – Я ведь, как-никак, весьма необычная рабыня и принадлежу глупому придворному волшебнику, мастеру фокусов со шляпой и кроликом. Я решила, пока и так сойдёт… Они продержат меня здесь достаточно долго, чтобы я поняла, кто главный, а кто нет, и тогда меня приведут к Королю, чтобы показать, какая я послушная собачка. Я окажусь достаточно близко, чтобы перерезать ему глотку. – Бабушка лучезарно улыбнулась, не скрывая ликования. – А потому у нас с тобой мало времени на разговоры, я должна рассказать историю, которая позволит тебе примириться с собственной судьбой. – Поджав губы, она изучила мои изуродованные щёки. – Хорошо, что ты погубила своё лицо. И не только потому, что это привело тебя ко мне, а ещё и потому, что красавицам редко удаётся сильная магия.
Я смотрела на неё и слушала, слова текли вокруг меня, будто я погрузилась в холодный пруд, и его вода качала меня, охлаждая разгорячённую кожу. Бабушкины глаза блестели, точно совиные, а её лицо было спокойным ликом луны.
– Теперь слушай меня. Прежде чем нас разлучат, я должна рассказать историю своего ученичества, чтобы ты узнала то, что знаю я, то, чему могли бы научиться вы с сёстрами, не свались Король на наши головы, словно камень, брошенный с горы. Раз уж так случилось, тебе придётся взять то, что можно взять с этой дряхлой развалины.
Девочка замолчала, сжав нежные губы и глядя в темноту глазами, окруженными тенями и паутиной из слов.
– Ты так внезапно умолкаешь, – уныло заметил мальчик, – словно упрямая черепаха, которая прячет голову в панцирь именно в тот момент, когда мне хочется услышать, что было дальше. Это сильно раздражает.
Девочка вяло улыбнулась, словно извиняясь, но нужных слов не нашла. Она аккуратно облизнула губы, вкушая последние крупицы запечённой голубки.
– Просто мне надо немного отдохнуть. Мы можем поспать час, а потом я продолжу. – Она покраснела до ушей. – Можешь лечь рядом со мной, если хочешь; по ночам здесь холодно.
Девочка устроилась в высокой траве, мальчик неуклюже улёгся рядом. Они долго не могли заснуть, дрожа от напряжения в присутствии друг друга, будто он не спал каждую ночь рядом с братом или сестрой, а она не проводила каждую ночь то в цветущей беседке, то в древесном дупле. Мальчик следил за тем, как ветер играет её волосами, словно тростником у реки, и, когда она наконец уснула, сам расслабился и задремал.
Но вскоре уже будил её, томимый желанием услышать историю, как бродяга в бескрайней пустыне жаждой.
Сказка Бабушки
Моё ученичество длилось много лет, и, чтобы рассказать тебе всё, не хватит времени, которое мы сможем провести вместе в этом тесном и тёмном подвале. Я поведаю тебе лишь об одной-единственной ночи – последней ночи, когда я ещё считалась ученицей, последней ночи детства. Истории вроде этой живут среди теней, в глубине-на-дне-глубины, куда солнцу нет хода.
Моя мать умерла во время налёта, когда я была совсем малышкой, а её мать умерла при родах. Поэтому меня было некому учить, никто не мог поделиться со мной секретами и указать моё место в племени. Когда я достигла совершеннолетия, меня отослали в соседний посёлок на телеге, груженной шкурами и драгоценностями, которыми тамошней ведьме заплатили за мое обучение и приют. В те времена мои волосы были густыми, рыжими и яркими, как степной пожар. Руки и ноги гладки и крепки, словно копыта, – я почти не замечала, что, пересекая широкую пустошь между деревнями, телега дребезжала и подпрыгивала.
Я прибыла на место. Моя наставница оказалась свирепой, красивой и жуткой. Турайя была очень строга: она не доверяла мне, чужачке, моим рыжим волосам, простому имени и, самое главное, моему упрямству. Целый год я была лишь её служанкой: подметала пол в хижине, полировала ножи, носила ей воду и чесала лошадей. Турайя не разговаривала со мной. Я спала снаружи, под звёздами, постель мне заменяла сухая трава. Только на второй год она позволила мне спать рядом с собой и начала моё обучение. Может, так и надо поступать с девочками? Не знаю. Я не была такой, когда растила тебя, Колчан или Ножны. Наверное, я просто оказалась слабее, чем моя старая наставница.
В первую же ночь второго года я лежала рядом с ней, напряжённая, ощущая запах плесени, который шел от её старой кожи, её острые локти и колени, её жесткие белые волосы, в свете угасающих углей костра казавшиеся почти того же оттенка, что и мои, как вдруг она, не глядя на меня, сказала:
– Слушай, Согнутый Лук, козочка моя. Посмотрим, сможешь ли ты научиться ещё чему-нибудь, кроме дойки яков…
Сказка Лошадницы
Открой уши свои, впусти в них небо.
В самом начале – до того, как вшивый и косматый козёл да одинокий батрак в своих грёзах увидели тебя, – существовало одно лишь небо. Оно было чёрным и огромным, каким и должно быть небо, в котором больше ничего нет. Но небо выглядело небом, только если на него смотреть искоса, а если взглянуть прямо – чего, конечно, никто не мог сделать, так как смотреть было некому, – оно представлялось длинным и гладким боком Кобылы.
Черна и огромна была Кобыла, какой и должна быть лошадь размером с целый мир.
Прошло много времени, и Кобыла прогрызла в себе дыру, по причинам, которыми ни с кем не поделилась. Дыра заполнилась светом тем же образом, каким дыра в тебе или во мне заполнилась бы кровью, а то, что получилось, называли Звездой. Таковы были первые, истинные дети Кобылы, созданные из её собственной плоти. И поскольку ей понравился свет и чьё-то присутствие, она прогрызла другие дыры, по форме напоминавшие Барсуков и Плуги, Оленей и Ножи, Улиток и Лис, Траву и Воду, и так далее, и тому подобное, пока Кобыла не заполыхала множеством дыр, и все они были Звёздами, и небо теперь не было таким уж пустым.
И вот дыры ожили, стали двигаться, как движемся мы с тобой, и одна, по форме напоминавшая Всадника, забралась на Кобылу верхом – и Кобыла сделалась полна и огромна, какой и должна быть лошадь размером с целый мир, и целый мир появился из неё, как жеребёнок, в потоке света и молока и чёрной, чёрной крови из самых тайных глубин неба. И трава, и реки, и камни, и женщины, и лошади, и новые Звёзды, и мужчины, и облака, и птицы, и деревья явились, танцуя, сквозь послед Кобылы и радостно плавали в её молоке, и тайная её кровь перестала течь, и весь мир был создан, и океаны омыли берега, и Кобыла лёгким галопом удалилась в дальние углы самой себя, которые лишь самую малость проглядывали сквозь пылающее поле её Звёзд. Там, на пастбище, которое ни ты, ни я не сможем вообразить, она мирно жуёт любимые Травинки-Звёзды.
А дыры, которые были Звёздами, всё ещё оставались полны света и бродили по небу, неуклюжие, словно трёхлапые собаки. Без Кобылы тьма была просто тьмой, а не боком, не шкурой, не тем, у чего есть запах, и соль, и шерсть. Разумеется, дыры испугались, ведь до той поры их ноздри ощущали запах кобылы, и сами они спиной чуяли её присутствие. Несколько дыр посмотрели вниз, на то, что вышло из Кобылы, прежде чем она их всех покинула, и подумали, что там не так страшно и темно, как в небе… Кроме того, там многое походило на них: барсуки и плуги, олени и ножи, улитки и лисы, трава и вода. И даже лошади, которые походили на Кобылу, какой они её помнили, только намного меньше и самых разных цветов.
Тогда, козочка ты моя чесоточная, стали они жить как мы с тобой, в то время как их не столь смелые братья и сёстры по-прежнему пребывали в небе и освещали им путь. И были они и учителями, и учениками, и матерями, и дочерями, и братьями, и дядьями, и брюзгливыми стариками. И ничего они не могли поделать с собой: их везде сопровождал свет, тот свет, который, как ты помнишь, был на самом деле не светом, но кровью Кобылы, пролитой в первые дни мира.
Стало быть, вначале кровесвет переполнял их до такой степени, что всё, к чему они прикасались, становилось серебряным и белым, – он сочился из них, словно пот, и всё им пропитывалось. Но время шло, света оставалось меньше, и они испугались, что потеряют то единственное, чем их наделила мать Кобыла. Ещё сильнее они боялись огромного тёмного неба, в котором не было матери, и не хотели снова покидать мир. И потому они начали прижиматься друг к другу, как цветы, растущие среди камней, и ушли в пещеры и холмы, реки и долины, как можно дальше от всех, и касались лишь себе подобных, потому что свет, перетекая из одного тела в другое, переливался и мерцал, но не утрачивался навеки.
Но хоть Звёзды скрылись от всех, вещи, к которым они прикасались, остались на прежних местах, полные света, который был кровью, и они излучали серебристо-белое сияние. И были эти вещи особенными, блохастик мой… Камни и растения передавали свет камням, лежавшим глубже, или семенам, а люди передавали свет детям, и он уменьшался в точности так, как когда Звёзды впервые трогали мир, истекая кровью. Вскоре никто уже не мог понять, к чему прикасались в первые дни, а к чему – нет. Свет был погребён под покровом тайны.
Но не исчез. Во многих вещах и людях он ещё мерцает глубоко внутри. И этот свет, моя неряшливая, охочая до молочка детка, и зовётся магией.
Сказка Бабушки (продолжение)
Я слушала её историю и думала о том, что она сладко пахнет кровью, молоком и шкурой, будто сама Кобыла, и я позволила себе по чуть-чуть придвигаться к ней. Той ночью она больше ничего не сказала.
Я росла под её хмурым взглядом много лет, как лоснящийся жеребёнок, училась искать мерцание внутри себя, управлять этим светом, силой, быть для неё уздой и удилами. Мир бежал подо мной, словно поле под янтарными копытами, и я чувствовала, как в моём теле пульсирует кровесвет, будто новая жизнь… А я многим помогла родиться, девочка моя, как под руководством Турайи, так и сама.
Свет собирался в моей душе, и я ликовала. Я училась превращать его в снадобья, заклинания и амулеты, выталкивать его из себя и придавать разные формы. Сколько ночей я провела с ней под открытым небом во время грозы, когда её волосы струились на ветру, как обезумевшие змеи, а руки обращались к разгневанным тучам, извергавшим молнии? Я изучала и то, в чём не было света: дороги животных и степные пути. Я узнала, как спасти жеребёнка, который застрял в утробе матери, как поймать и подоить косматых коров, что жевали траву в прериях. В молодости время летит быстро, я любила свою госпожу, и мне ещё многому предстояло научиться.
Но однажды ночью Турайя пришла ко мне в короне из лунного света и тьмы.
– Согнутый Лук, – прошипела она, – козочка моего сердца. Ты должна сейчас пойти за мной. Раз в жизни постарайся не задавать никаких вопросов.
Я открыла неугомонный рот, потом хорошенько подумала и закрыла его, взяла свой мешок и последовала за худой фигурой через длинный луг, окружавший деревню. Мы шли милю за милей, и её расплывчатый силуэт маячил впереди, так что я погрузилась в полудрёму, а небо и жестокий зимний ветер плавно скользили по моим щекам.
Через некоторое время мы подошли к исполинскому утёсу, который возник перед нами, будто огромный медведь. Ведьма притянула меня к себе и обняла, чего раньше не делала ни разу. Когда она отстранилась, её грубоватое лицо было влажным от слёз.
– Ты была моей лучшей ученицей. Я тобой горжусь. Но сегодня вечером мне нельзя идти с тобой. Я такого никогда не делала… у меня нет на это права. Оно есть только у тебя, и, останься в твоей семье хотя бы одна женщина, мы бы никогда не встретились. Если утром ты вернёшься в деревню, это будет означать конец твоего ученичества. Ты станешь полным колодцем: в нём будет достаточно серебряной воды, чтобы ты могла вернуться к своим людям, напоить их, указать путь и научить. Дальше будешь учиться сама, как все мы, до конца своих дней сами себе учительницы и ученицы, наставницы и подмастерья. Ты вернёшься, отягощённая знанием, и передашь его своему племени, и сила твоя будет расти, точно дитя, и ты проведёшь остаток жизни в труде. Но сначала ты должна пережить эту ночь и родиться заново. Тогда ты будешь готова, моя прекрасная, прекрасная дочь. Моя прекрасная козочка.
Её рот изогнулся в сердечной улыбке, сделавшись похожим на скимитар[1], и она указала на дыру, зиявшую в скале. Я неуклюже поцеловала её в щёку, заглянула в её сияющие глаза. Я решила, что спрячу свой страх, овладею им и войду в него, буду бродить внутри, пока он не исчезнет в моём тихом, спокойном нутре. Я отвернулась от Турайи, моей жизни с ней и юности, и вошла в пасть пещеры.
Вскоре я уже ничего не видела: тьма будто руками закрыла мои глаза. Я расчистила себе место на прохладной твёрдой земле, прислушиваясь к медленному и ленивому шуршанию летучих мышей где-то очень высоко. И стала ждать, скованная чернотой.
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
Краснеющее солнце освещало лицо Нож, её нос отбрасывал тень на шрамы, а глаза были глубоки и непроницаемы, словно заснеженные горы. Вокруг дома, тут и там, как цветы на лугу, стояли деревянные вёдра с водой из колодца, на её поверхности играли багровые и шафрановые блики, вторя полыхающему небу. Принц покачался на пятках, провёл рукой по густым чёрным волосам, увлажнившимся от пота. Встрепенулся, будто сбросив чары, и внимательно посмотрел на старую Ведьму.
– Ну, – выпалил он, – и что было потом?
Женщина издала сиплый смешок.
– Потом красавчик Принц вошел в хижину, потому что близилась ночь, и замесил тесто, чтобы мерзкая, уродливая Ведьма смогла испечь хлеб.
Принц, до сих пор умудрявшийся вести себя с достоинством, чуть не сорвался. И что же, теперь он должен трудиться на кухне у этого убожества, словно какая-нибудь судомойка? Леандр из Восьми королевств, Двукровный повелитель границ, сын Хелии Блистающей точно не станет печь мерзкий хлеб для тощей крестьянки в дрянном местечке. Да, он пообещал служить ей, но собирался делать это подобающим мужчине способом, сокрушая одних существ и спасая других. Хлеб не нужно было ни сокрушать, ни спасать.
Принц открыл свой благородный рот, чтобы кое-что сказать старухе, но её ледяной взгляд превратился в петлю вокруг его шеи и не дал вымолвить ни слова. Её зубы до жути ярко блестели между потрескавшимися губами и будто удлинялись, превращаясь в наползающие друг на друга ножи цвета слоновой кости. Через миг видение исчезло, но теперь Принц был убежден, что хлебопечение – самое достойное и приятное занятие, а замес теста, возможно, не сильно отличается от сокрушения.
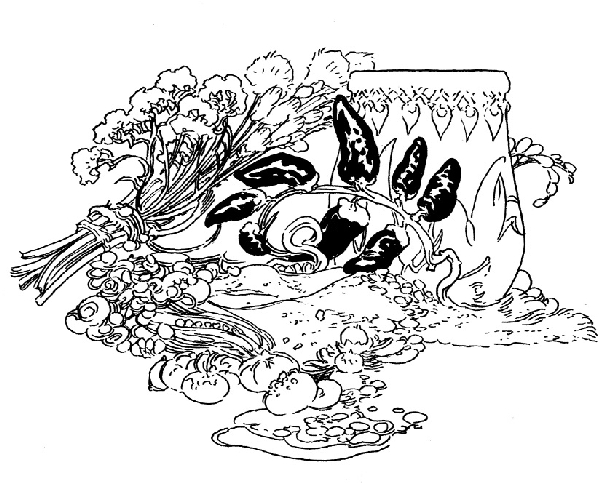
Хотя ему пришлось согнуться, чтобы войти в хижину, там оказалось удобнее и просторнее, чем можно было предположить: в углу пламя лизало кривые поленья боярышника, вдоль стен выстроились книги в переплётах. Нож повернулась, когда он снял свои сапоги из отменной кожи.
– Уж прости за дверь. Мой народ всегда был низкорослым.
Пучки сушеных трав и некогда ярких цветов свисали с крючков на потолке, будто серые, красные и коричневые сталактиты. Он увидел увядшие цветы персика, покрытые пылью люпины, розы и связки грибов, похожих на розы, дягиль, трифоль, бурую водоросль, мать-и-мачеху, руту и просвирняк… на чём его невеликие, как у всех принцев, познания в ботанике закончились. Блестящие чёрные шкуры покрывали пол, точно осенние листья. Границы просторной главной комнаты отмечали развешенные повсюду отрезы необычных тканей ярких цветов, на полу были расставлены большие терракотовые вазы и загадочные сундуки с медными и серебряными замками, а также бесчисленные трости из самых разных материалов; массивный стол из полированного дерева громоздился возле очага. В целом Принц увидел именно то, что ожидал увидеть в жилище Ведьмы.
На столе виднелись куски только что замешанного теста и керамические горшочки с душистыми специями. Старуха взмахом руки указала на них и низкий стул. Сама она повернулась к большой железной плите, и её мускулистая спина закрыла то, что там готовилось, исходя паром. Воцарилась долгая тишина, которую нарушали тихие хлюпающие звуки: Принц одной рукой, медленно и неуклюже, замешивал тесто, не касаясь его раненой кистью, чтобы сочащаяся из неё кровь не запачкала хлеб. Обрубки пальцев почти не болели. Через некоторое время Нож, оторвав взгляд от плиты, потрясла седоволосой головой, как жеребёнок гривой, и произнесла, обращаясь к стене из неотёсанных брёвен:
– Знаешь, у тебя волосы матери, такие же длинные кудри, будто полосы коры. Только цвет другой.
В её грубоватом голосе звучала боль. Повернувшись, она подошла к столу с двумя глиняными чашками, в которых дымился зеленовато-желтый чай.
– Ивовая кора и дикая мята, – проворчала она, касаясь столешницы. Пламя очага чётко высвечивало её профиль. – И глаза у вас похожие, хотя не обошлось без твоего отца – он наделил тебя чернотой, в которой ничего не отражается.
У Принца перехватило дыхание, слова ринулись к его губам и умерли, задохнувшись на языке. Всё его тело будто боролось само с собой, и в какой-то момент он понял, что тихонько плачет, орошая солёными слезами хлеб, а его молодые плечи судорожно вздрагивают.
– Прошу, скажи, – взмолился он, – что ты знаешь о моей матери? Нет… не говори, ничего мне о ней не рассказывай. Никогда не рассказывай. – Принц вытер глаза грязным рукавом. – Говори мне о том, что случилось с твоей бабушкой в пещере, рассказывай старые сказки о Звёздах, в которые больше никто не верит, но не проси, чтобы я вспоминал мою мать.
Ведьма отхлебнула чая.
– Сидя в темнице, бабушка потёрла виски и выпила немного грязной воды из ржавого железного ковшика, который нам оставили. Я ждала терпеливо, как подобает хорошей ученице. Наконец она продолжила…
Сказка Бабушки (продолжение)
Разумеется, было темно. Такие вещи всегда начинаются в темноте. Я прислонилась к скале, чувствуя её влажноватую поверхность, вдохнула тяжелый воздух каменной утробы, что была темнее самой черноты.
Шли века. Или минуты.
Тени вокруг меня были плотными, с конечностями, а их тела имели вес. Временами я была спокойна и внимательна, будто сидела на гигантском лепестке иссиня-чёрной лилии, и её мясистая плоть изгибалась подо мной, настолько совершенная, что никакая часть меня не устояла бы перед желанием стать её частью.
И моё тело менялось, превращаясь в её угольно-сумеречное тело. Порой мне становилось холодно, я чувствовала себя одинокой и очень маленькой. Но я ощущала внутри непокорный огонёк, от которого исходило тепло, как от костра у ног. Его свет прошел сквозь меня, словно я была решетом из шелка, оставил чистой и непорочной в тишине пещеры. Я сидела, повернув руки ладонями кверху, пытаясь удержать изгиб темноты, похожий на свисающее брюхо цвета грозовой тучи, покрытое тёмными символами, живыми, дышащими, кружащимися в фиолетовой мгле, что приходит после заката.
Наверное, я почти уснула, как вдруг моё тело вспыхнуло и вздрогнуло, и в гематитовом воздухе появилось нечто. Сначала я не могла разглядеть ничего, кроме пятна, ещё более черного, чем чернота вокруг. Его края, излучавшие слабый свет, были границами некоей формы, очерченными жаром молнии, мерцающим послеобразом[2]. Я испугалась, внучка, конечно же я испугалась. Протиснулась в углубление, имевшееся в стене, и дрожала как новорожденный оленёнок.
В конце концов я разглядела длинную голову и струящуюся гриву, сияющие глаза, круглые, точно луны. Она казалась частью камня, частью ночи, частью того, с чем мне ещё ни разу не приходилось сталкиваться. Мои глаза закатились, кожа покрылась липким потом. Моё сердце билось так сильно, будто я проглотила колибри.
И вот фигура, обрамлённая белым огнём, сделалась ясной и чёткой.
Я мгновенно узнала изгиб её длинной чёрной шеи, гладкий круп и бархатистую шкуру, толстый хвост из тысячи кос, подметающий пол пещеры, дыхание, облачками вырывающееся из больших ноздрей, словно дымок из трубки: то была лошадь, превосходящая лошадей мечты, предвосхищавшая любые догадки о размере или надежды на красоту. Её уши, напоминавшие жесткие перья, достигали потолка пещеры и, подёргиваясь, вырезали на камне загадочные стихи. Её копыта ступали по беспорядочно разбросанным обугленным челюстям, лопаткам и грудным костям, похожим на скипетры.
Кобыла спокойно глядела на меня, изредка похрапывая и моргая добела раскалёнными глазами. Наступила тишина – такая же, как там, где тысяча зим сходятся у края вечных снегов.
Я по-прежнему не знаю, откуда взялась храбрость, из какого тайника во мне она выскочила, будто весело журчащий родник. Но я приподнялась на слабых ногах и протянула свою маленькую руку к существу, не замечая защитного круга из дребезжащих костей. Я погладила её нос и чело, не знавшее света… Внучка, я даже теперь не могу описать гладкость её плоти и лёгкость, с которой моя рука скользила по густой мерцающей шкуре. Её кожа была точно свежие сливки или тень ворона, летящего высоко в безлунной ночи. Она была красива и ужасна, дика и чиста. Её глаза врощались как солнца, а её огромное сердце громыхало напротив меня. Я припала лицом к её гриве, вдохнула запах дикой земли и горящего неба. Кроме неё, не осталось другого мира.
Внезапно, без предупреждения, громадная голова повернулась, словно распахнулась дверь, – и чёрная Кобыла вонзила в моё плечо полыхающие зубы, разрывая мышцы до костей. Мой беспомощный крик раскатился эхом по пещере, и кровь потекла из раны, словно река по красному каньону, тёплым потоком проливаясь на мои груди и руки. Я забилась, колотя руками по её боку, но зубы лишь глубже входили в мою плоть. Наверное, я потеряла сознание и, падая к её ногам, не ждала ничего, кроме смерти.
Придя в себя, я обнаружила, что снова лежу у скальной стены, вымокшая в собственной крови, как после ливня. Кобыла исчезла. Я залилась горькими слезами… Хотя она вонзила в меня свои зубы, мне их не хватало, я чувствовала себя пустой без их обжигающего света. Кобыла сделала то, что делала всегда, – прогрызла дыру в плоти, и теперь, когда она ушла, края этой дыры по ней тосковали. Её отсутствие заполняло пещеру, точно угасающее эхо.

На месте, где появилась Кобыла, возникло создание поменьше, в котором не было ничего внушительного или ужасного: оно сидело на задних лапах, и его глаза посверкивали в заново сгустившейся тьме. Увидев, что я ожила, существо прошло по земляному полу и остановилось прямо перед моим лицом. Это был красивый рыжий Лис с восхитительным пушистым хвостом. От него пахло жженой травой и медной стружкой, а по его шерсти пробегали зловещие ржавые искры.
К моему удивлению, Лис склонил свою любознательную мордочку и стал слизывать кровь с моей раны. Он закрыл блестящие глаза и трудился, делая грубые долгие и ужасно болезненные движения колючим розовым языком. Я прикусила губу и не всхлипнула, хотя прикосновение его шерсти к моей истерзанной коже вызывало агонию. Алый прилив постепенно отступил. Но маленький Лис не закончил со мной. Он открыл рот и довольно чётко проговорил:
– Прижми к ране немного желтокорня и корня одуванчика из твоего мешка, а сверху положи листья лавра, чтобы примочка держалась. Это поможет. Но важно полностью не останавливать кровотечение. Моя мать подготовила тебя, но кровь твоего тела тебе ещё понадобится.
Я безропотно повиновалась. Когда я закончила, Лис подался вперёд, чтобы понюхать моё плечо и проверить работу. Я внимательно следила за ним и, когда его голова наклонилась, быстро схватила его за поросшую жесткой шерстью шею. Хотя он забился в моих сильных руках и попытался укусить, я зашипела сквозь собственные острые зубы:
– Ты сейчас же расскажешь мне, что здесь происходит, Лис, или я сниму с тебя шкуру и засуну в мешок с лавром и корнем одуванчика быстрее, чем лев смог бы проглотить мышь.
Лис фыркнул и плюнул в меня, словно капризный ребёнок, но, потратив ещё какое-то время на сопение да ворчание и сообразив, что я не выпущу его шею из рук, ответил с уязвлённой гордостью:
– Ты, девчонка, не должна… трогать меня, ты не должна… набрасываться на меня или задавать мне… вопросы. Так нельзя! Но ты притронулась к Кобыле, а это тоже запрещено. Я лишь могу надеяться, что боль от её укуса была неимоверной. Она стерпела прикосновение твоих рук. Мерзость! Они такие грязные, ты такая грязная и тёмная, и ты прикоснулась к ней, прикоснулась ко мне!
Я осторожно отпустила его и отодвинулась, а он, разъярённый, начал тереть нос и шею и отчаянными движениями розового язычка мыть свою шерсть. Я улыбнулась, изображая храбрость, и кивнула, демонстрируя мнимую уверенность в своих силах.
– Лис, думаю, я вела себя хорошо и достаточно настрадалась, чтобы узнать, зачем я здесь.
Лис издевательски ухнул. Этот звук не слишком вязался с его изящной красновато-коричневой мордочкой.
– О, ты думаешь, что была… хорошей? Да? Ты думаешь, что страдала?! Ничего ты не знаешь, глупая коза. – Он встал на задние лапы. – Я Слуга Чёрной Кобылы. Ты мою мать… приласкала, дрянная девчонка. Она сотворила слова, но не говорит; она приносит мечты и видения, но не спит; она поглощает бурю, но ничего не знает о дожде или ветре. Я говорю за неё; я ей… принадлежу. Это не было испытанием, человеческое дитя; оно тебе ещё предстоит. Боль – не испытание. По мне, ты уже всё провалила: посмела тронуть ту, что несёт Луну в своём брюхе, ту, что ожеребилась Звёздами в Начале Мира. Но она стерпела твои нечистые руки на своём теле и благословила тебя своими священными зубами, так что где-то в тебе должно быть то, что родилось в ней.
Лис раздраженно потоптался на месте и уставился на меня с мольбой во взгляде.
– Зачем, ну зачем ты это сделала? Зачем тебе понадобилось гладить её, словно она твоя лошадь, твой домашний зверёк? Ох, мать моя, уж не собиралась ли ты на ней прокатиться?! Даже… даже я не удостоился разрешения прикоснуться к ней за все годы службы, ни разу… Ужасное дитя, почему ты не держала свои руки при себе?
Лис снова придвинулся ко мне. Превратившись в багровую вспышку, он жестоко полоснул меня когтями по левой груди, рассекая плоть, как спелую сливу. Я могла бы поклясться, что слёзы блестели в его чёрных глазках, золотой шерсти и усах.
– Вот тебе, – прорычал он, – это за твоё преступление: моя отметина. Я Слуга! Я иду подле Кобылы; я пил её молоко и охотился с нею! Я жевал маленькие Травинки-Звёзды сотнями и тысячами вместе с нею! И это я не буду исцелять!
Теперь маленький зверь, поднявший шерсть дыбом, по-настоящему меня испугал; в темноте раздалось наше учащённое дыхание. Я прижала руку к новой ране, кровь сочилась сквозь сомкнутые пальцы. Лис будто пришел в себя, его шерсть улеглась.
– Я уже половину отпущенного тебе времени растратил, маленькая идиотка. – Он возвращался к ритуалу, сверкая глазами. – Но ты не пройдёшь испытания, так что вряд ли это важно. Иди вперёд, дитя мерзости, во вторую пещеру, что зовётся Пещерой Волков, а оттуда – в Пещеру Семи Спящих. Там и ждёт тебя испытание. Пройди три пещеры и стань взрослой женщиной. Или умри в одной из них. Помни, боль – не испытание. Знаний недостаточно. Многие были здесь до тебя, малышка, и никто из них никогда не рассказывал о том, через что прошел. Это запрещено. Ты можешь взять с собой только собственное тело, мешок останется здесь. Иди, с тобой благословение Кобылы. И исполни свой долг, если негодница вроде тебя на такое вообще способна.
Лис ещё раз клацнул острыми как иголки зубами в моём направлении и, направившись к дальнему концу пещеры, прошел сквозь каменную стену и исчез, будто его и не было. Из раны ещё шла кровь; хотя немного листьев и порошков из моего мешка помогли, на платье осталось тёмное пятно. Я пригладила волосы, встала, чуть увереннее держась на ногах, и попыталась разглядеть проход во вторую пещеру. Там, где исчез Лис, взмахнув красивым хвостом, у самого пола в скале появилась маленькая дыра цвета свежей крови. Мне с трудом удалось бы протиснуться сквозь неё. Я подошла ближе, внушая себе, что спокойна, как отблеск лунного света на перьях журавля.
Девочка говорила, держа большие глаза закрытыми, так что её веки и покрывавшая их мозаика казались тёмными лилиями на поверхности бледного пруда. К небесам летели изумрудные песни лягушек, и совы пели в мерцающих прибрежных зарослях, сидя на чёрных ветвях, укутанные в фиолетовое дыхание цветов палисандрового дерева. Голос рассказчицы становился то громче, то тише, в такт этим мелодичным звукам. Девочка отпила вина из фляги и провела пальцами по выгравированному на ней узору. Ветер шевельнул её волосы, как лепестки на поверхности воды.
Несмотря на отдых, её голос снова заставил мальчика погрузиться в неглубокий сон. История то и дело вторгалась в его разум, будто игла, за которой тянется шелковая нить. Его голова лежала у девочки на коленях, и она, продолжая рассказ, погладила его мягкие тёмные волосы – сначала робко, а затем с нарастающей нежностью. Звёзды в вышине горели, точно свечи во Дворце. Луна была высоко – полная, как парус на ветру; она спокойно продвигалась сквозь валы синих туч, рассекая их пенистую сапфировую плоть мерцающим плугом. Тени длинными минаретами упали на сады, дворы, лимонные деревья и оливы, акации и ползучие лозы, на бело-желтые, как кость, лилии и спящий Дворец. Голос девочки был словно шелест тростника на тёплом ветру, заблудившегося в лабиринте мощёных дорожек.
Сказка Бабушки (продолжение)
Я опустилась на корточки, втиснулась в дыру, и гладкая скала начала таять на глазах, становясь грязью, как лёд превращается в воду. Я, еле дыша, под гнётом скользкого камня ползла на животе, будто земляной червяк, а сверху на меня капала жидкая грязь. Я говорила себе, что грязь – это всего лишь грязь, что я её не боюсь и что любая дыра где-то заканчивается. Тем временем грязь забила мой рот и нос, залепила глаза. Я чувствовала вкус земли и не видела ничего вокруг.
Но я выбралась – в конце концов мы всегда выбираемся – на другую сторону, ещё в одну пещеру с таким же земляным полом. Было слишком темно, чтобы разглядеть, где она заканчивается, но скальные стены сужались кверху, превращаясь в узкую щель, сквозь которую лился лунный свет, и откуда-то издалека доносились отголоски ласкового дождя.
Я должна была всё понять в тот самый момент, когда мои ноги коснулись пола. Я слышала бурю, разразившуюся ужасно далеко; как с толстых сосновых иголок падают капли, трава пьёт воду, грибы всасывают её и мхи пропитываются ею. Серебристый, слегка мерцающий отблеск дождя на сочных зелёных листьях и липкий запах отсыревших, гниющих цветов звучали в моих ушах, как бубенчики на лошадином седле. Но круп небесной кобылы, видимый через отверстие в потолке пещеры, был чист и полон ярких суровых звёзд.
Дождь не тревожил небо надо мной, потому что шел где-то очень далеко. Но мои уши и нос чуяли его, как лезвие ощущает молот, высекающий искры. Я быстро обежала полутёмное помещение, изучая его и пытаясь вынюхать испытание до того, как оно бросится на меня из засады. Я должна была всё понять… Но тыкать влажным носом в дальние углы пещеры казалось столь же естественным, как и передвигаться лёгким галопом, вздыбливать шерсть и щёлкать челюстями в темноте.
Я искала вторую дверь, но её не оказалось, хотя часть обращенной ко мне скалы была на удивление отполированной и имела глубокий янтарный цвет; в ней отражалось помещение, залитое лунным светом, и я сама. Я увидела нечто серо-белое, когда проходила мимо, и резко остановилась: сердце трепыхнулось в груди, комок подступил к горлу. Это было мое отражение в камне.
С блестящей стены пещеры на меня глядел очень большой и красивый серый волк. Длинные косматые уши подёргивались, язык вывалился между пугающе свирепыми зубами. Мои чёрные глаза поблескивали, а шерсть была цвета теней, отбрасываемых на воду луной, – цвета звёзд, всех оттенков мерцающего бледного серебра, от камня до снега, – от сильных ног до кончика моего необычайно длинного и горделивого хвоста, который с величественной тяжестью опускался на земляной пол.
В общем и целом, внученька, выглядела я прекрасно. Я завыла, чтобы услышать свой голос, который отразился от стен, будто стрела от зелёного дерева. Он был такой громкий, что я подпрыгнула от неожиданности. Но, кроме меня, вокруг по-прежнему никого не было. Я прошлась туда-сюда, словно раньше мне не приходилось передвигаться всего на двух ногах. Казалось, нет ничего более естественного, чем моя новая пружинистая поступь, умение держать равновесие с помощью хвоста, прикосновение цепких когтей к незаметным корням и камням. Быстрый глухой перестук новых лап отправил в небытие смешные воспоминания о том, что я когда-то была девчонкой и спала в мягкой постели. Мои мысли стали волчьими, меня обуяло желание вырваться в ночь, на охоту, припустить на сильных лапах через поля. Мою душу заполнили воспоминания о том, как я со всех ног бегу по пушистому снегу со своей стаей, выкармливаю красивых серых щенков в тёплом логове, выслеживаю зайцев и оленей в зелёных горах, забираюсь на фермы, где полным-полно жирных свиней и беспомощных весенних ягнят. Я была безмолвной и свирепой, знать не знала о бесконечных подметаниях пола в хижине и чистке очага. Вообще, что такое «хижина»? И что такое «очаг»? Я с большим трудом вспоминала собственное имя, а потом – то, что оно у меня когда-то было и что значит «имя». Я будто погрузилась в сон, накрывшись тёплым одеялом, которым стало волчье тело. Ведь я устала, понимаешь, так устала…
Ты должна понять, Нож моего сердца: случившееся со мной изменило не только тело, но и разум; это поглотило меня без остатка, вобрало в себя.
Ночь всё длилась и длилась, но ничего не происходило. Поэтому я, свернувшись в клубок мерцающей шерсти посреди пещеры, уснула, затерялась в черноте бесконечной ночи и снах, где я охотилась и ела, всё время ела.
Вспоминая об этом теперь, я думаю, что вряд ли спала – волкам нет нужны слишком долго дрыхнуть. Я проснулась внезапно, хотя ни один звук меня не потревожил, и увидела три высокие фигуры на почтительном расстоянии.
Первой стояла белая волчица со скошенными ушами и нежными глазами цвета дождя. Её мерцающая шерсть была синеватой, как новая луна среди заснеженных ветвей, хвост медленно колыхался, словно поток льда, рисуя узоры на земляном полу.
Вторым был волк – чёрный как ночь в разгар зимы, с глазами, подобными грозовым тучам, в которых сверкают молнии, с шерстью густой и темной, словно глубины горного озера.
Третья блистала всеми оттенками золота, как я – всеми оттенками серебра, от белизны яростного огня до тёмной бронзы; цвета перетекали, сливаясь друг с другом, точно жидкое пламя. Даже в её глазах искрилось и мерцало золото.
Во рту у меня совсем пересохло, я даже сглотнуть не могла. Понадобилась вся моя новообретённая волчья сущность, чтобы не ринуться прочь от страшных ликов. Я боролась, цепляясь за остатки разума и своё человеческое «я», погребённое под внешностью волка.
Фигуры заговорили в унисон, их удлинённые морды выговаривали слова странно, но красиво, с какой-то рычащей нежностью:
– Добро пожаловать, юная псица. Кого из нас ты выберешь?
Я попыталась заговорить, но не смогла: лишь заикалась, задыхалась и взвизгивала. Моя шелковистая морда с кинжальными зубами не смогла изречь ни слова, а серебристый лоб покрылся морщинами от усилий.
– Дитя, – сказала белая волчица, и голос её был ветром с гор, доброжелательным и сладким, – ты должна выбрать. Если не можешь говорить, подойди к одной из нас и прикоснись к шерсти носом. Мы ведь волки и не слишком высоко ценим слова.
– Она не понимает, сестра, – вмешался чёрный волк, и говорил он так, словно рубил молодые деревца бронзовым топором. Он обратил ко мне раздраженный и горделивый взгляд и произнёс так медленно, словно я была очень тупой и упрямой лошадью: – Проводник, юная псица. Ты должна выбрать одного из нас своим проводником. Ты должна знать, как делать такие вещи.
Чёрный зверь фыркнул – ему явно было скучно продолжать.
Эти двое, белая волчица и чёрный волк, были высокими и страшными. Третья фигура, излучавшая мягкое мерцание золота, молчала. Лишь её хвост лениво покачивался из стороны в сторону, спокойные глаза походили на драгоценные луны. Я подошла к ней и прижала влажный нос к её шее, словно уткнулась в поле нарциссов. Её шерсть пахла хорошо и сладко, больше я ни о чём не могла думать… Она пахла правильно, а в запахе, как ни крути, вся суть. Клянусь, она мне улыбнулась! Когда я отстранилась от её тёплого душистого тела, двое других исчезли. Она посмотрела на меня – её глаза напоминали ячейки медовых сот, – потом её взгляд скользнул мимо, туда, где исчезли собратья по стае.
– Знаешь, мы ведь совсем заблудились, – прошептала она.
Я не понимала – могла ли я догадаться, о чём она говорит? – но ткнулась в неё мордой, желая подбодрить, и закрыла глаза, купаясь в приятном запахе. В горле у неё родилось рычание, но не угрожающее, а то, каким приветствуют щенков, и всё мое тело завибрировало в унисон ему.
– Мы и не думали, что так заблудимся…

Сказка Волчицы
Ступая по первой траве в начале времён, мы сжигали её, даже если пытались идти как можно легче. Она исчезала в череде вспышек белого пламени, и нам делалось страшно от того, что мы могли сотворить с этим местом. Мы старались ступать только по камням – немым и мёртвым, понимаешь? И по немой, мёртвой траве, но не по живым травинкам и камням, которые… Ох, не имеет значения. Наши ноги убивали всё, к чему прикасались, и мы съёживались от страха перед пожарами, которые не могли погасить.
Но то ли трава стала сильнее, то ли мы ослабели, вскоре от нас начали оставаться лишь горелые отпечатки. Да, чёрные и уродливые, но мы уже не вершили всесожжение на своём пути и принялись исследовать мир, который оставила Кобыла, покинув небо.
Я была молода, как и все. Мы дали имена всему и назвали самих себя. Пчела-Звезда, маленькая и яркая, счастливее любого из нас – этой солнечная искорке ни разу не довелось убить траву или камень на своём пути, – назвала меня Лиульфур[3], и, когда она жужжала над моим ухом, я слышала своё имя в шуме её крыльев.
Всё оказалось сложнее, чем можно было бы предположить. Нас было много, а их ещё больше. Настоящие дети Кобылы, явившиеся из её тела в лунной первородной смазке и небесной слюне, куда более необузданные и многочисленные, чем мы. Мы ведь как-никак – просто дыры, наполненные светом, в потаённых глубинах души обеспокоенные тем, что нас породил случай, что мы не более чем лужи, которые встали и дали друг другу имена, а родиться по-настоящему должны были только создания, лишённые света, которым под силу ступать легко, так легко!
И поэтому мы следили за ними: шли следом и пытались им подражать. Некоторые из нас были похожи на них – дыры в форме людей, животных, растений, инструментов и камней, – и естественным образом нас тянуло к тем, с кем имелось нечто общее. Но, кроме всего прочего, мы пытались подражать мужчинам и женщинам, казавшимся самыми преднамеренными из всех вещей, порождённых Кобылой, которые умели говорить и давать имена, возделывать землю и топтать её, точь-в-точь как мы.
Однако они боялись нас, того, как мы горели и сжигали всё хорошее и красивое, называли нас призраками и даже хуже. Но мы не могли их покинуть – ведь они побывали внутри Кобылы, а мы не знали, каково это, и какой она была под рёбрами, под сердцем. Мы хотели узнать, желали в её отсутствие любить то, что являлось её частью.
И да, мы видели, как наш свет уходит к ним, к людям, растениям, инструментам и камням, потому многие из нас покинули их, стали жить в общинах среди себе подобных – Розы-Звёзды с Пчёлами-Звёздами, Черви-Звёзды с Улитками-Звёздами, – намереваясь остаться в целости и сохранности.
Но некоторые из нас плелись за людьми, как побитая собака за жестоким хозяином, и старались походить на них. Ибо мы совершили открытие сродни тому, какое сделали они, когда научились засевать часть поля, а часть оставлять под паром. Мы узнали, что, даже если нас выгрызли в какой-то определённой форме, это не значит, что её следует сохранять. В первый раз стряхивать форму, которую нам придала нам мать, больно, но со временем становится легче. Это было нашим главным умением, и мы продолжали учиться. Мы были детьми и играли с миром, как с кубиками и куклами. Однако наши братья и сёстры не хотели играть. Поэтому Маникарника постигла роковая участь, и мы узнали, что способны на вещь, которая значительнее и ужаснее смены одной шкуры на другую.
Хотела бы я сказать, что знала их. И я знала – в том смысле, в каком троюродные братья и сёстры в большой семье знают друг друга, – совсем чуть-чуть. Они были другими – Камни-Звёзды, – а я была Волчицей-Звездой. И они обратились в женщин, в то время как я после нескольких экспериментов упрямо держалась за лапы и хвост, данные мне матерью.
Среди нас нет того, кто не знал бы эту историю.
Маникарника – это семь сестёр. Когда Кобыла выгрызла их из своей плоти, они были Камнями: Нефрит, Гранит и Опал, Гранат, Сланец и Железняк, а также маленькая Алмаз, бледная, как лапа, окунувшаяся в молоко.
Они пришли в ужас, катясь и грохоча по мёртвым скалами, сожгли их, расплавили, превратили в блестящие реки жидкой лавы. Научившись ходить на двух ногах, сёстры избегали гор, как болезни, отказываясь причинять вред тому, что походило на их первые тела. Я рассказываю тебе это, чтобы ты поняла их нежность, чтобы знала – пламя было не тем, чего хотели мои соплеменники. Но, видишь ли, одни несчастные случаи влекут за собой другие. Мы ничего не могли с этим поделать. И они ничего не могли с этим поделать.
После того как первые из нас начали тускнеть, отправились в ссылку за болота и холмы, Маникарника остались. Они не берегли свой свет и преисполнились решимости показать нам, что можно жить в мире, сотворённом Кобылой, что он предназначен для нас, как и для её истинных детей.
Чтобы это доказать, сёстры отправились в поселения людей и попросили приюта, как нищенки, одетые в лохмотья и без гроша в кармане. Они были уверены, что их примут, и мы увидим, как второе потомство Кобылы назовёт нас сёстрами, братьями и женами, первые породнятся со вторыми. Конечно, сёстры ещё излучали сияние, но кто откажет красивой девушке, у которой только и есть, что ветхое платье, даже если она ярко светится? Кто откажет семерым?
Первый дом, к которому пришли Маникарника, был дворцом Короля – таким, какими были дворцы в те дни: большой глинобитной хижиной на холме, чуть повыше других глинобитных хижин. Король послал своих людей узнать, что за шум у дверей, и они обнаружили там полураздетых Нефрит, Гранит и Опал, чья кожа сияла разными цветами; Гранат, красную, точно залившуюся румянцем; Сланец и Железняк, серебристо мерцавших, как поверхность воды, и малышку Алмаз, бледную и нежную, как тончайшая нить в паутине. Сёстры жались друг к другу, робко просили пустить их за стены из глиняных кирпичей, накормить и одеть, полюбить.
Увидев странный свет, люди Короля содрогнулись и заперли деревянные ворота на засов. Маникарника это не смутило, они направились к скоплению маленьких глинобитных хижин, где постучали в двери бедной вдовы. Конечно – муж умер, дети выросли, она примет их и назовёт дочерями. Старая вдова отперла обитую шкурой дверь и увидела Нефрит, Гранит и Опал с гладкими, отполированными руками; Гранат с острыми локотками; тёмных и блестящих Сланец и Железняк да малышку Алмаз, чистую, словно утро. Сёстры приникли друг к другу, смиренно прося убежища от ночного холода, супа, тёплых рук и ласковых слов.
Увидев странный свет, вдова содрогнулась, начала плакать о тех, кого потеряла, и, не переставая лить слёзы, заперла обитую шкурой дверь, оставив странных гостей за порогом. Но сёстры не сдались. Они покинули посёлок из глинобитных хижин и отправились к людям с волосами цвета глины, которые передвигались с места на место, странствовали по открытым степям в фургонах, запряженных лошадьми, и на санях. Они подошли к одному из шатров, ничем не отличавшемуся от других, и призвали девушку, которая там жила. Прижимая к себе новорожденное дитя, девушка откинула полог шатра и увидела Нефрит, Гранит и Опал, прохладных, как обдуваемый ветром снег; Гранат, жаркую, как раскалившийся на солнце песок; Сланец и Железняк, которые замёрзли так, что пальцы почернели, да малышку Алмаз, светлую и сладкую, как дождь. Маникарника опирались друг на друга, вконец измученные, и просили дать им приют, укутать в шкуры и напоить молоком.
Девушка рассмеялась и сказала, что у неё есть много всего, чем можно поделиться. Улыбки сестёр были подобны семи рассветам, и они, обрадованные, устроились на ночлег рядом с кочевницей, прямо на полу простого шатра. И были они счастливы, и земля под ними лишь самую малость потемнела от того, что на неё давил их свет.
К утру все они оказались мертвы.
Сказка Ведьмы (продолжение)
Пыль и солома покрывали сырой пол темницы, и ни один косой осколок света не рассёк тьму. Тишину нарушал звук воды, падавшей капля за каплей с влажного потолка на влажный пол. Я не заметила, как под дверь протолкнули ошмётки незнакомого мяса и коричневую болотную воду – я ничего не слышала, кроме бабушкиного голоса. Она положила иссохшую руку мне на голову, поглаживая густые волосы с нежностью, отточенной на десятках детей. Я подняла глаза, высматривая среди густых теней её потрескавшиеся губы и изрезанное морщинами лицо; свернулась клубочком у бабушки на коленях, пытаясь прикрыть своим изношенным платьем, превратившимся в лохмотья, её болезненно худые ноги. Она улыбнулась, глядя на меня сверху вниз, отбросила ткань, словно та ничего для неё не значила, и, хотя губы были рассечены и покрыты пятнами запёкшейся крови, её лицо светилось, как праздничный фонарь. Я мечтала быть такой же храброй, как она, чтобы неведомая сила, полученная ею в пещере, стала и моей силой.
Я принесла помятый ковшик с грязной водой, что стоял у двери, старясь весело ухаживать за бабушкой, как было когда-то. Но она отказалась и руками, покрытыми синяками и ссадинами, оставленными теми, кто притащил её сюда, принялась развязывать кожаные узлы на своём одеянии, пока не смогла стянуть грязную ткань с плеча. На коричневой коже, будто ядовитая змея, извивался длинный шрам – свидетельство того, как нечто пронзило и изувечило её плоть. Я не могла глаз от него оторвать.
– Чтобы ты знала, что я рассказываю правду, – сказала она, хихикнув, и снова завязала платье.
– Я… я и не сомневалась…
Бабушка легонько коснулась моей щеки:
– Нет-нет, конечно, ты не сомневалась. Ты всегда была хорошей девушкой. Вот видишь, я нарушила своё слово, не подчинилась Лису и рассказываю тебе всё, что должна была держать в секрете, как тайну появления зеленоглазого малыша в доме мужчины с карими глазами. Но меня никогда особо не заботило, что думало это старое красное чудище. И знаешь, теперь Кобыла является мне во сне: я езжу на ней верхом, она несёт меня по побелевшим степям, и жаркое солнце золотит наши спины.
Бабушка не договорила, но я почувствовала нутром, что ко мне Кобыла никогда не придёт, и мои бёдра не ощутят прикосновения её шкуры.
Согнутый Лук кашлянула – звук был такой, словно стрела ударилась в дерево.
– Прости, малышка Нож, я могла бы сейчас укачивать тебя в своих объятиях, напевая песни наших матерей. Но ты обязательно должна узнать, что мне пришлось вынести в пещере. Мы обе знаем, что тебе не суждено пройти эти испытания. Никто не подведёт тебя к пасти пещеры, не поцелует и не назовёт своей лучшей, самой красивой козочкой. Никто не заберёт тебя, дрожащую и трясущуюся, домой, когда всё закончится, и не укроет грубым одеялом. У тебя и у ребёнка, которого ты носишь, такого маленького, словно подёнка над стоячей водой, никого нет. Вместо сладкого воссоединения со своей старой бабушкой ты получаешь урок, тебе стоит его усвоить, и как следует.
У меня перехватило дыхание, будто в пересохшее горло попал клок свежей шерсти. Я не знала, что моё чрево приняло дитя из тела моего мужа до того, как он умер. Но я в тот же миг поняла, что она права. Мне с трудом удавалось сохранять спокойствие. Дрожа, я прошептала:
– Я слушаю, бабушка. Я иду за тобой, читая твои следы.
Её морщинистые веки сомкнулись, и, когда она снова начала говорить, они подрагивали, словно маленькие волки прыгали под её кожей.
Сказка Волчицы (продолжение)
Лагерь кочевников проснулся от криков юной девушки. Мужчины вбежали в её шатёр и увидели, что она, всхлипывая, прижимает к себе ребёнка, и её покрывает свет. Свет капал с её волос, струился по переносице, стекал по мочкам ушей. Он каплями затекал ей в рот, пятнал лоб ребёнка, собирался чахлой лужицей между её грудями. Бледный и яркий, как белки девичьих глаз, он намочил подол её платья из шкур… Свет пятнами покрывал стены и превратил земляной пол шатра в мерцающую хлюпающую грязь.
Вокруг девушки лежали семь каменных тел, которые не мерцали, не светились, не сияли.
Нефрит, Гранит и Опал, тёмные и полые, как трухлявые деревья; Гранат, пустая и пересохшая; Сланец и Железняк, бледные, как бумага, да малышка Алмаз – от неё осталась лишь оболочка цикады, хрустальная, чистая и пустая внутри, лишенная даже мёртвых костей.
Заливаясь слезами, девушка рассказала, что под покровом темноты пришли люди Короля. Они знали, какие гостьи постучались к ней днём, сочли это странным и опасным. Пока убивали бедных сестёр, ей заломили руки за спину. Маникарника даже не кричали, когда из них вытекал свет – брызги света, точно кровь, летели во все стороны; на лицо девушки упали тёплые капли, она ощутила их вкус, вкус сладкой воды и клевера. Люди Короля перерезали горло Звёздам и ушли, а девушка пыталась зажимать раны, но их было слишком много, а она была слишком слаба. Разве кто-то мог знать, как исцелить создание, истекающее светом, точно кровью?
Люди племени испугались и не знали, что делать. Они смыли свет с бедной девушки и отнесли семь каменных тел в поле, где росли маки, совершили известные им погребальные обряды.
Так Звёзды узнали, что могут умирать. Это наше самое значительное умение. Последние из нас покинули мир, спрятались в расщелинах и тайных норах, будто испуганные кролики.
Через некоторое время девушка и её черноглазое дитя посмотрели на небо сквозь отверстия во всё ещё мокром потолке шатра и заметили новые звёзды – их было семь, и они прильнули друг к другу, как сёстры.
Сказка Бабушки (продолжение)
Лиульфур Волчица-Звезда не шевельнула ни одним мускулом под золотой шкурой, пока говорила. Её голос не стал ни громче, ни тише. Она просто смотрела куда-то вперёд.
– Мы не знаем, куда они уходят – те, кто умирает. Куда все мы уходим. Тела остаются здесь, и новые звёзды появляются в небе, но где они сами?
Что я могла сказать, чтобы успокоить её?
– Бедная девушка-кочевница чуть не утонула в свете, излившемся из семи тел. Она и ребёнок наглотались света, до них никто не получал его в таком количестве. Свет едва не свёл с ума её детей и внуков, и они один за другим принялись искать нас, хотя в каждом из них сияния Маникарника оставалось всё меньше. Они наступали как упрямый прилив, и вот пришла твоя очередь – ты стоишь в самом конце цепи из внучек, которые словно передают из рук в руки ведро с водой. Всякий раз немного проливается на землю. – Она покачала большой лохматой головой. – Мы больше не избегаем вас. К нам будто возвращаются наши кузины.
Стена из полированного кварца, в которой я впервые увидела свой волчий облик, медленно растворилась, открыв длинный туннель, уходящий в черноту. Волчица вздохнула с усталой покорностью и нежно подтолкнула меня носом, как мать, которая показывает детёнышу дорогу к свежей воде. Наши сияющие тела слились и канули во тьму за стеной.
Лиульфур тихонько шла впереди меня, её лапы ступали уверенно и прямо. Она мерцала, точно медная лампа. Туннель был длиннее предыдущего и такой чёрный, что я едва подавила отчаянный возглас, впервые заглянув в него. В какой-то момент нам пришлось пробираться сквозь скалу на брюхе, чувствуя себя куском хлеба, застрявшим в длинной глотке; наши передние лапы загребали землю, а задние болели от того, что их было невозможно выпрямить.
Наконец скалистая глотка превратилась в комнату с высоким потолком, до самых дальних углов залитую светом – безупречно чистым, ярче дневного, будто кто-то растёр в руках солнце, превратившееся в мыло. Перемена оказалась столь внезапной, что я почти ослепла. В центре свечения находилась звезда, похожая на волка и испускающая нежное сияние.
Пещера оказалась не пустой: семь погребальных носилок были расставлены по кругу, и на каждых лежала женщина, спящая или мёртвая; семь пар тонких рук скрестились на семи бездыханных грудях. Волосы усопших ниспадали с носилок, будто росли тысячу лет; вокруг их тел лежали груды драгоценных камней, точно горы яблок в сезон урожая, превосходящие всё, что мне доводилось видеть ранее. Бесчисленное множество нефритов, гранитных осколков, опалов, ярких как кровь гранатов, кусков сланца и железной руды, а также маленьких алмазов, блестевших как снег.
В Саду
Проснувшись, мальчик начал медленно обкусывать яблочный огрызок, будто зачарованный. Перед его мысленным взором бежали и нюхали ветер грациозные волки. Он потянулся, зевнул и вытащил из мешка роскошное красное одеяло, отделанное золотом и расшитое лилиями; завернулся в него и осторожно придвинулся к девочке, словно к пугливому жеребёнку. Они укрылись в алом шалаше, и девочка опустила ресницы, когда рука мальчика, потянувшись за флягой с водой, чтобы забрать её внутрь, задела девичье колено. Они были очень близко; он вдыхал мускусный аромат её волос, запах кедра и жасмина.
Сквозь тонкий навес из листьев пробились первые лучи рассвета, синеватые и яркие, расцветив кожу детей розовыми и серебряными тенями.
На рассвете мир, укрытый мерцающей сетью тумана, выглядит очень спокойным. Мальчик и девочка, уже почти расставшиеся с детством, прятались в маленькой роще, им было тепло и сухо, а голос девочки сделался тихим, точно поступь кошачьих лап среди сосновых иголок. Юное солнце мерцающей ангельской рукой отбросило волосы со лба мальчика. Он не отодвинулся от девочки. Однако близился восход, и его сестра должна была проснуться – её лицо уподобилось бы буре при виде его пустой постели.
– Мне пора, – проговорил наконец мальчик. – Надо вернуться, пока дома все ещё спят.
Девочка кивнула, и к ней вернулась прежняя робость – она вновь ушла в себя, хотя целую ночь разматывала собственную душу, как кудель, превращая солому в золото.
– Но я вернусь, – заверил он, – как возвращаются на закате стаи речных птиц. Я принесу ужин, и ты расскажешь мне, чем всё закончилось в той пещере.
Мальчик тронул её щёку – прикосновение было мягким, точно заячья лапка. Девочка спрятала улыбку под его ладонью и кивнула. Она обратила на него взгляд блестящих глаз и на миг опустила длинные ресницы, продемонстрировав клубящуюся черноту родимых пятен, покрывающих веки, пугающих и тёмных, словно беззвёздная ночь. Мальчик отметил, что теперь, после короткого знакомства, они не кажутся ему некрасивыми. Он чуть опустил взъерошенную золотую голову, чтобы встретить её взгляд, как только она вновь откроет глаза.
– Я буду приходить каждый вечер, чтобы слушать твои истории. Каждый вечер, – негромко произнес мальчик и убежал туда, где туман полосами стелился по Саду, путаясь в зарослях жасмина и астр, блуждая среди яблонь.
Девочка склонилась к остаткам их вечерней трапезы и собрала хлебные крошки, чтобы покормить ворон и чаек. Потом она выбралась из своей маленькой беседки, стряхнув несколько лепестков, запутавшихся в волосах, и попала под ливень красно-золотых солнечных лучей.
Когда светило отправилось почивать на западе и укрылось длинными синими одеялами, девочка сидела, скрестив ноги, под жасминовыми ветвями цвета серебра и лаванды и смотрела, как нетерпеливая тень мальчика несётся к ней через пышную изумрудную лужайку. Он ворвался в её заросли, деловито разложил ужин. Она была уверена, что он не придёт.
Мальчик принёс тёмный хлеб и бледно-желтый сыр, кусок жареного ягнёнка и горстку ягод, чуть не лопавшихся от сока, несколько маленьких печеных картофелин, холодное зелёное яблоко и кусочек драгоценного, как мирра, шоколада.
– Я подумал, этим вечером обойдёмся без вина, иначе я опять провалюсь в сон, – застенчиво признался он, протягивая ей флягу с водой.
– Нет-нет, всё хорошо. Того, что ты принёс, более чем достаточно, – заверила его девочка с нервным смешком.
Они занялись едой и молчали, хотя мальчик жаждал услышать продолжение сказки, как медведь – выудить лосося из бурливой реки. Пока девочка ела, её лицо светлело, будто она была маленьким солнцем, восходившим в то время, как большое и золотое светило опускалось за горизонт.
– Как ты прожила все эти годы в Саду? – спросил мальчик и откусил большой кусок яблока.
Девочка огляделась.
– У Султана достаточно фруктовых деревьев, чтобы один ребёнок мог прокормиться, а вода в фонтанах прозрачная и чистая. У меня всего вдоволь. Дворец выбрасывает больше, чем я когда-нибудь смогу использовать. Иной раз даже старые платья амир[4] попадают на свалку. А суровыми зимами птицы приносили мне мышей и кроликов. Обо мне заботятся. Сад взрастил меня; он мне мать и отец, а родители всегда придумают, как накормить и одеть ребёнка.
– Птицы?.. – недоверчиво проговорил мальчик.
Она пожала плечами.
– Все существа одиноки. Их тянет ко мне, а меня тянет к ним, и мы согреваем друг друга, когда вокруг снег. Ты знаешь это не хуже меня – ведь тебя тоже тянуло, верно? И я кормлю тебя историями, как кусочками мяса, поджаренными на огне.
Мальчик сильно покраснел и отвёл глаза. Они закончили трапезу в молчании.
Наконец, когда ягнёнка и фрукты съели, сладкую воду выпили и каждый нашел для себя удобное местечко в цветочных зарослях, чтобы было на что опереться и иметь возможность заговорщически наклониться друг к другу, девочка продолжила рассказ. Её голос наполнил мальчика, как сливки наполняют серебряную миску.
Сказка Бабушки (продолжение)
Тишину нарушил шорох среди длинных недвижных теней позади последнего из семи тел – моя безмолвная проводница шевельнула красивым хвостом.
– Мы нашли их на поле, где было много маков и отсыревшей пшеницы, и принесли сюда. Они совсем ничего не весили, как мотыльки. Здесь, где мой тёмный брат, моя бледная сестра и ещё кое-кто нашёл убежище, мы их и храним. Что нам ещё делать? У нас нет ни кладбищ, ни ритуалов, ни песен, ни костров. Нам остались лишь их оболочки, и, как с ними поступить, мы просто не знали. – Лиульфур понюхала искрящееся острыми гранями лицо той, что утопала в алмазах. Её голос был невнятным шепотом, словно доносился сквозь слой мокрой шерсти. – Когда мы умираем, наверху вспыхивают новые звёзды, но это лишь памятные огни – не они. Это не могут быть они. Мы не знаем, куда они ушли. Погляди на небо, девочка: это мавзолей, и все новые яркие огни – просто могилы, их там нет. Однако здесь их тоже нет.
Волчица-Звезда уставилась на меня своими желтыми глазами. Я протрусила через всю комнату и тяжело опустилась рядом с бледной мёртвой девушкой, что когда-то была драгоценным камнем. Я сомневалась, что понимаю, чего от меня ждут. Было очень тепло, свет тёрся о мои ляжки и лениво водил носом по моей шерсти. Стеклянная рана на шее алмазной женщины будто росла под моим взглядом, как второй рот, растянутый в ужасной улыбке ниже первого. Я понюхала её – она была не тёплая и не холодная, но твёрдая – совсем не такая, какой должна быть плоть.
Под моей серебристой шерстью заныла рана, которую нанесла Кобыла, и другая, поменьше, оставленная Лисом; кольнула точно быстрый укус осы. Лиульфур просто глядела на меня, явно не собираясь помогать. Значит, это и есть моё испытание. Я встала и попыталась вскарабкаться на бедную девушку, но мои лапы разъезжались на скользкой горе драгоценных камней. Я приложила морду к своей груди и принялась терзать место между ранами, так что струпья отошли, и они соединились в одну длинную и глубокую рану: дыру, прогрызенную в плоти, укус, с которого начался мир.
Сначала потекла тёмная страшная кровь, меня замутило – в тесной, тёмной комнате стало так жарко! Кровь хлынула в пустой труп, словно чернила, пролитые на зеркало. Но через какое-то время кровь посветлела, а затем и вовсе превратилась в поток нежного света, мягкого и душистого, как засахаренные груши на медном блюде, и очень холодного, цветом напоминавшего луну. Теряя сознание, я с трудом прижала истекающую кровью грудь к перерезанному горлу женщины.
Я думала, она проснётся. Правда так считала. Думала, она внезапно сделает судорожный вдох и закричит, её спина изогнётся, будто натянутый лук, глаза распахнутся, и раздастся кашель. Она будет с хрипом втягивать воздух, и все бриллианты со стуком посыплются на пол, когда женщина наконец вскочит, а её лицо будет сиять, точно утро.
Но она не зашевелилась. Свет каплями сочился из меня, и я видела, как он пузырится внутри неё, точно чашка воды, вылитая в глубокую ванну. Тени окутали комнату, и кровь, бывшая светом, замедлилась и остановилась.
Мёртвая женщина на погребальных носилках коснулась моей лапы.
И всё – она не открыла глаза, не села, не попросила воды. Просто четыре её пальца приподнялись и снова упали, придавив меня всей тяжестью камня. Я не успела даже вздохнуть.
Волчица-Звезда склонилась над нами.
– Мы всё время надеемся получить хоть какой-то ответ. Но они не просыпаются. Думаю, после стольких лет было бы странно и впрямь проснуться. – Лиульфур закрыла глаза и начала вылизывать меня, чистить рану по-волчьи; её длинный язык был жестким, словно болотный песок. С каждым прикосновением моё тело пульсировало и вибрировало, будто на нём играли, как на арфе. Я видела только золотую шерсть, мерцающую пламенем свечи, хотя чувствовала пальцы Камень-Звезды на моей шерсти, холодные и безжизненные. Она вылакала свет, как молоко, высосала его из дыры в Маникарника, ни капли не упустила.
Наконец она приложила свою длинную, шелковистую морду к моей косматой груди, сдавила мою плоть своими челюстями и прижала меня к алмазной девушке так, что зубы проткнули мою истерзанную кожу.
Словно лопнула бочка с вином, и её содержимое хлынуло в меня – свет и кровь полились из челюстей прямиком в мои жилы, вдвое ярче и ужаснее, чем раньше, и необузданной волной прошлись по всему телу, отозвались в костях, величественным неумолимым приливом заполнили меня, как вода заполняет меха. Я утонула в этом свете из волчьей пасти и алмазной сути, побывавшем в моём теле и теле Звезды, старом и невыразимом, как небо. Я поперхнулась, застонала, даже попыталась закричать, а она всё продолжала наполнять меня светом… Менять свет, внучка, дело не из лёгких: всё равно что закатить валун на гору или одну гору на другую. Она вскрывала, наполняла, зашивала и снова вскрывала меня. Не знаю, сколько часов я лежала там, беспомощно дрожа. Тусклый и блёклый свет, что был во мне, они забирали и возвращали его сверкающим сильнее, чем что бы то ни было.
Когда я наконец почувствовала, что челюсти Волчицы отпустили меня, встрепенулась, будто очнувшись от сна, и внутри меня что-то раскрылось, загудело, задрожало. Я почувствовала, что опять стала женщиной: пять пальцев на каждой руке, плоские и толстые зубы, длинные волосы до талии, точно кисть.
Лиульфур коснулась моего лица влажным носом.
– То, что мы тебе дали, твоё, но тебе не принадлежит. Мы не против, и всегда были не против, но у света есть свои границы. Ты должна понимать, что Звезда, которая его отдаёт, тускнеет. – Она закрыла глаза и прижалась к моей щеке. – Я давно встречаю здесь твоих матерей, как встретила тебя; я источник, к которому вы приходите; колодец, из которого вы пьёте.
Впервые Звезда показалась мне не такой яркой, как стены пещеры. Она была просто старой волчицей с проплешинами в шерсти, затуманенным взором и поседевшей мордой. Но потом она улыбнулась, как только может улыбаться волчица, и меня опять окружил её свет и тепло, которые были – или не были? – лишь самую малость слабее, чем раньше.
– Ты изменилась, когда вошла в пещеру. Мы сотворили это с тобой. Это великая магия, почти что… – она помедлила, бросив взгляд на женщину с бесцветными кудрями, – почти что самая великая из всех. Метаморфоз – самый сложный трюк. Получив свет от нас, а не от бабушек, прабабушек и далёких-далёких предков, от той бедной девушки в шатре, что прижимала ребёнка к груди, ты можешь быть хоть немного как мы, а изменять очертания дыры очень просто. – Волчица-Звезда сглотнула комок в горле. – В конце концов, дыра – всего лишь пустое пространство.
Выдержав паузу длиной в вечность, она отодвинулась, выпрямила спину и, глядя на меня сверху вниз, чётко проговорила, выталкивая слова из шелковистой морды:
– Но ты не одна из нас. Ты столкнёшься с необратимостью, превыше которой лишь смерть, изменится не только твоя плоть. Только самые сильные из вас могут устоять перед соблазнами новой формы; разум ленив, он естественным образом подражает телу. Я ни разу не видела, чтобы человек остался собой, надев другую шкуру. Ты, однако, вольна использовать этот дар по-своему, если он тебе понадобится.
Холодная чистая рука алмазной девушки отпустила мою, и жизни в ней было не больше, чем в обрывке бумаги, летающем посреди пустынной улицы. Не сказав ни слова, Волчица с золотой шкурой провела меня назад, через две двери, в величественную первую пещеру. Будто целый век прошел с тех пор, как я побывала там в зубах у Кобылы, которая проделала во мне свою дыру.
– Иди, Дочь Звезды. Тебе предстоит хорошо потрудиться.
Знаю, я не должна была этого делать, но не смогла удержаться. Я опустилась на колени и обхватила руками её мощную лохматую шею, зарылась лицом в её запах, запах кедра и влажной скалы, свежевыпавшего снега.
– Ты ведь не знаешь, – прошептала я. – Может быть, новые Звёзды – не просто могильные камни. Может, они и есть Маникарника. Может, они отправились домой.
Лиульфур покачала головой, и по её шерсти побежали маленькие трескучие молнии. Её голос был тихим и мягким:
– Никто не ушел домой. Дыра – всего лишь пустое место. Мы получились случайно, и никто не сжалится над нами.
Волчица-Звезда подалась назад и легонько лизнула меня в щёку, а потом медленно двинулась прочь и исчезла раньше, чем дошла до дальней стены.
Выкарабкавшись в светлеющий мир, я болезненно зажмурилась от первых лучей рассвета и тяжело опустилась на траву, придавленная усталостью, будто каменной стеной.
В нескольких футах от меня стоял Лис и хладнокровно наблюдал.
– Тот, кто заслужил провала, не удостоился его, – фыркнул он. – Тот, кто не заслужил ничего, получил целый мир. Вот он, женщина, мир. Иди к нему, но никогда не рассказывай о том, что здесь случилось. Это запрещено всем, кто обладает языком и может произносить слова. Мы хотим остаться неизвестными; мы выбрали это место, а подаренную силу можно утратить. Не думай, будто знаешь, на что я способен, или что ты мне ровня. Лиульфур отчаялась и состарилась. Наполненная дыра – не пустое место, и мы все были полны света. Ты – воровка и вампирша, и, будь всё по-моему, ты и твои дочери не получили бы ни капли нашей крови.
Солнце, на львиных лапах карабкавшееся вверх над зелёными холмами, осветило его шерсть, шерстинку за шерстинкой, пока он не сделался таким ярким, что стало больно смотреть. И тогда Лис исчез, а там, где он стоял, светило солнце.
Проснувшись, мальчик начал медленно обкусывать яблочный огрызок, будто зачарованный. Перед его мысленным взором бежали и нюхали ветер грациозные волки. Он потянулся, зевнул и вытащил из мешка роскошное красное одеяло, отделанное золотом и расшитое лилиями; завернулся в него и осторожно придвинулся к девочке, словно к пугливому жеребёнку. Они укрылись в алом шалаше, и девочка опустила ресницы, когда рука мальчика, потянувшись за флягой с водой, чтобы забрать её внутрь, задела девичье колено. Они были очень близко; он вдыхал мускусный аромат её волос, запах кедра и жасмина.
Сквозь тонкий навес из листьев пробились первые лучи рассвета, синеватые и яркие, расцветив кожу детей розовыми и серебряными тенями.
На рассвете мир, укрытый мерцающей сетью тумана, выглядит очень спокойным. Мальчик и девочка, уже почти расставшиеся с детством, прятались в маленькой роще, им было тепло и сухо, а голос девочки сделался тихим, точно поступь кошачьих лап среди сосновых иголок. Юное солнце мерцающей ангельской рукой отбросило волосы со лба мальчика. Он не отодвинулся от девочки. Однако близился восход, и его сестра должна была проснуться – её лицо уподобилось бы буре при виде его пустой постели.
– Мне пора, – проговорил наконец мальчик. – Надо вернуться, пока дома все ещё спят.
Девочка кивнула, и к ней вернулась прежняя робость – она вновь ушла в себя, хотя целую ночь разматывала собственную душу, как кудель, превращая солому в золото.
– Но я вернусь, – заверил он, – как возвращаются на закате стаи речных птиц. Я принесу ужин, и ты расскажешь мне, чем всё закончилось в той пещере.
Мальчик тронул её щёку – прикосновение было мягким, точно заячья лапка. Девочка спрятала улыбку под его ладонью и кивнула. Она обратила на него взгляд блестящих глаз и на миг опустила длинные ресницы, продемонстрировав клубящуюся черноту родимых пятен, покрывающих веки, пугающих и тёмных, словно беззвёздная ночь. Мальчик отметил, что теперь, после короткого знакомства, они не кажутся ему некрасивыми. Он чуть опустил взъерошенную золотую голову, чтобы встретить её взгляд, как только она вновь откроет глаза.
– Я буду приходить каждый вечер, чтобы слушать твои истории. Каждый вечер, – негромко произнес мальчик и убежал туда, где туман полосами стелился по Саду, путаясь в зарослях жасмина и астр, блуждая среди яблонь.
Девочка склонилась к остаткам их вечерней трапезы и собрала хлебные крошки, чтобы покормить ворон и чаек. Потом она выбралась из своей маленькой беседки, стряхнув несколько лепестков, запутавшихся в волосах, и попала под ливень красно-золотых солнечных лучей.
Когда светило отправилось почивать на западе и укрылось длинными синими одеялами, девочка сидела, скрестив ноги, под жасминовыми ветвями цвета серебра и лаванды и смотрела, как нетерпеливая тень мальчика несётся к ней через пышную изумрудную лужайку. Он ворвался в её заросли, деловито разложил ужин. Она была уверена, что он не придёт.
Мальчик принёс тёмный хлеб и бледно-желтый сыр, кусок жареного ягнёнка и горстку ягод, чуть не лопавшихся от сока, несколько маленьких печеных картофелин, холодное зелёное яблоко и кусочек драгоценного, как мирра, шоколада.
– Я подумал, этим вечером обойдёмся без вина, иначе я опять провалюсь в сон, – застенчиво признался он, протягивая ей флягу с водой.
– Нет-нет, всё хорошо. Того, что ты принёс, более чем достаточно, – заверила его девочка с нервным смешком.
Они занялись едой и молчали, хотя мальчик жаждал услышать продолжение сказки, как медведь – выудить лосося из бурливой реки. Пока девочка ела, её лицо светлело, будто она была маленьким солнцем, восходившим в то время, как большое и золотое светило опускалось за горизонт.
– Как ты прожила все эти годы в Саду? – спросил мальчик и откусил большой кусок яблока.
Девочка огляделась.
– У Султана достаточно фруктовых деревьев, чтобы один ребёнок мог прокормиться, а вода в фонтанах прозрачная и чистая. У меня всего вдоволь. Дворец выбрасывает больше, чем я когда-нибудь смогу использовать. Иной раз даже старые платья амир[4] попадают на свалку. А суровыми зимами птицы приносили мне мышей и кроликов. Обо мне заботятся. Сад взрастил меня; он мне мать и отец, а родители всегда придумают, как накормить и одеть ребёнка.
– Птицы?.. – недоверчиво проговорил мальчик.
Она пожала плечами.
– Все существа одиноки. Их тянет ко мне, а меня тянет к ним, и мы согреваем друг друга, когда вокруг снег. Ты знаешь это не хуже меня – ведь тебя тоже тянуло, верно? И я кормлю тебя историями, как кусочками мяса, поджаренными на огне.
Мальчик сильно покраснел и отвёл глаза. Они закончили трапезу в молчании.
Наконец, когда ягнёнка и фрукты съели, сладкую воду выпили и каждый нашел для себя удобное местечко в цветочных зарослях, чтобы было на что опереться и иметь возможность заговорщически наклониться друг к другу, девочка продолжила рассказ. Её голос наполнил мальчика, как сливки наполняют серебряную миску.
Сказка Бабушки (продолжение)
Тишину нарушил шорох среди длинных недвижных теней позади последнего из семи тел – моя безмолвная проводница шевельнула красивым хвостом.
– Мы нашли их на поле, где было много маков и отсыревшей пшеницы, и принесли сюда. Они совсем ничего не весили, как мотыльки. Здесь, где мой тёмный брат, моя бледная сестра и ещё кое-кто нашёл убежище, мы их и храним. Что нам ещё делать? У нас нет ни кладбищ, ни ритуалов, ни песен, ни костров. Нам остались лишь их оболочки, и, как с ними поступить, мы просто не знали. – Лиульфур понюхала искрящееся острыми гранями лицо той, что утопала в алмазах. Её голос был невнятным шепотом, словно доносился сквозь слой мокрой шерсти. – Когда мы умираем, наверху вспыхивают новые звёзды, но это лишь памятные огни – не они. Это не могут быть они. Мы не знаем, куда они ушли. Погляди на небо, девочка: это мавзолей, и все новые яркие огни – просто могилы, их там нет. Однако здесь их тоже нет.
Волчица-Звезда уставилась на меня своими желтыми глазами. Я протрусила через всю комнату и тяжело опустилась рядом с бледной мёртвой девушкой, что когда-то была драгоценным камнем. Я сомневалась, что понимаю, чего от меня ждут. Было очень тепло, свет тёрся о мои ляжки и лениво водил носом по моей шерсти. Стеклянная рана на шее алмазной женщины будто росла под моим взглядом, как второй рот, растянутый в ужасной улыбке ниже первого. Я понюхала её – она была не тёплая и не холодная, но твёрдая – совсем не такая, какой должна быть плоть.
Под моей серебристой шерстью заныла рана, которую нанесла Кобыла, и другая, поменьше, оставленная Лисом; кольнула точно быстрый укус осы. Лиульфур просто глядела на меня, явно не собираясь помогать. Значит, это и есть моё испытание. Я встала и попыталась вскарабкаться на бедную девушку, но мои лапы разъезжались на скользкой горе драгоценных камней. Я приложила морду к своей груди и принялась терзать место между ранами, так что струпья отошли, и они соединились в одну длинную и глубокую рану: дыру, прогрызенную в плоти, укус, с которого начался мир.
Сначала потекла тёмная страшная кровь, меня замутило – в тесной, тёмной комнате стало так жарко! Кровь хлынула в пустой труп, словно чернила, пролитые на зеркало. Но через какое-то время кровь посветлела, а затем и вовсе превратилась в поток нежного света, мягкого и душистого, как засахаренные груши на медном блюде, и очень холодного, цветом напоминавшего луну. Теряя сознание, я с трудом прижала истекающую кровью грудь к перерезанному горлу женщины.
Я думала, она проснётся. Правда так считала. Думала, она внезапно сделает судорожный вдох и закричит, её спина изогнётся, будто натянутый лук, глаза распахнутся, и раздастся кашель. Она будет с хрипом втягивать воздух, и все бриллианты со стуком посыплются на пол, когда женщина наконец вскочит, а её лицо будет сиять, точно утро.
Но она не зашевелилась. Свет каплями сочился из меня, и я видела, как он пузырится внутри неё, точно чашка воды, вылитая в глубокую ванну. Тени окутали комнату, и кровь, бывшая светом, замедлилась и остановилась.
Мёртвая женщина на погребальных носилках коснулась моей лапы.
И всё – она не открыла глаза, не села, не попросила воды. Просто четыре её пальца приподнялись и снова упали, придавив меня всей тяжестью камня. Я не успела даже вздохнуть.
Волчица-Звезда склонилась над нами.
– Мы всё время надеемся получить хоть какой-то ответ. Но они не просыпаются. Думаю, после стольких лет было бы странно и впрямь проснуться. – Лиульфур закрыла глаза и начала вылизывать меня, чистить рану по-волчьи; её длинный язык был жестким, словно болотный песок. С каждым прикосновением моё тело пульсировало и вибрировало, будто на нём играли, как на арфе. Я видела только золотую шерсть, мерцающую пламенем свечи, хотя чувствовала пальцы Камень-Звезды на моей шерсти, холодные и безжизненные. Она вылакала свет, как молоко, высосала его из дыры в Маникарника, ни капли не упустила.
Наконец она приложила свою длинную, шелковистую морду к моей косматой груди, сдавила мою плоть своими челюстями и прижала меня к алмазной девушке так, что зубы проткнули мою истерзанную кожу.
Словно лопнула бочка с вином, и её содержимое хлынуло в меня – свет и кровь полились из челюстей прямиком в мои жилы, вдвое ярче и ужаснее, чем раньше, и необузданной волной прошлись по всему телу, отозвались в костях, величественным неумолимым приливом заполнили меня, как вода заполняет меха. Я утонула в этом свете из волчьей пасти и алмазной сути, побывавшем в моём теле и теле Звезды, старом и невыразимом, как небо. Я поперхнулась, застонала, даже попыталась закричать, а она всё продолжала наполнять меня светом… Менять свет, внучка, дело не из лёгких: всё равно что закатить валун на гору или одну гору на другую. Она вскрывала, наполняла, зашивала и снова вскрывала меня. Не знаю, сколько часов я лежала там, беспомощно дрожа. Тусклый и блёклый свет, что был во мне, они забирали и возвращали его сверкающим сильнее, чем что бы то ни было.
Когда я наконец почувствовала, что челюсти Волчицы отпустили меня, встрепенулась, будто очнувшись от сна, и внутри меня что-то раскрылось, загудело, задрожало. Я почувствовала, что опять стала женщиной: пять пальцев на каждой руке, плоские и толстые зубы, длинные волосы до талии, точно кисть.
Лиульфур коснулась моего лица влажным носом.
– То, что мы тебе дали, твоё, но тебе не принадлежит. Мы не против, и всегда были не против, но у света есть свои границы. Ты должна понимать, что Звезда, которая его отдаёт, тускнеет. – Она закрыла глаза и прижалась к моей щеке. – Я давно встречаю здесь твоих матерей, как встретила тебя; я источник, к которому вы приходите; колодец, из которого вы пьёте.
Впервые Звезда показалась мне не такой яркой, как стены пещеры. Она была просто старой волчицей с проплешинами в шерсти, затуманенным взором и поседевшей мордой. Но потом она улыбнулась, как только может улыбаться волчица, и меня опять окружил её свет и тепло, которые были – или не были? – лишь самую малость слабее, чем раньше.
– Ты изменилась, когда вошла в пещеру. Мы сотворили это с тобой. Это великая магия, почти что… – она помедлила, бросив взгляд на женщину с бесцветными кудрями, – почти что самая великая из всех. Метаморфоз – самый сложный трюк. Получив свет от нас, а не от бабушек, прабабушек и далёких-далёких предков, от той бедной девушки в шатре, что прижимала ребёнка к груди, ты можешь быть хоть немного как мы, а изменять очертания дыры очень просто. – Волчица-Звезда сглотнула комок в горле. – В конце концов, дыра – всего лишь пустое пространство.
Выдержав паузу длиной в вечность, она отодвинулась, выпрямила спину и, глядя на меня сверху вниз, чётко проговорила, выталкивая слова из шелковистой морды:
– Но ты не одна из нас. Ты столкнёшься с необратимостью, превыше которой лишь смерть, изменится не только твоя плоть. Только самые сильные из вас могут устоять перед соблазнами новой формы; разум ленив, он естественным образом подражает телу. Я ни разу не видела, чтобы человек остался собой, надев другую шкуру. Ты, однако, вольна использовать этот дар по-своему, если он тебе понадобится.
Холодная чистая рука алмазной девушки отпустила мою, и жизни в ней было не больше, чем в обрывке бумаги, летающем посреди пустынной улицы. Не сказав ни слова, Волчица с золотой шкурой провела меня назад, через две двери, в величественную первую пещеру. Будто целый век прошел с тех пор, как я побывала там в зубах у Кобылы, которая проделала во мне свою дыру.
– Иди, Дочь Звезды. Тебе предстоит хорошо потрудиться.
Знаю, я не должна была этого делать, но не смогла удержаться. Я опустилась на колени и обхватила руками её мощную лохматую шею, зарылась лицом в её запах, запах кедра и влажной скалы, свежевыпавшего снега.
– Ты ведь не знаешь, – прошептала я. – Может быть, новые Звёзды – не просто могильные камни. Может, они и есть Маникарника. Может, они отправились домой.
Лиульфур покачала головой, и по её шерсти побежали маленькие трескучие молнии. Её голос был тихим и мягким:
– Никто не ушел домой. Дыра – всего лишь пустое место. Мы получились случайно, и никто не сжалится над нами.
Волчица-Звезда подалась назад и легонько лизнула меня в щёку, а потом медленно двинулась прочь и исчезла раньше, чем дошла до дальней стены.
Выкарабкавшись в светлеющий мир, я болезненно зажмурилась от первых лучей рассвета и тяжело опустилась на траву, придавленная усталостью, будто каменной стеной.
В нескольких футах от меня стоял Лис и хладнокровно наблюдал.
– Тот, кто заслужил провала, не удостоился его, – фыркнул он. – Тот, кто не заслужил ничего, получил целый мир. Вот он, женщина, мир. Иди к нему, но никогда не рассказывай о том, что здесь случилось. Это запрещено всем, кто обладает языком и может произносить слова. Мы хотим остаться неизвестными; мы выбрали это место, а подаренную силу можно утратить. Не думай, будто знаешь, на что я способен, или что ты мне ровня. Лиульфур отчаялась и состарилась. Наполненная дыра – не пустое место, и мы все были полны света. Ты – воровка и вампирша, и, будь всё по-моему, ты и твои дочери не получили бы ни капли нашей крови.
Солнце, на львиных лапах карабкавшееся вверх над зелёными холмами, осветило его шерсть, шерстинку за шерстинкой, пока он не сделался таким ярким, что стало больно смотреть. И тогда Лис исчез, а там, где он стоял, светило солнце.
За пределами Сада
Когда полночь укрыла двоих детей, будто синим крылом серафима, мальчик робко положил голову девочке на колени, позволяя её голосу баюкать себя. Он притворился, что не слышит, как у неё перехватывает дыхание, стоит ему пошевелиться, какая лёгкая дрожь появилась в её голосе, точно единственная неверно уложенная нить на вышитом бисером платье.
Но вскоре после того, как его голова коснулась грубой ткани её одеяния, раздался ужасный хруст – звук чьих-то шагов за пределами их маленького укрытия. Девочка издала жуткий высокий крик, точно журавль, в которого угодила серебряная стрела. Мальчик вскочил, выхватил свой жалкий маленький кинжал, намереваясь защищать свою секретную добычу. Но, когда призрачные руки раздвинули сладко пахнущие шипастые ветви, он увидел, что опасность серьёзнее любой Ведьмы или таинственного заклинания.
Перед ним, обрамлённое жасминовыми ветвями, возникло разгневанное лицо сестры, похожее на яростную мандалу[5]. Её глаза были полны обвинений, как свиток в руках судьи.
– Вот ты и попался, мерзкий крысёныш! – торжествующе прокаркала она. – Тебя накажут! Ты с демоницей миловался!
– Она не демон! – выпалил мальчик, не подумав. Динарзад [6] была страшна, как распалённая львица. Девочка дышала сбивчиво и хрипло, не в силах пошевелиться. – Она не такая! Оставь нас в покое!
Что-то от волков и пещеры, должно быть, просочилось в него, как пролитые чернила, потому что раньше ему не хватало смелости так с ней разговаривать. Динарзад ворвалась в заросли, словно обезумевшая гарпия, – мальчик почти увидел, как из её кожи лезут перья, – и, схватив его за волосы, потащила прочь от плачущей девочки, хотя он пинался и сыпал проклятиями.
Мальчику показалось, что девочка прячется, как луна, ускользает за стену из кобальтовых туч. Из его мира утекал свет; он видел только её глаза, огромные и тёмные, как у лесной совы, и эти глаза следили за ним.
Когда они достигли ворот Сада, мальчик по-дикарски укусил сестру за надушенную руку, и она, остановившись, отвесила ему тяжелую пощёчину – такую сильную, что у него треснула губа, как перезрелая слива. Он сплюнул кровь на землю.
– Похоже, братец, ты вообразил себя взрослым, но взрослые люди не приближаются к зловредным демонам вроде неё. Хочешь, чтобы её проклятие перешло на всю семью? Избалованный щенок! Я буду пороть тебя до самого утра!
С дерзким видом, будто петух, кукарекающий на закате, мальчик заорал в ответ:
– Да! Да! Я щенок! Я волк с зубами как пиратские сабли, и я разорву тебя на столько же кусочков, сколько драгоценных камней у Султана в хранилище! Она не демон, я возвращаюсь к ней. Прямо сейчас.
Мальчик скрестил руки на юной груди и почувствовал прилив гордости, точно его омыло кровью Звезды. Но Динарзад вспыхнула. Её глаза потемнели, как две заплесневелые тюремные ямы, и она вцепилась в его руку, постепенно усиливая хватку.
– Нет, братец, ты никуда не пойдёшь.
Мальчик очнулся в тёмной и дурно пахнущей темнице.
Динарзад держала по ребёнку в каждой руке, и близнецы дружно орали во всё горло. Это были королевские ясли, где мучительно вопили десятки младенцев, казавшиеся страшнее рогатых демонов у адских печей.
Динарзад была почти взрослой женщиной, готовой выйти замуж и покинуть дом. Она проводила свои вечера, ухаживая за дворцовыми младенцами, которыми правила рукой, что была крепче любого железа, выкованного смертными. Мстительная богиня! Ничто не могло оказаться выше её воли. Этим вечером Динарзад занималась самыми юными, а мальчик за своё преступление был прикован к её юбкам и этой гадкой комнате. Что, несомненно, хуже любой старой темницы в замке какого-нибудь короля. Не было никакой надежды на побег, пока сестра то и дело впивалась в него взглядом, точно клешнёй скорпиона.
Однако боги не всегда суровы к маленьким мальчикам. В дело вмешалась судьба в лице розовощёкого младенчика-принца, страдающего коликами. Не имея ни малейшего понятия о своих королевских обязанностях, бедный малыш настаивал на том, чтобы попасть на ручки к маме. Потому у Динарзад не было иного выхода, кроме как отнести ревущего ребёнка в соответствующую спальню.
– Если ты хотя бы переступишь с одной каменной плиты на другую, – предупредила она, – я буду держать тебя под замком до тех пор, пока не сгниёшь. Одного брата из десятков никто не хватится.
И Динарзад удалилась, волоча за собой многослойный шлейф из розового шелка.
Разумеется, мальчик выпрыгнул в северное окно уже спустя три удара сердца.
Беседка выглядела как поле битвы, во время которой с укреплений лили смолу, а отряды воинов крушили всё подряд. Белые цветы были изорваны в клочья и свисали со сломанных ветвей, точно крестьянские лохмотья. Их ужин разбросали повсюду, и мальчик увидел, что помял свою флягу для воды о кривой корень, когда Динарзад тащила его прочь. Больше всего его расстроили уничтоженные цветы, лепестки олеандра, втоптанные в грязь. Место, где он услышал сказки, которые ещё горели внутри, точно масло в лампе, было разгромлено, как прекрасный дом, куда ворвались бандиты.
Девочки нигде не было видно.
Мальчик обыскал все тайные углы, какие знал в огромном Саду, проверил изгороди и розовые деревья, пруды с лилиями и завывающими лягушками-быками, оливковые рощицы и границы фруктовых садов. Девочка ушла, исчезла и забрала с собой все истории.
Мальчик тяжело опустился на бордюр бронзового фонтана, чья вода тихонько капала в ночи. Он уронил кудрявую голову на руки, упрекая себя за неосторожность, за то, что позволил обнаружить своё отсутствие и попался. Из него вышел никудышный вор и ещё худший защитник. «Но ведь принц Леандр тоже оказался в ловушке, – подумал он. – Так что, возможно, у меня ещё есть шанс на прощение».

Мальчик в отчаянии поднял глаза и увидел луну, плывшую по небу, как огромный бумажный фонарь. Когда облака её заслонили, дикий гусь пролетел по дуге над широким лунным лицом, оставив изящный след в ночи. Мальчик услышал его крик, одинокий и чуждый, точно голос нефритовой флейты, и глубоко вздохнул.
Гусиный крик повторился, на этот раз очень близко, и мальчик понял, что это не птица зовёт его, а темноглазая девочка, которая пряталась за юным кедром, росшим неподалёку. Его сердце подскочило, как утка, взлетающая с неподвижного пруда. Он подбежал и едва успел остановиться, не заключив её в свои юные объятия. Девочка выглядела робкой и смущённой, её тёмные глаза были опущены к земле.
– Как ты научилась подражать диким водяным птицам? – нетерпеливо спросил мальчик.
– Я тебе говорила, что кормила их и разговаривала с ними с тех пор, как была совсем ребёнком – никого другого рядом не было. Они… Зимними ночами, в лютый холод они раскрывают надо мной свои крылья, и мы вместе отдыхаем под жестокими звёздами.
Мальчик снова едва справился с желанием обнять её и вместо этого похлопал по плечу, как это делал его отец со своими товарищами.
– Ты рассказала, но как я мог поверить? Как-нибудь научишь и меня! – объявил он. – Но сначала история. Продолжи историю! Я должен знать, что случилось с Принцем после того, как Ведьма завершила свой рассказ.
Двое удалились от фонтана, который был не самым подходящим местом, чтобы прятаться. Они нырнули в рощу душистых кедров, и девочка устроилась поудобнее.
Девочка улыбнулась странной, кошачьей, улыбкой.
– Вообще-то ты ошибаешься. Ведьма едва успела начать…
Сказка Ведьмы (продолжение)
Бабушка улыбнулась, потрепала меня по волосам и сложила руки, как старый жук-палочник. Я помню её голос – он витал в тёмном подвале, царапал стены и лизал массивные замки, одновременно смягчая мой страх, как пряха смачивает нить губами.
– Выходит, ты можешь превратиться даже сейчас? Прямо сейчас?
– Да, я могла бы.
– А я?
– Ты не попадёшь в пещеру, дорогая. Свет Лиульфур или свет мёртвой Звезды никогда не коснётся тебя. В лучшем случае, ты станешь ведьмой листвы и травы: будешь делать любовные зелья, лекарства от простуды и средства от подагры для тех, кто сможет тебе заплатить; смотреть в небо и говорить юной девушке о том, что её муж будет светло- или темноволосым; примешь у неё роды и похоронишь её – когда придёт время. Это всё.
Я проглотила сказанное, прожевала, словно кусок жесткой шкуры. Наконец, я мрачно ухмыльнулась: лучше быть слабой ведьмой, чем никакой.
– Ты могла бы превратить кого-то другого? – вдруг спросила я.
Брови Бабушки сошлись, как если бы она пыталась прочитать странную вереницу следов, оставленных чьими-то копытами.
– Не знаю. Думаю, смогла бы… Должен быть способ. Но я бы не хотела пробовать.
– Сделай это сейчас! – закричала я, хватая её худые руки. – Превратись в мышь и выберись через замок или в птицу и улети через оконную решетку. Принеси ключ и выпусти меня, и мы уйдём в степи вместе; будем есть оленину и навсегда забудем об этом месте!
– Бедная малышка Нож! Иногда ты бываешь тупой и грубой, как камень, – сказала бабушка с нежностью. – Если я стану мышью, убегу прочь, волновать меня будет одно – как набить сыром своё серое брюшко. Я забуду тебя, и мы уже никогда не поедим вместе оленины. Кроме того, мне надо кое-кого убить, прежде чем я смогу начать думать о мышах или птицах. А тебе надо кое-кого родить.
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
Ведьма замолчала. Ночная тьма струилась в окна её домика, точно шелк, и окутывала всё толстым чёрным покрывалом. Принц чувствовал себя неуютно: он замёрз и перепачкался в муке, но не смел жаловаться.
Ведьма совсем притихла. Рука Принца снова начала кровоточить; кровь капала в тесто, но он её не замечал. Потрескивавшее в очаге пламя кувыркнулось, точно лосось, и хижину заполнил ароматный дым, источаемый зелёными ветвями шалфея и зубровки душистой. Глаза Принца увлажнились, и он не знал, виной тому дымный воздух, от которого выступали слёзы, или похороненные некогда воспоминания, пробуждённые небрежными словами о его матери. Воспоминания вышагивали внутри него уже несколько часов, и в дальнем углу памяти вспышкой мелькала грива золотых волос да шумели крылья.
Всё стало таким странным и непонятным – путь через лес, приведший его в этот дом; вытекающий изо рта старой карги поток слов, напоминающий чернила; пульсирующий внутри страх; ожидание того, что после рассказов ему всё равно придётся понести наказание за убийство гусыни, – и память, память, колотившая его по сердцу ужасными серыми крыльями.
По правде говоря, затерявшись в сказке Ведьмы, Принц почти забыл о существе с жемчужными крыльями – о мёртвой птице, той, кому он утром свернул шею. Но, посмотрев на свои испачканные в муке руки, омытые светом очага и тенями, он увидел пятна чёрной крови на белой пыли, увлажнившуюся рану и всё вспомнил. Прошел миг с той поры, как он, словно беглец, оставил Замок отца, намереваясь никогда не возвращаться, не правда ли? И теперь, не дойдя нескольких миль до границы королевства, стал пленником. Приключение закончилось, не успев начаться. Он попал в ловушку, как заяц, – свистящий шепот завёл его в трясину, он затерялся в хижине, среди теней и огня, рядом с трупом девушки-гусыни, что лежал у стены, возле очага, который не давал её плоти остыть.
И вот старуха произнесла имя его матери. Старые запретные слоги вплелись в её историю, у которой не было с ним ничего общего. Но воспоминания о матери превратились в жесткий рычаг, которым Ведьма медленно открывала его нутро, пядь за пядью, кость за костью. Принц едва расслышал последнюю часть длинной истории – так его одолела печаль, подступившая к самому подбородку.
Ведьма склонила набок голову, с лёгким любопытством наблюдая за своим гостем. Она осторожно взяла его руку в свои и прижала ладонь к окровавленным пальцам, останавливая кровотечение. Затем втёрла в обрубки какой-то сладко пахнущий корень, и рану сильно защипало.
– Трава и листва, – проворчала она.
Принц попытался изобразить улыбку, но не вышло. Ведьма обратила к нему хищные прищуренные глаза:
– Что такое, мальчик? Ты мой слуга и не можешь вытерпеть вечер, чтобы выслушать меня? Вместо этого завернулся в собственные печали, как в тяжелый шерстяной плащ, и ждёшь, что я сниму его с твоих плеч?
– Моя мать, – пробормотал Принц. – Ты сказала, что знала мою мать.
– А ты сказал не говорить о ней, – буркнула старуха. – Хорошо, отвлечёмся и послушаем, как убийца будет бить себя в грудь и извергать своё горе на мой пол? Твоя мать мертва, твой отец почти стёр её из памяти всего мира. Неужели тебе хочется знать что-то ещё о бедной женщине?
Под конец её голос опасно надломился, и Принц вздрогнул от этого, изумившись, сколько всего происходило в королевстве без его ведома, – взять хотя бы изгнанную в глубину леса женщину, которая была знакома с покойной Королевой. Имя его матери было аккуратно внесено в генеалогические свитки и звучало в народных песнях, где большей частью превозносились её длинные золотые волосы. То же самое имя находилось под запретом в комнатах, где решались важные дела, и в любых помещениях, куда мог войти его отец. И всё-таки Ведьма была с ней знакома.
Она потёрла длинные костлявые пальцы друг о друга – звук был такой, словно ветер всколыхнул ветки, – и одарила его оскалом из-под завесы седых грязных волос.
– Думаешь, я зловредная, да? Чудище, ошибка природы? Как жестоко я поступаю, удерживая тебя здесь и треща без умолку о своей мёртвой бабушке, до которой тебе нет дела. Отодвигая роковой жребий, приготовленный для тебя, дразня напоминаниями о твоей матери. Всё это я рассказываю не просто так, скудоумный мальчишка. Разве у тебя никогда не было наставника? Я повествую о мёртвом скучном прошлом, чтобы ты понял, почему ноги принесли тебя сюда, а не к хижине какой-нибудь бедной старушки, и чему ты положил конец, убив мою дочь. Не смотри на меня как идиот! Слушай или ничего не узнаешь – о своей матери тоже. Или мне тебя убить прямо сейчас, свершив возмездие? Это стоило бы мне всего один вздох. В моём возрасте все оставшиеся вздохи посчитаны и внесены в список, а я развлекаю тебя, тратя множество вздохов из него, мальчишка! Так что не испытывай моё терпение. – Ведьма помедлила, скривившись, будто и впрямь подсчитывала, насколько ещё хватит силы её лёгких. – И никогда не считай женщину зловредной лишь потому, что она некрасива и не лебезит перед тобой. Это неподобающее поведение для Принца.
Старуха шумно отхлебнула чаю. Когда она снова заговорила, её голос смягчился, превратившись из острого кинжала в деревянную колотушку с рукоятью, согретой ладонями.
– Я вижу, что тебе больно, а чудовища знают толк в боли. Ты тащишь труп матери за собой, и он оставляет в земле глубокую борозду. Это достойный повод, чтобы грубо прервать женщину, у которой имеются два пальца, коих не было утром. Ради того, чтобы раскопать эти старые кости, я, так и быть, выслушаю тебя. Поверь мне, твоя участь не станет легче, если ты ощутишь ко мне тёплые чувства, облегчив душу. У нас впереди все ночи, какие сотворил мир. Говори о мёртвых во тьме, мальчик, и я заберу у тебя её тело, если хочешь от него избавиться.
Принц сидел, ссутулившись, и смотрел на старуху, как выпоротый ребёнок; его рёбра стонали, будто по ним била тысяча маленьких мечей. Он не мог дышать, сердце бешено колотилось в груди, глотка пылала. Хотелось рассказать ей всё, что знал; его душа корчилась от усилий, но он не мог произнести ни слова.
Ведьма смеялась над ним. Но это был не злой смех: скорее, старая карга испытывала жалость и грусть. Она склонилась над ним, как крышка люка.
– Ты скажешь ему, как её звали. Ты скажешь ему это, когда вы снова встретитесь.
Старуха положила мозолистую руку на лоб Принца, другой накрыла его губы и мягко сжала, словно голову любимой куклы. Он хотел презирать её прикосновения, плюнуть в неё, но, едва её сухая кожа соприкоснулась с его, нахлынуло умиротворение, будто струящаяся река, мышцы расслабились и дыхание выровнялось. Её руки напоминали лапы, которыми медведица обнимает детёныша, сильные и нежные. Когда Ведьма отпустила Принца, он смотрел на неё широко открытыми глазами, его спина была прямой, лоб прохладным.
– Трава и листва? – прошептал он.
– Вроде того, – сказала она.
И он смог, не запнувшись, произнести слова, которые давно ржавели внутри.
– Мой отец убил её. – Он покачал головой. – Это теперь я всё понимаю, но никто не говорит о случившемся вслух. Никто! Я был младенцем, когда она умерла, но моя няня рассказывала, как всё произошло, повторяла снова и снова, будто колыбельную. Она хотела, чтобы я хранил это воспоминание как второе сердце – неотъемлемую и постоянную часть тела. Прижимала меня к себе и шептала одну и ту же историю, раз за разом. Я помню её волосы, точно лес прямых белых берёз вокруг меня, и тёмные глаза надо мной…
Нянина сказка
Твоя мать, малыш, была красивее летнего солнца. Тебе скажут, что это неправда, и она была уродлива, как жаба, но это враньё. Я всегда говорю своим мальчикам правду.
Она была вся из золота – волосы, кожа, даже глаза, точно у львицы. Звали её Хелия, и это самое прекрасное имя из всех, что я когда-либо слышала.
Твой отец охранял её как ревнивый шакал и держал в комнате на вершине башни. Но слава о её красоте, достойной книг, гремела повсюду. Ты родился вскоре после свадьбы – так обычно и бывает, когда жена похожа на львицу или на солнце. Когда ты вышел из неё, с необычайной лёгкостью, она ужасно тебя полюбила. Ты был в той же мере тёмным, в какой она светлой, малюсенькой луной рядом с её солнцем. Я была её горничной, и она была полна света. Говорю тебе, утёночек мой милый, иногда глазам становилось больно смотреть, как она стояла рядом с окном, держа тебя у груди, и её волосы пламенели. Я иногда задавалась вопросом, сосал ты молоко из её груди или в твой рот тёк солнечный свет.
Но однажды ночью её не оказалось в башне. Ты к тому времени уже был карапузом с пухлыми щёчками и ковылял по её пустой комнате – твой отец ей даже стула не дал, клянусь! Весь день проводила на ногах, а спала на камнях, и ни разу я не слышала от неё жалоб. Не могу сказать – откуда же мне знать! – чем она занималась той странной ночью (богатеи не говорят нам того, что не касается завязывания лент и заваривания чая, так заведено), но солнечным утром гнев твоего отца затемнил небо и встряхнул кровлю.
Вместе со старым предсказателем они в ярости метались по Замку, точно два урагана, проклиная меня за то, что я её выпустила, будто Королева не может делать то, чего ей хочется. Он схватил меня за руку, словно кандалы надел, и мы понеслись по расшатанной лестнице на башню – там стояла твоя мать, спокойней не бывает, ты спал у неё на руках, и тебя ничто не волновало. Она посмотрела на твоего отца взглядом сытой тигрицы, её золотые глаза сияли от ненависти и счастья.
Я никогда не забуду этот взгляд, чтоб мне больше яблок не есть! Хелия ненавидела Короля – такова истина; спроси его, когда вырастешь, и сам увидишь, назовёт ли он старую Яю вруньей. Отец вырвал тебя из материнских объятий и сунул мне, ты проснулся и заплакал. Потом он сразу же ударил твою мать с такой силой, что она выплюнула на пол зуб – как тебе такое понравится? Но она и глазом не моргнула, её ужасный взгляд не переменился. Король зашипел на неё и изрёк странные тёмные слова:
– Женщина, во второй раз тебе меня не одурачить. Я должен был перерезать твою глотку при нашей первой встрече.
– Видимо, так, – промурлыкала твоя мать.
Король улыбнулся, и я начала бояться, что в моём хозяине кроется что-то тайное и гнилое, но ничего не сказала. Слуга никогда ничего не говорит, если его не спрашивают, а Яю все спрашивают об одном – готов ли ужин.
– Ты поняла? – с яростью бросил Король. – Твоя смерть послужит уроком для твоего сына.
Она жутко оскалилась, глядя в его побагровевшее лицо, и шепот её был сладким, как сметана:
– Урок он усвоит, о, мой супруг. Он всё усвоит.
Твоя мать умерла на следующее утро. Я так и не узнала, почему, за какое преступление её казнили, точно воровку, пойманную с куском масла. Я была во внутреннем дворе, стояла, прижимая тебя к себе, и, как подобает хорошей няне, заставила тебя отвернуться в последний момент.
Это случилось перед рассветом, когда всё вокруг было сонное и серое. Твой отец выволок бедняжку Хелию из Замка в простой белой рубахе. Её волосы струились, как огонь в тумане. Сумасшедший старый заклинатель тоже был там, в своём роскошном синем одеянии. Но он не проронил ни слова – слуга ничего не говорит, если его не спрашивают, – только всё время еле заметно улыбался. Король затащил твою бедную матушку на груду свежих брёвен и привязал там грубыми верёвками. Она не сопротивлялась, даже когда он затянул верёвки настолько туго, что до крови ободрал ей запястья. Но когда она увидела тебя… Ох, не бывает такой сильной матери, которой наплевать, что её ребёнок увидит, как она горит. Тогда она заплакала и закричала, рванулась к тебе, её тонкий жалобный крик взмыл в утреннее небо, но о пощаде она ни разу не попросила.
Мне хотелось ей помочь, но тогда я сгорела бы вместе с ней, и ты остался бы совсем один, было бы некому тебя любить и заслонять от гнили, живущей в твоём отце.
Король вытащил длинный нож и отсёк её великолепные волосы, вручил их тупоумному Волшебнику. Они стояли над ней недолго, лицо Короля было тёмным, словно грязь. Затем он поджег ветви ясеня и дуба большим трескучим факелом. Твоя мать кричала, и это был жуткий плач, как пугающая песня смерти, что исходила из её костей. Ты кричал ещё громче, настолько тебя испугал певучий скрежет. Огонь лизнул её ноги, платье вспыхнуло; и вот загорелась голова, точно голова ангела.
Яя тебе не врёт, что бы ни говорили за ужином! Слушай, когда я говорю об увиденном. Когда огонь окутал её красным плащом, сквозь извивающиеся языки пламени я увидела, как твоя мать… переменилась. Её волосы из золотых стали чёрными, а контуры тела оплывали от жара. Она то была Хелией, какой я её знала, то кем-то совсем другим, уродливым, ужасным и тёмным – темнее не бывает.
Тебе скажут, что Яя не в ладах с головой и пьёт слишком много дурного красного пива, но я думаю, что Волшебник тоже это видел, его глаза сделались сердитые. Он прогнал нас прочь с холода, говоря, что кто-нибудь заберёт её кости и что ребёнок не должен это видеть… Тут я сказала прямо ему в лицо, что, если он не хотел, чтобы ты всё видел, не нужно было тебя вытаскивать из постели. Но старый драный аист, как обычно, не обратил на меня внимания.
Но, пончик мой сладкий, её крик преследовал меня, когтями рвал спину, и за криками, клянусь, я слышала шелест, и хлопанье, и трепетание, и оно становилось всё громче, пока я не зажала уши руками, и мы побежали прочь от твоей матери, которая горела, будто мясо на костре.
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
– И это всё? – спросила Ведьма скучающим голосом.
Принц кивнул с глупым видом, хотя в глубине его души затрепетала расчётливая жилка, словно он учуял в подлеске запах оленя, которого точно можно поймать, если тихо подкрасться. Нож устроилась поудобнее на стуле, покрытом шкурой, и продолжила свой рассказ.
Сказка Ведьмы (продолжение)
Время в тюрьме бежало точно восьмилапый леопард – мы не могли его видеть и слышать, а оно подкрадывалось на своих пятнистых лапах и пожирало нас заживо. Я сделалась круглой, словно полная луна, хотя мои руки и ноги были как берёзовые веточки, щёки запали. Голод и тьма ходили за нами по пятам, точно беспокойные нянюшки.
И вот однажды ночью я легла на заплесневелую солому, по которой торопливо бегали пискливые крысы, чтобы произвести на свет дитя. Бабушка прижимала меня к себе, обнимая руками и ногами, пряча от каменных стен, лицом к лицу что-то шептала, пока я скулила, и вытирала слёзы с моего чёрного от грязи лица. Она тёрла мой распухший живот морщинистыми коричневыми руками, рисовала на нём круги, подобные улетающим птичьим стаям.
Боль стала отдельным миром, где всё было нарисовано красным и чёрным да белыми вспышками-всхлипами. Я кричала – но в тюрьме все кричат. Я проклинала всё, о чём могла подумать, – но проклятия в тюрьме так же привычны, как гангрена. Мои волосы прилипли к голове от пота, босые ноги скользили по полу, когда я дёргалась и извивалась, точно больная лягушка-бык. Моё тело пожирало себя, разрывалось на части. Я всё кричала и кричала, цепляясь за бабушку, а она цеплялась за меня, пытаясь успокоить и тычась в меня носом, словно я была волчонком в снегу.
Её я не чувствовала: чувствовала лишь, что вот-вот разобьюсь вдребезги.
Так родилась моя дочь, здоровая и красивая, с копной чёрных волос и спокойными чёрными глазами. Я держала на руках её влажное дрожащее тельце, появившееся во тьме и вдали от нашего дома. Я улыбалась ей и качала её, позабыв свои недавние слова и отчаяние.
А потом голос бабушки вонзился в меня, как игла в полотно:
– Мы не можем её оставить, Нож. Ты должна это понимать.
Я отшатнулась и крепко прижала к себе доченьку. Бабушка успокоила меня и вновь начала гладить, чтобы добиться своего, словно я была девочкой, которая ушибла палец.
– Ей ни за что не выжить. Король прикажет убить кроху, если она сама не умрёт здесь от голода. Она не может остаться с нами. Ты это знаешь, но не хочешь признавать – любая мать на твоём месте не захотела бы.
Мне стыдно за слёзы, пролитые той ночью, горячие и обильные, как воск из свечей, что горели в тысяче храмов. Но остановить их было невозможно.
– Нет-нет, она моя! Я уже её полюбила. Если бы и ты её любила, ни за что не попросила меня отдать дитя. Я её не отдам никогда! – Я беспомощно уставилась на бабушку. – У неё даже имени нет! Как я могу?
Бабушкины глаза окружили морщины, сделавшие их похожими на страницы книги, которую слишком часто листали очень грубые руки. Она пожала плечами, зная, какой упрямой я могу быть, и впервые удалилась от меня во тьму, скорчилась в дальнем углу камеры и прижала колени к груди на куче позеленевших от плесени костей. Через некоторое время я услышала, как она захрапела.
После всех наших разговоров недели в тишине напоминали погружение в холодную воду без возможности набрать полную грудь воздуха. Бабушка не говорила со мной, и я впервые поняла, что значит подлинное тюремное заточение. Мы жались по углам, как изготовившиеся к битве борцы. Я берегла свою малышку, как могла; её жадный маленький рот терзал мою грудь, а яростные пронзительные крики – уши. Она утомляла меня… Ох, как же она меня утомляла! Я могла лишь дремать, словно больная кошка; меня мотало от бодрствования ко сну и обратно. Из каменных плит не сделать ни колыбель, ни постель, и у меня не было ни кобыльего молока, чтобы приучить дочку к его вкусу, ни степной травы, чтобы она могла к ней прикоснуться. Ей не пришлось познать вещи, известные мне.
Её чёрные глаза постоянно глядели во тьму. Её кожа всегда оставалась бледной, холодной и влажной на ощупь, и она так дрожала от сырости. Дочка была тонкая и продрогшая, словно стеклянная. Я плакала, когда кормила её грудью, укачивая возле склизкой стены. Она перестала плакать, просто смотрела на меня чёрными бездонными глазами.
– Гнёздышко, – всхлипнув, прошептала я однажды ночью, обращаясь к теням, за которыми сгорбившись сидела бабушка. – Я назову её Гнёздышко.
– Имя даёт надежду девочке, которая, вероятно, никогда не увидит дневного света, уже не говоря о гнезде высоко в заснеженных горах.
Я погладила мягкую щёку дочери, в которой совсем не было красок – лишь ровная серость под кожей. Она потянулась ртом к моему пальцу, и я в сотый раз расплакалась. Я устала плакать. Молоко и слёзы лились из меня каждый день, и каждый день я думала, что влаги во мне не осталось. Но каждый день я снова плакала и снова кормила грудью.
– Я не могу, бабушка, не могу. Ты хочешь, чтобы я её умертвила, как лошадь с разбитым коленом, но я не могу. Даже если так лучше для неё, я всё равно не смогла бы, не удержалась бы и подошла в тот миг, когда она заплачет. Её крик, словно крючок, застревает в моей глотке.
– Ох, маленькая моя, я никогда не попросила бы тебя о подобном. Как ты могла такое подумать? Я неспроста тарахтела, будто панцирь черепахи, носимый ветром по камням. То, что мы можем ей дать, намного лучше того, о чём говоришь ты, и уж точно лучше нашей собственной участи. Нож, позволь мне её взять и поверь, я не зря рассказала тебе эту историю. Хочешь назвать её Гнёздышком? Очень хорошо. Давай поможем ей отыскать настоящее гнездо.
Бабушке пришлось выдирать дочку из моих рук, как выдирают драгоценный камень из оправы. Она едва заметно и грустно улыбнулась, ощутив вес своей правнучки и коснувшись её впервые с того момента, как она извлекла дитя из моего чрева. Бабушка уложила мою доченьку на все лохмотья, какие мы смогли собрать, чтобы защитить её от холодного пола. Гнёздышко начала плакать, втягивая ледяной воздух, и её всхлипы заполнили камеру до потолка.
Старая женщина готовилась – так я решила – и закрыла глаза, будто занавесила двери, мне велела сделать то же самое. Я не видела в этом смысла, потому что владела лишь силой, достаточной чтобы убить нескольких оленей и ездить верхом, перевязать гноящуюся рану и вправить вывих. Если мы не собирались убить моё дитя, помочь было нечем. Если я и была ведьмой, то лишь той, что знает траву и листву. Моя маленькая девочка продолжала рыдать; от этого забеспокоились черви, тараканы и пауки, беззаботные ползучие обитатели нашей клетки. Я рвалась ей помочь, снова укутать и прижать к груди, хотя в ней, наверное, уже не осталось ни капли молока.
Бабушка положила пальцы на мрачное личико Гнёздышка.
– Я… я не уверена, что всё получится. – Она откашлялась. – Никогда этого не делала. И Волчица не сказала, разрешено ли подобное. Дыра – всего лишь пространство, но заполненная дыра становится Звездой. Я полна, а она пуста. Этого должно хватить.
Раньше я ни разу не слышала, чтобы моя бабушка подвергала сомнению хоть что-то из существующего под красным солнцем. Если бы она сказала, что одним кроликом можно накормить целый мир, я бы кивнула и принялась сдирать с него шкуру.
Бабушка коснулась лбом пола, будто молясь, и начала медленно стучать головой о камни, снова и снова, всё сильнее и сильнее. Я попыталась её остановить, но она оттолкнула меня и опять принялась за своё, разбивая лицо. Под ней возникло тёмное влажное пятно, а звук, с которым её кости ударялись о камни, сделался громким и жутким, прежде чем она остановилась и выпрямилась.
Её лицо было в крови, но среди потёков красного цвета виднелись струйки серебра, как седина в волосах юной женщины. Они покрывали бабушкины щёки и затекали ей в глаза, капали с подбородка. Она коснулась пальцем влажного месива, в которое превратился её лоб, и, увидев свет на пальцах, приложила лоб ко рту моей дочери.
Гнёздышко поначалу ничего не поняла, но серебро и чернота капали ей в рот, а её никогда не приходилось упрашивать сосать. Девочка прижала губы к бабушке и принялась хлопать своими ручками по волосам старой женщины с азартом голодного малыша. Свет тёк в неё вместе с кровью, и во тьме моя дочь засияла.
Бабушка отстранилась и вытерла рот Гнёздышка, как обычному ребёнку. Она положила руки на её бледное тельце и зажмурилась, дыша тяжело и глубоко, сжимая пальцами плоть моей дочери, точно вылепливая её из глины.
Гнёздышко медленно менялась. Её ноги наполнились лунным светом и исказились, будто расплавились; руки сделались плоскими, как листы нетронутой чернилами бумаги. На её теле выросли перья, словно шелковистые пряди волос: сначала кудрявый пух, а потом сильные серые перья для полёта, с чёрными кончиками цвета серебряной нити на хрустальном веретене. Её рот утих и превратился в изящный изогнутый клюв, который потрясённо раскрылся.
Только глаза девочки остались прежними и её внимательный взгляд цвета камней на дне озера.
Моя девочка, ставшая милой юной гусыней, вскочила и ткнулась в мою ладонь своей гладкой головой. Она по-прежнему была очень маленькой. Я наклонилась и поцеловала её перья, чувствуя, как моё сердце превращается в высохший боярышник.
Балансируя на груде костей, мы поднесли Гнёздышко к зарешеченному окну, дотянулись до него и протиснули её тельце между прутьями.
– Поблизости обитают сотни гусиных стай, Нож. Одна примет её, пока она не вырастет. Так будет лучше. Для нас с тобой такой надежды нет. Лети, птичка!
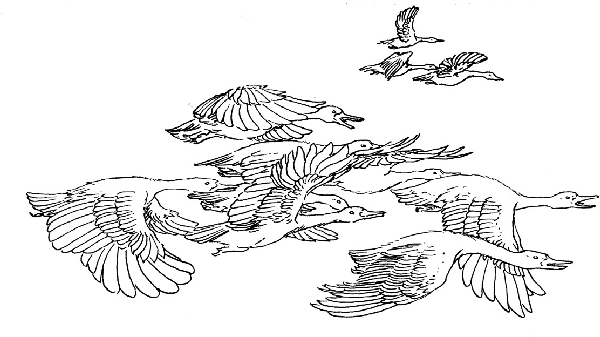
Гнёздышко одарила меня долгим взглядом, её чёрные глаза блестели на морозном ветру. Потом она повернулась и спрыгнула с наполовину погребённого окна в глубокую траву. Было темно, звёзды прожигали дыры в темноте. Я смотрела, как она переходит из одной тьмы в другую.
Через три дня после того, как мы наблюдали за Гнёздышком, ковыляющей по полю, огромные железные двери, отделявшие сырую темницу от двора, который утопал в мерцании свечей, распахнулись с такой силой, что треснуло их каменное основание. Бабушку и меня бесцеремонно схватили и, оставляя синяки и ссадины, потащили вверх по той же спиральной лестнице, по которой я спустилась в ад – так давно, что, казалось, это произошло с другой женщиной. Всё вокруг затопил бело-желтый свет: мы никак не могли к нему привыкнуть.
Оказавшись перед Королём, поначалу мы не могли смотреть прямо на него, так как его золотая корона и расшитый драгоценными камнями камзол слишком ярко сверкали, отражая солнечный свет. Конечно, он именно этого и добивался. Позже я узнала, что регалии во время аудиенций использовались редко. Короля представил высокий мужчина, чьи волосы нечёсаной гривой сланцево-серого цвета опускались до бёдер. Он носил широкий, скрепленный болтами железный ошейник, который тёрся о ткань его сине-коричневого одеяния.
– Вы предстали перед судом его королевского величества, Короля Восьми королевств и Правителя Восточных земель, Автократа Объединённых племён, Владыки Тысячи пещер, Священного сосуда, коему принадлежит мир надземный и подземный. Вот ваш судия.
К тому моменту я различила в сиянии холодный взгляд Короля: он был подобен льду подо льдом. Герольд в ошейнике повернул ко мне свое жестокое лицо с поджатыми толстыми губами и принялся разглядывать мои шрамы. Бабушка застыла около меня, будто вздыбившая шкуру гончая; она узнала в нём своего будущего хозяина – Омира, придворного Волшебника и советника Короля. Я и шагу ступить не успела, как он попытался подчинить волю бабушки и не преуспел, словно женщина была неподатливой ясеневой доской.
– Вы обе… – Его голос был точно масло, текущее по шелку тошнотворными извилистыми струйками. – Вы обе совершили измену, мои весьма смышлёные девочки. Непростой трюк для того, кто заперт под землёй, но вы справились. Вы лишили Короля его законной собственности. Более того, эта собственность была не военной добычей, а родилась прямо здесь, на земле его величества – в этих стенах! – и принадлежит ему по праву.
Волшебник потёр ладони, словно его длинные пальцы болели. Бабушка устремила на него спокойный взгляд, в её голосе было столько же страха, сколько содержимого в выеденном яйце.
– Отчего бы тебе не подойти ближе, Омир Серв, и не рассказать, с чего вдруг моя правнучка сделалась имуществом какого-то неуклюжего борова?
Волшебник слегка вздрогнул, но быстро овладел своим лицом:
– Насколько близко, старая карга? Достаточно близко, чтобы ты сунула мне нож под рёбра? Нет, обойдёмся. Мне не нужны другие доказательства, ты сама признала, что у тебя есть правнучка. – Он бросил на меня горячий взгляд, который прилипал к коже и крепко держал, лишая сил. – Кобылка ожеребилась, но где же приплод?
Я попыталась возразить, но бабушка угомонила меня, крепко сжав руку.
– Так тебе не отдадут то, чего ты желаешь. Оно не для тебя, – прошипела она.
В ответ Волшебник шагнул вперёд:
– Ну и пусть не отдадут, ты, мешок старых пересохших костей. Я сам возьму!
Одного шага было достаточно. С криком медведя, проткнутого копьём, бабушка расхохоталась ему в лицо и вытащила из своего платья, превратившегося в лохмотья, серебряный нож с костяной рукоятью. Нож был острый и легко прочертил на шее Волшебника красную полосу.
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
Огонь почти погас, и Принц сидел в темноте, уставившись на свои ладони, которых не видел. Ведьма легко прикоснулась к узловатому шраму на своём лбу – линии, что извивалась и петляла как морской змей. Она мрачно улыбнулась; её рот, изогнувшись кверху, превратился в точно такую же линию.
Обвинение лежало между ними на столе, жирное и уродливое, с чёрной спиной и пропахшее дымом. Старуха ничего не говорила, а он старался не смотреть на труп, покрытый сажей и каплями росы, лежавший возле камина как свежесрубленное деревце.
– Я не знал, – прошептал Принц. – Я не мог знать. Откуда? Она была просто птицей. Я не хотел…
Отправившись на подвиги, он сразу уничтожил самое ценное, что встретил на своём пути.
Ведьма накрыла его дрожащую руку своей. Её голос был настолько мягким и добрым, насколько это вообще возможно для ведьмы.
– Если бы ты это сделал нарочно, мой мальчик-красавчик, я бы съела твою печень, причём с улыбкой.
Принц Леандр вскинул глаза на Нож с внезапным волнением.
– Но ведь должен быть способ её вернуть! Он обязан существовать. Ты Ведьма. Я Принц. Во всех книгах, где есть ведьмы и принцы, такой способ имеется. – Он упёрся в край стола и наклонился ближе к старой карге: – Скажи, что делать, и я спасу её. Принцы для этого и предназначены – спасать девушек. Умоляю, пошли меня к самой далёкой ледяной шапке или на самые обширные болота. Я пойду, если это будет означать жизнь для неё.
Ведьма улыбнулась той настоящей и нежной улыбкой, какой взрослая волчица могла бы удостоить волчонка.
– Возможно. Как ты и говоришь, у принцев это получается лучше всего.
Нож притихла. Она собрала со стола тесто из муки, крови, слёз и прочего и поместила в огромную печь.
– Как ты сбежала из Дворца? – вдруг спросил Принц и приготовился слушать.
– Меня изгнали, – коротко ответила старуха, проталкивая бесформенный кусок теста на железной решетке подальше.
Леандр видел остаток истории как груды толстых пергаментных свитков в глазах Нож. Однако он понимал, что ему рассказали всё, что сочли нужным.
– Ты должен знать о зле, которое твоя семья причинила моей. Она была последней из нас, последним потомком той бедной девочки, что пряталась в углу своего шатра, пока воины убивали Звёзд. Теперь её нет, и нас больше не будет. Вот правда, которую ты можешь взять в руку, точно обожженный солнцем кирпич. Её можно взвесить и пощупать. Чтобы спасти мою дочь, ничего другого не потребуется.
– Выходит, способ есть. Что я должен сделать? – Принц устремил на неё тот искренний взгляд, на какой способны все принцы.
Ведьма фыркнула и уставилась на него сквозь полумрак, прищурив глаза.
– Её надо завернуть в шкуру Левкроты[7] в новолуние. Тогда она, возможно, хотя и необязательно, воскреснет. – Ведьма ждала ответа, но он не прозвучал. – Смотрю на тебя и удивляюсь, мальчик. Ты хоть раз бывал за пределами крепостных стен? Левкрота – ужасное чудище, что живёт посреди Зловещих болот. Он цвета запёкшейся крови, отчасти олень, отчасти конь, а по размерам – несравнимо больше того и другого; его пасть тянется от уха до уха, а вместо зубов сплошная кость. Жуткий зверь, уверяю тебя.
– Я не боюсь! – вскинулся Принц, преисполнившись желанием доказать свою смелость перед лицом опасности, стоявшей на пути к спасению прекрасной девы-птицы и восстановлению доброго имени его семьи.
– Погоди, мальчик. Ты не понял. Давай я расскажу тебе сказку о другом принце, который отправился на бой с Левкротой…
Сказка о Другом принце
Жил-был прекрасный принц, который решил вызволить свою невинную сестру из лап свирепого чудища.
Левкрота одним движением челюстей сломал ему хребет, а потом две недели носил на ветвистых рогах его голову и руки в знак своего триумфа.
Ведьма выпрямилась с удовлетворённым видом.
Когда полночь укрыла двоих детей, будто синим крылом серафима, мальчик робко положил голову девочке на колени, позволяя её голосу баюкать себя. Он притворился, что не слышит, как у неё перехватывает дыхание, стоит ему пошевелиться, какая лёгкая дрожь появилась в её голосе, точно единственная неверно уложенная нить на вышитом бисером платье.
Но вскоре после того, как его голова коснулась грубой ткани её одеяния, раздался ужасный хруст – звук чьих-то шагов за пределами их маленького укрытия. Девочка издала жуткий высокий крик, точно журавль, в которого угодила серебряная стрела. Мальчик вскочил, выхватил свой жалкий маленький кинжал, намереваясь защищать свою секретную добычу. Но, когда призрачные руки раздвинули сладко пахнущие шипастые ветви, он увидел, что опасность серьёзнее любой Ведьмы или таинственного заклинания.
Перед ним, обрамлённое жасминовыми ветвями, возникло разгневанное лицо сестры, похожее на яростную мандалу[5]. Её глаза были полны обвинений, как свиток в руках судьи.
– Вот ты и попался, мерзкий крысёныш! – торжествующе прокаркала она. – Тебя накажут! Ты с демоницей миловался!
– Она не демон! – выпалил мальчик, не подумав. Динарзад [6] была страшна, как распалённая львица. Девочка дышала сбивчиво и хрипло, не в силах пошевелиться. – Она не такая! Оставь нас в покое!
Что-то от волков и пещеры, должно быть, просочилось в него, как пролитые чернила, потому что раньше ему не хватало смелости так с ней разговаривать. Динарзад ворвалась в заросли, словно обезумевшая гарпия, – мальчик почти увидел, как из её кожи лезут перья, – и, схватив его за волосы, потащила прочь от плачущей девочки, хотя он пинался и сыпал проклятиями.
Мальчику показалось, что девочка прячется, как луна, ускользает за стену из кобальтовых туч. Из его мира утекал свет; он видел только её глаза, огромные и тёмные, как у лесной совы, и эти глаза следили за ним.
Когда они достигли ворот Сада, мальчик по-дикарски укусил сестру за надушенную руку, и она, остановившись, отвесила ему тяжелую пощёчину – такую сильную, что у него треснула губа, как перезрелая слива. Он сплюнул кровь на землю.
– Похоже, братец, ты вообразил себя взрослым, но взрослые люди не приближаются к зловредным демонам вроде неё. Хочешь, чтобы её проклятие перешло на всю семью? Избалованный щенок! Я буду пороть тебя до самого утра!
С дерзким видом, будто петух, кукарекающий на закате, мальчик заорал в ответ:
– Да! Да! Я щенок! Я волк с зубами как пиратские сабли, и я разорву тебя на столько же кусочков, сколько драгоценных камней у Султана в хранилище! Она не демон, я возвращаюсь к ней. Прямо сейчас.
Мальчик скрестил руки на юной груди и почувствовал прилив гордости, точно его омыло кровью Звезды. Но Динарзад вспыхнула. Её глаза потемнели, как две заплесневелые тюремные ямы, и она вцепилась в его руку, постепенно усиливая хватку.
– Нет, братец, ты никуда не пойдёшь.
Мальчик очнулся в тёмной и дурно пахнущей темнице.
Динарзад держала по ребёнку в каждой руке, и близнецы дружно орали во всё горло. Это были королевские ясли, где мучительно вопили десятки младенцев, казавшиеся страшнее рогатых демонов у адских печей.
Динарзад была почти взрослой женщиной, готовой выйти замуж и покинуть дом. Она проводила свои вечера, ухаживая за дворцовыми младенцами, которыми правила рукой, что была крепче любого железа, выкованного смертными. Мстительная богиня! Ничто не могло оказаться выше её воли. Этим вечером Динарзад занималась самыми юными, а мальчик за своё преступление был прикован к её юбкам и этой гадкой комнате. Что, несомненно, хуже любой старой темницы в замке какого-нибудь короля. Не было никакой надежды на побег, пока сестра то и дело впивалась в него взглядом, точно клешнёй скорпиона.
Однако боги не всегда суровы к маленьким мальчикам. В дело вмешалась судьба в лице розовощёкого младенчика-принца, страдающего коликами. Не имея ни малейшего понятия о своих королевских обязанностях, бедный малыш настаивал на том, чтобы попасть на ручки к маме. Потому у Динарзад не было иного выхода, кроме как отнести ревущего ребёнка в соответствующую спальню.
– Если ты хотя бы переступишь с одной каменной плиты на другую, – предупредила она, – я буду держать тебя под замком до тех пор, пока не сгниёшь. Одного брата из десятков никто не хватится.
И Динарзад удалилась, волоча за собой многослойный шлейф из розового шелка.
Разумеется, мальчик выпрыгнул в северное окно уже спустя три удара сердца.
Беседка выглядела как поле битвы, во время которой с укреплений лили смолу, а отряды воинов крушили всё подряд. Белые цветы были изорваны в клочья и свисали со сломанных ветвей, точно крестьянские лохмотья. Их ужин разбросали повсюду, и мальчик увидел, что помял свою флягу для воды о кривой корень, когда Динарзад тащила его прочь. Больше всего его расстроили уничтоженные цветы, лепестки олеандра, втоптанные в грязь. Место, где он услышал сказки, которые ещё горели внутри, точно масло в лампе, было разгромлено, как прекрасный дом, куда ворвались бандиты.
Девочки нигде не было видно.
Мальчик обыскал все тайные углы, какие знал в огромном Саду, проверил изгороди и розовые деревья, пруды с лилиями и завывающими лягушками-быками, оливковые рощицы и границы фруктовых садов. Девочка ушла, исчезла и забрала с собой все истории.
Мальчик тяжело опустился на бордюр бронзового фонтана, чья вода тихонько капала в ночи. Он уронил кудрявую голову на руки, упрекая себя за неосторожность, за то, что позволил обнаружить своё отсутствие и попался. Из него вышел никудышный вор и ещё худший защитник. «Но ведь принц Леандр тоже оказался в ловушке, – подумал он. – Так что, возможно, у меня ещё есть шанс на прощение».

Мальчик в отчаянии поднял глаза и увидел луну, плывшую по небу, как огромный бумажный фонарь. Когда облака её заслонили, дикий гусь пролетел по дуге над широким лунным лицом, оставив изящный след в ночи. Мальчик услышал его крик, одинокий и чуждый, точно голос нефритовой флейты, и глубоко вздохнул.
Гусиный крик повторился, на этот раз очень близко, и мальчик понял, что это не птица зовёт его, а темноглазая девочка, которая пряталась за юным кедром, росшим неподалёку. Его сердце подскочило, как утка, взлетающая с неподвижного пруда. Он подбежал и едва успел остановиться, не заключив её в свои юные объятия. Девочка выглядела робкой и смущённой, её тёмные глаза были опущены к земле.
– Как ты научилась подражать диким водяным птицам? – нетерпеливо спросил мальчик.
– Я тебе говорила, что кормила их и разговаривала с ними с тех пор, как была совсем ребёнком – никого другого рядом не было. Они… Зимними ночами, в лютый холод они раскрывают надо мной свои крылья, и мы вместе отдыхаем под жестокими звёздами.
Мальчик снова едва справился с желанием обнять её и вместо этого похлопал по плечу, как это делал его отец со своими товарищами.
– Ты рассказала, но как я мог поверить? Как-нибудь научишь и меня! – объявил он. – Но сначала история. Продолжи историю! Я должен знать, что случилось с Принцем после того, как Ведьма завершила свой рассказ.
Двое удалились от фонтана, который был не самым подходящим местом, чтобы прятаться. Они нырнули в рощу душистых кедров, и девочка устроилась поудобнее.
Девочка улыбнулась странной, кошачьей, улыбкой.
– Вообще-то ты ошибаешься. Ведьма едва успела начать…
Сказка Ведьмы (продолжение)
Бабушка улыбнулась, потрепала меня по волосам и сложила руки, как старый жук-палочник. Я помню её голос – он витал в тёмном подвале, царапал стены и лизал массивные замки, одновременно смягчая мой страх, как пряха смачивает нить губами.
– Выходит, ты можешь превратиться даже сейчас? Прямо сейчас?
– Да, я могла бы.
– А я?
– Ты не попадёшь в пещеру, дорогая. Свет Лиульфур или свет мёртвой Звезды никогда не коснётся тебя. В лучшем случае, ты станешь ведьмой листвы и травы: будешь делать любовные зелья, лекарства от простуды и средства от подагры для тех, кто сможет тебе заплатить; смотреть в небо и говорить юной девушке о том, что её муж будет светло- или темноволосым; примешь у неё роды и похоронишь её – когда придёт время. Это всё.
Я проглотила сказанное, прожевала, словно кусок жесткой шкуры. Наконец, я мрачно ухмыльнулась: лучше быть слабой ведьмой, чем никакой.
– Ты могла бы превратить кого-то другого? – вдруг спросила я.
Брови Бабушки сошлись, как если бы она пыталась прочитать странную вереницу следов, оставленных чьими-то копытами.
– Не знаю. Думаю, смогла бы… Должен быть способ. Но я бы не хотела пробовать.
– Сделай это сейчас! – закричала я, хватая её худые руки. – Превратись в мышь и выберись через замок или в птицу и улети через оконную решетку. Принеси ключ и выпусти меня, и мы уйдём в степи вместе; будем есть оленину и навсегда забудем об этом месте!
– Бедная малышка Нож! Иногда ты бываешь тупой и грубой, как камень, – сказала бабушка с нежностью. – Если я стану мышью, убегу прочь, волновать меня будет одно – как набить сыром своё серое брюшко. Я забуду тебя, и мы уже никогда не поедим вместе оленины. Кроме того, мне надо кое-кого убить, прежде чем я смогу начать думать о мышах или птицах. А тебе надо кое-кого родить.
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
Ведьма замолчала. Ночная тьма струилась в окна её домика, точно шелк, и окутывала всё толстым чёрным покрывалом. Принц чувствовал себя неуютно: он замёрз и перепачкался в муке, но не смел жаловаться.
Ведьма совсем притихла. Рука Принца снова начала кровоточить; кровь капала в тесто, но он её не замечал. Потрескивавшее в очаге пламя кувыркнулось, точно лосось, и хижину заполнил ароматный дым, источаемый зелёными ветвями шалфея и зубровки душистой. Глаза Принца увлажнились, и он не знал, виной тому дымный воздух, от которого выступали слёзы, или похороненные некогда воспоминания, пробуждённые небрежными словами о его матери. Воспоминания вышагивали внутри него уже несколько часов, и в дальнем углу памяти вспышкой мелькала грива золотых волос да шумели крылья.
Всё стало таким странным и непонятным – путь через лес, приведший его в этот дом; вытекающий изо рта старой карги поток слов, напоминающий чернила; пульсирующий внутри страх; ожидание того, что после рассказов ему всё равно придётся понести наказание за убийство гусыни, – и память, память, колотившая его по сердцу ужасными серыми крыльями.
По правде говоря, затерявшись в сказке Ведьмы, Принц почти забыл о существе с жемчужными крыльями – о мёртвой птице, той, кому он утром свернул шею. Но, посмотрев на свои испачканные в муке руки, омытые светом очага и тенями, он увидел пятна чёрной крови на белой пыли, увлажнившуюся рану и всё вспомнил. Прошел миг с той поры, как он, словно беглец, оставил Замок отца, намереваясь никогда не возвращаться, не правда ли? И теперь, не дойдя нескольких миль до границы королевства, стал пленником. Приключение закончилось, не успев начаться. Он попал в ловушку, как заяц, – свистящий шепот завёл его в трясину, он затерялся в хижине, среди теней и огня, рядом с трупом девушки-гусыни, что лежал у стены, возле очага, который не давал её плоти остыть.
И вот старуха произнесла имя его матери. Старые запретные слоги вплелись в её историю, у которой не было с ним ничего общего. Но воспоминания о матери превратились в жесткий рычаг, которым Ведьма медленно открывала его нутро, пядь за пядью, кость за костью. Принц едва расслышал последнюю часть длинной истории – так его одолела печаль, подступившая к самому подбородку.
Ведьма склонила набок голову, с лёгким любопытством наблюдая за своим гостем. Она осторожно взяла его руку в свои и прижала ладонь к окровавленным пальцам, останавливая кровотечение. Затем втёрла в обрубки какой-то сладко пахнущий корень, и рану сильно защипало.
– Трава и листва, – проворчала она.
Принц попытался изобразить улыбку, но не вышло. Ведьма обратила к нему хищные прищуренные глаза:
– Что такое, мальчик? Ты мой слуга и не можешь вытерпеть вечер, чтобы выслушать меня? Вместо этого завернулся в собственные печали, как в тяжелый шерстяной плащ, и ждёшь, что я сниму его с твоих плеч?
– Моя мать, – пробормотал Принц. – Ты сказала, что знала мою мать.
– А ты сказал не говорить о ней, – буркнула старуха. – Хорошо, отвлечёмся и послушаем, как убийца будет бить себя в грудь и извергать своё горе на мой пол? Твоя мать мертва, твой отец почти стёр её из памяти всего мира. Неужели тебе хочется знать что-то ещё о бедной женщине?
Под конец её голос опасно надломился, и Принц вздрогнул от этого, изумившись, сколько всего происходило в королевстве без его ведома, – взять хотя бы изгнанную в глубину леса женщину, которая была знакома с покойной Королевой. Имя его матери было аккуратно внесено в генеалогические свитки и звучало в народных песнях, где большей частью превозносились её длинные золотые волосы. То же самое имя находилось под запретом в комнатах, где решались важные дела, и в любых помещениях, куда мог войти его отец. И всё-таки Ведьма была с ней знакома.
Она потёрла длинные костлявые пальцы друг о друга – звук был такой, словно ветер всколыхнул ветки, – и одарила его оскалом из-под завесы седых грязных волос.
– Думаешь, я зловредная, да? Чудище, ошибка природы? Как жестоко я поступаю, удерживая тебя здесь и треща без умолку о своей мёртвой бабушке, до которой тебе нет дела. Отодвигая роковой жребий, приготовленный для тебя, дразня напоминаниями о твоей матери. Всё это я рассказываю не просто так, скудоумный мальчишка. Разве у тебя никогда не было наставника? Я повествую о мёртвом скучном прошлом, чтобы ты понял, почему ноги принесли тебя сюда, а не к хижине какой-нибудь бедной старушки, и чему ты положил конец, убив мою дочь. Не смотри на меня как идиот! Слушай или ничего не узнаешь – о своей матери тоже. Или мне тебя убить прямо сейчас, свершив возмездие? Это стоило бы мне всего один вздох. В моём возрасте все оставшиеся вздохи посчитаны и внесены в список, а я развлекаю тебя, тратя множество вздохов из него, мальчишка! Так что не испытывай моё терпение. – Ведьма помедлила, скривившись, будто и впрямь подсчитывала, насколько ещё хватит силы её лёгких. – И никогда не считай женщину зловредной лишь потому, что она некрасива и не лебезит перед тобой. Это неподобающее поведение для Принца.
Старуха шумно отхлебнула чаю. Когда она снова заговорила, её голос смягчился, превратившись из острого кинжала в деревянную колотушку с рукоятью, согретой ладонями.
– Я вижу, что тебе больно, а чудовища знают толк в боли. Ты тащишь труп матери за собой, и он оставляет в земле глубокую борозду. Это достойный повод, чтобы грубо прервать женщину, у которой имеются два пальца, коих не было утром. Ради того, чтобы раскопать эти старые кости, я, так и быть, выслушаю тебя. Поверь мне, твоя участь не станет легче, если ты ощутишь ко мне тёплые чувства, облегчив душу. У нас впереди все ночи, какие сотворил мир. Говори о мёртвых во тьме, мальчик, и я заберу у тебя её тело, если хочешь от него избавиться.
Принц сидел, ссутулившись, и смотрел на старуху, как выпоротый ребёнок; его рёбра стонали, будто по ним била тысяча маленьких мечей. Он не мог дышать, сердце бешено колотилось в груди, глотка пылала. Хотелось рассказать ей всё, что знал; его душа корчилась от усилий, но он не мог произнести ни слова.
Ведьма смеялась над ним. Но это был не злой смех: скорее, старая карга испытывала жалость и грусть. Она склонилась над ним, как крышка люка.
– Ты скажешь ему, как её звали. Ты скажешь ему это, когда вы снова встретитесь.
Старуха положила мозолистую руку на лоб Принца, другой накрыла его губы и мягко сжала, словно голову любимой куклы. Он хотел презирать её прикосновения, плюнуть в неё, но, едва её сухая кожа соприкоснулась с его, нахлынуло умиротворение, будто струящаяся река, мышцы расслабились и дыхание выровнялось. Её руки напоминали лапы, которыми медведица обнимает детёныша, сильные и нежные. Когда Ведьма отпустила Принца, он смотрел на неё широко открытыми глазами, его спина была прямой, лоб прохладным.
– Трава и листва? – прошептал он.
– Вроде того, – сказала она.
И он смог, не запнувшись, произнести слова, которые давно ржавели внутри.
– Мой отец убил её. – Он покачал головой. – Это теперь я всё понимаю, но никто не говорит о случившемся вслух. Никто! Я был младенцем, когда она умерла, но моя няня рассказывала, как всё произошло, повторяла снова и снова, будто колыбельную. Она хотела, чтобы я хранил это воспоминание как второе сердце – неотъемлемую и постоянную часть тела. Прижимала меня к себе и шептала одну и ту же историю, раз за разом. Я помню её волосы, точно лес прямых белых берёз вокруг меня, и тёмные глаза надо мной…
Нянина сказка
Твоя мать, малыш, была красивее летнего солнца. Тебе скажут, что это неправда, и она была уродлива, как жаба, но это враньё. Я всегда говорю своим мальчикам правду.
Она была вся из золота – волосы, кожа, даже глаза, точно у львицы. Звали её Хелия, и это самое прекрасное имя из всех, что я когда-либо слышала.
Твой отец охранял её как ревнивый шакал и держал в комнате на вершине башни. Но слава о её красоте, достойной книг, гремела повсюду. Ты родился вскоре после свадьбы – так обычно и бывает, когда жена похожа на львицу или на солнце. Когда ты вышел из неё, с необычайной лёгкостью, она ужасно тебя полюбила. Ты был в той же мере тёмным, в какой она светлой, малюсенькой луной рядом с её солнцем. Я была её горничной, и она была полна света. Говорю тебе, утёночек мой милый, иногда глазам становилось больно смотреть, как она стояла рядом с окном, держа тебя у груди, и её волосы пламенели. Я иногда задавалась вопросом, сосал ты молоко из её груди или в твой рот тёк солнечный свет.
Но однажды ночью её не оказалось в башне. Ты к тому времени уже был карапузом с пухлыми щёчками и ковылял по её пустой комнате – твой отец ей даже стула не дал, клянусь! Весь день проводила на ногах, а спала на камнях, и ни разу я не слышала от неё жалоб. Не могу сказать – откуда же мне знать! – чем она занималась той странной ночью (богатеи не говорят нам того, что не касается завязывания лент и заваривания чая, так заведено), но солнечным утром гнев твоего отца затемнил небо и встряхнул кровлю.
Вместе со старым предсказателем они в ярости метались по Замку, точно два урагана, проклиная меня за то, что я её выпустила, будто Королева не может делать то, чего ей хочется. Он схватил меня за руку, словно кандалы надел, и мы понеслись по расшатанной лестнице на башню – там стояла твоя мать, спокойней не бывает, ты спал у неё на руках, и тебя ничто не волновало. Она посмотрела на твоего отца взглядом сытой тигрицы, её золотые глаза сияли от ненависти и счастья.
Я никогда не забуду этот взгляд, чтоб мне больше яблок не есть! Хелия ненавидела Короля – такова истина; спроси его, когда вырастешь, и сам увидишь, назовёт ли он старую Яю вруньей. Отец вырвал тебя из материнских объятий и сунул мне, ты проснулся и заплакал. Потом он сразу же ударил твою мать с такой силой, что она выплюнула на пол зуб – как тебе такое понравится? Но она и глазом не моргнула, её ужасный взгляд не переменился. Король зашипел на неё и изрёк странные тёмные слова:
– Женщина, во второй раз тебе меня не одурачить. Я должен был перерезать твою глотку при нашей первой встрече.
– Видимо, так, – промурлыкала твоя мать.
Король улыбнулся, и я начала бояться, что в моём хозяине кроется что-то тайное и гнилое, но ничего не сказала. Слуга никогда ничего не говорит, если его не спрашивают, а Яю все спрашивают об одном – готов ли ужин.
– Ты поняла? – с яростью бросил Король. – Твоя смерть послужит уроком для твоего сына.
Она жутко оскалилась, глядя в его побагровевшее лицо, и шепот её был сладким, как сметана:
– Урок он усвоит, о, мой супруг. Он всё усвоит.
Твоя мать умерла на следующее утро. Я так и не узнала, почему, за какое преступление её казнили, точно воровку, пойманную с куском масла. Я была во внутреннем дворе, стояла, прижимая тебя к себе, и, как подобает хорошей няне, заставила тебя отвернуться в последний момент.
Это случилось перед рассветом, когда всё вокруг было сонное и серое. Твой отец выволок бедняжку Хелию из Замка в простой белой рубахе. Её волосы струились, как огонь в тумане. Сумасшедший старый заклинатель тоже был там, в своём роскошном синем одеянии. Но он не проронил ни слова – слуга ничего не говорит, если его не спрашивают, – только всё время еле заметно улыбался. Король затащил твою бедную матушку на груду свежих брёвен и привязал там грубыми верёвками. Она не сопротивлялась, даже когда он затянул верёвки настолько туго, что до крови ободрал ей запястья. Но когда она увидела тебя… Ох, не бывает такой сильной матери, которой наплевать, что её ребёнок увидит, как она горит. Тогда она заплакала и закричала, рванулась к тебе, её тонкий жалобный крик взмыл в утреннее небо, но о пощаде она ни разу не попросила.
Мне хотелось ей помочь, но тогда я сгорела бы вместе с ней, и ты остался бы совсем один, было бы некому тебя любить и заслонять от гнили, живущей в твоём отце.
Король вытащил длинный нож и отсёк её великолепные волосы, вручил их тупоумному Волшебнику. Они стояли над ней недолго, лицо Короля было тёмным, словно грязь. Затем он поджег ветви ясеня и дуба большим трескучим факелом. Твоя мать кричала, и это был жуткий плач, как пугающая песня смерти, что исходила из её костей. Ты кричал ещё громче, настолько тебя испугал певучий скрежет. Огонь лизнул её ноги, платье вспыхнуло; и вот загорелась голова, точно голова ангела.
Яя тебе не врёт, что бы ни говорили за ужином! Слушай, когда я говорю об увиденном. Когда огонь окутал её красным плащом, сквозь извивающиеся языки пламени я увидела, как твоя мать… переменилась. Её волосы из золотых стали чёрными, а контуры тела оплывали от жара. Она то была Хелией, какой я её знала, то кем-то совсем другим, уродливым, ужасным и тёмным – темнее не бывает.
Тебе скажут, что Яя не в ладах с головой и пьёт слишком много дурного красного пива, но я думаю, что Волшебник тоже это видел, его глаза сделались сердитые. Он прогнал нас прочь с холода, говоря, что кто-нибудь заберёт её кости и что ребёнок не должен это видеть… Тут я сказала прямо ему в лицо, что, если он не хотел, чтобы ты всё видел, не нужно было тебя вытаскивать из постели. Но старый драный аист, как обычно, не обратил на меня внимания.
Но, пончик мой сладкий, её крик преследовал меня, когтями рвал спину, и за криками, клянусь, я слышала шелест, и хлопанье, и трепетание, и оно становилось всё громче, пока я не зажала уши руками, и мы побежали прочь от твоей матери, которая горела, будто мясо на костре.
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
– И это всё? – спросила Ведьма скучающим голосом.
Принц кивнул с глупым видом, хотя в глубине его души затрепетала расчётливая жилка, словно он учуял в подлеске запах оленя, которого точно можно поймать, если тихо подкрасться. Нож устроилась поудобнее на стуле, покрытом шкурой, и продолжила свой рассказ.
Сказка Ведьмы (продолжение)
Время в тюрьме бежало точно восьмилапый леопард – мы не могли его видеть и слышать, а оно подкрадывалось на своих пятнистых лапах и пожирало нас заживо. Я сделалась круглой, словно полная луна, хотя мои руки и ноги были как берёзовые веточки, щёки запали. Голод и тьма ходили за нами по пятам, точно беспокойные нянюшки.
И вот однажды ночью я легла на заплесневелую солому, по которой торопливо бегали пискливые крысы, чтобы произвести на свет дитя. Бабушка прижимала меня к себе, обнимая руками и ногами, пряча от каменных стен, лицом к лицу что-то шептала, пока я скулила, и вытирала слёзы с моего чёрного от грязи лица. Она тёрла мой распухший живот морщинистыми коричневыми руками, рисовала на нём круги, подобные улетающим птичьим стаям.
Боль стала отдельным миром, где всё было нарисовано красным и чёрным да белыми вспышками-всхлипами. Я кричала – но в тюрьме все кричат. Я проклинала всё, о чём могла подумать, – но проклятия в тюрьме так же привычны, как гангрена. Мои волосы прилипли к голове от пота, босые ноги скользили по полу, когда я дёргалась и извивалась, точно больная лягушка-бык. Моё тело пожирало себя, разрывалось на части. Я всё кричала и кричала, цепляясь за бабушку, а она цеплялась за меня, пытаясь успокоить и тычась в меня носом, словно я была волчонком в снегу.
Её я не чувствовала: чувствовала лишь, что вот-вот разобьюсь вдребезги.
Так родилась моя дочь, здоровая и красивая, с копной чёрных волос и спокойными чёрными глазами. Я держала на руках её влажное дрожащее тельце, появившееся во тьме и вдали от нашего дома. Я улыбалась ей и качала её, позабыв свои недавние слова и отчаяние.
А потом голос бабушки вонзился в меня, как игла в полотно:
– Мы не можем её оставить, Нож. Ты должна это понимать.
Я отшатнулась и крепко прижала к себе доченьку. Бабушка успокоила меня и вновь начала гладить, чтобы добиться своего, словно я была девочкой, которая ушибла палец.
– Ей ни за что не выжить. Король прикажет убить кроху, если она сама не умрёт здесь от голода. Она не может остаться с нами. Ты это знаешь, но не хочешь признавать – любая мать на твоём месте не захотела бы.
Мне стыдно за слёзы, пролитые той ночью, горячие и обильные, как воск из свечей, что горели в тысяче храмов. Но остановить их было невозможно.
– Нет-нет, она моя! Я уже её полюбила. Если бы и ты её любила, ни за что не попросила меня отдать дитя. Я её не отдам никогда! – Я беспомощно уставилась на бабушку. – У неё даже имени нет! Как я могу?
Бабушкины глаза окружили морщины, сделавшие их похожими на страницы книги, которую слишком часто листали очень грубые руки. Она пожала плечами, зная, какой упрямой я могу быть, и впервые удалилась от меня во тьму, скорчилась в дальнем углу камеры и прижала колени к груди на куче позеленевших от плесени костей. Через некоторое время я услышала, как она захрапела.
После всех наших разговоров недели в тишине напоминали погружение в холодную воду без возможности набрать полную грудь воздуха. Бабушка не говорила со мной, и я впервые поняла, что значит подлинное тюремное заточение. Мы жались по углам, как изготовившиеся к битве борцы. Я берегла свою малышку, как могла; её жадный маленький рот терзал мою грудь, а яростные пронзительные крики – уши. Она утомляла меня… Ох, как же она меня утомляла! Я могла лишь дремать, словно больная кошка; меня мотало от бодрствования ко сну и обратно. Из каменных плит не сделать ни колыбель, ни постель, и у меня не было ни кобыльего молока, чтобы приучить дочку к его вкусу, ни степной травы, чтобы она могла к ней прикоснуться. Ей не пришлось познать вещи, известные мне.
Её чёрные глаза постоянно глядели во тьму. Её кожа всегда оставалась бледной, холодной и влажной на ощупь, и она так дрожала от сырости. Дочка была тонкая и продрогшая, словно стеклянная. Я плакала, когда кормила её грудью, укачивая возле склизкой стены. Она перестала плакать, просто смотрела на меня чёрными бездонными глазами.
– Гнёздышко, – всхлипнув, прошептала я однажды ночью, обращаясь к теням, за которыми сгорбившись сидела бабушка. – Я назову её Гнёздышко.
– Имя даёт надежду девочке, которая, вероятно, никогда не увидит дневного света, уже не говоря о гнезде высоко в заснеженных горах.
Я погладила мягкую щёку дочери, в которой совсем не было красок – лишь ровная серость под кожей. Она потянулась ртом к моему пальцу, и я в сотый раз расплакалась. Я устала плакать. Молоко и слёзы лились из меня каждый день, и каждый день я думала, что влаги во мне не осталось. Но каждый день я снова плакала и снова кормила грудью.
– Я не могу, бабушка, не могу. Ты хочешь, чтобы я её умертвила, как лошадь с разбитым коленом, но я не могу. Даже если так лучше для неё, я всё равно не смогла бы, не удержалась бы и подошла в тот миг, когда она заплачет. Её крик, словно крючок, застревает в моей глотке.
– Ох, маленькая моя, я никогда не попросила бы тебя о подобном. Как ты могла такое подумать? Я неспроста тарахтела, будто панцирь черепахи, носимый ветром по камням. То, что мы можем ей дать, намного лучше того, о чём говоришь ты, и уж точно лучше нашей собственной участи. Нож, позволь мне её взять и поверь, я не зря рассказала тебе эту историю. Хочешь назвать её Гнёздышком? Очень хорошо. Давай поможем ей отыскать настоящее гнездо.
Бабушке пришлось выдирать дочку из моих рук, как выдирают драгоценный камень из оправы. Она едва заметно и грустно улыбнулась, ощутив вес своей правнучки и коснувшись её впервые с того момента, как она извлекла дитя из моего чрева. Бабушка уложила мою доченьку на все лохмотья, какие мы смогли собрать, чтобы защитить её от холодного пола. Гнёздышко начала плакать, втягивая ледяной воздух, и её всхлипы заполнили камеру до потолка.
Старая женщина готовилась – так я решила – и закрыла глаза, будто занавесила двери, мне велела сделать то же самое. Я не видела в этом смысла, потому что владела лишь силой, достаточной чтобы убить нескольких оленей и ездить верхом, перевязать гноящуюся рану и вправить вывих. Если мы не собирались убить моё дитя, помочь было нечем. Если я и была ведьмой, то лишь той, что знает траву и листву. Моя маленькая девочка продолжала рыдать; от этого забеспокоились черви, тараканы и пауки, беззаботные ползучие обитатели нашей клетки. Я рвалась ей помочь, снова укутать и прижать к груди, хотя в ней, наверное, уже не осталось ни капли молока.
Бабушка положила пальцы на мрачное личико Гнёздышка.
– Я… я не уверена, что всё получится. – Она откашлялась. – Никогда этого не делала. И Волчица не сказала, разрешено ли подобное. Дыра – всего лишь пространство, но заполненная дыра становится Звездой. Я полна, а она пуста. Этого должно хватить.
Раньше я ни разу не слышала, чтобы моя бабушка подвергала сомнению хоть что-то из существующего под красным солнцем. Если бы она сказала, что одним кроликом можно накормить целый мир, я бы кивнула и принялась сдирать с него шкуру.
Бабушка коснулась лбом пола, будто молясь, и начала медленно стучать головой о камни, снова и снова, всё сильнее и сильнее. Я попыталась её остановить, но она оттолкнула меня и опять принялась за своё, разбивая лицо. Под ней возникло тёмное влажное пятно, а звук, с которым её кости ударялись о камни, сделался громким и жутким, прежде чем она остановилась и выпрямилась.
Её лицо было в крови, но среди потёков красного цвета виднелись струйки серебра, как седина в волосах юной женщины. Они покрывали бабушкины щёки и затекали ей в глаза, капали с подбородка. Она коснулась пальцем влажного месива, в которое превратился её лоб, и, увидев свет на пальцах, приложила лоб ко рту моей дочери.
Гнёздышко поначалу ничего не поняла, но серебро и чернота капали ей в рот, а её никогда не приходилось упрашивать сосать. Девочка прижала губы к бабушке и принялась хлопать своими ручками по волосам старой женщины с азартом голодного малыша. Свет тёк в неё вместе с кровью, и во тьме моя дочь засияла.
Бабушка отстранилась и вытерла рот Гнёздышка, как обычному ребёнку. Она положила руки на её бледное тельце и зажмурилась, дыша тяжело и глубоко, сжимая пальцами плоть моей дочери, точно вылепливая её из глины.
Гнёздышко медленно менялась. Её ноги наполнились лунным светом и исказились, будто расплавились; руки сделались плоскими, как листы нетронутой чернилами бумаги. На её теле выросли перья, словно шелковистые пряди волос: сначала кудрявый пух, а потом сильные серые перья для полёта, с чёрными кончиками цвета серебряной нити на хрустальном веретене. Её рот утих и превратился в изящный изогнутый клюв, который потрясённо раскрылся.
Только глаза девочки остались прежними и её внимательный взгляд цвета камней на дне озера.
Моя девочка, ставшая милой юной гусыней, вскочила и ткнулась в мою ладонь своей гладкой головой. Она по-прежнему была очень маленькой. Я наклонилась и поцеловала её перья, чувствуя, как моё сердце превращается в высохший боярышник.
Балансируя на груде костей, мы поднесли Гнёздышко к зарешеченному окну, дотянулись до него и протиснули её тельце между прутьями.
– Поблизости обитают сотни гусиных стай, Нож. Одна примет её, пока она не вырастет. Так будет лучше. Для нас с тобой такой надежды нет. Лети, птичка!
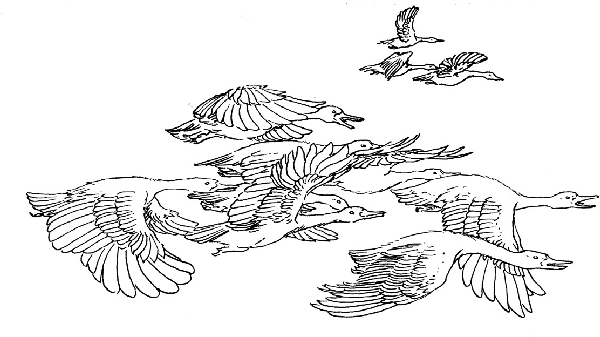
Гнёздышко одарила меня долгим взглядом, её чёрные глаза блестели на морозном ветру. Потом она повернулась и спрыгнула с наполовину погребённого окна в глубокую траву. Было темно, звёзды прожигали дыры в темноте. Я смотрела, как она переходит из одной тьмы в другую.
Через три дня после того, как мы наблюдали за Гнёздышком, ковыляющей по полю, огромные железные двери, отделявшие сырую темницу от двора, который утопал в мерцании свечей, распахнулись с такой силой, что треснуло их каменное основание. Бабушку и меня бесцеремонно схватили и, оставляя синяки и ссадины, потащили вверх по той же спиральной лестнице, по которой я спустилась в ад – так давно, что, казалось, это произошло с другой женщиной. Всё вокруг затопил бело-желтый свет: мы никак не могли к нему привыкнуть.
Оказавшись перед Королём, поначалу мы не могли смотреть прямо на него, так как его золотая корона и расшитый драгоценными камнями камзол слишком ярко сверкали, отражая солнечный свет. Конечно, он именно этого и добивался. Позже я узнала, что регалии во время аудиенций использовались редко. Короля представил высокий мужчина, чьи волосы нечёсаной гривой сланцево-серого цвета опускались до бёдер. Он носил широкий, скрепленный болтами железный ошейник, который тёрся о ткань его сине-коричневого одеяния.
– Вы предстали перед судом его королевского величества, Короля Восьми королевств и Правителя Восточных земель, Автократа Объединённых племён, Владыки Тысячи пещер, Священного сосуда, коему принадлежит мир надземный и подземный. Вот ваш судия.
К тому моменту я различила в сиянии холодный взгляд Короля: он был подобен льду подо льдом. Герольд в ошейнике повернул ко мне свое жестокое лицо с поджатыми толстыми губами и принялся разглядывать мои шрамы. Бабушка застыла около меня, будто вздыбившая шкуру гончая; она узнала в нём своего будущего хозяина – Омира, придворного Волшебника и советника Короля. Я и шагу ступить не успела, как он попытался подчинить волю бабушки и не преуспел, словно женщина была неподатливой ясеневой доской.
– Вы обе… – Его голос был точно масло, текущее по шелку тошнотворными извилистыми струйками. – Вы обе совершили измену, мои весьма смышлёные девочки. Непростой трюк для того, кто заперт под землёй, но вы справились. Вы лишили Короля его законной собственности. Более того, эта собственность была не военной добычей, а родилась прямо здесь, на земле его величества – в этих стенах! – и принадлежит ему по праву.
Волшебник потёр ладони, словно его длинные пальцы болели. Бабушка устремила на него спокойный взгляд, в её голосе было столько же страха, сколько содержимого в выеденном яйце.
– Отчего бы тебе не подойти ближе, Омир Серв, и не рассказать, с чего вдруг моя правнучка сделалась имуществом какого-то неуклюжего борова?
Волшебник слегка вздрогнул, но быстро овладел своим лицом:
– Насколько близко, старая карга? Достаточно близко, чтобы ты сунула мне нож под рёбра? Нет, обойдёмся. Мне не нужны другие доказательства, ты сама признала, что у тебя есть правнучка. – Он бросил на меня горячий взгляд, который прилипал к коже и крепко держал, лишая сил. – Кобылка ожеребилась, но где же приплод?
Я попыталась возразить, но бабушка угомонила меня, крепко сжав руку.
– Так тебе не отдадут то, чего ты желаешь. Оно не для тебя, – прошипела она.
В ответ Волшебник шагнул вперёд:
– Ну и пусть не отдадут, ты, мешок старых пересохших костей. Я сам возьму!
Одного шага было достаточно. С криком медведя, проткнутого копьём, бабушка расхохоталась ему в лицо и вытащила из своего платья, превратившегося в лохмотья, серебряный нож с костяной рукоятью. Нож был острый и легко прочертил на шее Волшебника красную полосу.
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
Огонь почти погас, и Принц сидел в темноте, уставившись на свои ладони, которых не видел. Ведьма легко прикоснулась к узловатому шраму на своём лбу – линии, что извивалась и петляла как морской змей. Она мрачно улыбнулась; её рот, изогнувшись кверху, превратился в точно такую же линию.
Обвинение лежало между ними на столе, жирное и уродливое, с чёрной спиной и пропахшее дымом. Старуха ничего не говорила, а он старался не смотреть на труп, покрытый сажей и каплями росы, лежавший возле камина как свежесрубленное деревце.
– Я не знал, – прошептал Принц. – Я не мог знать. Откуда? Она была просто птицей. Я не хотел…
Отправившись на подвиги, он сразу уничтожил самое ценное, что встретил на своём пути.
Ведьма накрыла его дрожащую руку своей. Её голос был настолько мягким и добрым, насколько это вообще возможно для ведьмы.
– Если бы ты это сделал нарочно, мой мальчик-красавчик, я бы съела твою печень, причём с улыбкой.
Принц Леандр вскинул глаза на Нож с внезапным волнением.
– Но ведь должен быть способ её вернуть! Он обязан существовать. Ты Ведьма. Я Принц. Во всех книгах, где есть ведьмы и принцы, такой способ имеется. – Он упёрся в край стола и наклонился ближе к старой карге: – Скажи, что делать, и я спасу её. Принцы для этого и предназначены – спасать девушек. Умоляю, пошли меня к самой далёкой ледяной шапке или на самые обширные болота. Я пойду, если это будет означать жизнь для неё.
Ведьма улыбнулась той настоящей и нежной улыбкой, какой взрослая волчица могла бы удостоить волчонка.
– Возможно. Как ты и говоришь, у принцев это получается лучше всего.
Нож притихла. Она собрала со стола тесто из муки, крови, слёз и прочего и поместила в огромную печь.
– Как ты сбежала из Дворца? – вдруг спросил Принц и приготовился слушать.
– Меня изгнали, – коротко ответила старуха, проталкивая бесформенный кусок теста на железной решетке подальше.
Леандр видел остаток истории как груды толстых пергаментных свитков в глазах Нож. Однако он понимал, что ему рассказали всё, что сочли нужным.
– Ты должен знать о зле, которое твоя семья причинила моей. Она была последней из нас, последним потомком той бедной девочки, что пряталась в углу своего шатра, пока воины убивали Звёзд. Теперь её нет, и нас больше не будет. Вот правда, которую ты можешь взять в руку, точно обожженный солнцем кирпич. Её можно взвесить и пощупать. Чтобы спасти мою дочь, ничего другого не потребуется.
– Выходит, способ есть. Что я должен сделать? – Принц устремил на неё тот искренний взгляд, на какой способны все принцы.
Ведьма фыркнула и уставилась на него сквозь полумрак, прищурив глаза.
– Её надо завернуть в шкуру Левкроты[7] в новолуние. Тогда она, возможно, хотя и необязательно, воскреснет. – Ведьма ждала ответа, но он не прозвучал. – Смотрю на тебя и удивляюсь, мальчик. Ты хоть раз бывал за пределами крепостных стен? Левкрота – ужасное чудище, что живёт посреди Зловещих болот. Он цвета запёкшейся крови, отчасти олень, отчасти конь, а по размерам – несравнимо больше того и другого; его пасть тянется от уха до уха, а вместо зубов сплошная кость. Жуткий зверь, уверяю тебя.
– Я не боюсь! – вскинулся Принц, преисполнившись желанием доказать свою смелость перед лицом опасности, стоявшей на пути к спасению прекрасной девы-птицы и восстановлению доброго имени его семьи.
– Погоди, мальчик. Ты не понял. Давай я расскажу тебе сказку о другом принце, который отправился на бой с Левкротой…
Сказка о Другом принце
Жил-был прекрасный принц, который решил вызволить свою невинную сестру из лап свирепого чудища.
Левкрота одним движением челюстей сломал ему хребет, а потом две недели носил на ветвистых рогах его голову и руки в знак своего триумфа.
Ведьма выпрямилась с удовлетворённым видом.
В Саду
Мальчик хихикнул. Он теперь прилежно сидел напротив девочки, не осмеливаясь опять к ней прикоснуться. Она тоже тихо рассмеялась в темноте. Её взгляд взмыл к ветвям кедра в вышине, чёрным ястребом метнулся к нему и снова улетел. Они теперь волновались и пугались каждого звука, боясь услышать громогласные шаги Динарзад, которая, несомненно, находилась поблизости. Не было ужина, чтобы отвлечься, лишь они двое, изнывающие от желания рассказывать и желания слушать, неловкие и неуверенные, испуганные тем, что их могут обнаружить.
В ночи, что лёгким галопом двигалась к рассвету, точно норовистая кобыла, мальчик чуть придвинулся к девочке и настойчиво попросил не останавливаться.
Девочка глубоко вдохнула и продолжила; её голос был подобен колыханию ивовых ветвей над водой тёмного озера.
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
Когда Леандр в утренних сумерках покидал хижину, Ведьма одарила его многозначительной ухмылкой и поцеловала в щёку жесткими губами. Это был неловкий жест, и он не смотрел ей в глаза. Но рука старухи коснулась его руки и размотала повязку из листьев, скрывавшую обрубки. Принц был не слишком удивлён, когда увидел, что они полностью зажили, затянулись новой розовой и тёплой кожей, аккуратно обтягивавшей костяшки пальцев; не осталось ни крови, ни рубцов.
– Трава и листва, – сказал он с улыбкой.
Ведьма подмигнула.
Принц покинул её, наконец узнав, в чём заключается его Подвиг. Он пустился в путь через высокие горы с вершинами, тронутыми снегом, как бороды мудрецов сединой. И так до самого моря, что раскинулось перед ним, гладкое, будто платье. Его не пугали трудности, ведь он как-никак был воином, хотя Подвиг оказался утомительнее, чем он предполагал.
Например, Принц не догадывался, сколь важную часть Подвига составляет простая ходьба. Он шел, пока не сносил три пары сапог, проклиная отсутствие лошади. Ему пришлось топать через всевозможные ландшафты, от сырых болот до уютных ферм и горных ледников. И нигде, ни в одном посёлке его не встретили с радостью. Никто восторженно не кричал, что Принц почтил деревню своим присутствием – что за честь видеть вас, сир! – никто настойчиво не приглашал его за праздничный стол – только лучшее из нашего урожая для вас, сир! – никто не умолял усладить его слух песней о его приключениях – ой, расскажите же нам об ужасной Ведьме, сир!
Его почти не замечали: трактирщики были угрюмы, трактирщицы молчаливы и немолоды; молочницы не отличались дружелюбием, их бёдра были широченные, а сами они казались прилипшими к бокам своих коров. Через некоторое время Принц и сам не особенно отличался от самого нищего крестьянина – весь в глубоко въевшейся грязи, лицо кислое, как у священника во вторник, и без надежды раздобыть хорошую обувь. В общем и целом происходящее ничуть не походило на то, чего он ожидал.
Однажды вечером, когда солнце на западе подсчитывало дневное золотишко, Леандр нырнул в прибрежную таверну в северной части страны, над дверью которой висела странноватая вывеска – огромный кулак, крепко сжимающий рыбу. Он положил на стойку несколько монет и с наслаждением расположил натёртые ноги на влажном полу. Глотнул горького разбавленного эля, отдававшего кожей и тёплой желчью. Местечко было мерзкое, с десяток тёмных личностей в капюшонах поглядывали на него из куда более чем четырёх углов. Хотя в этом истории были правдивы: Незнакомцы с Сомнительной Репутацией наличествовали в изобилии, как белые барашки на морской глади.
Трактирщик, настоящий громила, выглядел так, словно некий гигант соорудил его из сваленных в кучу частей тела. Он размахивал толстой тряпкой, как мечом, и ржавое железо его глаз бросало вызов любому, кто заказывал выпивку. Его волосы были цвета песчаных отмелей, на которых застревали корпуса кораблей, ладони походили на барабаны. От него несло ламповым маслом и морской водой.
Он бросил на Леандра косой взгляд из-под тяжелых век и ничего не сказал, когда молодой Принц скривился, отведав содержимое кружки. Привередничать по части местной выпивки не хотелось, но пойло было столь мерзкое, что его лицо исказилось само собой. Трактирщик помрачнел и сплюнул. Леандр устал от бесцеремонного приёма, коим его удостаивали в разных унылых городишках, и воззрился на трактирщика.
– Ты знаешь, кто я такой?
Верзила за конторкой принялся разглядывать деревянную столешницу.
– Да, – буркнул он, – но не рассчитывай, что это даёт тебе право на лучший эль.
Принц закатил глаза.
– Я не поэтому спрашиваю, добрый человек. Твой эль, – ему пришлось подбирать подходящие слова, – хорош, как колодезная вода в моём доме. Но все, кого я повстречал, пустившись к Зловещим болотам, были грубы со мной, а у меня осталось очень мало времени, чтобы найти то, что мне нужно. Если бы горожане относились ко мне добрее, улыбались, кланялись и указывали дорогу, как указатели на пыльной обочине… Но они этого не делают. Я догадался, что ты знаешь меня, но ты ничего не сказал и не предложил свою помощь. Почему?
Мужчина пожал плечами, и его тело содрогнулось, будто сдвинулись континенты.
– Я знаю кое-что, чего не знают обычные люди. Они, скорее всего, не отличат тебя от королевской коровы. А если отличат… – Глаза трактирщика сверкнули, как корпус корабля в утреннем свете. – Сказать, что твоего отца здесь не любят, – ничего не сказать. Они бы пожелали вытрясти уплаченные налоги из твоей шкуры, если бы знали, что из этого выйдет толк. Они бы пожелали забрать назад детей, что исчезли в башне волшебника. А если не получится, они бы пожелали убить тебя в качестве расплаты. И я бы не стал им препятствовать. Тебе лучше оставаться неизвестным. Ты ужасно далеко от дома. Что здесь значит твоё имя, кроме указания на чужака-тирана? Не говоря о том, что у нас, крестьян, нет привычки помогать странным путешественникам. Мне бы больше пришлась по нраву собака с родословной вроде твоей, смекаешь? И я сказал тебе больше слов, чем всем посетителям за месяц, так что намотай их на ус и скатертью дорожка.
Сбитый с толку Принц повертел в руках кружку. Он уже начал привыкать к унижениям и к тому, что все делали из него дурака. Разумеется, это тревожило, но демонстрировать свою смелость и хорошие манеры прямо здесь не стоило.
– Но ты хоть скажешь мне, где найти Зловещие болота? Боюсь, я заблудился. И, – Леандр сглотнул, точно пойманная форель, – не знаешь ли ты сапожника, который продаст хорошую пару сапог?
Трактирщик взглянул поверх испачканной элем стойки на принцевы пальцы, выглядывающие из поношенных ботинок, как черви из мешка с наживкой. Он снова фыркнул.
– Когда-то, будучи ещё молодым, я отправился на болота. Я расскажу тебе историю, если ты уберёшься прочь отсюда.
Широкоплечий мужчина выпрямился, словно ребёнок, отвечающий урок. Когда он начал свою историю, его голос сделался глубоким, точно шум прибоя, а слова стали чёткими. Принц замер – к этому моменту он сделался отличным слушателем.
– Звать меня Эйвинд. Ты это имя точно не слыхал…
Сказка Трактирщика
В дни своей юности я был медведем. И нечего глядеть на меня разинув рот! В моих краях, что лежат так далеко к северу, как пустыни – к югу, много медведей. Вся моя земля покрыта снегом и населена гордым племенем медведей с бледной шерстью, которые правят хорошо и мудро. Когда мы шли по льду, напоминали волну, исчезающую прежде, чем пена коснется берега.
Я был одним из белых медведей, и очень счастливым. Я любил медведицу, а она была лучшей из наших рыбачек: могла опустить шелковистую лапу в стремительный поток с тающего ледника и выловить двадцать лососей разом, удерживая их, как букет полевых цветов. Её большие и тёмные глаза танцевали, словно огни, часто расцвечивающие ночное небо. Она была новичком в астрологии, но уже легко читала Звёзды, точно буквы. Когда она вставала на задние лапы, делалась выше, чем я.
В Стране Нетающего Снега наши дни проходили просто, за рыбной ловлей или охотой, рычанием медвежат и наблюдением за Звёздами. Мой народ всегда был народом великих астрологов, хотя вы, люди, редко к нам обращались. Иногда, всего один раз за много лет, собиралась Медвежья Конгрегация.
И вот её созвали в тот день, когда я и ещё несколько молодых медведей хотели объявить, кого мы выбрали себе в пару. Такие вещи зависят от движения Звёзд, нужно получить одобрение Конгрегации. Тюлений жир разложили блестящим ковром вместе с большими ломтями лосося, что розовее лапы медвежонка, которому час от роду. Сотни белых лис забили в честь Звёздных божеств, и я сделал из их шкур плащ для приношения.

Медвежья Конгрегация – то ещё зрелище. Медведи приходят со всех ледников, как ожившие куски льда, их глаза светятся ярче шкуры тюленя в холодной воде. К тому моменту, когда все прибыли, Звёзды уже засияли сквозь прорехи в небесном занавесе. Я поклонился им. Полезно быть вежливым, когда собираешься просить об услуге. Кроме того, я хотел убедиться, что они одобрят мой выбор – как-никак она была гордостью Страны Нетающего Снега.
– Звёзды шепчут на своих небесных плавучих льдинах, – начал один медведь.
– Да будут благословенны небесные охотники, – ответил я.
Всё это ритуалы. Никто не произносит слова, которые не звучали тысячу тысяч раз, даже первое повторение в этом ряду было лишь отзвуком однажды сказанного.
Все заняли свои места и с удовольствием стали пожирать тюленью плоть.
Когда мои соплеменники насытились и принялись кататься в снегу, большой косматый медведь выступил вперёд. Я знал его, это был Гунде, самый свирепый из нас.
– Звёзды шепчут, брат. Великий ужас случился далеко на юге. Красный летний пожар, что зовётся Острогой-Звездой, поведал мне. Одну из его сестёр… убили. Она была Змеёй-Звездой, прекрасной и зелёной, теперь она мертва.
Медведи издали жуткий скорбный вой, пронзительный, как костяная игла. Я содрогнулся.
– Мы рыдаем о нашей небесной тётушке, скорбим о хрупкой плоти. Это недобрый знак. Форма Звёзд искажена – знаки Чёрного Тюленя и Карибу-Окруженного-Волками совместились. Большая Лапа ретроградная. Мы изучили все знамения. В это тёмное время никому не позволено брать себе пару, настала пора скорби для всех, кто любит Звёзды. Нам жаль, братья.
Я завыл протяжно и низко, точно засыпанный снегом рог. Разве справедливо, что чья-то смерть в лесу лишила меня возлюбленной во льдах? Я запустил когти в мерзлоту.
– Возможно, через год, когда Созвездия снимут свои чёрные и серые вуали… – Гунде хотел успокоить меня, но я слышал ложь в его нежном рычании. Ведь Звёзды всё время скорбят. Они отняли у меня невесту раз и навсегда. Ничто не заставит их изменить своё решение. Как нас учили давным-давно, Звёзды не могут сойти с орбит.
– Мне нет дела до мёртвой змеебогини, – Медвежья Конгрегация ахнула от моего богохульства. Никто, кроме разгневанного меня, не смог бы махнуть мозолистой лапой на всю их братию. – Если вы не отдадите мне суженую, я заберу её, и мы отправимся к другому морю, где у Змей и Звёзд нет власти.
Позади меня раздались мягкие шаги. Сначала я услышал льдистый запах её шкуры, а потом увидел её чистые чёрные глаза, которые смотрели на меня с жалостью.
– Нет, – прошептала она, и её голос был как скольжение медвежонка животиком по льду. – Ты думал, что я провожу свои дни глядя на лёд? Я вижу небо, как все медведи, и лучше некоторых. Я видела, что знак Лисы-Которую-Трудно-Поймать опустился за горизонт раньше времени, а Луна потемнела словно китовая кровь на леднике. Потом, когда Нож Охотника взошел на юге, я знала, что тучи полны скорби. Этому не суждено случиться, Эйвинд. И более того – Сброшенный-Рог в Третьем Доме – у тебя не будет пары ни сейчас, ни потом. Ни со мной, ни с кем-то другим. Что написано, то нельзя стереть. Улыбайся, как сможешь, охоться со мной и рыбачь, но не проси идти в твою берлогу. Ты можешь проклинать Звёзды, а я не стану.
– Прекрасная бестия, избранница моего сердца! – Я плакал открыто, на виду у всех воинов, не в силах поверить, что мне отказано в том, что предназначено быть моим. – Нет, – воскликнул я, – я не стану улыбаться. Отправлюсь в южные леса и отомщу за смерть сестры-Звезды, змеебогини. Я исправлю зло, причинённое её священной плоти, и заслужу благосклонность Остроги-Звезды, Пронзающего-Подшерсток-Светом-Своим. Он даст мне мою невесту. Я сражался в тысяче битв с яростными волчьими стаями, эту битву тоже выиграю. Я одержу победу!
Моя любовь лишь покачала большой белой головой и тяжело ушла прочь по снегу.
Я немедленно оставил суетливую толпу на льду, ничего не взял с собой. Я ни разу не взглянул на Звёзды, чтобы получить напутствие; не услышал протесты своих братьев, не увидел слёзы моей яркохвостой подруги, что падали, как первый снег на замёрзшую землю. Я думал, что знаю правильный путь. Он простирался передо мной так уверенно и прямо, что я не удержался и ступил на него. Мои лапы нашли его с лёгкостью, потому что всё это, видимо, было написано давным-давно. Отчего же ещё могла умереть змеебогиня, кроме как ради моей мести за неё?
Как ты уже понял, я был очень глупым медведем.
Я отправился в путешествие на юг, в сторону от ледников, которые никто из моего рода раньше не покидал. Я ел лососей из стремнины, перевязывал свои лапы, когда они кровоточили от неустанной ходьбы, и всё время молчал, потому что было не с кем говорить. Во тьме ночей я смотрел, как Материнское-Молоко мерцает белизной на небе, извиваясь меж Звёзд, будто размотанная нить.
Мир обширнее, чем медведь мог себе представить. Он пожирает расстояния, как голодный медвежонок. После полного цикла луны мне было трудно понять, отчего вокруг не полыхающие джунгли Южных Королевств, почему солнце не налилось краснотой, а Звёзды не сложились в созвездия, о которых ходили легенды: Скорпион, Лев, Змей. Я всё ещё шел сквозь холодные ветра и горы, похожие на сломанные зубы. Если так пойдёт и дальше, моя любовь станет бабушкой с серой шерстью и серыми зубами раньше, чем я смогу назвать её своей.
Когда луна стала полной в третий раз с того времени, как я пустился в путь, и плыла по небу словно огромный кит, раскрывший все плавники и сияющий, земля и впрямь внезапно переменилась. Она стала влажной и полной зелёных штуковин; вода бежала свободно, ленивыми потоками янтарно-травяного цвета. Я был не из этого мира. Моя белая шерсть выделялась, как прореха, в зелёной ткани холмов. Повсюду рос высокий тростник, тонкий и золотистый, длинные ужи шныряли в воде. Я видел большие рощи тамаринда с шишковатыми красными корнями и кипарисы, что касались неба своими ветвями; шиповник и куманику, похожие на длинные женские волосы. Водяные птицы опускали клювы в блестящие ручьи, их перья сверкали, как нетронутый снег.
Я знавал лишь чистую, безупречную белизну моего дома, бледный горизонт, продолжавшийся до бесконечности. Зловещие болота превосходили всё, с чем мне приходилось встречаться ранее. Я уже чуял тяжелый сырой запах тех штук, что росли под землёй, извиваясь; мягкое прикосновение дождя и фрукты на ветвях. От страха и с непривычки моя шкура пошла волнами.
Пока я стоял, утопая лапами в грязи, большая водная птица отделилась от стаи и запрыгала ко мне, то переступая ногами-палочками, то взмахивая крыльями. Она была ярко-зелёной, цвета травы вокруг; некоторые её перья имели до того густой оттенок, что казались почти чёрными. Глаза серые, как внезапный ливень. Клюв загибался книзу, будто скимитар, и был таким же острым. Птица была такой яркой, наряженной в цвета неба, с которого сбежало сияющее солнце, что мне пришлось сощурить глаза, и так уставшие от многоцветья.
Птица резко остановилась поблизости, распахнув большие крылья и топнув ногой. Я чуял её плоть, точно солёную рыбу и плодородную землю.
– Должен признаться, – непринуждённо начала птица, – и впрямь курьёз. Мне придётся послать за Чудищем! Такое не держат в секрете, это грубо. Эй, ты, хватит стоять и таращиться, будто только что вылупившийся птенец! Можешь присоединиться к завтраку, во время которого мы обсудим, как с тобой поступить.
Бессвязно бормоча, я бросился за птицей, подымая тучи брызг – илистая зелёная вода доходила мне до колен. А она уже неслась далеко впереди, пересекая болота своим странным полулетящим шагом.
– Подожди! – позвал я, и мой голос пророкотал над трясиной, испугав цикад и зимородков.
– Ждёшь-пождёшь, воды не наберешь, дождь пройдёт да засуха придёт! – пропела большая цапля, бросив взгляд через плечо, и понеслась ещё быстрее. Мой спутник выглядел зелёно-голубым пятном, я за ним не поспевал.
Когда я остановился, еле дыша, а моя шерсть вся намокла от пота, увидел массивный холл из кривых тамариндов, ветки которых переплелись, создав крышу из листвы; в дверях расслабленно стояла цапля.
– Неужели тебе удаётся поймать хотя бы мышку, Эйвинд? Ну честное слово! – И она нырнула внутрь, оставив меня в растерянности от того, что моё собственное имя прозвучало из уст чудно́го создания.
Маленький обеденный сервиз из рогоза и ивовых корней стоял на столике в комнате, которую любой джентльмен с гордостью назвал бы своей. Тамаринды переплелись так, что вышло три кресла, бесчисленное множество шкафчиков, столов и витых лестниц, которые исчезали в туманной дымке, нависавшей над комнатой в точности там, где должен был располагаться потолок. Я не верил, что помещусь в маленьком холле, но он будто подстроился под меня – я и глазом моргнуть не успел, как красноватые ветви со скрипом зашевелились и соорудили длинный помост, в самый раз для меня.
– Мои тамариндики такие внимательные, – с любовью сказал хозяин дома и, погрузив клюв в маленькую чашечку, начал с удовольствием пить. Я рухнул на ароматное ложе с тяжелым вздохом; мои мышцы горели, точно ламповое масло. Только теперь я заметил, что мы не одни.
Огромное создание цвета запекшейся крови спокойно стояло в углу, уткнув морду в большую миску из дубовых листьев. Дальняя часть холла поднималась вверх и раздавалась вширь, чтобы вместить его. Красные рога этого существа жутким образом переплетались, и, пока оно прихлёбывало чай, я разглядел, что его зубы – и не зубы вовсе, а яркие валики из твёрдой кости.
– Чудище! Он тот, о ком говорил наш брат! Разве не потрясающе, что он пришел прямо на моё Болото?
– Да, ваше величество, – ответил алый монстр мелодичным голосом. В его глазах плясал смех, как осенние листья на воде. – У нас и впрямь редко бывают такие… августейшие гости.
– Величество? – спросил я, не в силах представить себе королевство, которым правила эта птица.
– Разумеется. Я Болотный Король. А это Чудище у меня вроде придворного, если хочешь знать. Печально, когда у короля всего один придворный, но он хорош.
– Вы так добры, ваше высокопреосвященство, – напевно произнёс монстр, и в его тоне чувствовался легчайший намёк на безобидное ёрничество.
– Не благодари, дорогой друг! Итак, нужно заняться делом, поскольку времени мало.
К этому моменту я был так озадачен, что не мог ничего сказать. Но я вынудил свой язык зашевелиться в сухой пещере рта:
– Откуда ты знаешь моё имя? Кто такой Брат, о котором вы говорите? Я не понимаю.
– Никто не ждёт от тебя этого, добрый малый! – заверил меня Болотный Король мягким, заботливым голосом. Чудище подмигнуло мне багровым глазом. Король продолжил: – Вы созываете свои собрания, а у богов есть свои. Мой брат, Острога-Звезда, явился к нам в гости несколько месяцев назад и сообщил о твоём приходе. Сиди тихо, и я расскажу тебе о его визите.
Сказка Остроги-Звезды и Цапли
Там, где ступал Лаакеа Острога-Звезда, болотная трава превращалась в уголь. Запах подгоревшего хлеба и медной стружки возвестил о его прибытии задолго до того, как над одним из холмов показалось зарево. Его свет расходился кругами, и всё вокруг вскипало, покрывалось горелой коркой и шипело. Каждый его шаг по Великому Болоту порождал струйки пепла, и лягушки да ужи разевали рты в безмолвном ужасе, когда срывавшееся с его пяток пламя задевало их слизистые тела. Я сначала услышал песню травы, исходящей паром, а потом увидел своего брата – миновало много лет с той поры, как он в последний раз прерывал свою одинокую охоту, ибо Лаакеа выслеживал луны, как иные охотники – быстрых оленей с серебристой шкурой.
Ты ведь простишь меня за цветистые фразы? Члены нашей семьи и впрямь очень любят, когда превозносят их красоту. Тщеславие – привычка древняя и почтенная.
Он, разумеется, был белым: Звёзды вроде него – маленькие и горячие – всегда белые. Его волосы струились свежевыстиранным полотном, длинные и прямые, до самой талии, а кожа была цвета бледнеющего горизонта, того же оттенка, что бумага, превратившаяся в пепел. За плечом у него висело большое копьё в чехле из кожи белой змеи, золотые глаза трепетали под бесцветными ресницами. Он ходил босым; в общем-то, на нём не было одежды, кроме белой повязки на узких бёдрах, украшенных замысловатыми татуировками, символами языка Звёзд. Чернила этих отметин были странного серебряного цвета и проступали, только когда к ним прикасался стелющийся болотный туман.
Я неловко обнял брата, который вошел в мой холл, превращая каждую щепочку в небольшой пожар. Ра-зумеется, мне не хотелось, чтобы сгорели мои тамариндики, но явившимся в гости родственникам следует оказывать должное внимание. Как заведено, я попытался начать приятную беседу и предложил ему выпить, но он отказался.
– У меня новости, и они не могут ждать. Ты хоть раз позволишь мне сказать всё, что надо, не прерываясь?
Я залился румянцем от смущения, но продолжал вести себя с достоинством и элегантностью. Приготовившись слушать, с удовлетворением подумал о том, что Чудище в тот момент занималось одним из Принцев, что временами навещают наши владения, так что Лаакеа никто не помешает рассказать свою историю. Он не очень-то любил Чудище – Звёзды обращают внимание лишь на себе подобных. В любом случае, они до жути педантичные создания, Чудище заскучало бы.
Лаакеа снял копьё со спины и тяжело вздохнул – кроны деревьев зашелестели от его голоса, точно бегущие мимо луны облака.
– Произошло ужасное – человек убил нашу сестру, Змею-Звезду с юга. – Он явно ждал моей реакции, но чёрный Ибис-Эмир уже побывал в северных землях, чтобы поведать мне о её смерти и пролить большие сапфировые слёзы в мои ладони. Увидев, что я не удивлён, Лаакеа продолжил: – Я поздно понял, что она слишком задержалась в проклятом королевстве, той больной земле с гнилостными ветрами и башнями, что царапают небо железными когтями…
Сказка Звезды
Должен признаться, я был слишком поглощён охотой, ибо преследовал великую редкость – Жар-Птицу, которая должна была стать свадебным подарком для моей бедной, несчастной сестры… Так вот, я выслеживал птицу в холмах и долинах, изрезанных реками. Ты знаешь, как мы любим то, что искрится и сияет. Нам кажется, что оно может вернуть что-то другое, давно утраченное.
Жар-Птицы любят красные фрукты, и я надеялся приманить её багровыми семенами, собранными с иксоры, пустынного факельного древа, – их нелегко добыть, но это любимое лакомство Жар-Птиц, яркое и мягкое, как вишня, с косточкой из кремня и кресала; из-за них и вспыхивает новое дерево. Говорят, некоторые Жар-Птицы даже гнездятся в ветвях этих деревьев и возвращаются к ним, чтобы отложить яйца в пепел, как лососи, плывущие вверх по реке.
Я поджидал добычу в солончаках, что граничат с пустыней, которая называется Пороховая бочка, и иксоры горели в ночи, согревая небо, пока солнце пряталось под землёй. В сумерках их оранжевые ветви мерцали, пощёлкивали и искрились, как походные костры, разведённые тысячами солдат. Жар-Птиц не было видно, однако меня это не тревожило: они скрытные, а факельный лес велик. Я несколько недель выискивал деревья, которые угасали и умирали, чтобы собрать переполненные соком ягоды, остававшиеся после них; просеял мёртвый пепел, но не нашел ни одного пламенеющего яйца.
Наконец, я засеял соль вишнёвыми семенами, яркими, точно капли крови. Определённо, Жар-Птица должна была ринуться вниз, чтобы схватить их своим бронзовым клювом.
Я ждал три ночи, но она не появилась. На третью ночь я и сам о ней забыл: на равнине появилось жуткое видение, которое вытеснило из моего разума мысли о добыче.
Три горничные нашей сестры – ты, разумеется, знаешь их, они были милыми девочками с нефритовыми травяными змейками и изумрудными гадючками в волосах – шли по песку, спотыкаясь и держась друг за друга, чтобы не упасть. Их жреческие одеяния свисали с худых тел, точно разорванные в клочья гигантскими когтями. Я отвернулся, чтобы не смущать молодых женщин – их нагота была едва прикрыта, а кожа цвета молодой листвы сделалась алой, обгорев на солнце пустыни. Они стонали и жалобно кричали, мучительное эхо отзывалось из всех окрестных каньонов. Поначалу я решил, что они кричат от боли, но то была похоронная, поминальная песнь. Они схватили меня и заставили повернуть лицо, взглянуть на их позор.
Брат, они выглядели ужасно – вряд ли я смогу тебе описать, на что были похожи их лица, покрытые ранами, которые переходили друг в друга, точно узоры на гобелене. Но даже этого показалось мало мужчинам, осмелившимся тронуть их священные тела: языки жриц были вырезаны грубыми ножами, остались только воспалённые обрубки, коих недостаточно, чтобы произносить слова. Одна из сестёр взяла у другой некий странный предмет и засунула в свой опалённый солнцем рот.
– Брат-копьеносссец, – прошипела она, – нашшшу госсспожу убили, она мертва, её больше нет. Люди, которые отняли у неё жизнь, сссделали ссс нами это. Они сссвинодемоны, их раздвоенные копыта изувечили наши тела. Мы шли пешком от сссамой её могилы, чтобы отыскать кого-то из её сссемьи. Умоляем, подари нам сссмерть, чтобы мы не ссстрадали дольше, чем необходимо для передачи поссслания.
Я с ужасом глядел, как вторая дева-жрица вытащила предмет изо рта своей сестры и засунула в собственный.
– Мы прошли долгий путь, чтобы найти соплеменника, который ссснимет бремя знания с наших плеч. Мы не можем совершить сссамоубийссство, тебе придётся нам помочь. Но взамен мы поможем тебе. Мы ясссновидящие, знаем, что будет, и видим течение времени – оно точно вода, которую переливают из одной чашки в другую. Ты должен отправиться на север и предотвратить свершение мести руками того, кто помешает воплощению замысла нашей госсспожи, кто сотрёт её священный труд лишь для того, чтобы написать сссверху своё имя. Она умерла и воссстала – в своей неуклюжести он лишит её этого, отнимет у тени последнее.
Она вынула кусок розовой плоти изо рта и передала последней сестре.
– Священные провидицы, что за бесформенную вещь вы передаёте изо рта в рот? – спросил я с содроганием. Работала такая ужасная магия, что я едва осмелился заговорить. Звёзды дают предвидение тем, кто привязан к земле, мы же не вмешиваемся в будущее. С чего вдруг моей сестре понадобилось нарушать традицию?
– Мы украли его у Васссилиссска, – жалобно прошептала третья провидица, – это язык, так что мы можем говорить и передать тебе предупреждение. Следовало ли нам справиться с тремя монссстрами? Мы сссёстры, мы делимссся друг с другом.
Третья сестра, определённо, была старшей и самой лучшей провидицей. Она закрыла свой единственный глаз и, не меняя интонации, произнесла пророчество, ради которого им пришлось пройти такой долгий путь.
– Ты должен отправитьссся к Болотному королю. Существо из ссснега и когтей придёт к нему, умоляя отомстить за нашу госсспожу, чтобы заслужить право на твою услугу. Ему нельзя позволять ссследовать этим путём. Змеи сссами ссспособны за себя постоять: ей не нужна помощь животного. Если он встанет на её место, её смерть будет напрасссной – его дорога должна уйти в сссторону от её дороги, так мы видим. Он лишь сделает её смерть напрасссной. Изгибы её тела ещё шевелятся, и Подвиг этой твари разрушит всссе планы. Ты понимаешь, Брат-Копьеносссец?
Я выразил своё согласие традиционно, прижавшись лбом к её лбу и принимая их груз. После этого все три одновременно рухнули на песок, и их падение было не громче падения змеиной шкуры на дюны. Они сильно потускнели: голод, солнце и горящие леса высосали из них почти весь свет. Язык Василиска выкатился изо рта третьей сестры и упал на горячее золото земли. Их глаза закатились, рты беззвучно воззвали ко мне, и я хорошо понимал их просьбу.
Но я не мог сделать того, что они просили, – это и птице понятно. Смерть – стена, за которую мы не смеем заглядывать, и никогда раньше одна Звезда не убивала другую. Я не стал бы первым, кто лишил жизни соплеменника.
Взамен я собрал с песка вишенки, похожие на капли крови. К чему они были мне теперь? Моя сестра не смогла бы полюбоваться на полыхающее разноцветье Жар-Птицы. Я перенёс женщин и плоды в лес факельных деревьев и уложил под сенью иксор. Отсветы их пламени ложились на лица жриц – наверное, так они сами светились, когда моя сестра взяла их к себе.
Я поочерёдно вонзил своё копьё в ствол каждого факельного дерева. Кора у них была почти чёрная и жесткая, отвердевшая из-за постоянного горения. Но внутри они пустые, там ничего нет, кроме пепла и тонкой жилы с кипящим соком, потому что деревья пожирают самих себя. И, только спалив всё без остатка, дают плод, ценное семя, и умный садовник поймает его в полёте ещё до того, как дерево рассыплется белым пеплом, чтобы оно не взорвалось и не сгорело впустую, упав на жесткую почву пустыни.
У меня был целый мешок этих своенравных маленьких штуковин, незачем ждать, пока умрёт иксора. Я осторожно вытащил из влажной мякоти фруктов косточки-огнива, словно извиняясь перед высоким деревом, – пусть на его месте вырастут целые джунгли. С той же аккуратностью я разрубил пролегавшую под толстым слоем пепла жилу с соком и полил жидкостью, похожей на расплавленный воск, раздавленные красные вишни.
Эту смесь я вложил в рот каждой из трёх провидиц, а потом – прости моё высокомерие, брат Цапля! – рассёк собственную руку и добавил в обжигающее лекарство свет моего тела. Для нас нет более святой жидкости, и я не знал, что ещё могу для них сделать.
Прошло много часов, прежде чем они смогли сесть, а моя рана почти исцелилась. Они не поблагодарили меня, их лица были черны от отчаяния, но змейки в волосах потянулись ко мне и зашипели мелодично и умиротворяюще. Сполна испив чашу скорби, провидицы двинулись прочь в пустыню, мимо деревьев, шатаясь и поддерживая друг друга. Проходя мимо кучки семян, самая молодая пнула её, и семена превратились в череду вспышек и облако густого дыма.
Сказка Остроги-Звезды и Цапли (продолжение)
Он закончил свою историю.
– Ох! – воскликнул я. – Бедный Василиск! Он что же, лишился языка? Какая горестная участь! На прошлое равноденствие я посетил его пещеру, и он так красиво пел.
Лаакеа бросил на меня суровый взгляд, ясно давая понять, что неожиданный поворот в судьбе моего друга Василиска его совершенно не волнует.
– Ты понял, брат Птица. Когда существо явится сюда, останови его.
– Как же я могу остановить того, кто вознамерился совершить Подвиг? Чего ты от меня ждёшь? Нарушения правил гостеприимства?
Лаакеа фыркнул:
– Мне всё равно. Убей его. Запри в стволе дерева. Я верю, тебе хватит мудрости. Нам пора прощаться. Я многим пренебрёг, отправившись на твоё болото, – мне следует посетить погребальную церемонию нашей сестры.
– Негоже кому-то из нас вмешиваться в то, как люди вершат свои Подвиги. Они любят этим заниматься – Подвиги для них столь же ценны, как и собственные сердца.
– А кто сказал, что речь о человеке? – отозвался Лаакеа с видом заскучавшего ребёнка.
На этом облачённый в белое брат покинул мой дом и, вновь опалив траву, отправился на юг – пар стелился за ним как вуаль, но вскоре рассеялся, будто воспоминание, и Звезда исчезла из вида, а отзвуки её шагов затихли.
Сказка Трактирщика (продолжение)
– Юный друг, ты видишь, в чём моя дилемма, – Болотный король забавным образом скрестил ноги-тростинки. – Я ни в коем случае не могу позволить тебе довершить задуманное. Ничего личного, разумеется. Пусть женщины сами вершат своё возмездие. Тех, кто вмешивается, редко благодарят – взять хотя бы историю моего дорогого Остроги в качестве примера! Так вот… Я полагаю, не стоит и надеяться, что тебя можно убедить поскорее отправиться домой и сделаться отныне и вовек хорошим медведем?
Я поёрзал, еле сдерживая рыдания.
– Не могу же я просто сдаться! Я пойду дальше, будь твой рассказ правдой или нет. Если Звезда замыслила возмездие из могилы, быть может, она подарит мне мелочь, о которой я прошу. Неужто боги всё это устроили, чтобы лишить меня подруги? Разве супружество – ужасная вещь?
– В общем-то весьма незначительная вещь, – мягко проговорил Болотный король. – Боги, если ты желаешь их так называть, ничего не устраивают. Просто мир – ворох карт, которые тасует судьба, и мы с тобой мало что можем сделать, когда она разбивает колоду. Нужно научиться принимать поражение с достоинством. Ведь существует и благородное слово «долг».
Я топнул в гневе, и ветви холла взволнованно заколыхались.
– Должен быть выход! Я намерен совершить Подвиг! Его нельзя просто так прекратить! Надо победить или проиграть, он не обрывается внезапно!
– Я верю, что ты, скажем так, начинаешь понимать. Я вижу, что тебе трудно признать свой проигрыш. Дело в том, что Подвиг – не свойственная твоему племени вещь. Моему тоже, если на то пошло. Подвиги для людей, это их изобретение, чудовищное баловство, пристрастие. Они навсегда сделали его своим. Каждый твой шаг, дорогой Эйвинд, обкрадывает людей, лишая их сокровища, доставшегося весьма дорогой ценой. Очень печально, что лишь Подвиги придают их жизни какой-то смысл. Они вообще – печальная раса. Нам стоит поплакать о них, но не сильно. И мы уж точно не должны перенимать их смехотворное пристрастие к самоубийственному поведению. Я придумал способ, позволяющий не дать тебе достичь краёв, где погибла моя сестра, и одновременно дающий маленький шанс на получение желаемого. Я превращу тебя в того, кем должен быть отправившийся на Подвиги, – в человека.
Я разинул рот. От ужаса моя шерсть встала дыбом и пот увлажнил мои большие белые обвислые щёки.
– В человека? За что мне такое наказание?
– Это не наказание, несчастное чудище, – усмехнулся Болотный король. – Ты отправился совершать Подвиги, взялся за вещь, которую делают только люди, – как правило, неимоверно глупые. И потому ты должен стать человеком, если хочешь и дальше следовать по этому проклятому пути. Если вдуматься, всё просто и прелесть как гармонично. И человек – не самая кошмарная форма, в которую можно перевоплотиться.
– Но если я стану человеком, Змея-Звезда не будет меня слушать: Звёзды сторонятся людей, прячутся от их пота и вони. Я больше никогда не увижу свою возлюбленную! Она сама убежит от меня, приняв за охотника. Я не смогу этого вынести…
– Ох, успокойся. Я не говорил, что это навсегда. Знаешь, тебе стоило бы подумать о том, что подруга не так уж обязательна для выживания. Погляди на нас с Чудищем! Мы беззаботные холостяки и вполне счастливы, нас ничуть не беспокоит отсутствие в этом доме больших и важных медведиц.
Тут Чудище отвлеклось от тихой игры с самим собой в триктрак из кусочков коры.
– Ммм? О, да, мы вполне счастливы. Только мухи, знаете ли… Его высочество временами переходит к весьма беспорядочной диете – нужен крепкий желудок, чтобы смотреть на такое.
Он вернулся к партии, которую вёл с азартом, но определённо проигрывал.
– Что ж, – Болотный Король вежливо щёлкнул клювом, – как бы там ни было, ты пробудешь человеком относительно короткий период. Я уже обсудил этот вопрос в деталях с некоторыми малыми Звёздами – белыми карликами и прочими. Я упакую тебя в человечью кожу туго, как в перчатку, пока, – тут он театрально прочистил длинное голубое горло, – девственницу не проглотят целиком, море не станет золотым, а святые не отправятся на запад на крыльях яиц, не знавших наседки.
– Во имя Звёзд, это ещё что такое? – ахнул я.
– Не имею ни малейшего понятия! Великолепно, не так ли? У оракулов всегда получаются лучшие стихи! Я лишь повторил то, что мне сказали, – довольно невежливо с твоей стороны ожидать помимо магии и пророчества ещё и разъяснений. Ты просишь слишком много, пусть даже у Короля. – Он разволновался, от возмущения его перья переливались фиолетовым. – Просто смотри в оба, только и всего. Море превратится в золото. По мне, такое не пропустишь. Скорее всего. Хорошо, что знаки столь очевидные. По-моему, ты должен быть благодарен. Теперь стой смирно, и давай-ка займёмся делом.
– Постой! Я ещё ни на что не согла…
Я хотел протестовать, но обнаружил, что мой язык больше мне не подчиняется: он сделался коротким пеньком и прилип к нёбу. В ужасе я взглянул на свои могучие и красивые лапы и увидел эти несчастные ступни цвета теста, покрытые неопрятным пухом, смехотворным образом торчащие из нижней части худых ног. Одним прикосновением крыла Болотный король превратил меня в урода – и, без сомнения, в человека.

Однако монарх и сам переменился. Он теперь был не высокой царственной птицей с внушающим уважение и трепет размахом крыльев, а согбенным стариком с длинной бородой, которая переливалась всеми цветами трясины – зелёным, коричневым и серым солончаковым. Чем-то он походил на рыбу, с землистой влажной кожей и широким тонкогубым ртом.
– Что это? – пробубнил я, изо всех сил ворочая никчёмным языком.
– О чём ты? Прости, конечно, мне следовало объяснить. Когда ты был животным, я принял сообразный облик благородного животного. Теперь ты человек, и я кажусь тебе лицом преклонного возраста: к подобным мне твои соплеменники испытывают уважение. Я оказываю тебе любезность. Можешь не благодарить.
– А как же Чудище? – беспомощно спросил я. Тварь с алыми копытами была совершенно такой же, как раньше.
– Чудище – оно всегда Чудище, – ответил монарх скучающим голосом, в котором чувствовалась нежность.
Услышав своё имя, придворный задиристо мотнул головой.
– Просто Чудище, – заверил он.
Болотный Король встал и выпроводил меня за дверь с видом хозяина, который внезапно понял, что лишь один гость отделяет его от уютной постели.
– В путь, Эйвинд, мой мальчик, – ха-ха! Ты ведь теперь и вправду мальчик! Восхитительно. Мы ещё увидимся, я не сомневаюсь. Спеши! Счастливого пути и прочей чепухи!
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
Тело Эйвинда расслабилось. Он тяжело опустился на стул и вздохнул.
– С той поры я человек. Я старел и толстел, пока опять не стал похож на медведя, с этим брюхом и волосами. От этого никакой пользы. Я не медведь. Пытаюсь им быть, но это не так. Я всё ещё жду, что море превратится, а оно не превращается. Я держусь поближе к Болотам, надеясь, что короли и вправду не лгут. Хотя надежды у меня почти не осталось: ведь твой отец тоже король. Болота отсюда менее чем в неделе пути к северу. Жизнь меня сломала. Наверное, я умру в этой грязной таверне, подавая пиво всяким паршивцам.
Принц глядел на столешницу, покрытую завитками и спиралями древесных узоров, похожими на отпечатки пальцев.
– Мне жаль, что так вышло, – пробормотал он.
Лицо Эйвинда побагровело.
– Мне не нужна твоя жалость, мальчишка, это бестолковый груз. Я дам тебе пару сапог – не обещаю, что они подойдут, – если ты передашь послание и спросишь негодную птицу, когда я верну назад то, что мне принадлежало. Я устал ждать.
– Ты… ты про Болотного Короля, да?
– Парень, ты глуп, как медвежонок, который ещё мамку сосёт. Да, про Болотного Короля. Неделя пути на север – и ты утонешь по колено в грязи и угрях. Теперь бери это и мотай отсюда, пока я не предъявил счёт за стул, который ты портишь.
Он бросил на стойку пару грязных, смазанных ваксой чёрных сапог на несколько размеров больше, чем требовалось молодому Принцу, и исчез в задней комнате, что-то проворчав себе под нос.
Леандр робко взял сапоги и, вспыхнув от взглядов потрёпанных завсегдатаев, выскользнул из таверны.
Он отправился на север, как сказал Эйвинд, и действительно попал на Зловещие болота, чья граница была чёткой линией, за которой начиналось царство влажной зелени, насыщенной запахами гниющей травы и костей. Принц легко учуял запах самого Левкроты, медный и острый, впрямь напоминавший запах крови. Болота были обширны и окутаны дымкой, точно нефритовый узор на полированной древесине, сквозь трясину вели цепи луж, а вокруг шумел камыш, и цапли замирали, стоя на одной ноге. Вода блестела, точно драгоценное ожерелье, а под водой сновали жирные угри и виднелась мерцающая рыбья чешуя.
Вообще-то болота показались Принцу очень красивыми, но с каждым шагом его чрезмерно большие сапоги погружались всё глубже, пока он не замедлился до такой степени, что встревожился – не застрять бы совсем, ведь следовало вернуться к Ведьме до новолуния, чтобы выполнить обещание. Поэтому он тащился через болота, грязь хлюпала вокруг его сапог, доставая до ножен меча в промокшем мешке. С каждым новым шагом гигантские сапоги грозили окончательно увязнуть в трясине, но в последний момент шлёпали о щиколотки.
В центре болот была роща тамариндовых деревьев, их красноватая кора поблескивала, словно под ней прятались тлеющие угли. Привлечённый цветом, Леандр на миг застыл, созерцая их. Но он уже насытился магией и всерьёз опасался, что некто ужасный, обитающий внутри, задержит его. Принц обошел рощу по широкой дуге, хоть из-за этого и пришлось промокнуть по пояс.
Далеко уйти не удалось – у него на пути возникла фигура, словно созданная целиком из воды и травы.
– Как ты смеешь меня оскорблять, проходя через мои земли, не нанеся визит?
Дымчатый силуэт сгустился, обратившись в старика, чьи усы свисали, как у сома, а волосы казались водопадом мха. Глаза у него были в точности того же оттенка, что и болотная вода, – зелёно-коричневые, мерцающие. Рукава мантии сделаны из речного тростника, а плащ – из опавшей листвы, украшенной желудями.
Он преспокойно завис в трёх футах над ближайшей травянистой кочкой, упираясь перепончатыми ступнями в воздух и задумчиво покуривая трубку из ивовой ветки.
– Ну? – многозначительно спросил он.
Принц мог захлебнуться словами или мучительно их подыскивать, как умирающая форель ищет воду, которой нет и не будет. Вместо этого он медленно моргнул – раз, другой – и тяжело опустился на поросший мхом валун.
Болотный дух добросердечно рассмеялся.
– Бедный птенчик. Должен признать, в какой-то момент от такого немудрено и голову потерять. Я Болотный король, – он отвесил короткий вежливый поклон, – а ты явился от Ведьмы из долины, чтобы убить моего друга Чудище. Я, разумеется, не позволю тебе сделать подобное, но с удовольствием побеседую на эту тему – если пожелаешь, можем устроить дискуссию.
– Дискуссию? О том, убью я Левкроту или нет? – спросил Леандр, смущенный.
Болотный король радостно кивнул лохматой головой.
– Он предпочитает обходиться без формальностей – просто Чудище.
– Хорошо – убью я Чудовище или нет?
– Боюсь, мой мальчик, ты не понял. Просто Чудище. Он считает, что Чудовище звучит слишком помпезно. Он славный парень, Чудище.
– Хорошо, Чудище.
– Чудище.
– Убью ли я его?
– Дискуссия – штука тонкая. – Болотный король мечтательно вздохнул. – Припоминаю одну удачную, лет пятьдесят назад. Был другой длинноногий убеждённый птенчик, преследовавший Чудище… Они иной раз как нагрянут. Ну что, устроим и мы такую же, давай?
Глаза Болотного короля сверкнули, точно угорь проплыл на мелководье, весёлый и шаловливый.
Дискуссия Болотного короля
Последний юноша, явившийся к нам, вёл себя довольно нагло, будто алый плащ, украшенный золотыми кистями, давал ему на это право. Он тоже не почтил меня визитом, но, когда я появился перед ним, проявил любезность. А потом расстелил свой плащ на той скале и уселся, скрестив ноги, в равной степени желая подискутировать со мною и отрубить голову бедному Чудищу.
Я начал с самого простого, как ты сам убедишься:
– Итак, почему ты хочешь убить Чудище? Оно не одалживало у тебя меч и не забывало вернуть, не портило твой любимый портшез, вообще тебя не трогало!
– Я Принц, – ответил юноша с глуповатой уверенностью. – Функция Принца (А) – убивать монстров (В), восстанавливать порядок (С) и поддерживать стабильное количество дев (D). Если подставить производное от величины А (Принц) в уравнение y = BC + CD2 и приравнять всё к нулю, учитывая вершину параболы, а именно точку пересечения А (Принц) и B (Монстр), можно определить значение величины E, которая представляет собой стабильность в королевстве. Это сложно, если у вас есть карта под рукой, я лучше всё нарисую.
– Ох, мой мальчик, – сказал я после того, как он почти испортил одну из моих топографических карт, исписав её уравнениями. – Чудище не монстр. Он не глотает девушек, будто сэндвичи с огурцом, а ведёт себя как положено воспитанному Чудищу.
– Но ведь он весьма уродлив? – настаивал Принц.
– По мне, он славный парень, но некоторые могут счесть его невзрачным. Это да.
– И от него исходит смрад?
– Тут спорить с тобой не буду – с подветренной стороны лучше не становиться!
– И у него в самом деле жуткая челюсть из кости и большие высокие рога?
– Да-да, ты верно описал Чудище!
– Так он монстр! – радостно воскликнул Принц. – И я должен немедленно его прикончить. Формула действует!
– Результатом твоей формулы окажется нешуточная битва, – задумчиво проговорил я.
– О да, если применить её верно, случается великая и благородная битва! Разумеется, я всегда побеждаю, ведь значение Принца Икс – константа. Оно не может быть меньше значения Монстра Игрек. Такова гипотеза морального превосходства, получившая широкую известность пятьсот лет назад благодаря моему предку Этельреду, королю-математику. Равный ему так и не родился за все века.
– О да, ничуть не сомневаюсь.
– Если мы закончили, думаю, мне пора заняться доказательством, – сказал Принц, для тренировки размахивая мечом. – Это мы называем смертоубийством, – пояснил он, занеся меч высоко над головой. – Потому что всякий раз, когда погибает монстр, происходит доказывание гипотезы.
– Как мило с твоей стороны дать этому действу столь… благозвучное наименование. Но я не могу допустить подобное.
– Но… но… – Он был так уязвлён, что поперхнулся словами. – Формула!
– Невзирая на формулу. Это моё королевство, и никакого насилия в его пределах не будет до тех пор, пока я здесь правлю. По крайней мере это ты должен понять. Здесь моё слово – закон.
– О да. – Принц кивнул. – Универсальный монархический алгоритм находится в основе теоремы.
– Теоремы?
– Надлежащего поведения.
– А-а.
– Я защитил диссертацию по монархическому алгоритму, – заносчиво предупредил молодой человек. – Если вы не позволите свершиться насилию на вашей земле – один момент, я произведу подсчёты, – он снова принялся калякать что-то на моих красивых картах, – я брошу вызов, и, если Чудище в курсе, как подобает вести себя монстрам, оно не ответит отказом на вызов благородного вельможи.
Я вздохнул, признавая своё бессилие:
– Да, тут ты прав.
– Ну тогда вперёд! – ответил Принц и удалился быстрым шагом, напевая себе под нос мнемоническую мелодию.
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
– Мой милый мальчик, ты только послушай! Тот юноша попытался броситься на Чудище со скалы, нависавшей над местом битвы – как неспортивно! – и его руки-ноги запутались в рогах бедолаги Чудища. Ушла не одна неделя, чтобы их убрать. До чего же неприятная была работёнка! Возможно, ты будешь действовать разумнее. Итак, – Болотный Король уставился на Леандра поверх перламутровых очков, – ты знаешь какие-нибудь формулы или теоремы?
Принц покачал головой.
– Благодарю за это широкополую небесную шляпу! Вероятно, такой стиль правления вышел из моды. Но боюсь, ты всё равно упорствуешь в своём желании побеспокоить Чудище в неподобающий час.
– Мне придётся.
– Но почему? Мы уже установили путем повторения весьма приемлемой вторичной дискуссии, что Чудище не монстр. – Болотный Король озадаченно сморщил свой зеленоватый нос.
– Я знаю. – Леандр вздохнул. – Но это неизбежно. И я должен задать вам вопрос, прежде чем объясню свою цель.
– Мне? – Болотный Король заметно просиял, от удовольствия у него встопорщились усы. – Почти все молодые люди приходят ради Чудища! У меня давным-давно не было посетителей. В чём же дело, мой милый, симпатичный, великолепный юноша?
– Эйвинд хочет знать, как долго ему ещё ждать, пока море превратится в золото.
Болотный Король сморщил высокий лоб и уставился в небо.
– Не уверен, что малый с таким именем мне знаком, – с грустью признался он.
– Он… он был медведем, а вы превратили его в человека. – Принц вдруг расстроился. История казалась достоверной, словно каменная плита, когда трактирщик её рассказывал. Но престарелый монарх фыркал и хмыкал себе под нос. Наконец, его лицо вспыхнуло, точно фестивальный фонарь.
– Ох! – воскликнул он. – Медведь-звездочёт, конечно! Знаешь ли, не так и долго. Вероятно, быстрее, чем ты доберешься домой к своей Ведьме. А возможно, и нет. Я не веду учёт таким вещам. И с чего бы? Я помню всё, что мне требуется. И поскольку я ответил на твой вопрос, скажи, чего тебе вздумалось требовать от моего дорогого друга Чудища?
– Мне… мне нужна его шкура. Чтобы вернуть девушку к жизни. Я убил её и должен всё исправить.
– Ох, – сказал Король с отвращением, – как это гнусно с твоей стороны. До чего омерзительное действо ты предлагаешь. Даже не обсуждается!
– Так-так, – над Болотами разнёсся гулкий голос, похожий на звук, с которым воздух покидает кузнечные мехи, сжатые гигантскими руками. – Друзья мои, не стоит обсуждать меня в моё отсутствие, это невежливо.
Через обширное болото к ним приближалась тёмно-алая туша Левкроты, чьи рога кроваво сверкали на фоне неба. Воздух тотчас наполнился его запахом, как седельный вьюк, – то был запах недвижных озёр крови, мерцающих в лучах солнца, колодезных вёдер и винных фляг, фарфоровых ваз и тростниковых корзин, наполненных ею: горячий, медный, влажный и неумолимый.
Однако шкура Чудища была до странности красива – цвета тьмы, тайных рубинов и гранатов, рассыпанных на снегу. Его рога возвышались как башни, занятые лучниками с сильными руками, и разветвлялись, точно лес, охваченный огнём. Массивная челюсть слегка свисала, открывая потрясающую белую кость. На мощных лапах он двинулся к Принцу; в бесконечной тьме его глаз, лишенных белков, посверкивали искры, словно от удара кремнем по кресалу.
– Мой дорогой монарх, я могу сам разобраться со своими делами? – нараспев произнёс он.
– Разумеется, Чудище, я не хотел тебя обидеть. Прикончи его в своё удовольствие.
– О, я не обиделся, старина. И я бы ни за что не рискнул посягнуть на то, что в твоей юрисдикции. Только после тебя, – спасовало Чудище.
– Ох, нет, после тебя. – Болотный король отвесил ему поясной поклон.
– Я настаиваю.
– Слышать ничего не желаю.
Левкрота одарил Леандра долгим оценивающим взглядом:
– Ты сказал, моя шкура? Не слыхал, чтобы для неё нашлось применение в целительстве, но, если Ведьме она нужна, я, как джентльмен и монстр, должен уважить её просьбу.
Принц и Король застыли, шокированные.
– Но мы должны сразиться! – заупрямился Принц.
– Не смеши меня, мальчик. Я распотрошу тебя за минуту. Просто бери шкуру и бегом назад.
Болотный король, потрясённый, возопил:
– Дорогой мой мальчик, я вынужден возразить! Вы устроите в моём болоте бардак. И шкура – не карманные часы, её нельзя просто взять и отдать. – Он топнул ногой, поросшей мхом, но никакого звука, разумеется, не получилось, так как он парил над водой.
Левкрота пожал плечами:
– Полагаю, новая вырастет в течение месяца.
Он опустил мощную багровую голову к груди и принялся снимать с себя шкуру, как ребёнок кожуру со спелого яблока, одной длинной спиралью.
– Знаете, – задумчиво проговорило Чудище, пока перед ним росла груда его собственной кожи, – во времена Ведьминой молодости мы были почти приятелями. Как я могу отказать такому милому созданию? В своё время она была красавицей: шрамы и татуировки, её лицо божественно изуродовано. Уродливость её черт для меня являлась столь же приятной, как первый летний фрукт, красный и безупречный, свисающий с ветки, покрытой каплями росы. – Чудище мечтательно вздохнуло. – Такая, как бы вы её назвали, «безобразная внешность», собранная в одном человеке, встречается редко. – Он многозначительно взглянул на Болотного короля, который несмотря на старость был наделён величественной красотой. – То, как её татуировки отражали шрамы, великолепная симметрия чёрных чернил и белых рубцов на коже… Будь я трубадуром, какие песни я бы сочинил ради её красоты! А как сверкали её волосы! Словно моя собственная шкура, полыхающая в лучах солнца!
Чудище счищало остатки шкуры с копыт, груда перед ним стала гигантской и тёмно-алой, как кожа в мастерской дубильщика. Само Чудище, судя по виду, не испытывало неудобств, лишь стало ещё краснее, чем прежде; его мышцы блестели от выступивших капель и ручейков крови, что сочилась из него и капала на болотную траву, точно краска. Ветер обдувал обнаженную плоть, но монстр будто наслаждался прикосновениями его призрачных пальцев к своим массивным ляжкам.
– Не бойся, мой оленёночек, – ободрило Чудище Принца, – это совсем не больно. Я даже взбодрился. Посоветовал бы вам обоим попробовать сделать то же самое в качестве укрепляющего средства. Только у вас анатомия… неподходящая, скажем так.
Принц не мог отвести изумлённых глаз от Левкроты, сидевшего перед ним с беззаботным видом, истекая кровью. Он начал собирать шкуру в мешок.
– Ты не задержишься, чтобы послушать, как я познакомился с Ведьмой? – воскликнуло Чудище, и его голос был наполнен болью, как мех вином. – После того как я в точности выполнил твою просьбу? Мама не учила тебя вести себя вежливо с монстрами, которые не соизволили тебя сожрать?
Лицо Леандра залилось краской, и пала тишина, как шерстяное одеяло.
– Похоже, нет, – заключило Чудище. – Сядь-ка рядом со мной и послушай мою историю. Я тебя не трону, вот увидишь.
Солнце пряталось за лохмотьями облаков где-то высоко в небе. Оставалось ещё много времени до того момента, когда бег часовых стрелок обратился бы во вред Леандру. Опасаясь, как бы Болотный король не превратил его во что-нибудь непотребное, Принц тихонько вздохнул и приготовился слушать.
Сказка Левкроты
Она меня спасла, эта маленькая шалунья. Меня угораздило сразиться, как оно нередко бывает, с сыном Герцога Восточных герцогств – типом в узорных доспехах из серебра и слоновой кости. До жути непрактично, разумеется, но сыновья Герцога всегда были щёголями. Я уже продырявил ему левый бок своим рогом, но, увы, не задел ни одного жизненно важного органа, зато в его ударах появилась ярость, которой не постыдились бы двенадцать волков, рождённых от одной матери. Он отчаялся, бедолага. Но в отчаянии сумел воткнуть меч мне под рёбра, почти по самую рукоять.
Высокородный прохвост хорошо подготовился. Моё сердце располагается не возле рёбер, как у людей – оно бы с трудом поместилось! – а глубоко в животе, и жадный клинок к нему даже не приблизился. Тем не менее я оказался в весьма затруднительном положении, так как пародия на меч застряла во мне, а сам сын Герцога собирался отрубить мне голову.
Однако в миг его триумфа, который, должно быть, породил сладость в его молодом рту, стрела вылетела из деревьев со скоростью цапли, заметившей рыбу, и вошла глубоко в плечо моему противнику – удар был такой силы, что парня сбросило с моего корчившегося тела. Из дубовой рощи выскочило блистательное создание, одетое в восхитительные паршивые и завшивленные шкуры, с гривой наподобие яростного терновника. По всей видимости, у неё были сильные и гладкие бёдра, а лицо какой-то неизвестный мне мастер – настоящий художник! – прекраснейшим образом уничтожил, разбил на части, закрасил жирными чёрными мазками. Её запах прикончил бы стаю антилоп, случись им оказаться поблизости… Прогорклый пот, волокнистое мясо – запах голода, металлический и острый. Я вдохнул этот сладкий аромат, как пар от остывающих пирогов.
Чудесное видение вскочило на противного герцогского сынка, прижав его к мшистой земле. Женщина сидела на нем, тяжело дыша и обнюхивая его доспехи, как животное. Я с тоской вообразил себе вонь её дыхания – был уверен, что в ней окажется та особенная комбинация гнилого шпината и варёных яиц с глубокими нотами червивой древесины, о которой я так часто мечтал.
– Что ты творишь? – прохрипела она, оскалив зубы. – Ни одно животное не будет убито в моём лесу. Это мой закон, все люди в королевстве его знают.
Столь правильная речь меня удивила. Вероятно, я размечтался, вообразив себе желтые зубы и то, как она будет изъясняться при помощи фырканья и шипения. Тем не менее получил огромное удовольствие от того, как Принц начал корчиться от страха, будто новорожденный поросёнок.
– Я… я прощу прощения! Извините меня! Я не знал… я… я не из этой страны!
Его протесты не приносили пользы, она лишь сильнее наваливалась, так что симпатичные доспехи стали врезаться в его кожу. Он взвыл, весьма меня порадовав.
– Невежда, – прошептала она, и боль стиснула её горло, точно корсет, – у животного есть душа! Внутри оно вполне может оказаться чем-то иным, нежели чудовищем. Да кто ты такой, чтобы убивать прежде, чем познавать сущность?
– Никто! Я никто! – Тут он принялся нешуточно рыдать, огромные слёзы лились по невыразительному лицу. Странное дело, меня парень совсем не боялся, но под этой женщиной был слаб и лишь верещал так громко, что застыдился бы и обычный свинёнок.
Она закатила глаза.
– Даже ничтожество вроде тебя здесь не убьют. Но поклянись мне, что бросишь Подвиги и посвятишь свою жизнь Принцессе, которую ты, вне всяких сомнений, оставил бездельничать дома.
– Я клянусь! Я клянусь! – После этого признания женщина встала, предоставив сыну Герцога, чья туника начала промокать от травы, возможность безутешно рыдать.
– Не могла бы ты его убить? Ну хотя бы чуточку… – предложил я своим лучшим и самым обходительным голосом. Её глаза повернулись ко мне – две ямы, чью глубину не измерить, бросив камень.
– Таков мой закон, – невыразительно проговорила она. – Я тебя не знаю. Откуда ты взялся в моём лесу?
– Что именно делает этот лес твоим? У тебя есть на него купчая?
– Нет, я просто взяла его себе. Люди не осмеливаются подвергать это сомнению.
Я возбуждённо задёргался от скрипучей шероховатости её голоса.
– Я не человек, как видишь, а Чудище, вид Leucrotta Furialis. Так меня назвал этот щенок. Благодарю тебя за помощь, это было весьма любезно.
– Любой зверь, попавший в беду, получил бы то же самое. – Она закинула за спину лук, явно изготовленный собственноручно из подвернувшегося под руку молодого ясеня. – Я Ведьма из Долины. Всё, что дышит в этом лесу, находится под моей защитой. Не считай, что я оказала услугу лично тебе. Если вы оба меня поняли, я вас покину.
– Стой! – Я подбежал к ней, демонстрируя свой цвет, себя в полный рост и во всей красе. – Я должен отплатить за твой смелый поступок и выполню любую твою просьбу, прекрасная госпожа.
Не обращая внимания на завывания герцогского сына, который не поднялся, а сидел и с жалким видом ощупывал стрелу в плече, она оценивающе взглянула на меня, приподняв одну лохматую бровь.
– Ты убьешь Короля, если я попрошу? – спросила она негромко.
– Разумеется, ягнёночек мой. – Я чуть поклонился, вытянув передние ноги. – Но меня трудно назвать малоприметным, поэтому я не смогу войти в Замок незамеченным. И оружия у меня нет, чтобы причинить ему вред, а не просто, хм, сожрать, что тебя, как я предполагаю, совершенно не устроило бы, поскольку в этом случае не осталось бы совершенно никакого тела. Думаю, для такого задания нужен другой монстр. – Я многозначительно посмотрел на несчастного Принца, успевшего увидеть собственную кровь и, судя по всему, готового потерять сознание.
Улыбка прорезала её лицо, как рапира, вспоровшая бок противника. Это было прекрасное уродство.
– Мальчишка, что ты об этом думаешь? Тебе хотелось бы убить Короля в обмен на собственную жизнь?
– О да, – сказал он тоненьким голосом и всхлипнул. – Если это вас порадует… Только больше не стреляйте в меня! Я до ужаса боюсь острых предметов и отправился на Подвиги лишь потому, что отец назвал меня трусом, послал за знаменитым Левкротой! Он хочет шкуру, понимаете? Для убийств.
Я душевно согласился.
– Мой сладкий персик, с моей шкурой и из неё можно сделать множество гнусных вещей. Я слыхал, на лучших чёрных рынках за неё дают кругленькую сумму.
– Но ты сделаешь это для меня? – Её ничто не могло сбить с курса. – Ты отправишься во Дворец и вонзишь в Короля нож?
– Да-да! – Сын Герцога упал на одно колено перед Ведьмой, как принято делать принося присягу. – Только в какого именно?
– Того самого, мальчик. Кого же ещё? Того, что во Дворце.
Она была нетерпелива, конечно. Для ведьм есть лишь один Король – тот, который их обманул, и один Дворец – дом, в котором он живёт.
Справедливости ради, Короли иной раз такие же тупые, когда называют себя священными сосудами и владыками всего, что над землей и под ней, хотя на самом деле владеют лишь несколькими лоскутками одинокой грязи, на коих расположены ещё более одинокие домишки.
– Ты узнаешь этот Дворец, – прибавил я, решив помочь. – Его окружают две реки: одна белая, другая чёрная.
– Да-да, госпожа, я пойду и выполню ваше задание. Но… меня послали не только убить Левкроту. Ещё есть дева, заточённая в башне…
Тут Ведьма сплюнула и опять закатила свои прекрасные глаза.
– Этих безобразниц вечно кто-то где-то запирает. Если бы они там и оставались, – проворчала она. Сын Герцога густо покраснел, как девушка, застигнутая нагишом.
– Тем не менее её держит в плену ужасный Волшебник, обитающий в этих краях, и мне поручили её спасти. Если я завершу ваш Подвиг, кто завершит мой?
Сердито фыркнув, Ведьма наклонилась, выдернула древко и перевязала рану, так ничего и не сказав. Убедившись, что работа выполнена хорошо, она наконец заговорила, и в её голосе слышалось колючее, сладостное раздражение:
– Привычка менять подвиг на подвиг мне отвратительна. Она бесполезная и убогая, как поношенная корона. Но я готова делать много вещей, которые мне отвратительны, если так добьюсь смерти Короля. Возможно, к упомянутому тобой Волшебнику это относится в большей степени. Я выполню твой Подвиг сама и освобожу паршивку из заточения.
Она что-то пробормотала на ухо лошади и скормила ей кусок яблока, которое прятала в своём мешке.
– Ступай, – приказала она юноше, – и убей только Короля. Вернись в Долину, когда совершишь убийство.
Сын Герцога галопом умчался прочь. Много позже я узнал, что он учинил великий скандал, убив какого-то безобидного монарха совсем в другой части света.
Я же остался с невыплаченным долгом, как нищий перед блистающей украшениями королевой.
– Что касается меня, – мягко проговорил я, – я по-прежнему твоё верное Чудище, с котором можно делать что захочешь.
Она на миг задумалась:
– Твоя шкура и впрямь пригодна для убийства?
– Несомненно, мой лимонный пирожок. Это довольно уникальная часть моего тела: я отращиваю новую каждый месяц, словно фруктовое дерево. Если её порезать на полоски и смазать определённым составом из белладонны и иссопа, она вызовет паралич у мужчин, рождённых под знаком козла. Вымоченная в настойке из тысячелистника и фенхеля с капелькой крови мантикоры, она сделает так, что у женщины, которая понесла в новолуние, случится выкидыш, или же ребёнок, которого она родит, умрёт во сне в возрасте семи лет от остановки сердца. Но тот же ребёнок оживёт, если его завернуть в шкуру, как в одеяло, и будет жить долго, если станет носить её так, чтобы она касалась его собственной кожи. Это особенно интересный трюк, потому что, если ребёнок потеряет шкуру, он тут же упадёт замертво, хотя благодаря ей мог бы прожить сто семь лет. Измельчённая в порошок с добавлением горсти муравьёв из обычного муравейника и меры маринованной печени саламандры, моя шкура вынудит человека, слишком увлечённого публичными речами, проглотить язык на банкете в свою честь… Есть много применений, каждое особым образом связано с мужчиной или женщиной, коим надо навредить. Насколько мне известно, не существует ни одного благородного способа её использования. Но я не изучил этот вопрос как следует, поэтому утверждать не берусь. Все хотят её заполучить именно из-за вредных свойств, а не для того, чтобы согреться или прикрыться.
Я испытывал гордость, рассказывая о своей шкуре, ибо она и превращала меня в уникального зверя. Ведьма сморщила великолепный лоб, цветом напоминавший скисшие сливки.
– Тогда ты заплатишь мне двойную цену. Однажды мне понадобится твоя шкура. Ты должен будешь предоставить её без вопросов и промедления. Согласен?
– Это честь, моя пышечка, моя изюминка! Я буду ждать, когда ты призовёшь меня. А пока воспою твою красоту во всех уголках мира, чтобы все знали то, что знаю я: в Долине обитает сокровище, которое превосходит все рубины, что рождаются в недрах земли.
Ведьма рассмеялась с таким звуком, будто напильник впился в ржавое железо.
– Во-вторых, помоги мне освободить девчонку. Дурацкое задание но, чем быстрее начнём, тем быстрее закончим. Ты пойдёшь со мной?
Я подавил внезапное желание пуститься в пляс от радости.
– С превеликим удовольствием, медовая моя. Вообще-то мы могли бы с этим справиться ещё быстрее, если ты, – я едва сдерживал своё нетерпение, – соблаговолишь меня оседлать.
– Монстры всегда такие дружелюбные? – задумчиво проговорила Ведьма.
– Мы должны беречь друг друга, – ответил я негромко, – потому что нас мало и становится всё меньше. Ты не знала?
– Я не всегда была монстром, – прошептала она.
Она забралась ко мне на спину с лёгкостью ветерка, будто ездила на мне верхом лет десять. На мгновение я услышал, как у неё странным образом перехватило дыхание, словно она увидела свою потерянную любовь или давно умершего ребёнка. Ведьма с великой нежностью погрузила руки в мою гриву и, если не ошибаюсь, прижалась к ней лицом, вдохнула мой запах.
– Прошло много лет с той поры, как я сидела верхом на лошади, – восхитилась она. Я возразил, что не являюсь лошадью, но она будто не услышала. – То место, где девы чаще всего оказываются в заточении, расположено к северо-западу отсюда, в центре безымянного леса, в безымянной башне.
И дня не прошло, как мы прибыли туда, и я сам не ожидал наслаждения, которое испытал от ощущения седока, хоть весила она не больше ветки остролиста и была неприветлива. Приятно быть ручным и слушаться приказов, отданных грубым голосом… Не исключено, я захочу повторить этот опыт!
Башня оказалась монолитом из чёрного камня, вырубленным из одного большущего куска обсидиана; в её стенах отражалась тёмная рябая пародия на зелёную красоту окрестных лесов. Небо над нами было равномерно серым, словно металлическое тело пушки, угрюмые облака тащились на запад. Башня стояла посреди того, что некогда являлось лугом, а теперь превратилось в круг иссохшей травы, мёртвой и белой: душистые сосны и берёзы не росли на этой земле. Верх строения был заострённый, как водится у башен, и напоминал огромный наконечник стрелы, высунувшийся из земли. Её архитектура была противоестественной, она превосходила даже то, что можно построить при помощи магии, и я чуял запах детской крови в нежном колыхании травы у её подножия. От жути этого места мороз шел по коже, но Ведьму будто ничто не волновало. Она спешилась и прямиком направилась к башне. Затем, обратив лицо к её злобной вершине, прокричала:
– Женщина! Выходи оттуда! Я пришла, чтобы… – Ведьма в сердитой растерянности бросила взгляд на безжизненную траву. – Я пришла, чтобы спасти тебя, – наконец проговорила она таким тоном, словно взглянула со стороны на своё лицо, покрытое волдырями. Я на миг отвлёкся, созерцая её прелестный облик и волдыри, но мои грёзы прервали самым грубым образом – из окна на вершине башни выглянула голова.
Она была увенчана отвратительными золотыми локонами, которые длинными косами ниспадали за парапет, и на её гладком болезненно-розовом лице сияли глаза, цветом напоминавшие голубоватую шкуру утонувшего угря. Грудь девицы была приподнята сообразно дурацкой моде, затянута в слишком тугое белое платье, которое не демонстрировало ничего, что могло бы меня заинтересовать. Девица являла собой то ещё зрелище. Истинная мерзость! Возможно, она сама заточила себя в башне, чтобы мир не видел её уродства. Безусловно, по сравнению с моей восхитительной Ведьмой, то была жаба, бородавка, гнойный прыщ.
Существо с любопытством поджало губы и проговорило голосом, сладким как испорченное молоко:
– Разумеется. Подымайтесь.
В теле башни бесшумно появилась чёрная арка, лишенный света занавес, который раздался, чтобы открыть новую, ещё более глубокую тьму. Бросив на меня многозначительный взгляд, Ведьма вошла в эту дыру, и я потрусил за ней.
– Я хорошо знаю темноту, мы с ней быстро сдружились. Если старик пытается так меня напугать, он большой дурак, – прошептала она.
Мы быстро поднимались, жидкий камень мрачной лестницы скользил под нами. Я шел за Ведьмой во мраке по запаху, след её тела освещал мне путь. Долгое время не было других звуков, кроме нашего дыхания и стука наших ног по камню, подобных лесному дождю. В этом было что-то приятное.

Мы покинули утробу теней столь же внезапно, как вошли в неё – ступили в круглую комнату на вершине башни, в центре которой стояла дева, точно драгоценный камень в железном кольце.
– Добро пожаловать, – мелодично произнесла она. – Меня зовут Магадин.
Её голос эхом отразился от сводов комнаты, будто стрела, отскочившая от мишени. Поначалу мы не могли сказать ни слова – так нас поразил облик девушки. Её голова, которую мы видели снизу, была воплощением перламутрового величия, позолоченного и гладкокожего, отвратительного для меня, но красивого, по меркам смертных. Остальное её тело было ужасным и великолепным. Руки покрывала густая красновато-коричневая шерсть, а венчали их лапы с когтями, достойными зависти. Бёдра изгибались на манер нежных оленьих ног. Из-под лопаток прорезались бирюзовые крылья, рассекшие кожу и оставившие широкие кровавые полосы. Ступни переливались зеленью, точно подводные опалы, перепончатые и покрытые слизистой плёнкой, как у жабы; ноги под полупрозрачным платьем были серебристыми, покрытыми гладкой полупрозрачной рыбьей чешуёй, а из щиколоток выглядывали тонкие, словно пёрышки, плавники. Груди девы, снизу казавшиеся молочно-белыми и без единого пятнышка, на самом деле были покрыты белой шерстью с тигриными полосами, и над её нежными ключицами уже начали проступать тёмные хищные полосы. Волчий хвост уныло покачивался за спиной, разорвав украшенную бисером ткань. Кончики её кос слегка трепетали, сквозь кудри поблескивала покрытая жилками поверхность стрекозиных крыльев.
Что ещё хуже – вокруг неё на стенах висели отрубленные головы, некогда принадлежавшие другим девам, и все они находились на разных стадиях преображения: одна была наполовину покрыта змеиной шкурой, её волосы яростно шипели; другая утратила рот, вместо которого красовался клюв; ещё у одной глаза жутким образом усохли, и из-под завесы тёмных волос виднелось лицо, напоминавшее морду летучей мыши. Нас окружал зверинец из бестий-принцесс, и их глаза, наблюдавшие за нами, выглядели не такими уж мёртвыми.
– Теперь вы понимаете, – тихим виноватым голосом произнесла дева, – почему меня до сих пор не спасли. И почему никто не сторожит дверь. Они приходят десятками – симпатичные рыцари, все как на подбор, – и убегают, точно испуганные белки, когда видят, какая я на самом деле.
Я увидел, что на лице Ведьмы появилась жалость. Она заключила деву в нежные объятия, и та заплакала большими красными слезами, капавшими на её платье, как неведомое вино.
– Расскажи мне, что он с тобой сделал, – мягко попросила Ведьма, гладя принцессу по узорчатым волосам.
– Он пытается меня изменить, – пискнула Магадин голосом раненого ястреба, – как пытался изменить их. Он забрал меня из отцовского дома…
Сказка Девы-Бестии
Я родилась далеко отсюда, в ночь зимнего солнцестояния, во время шторма, который срывал черепицу с крыш и заполнил небо тучами, что были чернее сажи из дымоходов. Я сделала первый вдох в высокой башне, оплетенной плющом и лилиями, похожими на нарастающие луны, сделанные из серого камня с прожилками кварца. Ветер бился в окна, небо кипело от грома. Повитуха отдала меня в руки матери; мои глаза были широко распахнуты, а во взгляде читалось удивление. Мать улыбнулась мне – её лицо было уставшим и белым, полным печали, – и умерла, а моя маленькая ручка продолжала сжимать её палец.
Когда дикие альстонии и каштаны зацвели и опали двенадцать раз, мой отец женился снова, на женщине со светящимся лицом и волосами, похожими на реку огня; она была точно живое солнце, которое вошло в наш дом. Звали её Иоланта. Молодая вдова с обширными владениями и двумя собственными дочерьми, Изаурой и Имогеной – немного старше меня, одна красивее и горделивее другой.
Я вижу твою улыбку, Ведьма. Ты думаешь, что знаешь финал моей истории.
Но они были не такими, как их необычная мать, а неимоверно скучными и глупыми. Вся их ценность заключалась в золотых переливах тщательно причёсанных кудрей. Золотые птички, пустоголовые щебетуньи, девушки не отходили друг от друга, всегда держась за розовые ручки. Я же, смышлёная и умная, быстро стала любимицей мачехи. Она была властной женщиной, мой отец подчинялся любому её шепоту, как жеребёнок хозяину.
Я её обожала. И, понятное дело, новые сёстры меня возненавидели.
Всё, что я знала о собственной матери, – истории, рассказанные отцом, о последней улыбке, мягкой и грустной. Всё это растаяло, как парок над чашкой чая при виде Иоланты, что ярко сияла, чей смех зажигал люстры, чьи великолепные тёмные платья величественно подметали наши залы, заполняя дом. Призрак моей матери не мог этого сделать.
Через некоторое время стало ясно, что она предпочитала меня собственным детям, багровевшим от ярости и зависти. Мне же дела не было до жеманных глупышек. Мачеха стала моим миром: совсем меня очаровала. Я переняла её манеры, стала высокомерной и резкой, но притягательной для всех; была чудом Дворца, отцовской гордостью. Я взрослела, становилась красивее и мудрее, с наслаждением поглощая содержимое домашних библиотек. Я была тьмой там, где мачеха – светом; я была бледна, словно зимний ветер, в то время как она розовела, словно летний закат.
На мой шестнадцатый день рождения, когда такие вещи обычно и происходят, герольд объявил у каждой двери в королевстве, что королевский Волшебник ищет юную девушку, достойную стать его ученицей, и что все родовитые семьи обязаны представить своих дочерей в назначенный день и час. Конечно, все мы были возбуждены как ягнята, набившие рты люцерной, – каждая из нас не сомневалась в том, что будет избрана для жизни, преисполненной богатства и власти.
Иоланта услышала эти призывы, и её лицо потемнело. Она тогда была на последних месяцах беременности и в тёмном платье с длинным шлейфом выглядела очень величаво. Баронесса закрыла двери за благонамеренным герольдом и запретила нам, всем троим, проситься в ученицы. Взамен она провела меня по каменной лестнице на вершину высокой башни, укутанной в плющ и лилии, точно растущие луны. Она навалилась на тяжелую дверь, и та со скрежетом открылась, впустив нас в комнату, теперь заполненную ветхими книгами и древними свитками. Тем не менее ложе моего рождения и смерти моей матери стояло на прежнем месте, обращённое к высокому, заострённому кверху окну, гладкое и чисто-белое, будто оно никогда не пробовало нашей крови.
– Дочь моя, – начала Иоланта голосом, напоминавшим журчание воды над речными камнями, – ибо я надеюсь, что могу называть тебя своей родной девочкой, будто я дала тебе жизнь в этой комнате, где умерла твоя настоящая мать. Я бы хотела быть твоей матерью, чтобы спасти тебя от долгих лет одиночества. Моя родная кровь, как ты знаешь, вышла не столь удачной. – Она пожала плечами и раздраженно подняла глаза к потолку. – Они милые девочки, и я растила их, как могла. Возможно, избаловала. Их надо хорошо выдать замуж, чтобы обогатить наши земли. Но, хотя они будут наследницами твоего отца, моими им никогда не стать. Конечно, это не значит, что я позволю отправить их к грязному Волшебнику в железных ошейниках.
Её глаза полыхнули яростью, точно костры на привале зимней ночью. Без напряжения, не вставая с кресла, она коротко взмахнула рукой в направлении одной из полок, и тяжелый том в алом переплёте послушно прилетел в её белую кисть с длинными пальцами. Я ахнула, вытаращила глаза, и её низкий, мелодичный смех заполнил всё вокруг.
– Ты не знала? Все мачехи – ведьмы. Такова награда за то, что мы обречены быть чужачками там, где властвовали другие женщины. Это, дочь моя, столь одинокая участь, что и словами не описать. Даже он, – она с нежностью коснулась своего округлившегося живота, – не подарит мне покой. Сын будет возделывать землю и сражаться с врагами, но твоя мать, как и прежде, останется Хозяйкой Дома, а я буду лишь жиличкой. Тень твоей матери повсюду меня опережает. Я зову тебя своей дочерью, и она замирает от невыносимой ярости. Но что бедняжка может сделать? Она давно мертва, а я живая. Доченька, доченька, доченька, – гортанно пропела она, точно бросая вызов пыльному сквозняку. – В этом по крайней мере ты можешь быть моим настоящим и преданным ребёнком. Если хочешь познать магию, я научу тебя, и учить буду без ошейника. Тебе откроются тайны, что хранятся в этих томах и в моём собственном сердце. Когда ты пленница в доме мужа, это помогает бороться со скукой.
– Но почему ты противишься Волшебнику? Разве магия, которой он учит, хуже твоей?
Иоланта стиснула зубы:
– Я думала, ты умнее, малышка Магадин. Тебе не показалось странным, что ему нужна девочка, в то время как в большинстве случаев в ученики берут детей того же пола, женщины – девочек, мужчины – мальчиков? Или то, что ему вообще нужен ученик. Ведь он раб, серв, и ошейник означает, что сила его продана, как и сила его сына, отца, отца его отца – до самого источника магии, что в его крови. Он ничего не может делать без позволения Короля, они прикованы друг к другу. И я не отправлю ни одну из моих девочек в такое место.
– А ты не рабыня? Не серв?
– Нет, моя девочка, я не такая.
И вот на протяжении недель, остававшихся до назначенного дня, пока яблоки из рощ с неохотой превращались в мускусный сидр, я училась у неё – понемногу, урывками. Большей частью я читала её книги. Редко видела отца и сводных сестёр, уединившись в башне своего рождения. Мои пальцы покрылись чернильными пятнами, точно у клерка, а наряды стали проще и более тусклыми, потому что мне быстро наскучили парча и ленты, очаровывавшие сестёр. Когда родился мой брат, я пребывала в башне, мои нечёсаные волосы покрывала пыль. Его назвали Измаилом, но у меня это не вызвало интереса. Придя в себя, мачеха присоединилась ко мне, и мы проводили часы, стряпая отвары и мастеря приятные, пустячные чары. Я была счастлива и уверена, что вскоре придёт черёд настоящего знания.
Глубокой синеязыкой зимой настал день Волшебника, и мне пришлось расплатиться за это счастье.
Я спряталась под лестницей, как велела Иоланта, а Имогена и Изаура втиснулись в высокий гардероб. Мои сёстры в ужасе вцепились друг в друга и дрожали как два нежных оленёнка, брошенных в зарослях мамой-оленихой. Они не протянули мне руки, но резко захлопнули двери. Я сжалась в комочек под лестницей. У нас не было права пищать и чихать, а мачеха собиралась сказать посланцу, что лихорадка сгубила её дочерей, когда пришли холода. Я наблюдала сквозь трещины в досках, как она собирается лгать ради нас.
Но явился не гонец, а сам Волшебник в струящемся сине-коричневом одеянии, с длинными седыми космами и тяжелым железным кольцом на шее, где знатному человеку полагается носить драгоценности. Ошейник как будто не доставлял ему неудобств, и второе «украшение» того же веса и цвета он держал в своей жилистой руке.
– В этом доме три девочки, верно? – величаво проговорил он, нацелив орлиный нос на мою мачеху.
Она опустила сияющую голову, изображая скорбь.
– Все мои дочери погибли, когда выпал первый снег. Лихорадка пришла в наш дом; хорошо, что я спасла своего сына, очень многие погибли…
– О, хватит. – Он не дал ей договорить: его голос рассёк её голос, как нос корабля рассекает волну. – У меня нет на это времени. В доме трое детей, и, если ты их не предоставишь, я это сделаю сам. Я слышу, как две из них скребутся в большом чулане, точно голодные мышки. Не хотите выйти? Я не причиню вам вреда, а если вы будете хорошими девочками, могу даже угостить вкусным сыром.
Дверца гардероба приоткрылась. Мои золотоволосые сёстры были любопытными и глупыми. Они неуверенно выбрались из своего укрытия и прижались друг к другу, робко уставившись в пол.
На лице Иоланты не дрогнул ни один мускул. Она опустила голову ещё ниже, почти согнулась в поклоне перед высоким мужчиной.
– Я не хотела вас оскорбить, поверьте, – она заплакала, и настоящие слёзы закапали на плиты пола. – То, что я рассказала, правда – мороз забрал мою старшую дочь, которую обожали все в этом доме. Я не рискнула бы позволить двум другим дочерям, при всем их уме, бороться за предложенный вами почёт – я не смогла бы потерять и их тоже! – Моя мать рухнула на пол, жалобно рыдая и хватая его за сапоги, умоляя о милосердии. Я могла бы рассмеяться, будь я такой же глупой, как мои сёстры.
Волшебник будто поверил и, заставив её подняться, вытер слёзы на её лице:
– Ну-ну. Ты очень некрасивая, когда плачешь, лучше так не делай. Давай-ка поглядим на твоих двух ярочек, да? – Он поднял железный ошейник, и Иоланта слегка вздрогнула. – Это простая проверка. Каждая из них примерит мой ошейник, и, если одной повезёт, и он придётся ей впору, девочка пойдёт со мной и выучится разным прекрасным вещам. Жизнь у неё будет такая, что и королевы позавидуют. Это звучит прекрасно, не так ли, девочки?
Мои сёстры кивнули, дрожа от страха, точно листья, влекомые ветром по пустой улице. Он подошел к ним, как мужчина подходит к лошади, которую хочет приручить, и его длинные бледные пальцы сперва коснулись Имогены.
– Пожалуйста, сэр, – прошептала она. – Я не хочу.
– Что ж, маленьким девочкам приходится учиться делать вещи, которые им не нравятся. Так устроен мир, – утешительно проговорил Волшебник и, открыв замок на сером ошейнике, надел его ей на шею.
Ошейник лёг на ключицы, точно увядший венок.
– Видишь? Не так уж страшно. Ты слишком слабая, чтобы от тебя была хоть какая-то польза. Следующая!
Изауру чуть не вырвало на ноги Волшебнику.
– Прошу вас, сэр, – взмолилась она. – Я не хочу.
Он хохотнул и не стал тратить силы на ответ: защёлкнул ошейник на её тонкой шейке, мягкой, точно у лебёдушки. Он был столь тугим, что Изаура едва могла дышать. Тогда я увидела, что ошейник особенный, и выбор делал он, а не Волшебник, потому что железное кольцо сжимало шею моей сестры, как кулак, пока она не закричала и не начала отчаянно его сдирать.
Гость разочарованно вздохнул и быстрым движением снял ошейник.
– Пусть это послужит тебе уроком, женщина. В сеть из лжи ничего не поймаешь, как не выудишь рыбу ложкой.
Он повернулся на каблуках, чтобы уйти, и я увидела, как тело Иоланты облегчённо расслабилось. Но моя сестра – о, Имогена, маленькая гадюка! – крикнула ему вслед:
– Погодите!
Она посмотрела на Изауру, ища поддержки, и запоздало спохватилась.
– Да? Ты что-то хотела сказать, душечка?
Имогена пискнула и не смогла выдавить ни слова. Изаура отпустила руку сестры и сделала шаг вперёд, словно примерная ученица.
– Мать солгала. Магадин не умерла… никто не умер. Она под лестницей, прячется, как крыса.
Я верю, что в этот момент Иоланта могла бы задушить собственное дитя. Но она не протестовала. Да и как она могла протестовать?
Изаура метнулась через всю комнату и радостно распахнула деревянный люк, закрывавший пространство между лестничными пролётами.
– Привет! – ликующе воскликнула она.
– Как ты посмела? – прошипела я.
– Мы устали от твоего гонора, твоих дурацких чёрных пальцев и твоих секретов. Ты маленькое чудовище. Никто не желает тебя здесь видеть.
– Да! – закричала Имогена своим тоненьким голосом. – Мы надеемся, что этот жуткий ошейник тебе и впрямь подойдёт, и ты уйдёшь отсюда, чтобы никогда не возвращаться! Ты это заслужила!
– Почему? – спросила я, всё ещё скорчившись в своём убежище.
– Ты украла её у нас! – отчаянно завопила Имогена, точно птенчик, выпавший из гнезда. – Она наша мать, не твоя, а ты забрала её! Мы были счастливы, пока не переехали в этот ужасный дом! И теперь у неё другой ребёнок – она совсем забудет про нас!
Имогена горько заплакала, Изаура же не пролила ни слезинки. Она схватила моё запястье и вытянула меня из темноты, так что я полетела, спотыкаясь, к ногам Волшебника. Лишь тогда девочки увидели взгляд матери, в котором сквозил холод виселицы. Имогена разрыдалась ещё сильнее и умоляюще тронула мой рукав.
– Прости, попытайся понять… – прошептала она.
Изаура тянула её прочь.
– Примерь его и сдохни, Магадин, – зашипела она.
Я заставила себя встать перед Волшебником, который скалился будто кот из джунглей, только что сожравший очень жирную мышь. Он протянул ошейник, но я чувствовала, как мачеха взглядом сверлит мою спину, и отказалась опускать голову. Волшебник поджал сухие губы, шагнул вперёд и с неимоверной скоростью защёлкнул эту штуковину на моём горле.
Ошейник лёг так хорошо, что я едва почувствовала его вес. В зале не раздавалось ни звука, но я видела, что Изаура прячет улыбку за рукавом. Волшебник проверил петли ошейника и передал меня своим людям, бросив в руку Иоланты три серебряные монеты – в обмен за меня.
Когда меня выталкивали из дома, я услышала за спиной глухой удар: моя мачеха потеряла сознание и рухнула на каменный пол.
Сказка Левкроты (продолжение)
– Теперь вы понимаете, что случилось, – сказала дева-бестия. – Не было никакого ученичества. Мы не ходили во Дворец, Волшебник сразу запер меня здесь, и я сижу в этой башне уже пятьдесят с лишним лет. Каждые две недели он приходит и заставляет меня пить ужасные снадобья, втирает в моё тело мази, от которых по моим венам бегут жгучие молнии. Он сохраняет меня молодой и сильной, потому что я продержалась дольше остальных, у него никогда не было такой подопытной крысы. Он не может допустить, чтобы я превратилась в старуху. Но ничего не получается, и скоро я буду висеть на стене вместе с ними, а он начнёт всё заново с другой девушкой. Мне же придется смотреть, как она умирает, точь-в-точь как сейчас другие девушки смотрят на меня.
Ведьма подняла лицо девушки и вытерла ей слёзы, будто краски с холста. Она подбодрила бедняжку улыбкой, и её лицо вспыхнуло, как костёр в ночь летнего солнцестояния.
– Когда-то Волшебник держал меня в плену, чтобы найти тот же секрет – старик им одержим. Но я сбежала. Сбежишь и ты. Никогда не доверяй Принцам! Если тебе нужно чудо, доверься Ведьме.
– Ты ничего не сможешь сделать, – возразил я. – Всё зашло слишком далеко, даже я это чувствую. Сбрось её с башни, избавь от мучений.
Но Ведьма лишь низко гортанно засмеялась, издав звук, похожий на клокотание сотни горных ручьёв:
– Чудище, я посвятила свою жизнь тому, чтобы срывать магические планы этого человека. Я стала сильнее после нашей последней встречи, а он барахтается в лужах своих немногих грязных умений. – Она замолчала, её взгляд погрустнел. – Но, боюсь, я не смогу стереть то чудовищное, что в тебе уже есть. Я не могу сделать тебя той девушкой, которой ты была когда-то. Подобное нельзя исправить, если всё зашло слишком далеко. В минувшие времена с этим управилась бы – причём легко – любая из матерей, что были до меня. Но с тех пор многое произошло. Я не могу воссоединить тебя с племенем дев. Но я могу помочь тебе стать частью племени монстров. Ты будешь жить, спасёшься.
Глаза девы-бестии расширились от прилива горьких слёз.
– Но кто я без своей красоты? Я не выйду замуж, а мой отец и мачеха точно умерли. Я столь же глупа, как и в тот день, когда рассталась с нею; за пятьдесят лет я не узнала ничего, что позволило бы ей мною гордиться. Я девица в башне, у подобных мне печальная участь, для нас нет иного спасения, кроме Принца, и его портрет носят на шее, как якорь на эполетах. Разве меня ждет нечто иное?
– Ничего, – проворчал кто-то в темноте. Одна из голов ощерилась от ненависти, так что её рот превратился в О. – Ты теперь уродина и никому не нужна!
– Ты останешься с нами, и тебе понравится, сукина дочь! – Клювастая голова разразилась каркающим смехом, чмокая беззубыми дёснами.
– Только для цирка и годишься!
– Станешь женой козла на ферме, будешь лопать капусту в загоне!
– Королева навозных мух!
– Императрица обезьян!
Головы гоготали, плевались и рычали. Некоторые беззвучно плакали. Ведьма нахмурилась.
– Не слушай. Они уже мертвы. Волшебник наделил их голосами, чтобы мучить тебя, – сами они давно спаслись из этого места.
– Мы не мёртвые, Ведьмочка! Свои дешёвые фокусы будешь показывать в другом месте! Она наша! – Головы опять начали хохотать.
– Куда же я пойду? – жалостливо спросила Магадин. – Как я буду жить?
– Чудище у меня в долгу, – ответила Ведьма. – Он отвезёт тебя к морю, где ты сможешь найти работу на одном из кораблей, что стоят на якоре в гавани. Или уплыть в другую страну, где тебя никто не будет искать. Если я не ошибаюсь, сейчас ты кажешься ему очень миленькой. – Она одарила меня широкой понимающей улыбкой.
– Безусловно, голубка моя, – ответил я с достоинством, – шерсть значительно улучшает то, что я видел, стоя у подножия башни. У меня есть друзья в порту Мурин. Если я буду рядом, тебе не откажут. Теперь ты одна из нас. Уверяю тебя, мы обращаемся друг с другом добрее, чем представительницы гнусной расы дев. Я буду беречь тебя.
Женщина будто уступила. Её глаза светились как желтые свечи.
– Итак, – сказала Ведьма, – ты никуда не можешь отправиться, истекающая кровью и сломанная, как птица, упавшая с ветки.
Она взяла голову девушки в свои руки, запустила пальцы в сумеречно-медовые волосы Магадин и нежно прижалась губами ко рту девы-бестии.
Все мышцы в измученном теле Магадин будто расслабились. Раны, причинённые прорезавшимися крыльями, исцелились в мгновение ока, изувеченная плоть покрылась перьями. Её хвост стал здоровым и пышным, а свирепые когти уменьшились до приемлемой длины. Трепещущие крылышки в косах слились с остальной массой волос, и те потемнели до цвета полированной бронзы, превратились в густую львиную гриву. Ноги девушки немного выпрямились, и она вновь обрела способность ходить, хотя форма ног осталась оленьей и рыбья чешуя не исчезла с лодыжек. Её кожа приобрела ровный сияющий тон, а полосы на плоти сделались темнее и ярче, выглядели естественными, а не пятнами на коже. Вся Магадин стала блистательным чудовищем, её трансформация была завершена, хотя навсегда осталась незаконченной. Я всё принял с восторгом.
Головы завыли от отвращения и ужаса, их горькие упрёки превратились в невнятицу, которую они извергали, брызгая слюной. Отстранившись друг от друга, две женщины обменялись торжествующими взглядами и пошли ко мне, рука в руке, не обращая внимания на истерившие головы. Оленья походка девы навсегда должна была остаться странной, как иноземный танец, но она улыбалась. Мы втроём покинули башню, как шустрые лисы, и, когда ступили на снежно-мёртвую траву, башня начала содрогаться от криков, раздававшихся внутри.
Ведьма так и не оглянулась, но небрежно взмахнула левой рукой в сторону чёрного монолита, взбираясь вместе с Магадин мне на спину. Башня тут же затряслась, как зашедшаяся от кашля старуха, и рассыпалась на части.
Мальчик хихикнул. Он теперь прилежно сидел напротив девочки, не осмеливаясь опять к ней прикоснуться. Она тоже тихо рассмеялась в темноте. Её взгляд взмыл к ветвям кедра в вышине, чёрным ястребом метнулся к нему и снова улетел. Они теперь волновались и пугались каждого звука, боясь услышать громогласные шаги Динарзад, которая, несомненно, находилась поблизости. Не было ужина, чтобы отвлечься, лишь они двое, изнывающие от желания рассказывать и желания слушать, неловкие и неуверенные, испуганные тем, что их могут обнаружить.
В ночи, что лёгким галопом двигалась к рассвету, точно норовистая кобыла, мальчик чуть придвинулся к девочке и настойчиво попросил не останавливаться.
Девочка глубоко вдохнула и продолжила; её голос был подобен колыханию ивовых ветвей над водой тёмного озера.
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
Когда Леандр в утренних сумерках покидал хижину, Ведьма одарила его многозначительной ухмылкой и поцеловала в щёку жесткими губами. Это был неловкий жест, и он не смотрел ей в глаза. Но рука старухи коснулась его руки и размотала повязку из листьев, скрывавшую обрубки. Принц был не слишком удивлён, когда увидел, что они полностью зажили, затянулись новой розовой и тёплой кожей, аккуратно обтягивавшей костяшки пальцев; не осталось ни крови, ни рубцов.
– Трава и листва, – сказал он с улыбкой.
Ведьма подмигнула.
Принц покинул её, наконец узнав, в чём заключается его Подвиг. Он пустился в путь через высокие горы с вершинами, тронутыми снегом, как бороды мудрецов сединой. И так до самого моря, что раскинулось перед ним, гладкое, будто платье. Его не пугали трудности, ведь он как-никак был воином, хотя Подвиг оказался утомительнее, чем он предполагал.
Например, Принц не догадывался, сколь важную часть Подвига составляет простая ходьба. Он шел, пока не сносил три пары сапог, проклиная отсутствие лошади. Ему пришлось топать через всевозможные ландшафты, от сырых болот до уютных ферм и горных ледников. И нигде, ни в одном посёлке его не встретили с радостью. Никто восторженно не кричал, что Принц почтил деревню своим присутствием – что за честь видеть вас, сир! – никто настойчиво не приглашал его за праздничный стол – только лучшее из нашего урожая для вас, сир! – никто не умолял усладить его слух песней о его приключениях – ой, расскажите же нам об ужасной Ведьме, сир!
Его почти не замечали: трактирщики были угрюмы, трактирщицы молчаливы и немолоды; молочницы не отличались дружелюбием, их бёдра были широченные, а сами они казались прилипшими к бокам своих коров. Через некоторое время Принц и сам не особенно отличался от самого нищего крестьянина – весь в глубоко въевшейся грязи, лицо кислое, как у священника во вторник, и без надежды раздобыть хорошую обувь. В общем и целом происходящее ничуть не походило на то, чего он ожидал.
Однажды вечером, когда солнце на западе подсчитывало дневное золотишко, Леандр нырнул в прибрежную таверну в северной части страны, над дверью которой висела странноватая вывеска – огромный кулак, крепко сжимающий рыбу. Он положил на стойку несколько монет и с наслаждением расположил натёртые ноги на влажном полу. Глотнул горького разбавленного эля, отдававшего кожей и тёплой желчью. Местечко было мерзкое, с десяток тёмных личностей в капюшонах поглядывали на него из куда более чем четырёх углов. Хотя в этом истории были правдивы: Незнакомцы с Сомнительной Репутацией наличествовали в изобилии, как белые барашки на морской глади.
Трактирщик, настоящий громила, выглядел так, словно некий гигант соорудил его из сваленных в кучу частей тела. Он размахивал толстой тряпкой, как мечом, и ржавое железо его глаз бросало вызов любому, кто заказывал выпивку. Его волосы были цвета песчаных отмелей, на которых застревали корпуса кораблей, ладони походили на барабаны. От него несло ламповым маслом и морской водой.
Он бросил на Леандра косой взгляд из-под тяжелых век и ничего не сказал, когда молодой Принц скривился, отведав содержимое кружки. Привередничать по части местной выпивки не хотелось, но пойло было столь мерзкое, что его лицо исказилось само собой. Трактирщик помрачнел и сплюнул. Леандр устал от бесцеремонного приёма, коим его удостаивали в разных унылых городишках, и воззрился на трактирщика.
– Ты знаешь, кто я такой?
Верзила за конторкой принялся разглядывать деревянную столешницу.
– Да, – буркнул он, – но не рассчитывай, что это даёт тебе право на лучший эль.
Принц закатил глаза.
– Я не поэтому спрашиваю, добрый человек. Твой эль, – ему пришлось подбирать подходящие слова, – хорош, как колодезная вода в моём доме. Но все, кого я повстречал, пустившись к Зловещим болотам, были грубы со мной, а у меня осталось очень мало времени, чтобы найти то, что мне нужно. Если бы горожане относились ко мне добрее, улыбались, кланялись и указывали дорогу, как указатели на пыльной обочине… Но они этого не делают. Я догадался, что ты знаешь меня, но ты ничего не сказал и не предложил свою помощь. Почему?
Мужчина пожал плечами, и его тело содрогнулось, будто сдвинулись континенты.
– Я знаю кое-что, чего не знают обычные люди. Они, скорее всего, не отличат тебя от королевской коровы. А если отличат… – Глаза трактирщика сверкнули, как корпус корабля в утреннем свете. – Сказать, что твоего отца здесь не любят, – ничего не сказать. Они бы пожелали вытрясти уплаченные налоги из твоей шкуры, если бы знали, что из этого выйдет толк. Они бы пожелали забрать назад детей, что исчезли в башне волшебника. А если не получится, они бы пожелали убить тебя в качестве расплаты. И я бы не стал им препятствовать. Тебе лучше оставаться неизвестным. Ты ужасно далеко от дома. Что здесь значит твоё имя, кроме указания на чужака-тирана? Не говоря о том, что у нас, крестьян, нет привычки помогать странным путешественникам. Мне бы больше пришлась по нраву собака с родословной вроде твоей, смекаешь? И я сказал тебе больше слов, чем всем посетителям за месяц, так что намотай их на ус и скатертью дорожка.
Сбитый с толку Принц повертел в руках кружку. Он уже начал привыкать к унижениям и к тому, что все делали из него дурака. Разумеется, это тревожило, но демонстрировать свою смелость и хорошие манеры прямо здесь не стоило.
– Но ты хоть скажешь мне, где найти Зловещие болота? Боюсь, я заблудился. И, – Леандр сглотнул, точно пойманная форель, – не знаешь ли ты сапожника, который продаст хорошую пару сапог?
Трактирщик взглянул поверх испачканной элем стойки на принцевы пальцы, выглядывающие из поношенных ботинок, как черви из мешка с наживкой. Он снова фыркнул.
– Когда-то, будучи ещё молодым, я отправился на болота. Я расскажу тебе историю, если ты уберёшься прочь отсюда.
Широкоплечий мужчина выпрямился, словно ребёнок, отвечающий урок. Когда он начал свою историю, его голос сделался глубоким, точно шум прибоя, а слова стали чёткими. Принц замер – к этому моменту он сделался отличным слушателем.
– Звать меня Эйвинд. Ты это имя точно не слыхал…
Сказка Трактирщика
В дни своей юности я был медведем. И нечего глядеть на меня разинув рот! В моих краях, что лежат так далеко к северу, как пустыни – к югу, много медведей. Вся моя земля покрыта снегом и населена гордым племенем медведей с бледной шерстью, которые правят хорошо и мудро. Когда мы шли по льду, напоминали волну, исчезающую прежде, чем пена коснется берега.
Я был одним из белых медведей, и очень счастливым. Я любил медведицу, а она была лучшей из наших рыбачек: могла опустить шелковистую лапу в стремительный поток с тающего ледника и выловить двадцать лососей разом, удерживая их, как букет полевых цветов. Её большие и тёмные глаза танцевали, словно огни, часто расцвечивающие ночное небо. Она была новичком в астрологии, но уже легко читала Звёзды, точно буквы. Когда она вставала на задние лапы, делалась выше, чем я.
В Стране Нетающего Снега наши дни проходили просто, за рыбной ловлей или охотой, рычанием медвежат и наблюдением за Звёздами. Мой народ всегда был народом великих астрологов, хотя вы, люди, редко к нам обращались. Иногда, всего один раз за много лет, собиралась Медвежья Конгрегация.
И вот её созвали в тот день, когда я и ещё несколько молодых медведей хотели объявить, кого мы выбрали себе в пару. Такие вещи зависят от движения Звёзд, нужно получить одобрение Конгрегации. Тюлений жир разложили блестящим ковром вместе с большими ломтями лосося, что розовее лапы медвежонка, которому час от роду. Сотни белых лис забили в честь Звёздных божеств, и я сделал из их шкур плащ для приношения.

Медвежья Конгрегация – то ещё зрелище. Медведи приходят со всех ледников, как ожившие куски льда, их глаза светятся ярче шкуры тюленя в холодной воде. К тому моменту, когда все прибыли, Звёзды уже засияли сквозь прорехи в небесном занавесе. Я поклонился им. Полезно быть вежливым, когда собираешься просить об услуге. Кроме того, я хотел убедиться, что они одобрят мой выбор – как-никак она была гордостью Страны Нетающего Снега.
– Звёзды шепчут на своих небесных плавучих льдинах, – начал один медведь.
– Да будут благословенны небесные охотники, – ответил я.
Всё это ритуалы. Никто не произносит слова, которые не звучали тысячу тысяч раз, даже первое повторение в этом ряду было лишь отзвуком однажды сказанного.
Все заняли свои места и с удовольствием стали пожирать тюленью плоть.
Когда мои соплеменники насытились и принялись кататься в снегу, большой косматый медведь выступил вперёд. Я знал его, это был Гунде, самый свирепый из нас.
– Звёзды шепчут, брат. Великий ужас случился далеко на юге. Красный летний пожар, что зовётся Острогой-Звездой, поведал мне. Одну из его сестёр… убили. Она была Змеёй-Звездой, прекрасной и зелёной, теперь она мертва.
Медведи издали жуткий скорбный вой, пронзительный, как костяная игла. Я содрогнулся.
– Мы рыдаем о нашей небесной тётушке, скорбим о хрупкой плоти. Это недобрый знак. Форма Звёзд искажена – знаки Чёрного Тюленя и Карибу-Окруженного-Волками совместились. Большая Лапа ретроградная. Мы изучили все знамения. В это тёмное время никому не позволено брать себе пару, настала пора скорби для всех, кто любит Звёзды. Нам жаль, братья.
Я завыл протяжно и низко, точно засыпанный снегом рог. Разве справедливо, что чья-то смерть в лесу лишила меня возлюбленной во льдах? Я запустил когти в мерзлоту.
– Возможно, через год, когда Созвездия снимут свои чёрные и серые вуали… – Гунде хотел успокоить меня, но я слышал ложь в его нежном рычании. Ведь Звёзды всё время скорбят. Они отняли у меня невесту раз и навсегда. Ничто не заставит их изменить своё решение. Как нас учили давным-давно, Звёзды не могут сойти с орбит.
– Мне нет дела до мёртвой змеебогини, – Медвежья Конгрегация ахнула от моего богохульства. Никто, кроме разгневанного меня, не смог бы махнуть мозолистой лапой на всю их братию. – Если вы не отдадите мне суженую, я заберу её, и мы отправимся к другому морю, где у Змей и Звёзд нет власти.
Позади меня раздались мягкие шаги. Сначала я услышал льдистый запах её шкуры, а потом увидел её чистые чёрные глаза, которые смотрели на меня с жалостью.
– Нет, – прошептала она, и её голос был как скольжение медвежонка животиком по льду. – Ты думал, что я провожу свои дни глядя на лёд? Я вижу небо, как все медведи, и лучше некоторых. Я видела, что знак Лисы-Которую-Трудно-Поймать опустился за горизонт раньше времени, а Луна потемнела словно китовая кровь на леднике. Потом, когда Нож Охотника взошел на юге, я знала, что тучи полны скорби. Этому не суждено случиться, Эйвинд. И более того – Сброшенный-Рог в Третьем Доме – у тебя не будет пары ни сейчас, ни потом. Ни со мной, ни с кем-то другим. Что написано, то нельзя стереть. Улыбайся, как сможешь, охоться со мной и рыбачь, но не проси идти в твою берлогу. Ты можешь проклинать Звёзды, а я не стану.
– Прекрасная бестия, избранница моего сердца! – Я плакал открыто, на виду у всех воинов, не в силах поверить, что мне отказано в том, что предназначено быть моим. – Нет, – воскликнул я, – я не стану улыбаться. Отправлюсь в южные леса и отомщу за смерть сестры-Звезды, змеебогини. Я исправлю зло, причинённое её священной плоти, и заслужу благосклонность Остроги-Звезды, Пронзающего-Подшерсток-Светом-Своим. Он даст мне мою невесту. Я сражался в тысяче битв с яростными волчьими стаями, эту битву тоже выиграю. Я одержу победу!
Моя любовь лишь покачала большой белой головой и тяжело ушла прочь по снегу.
Я немедленно оставил суетливую толпу на льду, ничего не взял с собой. Я ни разу не взглянул на Звёзды, чтобы получить напутствие; не услышал протесты своих братьев, не увидел слёзы моей яркохвостой подруги, что падали, как первый снег на замёрзшую землю. Я думал, что знаю правильный путь. Он простирался передо мной так уверенно и прямо, что я не удержался и ступил на него. Мои лапы нашли его с лёгкостью, потому что всё это, видимо, было написано давным-давно. Отчего же ещё могла умереть змеебогиня, кроме как ради моей мести за неё?
Как ты уже понял, я был очень глупым медведем.
Я отправился в путешествие на юг, в сторону от ледников, которые никто из моего рода раньше не покидал. Я ел лососей из стремнины, перевязывал свои лапы, когда они кровоточили от неустанной ходьбы, и всё время молчал, потому что было не с кем говорить. Во тьме ночей я смотрел, как Материнское-Молоко мерцает белизной на небе, извиваясь меж Звёзд, будто размотанная нить.
Мир обширнее, чем медведь мог себе представить. Он пожирает расстояния, как голодный медвежонок. После полного цикла луны мне было трудно понять, отчего вокруг не полыхающие джунгли Южных Королевств, почему солнце не налилось краснотой, а Звёзды не сложились в созвездия, о которых ходили легенды: Скорпион, Лев, Змей. Я всё ещё шел сквозь холодные ветра и горы, похожие на сломанные зубы. Если так пойдёт и дальше, моя любовь станет бабушкой с серой шерстью и серыми зубами раньше, чем я смогу назвать её своей.
Когда луна стала полной в третий раз с того времени, как я пустился в путь, и плыла по небу словно огромный кит, раскрывший все плавники и сияющий, земля и впрямь внезапно переменилась. Она стала влажной и полной зелёных штуковин; вода бежала свободно, ленивыми потоками янтарно-травяного цвета. Я был не из этого мира. Моя белая шерсть выделялась, как прореха, в зелёной ткани холмов. Повсюду рос высокий тростник, тонкий и золотистый, длинные ужи шныряли в воде. Я видел большие рощи тамаринда с шишковатыми красными корнями и кипарисы, что касались неба своими ветвями; шиповник и куманику, похожие на длинные женские волосы. Водяные птицы опускали клювы в блестящие ручьи, их перья сверкали, как нетронутый снег.
Я знавал лишь чистую, безупречную белизну моего дома, бледный горизонт, продолжавшийся до бесконечности. Зловещие болота превосходили всё, с чем мне приходилось встречаться ранее. Я уже чуял тяжелый сырой запах тех штук, что росли под землёй, извиваясь; мягкое прикосновение дождя и фрукты на ветвях. От страха и с непривычки моя шкура пошла волнами.
Пока я стоял, утопая лапами в грязи, большая водная птица отделилась от стаи и запрыгала ко мне, то переступая ногами-палочками, то взмахивая крыльями. Она была ярко-зелёной, цвета травы вокруг; некоторые её перья имели до того густой оттенок, что казались почти чёрными. Глаза серые, как внезапный ливень. Клюв загибался книзу, будто скимитар, и был таким же острым. Птица была такой яркой, наряженной в цвета неба, с которого сбежало сияющее солнце, что мне пришлось сощурить глаза, и так уставшие от многоцветья.
Птица резко остановилась поблизости, распахнув большие крылья и топнув ногой. Я чуял её плоть, точно солёную рыбу и плодородную землю.
– Должен признаться, – непринуждённо начала птица, – и впрямь курьёз. Мне придётся послать за Чудищем! Такое не держат в секрете, это грубо. Эй, ты, хватит стоять и таращиться, будто только что вылупившийся птенец! Можешь присоединиться к завтраку, во время которого мы обсудим, как с тобой поступить.
Бессвязно бормоча, я бросился за птицей, подымая тучи брызг – илистая зелёная вода доходила мне до колен. А она уже неслась далеко впереди, пересекая болота своим странным полулетящим шагом.
– Подожди! – позвал я, и мой голос пророкотал над трясиной, испугав цикад и зимородков.
– Ждёшь-пождёшь, воды не наберешь, дождь пройдёт да засуха придёт! – пропела большая цапля, бросив взгляд через плечо, и понеслась ещё быстрее. Мой спутник выглядел зелёно-голубым пятном, я за ним не поспевал.
Когда я остановился, еле дыша, а моя шерсть вся намокла от пота, увидел массивный холл из кривых тамариндов, ветки которых переплелись, создав крышу из листвы; в дверях расслабленно стояла цапля.
– Неужели тебе удаётся поймать хотя бы мышку, Эйвинд? Ну честное слово! – И она нырнула внутрь, оставив меня в растерянности от того, что моё собственное имя прозвучало из уст чудно́го создания.
Маленький обеденный сервиз из рогоза и ивовых корней стоял на столике в комнате, которую любой джентльмен с гордостью назвал бы своей. Тамаринды переплелись так, что вышло три кресла, бесчисленное множество шкафчиков, столов и витых лестниц, которые исчезали в туманной дымке, нависавшей над комнатой в точности там, где должен был располагаться потолок. Я не верил, что помещусь в маленьком холле, но он будто подстроился под меня – я и глазом моргнуть не успел, как красноватые ветви со скрипом зашевелились и соорудили длинный помост, в самый раз для меня.
– Мои тамариндики такие внимательные, – с любовью сказал хозяин дома и, погрузив клюв в маленькую чашечку, начал с удовольствием пить. Я рухнул на ароматное ложе с тяжелым вздохом; мои мышцы горели, точно ламповое масло. Только теперь я заметил, что мы не одни.
Огромное создание цвета запекшейся крови спокойно стояло в углу, уткнув морду в большую миску из дубовых листьев. Дальняя часть холла поднималась вверх и раздавалась вширь, чтобы вместить его. Красные рога этого существа жутким образом переплетались, и, пока оно прихлёбывало чай, я разглядел, что его зубы – и не зубы вовсе, а яркие валики из твёрдой кости.
– Чудище! Он тот, о ком говорил наш брат! Разве не потрясающе, что он пришел прямо на моё Болото?
– Да, ваше величество, – ответил алый монстр мелодичным голосом. В его глазах плясал смех, как осенние листья на воде. – У нас и впрямь редко бывают такие… августейшие гости.
– Величество? – спросил я, не в силах представить себе королевство, которым правила эта птица.
– Разумеется. Я Болотный Король. А это Чудище у меня вроде придворного, если хочешь знать. Печально, когда у короля всего один придворный, но он хорош.
– Вы так добры, ваше высокопреосвященство, – напевно произнёс монстр, и в его тоне чувствовался легчайший намёк на безобидное ёрничество.
– Не благодари, дорогой друг! Итак, нужно заняться делом, поскольку времени мало.
К этому моменту я был так озадачен, что не мог ничего сказать. Но я вынудил свой язык зашевелиться в сухой пещере рта:
– Откуда ты знаешь моё имя? Кто такой Брат, о котором вы говорите? Я не понимаю.
– Никто не ждёт от тебя этого, добрый малый! – заверил меня Болотный Король мягким, заботливым голосом. Чудище подмигнуло мне багровым глазом. Король продолжил: – Вы созываете свои собрания, а у богов есть свои. Мой брат, Острога-Звезда, явился к нам в гости несколько месяцев назад и сообщил о твоём приходе. Сиди тихо, и я расскажу тебе о его визите.
Сказка Остроги-Звезды и Цапли
Там, где ступал Лаакеа Острога-Звезда, болотная трава превращалась в уголь. Запах подгоревшего хлеба и медной стружки возвестил о его прибытии задолго до того, как над одним из холмов показалось зарево. Его свет расходился кругами, и всё вокруг вскипало, покрывалось горелой коркой и шипело. Каждый его шаг по Великому Болоту порождал струйки пепла, и лягушки да ужи разевали рты в безмолвном ужасе, когда срывавшееся с его пяток пламя задевало их слизистые тела. Я сначала услышал песню травы, исходящей паром, а потом увидел своего брата – миновало много лет с той поры, как он в последний раз прерывал свою одинокую охоту, ибо Лаакеа выслеживал луны, как иные охотники – быстрых оленей с серебристой шкурой.
Ты ведь простишь меня за цветистые фразы? Члены нашей семьи и впрямь очень любят, когда превозносят их красоту. Тщеславие – привычка древняя и почтенная.
Он, разумеется, был белым: Звёзды вроде него – маленькие и горячие – всегда белые. Его волосы струились свежевыстиранным полотном, длинные и прямые, до самой талии, а кожа была цвета бледнеющего горизонта, того же оттенка, что бумага, превратившаяся в пепел. За плечом у него висело большое копьё в чехле из кожи белой змеи, золотые глаза трепетали под бесцветными ресницами. Он ходил босым; в общем-то, на нём не было одежды, кроме белой повязки на узких бёдрах, украшенных замысловатыми татуировками, символами языка Звёзд. Чернила этих отметин были странного серебряного цвета и проступали, только когда к ним прикасался стелющийся болотный туман.
Я неловко обнял брата, который вошел в мой холл, превращая каждую щепочку в небольшой пожар. Ра-зумеется, мне не хотелось, чтобы сгорели мои тамариндики, но явившимся в гости родственникам следует оказывать должное внимание. Как заведено, я попытался начать приятную беседу и предложил ему выпить, но он отказался.
– У меня новости, и они не могут ждать. Ты хоть раз позволишь мне сказать всё, что надо, не прерываясь?
Я залился румянцем от смущения, но продолжал вести себя с достоинством и элегантностью. Приготовившись слушать, с удовлетворением подумал о том, что Чудище в тот момент занималось одним из Принцев, что временами навещают наши владения, так что Лаакеа никто не помешает рассказать свою историю. Он не очень-то любил Чудище – Звёзды обращают внимание лишь на себе подобных. В любом случае, они до жути педантичные создания, Чудище заскучало бы.
Лаакеа снял копьё со спины и тяжело вздохнул – кроны деревьев зашелестели от его голоса, точно бегущие мимо луны облака.
– Произошло ужасное – человек убил нашу сестру, Змею-Звезду с юга. – Он явно ждал моей реакции, но чёрный Ибис-Эмир уже побывал в северных землях, чтобы поведать мне о её смерти и пролить большие сапфировые слёзы в мои ладони. Увидев, что я не удивлён, Лаакеа продолжил: – Я поздно понял, что она слишком задержалась в проклятом королевстве, той больной земле с гнилостными ветрами и башнями, что царапают небо железными когтями…
Сказка Звезды
Должен признаться, я был слишком поглощён охотой, ибо преследовал великую редкость – Жар-Птицу, которая должна была стать свадебным подарком для моей бедной, несчастной сестры… Так вот, я выслеживал птицу в холмах и долинах, изрезанных реками. Ты знаешь, как мы любим то, что искрится и сияет. Нам кажется, что оно может вернуть что-то другое, давно утраченное.
Жар-Птицы любят красные фрукты, и я надеялся приманить её багровыми семенами, собранными с иксоры, пустынного факельного древа, – их нелегко добыть, но это любимое лакомство Жар-Птиц, яркое и мягкое, как вишня, с косточкой из кремня и кресала; из-за них и вспыхивает новое дерево. Говорят, некоторые Жар-Птицы даже гнездятся в ветвях этих деревьев и возвращаются к ним, чтобы отложить яйца в пепел, как лососи, плывущие вверх по реке.
Я поджидал добычу в солончаках, что граничат с пустыней, которая называется Пороховая бочка, и иксоры горели в ночи, согревая небо, пока солнце пряталось под землёй. В сумерках их оранжевые ветви мерцали, пощёлкивали и искрились, как походные костры, разведённые тысячами солдат. Жар-Птиц не было видно, однако меня это не тревожило: они скрытные, а факельный лес велик. Я несколько недель выискивал деревья, которые угасали и умирали, чтобы собрать переполненные соком ягоды, остававшиеся после них; просеял мёртвый пепел, но не нашел ни одного пламенеющего яйца.
Наконец, я засеял соль вишнёвыми семенами, яркими, точно капли крови. Определённо, Жар-Птица должна была ринуться вниз, чтобы схватить их своим бронзовым клювом.
Я ждал три ночи, но она не появилась. На третью ночь я и сам о ней забыл: на равнине появилось жуткое видение, которое вытеснило из моего разума мысли о добыче.
Три горничные нашей сестры – ты, разумеется, знаешь их, они были милыми девочками с нефритовыми травяными змейками и изумрудными гадючками в волосах – шли по песку, спотыкаясь и держась друг за друга, чтобы не упасть. Их жреческие одеяния свисали с худых тел, точно разорванные в клочья гигантскими когтями. Я отвернулся, чтобы не смущать молодых женщин – их нагота была едва прикрыта, а кожа цвета молодой листвы сделалась алой, обгорев на солнце пустыни. Они стонали и жалобно кричали, мучительное эхо отзывалось из всех окрестных каньонов. Поначалу я решил, что они кричат от боли, но то была похоронная, поминальная песнь. Они схватили меня и заставили повернуть лицо, взглянуть на их позор.
Брат, они выглядели ужасно – вряд ли я смогу тебе описать, на что были похожи их лица, покрытые ранами, которые переходили друг в друга, точно узоры на гобелене. Но даже этого показалось мало мужчинам, осмелившимся тронуть их священные тела: языки жриц были вырезаны грубыми ножами, остались только воспалённые обрубки, коих недостаточно, чтобы произносить слова. Одна из сестёр взяла у другой некий странный предмет и засунула в свой опалённый солнцем рот.
– Брат-копьеносссец, – прошипела она, – нашшшу госсспожу убили, она мертва, её больше нет. Люди, которые отняли у неё жизнь, сссделали ссс нами это. Они сссвинодемоны, их раздвоенные копыта изувечили наши тела. Мы шли пешком от сссамой её могилы, чтобы отыскать кого-то из её сссемьи. Умоляем, подари нам сссмерть, чтобы мы не ссстрадали дольше, чем необходимо для передачи поссслания.
Я с ужасом глядел, как вторая дева-жрица вытащила предмет изо рта своей сестры и засунула в собственный.
– Мы прошли долгий путь, чтобы найти соплеменника, который ссснимет бремя знания с наших плеч. Мы не можем совершить сссамоубийссство, тебе придётся нам помочь. Но взамен мы поможем тебе. Мы ясссновидящие, знаем, что будет, и видим течение времени – оно точно вода, которую переливают из одной чашки в другую. Ты должен отправиться на север и предотвратить свершение мести руками того, кто помешает воплощению замысла нашей госсспожи, кто сотрёт её священный труд лишь для того, чтобы написать сссверху своё имя. Она умерла и воссстала – в своей неуклюжести он лишит её этого, отнимет у тени последнее.
Она вынула кусок розовой плоти изо рта и передала последней сестре.
– Священные провидицы, что за бесформенную вещь вы передаёте изо рта в рот? – спросил я с содроганием. Работала такая ужасная магия, что я едва осмелился заговорить. Звёзды дают предвидение тем, кто привязан к земле, мы же не вмешиваемся в будущее. С чего вдруг моей сестре понадобилось нарушать традицию?
– Мы украли его у Васссилиссска, – жалобно прошептала третья провидица, – это язык, так что мы можем говорить и передать тебе предупреждение. Следовало ли нам справиться с тремя монссстрами? Мы сссёстры, мы делимссся друг с другом.
Третья сестра, определённо, была старшей и самой лучшей провидицей. Она закрыла свой единственный глаз и, не меняя интонации, произнесла пророчество, ради которого им пришлось пройти такой долгий путь.
– Ты должен отправитьссся к Болотному королю. Существо из ссснега и когтей придёт к нему, умоляя отомстить за нашу госсспожу, чтобы заслужить право на твою услугу. Ему нельзя позволять ссследовать этим путём. Змеи сссами ссспособны за себя постоять: ей не нужна помощь животного. Если он встанет на её место, её смерть будет напрасссной – его дорога должна уйти в сссторону от её дороги, так мы видим. Он лишь сделает её смерть напрасссной. Изгибы её тела ещё шевелятся, и Подвиг этой твари разрушит всссе планы. Ты понимаешь, Брат-Копьеносссец?
Я выразил своё согласие традиционно, прижавшись лбом к её лбу и принимая их груз. После этого все три одновременно рухнули на песок, и их падение было не громче падения змеиной шкуры на дюны. Они сильно потускнели: голод, солнце и горящие леса высосали из них почти весь свет. Язык Василиска выкатился изо рта третьей сестры и упал на горячее золото земли. Их глаза закатились, рты беззвучно воззвали ко мне, и я хорошо понимал их просьбу.
Но я не мог сделать того, что они просили, – это и птице понятно. Смерть – стена, за которую мы не смеем заглядывать, и никогда раньше одна Звезда не убивала другую. Я не стал бы первым, кто лишил жизни соплеменника.
Взамен я собрал с песка вишенки, похожие на капли крови. К чему они были мне теперь? Моя сестра не смогла бы полюбоваться на полыхающее разноцветье Жар-Птицы. Я перенёс женщин и плоды в лес факельных деревьев и уложил под сенью иксор. Отсветы их пламени ложились на лица жриц – наверное, так они сами светились, когда моя сестра взяла их к себе.
Я поочерёдно вонзил своё копьё в ствол каждого факельного дерева. Кора у них была почти чёрная и жесткая, отвердевшая из-за постоянного горения. Но внутри они пустые, там ничего нет, кроме пепла и тонкой жилы с кипящим соком, потому что деревья пожирают самих себя. И, только спалив всё без остатка, дают плод, ценное семя, и умный садовник поймает его в полёте ещё до того, как дерево рассыплется белым пеплом, чтобы оно не взорвалось и не сгорело впустую, упав на жесткую почву пустыни.
У меня был целый мешок этих своенравных маленьких штуковин, незачем ждать, пока умрёт иксора. Я осторожно вытащил из влажной мякоти фруктов косточки-огнива, словно извиняясь перед высоким деревом, – пусть на его месте вырастут целые джунгли. С той же аккуратностью я разрубил пролегавшую под толстым слоем пепла жилу с соком и полил жидкостью, похожей на расплавленный воск, раздавленные красные вишни.
Эту смесь я вложил в рот каждой из трёх провидиц, а потом – прости моё высокомерие, брат Цапля! – рассёк собственную руку и добавил в обжигающее лекарство свет моего тела. Для нас нет более святой жидкости, и я не знал, что ещё могу для них сделать.
Прошло много часов, прежде чем они смогли сесть, а моя рана почти исцелилась. Они не поблагодарили меня, их лица были черны от отчаяния, но змейки в волосах потянулись ко мне и зашипели мелодично и умиротворяюще. Сполна испив чашу скорби, провидицы двинулись прочь в пустыню, мимо деревьев, шатаясь и поддерживая друг друга. Проходя мимо кучки семян, самая молодая пнула её, и семена превратились в череду вспышек и облако густого дыма.
Сказка Остроги-Звезды и Цапли (продолжение)
Он закончил свою историю.
– Ох! – воскликнул я. – Бедный Василиск! Он что же, лишился языка? Какая горестная участь! На прошлое равноденствие я посетил его пещеру, и он так красиво пел.
Лаакеа бросил на меня суровый взгляд, ясно давая понять, что неожиданный поворот в судьбе моего друга Василиска его совершенно не волнует.
– Ты понял, брат Птица. Когда существо явится сюда, останови его.
– Как же я могу остановить того, кто вознамерился совершить Подвиг? Чего ты от меня ждёшь? Нарушения правил гостеприимства?
Лаакеа фыркнул:
– Мне всё равно. Убей его. Запри в стволе дерева. Я верю, тебе хватит мудрости. Нам пора прощаться. Я многим пренебрёг, отправившись на твоё болото, – мне следует посетить погребальную церемонию нашей сестры.
– Негоже кому-то из нас вмешиваться в то, как люди вершат свои Подвиги. Они любят этим заниматься – Подвиги для них столь же ценны, как и собственные сердца.
– А кто сказал, что речь о человеке? – отозвался Лаакеа с видом заскучавшего ребёнка.
На этом облачённый в белое брат покинул мой дом и, вновь опалив траву, отправился на юг – пар стелился за ним как вуаль, но вскоре рассеялся, будто воспоминание, и Звезда исчезла из вида, а отзвуки её шагов затихли.
Сказка Трактирщика (продолжение)
– Юный друг, ты видишь, в чём моя дилемма, – Болотный король забавным образом скрестил ноги-тростинки. – Я ни в коем случае не могу позволить тебе довершить задуманное. Ничего личного, разумеется. Пусть женщины сами вершат своё возмездие. Тех, кто вмешивается, редко благодарят – взять хотя бы историю моего дорогого Остроги в качестве примера! Так вот… Я полагаю, не стоит и надеяться, что тебя можно убедить поскорее отправиться домой и сделаться отныне и вовек хорошим медведем?
Я поёрзал, еле сдерживая рыдания.
– Не могу же я просто сдаться! Я пойду дальше, будь твой рассказ правдой или нет. Если Звезда замыслила возмездие из могилы, быть может, она подарит мне мелочь, о которой я прошу. Неужто боги всё это устроили, чтобы лишить меня подруги? Разве супружество – ужасная вещь?
– В общем-то весьма незначительная вещь, – мягко проговорил Болотный король. – Боги, если ты желаешь их так называть, ничего не устраивают. Просто мир – ворох карт, которые тасует судьба, и мы с тобой мало что можем сделать, когда она разбивает колоду. Нужно научиться принимать поражение с достоинством. Ведь существует и благородное слово «долг».
Я топнул в гневе, и ветви холла взволнованно заколыхались.
– Должен быть выход! Я намерен совершить Подвиг! Его нельзя просто так прекратить! Надо победить или проиграть, он не обрывается внезапно!
– Я верю, что ты, скажем так, начинаешь понимать. Я вижу, что тебе трудно признать свой проигрыш. Дело в том, что Подвиг – не свойственная твоему племени вещь. Моему тоже, если на то пошло. Подвиги для людей, это их изобретение, чудовищное баловство, пристрастие. Они навсегда сделали его своим. Каждый твой шаг, дорогой Эйвинд, обкрадывает людей, лишая их сокровища, доставшегося весьма дорогой ценой. Очень печально, что лишь Подвиги придают их жизни какой-то смысл. Они вообще – печальная раса. Нам стоит поплакать о них, но не сильно. И мы уж точно не должны перенимать их смехотворное пристрастие к самоубийственному поведению. Я придумал способ, позволяющий не дать тебе достичь краёв, где погибла моя сестра, и одновременно дающий маленький шанс на получение желаемого. Я превращу тебя в того, кем должен быть отправившийся на Подвиги, – в человека.
Я разинул рот. От ужаса моя шерсть встала дыбом и пот увлажнил мои большие белые обвислые щёки.
– В человека? За что мне такое наказание?
– Это не наказание, несчастное чудище, – усмехнулся Болотный король. – Ты отправился совершать Подвиги, взялся за вещь, которую делают только люди, – как правило, неимоверно глупые. И потому ты должен стать человеком, если хочешь и дальше следовать по этому проклятому пути. Если вдуматься, всё просто и прелесть как гармонично. И человек – не самая кошмарная форма, в которую можно перевоплотиться.
– Но если я стану человеком, Змея-Звезда не будет меня слушать: Звёзды сторонятся людей, прячутся от их пота и вони. Я больше никогда не увижу свою возлюбленную! Она сама убежит от меня, приняв за охотника. Я не смогу этого вынести…
– Ох, успокойся. Я не говорил, что это навсегда. Знаешь, тебе стоило бы подумать о том, что подруга не так уж обязательна для выживания. Погляди на нас с Чудищем! Мы беззаботные холостяки и вполне счастливы, нас ничуть не беспокоит отсутствие в этом доме больших и важных медведиц.
Тут Чудище отвлеклось от тихой игры с самим собой в триктрак из кусочков коры.
– Ммм? О, да, мы вполне счастливы. Только мухи, знаете ли… Его высочество временами переходит к весьма беспорядочной диете – нужен крепкий желудок, чтобы смотреть на такое.
Он вернулся к партии, которую вёл с азартом, но определённо проигрывал.
– Что ж, – Болотный Король вежливо щёлкнул клювом, – как бы там ни было, ты пробудешь человеком относительно короткий период. Я уже обсудил этот вопрос в деталях с некоторыми малыми Звёздами – белыми карликами и прочими. Я упакую тебя в человечью кожу туго, как в перчатку, пока, – тут он театрально прочистил длинное голубое горло, – девственницу не проглотят целиком, море не станет золотым, а святые не отправятся на запад на крыльях яиц, не знавших наседки.
– Во имя Звёзд, это ещё что такое? – ахнул я.
– Не имею ни малейшего понятия! Великолепно, не так ли? У оракулов всегда получаются лучшие стихи! Я лишь повторил то, что мне сказали, – довольно невежливо с твоей стороны ожидать помимо магии и пророчества ещё и разъяснений. Ты просишь слишком много, пусть даже у Короля. – Он разволновался, от возмущения его перья переливались фиолетовым. – Просто смотри в оба, только и всего. Море превратится в золото. По мне, такое не пропустишь. Скорее всего. Хорошо, что знаки столь очевидные. По-моему, ты должен быть благодарен. Теперь стой смирно, и давай-ка займёмся делом.
– Постой! Я ещё ни на что не согла…
Я хотел протестовать, но обнаружил, что мой язык больше мне не подчиняется: он сделался коротким пеньком и прилип к нёбу. В ужасе я взглянул на свои могучие и красивые лапы и увидел эти несчастные ступни цвета теста, покрытые неопрятным пухом, смехотворным образом торчащие из нижней части худых ног. Одним прикосновением крыла Болотный король превратил меня в урода – и, без сомнения, в человека.

Однако монарх и сам переменился. Он теперь был не высокой царственной птицей с внушающим уважение и трепет размахом крыльев, а согбенным стариком с длинной бородой, которая переливалась всеми цветами трясины – зелёным, коричневым и серым солончаковым. Чем-то он походил на рыбу, с землистой влажной кожей и широким тонкогубым ртом.
– Что это? – пробубнил я, изо всех сил ворочая никчёмным языком.
– О чём ты? Прости, конечно, мне следовало объяснить. Когда ты был животным, я принял сообразный облик благородного животного. Теперь ты человек, и я кажусь тебе лицом преклонного возраста: к подобным мне твои соплеменники испытывают уважение. Я оказываю тебе любезность. Можешь не благодарить.
– А как же Чудище? – беспомощно спросил я. Тварь с алыми копытами была совершенно такой же, как раньше.
– Чудище – оно всегда Чудище, – ответил монарх скучающим голосом, в котором чувствовалась нежность.
Услышав своё имя, придворный задиристо мотнул головой.
– Просто Чудище, – заверил он.
Болотный Король встал и выпроводил меня за дверь с видом хозяина, который внезапно понял, что лишь один гость отделяет его от уютной постели.
– В путь, Эйвинд, мой мальчик, – ха-ха! Ты ведь теперь и вправду мальчик! Восхитительно. Мы ещё увидимся, я не сомневаюсь. Спеши! Счастливого пути и прочей чепухи!
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
Тело Эйвинда расслабилось. Он тяжело опустился на стул и вздохнул.
– С той поры я человек. Я старел и толстел, пока опять не стал похож на медведя, с этим брюхом и волосами. От этого никакой пользы. Я не медведь. Пытаюсь им быть, но это не так. Я всё ещё жду, что море превратится, а оно не превращается. Я держусь поближе к Болотам, надеясь, что короли и вправду не лгут. Хотя надежды у меня почти не осталось: ведь твой отец тоже король. Болота отсюда менее чем в неделе пути к северу. Жизнь меня сломала. Наверное, я умру в этой грязной таверне, подавая пиво всяким паршивцам.
Принц глядел на столешницу, покрытую завитками и спиралями древесных узоров, похожими на отпечатки пальцев.
– Мне жаль, что так вышло, – пробормотал он.
Лицо Эйвинда побагровело.
– Мне не нужна твоя жалость, мальчишка, это бестолковый груз. Я дам тебе пару сапог – не обещаю, что они подойдут, – если ты передашь послание и спросишь негодную птицу, когда я верну назад то, что мне принадлежало. Я устал ждать.
– Ты… ты про Болотного Короля, да?
– Парень, ты глуп, как медвежонок, который ещё мамку сосёт. Да, про Болотного Короля. Неделя пути на север – и ты утонешь по колено в грязи и угрях. Теперь бери это и мотай отсюда, пока я не предъявил счёт за стул, который ты портишь.
Он бросил на стойку пару грязных, смазанных ваксой чёрных сапог на несколько размеров больше, чем требовалось молодому Принцу, и исчез в задней комнате, что-то проворчав себе под нос.
Леандр робко взял сапоги и, вспыхнув от взглядов потрёпанных завсегдатаев, выскользнул из таверны.
Он отправился на север, как сказал Эйвинд, и действительно попал на Зловещие болота, чья граница была чёткой линией, за которой начиналось царство влажной зелени, насыщенной запахами гниющей травы и костей. Принц легко учуял запах самого Левкроты, медный и острый, впрямь напоминавший запах крови. Болота были обширны и окутаны дымкой, точно нефритовый узор на полированной древесине, сквозь трясину вели цепи луж, а вокруг шумел камыш, и цапли замирали, стоя на одной ноге. Вода блестела, точно драгоценное ожерелье, а под водой сновали жирные угри и виднелась мерцающая рыбья чешуя.
Вообще-то болота показались Принцу очень красивыми, но с каждым шагом его чрезмерно большие сапоги погружались всё глубже, пока он не замедлился до такой степени, что встревожился – не застрять бы совсем, ведь следовало вернуться к Ведьме до новолуния, чтобы выполнить обещание. Поэтому он тащился через болота, грязь хлюпала вокруг его сапог, доставая до ножен меча в промокшем мешке. С каждым новым шагом гигантские сапоги грозили окончательно увязнуть в трясине, но в последний момент шлёпали о щиколотки.
В центре болот была роща тамариндовых деревьев, их красноватая кора поблескивала, словно под ней прятались тлеющие угли. Привлечённый цветом, Леандр на миг застыл, созерцая их. Но он уже насытился магией и всерьёз опасался, что некто ужасный, обитающий внутри, задержит его. Принц обошел рощу по широкой дуге, хоть из-за этого и пришлось промокнуть по пояс.
Далеко уйти не удалось – у него на пути возникла фигура, словно созданная целиком из воды и травы.
– Как ты смеешь меня оскорблять, проходя через мои земли, не нанеся визит?
Дымчатый силуэт сгустился, обратившись в старика, чьи усы свисали, как у сома, а волосы казались водопадом мха. Глаза у него были в точности того же оттенка, что и болотная вода, – зелёно-коричневые, мерцающие. Рукава мантии сделаны из речного тростника, а плащ – из опавшей листвы, украшенной желудями.
Он преспокойно завис в трёх футах над ближайшей травянистой кочкой, упираясь перепончатыми ступнями в воздух и задумчиво покуривая трубку из ивовой ветки.
– Ну? – многозначительно спросил он.
Принц мог захлебнуться словами или мучительно их подыскивать, как умирающая форель ищет воду, которой нет и не будет. Вместо этого он медленно моргнул – раз, другой – и тяжело опустился на поросший мхом валун.
Болотный дух добросердечно рассмеялся.
– Бедный птенчик. Должен признать, в какой-то момент от такого немудрено и голову потерять. Я Болотный король, – он отвесил короткий вежливый поклон, – а ты явился от Ведьмы из долины, чтобы убить моего друга Чудище. Я, разумеется, не позволю тебе сделать подобное, но с удовольствием побеседую на эту тему – если пожелаешь, можем устроить дискуссию.
– Дискуссию? О том, убью я Левкроту или нет? – спросил Леандр, смущенный.
Болотный король радостно кивнул лохматой головой.
– Он предпочитает обходиться без формальностей – просто Чудище.
– Хорошо – убью я Чудовище или нет?
– Боюсь, мой мальчик, ты не понял. Просто Чудище. Он считает, что Чудовище звучит слишком помпезно. Он славный парень, Чудище.
– Хорошо, Чудище.
– Чудище.
– Убью ли я его?
– Дискуссия – штука тонкая. – Болотный король мечтательно вздохнул. – Припоминаю одну удачную, лет пятьдесят назад. Был другой длинноногий убеждённый птенчик, преследовавший Чудище… Они иной раз как нагрянут. Ну что, устроим и мы такую же, давай?
Глаза Болотного короля сверкнули, точно угорь проплыл на мелководье, весёлый и шаловливый.
Дискуссия Болотного короля
Последний юноша, явившийся к нам, вёл себя довольно нагло, будто алый плащ, украшенный золотыми кистями, давал ему на это право. Он тоже не почтил меня визитом, но, когда я появился перед ним, проявил любезность. А потом расстелил свой плащ на той скале и уселся, скрестив ноги, в равной степени желая подискутировать со мною и отрубить голову бедному Чудищу.
Я начал с самого простого, как ты сам убедишься:
– Итак, почему ты хочешь убить Чудище? Оно не одалживало у тебя меч и не забывало вернуть, не портило твой любимый портшез, вообще тебя не трогало!
– Я Принц, – ответил юноша с глуповатой уверенностью. – Функция Принца (А) – убивать монстров (В), восстанавливать порядок (С) и поддерживать стабильное количество дев (D). Если подставить производное от величины А (Принц) в уравнение y = BC + CD2 и приравнять всё к нулю, учитывая вершину параболы, а именно точку пересечения А (Принц) и B (Монстр), можно определить значение величины E, которая представляет собой стабильность в королевстве. Это сложно, если у вас есть карта под рукой, я лучше всё нарисую.
– Ох, мой мальчик, – сказал я после того, как он почти испортил одну из моих топографических карт, исписав её уравнениями. – Чудище не монстр. Он не глотает девушек, будто сэндвичи с огурцом, а ведёт себя как положено воспитанному Чудищу.
– Но ведь он весьма уродлив? – настаивал Принц.
– По мне, он славный парень, но некоторые могут счесть его невзрачным. Это да.
– И от него исходит смрад?
– Тут спорить с тобой не буду – с подветренной стороны лучше не становиться!
– И у него в самом деле жуткая челюсть из кости и большие высокие рога?
– Да-да, ты верно описал Чудище!
– Так он монстр! – радостно воскликнул Принц. – И я должен немедленно его прикончить. Формула действует!
– Результатом твоей формулы окажется нешуточная битва, – задумчиво проговорил я.
– О да, если применить её верно, случается великая и благородная битва! Разумеется, я всегда побеждаю, ведь значение Принца Икс – константа. Оно не может быть меньше значения Монстра Игрек. Такова гипотеза морального превосходства, получившая широкую известность пятьсот лет назад благодаря моему предку Этельреду, королю-математику. Равный ему так и не родился за все века.
– О да, ничуть не сомневаюсь.
– Если мы закончили, думаю, мне пора заняться доказательством, – сказал Принц, для тренировки размахивая мечом. – Это мы называем смертоубийством, – пояснил он, занеся меч высоко над головой. – Потому что всякий раз, когда погибает монстр, происходит доказывание гипотезы.
– Как мило с твоей стороны дать этому действу столь… благозвучное наименование. Но я не могу допустить подобное.
– Но… но… – Он был так уязвлён, что поперхнулся словами. – Формула!
– Невзирая на формулу. Это моё королевство, и никакого насилия в его пределах не будет до тех пор, пока я здесь правлю. По крайней мере это ты должен понять. Здесь моё слово – закон.
– О да. – Принц кивнул. – Универсальный монархический алгоритм находится в основе теоремы.
– Теоремы?
– Надлежащего поведения.
– А-а.
– Я защитил диссертацию по монархическому алгоритму, – заносчиво предупредил молодой человек. – Если вы не позволите свершиться насилию на вашей земле – один момент, я произведу подсчёты, – он снова принялся калякать что-то на моих красивых картах, – я брошу вызов, и, если Чудище в курсе, как подобает вести себя монстрам, оно не ответит отказом на вызов благородного вельможи.
Я вздохнул, признавая своё бессилие:
– Да, тут ты прав.
– Ну тогда вперёд! – ответил Принц и удалился быстрым шагом, напевая себе под нос мнемоническую мелодию.
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
– Мой милый мальчик, ты только послушай! Тот юноша попытался броситься на Чудище со скалы, нависавшей над местом битвы – как неспортивно! – и его руки-ноги запутались в рогах бедолаги Чудища. Ушла не одна неделя, чтобы их убрать. До чего же неприятная была работёнка! Возможно, ты будешь действовать разумнее. Итак, – Болотный Король уставился на Леандра поверх перламутровых очков, – ты знаешь какие-нибудь формулы или теоремы?
Принц покачал головой.
– Благодарю за это широкополую небесную шляпу! Вероятно, такой стиль правления вышел из моды. Но боюсь, ты всё равно упорствуешь в своём желании побеспокоить Чудище в неподобающий час.
– Мне придётся.
– Но почему? Мы уже установили путем повторения весьма приемлемой вторичной дискуссии, что Чудище не монстр. – Болотный Король озадаченно сморщил свой зеленоватый нос.
– Я знаю. – Леандр вздохнул. – Но это неизбежно. И я должен задать вам вопрос, прежде чем объясню свою цель.
– Мне? – Болотный Король заметно просиял, от удовольствия у него встопорщились усы. – Почти все молодые люди приходят ради Чудища! У меня давным-давно не было посетителей. В чём же дело, мой милый, симпатичный, великолепный юноша?
– Эйвинд хочет знать, как долго ему ещё ждать, пока море превратится в золото.
Болотный Король сморщил высокий лоб и уставился в небо.
– Не уверен, что малый с таким именем мне знаком, – с грустью признался он.
– Он… он был медведем, а вы превратили его в человека. – Принц вдруг расстроился. История казалась достоверной, словно каменная плита, когда трактирщик её рассказывал. Но престарелый монарх фыркал и хмыкал себе под нос. Наконец, его лицо вспыхнуло, точно фестивальный фонарь.
– Ох! – воскликнул он. – Медведь-звездочёт, конечно! Знаешь ли, не так и долго. Вероятно, быстрее, чем ты доберешься домой к своей Ведьме. А возможно, и нет. Я не веду учёт таким вещам. И с чего бы? Я помню всё, что мне требуется. И поскольку я ответил на твой вопрос, скажи, чего тебе вздумалось требовать от моего дорогого друга Чудища?
– Мне… мне нужна его шкура. Чтобы вернуть девушку к жизни. Я убил её и должен всё исправить.
– Ох, – сказал Король с отвращением, – как это гнусно с твоей стороны. До чего омерзительное действо ты предлагаешь. Даже не обсуждается!
– Так-так, – над Болотами разнёсся гулкий голос, похожий на звук, с которым воздух покидает кузнечные мехи, сжатые гигантскими руками. – Друзья мои, не стоит обсуждать меня в моё отсутствие, это невежливо.
Через обширное болото к ним приближалась тёмно-алая туша Левкроты, чьи рога кроваво сверкали на фоне неба. Воздух тотчас наполнился его запахом, как седельный вьюк, – то был запах недвижных озёр крови, мерцающих в лучах солнца, колодезных вёдер и винных фляг, фарфоровых ваз и тростниковых корзин, наполненных ею: горячий, медный, влажный и неумолимый.
Однако шкура Чудища была до странности красива – цвета тьмы, тайных рубинов и гранатов, рассыпанных на снегу. Его рога возвышались как башни, занятые лучниками с сильными руками, и разветвлялись, точно лес, охваченный огнём. Массивная челюсть слегка свисала, открывая потрясающую белую кость. На мощных лапах он двинулся к Принцу; в бесконечной тьме его глаз, лишенных белков, посверкивали искры, словно от удара кремнем по кресалу.
– Мой дорогой монарх, я могу сам разобраться со своими делами? – нараспев произнёс он.
– Разумеется, Чудище, я не хотел тебя обидеть. Прикончи его в своё удовольствие.
– О, я не обиделся, старина. И я бы ни за что не рискнул посягнуть на то, что в твоей юрисдикции. Только после тебя, – спасовало Чудище.
– Ох, нет, после тебя. – Болотный король отвесил ему поясной поклон.
– Я настаиваю.
– Слышать ничего не желаю.
Левкрота одарил Леандра долгим оценивающим взглядом:
– Ты сказал, моя шкура? Не слыхал, чтобы для неё нашлось применение в целительстве, но, если Ведьме она нужна, я, как джентльмен и монстр, должен уважить её просьбу.
Принц и Король застыли, шокированные.
– Но мы должны сразиться! – заупрямился Принц.
– Не смеши меня, мальчик. Я распотрошу тебя за минуту. Просто бери шкуру и бегом назад.
Болотный король, потрясённый, возопил:
– Дорогой мой мальчик, я вынужден возразить! Вы устроите в моём болоте бардак. И шкура – не карманные часы, её нельзя просто взять и отдать. – Он топнул ногой, поросшей мхом, но никакого звука, разумеется, не получилось, так как он парил над водой.
Левкрота пожал плечами:
– Полагаю, новая вырастет в течение месяца.
Он опустил мощную багровую голову к груди и принялся снимать с себя шкуру, как ребёнок кожуру со спелого яблока, одной длинной спиралью.
– Знаете, – задумчиво проговорило Чудище, пока перед ним росла груда его собственной кожи, – во времена Ведьминой молодости мы были почти приятелями. Как я могу отказать такому милому созданию? В своё время она была красавицей: шрамы и татуировки, её лицо божественно изуродовано. Уродливость её черт для меня являлась столь же приятной, как первый летний фрукт, красный и безупречный, свисающий с ветки, покрытой каплями росы. – Чудище мечтательно вздохнуло. – Такая, как бы вы её назвали, «безобразная внешность», собранная в одном человеке, встречается редко. – Он многозначительно взглянул на Болотного короля, который несмотря на старость был наделён величественной красотой. – То, как её татуировки отражали шрамы, великолепная симметрия чёрных чернил и белых рубцов на коже… Будь я трубадуром, какие песни я бы сочинил ради её красоты! А как сверкали её волосы! Словно моя собственная шкура, полыхающая в лучах солнца!
Чудище счищало остатки шкуры с копыт, груда перед ним стала гигантской и тёмно-алой, как кожа в мастерской дубильщика. Само Чудище, судя по виду, не испытывало неудобств, лишь стало ещё краснее, чем прежде; его мышцы блестели от выступивших капель и ручейков крови, что сочилась из него и капала на болотную траву, точно краска. Ветер обдувал обнаженную плоть, но монстр будто наслаждался прикосновениями его призрачных пальцев к своим массивным ляжкам.
– Не бойся, мой оленёночек, – ободрило Чудище Принца, – это совсем не больно. Я даже взбодрился. Посоветовал бы вам обоим попробовать сделать то же самое в качестве укрепляющего средства. Только у вас анатомия… неподходящая, скажем так.
Принц не мог отвести изумлённых глаз от Левкроты, сидевшего перед ним с беззаботным видом, истекая кровью. Он начал собирать шкуру в мешок.
– Ты не задержишься, чтобы послушать, как я познакомился с Ведьмой? – воскликнуло Чудище, и его голос был наполнен болью, как мех вином. – После того как я в точности выполнил твою просьбу? Мама не учила тебя вести себя вежливо с монстрами, которые не соизволили тебя сожрать?
Лицо Леандра залилось краской, и пала тишина, как шерстяное одеяло.
– Похоже, нет, – заключило Чудище. – Сядь-ка рядом со мной и послушай мою историю. Я тебя не трону, вот увидишь.
Солнце пряталось за лохмотьями облаков где-то высоко в небе. Оставалось ещё много времени до того момента, когда бег часовых стрелок обратился бы во вред Леандру. Опасаясь, как бы Болотный король не превратил его во что-нибудь непотребное, Принц тихонько вздохнул и приготовился слушать.
Сказка Левкроты
Она меня спасла, эта маленькая шалунья. Меня угораздило сразиться, как оно нередко бывает, с сыном Герцога Восточных герцогств – типом в узорных доспехах из серебра и слоновой кости. До жути непрактично, разумеется, но сыновья Герцога всегда были щёголями. Я уже продырявил ему левый бок своим рогом, но, увы, не задел ни одного жизненно важного органа, зато в его ударах появилась ярость, которой не постыдились бы двенадцать волков, рождённых от одной матери. Он отчаялся, бедолага. Но в отчаянии сумел воткнуть меч мне под рёбра, почти по самую рукоять.
Высокородный прохвост хорошо подготовился. Моё сердце располагается не возле рёбер, как у людей – оно бы с трудом поместилось! – а глубоко в животе, и жадный клинок к нему даже не приблизился. Тем не менее я оказался в весьма затруднительном положении, так как пародия на меч застряла во мне, а сам сын Герцога собирался отрубить мне голову.
Однако в миг его триумфа, который, должно быть, породил сладость в его молодом рту, стрела вылетела из деревьев со скоростью цапли, заметившей рыбу, и вошла глубоко в плечо моему противнику – удар был такой силы, что парня сбросило с моего корчившегося тела. Из дубовой рощи выскочило блистательное создание, одетое в восхитительные паршивые и завшивленные шкуры, с гривой наподобие яростного терновника. По всей видимости, у неё были сильные и гладкие бёдра, а лицо какой-то неизвестный мне мастер – настоящий художник! – прекраснейшим образом уничтожил, разбил на части, закрасил жирными чёрными мазками. Её запах прикончил бы стаю антилоп, случись им оказаться поблизости… Прогорклый пот, волокнистое мясо – запах голода, металлический и острый. Я вдохнул этот сладкий аромат, как пар от остывающих пирогов.
Чудесное видение вскочило на противного герцогского сынка, прижав его к мшистой земле. Женщина сидела на нем, тяжело дыша и обнюхивая его доспехи, как животное. Я с тоской вообразил себе вонь её дыхания – был уверен, что в ней окажется та особенная комбинация гнилого шпината и варёных яиц с глубокими нотами червивой древесины, о которой я так часто мечтал.
– Что ты творишь? – прохрипела она, оскалив зубы. – Ни одно животное не будет убито в моём лесу. Это мой закон, все люди в королевстве его знают.
Столь правильная речь меня удивила. Вероятно, я размечтался, вообразив себе желтые зубы и то, как она будет изъясняться при помощи фырканья и шипения. Тем не менее получил огромное удовольствие от того, как Принц начал корчиться от страха, будто новорожденный поросёнок.
– Я… я прощу прощения! Извините меня! Я не знал… я… я не из этой страны!
Его протесты не приносили пользы, она лишь сильнее наваливалась, так что симпатичные доспехи стали врезаться в его кожу. Он взвыл, весьма меня порадовав.
– Невежда, – прошептала она, и боль стиснула её горло, точно корсет, – у животного есть душа! Внутри оно вполне может оказаться чем-то иным, нежели чудовищем. Да кто ты такой, чтобы убивать прежде, чем познавать сущность?
– Никто! Я никто! – Тут он принялся нешуточно рыдать, огромные слёзы лились по невыразительному лицу. Странное дело, меня парень совсем не боялся, но под этой женщиной был слаб и лишь верещал так громко, что застыдился бы и обычный свинёнок.
Она закатила глаза.
– Даже ничтожество вроде тебя здесь не убьют. Но поклянись мне, что бросишь Подвиги и посвятишь свою жизнь Принцессе, которую ты, вне всяких сомнений, оставил бездельничать дома.
– Я клянусь! Я клянусь! – После этого признания женщина встала, предоставив сыну Герцога, чья туника начала промокать от травы, возможность безутешно рыдать.
– Не могла бы ты его убить? Ну хотя бы чуточку… – предложил я своим лучшим и самым обходительным голосом. Её глаза повернулись ко мне – две ямы, чью глубину не измерить, бросив камень.
– Таков мой закон, – невыразительно проговорила она. – Я тебя не знаю. Откуда ты взялся в моём лесу?
– Что именно делает этот лес твоим? У тебя есть на него купчая?
– Нет, я просто взяла его себе. Люди не осмеливаются подвергать это сомнению.
Я возбуждённо задёргался от скрипучей шероховатости её голоса.
– Я не человек, как видишь, а Чудище, вид Leucrotta Furialis. Так меня назвал этот щенок. Благодарю тебя за помощь, это было весьма любезно.
– Любой зверь, попавший в беду, получил бы то же самое. – Она закинула за спину лук, явно изготовленный собственноручно из подвернувшегося под руку молодого ясеня. – Я Ведьма из Долины. Всё, что дышит в этом лесу, находится под моей защитой. Не считай, что я оказала услугу лично тебе. Если вы оба меня поняли, я вас покину.
– Стой! – Я подбежал к ней, демонстрируя свой цвет, себя в полный рост и во всей красе. – Я должен отплатить за твой смелый поступок и выполню любую твою просьбу, прекрасная госпожа.
Не обращая внимания на завывания герцогского сына, который не поднялся, а сидел и с жалким видом ощупывал стрелу в плече, она оценивающе взглянула на меня, приподняв одну лохматую бровь.
– Ты убьешь Короля, если я попрошу? – спросила она негромко.
– Разумеется, ягнёночек мой. – Я чуть поклонился, вытянув передние ноги. – Но меня трудно назвать малоприметным, поэтому я не смогу войти в Замок незамеченным. И оружия у меня нет, чтобы причинить ему вред, а не просто, хм, сожрать, что тебя, как я предполагаю, совершенно не устроило бы, поскольку в этом случае не осталось бы совершенно никакого тела. Думаю, для такого задания нужен другой монстр. – Я многозначительно посмотрел на несчастного Принца, успевшего увидеть собственную кровь и, судя по всему, готового потерять сознание.
Улыбка прорезала её лицо, как рапира, вспоровшая бок противника. Это было прекрасное уродство.
– Мальчишка, что ты об этом думаешь? Тебе хотелось бы убить Короля в обмен на собственную жизнь?
– О да, – сказал он тоненьким голосом и всхлипнул. – Если это вас порадует… Только больше не стреляйте в меня! Я до ужаса боюсь острых предметов и отправился на Подвиги лишь потому, что отец назвал меня трусом, послал за знаменитым Левкротой! Он хочет шкуру, понимаете? Для убийств.
Я душевно согласился.
– Мой сладкий персик, с моей шкурой и из неё можно сделать множество гнусных вещей. Я слыхал, на лучших чёрных рынках за неё дают кругленькую сумму.
– Но ты сделаешь это для меня? – Её ничто не могло сбить с курса. – Ты отправишься во Дворец и вонзишь в Короля нож?
– Да-да! – Сын Герцога упал на одно колено перед Ведьмой, как принято делать принося присягу. – Только в какого именно?
– Того самого, мальчик. Кого же ещё? Того, что во Дворце.
Она была нетерпелива, конечно. Для ведьм есть лишь один Король – тот, который их обманул, и один Дворец – дом, в котором он живёт.
Справедливости ради, Короли иной раз такие же тупые, когда называют себя священными сосудами и владыками всего, что над землей и под ней, хотя на самом деле владеют лишь несколькими лоскутками одинокой грязи, на коих расположены ещё более одинокие домишки.
– Ты узнаешь этот Дворец, – прибавил я, решив помочь. – Его окружают две реки: одна белая, другая чёрная.
– Да-да, госпожа, я пойду и выполню ваше задание. Но… меня послали не только убить Левкроту. Ещё есть дева, заточённая в башне…
Тут Ведьма сплюнула и опять закатила свои прекрасные глаза.
– Этих безобразниц вечно кто-то где-то запирает. Если бы они там и оставались, – проворчала она. Сын Герцога густо покраснел, как девушка, застигнутая нагишом.
– Тем не менее её держит в плену ужасный Волшебник, обитающий в этих краях, и мне поручили её спасти. Если я завершу ваш Подвиг, кто завершит мой?
Сердито фыркнув, Ведьма наклонилась, выдернула древко и перевязала рану, так ничего и не сказав. Убедившись, что работа выполнена хорошо, она наконец заговорила, и в её голосе слышалось колючее, сладостное раздражение:
– Привычка менять подвиг на подвиг мне отвратительна. Она бесполезная и убогая, как поношенная корона. Но я готова делать много вещей, которые мне отвратительны, если так добьюсь смерти Короля. Возможно, к упомянутому тобой Волшебнику это относится в большей степени. Я выполню твой Подвиг сама и освобожу паршивку из заточения.
Она что-то пробормотала на ухо лошади и скормила ей кусок яблока, которое прятала в своём мешке.
– Ступай, – приказала она юноше, – и убей только Короля. Вернись в Долину, когда совершишь убийство.
Сын Герцога галопом умчался прочь. Много позже я узнал, что он учинил великий скандал, убив какого-то безобидного монарха совсем в другой части света.
Я же остался с невыплаченным долгом, как нищий перед блистающей украшениями королевой.
– Что касается меня, – мягко проговорил я, – я по-прежнему твоё верное Чудище, с котором можно делать что захочешь.
Она на миг задумалась:
– Твоя шкура и впрямь пригодна для убийства?
– Несомненно, мой лимонный пирожок. Это довольно уникальная часть моего тела: я отращиваю новую каждый месяц, словно фруктовое дерево. Если её порезать на полоски и смазать определённым составом из белладонны и иссопа, она вызовет паралич у мужчин, рождённых под знаком козла. Вымоченная в настойке из тысячелистника и фенхеля с капелькой крови мантикоры, она сделает так, что у женщины, которая понесла в новолуние, случится выкидыш, или же ребёнок, которого она родит, умрёт во сне в возрасте семи лет от остановки сердца. Но тот же ребёнок оживёт, если его завернуть в шкуру, как в одеяло, и будет жить долго, если станет носить её так, чтобы она касалась его собственной кожи. Это особенно интересный трюк, потому что, если ребёнок потеряет шкуру, он тут же упадёт замертво, хотя благодаря ей мог бы прожить сто семь лет. Измельчённая в порошок с добавлением горсти муравьёв из обычного муравейника и меры маринованной печени саламандры, моя шкура вынудит человека, слишком увлечённого публичными речами, проглотить язык на банкете в свою честь… Есть много применений, каждое особым образом связано с мужчиной или женщиной, коим надо навредить. Насколько мне известно, не существует ни одного благородного способа её использования. Но я не изучил этот вопрос как следует, поэтому утверждать не берусь. Все хотят её заполучить именно из-за вредных свойств, а не для того, чтобы согреться или прикрыться.
Я испытывал гордость, рассказывая о своей шкуре, ибо она и превращала меня в уникального зверя. Ведьма сморщила великолепный лоб, цветом напоминавший скисшие сливки.
– Тогда ты заплатишь мне двойную цену. Однажды мне понадобится твоя шкура. Ты должен будешь предоставить её без вопросов и промедления. Согласен?
– Это честь, моя пышечка, моя изюминка! Я буду ждать, когда ты призовёшь меня. А пока воспою твою красоту во всех уголках мира, чтобы все знали то, что знаю я: в Долине обитает сокровище, которое превосходит все рубины, что рождаются в недрах земли.
Ведьма рассмеялась с таким звуком, будто напильник впился в ржавое железо.
– Во-вторых, помоги мне освободить девчонку. Дурацкое задание но, чем быстрее начнём, тем быстрее закончим. Ты пойдёшь со мной?
Я подавил внезапное желание пуститься в пляс от радости.
– С превеликим удовольствием, медовая моя. Вообще-то мы могли бы с этим справиться ещё быстрее, если ты, – я едва сдерживал своё нетерпение, – соблаговолишь меня оседлать.
– Монстры всегда такие дружелюбные? – задумчиво проговорила Ведьма.
– Мы должны беречь друг друга, – ответил я негромко, – потому что нас мало и становится всё меньше. Ты не знала?
– Я не всегда была монстром, – прошептала она.
Она забралась ко мне на спину с лёгкостью ветерка, будто ездила на мне верхом лет десять. На мгновение я услышал, как у неё странным образом перехватило дыхание, словно она увидела свою потерянную любовь или давно умершего ребёнка. Ведьма с великой нежностью погрузила руки в мою гриву и, если не ошибаюсь, прижалась к ней лицом, вдохнула мой запах.
– Прошло много лет с той поры, как я сидела верхом на лошади, – восхитилась она. Я возразил, что не являюсь лошадью, но она будто не услышала. – То место, где девы чаще всего оказываются в заточении, расположено к северо-западу отсюда, в центре безымянного леса, в безымянной башне.
И дня не прошло, как мы прибыли туда, и я сам не ожидал наслаждения, которое испытал от ощущения седока, хоть весила она не больше ветки остролиста и была неприветлива. Приятно быть ручным и слушаться приказов, отданных грубым голосом… Не исключено, я захочу повторить этот опыт!
Башня оказалась монолитом из чёрного камня, вырубленным из одного большущего куска обсидиана; в её стенах отражалась тёмная рябая пародия на зелёную красоту окрестных лесов. Небо над нами было равномерно серым, словно металлическое тело пушки, угрюмые облака тащились на запад. Башня стояла посреди того, что некогда являлось лугом, а теперь превратилось в круг иссохшей травы, мёртвой и белой: душистые сосны и берёзы не росли на этой земле. Верх строения был заострённый, как водится у башен, и напоминал огромный наконечник стрелы, высунувшийся из земли. Её архитектура была противоестественной, она превосходила даже то, что можно построить при помощи магии, и я чуял запах детской крови в нежном колыхании травы у её подножия. От жути этого места мороз шел по коже, но Ведьму будто ничто не волновало. Она спешилась и прямиком направилась к башне. Затем, обратив лицо к её злобной вершине, прокричала:
– Женщина! Выходи оттуда! Я пришла, чтобы… – Ведьма в сердитой растерянности бросила взгляд на безжизненную траву. – Я пришла, чтобы спасти тебя, – наконец проговорила она таким тоном, словно взглянула со стороны на своё лицо, покрытое волдырями. Я на миг отвлёкся, созерцая её прелестный облик и волдыри, но мои грёзы прервали самым грубым образом – из окна на вершине башни выглянула голова.
Она была увенчана отвратительными золотыми локонами, которые длинными косами ниспадали за парапет, и на её гладком болезненно-розовом лице сияли глаза, цветом напоминавшие голубоватую шкуру утонувшего угря. Грудь девицы была приподнята сообразно дурацкой моде, затянута в слишком тугое белое платье, которое не демонстрировало ничего, что могло бы меня заинтересовать. Девица являла собой то ещё зрелище. Истинная мерзость! Возможно, она сама заточила себя в башне, чтобы мир не видел её уродства. Безусловно, по сравнению с моей восхитительной Ведьмой, то была жаба, бородавка, гнойный прыщ.
Существо с любопытством поджало губы и проговорило голосом, сладким как испорченное молоко:
– Разумеется. Подымайтесь.
В теле башни бесшумно появилась чёрная арка, лишенный света занавес, который раздался, чтобы открыть новую, ещё более глубокую тьму. Бросив на меня многозначительный взгляд, Ведьма вошла в эту дыру, и я потрусил за ней.
– Я хорошо знаю темноту, мы с ней быстро сдружились. Если старик пытается так меня напугать, он большой дурак, – прошептала она.
Мы быстро поднимались, жидкий камень мрачной лестницы скользил под нами. Я шел за Ведьмой во мраке по запаху, след её тела освещал мне путь. Долгое время не было других звуков, кроме нашего дыхания и стука наших ног по камню, подобных лесному дождю. В этом было что-то приятное.

Мы покинули утробу теней столь же внезапно, как вошли в неё – ступили в круглую комнату на вершине башни, в центре которой стояла дева, точно драгоценный камень в железном кольце.
– Добро пожаловать, – мелодично произнесла она. – Меня зовут Магадин.
Её голос эхом отразился от сводов комнаты, будто стрела, отскочившая от мишени. Поначалу мы не могли сказать ни слова – так нас поразил облик девушки. Её голова, которую мы видели снизу, была воплощением перламутрового величия, позолоченного и гладкокожего, отвратительного для меня, но красивого, по меркам смертных. Остальное её тело было ужасным и великолепным. Руки покрывала густая красновато-коричневая шерсть, а венчали их лапы с когтями, достойными зависти. Бёдра изгибались на манер нежных оленьих ног. Из-под лопаток прорезались бирюзовые крылья, рассекшие кожу и оставившие широкие кровавые полосы. Ступни переливались зеленью, точно подводные опалы, перепончатые и покрытые слизистой плёнкой, как у жабы; ноги под полупрозрачным платьем были серебристыми, покрытыми гладкой полупрозрачной рыбьей чешуёй, а из щиколоток выглядывали тонкие, словно пёрышки, плавники. Груди девы, снизу казавшиеся молочно-белыми и без единого пятнышка, на самом деле были покрыты белой шерстью с тигриными полосами, и над её нежными ключицами уже начали проступать тёмные хищные полосы. Волчий хвост уныло покачивался за спиной, разорвав украшенную бисером ткань. Кончики её кос слегка трепетали, сквозь кудри поблескивала покрытая жилками поверхность стрекозиных крыльев.
Что ещё хуже – вокруг неё на стенах висели отрубленные головы, некогда принадлежавшие другим девам, и все они находились на разных стадиях преображения: одна была наполовину покрыта змеиной шкурой, её волосы яростно шипели; другая утратила рот, вместо которого красовался клюв; ещё у одной глаза жутким образом усохли, и из-под завесы тёмных волос виднелось лицо, напоминавшее морду летучей мыши. Нас окружал зверинец из бестий-принцесс, и их глаза, наблюдавшие за нами, выглядели не такими уж мёртвыми.
– Теперь вы понимаете, – тихим виноватым голосом произнесла дева, – почему меня до сих пор не спасли. И почему никто не сторожит дверь. Они приходят десятками – симпатичные рыцари, все как на подбор, – и убегают, точно испуганные белки, когда видят, какая я на самом деле.
Я увидел, что на лице Ведьмы появилась жалость. Она заключила деву в нежные объятия, и та заплакала большими красными слезами, капавшими на её платье, как неведомое вино.
– Расскажи мне, что он с тобой сделал, – мягко попросила Ведьма, гладя принцессу по узорчатым волосам.
– Он пытается меня изменить, – пискнула Магадин голосом раненого ястреба, – как пытался изменить их. Он забрал меня из отцовского дома…
Сказка Девы-Бестии
Я родилась далеко отсюда, в ночь зимнего солнцестояния, во время шторма, который срывал черепицу с крыш и заполнил небо тучами, что были чернее сажи из дымоходов. Я сделала первый вдох в высокой башне, оплетенной плющом и лилиями, похожими на нарастающие луны, сделанные из серого камня с прожилками кварца. Ветер бился в окна, небо кипело от грома. Повитуха отдала меня в руки матери; мои глаза были широко распахнуты, а во взгляде читалось удивление. Мать улыбнулась мне – её лицо было уставшим и белым, полным печали, – и умерла, а моя маленькая ручка продолжала сжимать её палец.
Когда дикие альстонии и каштаны зацвели и опали двенадцать раз, мой отец женился снова, на женщине со светящимся лицом и волосами, похожими на реку огня; она была точно живое солнце, которое вошло в наш дом. Звали её Иоланта. Молодая вдова с обширными владениями и двумя собственными дочерьми, Изаурой и Имогеной – немного старше меня, одна красивее и горделивее другой.
Я вижу твою улыбку, Ведьма. Ты думаешь, что знаешь финал моей истории.
Но они были не такими, как их необычная мать, а неимоверно скучными и глупыми. Вся их ценность заключалась в золотых переливах тщательно причёсанных кудрей. Золотые птички, пустоголовые щебетуньи, девушки не отходили друг от друга, всегда держась за розовые ручки. Я же, смышлёная и умная, быстро стала любимицей мачехи. Она была властной женщиной, мой отец подчинялся любому её шепоту, как жеребёнок хозяину.
Я её обожала. И, понятное дело, новые сёстры меня возненавидели.
Всё, что я знала о собственной матери, – истории, рассказанные отцом, о последней улыбке, мягкой и грустной. Всё это растаяло, как парок над чашкой чая при виде Иоланты, что ярко сияла, чей смех зажигал люстры, чьи великолепные тёмные платья величественно подметали наши залы, заполняя дом. Призрак моей матери не мог этого сделать.
Через некоторое время стало ясно, что она предпочитала меня собственным детям, багровевшим от ярости и зависти. Мне же дела не было до жеманных глупышек. Мачеха стала моим миром: совсем меня очаровала. Я переняла её манеры, стала высокомерной и резкой, но притягательной для всех; была чудом Дворца, отцовской гордостью. Я взрослела, становилась красивее и мудрее, с наслаждением поглощая содержимое домашних библиотек. Я была тьмой там, где мачеха – светом; я была бледна, словно зимний ветер, в то время как она розовела, словно летний закат.
На мой шестнадцатый день рождения, когда такие вещи обычно и происходят, герольд объявил у каждой двери в королевстве, что королевский Волшебник ищет юную девушку, достойную стать его ученицей, и что все родовитые семьи обязаны представить своих дочерей в назначенный день и час. Конечно, все мы были возбуждены как ягнята, набившие рты люцерной, – каждая из нас не сомневалась в том, что будет избрана для жизни, преисполненной богатства и власти.
Иоланта услышала эти призывы, и её лицо потемнело. Она тогда была на последних месяцах беременности и в тёмном платье с длинным шлейфом выглядела очень величаво. Баронесса закрыла двери за благонамеренным герольдом и запретила нам, всем троим, проситься в ученицы. Взамен она провела меня по каменной лестнице на вершину высокой башни, укутанной в плющ и лилии, точно растущие луны. Она навалилась на тяжелую дверь, и та со скрежетом открылась, впустив нас в комнату, теперь заполненную ветхими книгами и древними свитками. Тем не менее ложе моего рождения и смерти моей матери стояло на прежнем месте, обращённое к высокому, заострённому кверху окну, гладкое и чисто-белое, будто оно никогда не пробовало нашей крови.
– Дочь моя, – начала Иоланта голосом, напоминавшим журчание воды над речными камнями, – ибо я надеюсь, что могу называть тебя своей родной девочкой, будто я дала тебе жизнь в этой комнате, где умерла твоя настоящая мать. Я бы хотела быть твоей матерью, чтобы спасти тебя от долгих лет одиночества. Моя родная кровь, как ты знаешь, вышла не столь удачной. – Она пожала плечами и раздраженно подняла глаза к потолку. – Они милые девочки, и я растила их, как могла. Возможно, избаловала. Их надо хорошо выдать замуж, чтобы обогатить наши земли. Но, хотя они будут наследницами твоего отца, моими им никогда не стать. Конечно, это не значит, что я позволю отправить их к грязному Волшебнику в железных ошейниках.
Её глаза полыхнули яростью, точно костры на привале зимней ночью. Без напряжения, не вставая с кресла, она коротко взмахнула рукой в направлении одной из полок, и тяжелый том в алом переплёте послушно прилетел в её белую кисть с длинными пальцами. Я ахнула, вытаращила глаза, и её низкий, мелодичный смех заполнил всё вокруг.
– Ты не знала? Все мачехи – ведьмы. Такова награда за то, что мы обречены быть чужачками там, где властвовали другие женщины. Это, дочь моя, столь одинокая участь, что и словами не описать. Даже он, – она с нежностью коснулась своего округлившегося живота, – не подарит мне покой. Сын будет возделывать землю и сражаться с врагами, но твоя мать, как и прежде, останется Хозяйкой Дома, а я буду лишь жиличкой. Тень твоей матери повсюду меня опережает. Я зову тебя своей дочерью, и она замирает от невыносимой ярости. Но что бедняжка может сделать? Она давно мертва, а я живая. Доченька, доченька, доченька, – гортанно пропела она, точно бросая вызов пыльному сквозняку. – В этом по крайней мере ты можешь быть моим настоящим и преданным ребёнком. Если хочешь познать магию, я научу тебя, и учить буду без ошейника. Тебе откроются тайны, что хранятся в этих томах и в моём собственном сердце. Когда ты пленница в доме мужа, это помогает бороться со скукой.
– Но почему ты противишься Волшебнику? Разве магия, которой он учит, хуже твоей?
Иоланта стиснула зубы:
– Я думала, ты умнее, малышка Магадин. Тебе не показалось странным, что ему нужна девочка, в то время как в большинстве случаев в ученики берут детей того же пола, женщины – девочек, мужчины – мальчиков? Или то, что ему вообще нужен ученик. Ведь он раб, серв, и ошейник означает, что сила его продана, как и сила его сына, отца, отца его отца – до самого источника магии, что в его крови. Он ничего не может делать без позволения Короля, они прикованы друг к другу. И я не отправлю ни одну из моих девочек в такое место.
– А ты не рабыня? Не серв?
– Нет, моя девочка, я не такая.
И вот на протяжении недель, остававшихся до назначенного дня, пока яблоки из рощ с неохотой превращались в мускусный сидр, я училась у неё – понемногу, урывками. Большей частью я читала её книги. Редко видела отца и сводных сестёр, уединившись в башне своего рождения. Мои пальцы покрылись чернильными пятнами, точно у клерка, а наряды стали проще и более тусклыми, потому что мне быстро наскучили парча и ленты, очаровывавшие сестёр. Когда родился мой брат, я пребывала в башне, мои нечёсаные волосы покрывала пыль. Его назвали Измаилом, но у меня это не вызвало интереса. Придя в себя, мачеха присоединилась ко мне, и мы проводили часы, стряпая отвары и мастеря приятные, пустячные чары. Я была счастлива и уверена, что вскоре придёт черёд настоящего знания.
Глубокой синеязыкой зимой настал день Волшебника, и мне пришлось расплатиться за это счастье.
Я спряталась под лестницей, как велела Иоланта, а Имогена и Изаура втиснулись в высокий гардероб. Мои сёстры в ужасе вцепились друг в друга и дрожали как два нежных оленёнка, брошенных в зарослях мамой-оленихой. Они не протянули мне руки, но резко захлопнули двери. Я сжалась в комочек под лестницей. У нас не было права пищать и чихать, а мачеха собиралась сказать посланцу, что лихорадка сгубила её дочерей, когда пришли холода. Я наблюдала сквозь трещины в досках, как она собирается лгать ради нас.
Но явился не гонец, а сам Волшебник в струящемся сине-коричневом одеянии, с длинными седыми космами и тяжелым железным кольцом на шее, где знатному человеку полагается носить драгоценности. Ошейник как будто не доставлял ему неудобств, и второе «украшение» того же веса и цвета он держал в своей жилистой руке.
– В этом доме три девочки, верно? – величаво проговорил он, нацелив орлиный нос на мою мачеху.
Она опустила сияющую голову, изображая скорбь.
– Все мои дочери погибли, когда выпал первый снег. Лихорадка пришла в наш дом; хорошо, что я спасла своего сына, очень многие погибли…
– О, хватит. – Он не дал ей договорить: его голос рассёк её голос, как нос корабля рассекает волну. – У меня нет на это времени. В доме трое детей, и, если ты их не предоставишь, я это сделаю сам. Я слышу, как две из них скребутся в большом чулане, точно голодные мышки. Не хотите выйти? Я не причиню вам вреда, а если вы будете хорошими девочками, могу даже угостить вкусным сыром.
Дверца гардероба приоткрылась. Мои золотоволосые сёстры были любопытными и глупыми. Они неуверенно выбрались из своего укрытия и прижались друг к другу, робко уставившись в пол.
На лице Иоланты не дрогнул ни один мускул. Она опустила голову ещё ниже, почти согнулась в поклоне перед высоким мужчиной.
– Я не хотела вас оскорбить, поверьте, – она заплакала, и настоящие слёзы закапали на плиты пола. – То, что я рассказала, правда – мороз забрал мою старшую дочь, которую обожали все в этом доме. Я не рискнула бы позволить двум другим дочерям, при всем их уме, бороться за предложенный вами почёт – я не смогла бы потерять и их тоже! – Моя мать рухнула на пол, жалобно рыдая и хватая его за сапоги, умоляя о милосердии. Я могла бы рассмеяться, будь я такой же глупой, как мои сёстры.
Волшебник будто поверил и, заставив её подняться, вытер слёзы на её лице:
– Ну-ну. Ты очень некрасивая, когда плачешь, лучше так не делай. Давай-ка поглядим на твоих двух ярочек, да? – Он поднял железный ошейник, и Иоланта слегка вздрогнула. – Это простая проверка. Каждая из них примерит мой ошейник, и, если одной повезёт, и он придётся ей впору, девочка пойдёт со мной и выучится разным прекрасным вещам. Жизнь у неё будет такая, что и королевы позавидуют. Это звучит прекрасно, не так ли, девочки?
Мои сёстры кивнули, дрожа от страха, точно листья, влекомые ветром по пустой улице. Он подошел к ним, как мужчина подходит к лошади, которую хочет приручить, и его длинные бледные пальцы сперва коснулись Имогены.
– Пожалуйста, сэр, – прошептала она. – Я не хочу.
– Что ж, маленьким девочкам приходится учиться делать вещи, которые им не нравятся. Так устроен мир, – утешительно проговорил Волшебник и, открыв замок на сером ошейнике, надел его ей на шею.
Ошейник лёг на ключицы, точно увядший венок.
– Видишь? Не так уж страшно. Ты слишком слабая, чтобы от тебя была хоть какая-то польза. Следующая!
Изауру чуть не вырвало на ноги Волшебнику.
– Прошу вас, сэр, – взмолилась она. – Я не хочу.
Он хохотнул и не стал тратить силы на ответ: защёлкнул ошейник на её тонкой шейке, мягкой, точно у лебёдушки. Он был столь тугим, что Изаура едва могла дышать. Тогда я увидела, что ошейник особенный, и выбор делал он, а не Волшебник, потому что железное кольцо сжимало шею моей сестры, как кулак, пока она не закричала и не начала отчаянно его сдирать.
Гость разочарованно вздохнул и быстрым движением снял ошейник.
– Пусть это послужит тебе уроком, женщина. В сеть из лжи ничего не поймаешь, как не выудишь рыбу ложкой.
Он повернулся на каблуках, чтобы уйти, и я увидела, как тело Иоланты облегчённо расслабилось. Но моя сестра – о, Имогена, маленькая гадюка! – крикнула ему вслед:
– Погодите!
Она посмотрела на Изауру, ища поддержки, и запоздало спохватилась.
– Да? Ты что-то хотела сказать, душечка?
Имогена пискнула и не смогла выдавить ни слова. Изаура отпустила руку сестры и сделала шаг вперёд, словно примерная ученица.
– Мать солгала. Магадин не умерла… никто не умер. Она под лестницей, прячется, как крыса.
Я верю, что в этот момент Иоланта могла бы задушить собственное дитя. Но она не протестовала. Да и как она могла протестовать?
Изаура метнулась через всю комнату и радостно распахнула деревянный люк, закрывавший пространство между лестничными пролётами.
– Привет! – ликующе воскликнула она.
– Как ты посмела? – прошипела я.
– Мы устали от твоего гонора, твоих дурацких чёрных пальцев и твоих секретов. Ты маленькое чудовище. Никто не желает тебя здесь видеть.
– Да! – закричала Имогена своим тоненьким голосом. – Мы надеемся, что этот жуткий ошейник тебе и впрямь подойдёт, и ты уйдёшь отсюда, чтобы никогда не возвращаться! Ты это заслужила!
– Почему? – спросила я, всё ещё скорчившись в своём убежище.
– Ты украла её у нас! – отчаянно завопила Имогена, точно птенчик, выпавший из гнезда. – Она наша мать, не твоя, а ты забрала её! Мы были счастливы, пока не переехали в этот ужасный дом! И теперь у неё другой ребёнок – она совсем забудет про нас!
Имогена горько заплакала, Изаура же не пролила ни слезинки. Она схватила моё запястье и вытянула меня из темноты, так что я полетела, спотыкаясь, к ногам Волшебника. Лишь тогда девочки увидели взгляд матери, в котором сквозил холод виселицы. Имогена разрыдалась ещё сильнее и умоляюще тронула мой рукав.
– Прости, попытайся понять… – прошептала она.
Изаура тянула её прочь.
– Примерь его и сдохни, Магадин, – зашипела она.
Я заставила себя встать перед Волшебником, который скалился будто кот из джунглей, только что сожравший очень жирную мышь. Он протянул ошейник, но я чувствовала, как мачеха взглядом сверлит мою спину, и отказалась опускать голову. Волшебник поджал сухие губы, шагнул вперёд и с неимоверной скоростью защёлкнул эту штуковину на моём горле.
Ошейник лёг так хорошо, что я едва почувствовала его вес. В зале не раздавалось ни звука, но я видела, что Изаура прячет улыбку за рукавом. Волшебник проверил петли ошейника и передал меня своим людям, бросив в руку Иоланты три серебряные монеты – в обмен за меня.
Когда меня выталкивали из дома, я услышала за спиной глухой удар: моя мачеха потеряла сознание и рухнула на каменный пол.
Сказка Левкроты (продолжение)
– Теперь вы понимаете, что случилось, – сказала дева-бестия. – Не было никакого ученичества. Мы не ходили во Дворец, Волшебник сразу запер меня здесь, и я сижу в этой башне уже пятьдесят с лишним лет. Каждые две недели он приходит и заставляет меня пить ужасные снадобья, втирает в моё тело мази, от которых по моим венам бегут жгучие молнии. Он сохраняет меня молодой и сильной, потому что я продержалась дольше остальных, у него никогда не было такой подопытной крысы. Он не может допустить, чтобы я превратилась в старуху. Но ничего не получается, и скоро я буду висеть на стене вместе с ними, а он начнёт всё заново с другой девушкой. Мне же придется смотреть, как она умирает, точь-в-точь как сейчас другие девушки смотрят на меня.
Ведьма подняла лицо девушки и вытерла ей слёзы, будто краски с холста. Она подбодрила бедняжку улыбкой, и её лицо вспыхнуло, как костёр в ночь летнего солнцестояния.
– Когда-то Волшебник держал меня в плену, чтобы найти тот же секрет – старик им одержим. Но я сбежала. Сбежишь и ты. Никогда не доверяй Принцам! Если тебе нужно чудо, доверься Ведьме.
– Ты ничего не сможешь сделать, – возразил я. – Всё зашло слишком далеко, даже я это чувствую. Сбрось её с башни, избавь от мучений.
Но Ведьма лишь низко гортанно засмеялась, издав звук, похожий на клокотание сотни горных ручьёв:
– Чудище, я посвятила свою жизнь тому, чтобы срывать магические планы этого человека. Я стала сильнее после нашей последней встречи, а он барахтается в лужах своих немногих грязных умений. – Она замолчала, её взгляд погрустнел. – Но, боюсь, я не смогу стереть то чудовищное, что в тебе уже есть. Я не могу сделать тебя той девушкой, которой ты была когда-то. Подобное нельзя исправить, если всё зашло слишком далеко. В минувшие времена с этим управилась бы – причём легко – любая из матерей, что были до меня. Но с тех пор многое произошло. Я не могу воссоединить тебя с племенем дев. Но я могу помочь тебе стать частью племени монстров. Ты будешь жить, спасёшься.
Глаза девы-бестии расширились от прилива горьких слёз.
– Но кто я без своей красоты? Я не выйду замуж, а мой отец и мачеха точно умерли. Я столь же глупа, как и в тот день, когда рассталась с нею; за пятьдесят лет я не узнала ничего, что позволило бы ей мною гордиться. Я девица в башне, у подобных мне печальная участь, для нас нет иного спасения, кроме Принца, и его портрет носят на шее, как якорь на эполетах. Разве меня ждет нечто иное?
– Ничего, – проворчал кто-то в темноте. Одна из голов ощерилась от ненависти, так что её рот превратился в О. – Ты теперь уродина и никому не нужна!
– Ты останешься с нами, и тебе понравится, сукина дочь! – Клювастая голова разразилась каркающим смехом, чмокая беззубыми дёснами.
– Только для цирка и годишься!
– Станешь женой козла на ферме, будешь лопать капусту в загоне!
– Королева навозных мух!
– Императрица обезьян!
Головы гоготали, плевались и рычали. Некоторые беззвучно плакали. Ведьма нахмурилась.
– Не слушай. Они уже мертвы. Волшебник наделил их голосами, чтобы мучить тебя, – сами они давно спаслись из этого места.
– Мы не мёртвые, Ведьмочка! Свои дешёвые фокусы будешь показывать в другом месте! Она наша! – Головы опять начали хохотать.
– Куда же я пойду? – жалостливо спросила Магадин. – Как я буду жить?
– Чудище у меня в долгу, – ответила Ведьма. – Он отвезёт тебя к морю, где ты сможешь найти работу на одном из кораблей, что стоят на якоре в гавани. Или уплыть в другую страну, где тебя никто не будет искать. Если я не ошибаюсь, сейчас ты кажешься ему очень миленькой. – Она одарила меня широкой понимающей улыбкой.
– Безусловно, голубка моя, – ответил я с достоинством, – шерсть значительно улучшает то, что я видел, стоя у подножия башни. У меня есть друзья в порту Мурин. Если я буду рядом, тебе не откажут. Теперь ты одна из нас. Уверяю тебя, мы обращаемся друг с другом добрее, чем представительницы гнусной расы дев. Я буду беречь тебя.
Женщина будто уступила. Её глаза светились как желтые свечи.
– Итак, – сказала Ведьма, – ты никуда не можешь отправиться, истекающая кровью и сломанная, как птица, упавшая с ветки.
Она взяла голову девушки в свои руки, запустила пальцы в сумеречно-медовые волосы Магадин и нежно прижалась губами ко рту девы-бестии.
Все мышцы в измученном теле Магадин будто расслабились. Раны, причинённые прорезавшимися крыльями, исцелились в мгновение ока, изувеченная плоть покрылась перьями. Её хвост стал здоровым и пышным, а свирепые когти уменьшились до приемлемой длины. Трепещущие крылышки в косах слились с остальной массой волос, и те потемнели до цвета полированной бронзы, превратились в густую львиную гриву. Ноги девушки немного выпрямились, и она вновь обрела способность ходить, хотя форма ног осталась оленьей и рыбья чешуя не исчезла с лодыжек. Её кожа приобрела ровный сияющий тон, а полосы на плоти сделались темнее и ярче, выглядели естественными, а не пятнами на коже. Вся Магадин стала блистательным чудовищем, её трансформация была завершена, хотя навсегда осталась незаконченной. Я всё принял с восторгом.
Головы завыли от отвращения и ужаса, их горькие упрёки превратились в невнятицу, которую они извергали, брызгая слюной. Отстранившись друг от друга, две женщины обменялись торжествующими взглядами и пошли ко мне, рука в руке, не обращая внимания на истерившие головы. Оленья походка девы навсегда должна была остаться странной, как иноземный танец, но она улыбалась. Мы втроём покинули башню, как шустрые лисы, и, когда ступили на снежно-мёртвую траву, башня начала содрогаться от криков, раздававшихся внутри.
Ведьма так и не оглянулась, но небрежно взмахнула левой рукой в сторону чёрного монолита, взбираясь вместе с Магадин мне на спину. Башня тут же затряслась, как зашедшаяся от кашля старуха, и рассыпалась на части.
В Башне
Видения снятых, как одежда, шкур и дев-бестий кружились в голове мальчика, точно хоровод девушек из гарема, когда он оставил кедровую рощу и девочку, изнурённую рассказом и мирно спавшую на постели из сосновых иголок. Он подумал о том, что на ветвях можно разглядеть блестящие светлые глаза диких птиц, точно жемчужины нанизанные на нити тьмы и ждущие его ухода, чтобы позаботиться о ней.
Беззвучно пробираясь назад во Дворец, мальчик был почти уверен, что замёл все следы – даже Принц не мог быть таким скрытным. Но, когда он закрыл дверь в свою спальню, вспыхнула жаровня, заполнив комнату янтарным светом, как фрукт, разбитый о стену.
Динарзад сидела посреди мехов его постели, держа в руках длинную тонкую соломинку. Она подняла её – кончик ещё тлел от прикосновения к светильнику.
– Ну-ну. – Она хихикнула. – Не вини меня. Я тебя по-хорошему предупреждала.
Динарзад метнулась вперёд, будто нацелившийся на муху паук, схватила брата за предплечье и потащила вверх по длинной лестнице. Без единого слова она бросила мальчика в маленькую комнату в башне и повернула ключ в большом замке. Из мебели в комнате была только узкая койка, а по каменному полу гуляли сквозняки. Рассвет, чьи персты были унизаны сапфировыми перстнями, уже заглядывал в окно.
Мальчик завопил от досады и пнул жалкую постель, уронил на холодный пол несколько слезинок – злых как удары кулаком. Теперь всё действительно пропало: на кровати даже не имелось простыней, из которых можно было бы соорудить верёвку. Всё-таки он – глупый ребёнок, раз застрял в этой башне, точно изуродованная дева, когда ему следовало бы странствовать по болотам, как Принцу. Всё неправильно, вверх дном и противоестественно. Мальчик ударил каменную стену в немой ярости и тотчас же об этом пожалел, потирая разбитые костяшки; его глаза наполнились слезами боли.
Снаружи Динарзад закрыла миндалевидные глаза и сделала глубокий хриплый вдох, точно мечом провели по толстой цепи. Она знала, что понесёт ужасную кару за то, что позволила ему выбраться в ночь. Ещё не зажили следы от плетки после предыдущего раза, когда ребёнок сбежал из её детской. Но она была дочерью султана, и ни одна амира её ранга не позволила бы себе демонстрировать кому-то страх или раны. Динарзад прогнала слёзы и отправилась вниз по полированным ступеням, спрятав ключ в одеянии. Забираясь в собственную постель, она начала тихонько плакать под волчьими шкурами; слёзы падали на подушку, как дождь падает на снег. Она хотела, чтобы все её кары оказались сном и можно было проснуться во Дворце, где нет детей, за которыми она должна присматривать, нет плёток со свинцовыми шариками и драгоценных братцев, которые насмехаются над ней и презирают её.
Когда девочка проснулась и большие крылья исчезли с её бледного тела, она увидела, что темноволосый мальчик ушел. Горячие тайные слёзы полились на чёрную землю.
Той ночью многие плакали.
На следующий вечер Динарзад принесла мальчику в башню ужин, как раз в тот момент, когда роза и пламя начали делить небо. Она ничего не сказала, обозначив свой визит медленным поворотом железного ключа в замке. Мальчик ничего не съел, хотя был голоден. Он отложил немного плотного сладкого хлеба и луковицы, приберёг яблоки, точно золотые украшения, в тщетной надежде.
Мальчик прислонился к стене башни, внутри у него всё кипело. Он пытался восстановить историю в памяти, но воспоминания путались, просачивались одно в другое, как акварель. У Гнёздышка были странные глаза девочки-рассказчицы, и не удавалось припомнить даже такую простую вещь, как цвет Чудища.
Привстав на цыпочки, мальчик потянулся к подоконнику и уставился на простиравшийся внизу Сад, чтобы хотя бы поглядеть на верхушки кипарисов, под которыми могла лежать девочка. Деревья были высокими, точно перьевые ручки в чернильницах, ночной ветер медленно их колыхал. И они были красивыми, потому что она, наверное, отдыхала под одним из них.
На самом деле девочка не отдыхала, а стояла на ухоженной траве у подножия высокой серой башни и пристально смотрела на беспомощного мальчика широкими и тёмными, как совиное горло, глазами.
Девочка молча наблюдала за ним. Возможно, она сумеет взобраться на вершину, цепляясь за шероховатые камни и плющ, и спасти мальчика. Хотя ей не доводилось слышать о подобном. На мгновение она позволила заполнить и согреть себя мыслью о том, что он искал её.
Когда совсем стемнело, она сунула ногу в одну из трещин между камнями и полезла вверх.
Мальчик слышал, как она карабкается по плющу и крапиве, которыми обросла башня, и разволновался, чувствуя её приближение: устыдился того, что она снова его выследила. Нужно прыгнуть, точно! Сломанная нога – не такая уж трагедия.
Конечно, это не имело значения. Девочка была здесь, а это значило, что он ей не безразличен. Дело не только в том, что ей хотелось рассказывать свои истории: она должна была по нему скучать. Эта мысль взошла в нём как ослепляющее солнце. Раздосадованный, он отбросил её и подготовил самое благожелательное, но достойное выражение лица человека, знающего себе цену.
Взобравшись на подоконник, мокрая от пота, девочка не вошла внутрь, а устроилась там, словно не до конца прирученный попугай. Видимо, она боялась не только его, но ещё и быть пойманной: до сих пор наказание принимал мальчик, а если бы её поймали во Дворце, скорее всего, убили бы. От внезапного открытия и восхищения её смелостью у него перехватило дыхание. Девочка снова его превзошла.
– Я… я знаю, ты хотел услышать остаток истории… – прошептала она, и он почему-то почувствовал стыд. Впервые, будто забирал у неё что-то ценное и беспокоился лишь о блеске добычи.
Тем не менее девочка снова завела свой рассказ, и её голос заполнил комнату как звуки медного колокола. Мальчик закрыл глаза.
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
– Я сдержал слово, – сказало Чудище. – После того как мы расстались с Ведьмой в её Долине, я отвёз Магадин в посёлок Мурин и устроил так, что её взяли на один из кораблей, чинить паруса. Говорят, она справляется – с учётом всех обстоятельств, конечно. Оставалась вторая часть двойной цены, которую Ведьма назначила за мою жизнь. Ты, должно быть, понял, что я связан словом чести и должен отдать шкуру. Теперь мы в расчёте.
Болотный король плюнул и проворчал что-то вроде кхм-кхм со своего насеста.
– Я нахожу это весьма и весьма неприятным! – Он устремил на Чудище обвиняющий взгляд; его глаза сверкали как угри, хлещущие хвостами. – Эта жуткая женщина тебе понравилась! Ты счёл её красивой! Это противоестественно! Думаю, ты влюбился! Как отвратительно… Ты же знаешь, что другие монстры никогда не поддержали бы тебя. Дева-бестия – одно, но человеческая женщина?! Как бы там ни было, по-моему, она тебе нравится больше меня. Не припоминаю, чтобы ты мне предлагал свою шкуру, даже когда я хотел убить несчастную саламандру, причинившую множество проблем прошлой весной.
Чудище тотчас полезло мириться и легонько боднуло Болотного короля, испачкав густой кровью его жесткую бороду.
– Малыш! Ты же знаешь, что тебя я люблю больше всех. Я решил стать твоим придворным – твоим, а не чьим-нибудь. Она ничто, мимолётное увлечение, – да что там, и не увлечение вовсе! Я восхищался ею в эстетическом смысле, вот и всё! Не злись. И не завидуй ей. Ведь у нас с тобой полным-полно забот.
Болотный король слегка приободрился, хотя продолжал пофыркивать. Вдруг он встрепенулся и кинулся прочь от Принца, бросив напоследок:
– Что ж, парень, тебе пора забрать свою добычу и, выражаясь вежливо, убраться. У нас, видишь ли, дела государственной важности.
Леандра оставили посреди болота, промокшим до пояса и со шкурой, от которой начало исходить то, чего не было поначалу, – зловоние.
Был уже почти вечер, и Принц не без угрызений совести решил, что, раз Эйвинда в скором времени ожидало предназначенное ему приключение, необязательно возвращаться в таверну, чтобы доставить послание. Возможно, всё уже случилось, чем бы оно ни было. Он пообещал себе отправить туда посыльного, когда всё закончится.
Это почти успокоило его совесть.
Итак, Принц отправился домой, открыв вторую истину о Подвигах, которая заключалась в том, что дорога домой непонятным образом оказывается намного короче, чем путь к желанной цели. Солнце легко скользило по небу, как по золотым рельсам, и земля будто быстрее вертелась под ногами. Приключения на обратном пути случаются редко, словно судьба желает, чтобы верный и удачливый Принц как следует отоспался, выполнив обещанное. Возвращаться к Ведьме было почти приятно, за исключением чувства вины и страха, которые грызли его желудок, точно голодные мыши.
Когда Принц вернулся к хижине Ведьмы, он дрожал, но, по крайней мере, на нём были те же самые большущие сапоги, подаренные трактирщиком, и они его не подвели. Видимо, состоявшийся обмен был равноценным. Наступила последняя ночь полнолуния, и тьма накрыла маленькую ферму Ведьмы Нож, как ладонь с толстыми пальцами. Суетливые гуси притихли, плуг стоял в полусвете звёзд и напоминал скелет. Дверь хижины была нараспашку, и Леандр со шкурой Левкроты в мешке, склонив темноволосую голову, ступил через порог.
В просторной кухне старухи не оказалось, хотя очаг сердито светился, несмотря на то что его давно оставили без присмотра. Она лежала за второй дверью, свернувшись клубочком на большой кровати и окруженная серыми гусями, соорудившими волнистое одеяло, укрывшее её скрюченное тело.

Леандр тихонько опустился на колени возле кровати и вложил красный узел в её руку. Она прервала храп, повернула голову и поморщилась.
– Значит, ты вернулся. – Она вздохнула и села в своей странной постели из перьев. Птицы подвинулись, наблюдая за ним десятками глаз-бусинок. – Видимо, это делает тебя Хорошим Принцем, как у вас заведено. Но ты пришел слишком рано. Тёмная луна восходит только за час до рассвета, и пока не время моей девочке рождаться во второй раз. Я должна ещё кое-что тебе рассказать.
Ведьма поёрзала, и гуси тоже зашевелились, вытянули длинные шеи, чтобы положить их ей на голову, дотронуться до неё. Серебряные крылья накрыли грудь старухи, словно скрещенные руки.
– Первую часть истории я рассказала ради себя, чтобы ты знал о прошлом. А эту поведаю ради тебя, чтобы ты узнал о будущем.
Сказка Ведьмы (продолжение)
Нож резанул сильно, но неглубоко. Волшебник даже не потрудился остановить кровь, текшую из его собственной раны. Это была тонкая алая линия под его подбородком, над железным краем ошейника: лишь одна среди многих на узкой полоске незащищенной плоти. Одним плавным движением, как ветер, перелетающий от одной ивы к другой, он схватил руку моей бабушки, переломил запястье и вонзил её нож ей в живот.
Бабушка замерла, изумлённо глядя на костяную рукоять ножа, которая торчала из её тела, будто новая конечность. Потом она внезапно поперхнулась, и яркая кровь хлынула из побелевших губ. Бабушка рухнула без сил мне на руки, а Волшебник нырнул в маленькую комнату за троном, и слуги последовали за ним, чтобы заняться его пустяковой раной.
За всё это время Король не сказал ни слова и не шевельнулся, но наблюдал с любопытством ястреба. Он не сводил с меня ледяного взгляда. Я держала бабушку в объятиях, как ребёнка. Она слабо улыбалась, кровь всё текла и текла из неё: тёмная кровь из глубин тела, густая и чёрная, а потом серебряная и бледная, струившаяся по моим рукам и коленям, будто ручеёк свежей воды. Я вся вымокла; бабушка протянула ко мне руку, с которой капала эта жидкость, и вложила пальцы в мой рот, так что капли света потекли по моему горлу.
Он был совсем безвкусный.
– Видишь? Я всё-таки могу тебя наполнить. Теперь ты – это мы. Всё, что осталось, вымокло в крови и свете, как наша давно почившая прабабка в ужасном шатре. Ты достаточно сильна, чтобы отомстить за нас. Моя смерть послужит тебе наставлением.
По её лицу пробежала и исчезла легчайшая тень улыбки, в горле раздался шум, точно сухие бобы перекатывались в тыкве-горлянке. В ней ничего не осталось: кровесвет впитался в меня, а она стала раковиной, дырой, пустым пространством.
Я не плакала, не могла позволить им увидеть мои слёзы. Я вынула нож с толстой рукоятью из плоти бабушки и крепко сжала его в окровавленном кулаке. На миг взглянув на Короля в роскошных одеждах, я увидела фигуру прямо за ним – пару чёрных блестящих глаз среди жесткой рыжей шерсти.
То был Лис, и он смеялся.
Я так и не узнала, что они сделали с телом моей бабушки, но его убрали из холла, как убирают кухонные отбросы, яблочную кожуру и свиной жир. Пятна на полу вытерли, когда Волшебник вернулся с перевязанным горлом.
Король по-прежнему не сводил с меня немигающего взгляда. Я стояла перед ним в лохмотьях, некогда мечтавших о белизне, обильно покрытая её кровью. Моё лицо было в кровавых полосах, точно я разукрасила себя для войны или свадьбы. Волшебник откинул седые космы с высокого морщинистого лба и обратился к Королю:
– У нас осталась только девчонка, мой господин. Если позволите, я заберу её в свою башню.
Но Король взмахнул шелково-гладкой рукой, отвергая предложение. Я уставилась на него. Его глаза шарили по моему телу, царапали меня, пытались пробраться внутрь. Ибо он воспылал ко мне ужасной страстью, и я видела, как она растёт в его глазах, точно свирепеющий вепрь.
– У тебя есть своя башня, Омир, а у меня – своя.
Его голос был тих и совершенно холоден, как мерзкий ветер, шелестящий перьями мёртвого ворона. Я увидела, что в тусклых глазах Волшебника зарождается то же понимание, которое снизошло на меня, когда я ощутила взгляд Короля. Воцарилась тишина, будто все мы утратили дар речи, и каждый яростно думал о том, как добиться желаемого.
Наконец Волшебник пробился вперёд и заговорил бесцеремонным тоном, который отбросил меня вернее, чем удар кулака:
– Мой господин, могу ли я поговорить с вами с глазу на глаз?
Двое удалились в противоположный конец большого зала. Но у моего народа чуткие уши, и я слышала их так же ясно, как фырканье собственной лошади среди поля травы.
– Мой король, у меня есть идея, которая может позволить нам достичь всех целей. Вам нужна Ведьма, мне – сила, которой бабушка могла её обучить. Зачем удовлетворять лишь вашу страсть? Почему бы вам не жениться на этом создании? – Король молчал. Под стропилами эхо вторило его расчётливым мыслям.
– Но она же дикарка, – наконец произнёс он. – Годится на то, чтобы я её использовал, а не обручался.
– Господин, – настаивал Волшебник, – если вы на ней женитесь, покажете покорённым племенам, что вам можно доверять, что вы добрый и справедливый правитель. Заполучить их доверие – единственный способ утихомирить дикие банды. Сделайте её Королевой, и за это они станут вас обожать, будут шепотом передавать друг другу, что новый Король даже с монстрами играет честно. К тому же все знают, что дикарки плодовиты, как коровы. Она будет рожать вам сыновей одного за другим. Я же смиренно прошу: в те ночи, которые она не будет проводить с вами, отдавайте её мне, чтобы я смог извлечь из неё всё, что можно, до её смерти от ваших действий или моих.
Позвольте рассказать одну байку, чтобы моя мысль стала понятнее.
Сказка Волшебника
Однажды в далёком королевстве – разумеется, оно и сравниться не могло с вашим великолепным королевством, мой господин, – жил Раджа по имени Индраджит. Он был прекрасным властителем, сильным и справедливым, как стрела, пронзающая сердце вора. Его покоряющая рука нависла над полями и фермами, точно облако, приносящее благословенный дождь. Никто не противился его власти, ни один голос не звучал против этой святейшей длани.
Он хотел принести свет и славу своего справедливого правления в самые отдалённые посёлки – стремление, о коем вам самому ведомо, мой господин. Раджа смотрел за великую реку, что струилась, как отрез шёлка, через плодородные земли королевства. И вот повёл он свою знаменитую Королевскую Гвардию, которая, если верить легенде, возникла из земли, когда Индраджит убил чудовищного вепря в дальних краях, и зубы твари упали на землю, точно град. Из тех зубов произошли сто и сорок четыре воина, которых с той поры называли Дентас Вараахасинд – Зубы Вепря. Они были сильно привязаны к Индраджиту, который, убив монстра, дал им жизнь. Солдаты-вепри отличались свирепостью, а их преданность была чиста, как снег на трупе. Они несли щиты, сделанные из огромных лопаток диких горных свиней, которые в те времена были такими же большими, как двери в сокровищницу Раджи. Их доспехи покрывала кроваво-красная шкура тех вепрей, и они носили ожерелья из длинных, изогнутых зубов, давших им жизнь. Они мазали лица дёгтем и затачивали зубы напильниками, так что вид у них был такой же, как у орды демонов, восставших под луной. Люди любили Раджу, как подобает подданным, но Вараахасинд вызывали у них хладный ужас.
Однажды летом Индраджит повёл своё преданное войско вдоль берега блистающей реки в маленький монастырь, который он хотел покорить и использовать как форпост для продвижения своей справедливой власти на юг. Любопытное дело: в храме жили одни женщины, и посвящен он был какой-то небесной змеебогине, украшенной драгоценностями. Когда женщины увидели приближающихся Вараахасинд и услышали их страшный боевой клич, похожий на вопль кабана, пронзённого копьём из ясеня, они не бросились бежать, а собрались вместе возле изображения своей богини, заслоняя позеленевшее бронзовое изваяние телами, одетыми в тонкие платья. Несколько женщин всё же показали свой страх и лишились чувств, но их поддержали другие прислужницы.
Тронутый преданностью монахинь, Индраджит не отсёк их неблагодарные груди немедля и не скормил их тела своим мужчинам. Взамен он оттолкнул женщин и просто разбил статую на острые осколки навершием эфеса своего массивного меча, прославленного во всех краях как непобедимое лезвие. И всё же женщины не закричали, как обычно бывает. Вместо этого одна из них, с глазами чёрными, будто лишенная света глотка змеи, посмотрела на великого Раджу и сказала:
– Это было злое дело. Теперь ты будешь ходить под Её проклятием до конца своих дней, которые утекут на землю, словно негодная нить из растрепанного мотка.
Индраджит не был до такой степени тронут их преданностью, чтобы задуматься над непочтительными словами. Он приказал своим людям отвести женщин в лес и там вырезать им языки, чтобы они больше не могли разговаривать с теми, кто выше их по статусу, только странствовали и попрошайничали. Однако он был очарован женщиной, дерзко с ним говорившей; её звали Серпентина. Как и любой другой Король на его месте, Индраджит захотел показать упрямой девке, каково её место в этом мире.
А ещё в его душе возникло страстное влечение к ней. В конце концов, она была очень красива в своих белых полупрозрачных одеяниях; её чёрные глаза казались такими глубокими, будто в них вовсе не было зрачков. Чёрные кудри монашки струились ниже пояса и странно блестели в лучах летнего солнца – как гладкая кожа саламандры. На её собственной коже не было ни пятнышка, а все черты по меньшей мере были безупречны. Она не отвела обезоруживающего взгляда, даже когда Король велел связать ей руки и ноги. Он перекинул её тело через своё изукрашенное медными заклёпками седло и привёз во Дворец, чтобы сделать своей Королевой.
Разумеется, женщина стала одной женой из тысячи, а невольниц у Раджи насчитывалось и того больше. Но, взяв её в жены, он надеялся одновременно насытить свою страсть и привлечь благосклонность её божества, поэтому её ценили намного выше, чем любую из несчастных кобылиц, согнанных с разных краёв принадлежавшей ему земли. Король не мог поместить монашку в надушенный гарем, так как не желал, чтобы она разожгла в бедных тварях бунтарский дух. Посему Серпентину держали в отдельной комнате, куда можно было попасть только из спальни Раджи. Перед тем как войти в сводчатое помещение, она повернулась к Индраджиту и заговорила с ним во второй раз:
– Я соглашусь стать твоей женой по своей воле и принесу клятву не затевать с тобой битву в твоих стенах. Я рожу тебе семь сыновей и семь дочерей, и все они прославятся воинской доблестью и красотой по огромному миру. Я отведу от тебя гнев змеиного божества и защищу твой дом. Но ты должен мне кое-что пообещать.
Индраджит пылал страстью к этой женщине, её странным волосам и гибкому телу. Он без промедлений пообещал бы ей то, что позволит заполучить её без боя.
– На третий день после каждого новолуния мне должно быть позволено делать то, что я желаю, и ты должен поклясться на теле Вепря, чья плоть подарила тебе преданных воинов, что не попытаешься меня увидеть или приблизиться ко мне в эти дни. Не бойся, я не покину Замок, чтобы сбежать от тебя. Таково моё условие, и оно останется неизменным.
Раджа согласился багрово-бархатным голосом. Серпентина больше ничего не говорила.
Годы летели как чёрные дрозды в ночи. Женщина со странными волосами действительно родила Радже семь сыновей и семь дочерей, черноглазых и кудрявых, в точности как их мать. Они совсем не напоминали отца, будто взяли кровь лишь от Серпентины, которая почти не старела и не дурнела. Даже когда дети стали взрослыми, один сильнее и ярче другого, – как она и обещала, все девушки были великими воительницами, а мальчики отличались красотой, – она рядом с ними выглядела солнцем среди свечей.
Король, как полагается, держал своё слово и занялся подчинением континента, делами государственной важности. Но по мере того как дети становились всё меньше на него похожи, росли подозрения, что Серпентина проводит новолуния, предаваясь прелюбодеянию и иным грехам. Ведь она была язычницей, совершенной дикаркой. Ей не следовало доверять. Индраджит багровел, поддаваясь своим опасениям, заболел ими и в конце концов утратил власть над собой – решил на ближайшее новолуние проследить за дикаркой-женой и застигнуть её на месте преступления.
Так всё и случилось. Это было нетрудно, поскольку её комната соединялась с его покоями. Раджа прокрался по коридору так тихо, как умеют лишь тренированные убийцы, и заглянул в щель между досками двери.
Его взгляду открылось то, что могло бы явиться демону во сне. В болезненном свете умирающей луны копошился клубок из четырнадцати змей в странных шкурах, которые мерцали в ночи пурпурным, синим и зелёным. Их тела извивались вдоль каменных стен, они говорили друг с другом на шипящем языке без названия. Они были переливчатые, словно радужные крылья стрекозы, и толстые, как тело человека. Мёртвый свет ночного неба будто питал их, они исполняли ужасный танец среди теней.
В самом центре находилась змея настолько огромная, что остальные рядом с ней выглядели наживкой для детской удочки. В обхвате она была как дворцовая колонна, и её шкура переливалась всеми цветами, как бурливый поток на закате, испуская белое сияние. Её глаза мерцали, чёрные на чёрном, зрачков в них не было. Когда змеиная королева увидела Индраджита, притаившегося за дверью и подглядывающего, её огромное тело затряслось, а крик был подобен скрежету лезвия по гранитным камням.
– Предатель! – закричала она и, расплывшись, будто он глядел на неё сквозь волны жара, превратилась в Серпентину с её летящей гривой, а маленькие змеи обратились в семь сыновей и семь дочерей. Все они кинули на него одинаковые обвиняющие взгляды, в каждом пылала ненависть, словно синее пламя.
– Ты поклялся, – закричала она, распахнув дверь с такой силой, что та разлетелась, ударившись о стену. – Ты поклялся, что это время принадлежит мне! И теперь потерял всё, несчастный Индраджит. Ты пришел в мой храм и уничтожил его, как обжора уничтожает жареного быка. Ты связал меня и приволок в это место с тёмными комнатами. Всё, о чём я просила, – один день без твоего кабаньего вонючего дыхания на моей шее. Я подарила тебе этих детей…
– Демонов! – в ужасе закричал Раджа.
– Детей! Моих детей, моих прекрасных малышей. Они совершенны! Ты не потрудился узнать, в чём суть нашего ордена, прежде чем его уничтожить. Я не поклоняюсь змеиному божеству – я и есть змеиное божество! И пребывала в небесах, когда земля ещё была лишь воздухом. Один раз в месяц я возвращаюсь к своему старому облику, чтобы искупаться в зыбком далёком свете, который могу увидеть; они отправляются со мной, потому что ты постоянно меня трогаешь, забираешь меня у меня самой, и их становится нечем кормить. Я дала тебе потомство из полубогов, Индраджит, они могли бы заполнить тысячу книг своими подвигами. Теперь же они погублены, а ты проклят!
И действительно, дети будто таяли, слёзы струились по их щекам, а тела становились всё прозрачнее, пока не исчезли, словно их сдул беспощадный ветер.
Серпентина смотрела на исчезающих детей с невыразимой скорбью во взгляде.
– Они очень хрупкие в этом возрасте, как паутинки в пиршественном зале. У нас так редко бывают дети, что мы почти ничего не знаем о том, как поддерживать в них жизнь. Дыра – всего лишь пустое пространство, и я не смогла их заполнить. Если прервать кормление и укрыть их от света материнских небес, они тают, будто утренний туман над рекой. Ты убил своих лучших наследников, Раджа, и лишил себя будущего, как ребёнок лишает неба своего жёлтого воздушного змея!
Сказав это, Серпентина бросилась на него, в мгновение ока приняв змеиный облик. Индраджит подал условный знак, и через миг двенадцать Вараахасинд были подле него, и Капитан отрубил массивную голову чудовища одним ударом меча.
По указу Раджи той же ночью для Вараахасинд устроили великое пиршество. Тело огромной змеи освежевали, порубили на части и отправили в кипящие кухонные котлы. Каждый мужчина получил долю сочного мяса, чтобы Серпентина не вернулась, волоча за собой злой рок. Сам Индраджит съел её разбухшее сердце и вобрал в себя силу змеебогини, чтобы распространить власть свою до моря.
Сказка Ведьмы (продолжение)
– Вот видите, – уговаривал Волшебник, – взяв в жены врага, Индраджит в конце концов сумел лишить его силы. Сделайте эту женщину своей Королевой и позвольте мне пользоваться ею всего раз в месяц, как Серпентиной. Мы вдвоём получим всё, что в ней есть.
Воцарилось долгое расчётливое молчание. Наконец все шестерёнки надлежащим образом сцепились, и Король начал склоняться к согласию.
– Но я не могу жениться на той, чьё лицо изуродовано татуировками и шрамами. Непозволительно появляться на людях в сопровождении этого.
– Я понимаю. Меня тоже притягивает не её плоть, а сила. Дикари, по меньшей мере, – Волшебник презрительно фыркнул, – вонючи и тупы. Но это не проблема. Я могу изменить её так, что для всех, включая вас, она будет красива, точно восходящее солнце. Уж это я умею!
Король бросил на меня взгляд через длинный холл цвета слоновой кости.
Уже начался рассвет, когда меня снова переместили, на этот раз в покои Волшебника, где он связал мои руки и ноги верёвками из крапивы и заткнул рот узловатым кляпом. Я лежала на холодном полу, глядя на столы, полные книг и давным-давно сгоревшими свечами, залившими восковой кровью страницы. Он готовил какую-то зловонную жидкость в стеклянном сосуде, чтобы превратить меня в какую-нибудь противоестественную тварь. Я беспомощно размышляла, испугалась ли бабушка, когда с ней случились перемены. Сама я не была уверена, что боюсь: моя кровь пульсировала, но я оставалась спокойной, как подземное озеро.
– Настал мой час, Нож. Слабоумный король пожелал сношаться с тобой. Что ж, пусть будет так, как ему угодно. Сомневаюсь, что тебе это понравится. Но мои пристрастия понравятся тебе ещё меньше. Я выиграл торг.

Волшебник поджал тонкие губы, наблюдая, как в сосуде клубится тёмно-красная жидкость.
– После стольких лет и стольких женщин, портивших мою прекрасную башню, ты падаешь мне прямо на колени, со всеми необходимыми знаниями, чтобы завершить мой труд. Можно поверить в предназначение. Почти что. – Он постучал по стенке флакона, в котором что-то негромко булькало, источая запах сожженного табачного поля. – Природа вселенной, маленькая моя варварка, заключается в переменах. Тот, кто контролирует перемены, по мощи и славе приближается к богам. Метаморфоз – вот главное действие. Без него ничто не растёт, не эволюционирует, не расширяется. Но должен ли я сидеть и ждать, пока прискорбно медлительная природа будет двигаться своим путём, подчиняя меня своей воле? Абсурд! Со времени моего ученичества в Южных королевствах я стремился контролировать собственные перемены, сохранил себя живым и сильным, хотя служил старому Королю до нынешнего хозяина и Радже ещё ранее. Правители сменяли друг друга, а я стремился открыть секрет, позволяющий изменять себя сообразно желаниям. Видишь ли, разум должен править телом. Менять свою форму усилием воли – компетенция богов, а с твоей помощью, мой волчоночек, я стану ярким, как Звезда. Всё дело в контроле: кто-то им обладает, а кто-то – нет.
Волшебник бросил горсть слипшихся листьев в своё тошнотворное зелье и обратил ко мне спокойный взгляд бездонных глаз:
– Разумеется, тот, у кого нет природного дара, обращается к менее изящным способам контроля. – Он схватил крысу, пробегавшую мимо и, несмотря на то что она извивалась, выдрал у неё четыре зуба и бросил их в сосуд, где они с шипением растворились. – Например, Король верит в то, что обладает властью и сам управляет своей судьбой. В общем-то, этого желают все живые существа. Но я руковожу его действиями столь же уверенно, как ребёнок с ангельским личиком управляет куклой. Ты слышала историю, которую я ему поведал? Я рассказал лишь половину – ту, что требовалась ему для того, чтобы позволить оставить тебя себе. Я хотел, чтобы ты оказалась там, где сейчас находишься, и рассказал ровно столько, сколько необходимо для самооправдания. Хочешь услышать остальное?
Я слабо пошевелилась и застонала сквозь грязный кляп.
– Разумеется, хочешь. Ты будешь слушать всё, что я говорю, верно? На чём я остановился? Ах да, Серпентина умерла, и её тело попало в сто сорок пять сытых желудков.
Сказка Волшебника (продолжение)
Дворец Индраджита Ужасного спал той ночью мирно и видел кровавые сны о праведных убийствах. Но, когда стальные зубья гор разбили ночное небо, как оконное стекло, произошла странная вещь: Вараахасинд, носители смерти, начали сходить с ума.
Поначалу никто ничего не заметил. Ведь солдаты всегда вели себя по-варварски, украшая жилища конечностями убитых дев и разрисовывая лица кабаньей кровью. Чтобы заметить в них признаки безумия, оно должно было стать сильным, точно пара волов.
Вышло так, что один из лейтенантов встретил рассвет в бане, спокойно сбривая изукрашенную бороду, которая ложилась ему на ключицы, словно клыки огромного вепря. Он аккуратно срезал её лезвием меча, уничтожая символ своей славной мужественности. Борода была гордостью Вараахасинд, сбривать её было нарушением кодекса, за это ждала смертная казнь путём выставления на солнце. Но этот человек избавился от неё так основательно, что его лицо сделалось детским и гладким, как луна.
На следующей неделе капитана нашли в бежевой лохани, где он пел гимн без слов, из одних безобразных гласных. Хуже того, лохань до позолоченных краёв была полна копошащихся зелёных змей, толстых как женская талия, которые в рептильном экстазе обвивали капитана.
Наконец, на третий день нового года второй командующий беспощадного войска утратил дар речи. Он плевался и шипел непристойным образом, его тело корёжило от усилий, требовавшихся для произнесения хотя бы одного шипящего слога. Когда придворный доктор успокоил бедолагу в достаточной степени, чтобы он открыл рот, выяснилось, что его язык стал раздвоенным – сквозь толстую плоть проходила глубокая щель.
Глядя на всё это, Раджа и глава Вараахасинд начали опасаться за собственный разум и призвали некоего волшебника, чтобы тот определил источник болезни.
Я тогда был молод, едва успел надеть ошейник при Индраджите. Впервые в жизни я был не просто Омир, роющийся на фермерском поле в поисках корней, а Омир Серв. Другие бросали это звание, точно проклятие, я же носил его как корону. Оно означало, что я больше чем картофелина, репа или свёкла, покрытая грязью. Даже раб лучше, которого до самой его смерти передают от хозяина к хозяину. Я носил железный ошейник с той же лёгкостью, с какой носят ожерелье. Он плотно охватывал моё горло от подбородка до грудной клетки. Символ моего рабского служения каждое утро полировали до блеска; он сверкал будто меч, приставленный к моей шее. Мне было запрещено вершить магию, кроме как на службе у Индраджита, и даже тогда за мной наблюдали собратья по ремеслу, словно я был обычным сапожником. Но это было лучше, чем сеять пастернак и лапать потную жену. И вот, когда меня впервые привели к Зубастому Трону, от возбуждения, после долгих месяцев скуки и напрасной траты таланта, во мне забурлила кровь.
– Омир Серв, низший из рабов, ты явился пред нами, чтобы разгадать загадку сомнамбулизма, поразившего моих людей. От скорости, с которой ты справишься с этим заданием, напрямую зависит, как долго ты проживёшь, покинув этот зал, – сурово провозгласил Индраджит, не дожидаясь вступительной речи, которую я усердно готовил.
Корона Клыков мерцала и светилась, отражая свет факелов и искажая моё зрение. Но я подумал, что, возможно, это к лучшему. Поскольку, разумеется, уже знал, что стало причиной болезни. Ведь я был мудрейшим из всех собратьев и сестёр по рабству. У меня имелось лакомство, которое можно подвесить перед этим свиным рылом, и оно позволило бы мне купить то, в чём я больше всего нуждался.
– Благороднейший из королей, – быстро заговорил я, – могу разгадать твою загадку за один миг, не обращаясь к книгам или оракулам, если ты соизволишь заплатить цену, которую я попрошу.
Я увидел, как гнев Раджи вспыхнул от подобной дерзости. Но страх одержал великую победу в битве, развернувшейся в его душе, и он кивнул, выражая согласие, которое нельзя было отменить.
– Разгадка проста. Вы убили и съели Звезду, одну из тех, кого простодушные называют богами. Её присутствие внутри вас и ваших людей пытается утвердиться, вновь приобрести форму Великой Змеи.
– И что ты просишь в обмен на эту простую разгадку?
– Свободу, мой владыка, что же ещё?
Индраджит нахмурил лоб, который стал подобен полю после бури. Когда он ответил, его голос звучал хрипло от ярости:
– Мы дали тебе своё слово, и оно нерушимо. Но за такую награду ты должен дать нам лекарство от этой язвы, чтобы покончить со злодейством, которое наша бывшая жена вершит изнутри.
Меня охватила дрожь, поскольку я не мог признаться, что подобное, вероятно, превосходило мои силы. Глупый Раджа совершил преступление, наказание за которое неизбежно. Если бы он посоветовался со мной до того, как сожрал сожительницу, я бы придумал для неё куда более сладостные пытки, в которых никого нельзя было бы обвинить. Наказания всегда вызывали у меня особый интерес.
Я быстро подсчитал. В тот момент важнее всего было дать ему что-то, некий путеводный указатель. Мой господин Индраджит находился в растерянности, не имел ни чёткого плана, ни приказов на пергаменте, подписанных чернилами, сделанными из масла раздавленных сапфиров. Он не отличался оригинальностью мысли, ему были понятны лишь планы, полные крови, причем никогда – его собственной. Учитывая такие переменные, обрисовался курс, у которого и впрямь имелись небольшие шансы на успех. И, что ещё важнее, он бы проник прямо в душу Раджи, налитую, как всегда, самым чёрным из вин, что родилось из гнилого винограда.
– Мой досточтимый лорд! Серпентина, пребывающая внутри, охвачена слепым желанием наказать мужчин, и части её бывшего тела разделены лишь сеткой из плоти. Но, если вы отправите ваше верное войско на смерть, та её часть, что находится внутри вас, уснёт и больше не проснётся, а ваше справедливое и могучее правление продолжится.
Раджа надолго замолчал и будто осел на своем громадном эмалевом троне, инкрустированном зубами многих тварей и драгоценными камнями – столь тёмными, как кровь из тайных жил покорённых. Его лицо неуловимо двигалось: произошел тектонический сдвиг черт, пока он обдумывал убийство многих людей. Я имел все основания думать, что его беспокоило не количество, а вопрос, примут ли они смиренно массовую казнь. Это были не какие-нибудь крестьяне, и лишь он знал, какая алхимия пробудила их к жизни.
Наконец, Индраджит заговорил, и его голос звучал как закрывающийся мраморный склеп:
– Пошли гонцов, Омир Серв, пусть прикажут воинам собраться в Зале голосов. На закате я обращусь к ним с речью.
Вот так, легко и просто, закончилась моя аудиенция, а моя свобода стала чуть ближе. В последний раз я ждал заката с таким нетерпением, когда был ребёнком на руках у матери и не мог совладать с восторгом, который у меня вызывали зимние фестивали и украшенные золотыми фонариками ветви деревьев.
Ночь пришла в свой черёд. Сто и сорок четыре воина прилежно собрались в похожем на пещеру Зале голосов, где шепоты усиливались до криков, пронзающих до костей. Все они явились в лучшем боевом облачении, возможно предчувствуя, что это вечер исключительной важности. Зубы вепрей болтались на их мускулистых шеях и кожаных нагрудниках, у некоторых даже пронзали ноздри и уши. Каждый был в плаще из шкуры кабана, которую вываривали и дубили до тех пор, пока она не приобретала уродливый оттенок ошпаренной розовости. Они разрисовали лица жиром и дёгтем, пропитали волосы кровью и выстроились перед Индраджитом, стоявшим на помосте. Я сидел позади него и смотрел на их грубые лица безмятежно и благоволительно.
– Преданнейшие из преданных, любимейшие из наших рабов, – начал он, простирая руки отеческим жестом, – великий страх следовал за нами по пятам, как верная гончая. Лекарство от безумия, поразившего вас, найдено, и мы пришли сюда этим вечером, чтобы принять его.
Не знаю, что он хотел с ними сделать, и уже никогда не узнаю. Воины внезапно замерли, будто сквозь них прошла чёрная молния, их мышцы сковало судорогой, лица исказились от внезапного ужаса или экстаза. Как один, сто и сорок четыре человека разинули рты невероятным образом, шире, чем положено людям. Ужасная симфония прозвучала, когда их челюсти сломались и головы откинулись назад. Я смотрел, как сто и сорок четыре мужчины заговорили одним жутким голосом, доносившимся из глубин земли, вызывая шатание гор и раскатываясь эхом под сводами холла, точно выпущенная из лука стрела:
– ТОЛЬКО ЖИВЫХ МОЖНО ИСЦЕЛИТЬ. Я МЕРТВА. ПОГЛЯДИ НА МЕНЯ, СУПРУГ МОЙ. РАЗВЕ Я НЕ КРАСИВА? РАЗВЕ Я НЕ СИЛЬНА?
Сначала Индраджит ничего не понял и, побелев как баба, кубарем скатился с трона.
– Что это за черная магия, Волшебник? Что ты наделал?
– Это был не я, ваша милость, – сказал я, запинаясь, и помог ему встать.
Тем временем беспощадный голос снова вырвался из сломанных ртов:
– ГЛУПЫЙ МАЛЬЧИШКА НА ЖЕСТЯНОМ ТРОНЕ! Я ЕСТЬ ВСЁ СУЩЕЕ. С ЧЕГО ТЫ ВЗЯЛ, ЧТО МЕНЯ УНИЧТОЖИТ ОГОНЬ ИЛИ ЧТО Я СГИНУ В БРЮХАХ ЭТИХ МУЖЧИН? НО ВОТ ТЕБЯ УНИЧТОЖИТЬ НЕТРУДНО.
Внезапно тела воинов жутко затряслись, их кости застучали, точно барабаны. Из раздробленных челюстей вырвался необъяснимый свет, чёрный, бледный и зелёный, как если бы сам воздух загорелся. Великолепные волны дымчатого света сплелись в громадную колонну, и, едва осколок света покидал тело одного из Вараахасинд, это тело корчилось и умирало, превращаясь в зуб, из которого он произошел. Перестук зубов, падавших на мозаичный пол, складывался в мрачное эхо, и колонна росла.
Индраджит затрясся. Теперь ему всё стало понятно, и он беспомощно схватился за живот, зная, что внутри находится последняя часть его жены: сбежать от неё было невозможно. Змея из света нависла над Раджой, безглазая, но зрячая. Он распростёрся перед ней, безмозглый дурень, и молил о пощаде. Она заговорила опять, и на этот раз её голос, уже не исходивший из столь многих глоток, напоминал тихое шипение ветра и угасающего пламени:
– Будь ты не тем, кто ты есть, я дала бы тебе целый мир.
И свет поглотил его, прошел сквозь плоть, и от этого кровь превратились в порошок. А когда свет покинул тело, осталась лишь корона, безмолвно перекатывавшаяся на троне; все её желтые клыки были дочерна обожжены.
Сам свет будто помедлил, глядя на меня; его грозная пустота сосредоточилась на моём сердце, и я на миг испугался, что меня не пощадят, хоть я и не принимал участия в ужасном пиршестве. Я застыл перед этой полуженщиной, и её взгляд длился словно тысячу ночей.
Но вот в Зале голосов появился второй свет, и про меня забыли. Белые завитки просочились сквозь витражные окна, как золотые колонны. Новый свет был таким сильным, что я не мог на него смотреть. Он заполнил зал с ковром из сломанных зубов, точно имел вес воды, которую медленно наливают в стакан. А потом он исчез так же внезапно, как и появился. Из белого дыма перед змеёй возник мужчина в белом, с бледным копьём и развивающимися за спиной бесцветными волосами. Он с нежностью открыл алебастровый рот, и маленькая тайная вспышка света прошла между ними, ласковая как звёзды весной.
Когда он сомкнул бесцветные губы, змея исчезла. Серпентина стояла на её месте, хотя и не совсем целая. Она была жёсткой и прозрачной, будто вырезанной из стекла. Крупные ониксовые браслеты в форме беспокойных змей охватывали её руки от плеч до запястий. Кроме этих массивных украшений, на женщине ничего не было, а её волосы удерживал тонкий обруч в виде единственной змеи с многоцветной шкурой. И все эти цвета казались бледными, приглушенными, словно картина, на которую плеснули водой.
Не сказав мне ни слова, бледный незнакомец подхватил её застывшее тело и унёс прочь из Зала.
Сказка Ведьмы (продолжение)
– Ты понимаешь? Если будешь молчать и ждать, в конце концов сможешь устроить миленькую месть. Меня это не интересует. Король – неотёсанный тупица, и, когда я получу от тебя необходимое, ты окажешь мне любезность, убив его и освободив меня от службы, как когда-то освободила смерть Индраджита. Строй планы в темноте, потому что, кроме неё, у тебя ничего нет.
Волшебник отвернулся от стола, держа в руке чашу с густым зелёно-чёрным напитком, по цвету напоминавшим плесневелую плоть. Он улыбнулся – такая улыбка могла показаться ласковой или горделивой на другом лице, но не на этом. Омир поднял меня за волосы, выдернул кляп изо рта и заставил выпить зелье. У него был вкус желчи и гнилых цветов – роз, видимо. Были ещё какие-то тёмные затхлые нижние ноты вкуса, которые вполне могли оказаться по́том какого-то неназываемого тела.
Когда жидкость попала внутрь меня, и в моём животе забурлило, Волшебник швырнул меня прочь и стал наблюдать с любопытством кота, глядящего на мышь, которую он вот-вот проглотит. Я кричала и царапала саму себя – жуткое золотое облако отняло у меня зрение, а моя кожа рвалась на части, как страницы его непотребных книг. Меня дважды вырвало вперемешку с испускаемыми воплями, терявшимися под каменными сводами. Он и пальцем не пошевелил, чтобы помочь, стоял и смотрел, как у меня, коленопреклонённой, крадут мою кожу.
Наверное, в конце концов я потеряла сознание. Когда пришла в себя, он держал передо мной большое зеркало, и на его губах играла жестокая улыбка победителя.
В зеркале, украшенном резной рамой, я увидела высокую женщину с волосами цвета молодой пшеницы, которые ниспадали ниже талии мерцающими локонами, с большими серыми глазами, точно озёра чистого дождя, и молочной кожей без единой отметины. Я стала долговязой, груди мои были высоки и полны, не осталось и следа хотя бы от одного узла мышц – я была слабой и мягкой, как новорожденный ягнёнок.
– А теперь, – проникновенно сказал Волшебник, – мы назовём тебя Королевой. – Увидев выражение моего лица, он рассмеялся. – Ты же не думала, что я позволю моему Королю возлечь с дикаркой! Метаморфоз – моё искусство! Теперь ты красива, и он может показать тебя людям, а ты не можешь вернуться к своему народу, потому что он тебя не признает. Ты принадлежишь нам. Мы назовём тебя Хелией в честь великого солнца, которое путешествует по небу и благословляет правление нашего Короля.
– Ты не отнимешь у меня имя, раб, – негромко сказала я, касаясь волос, подобных которым раньше никогда не видела, если не считать златогривых лошадей моей юности.
– Моя Королева, я его уже отнял.
Я проводила ночи по очереди с Королём и его беззвучной жестокостью – ибо он едва ли сказал мне слово после нашей поспешной свадьбы в храме, который я не смогу назвать, когда на моей талии защёлкнули пояс из золота и нефрита вместо кольца. Похоже, Король удивился, что пояс пришёлся мне впору. Другие ночи я была связанной в комнате Омира, где он пускал мне кровь, чтобы извлечь из моих жил силу, дарованную бабушкой. Волшебник вскрывал меня серебряными и золотыми иглами, даже нелепыми шипами размером с мускулистую руку. Но они проникали недостаточно глубоко, и кровь ни разу не стала серебряной. Хотя, возможно, во мне ничего и не было. Вероятно, я была пуста, как дыра в воздухе.
Омир не слушал, когда я говорила, что во мне ничего нет, что я лишь ученица и останусь таковой навсегда; забрал у меня луну и дал только неустанно обжигающее солнце.
Каждый день я проводила в башне, ставшей моей тюрьмой. Даже когда была беременна, мне не давали возможность отдохнуть, кроме как замертво лёжа на каменных плитах и прислушиваясь к звукам моей собственной, капающей сквозь щели в полу крови.
И всё же все Королевства возрадовались, когда я родила сына, названного в честь львов из диких степей. Лишь после того как я произвела на свет наследника, мне был дарован час в день, чтобы держать его на руках и смотреть, как мои слёзы падают на его гладкий лобик.
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
Леандр глядел в пустоту, его руки дрожали, во рту пересохло. Птицы смотрели на него, как на неимоверно бестолкового ребёнка, который едва научился подбрасывать мячик и ловить его, не роняя.
– Хелия? – прошептал он.
– Я думала, ты догадаешься раньше. Как бы там ни было, все откровения, в конце концов, оказываются разочарованиями. Ты думал, тебя случайно ко мне занесло? Только свернул за угол, а тут я. Ты ведь предполагал, что успеешь пройти куда больше, прежде чем встретишь Ведьму? Все эти годы я ждала у границы, до которой мог дотянуться твой отец; знала, что мой сын не может всю жизнь просидеть в Замке и даже не попытаться вырваться на свободу. Я всю себя посвятила этой мысли, будто мастерила лук, чтобы пускать стрелы в твою сторону. Впрочем, я не думала, что, придя сюда, ты первым делом убьешь свою сестру.
Возможно, лишь в этот миг Леандр понял истинный смысл истории Ведьмы, и преграда на пути его слёз лопнула, как паутинка на ветру. Он не на шутку разрыдался – за сестру, и за мать, и за отца, о чьих преступлениях не догадывался.
– Но я могу её вернуть! Ведь я принёс шкуру…
– Да-да, сын мой, подожди. Ещё не время, и я не всё рассказала. – Она неуклюже потянулась, чтобы прижать Принца к себе: объятия Нож были странными и неумелыми, так тигр мог бы обнимать морского котика. Она прошептала ему на ухо голосом трескучим, словно шелест камышей:
– На твой первый день рождения твой отец устроил великий праздник. Частью пиршества должна была стать чистка тюрем – ещё живых пленников, изголодавшихся точно олени в конце зимы, собирались казнить: всех несчастных, кто остался из моего племени.
Меня, разумеется, ни на пир, ни на казнь не пригласили…
Сказка Ведьмы (продолжение)
Двор сиял как огромный пирог, покрытый глазурью, и тебя передавали сотню раз с плеч на плечи, целовали тысячи ртов, в то время как я лежала в башне, обездвиженная золотыми путами. Но, когда ночь сделалась полна, словно парус, и все выпили вина столько, сколько ненасытные козлята сосут молока из своей бородатой мамочки, я перерезала верёвки острым камнем и, спрятав грубое лезвие в платье, выбралась из башни, вниз по знакомым ступеням, в последний раз спустилась во тьму темницы, где родилась Гнёздышко.
Они в ужасе глядели на меня из своих клеток. Я была для них чужачкой, уродливым вурдалаком всех оттенков золота. Мне пришлось их уговаривать, объяснять, что я вовсе не Королева, а их знакомая Нож, и, как полагается ножу, я отпущу их на свободу. Они не верили. Одетый в лохмотья ребёнок, который жевал сырое мясо и гонялся за воронами, чтобы добыть их перья, не мог быть наряженным в шелка и пахнуть фиалками, выросшими на мягком мху. Они спросили меня, как отличить следы оленихи от следов оленя и сколько диких кошек я убила до замужества, как звали мою бабушку и обеих моих сестёр.
Я ответила на все вопросы и один за другим сломала замки. Соплеменники сели вокруг меня, трясясь мелкой дрожью, точно стая диких птиц. Их осталось около сорока из многих сотен воинов.
– Я не могу допустить, чтобы вы завтра пошли под королевский топор, как скот. И могу выкупить ваши жизни куда по лучшей цене, чем эта. Только вот… я не уверена, что у меня получится. Волшебник резал меня, но ничего не нашел. Я не знаю, но попробую. Сядьте ближе, чтобы я могла дотянуться до любого из вас…
Они сдвинулись со всех сторон: запах их пота и умирания проник в меня, будто медленный яд. Все эти лица с заострившимися скулами, глаза и костлявые пальцы, хватавшиеся за меня! Они не знали, к чему тянутся, но понимали, что тянутся к их Ножу и спасению.
Я закрыла глаза и сердцем своим обратилась к Чёрной кобыле, породившей звёзды в начале мира. Молила её дать мне силу, на которую у меня не было права, и свет, который не был моим. Я медленно подняла острый камень и вонзила его себе в грудь, прорезав кожу и добравшись до живого мяса так глубоко, как только могла вынести. И потекла кровь, красная и тёмная, но не серебряная.
Я резанула ещё глубже, толкая камень внутрь себя, пока он не оцарапал кость. Я закричала, и мой голос эхом отразился во тьме, эхом от эха всех моих криков при рождении дочери и тех, что я испустила, позволив ей уйти.

Что-то бледное закапало из меня: маленькие капли, подобные жемчужинам. Они совсем не походили на сокровища света моей бабушки, и всё же свет был на дне моего тела.
Племя сгрудилось вокруг меня, словно лишь моё тело могло их согреть, я наклонилась и показала им, что надо вкусить эту жидкость, сосать из меня жизнь, как умирающий в пустыне сосёт кровь своей лошади, чтобы не погибнуть.
Каждому досталось по капле, а я становилась всё слабее, потому что сорок мужчин и женщин могут выпить много, особенно если они испуганы. В полуобмороке, с трудом держась на ногах, я присела на корточки среди них, по одному брала их хрупкие тела в руки и переделывала, как когда-то бабушка, словно глиняных кукол на каменном столе.
Они менялись медленнее, чем Гнёздышко, потому что я была очень слаба и потому что у меня не было света из пещеры, от звёзд. Но выросли большие серебряные крылья, губы превратились в клювы, а ноги исчезли под бледными перьями. Один за другим мои родичи вскакивали и протискивались между прутьями оконной решетки, летели в ночь, подсвеченную праздничными огнями, и брали луну под крыло, приветствуя звёзды криком.
А я сидела в сырой темнице, всхлипывая и смеясь; моя кожа горела от света, руки простёрлись к ним, понуждая их лететь всё выше и выше.
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
Леандр почувствовал жар и вес десятка чёрных взглядов на себе. Дикие гуси, соткавшие из своих тел одеяло для его матери, смотрели на него, лишая самообладания; их глаза были полны секретов. Нож погладила длинные шеи.
– Остальное ты знаешь. Меня наказали: тебя забрали и отдали горничной, а она сбежала и не увидела, что произошло у костра. Когда меня оставили гореть, пришла моя стая и, не убоявшись огня, освободила меня, унесла в Лес. Бедняги – они совсем не помнили себя в пернатых телах; не понимали, зачем ныряют в огонь. Некоторые из них погибли, но сделали это. Они просто знали, что любят и не могут жить без меня. В конце концов мы снова одно племя.
Леандр закрыл глаза, не в силах вынести взгляды длинношеих созданий.
– Мы подошли к сути, сын мой, – сказала она, скрестив руки на широкой груди. – Я предупреждала, что ты можешь предпочесть смерть предложенному мной спасению. Я не смогла отомстить за своих людей, лишь спасла им жизнь. Ты должен добиться большего. Когда нож войдёт в грудь твоего отца, я удовлетворюсь, а ты будешь прощён. Поклянись мне в этом!
Принц почему-то думал, что её цена будет ужаснее, не отразит и без того горячего желания отомстить за птичью хижину. Он не колебался ни секунды и почувствовал облегчение от того, что наконец может что-нибудь для них сделать. Леандр обнял мать, вдыхая её дикий острый запах, ощущая под руками толстые кости. После всего услышанного он не мог принести иной клятвы и пробормотал, что согласен. Нож похлопала его по спине и оттолкнула.
– Что ж, думаю, луна уже взошла, и ты можешь завернуть бедную сестричку в шкуру, чтобы она вновь стала целой. Не забудь, что шкуру надо наложить кожа к коже, иначе всё зря. Вяжи крепко, ибо ей придётся пробиваться наружу собственными усилиями, иначе никак.
– Это магия. Тебе стоит этим заняться, не мне.
Ведьма хрипло закашлялась и сплюнула:
– Я и займусь. Я её мать. Твоё дело – трава и листва, мальчик, а моё – кровь.
Видения снятых, как одежда, шкур и дев-бестий кружились в голове мальчика, точно хоровод девушек из гарема, когда он оставил кедровую рощу и девочку, изнурённую рассказом и мирно спавшую на постели из сосновых иголок. Он подумал о том, что на ветвях можно разглядеть блестящие светлые глаза диких птиц, точно жемчужины нанизанные на нити тьмы и ждущие его ухода, чтобы позаботиться о ней.
Беззвучно пробираясь назад во Дворец, мальчик был почти уверен, что замёл все следы – даже Принц не мог быть таким скрытным. Но, когда он закрыл дверь в свою спальню, вспыхнула жаровня, заполнив комнату янтарным светом, как фрукт, разбитый о стену.
Динарзад сидела посреди мехов его постели, держа в руках длинную тонкую соломинку. Она подняла её – кончик ещё тлел от прикосновения к светильнику.
– Ну-ну. – Она хихикнула. – Не вини меня. Я тебя по-хорошему предупреждала.
Динарзад метнулась вперёд, будто нацелившийся на муху паук, схватила брата за предплечье и потащила вверх по длинной лестнице. Без единого слова она бросила мальчика в маленькую комнату в башне и повернула ключ в большом замке. Из мебели в комнате была только узкая койка, а по каменному полу гуляли сквозняки. Рассвет, чьи персты были унизаны сапфировыми перстнями, уже заглядывал в окно.
Мальчик завопил от досады и пнул жалкую постель, уронил на холодный пол несколько слезинок – злых как удары кулаком. Теперь всё действительно пропало: на кровати даже не имелось простыней, из которых можно было бы соорудить верёвку. Всё-таки он – глупый ребёнок, раз застрял в этой башне, точно изуродованная дева, когда ему следовало бы странствовать по болотам, как Принцу. Всё неправильно, вверх дном и противоестественно. Мальчик ударил каменную стену в немой ярости и тотчас же об этом пожалел, потирая разбитые костяшки; его глаза наполнились слезами боли.
Снаружи Динарзад закрыла миндалевидные глаза и сделала глубокий хриплый вдох, точно мечом провели по толстой цепи. Она знала, что понесёт ужасную кару за то, что позволила ему выбраться в ночь. Ещё не зажили следы от плетки после предыдущего раза, когда ребёнок сбежал из её детской. Но она была дочерью султана, и ни одна амира её ранга не позволила бы себе демонстрировать кому-то страх или раны. Динарзад прогнала слёзы и отправилась вниз по полированным ступеням, спрятав ключ в одеянии. Забираясь в собственную постель, она начала тихонько плакать под волчьими шкурами; слёзы падали на подушку, как дождь падает на снег. Она хотела, чтобы все её кары оказались сном и можно было проснуться во Дворце, где нет детей, за которыми она должна присматривать, нет плёток со свинцовыми шариками и драгоценных братцев, которые насмехаются над ней и презирают её.
Когда девочка проснулась и большие крылья исчезли с её бледного тела, она увидела, что темноволосый мальчик ушел. Горячие тайные слёзы полились на чёрную землю.
Той ночью многие плакали.
На следующий вечер Динарзад принесла мальчику в башню ужин, как раз в тот момент, когда роза и пламя начали делить небо. Она ничего не сказала, обозначив свой визит медленным поворотом железного ключа в замке. Мальчик ничего не съел, хотя был голоден. Он отложил немного плотного сладкого хлеба и луковицы, приберёг яблоки, точно золотые украшения, в тщетной надежде.
Мальчик прислонился к стене башни, внутри у него всё кипело. Он пытался восстановить историю в памяти, но воспоминания путались, просачивались одно в другое, как акварель. У Гнёздышка были странные глаза девочки-рассказчицы, и не удавалось припомнить даже такую простую вещь, как цвет Чудища.
Привстав на цыпочки, мальчик потянулся к подоконнику и уставился на простиравшийся внизу Сад, чтобы хотя бы поглядеть на верхушки кипарисов, под которыми могла лежать девочка. Деревья были высокими, точно перьевые ручки в чернильницах, ночной ветер медленно их колыхал. И они были красивыми, потому что она, наверное, отдыхала под одним из них.
На самом деле девочка не отдыхала, а стояла на ухоженной траве у подножия высокой серой башни и пристально смотрела на беспомощного мальчика широкими и тёмными, как совиное горло, глазами.
Девочка молча наблюдала за ним. Возможно, она сумеет взобраться на вершину, цепляясь за шероховатые камни и плющ, и спасти мальчика. Хотя ей не доводилось слышать о подобном. На мгновение она позволила заполнить и согреть себя мыслью о том, что он искал её.
Когда совсем стемнело, она сунула ногу в одну из трещин между камнями и полезла вверх.
Мальчик слышал, как она карабкается по плющу и крапиве, которыми обросла башня, и разволновался, чувствуя её приближение: устыдился того, что она снова его выследила. Нужно прыгнуть, точно! Сломанная нога – не такая уж трагедия.
Конечно, это не имело значения. Девочка была здесь, а это значило, что он ей не безразличен. Дело не только в том, что ей хотелось рассказывать свои истории: она должна была по нему скучать. Эта мысль взошла в нём как ослепляющее солнце. Раздосадованный, он отбросил её и подготовил самое благожелательное, но достойное выражение лица человека, знающего себе цену.
Взобравшись на подоконник, мокрая от пота, девочка не вошла внутрь, а устроилась там, словно не до конца прирученный попугай. Видимо, она боялась не только его, но ещё и быть пойманной: до сих пор наказание принимал мальчик, а если бы её поймали во Дворце, скорее всего, убили бы. От внезапного открытия и восхищения её смелостью у него перехватило дыхание. Девочка снова его превзошла.
– Я… я знаю, ты хотел услышать остаток истории… – прошептала она, и он почему-то почувствовал стыд. Впервые, будто забирал у неё что-то ценное и беспокоился лишь о блеске добычи.
Тем не менее девочка снова завела свой рассказ, и её голос заполнил комнату как звуки медного колокола. Мальчик закрыл глаза.
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
– Я сдержал слово, – сказало Чудище. – После того как мы расстались с Ведьмой в её Долине, я отвёз Магадин в посёлок Мурин и устроил так, что её взяли на один из кораблей, чинить паруса. Говорят, она справляется – с учётом всех обстоятельств, конечно. Оставалась вторая часть двойной цены, которую Ведьма назначила за мою жизнь. Ты, должно быть, понял, что я связан словом чести и должен отдать шкуру. Теперь мы в расчёте.
Болотный король плюнул и проворчал что-то вроде кхм-кхм со своего насеста.
– Я нахожу это весьма и весьма неприятным! – Он устремил на Чудище обвиняющий взгляд; его глаза сверкали как угри, хлещущие хвостами. – Эта жуткая женщина тебе понравилась! Ты счёл её красивой! Это противоестественно! Думаю, ты влюбился! Как отвратительно… Ты же знаешь, что другие монстры никогда не поддержали бы тебя. Дева-бестия – одно, но человеческая женщина?! Как бы там ни было, по-моему, она тебе нравится больше меня. Не припоминаю, чтобы ты мне предлагал свою шкуру, даже когда я хотел убить несчастную саламандру, причинившую множество проблем прошлой весной.
Чудище тотчас полезло мириться и легонько боднуло Болотного короля, испачкав густой кровью его жесткую бороду.
– Малыш! Ты же знаешь, что тебя я люблю больше всех. Я решил стать твоим придворным – твоим, а не чьим-нибудь. Она ничто, мимолётное увлечение, – да что там, и не увлечение вовсе! Я восхищался ею в эстетическом смысле, вот и всё! Не злись. И не завидуй ей. Ведь у нас с тобой полным-полно забот.
Болотный король слегка приободрился, хотя продолжал пофыркивать. Вдруг он встрепенулся и кинулся прочь от Принца, бросив напоследок:
– Что ж, парень, тебе пора забрать свою добычу и, выражаясь вежливо, убраться. У нас, видишь ли, дела государственной важности.
Леандра оставили посреди болота, промокшим до пояса и со шкурой, от которой начало исходить то, чего не было поначалу, – зловоние.
Был уже почти вечер, и Принц не без угрызений совести решил, что, раз Эйвинда в скором времени ожидало предназначенное ему приключение, необязательно возвращаться в таверну, чтобы доставить послание. Возможно, всё уже случилось, чем бы оно ни было. Он пообещал себе отправить туда посыльного, когда всё закончится.
Это почти успокоило его совесть.
Итак, Принц отправился домой, открыв вторую истину о Подвигах, которая заключалась в том, что дорога домой непонятным образом оказывается намного короче, чем путь к желанной цели. Солнце легко скользило по небу, как по золотым рельсам, и земля будто быстрее вертелась под ногами. Приключения на обратном пути случаются редко, словно судьба желает, чтобы верный и удачливый Принц как следует отоспался, выполнив обещанное. Возвращаться к Ведьме было почти приятно, за исключением чувства вины и страха, которые грызли его желудок, точно голодные мыши.
Когда Принц вернулся к хижине Ведьмы, он дрожал, но, по крайней мере, на нём были те же самые большущие сапоги, подаренные трактирщиком, и они его не подвели. Видимо, состоявшийся обмен был равноценным. Наступила последняя ночь полнолуния, и тьма накрыла маленькую ферму Ведьмы Нож, как ладонь с толстыми пальцами. Суетливые гуси притихли, плуг стоял в полусвете звёзд и напоминал скелет. Дверь хижины была нараспашку, и Леандр со шкурой Левкроты в мешке, склонив темноволосую голову, ступил через порог.
В просторной кухне старухи не оказалось, хотя очаг сердито светился, несмотря на то что его давно оставили без присмотра. Она лежала за второй дверью, свернувшись клубочком на большой кровати и окруженная серыми гусями, соорудившими волнистое одеяло, укрывшее её скрюченное тело.

Леандр тихонько опустился на колени возле кровати и вложил красный узел в её руку. Она прервала храп, повернула голову и поморщилась.
– Значит, ты вернулся. – Она вздохнула и села в своей странной постели из перьев. Птицы подвинулись, наблюдая за ним десятками глаз-бусинок. – Видимо, это делает тебя Хорошим Принцем, как у вас заведено. Но ты пришел слишком рано. Тёмная луна восходит только за час до рассвета, и пока не время моей девочке рождаться во второй раз. Я должна ещё кое-что тебе рассказать.
Ведьма поёрзала, и гуси тоже зашевелились, вытянули длинные шеи, чтобы положить их ей на голову, дотронуться до неё. Серебряные крылья накрыли грудь старухи, словно скрещенные руки.
– Первую часть истории я рассказала ради себя, чтобы ты знал о прошлом. А эту поведаю ради тебя, чтобы ты узнал о будущем.
Сказка Ведьмы (продолжение)
Нож резанул сильно, но неглубоко. Волшебник даже не потрудился остановить кровь, текшую из его собственной раны. Это была тонкая алая линия под его подбородком, над железным краем ошейника: лишь одна среди многих на узкой полоске незащищенной плоти. Одним плавным движением, как ветер, перелетающий от одной ивы к другой, он схватил руку моей бабушки, переломил запястье и вонзил её нож ей в живот.
Бабушка замерла, изумлённо глядя на костяную рукоять ножа, которая торчала из её тела, будто новая конечность. Потом она внезапно поперхнулась, и яркая кровь хлынула из побелевших губ. Бабушка рухнула без сил мне на руки, а Волшебник нырнул в маленькую комнату за троном, и слуги последовали за ним, чтобы заняться его пустяковой раной.
За всё это время Король не сказал ни слова и не шевельнулся, но наблюдал с любопытством ястреба. Он не сводил с меня ледяного взгляда. Я держала бабушку в объятиях, как ребёнка. Она слабо улыбалась, кровь всё текла и текла из неё: тёмная кровь из глубин тела, густая и чёрная, а потом серебряная и бледная, струившаяся по моим рукам и коленям, будто ручеёк свежей воды. Я вся вымокла; бабушка протянула ко мне руку, с которой капала эта жидкость, и вложила пальцы в мой рот, так что капли света потекли по моему горлу.
Он был совсем безвкусный.
– Видишь? Я всё-таки могу тебя наполнить. Теперь ты – это мы. Всё, что осталось, вымокло в крови и свете, как наша давно почившая прабабка в ужасном шатре. Ты достаточно сильна, чтобы отомстить за нас. Моя смерть послужит тебе наставлением.
По её лицу пробежала и исчезла легчайшая тень улыбки, в горле раздался шум, точно сухие бобы перекатывались в тыкве-горлянке. В ней ничего не осталось: кровесвет впитался в меня, а она стала раковиной, дырой, пустым пространством.
Я не плакала, не могла позволить им увидеть мои слёзы. Я вынула нож с толстой рукоятью из плоти бабушки и крепко сжала его в окровавленном кулаке. На миг взглянув на Короля в роскошных одеждах, я увидела фигуру прямо за ним – пару чёрных блестящих глаз среди жесткой рыжей шерсти.
То был Лис, и он смеялся.
Я так и не узнала, что они сделали с телом моей бабушки, но его убрали из холла, как убирают кухонные отбросы, яблочную кожуру и свиной жир. Пятна на полу вытерли, когда Волшебник вернулся с перевязанным горлом.
Король по-прежнему не сводил с меня немигающего взгляда. Я стояла перед ним в лохмотьях, некогда мечтавших о белизне, обильно покрытая её кровью. Моё лицо было в кровавых полосах, точно я разукрасила себя для войны или свадьбы. Волшебник откинул седые космы с высокого морщинистого лба и обратился к Королю:
– У нас осталась только девчонка, мой господин. Если позволите, я заберу её в свою башню.
Но Король взмахнул шелково-гладкой рукой, отвергая предложение. Я уставилась на него. Его глаза шарили по моему телу, царапали меня, пытались пробраться внутрь. Ибо он воспылал ко мне ужасной страстью, и я видела, как она растёт в его глазах, точно свирепеющий вепрь.
– У тебя есть своя башня, Омир, а у меня – своя.
Его голос был тих и совершенно холоден, как мерзкий ветер, шелестящий перьями мёртвого ворона. Я увидела, что в тусклых глазах Волшебника зарождается то же понимание, которое снизошло на меня, когда я ощутила взгляд Короля. Воцарилась тишина, будто все мы утратили дар речи, и каждый яростно думал о том, как добиться желаемого.
Наконец Волшебник пробился вперёд и заговорил бесцеремонным тоном, который отбросил меня вернее, чем удар кулака:
– Мой господин, могу ли я поговорить с вами с глазу на глаз?
Двое удалились в противоположный конец большого зала. Но у моего народа чуткие уши, и я слышала их так же ясно, как фырканье собственной лошади среди поля травы.
– Мой король, у меня есть идея, которая может позволить нам достичь всех целей. Вам нужна Ведьма, мне – сила, которой бабушка могла её обучить. Зачем удовлетворять лишь вашу страсть? Почему бы вам не жениться на этом создании? – Король молчал. Под стропилами эхо вторило его расчётливым мыслям.
– Но она же дикарка, – наконец произнёс он. – Годится на то, чтобы я её использовал, а не обручался.
– Господин, – настаивал Волшебник, – если вы на ней женитесь, покажете покорённым племенам, что вам можно доверять, что вы добрый и справедливый правитель. Заполучить их доверие – единственный способ утихомирить дикие банды. Сделайте её Королевой, и за это они станут вас обожать, будут шепотом передавать друг другу, что новый Король даже с монстрами играет честно. К тому же все знают, что дикарки плодовиты, как коровы. Она будет рожать вам сыновей одного за другим. Я же смиренно прошу: в те ночи, которые она не будет проводить с вами, отдавайте её мне, чтобы я смог извлечь из неё всё, что можно, до её смерти от ваших действий или моих.
Позвольте рассказать одну байку, чтобы моя мысль стала понятнее.
Сказка Волшебника
Однажды в далёком королевстве – разумеется, оно и сравниться не могло с вашим великолепным королевством, мой господин, – жил Раджа по имени Индраджит. Он был прекрасным властителем, сильным и справедливым, как стрела, пронзающая сердце вора. Его покоряющая рука нависла над полями и фермами, точно облако, приносящее благословенный дождь. Никто не противился его власти, ни один голос не звучал против этой святейшей длани.
Он хотел принести свет и славу своего справедливого правления в самые отдалённые посёлки – стремление, о коем вам самому ведомо, мой господин. Раджа смотрел за великую реку, что струилась, как отрез шёлка, через плодородные земли королевства. И вот повёл он свою знаменитую Королевскую Гвардию, которая, если верить легенде, возникла из земли, когда Индраджит убил чудовищного вепря в дальних краях, и зубы твари упали на землю, точно град. Из тех зубов произошли сто и сорок четыре воина, которых с той поры называли Дентас Вараахасинд – Зубы Вепря. Они были сильно привязаны к Индраджиту, который, убив монстра, дал им жизнь. Солдаты-вепри отличались свирепостью, а их преданность была чиста, как снег на трупе. Они несли щиты, сделанные из огромных лопаток диких горных свиней, которые в те времена были такими же большими, как двери в сокровищницу Раджи. Их доспехи покрывала кроваво-красная шкура тех вепрей, и они носили ожерелья из длинных, изогнутых зубов, давших им жизнь. Они мазали лица дёгтем и затачивали зубы напильниками, так что вид у них был такой же, как у орды демонов, восставших под луной. Люди любили Раджу, как подобает подданным, но Вараахасинд вызывали у них хладный ужас.
Однажды летом Индраджит повёл своё преданное войско вдоль берега блистающей реки в маленький монастырь, который он хотел покорить и использовать как форпост для продвижения своей справедливой власти на юг. Любопытное дело: в храме жили одни женщины, и посвящен он был какой-то небесной змеебогине, украшенной драгоценностями. Когда женщины увидели приближающихся Вараахасинд и услышали их страшный боевой клич, похожий на вопль кабана, пронзённого копьём из ясеня, они не бросились бежать, а собрались вместе возле изображения своей богини, заслоняя позеленевшее бронзовое изваяние телами, одетыми в тонкие платья. Несколько женщин всё же показали свой страх и лишились чувств, но их поддержали другие прислужницы.
Тронутый преданностью монахинь, Индраджит не отсёк их неблагодарные груди немедля и не скормил их тела своим мужчинам. Взамен он оттолкнул женщин и просто разбил статую на острые осколки навершием эфеса своего массивного меча, прославленного во всех краях как непобедимое лезвие. И всё же женщины не закричали, как обычно бывает. Вместо этого одна из них, с глазами чёрными, будто лишенная света глотка змеи, посмотрела на великого Раджу и сказала:
– Это было злое дело. Теперь ты будешь ходить под Её проклятием до конца своих дней, которые утекут на землю, словно негодная нить из растрепанного мотка.
Индраджит не был до такой степени тронут их преданностью, чтобы задуматься над непочтительными словами. Он приказал своим людям отвести женщин в лес и там вырезать им языки, чтобы они больше не могли разговаривать с теми, кто выше их по статусу, только странствовали и попрошайничали. Однако он был очарован женщиной, дерзко с ним говорившей; её звали Серпентина. Как и любой другой Король на его месте, Индраджит захотел показать упрямой девке, каково её место в этом мире.
А ещё в его душе возникло страстное влечение к ней. В конце концов, она была очень красива в своих белых полупрозрачных одеяниях; её чёрные глаза казались такими глубокими, будто в них вовсе не было зрачков. Чёрные кудри монашки струились ниже пояса и странно блестели в лучах летнего солнца – как гладкая кожа саламандры. На её собственной коже не было ни пятнышка, а все черты по меньшей мере были безупречны. Она не отвела обезоруживающего взгляда, даже когда Король велел связать ей руки и ноги. Он перекинул её тело через своё изукрашенное медными заклёпками седло и привёз во Дворец, чтобы сделать своей Королевой.
Разумеется, женщина стала одной женой из тысячи, а невольниц у Раджи насчитывалось и того больше. Но, взяв её в жены, он надеялся одновременно насытить свою страсть и привлечь благосклонность её божества, поэтому её ценили намного выше, чем любую из несчастных кобылиц, согнанных с разных краёв принадлежавшей ему земли. Король не мог поместить монашку в надушенный гарем, так как не желал, чтобы она разожгла в бедных тварях бунтарский дух. Посему Серпентину держали в отдельной комнате, куда можно было попасть только из спальни Раджи. Перед тем как войти в сводчатое помещение, она повернулась к Индраджиту и заговорила с ним во второй раз:
– Я соглашусь стать твоей женой по своей воле и принесу клятву не затевать с тобой битву в твоих стенах. Я рожу тебе семь сыновей и семь дочерей, и все они прославятся воинской доблестью и красотой по огромному миру. Я отведу от тебя гнев змеиного божества и защищу твой дом. Но ты должен мне кое-что пообещать.
Индраджит пылал страстью к этой женщине, её странным волосам и гибкому телу. Он без промедлений пообещал бы ей то, что позволит заполучить её без боя.
– На третий день после каждого новолуния мне должно быть позволено делать то, что я желаю, и ты должен поклясться на теле Вепря, чья плоть подарила тебе преданных воинов, что не попытаешься меня увидеть или приблизиться ко мне в эти дни. Не бойся, я не покину Замок, чтобы сбежать от тебя. Таково моё условие, и оно останется неизменным.
Раджа согласился багрово-бархатным голосом. Серпентина больше ничего не говорила.
Годы летели как чёрные дрозды в ночи. Женщина со странными волосами действительно родила Радже семь сыновей и семь дочерей, черноглазых и кудрявых, в точности как их мать. Они совсем не напоминали отца, будто взяли кровь лишь от Серпентины, которая почти не старела и не дурнела. Даже когда дети стали взрослыми, один сильнее и ярче другого, – как она и обещала, все девушки были великими воительницами, а мальчики отличались красотой, – она рядом с ними выглядела солнцем среди свечей.
Король, как полагается, держал своё слово и занялся подчинением континента, делами государственной важности. Но по мере того как дети становились всё меньше на него похожи, росли подозрения, что Серпентина проводит новолуния, предаваясь прелюбодеянию и иным грехам. Ведь она была язычницей, совершенной дикаркой. Ей не следовало доверять. Индраджит багровел, поддаваясь своим опасениям, заболел ими и в конце концов утратил власть над собой – решил на ближайшее новолуние проследить за дикаркой-женой и застигнуть её на месте преступления.
Так всё и случилось. Это было нетрудно, поскольку её комната соединялась с его покоями. Раджа прокрался по коридору так тихо, как умеют лишь тренированные убийцы, и заглянул в щель между досками двери.
Его взгляду открылось то, что могло бы явиться демону во сне. В болезненном свете умирающей луны копошился клубок из четырнадцати змей в странных шкурах, которые мерцали в ночи пурпурным, синим и зелёным. Их тела извивались вдоль каменных стен, они говорили друг с другом на шипящем языке без названия. Они были переливчатые, словно радужные крылья стрекозы, и толстые, как тело человека. Мёртвый свет ночного неба будто питал их, они исполняли ужасный танец среди теней.
В самом центре находилась змея настолько огромная, что остальные рядом с ней выглядели наживкой для детской удочки. В обхвате она была как дворцовая колонна, и её шкура переливалась всеми цветами, как бурливый поток на закате, испуская белое сияние. Её глаза мерцали, чёрные на чёрном, зрачков в них не было. Когда змеиная королева увидела Индраджита, притаившегося за дверью и подглядывающего, её огромное тело затряслось, а крик был подобен скрежету лезвия по гранитным камням.
– Предатель! – закричала она и, расплывшись, будто он глядел на неё сквозь волны жара, превратилась в Серпентину с её летящей гривой, а маленькие змеи обратились в семь сыновей и семь дочерей. Все они кинули на него одинаковые обвиняющие взгляды, в каждом пылала ненависть, словно синее пламя.
– Ты поклялся, – закричала она, распахнув дверь с такой силой, что та разлетелась, ударившись о стену. – Ты поклялся, что это время принадлежит мне! И теперь потерял всё, несчастный Индраджит. Ты пришел в мой храм и уничтожил его, как обжора уничтожает жареного быка. Ты связал меня и приволок в это место с тёмными комнатами. Всё, о чём я просила, – один день без твоего кабаньего вонючего дыхания на моей шее. Я подарила тебе этих детей…
– Демонов! – в ужасе закричал Раджа.
– Детей! Моих детей, моих прекрасных малышей. Они совершенны! Ты не потрудился узнать, в чём суть нашего ордена, прежде чем его уничтожить. Я не поклоняюсь змеиному божеству – я и есть змеиное божество! И пребывала в небесах, когда земля ещё была лишь воздухом. Один раз в месяц я возвращаюсь к своему старому облику, чтобы искупаться в зыбком далёком свете, который могу увидеть; они отправляются со мной, потому что ты постоянно меня трогаешь, забираешь меня у меня самой, и их становится нечем кормить. Я дала тебе потомство из полубогов, Индраджит, они могли бы заполнить тысячу книг своими подвигами. Теперь же они погублены, а ты проклят!
И действительно, дети будто таяли, слёзы струились по их щекам, а тела становились всё прозрачнее, пока не исчезли, словно их сдул беспощадный ветер.
Серпентина смотрела на исчезающих детей с невыразимой скорбью во взгляде.
– Они очень хрупкие в этом возрасте, как паутинки в пиршественном зале. У нас так редко бывают дети, что мы почти ничего не знаем о том, как поддерживать в них жизнь. Дыра – всего лишь пустое пространство, и я не смогла их заполнить. Если прервать кормление и укрыть их от света материнских небес, они тают, будто утренний туман над рекой. Ты убил своих лучших наследников, Раджа, и лишил себя будущего, как ребёнок лишает неба своего жёлтого воздушного змея!
Сказав это, Серпентина бросилась на него, в мгновение ока приняв змеиный облик. Индраджит подал условный знак, и через миг двенадцать Вараахасинд были подле него, и Капитан отрубил массивную голову чудовища одним ударом меча.
По указу Раджи той же ночью для Вараахасинд устроили великое пиршество. Тело огромной змеи освежевали, порубили на части и отправили в кипящие кухонные котлы. Каждый мужчина получил долю сочного мяса, чтобы Серпентина не вернулась, волоча за собой злой рок. Сам Индраджит съел её разбухшее сердце и вобрал в себя силу змеебогини, чтобы распространить власть свою до моря.
Сказка Ведьмы (продолжение)
– Вот видите, – уговаривал Волшебник, – взяв в жены врага, Индраджит в конце концов сумел лишить его силы. Сделайте эту женщину своей Королевой и позвольте мне пользоваться ею всего раз в месяц, как Серпентиной. Мы вдвоём получим всё, что в ней есть.
Воцарилось долгое расчётливое молчание. Наконец все шестерёнки надлежащим образом сцепились, и Король начал склоняться к согласию.
– Но я не могу жениться на той, чьё лицо изуродовано татуировками и шрамами. Непозволительно появляться на людях в сопровождении этого.
– Я понимаю. Меня тоже притягивает не её плоть, а сила. Дикари, по меньшей мере, – Волшебник презрительно фыркнул, – вонючи и тупы. Но это не проблема. Я могу изменить её так, что для всех, включая вас, она будет красива, точно восходящее солнце. Уж это я умею!
Король бросил на меня взгляд через длинный холл цвета слоновой кости.
Уже начался рассвет, когда меня снова переместили, на этот раз в покои Волшебника, где он связал мои руки и ноги верёвками из крапивы и заткнул рот узловатым кляпом. Я лежала на холодном полу, глядя на столы, полные книг и давным-давно сгоревшими свечами, залившими восковой кровью страницы. Он готовил какую-то зловонную жидкость в стеклянном сосуде, чтобы превратить меня в какую-нибудь противоестественную тварь. Я беспомощно размышляла, испугалась ли бабушка, когда с ней случились перемены. Сама я не была уверена, что боюсь: моя кровь пульсировала, но я оставалась спокойной, как подземное озеро.
– Настал мой час, Нож. Слабоумный король пожелал сношаться с тобой. Что ж, пусть будет так, как ему угодно. Сомневаюсь, что тебе это понравится. Но мои пристрастия понравятся тебе ещё меньше. Я выиграл торг.

Волшебник поджал тонкие губы, наблюдая, как в сосуде клубится тёмно-красная жидкость.
– После стольких лет и стольких женщин, портивших мою прекрасную башню, ты падаешь мне прямо на колени, со всеми необходимыми знаниями, чтобы завершить мой труд. Можно поверить в предназначение. Почти что. – Он постучал по стенке флакона, в котором что-то негромко булькало, источая запах сожженного табачного поля. – Природа вселенной, маленькая моя варварка, заключается в переменах. Тот, кто контролирует перемены, по мощи и славе приближается к богам. Метаморфоз – вот главное действие. Без него ничто не растёт, не эволюционирует, не расширяется. Но должен ли я сидеть и ждать, пока прискорбно медлительная природа будет двигаться своим путём, подчиняя меня своей воле? Абсурд! Со времени моего ученичества в Южных королевствах я стремился контролировать собственные перемены, сохранил себя живым и сильным, хотя служил старому Королю до нынешнего хозяина и Радже ещё ранее. Правители сменяли друг друга, а я стремился открыть секрет, позволяющий изменять себя сообразно желаниям. Видишь ли, разум должен править телом. Менять свою форму усилием воли – компетенция богов, а с твоей помощью, мой волчоночек, я стану ярким, как Звезда. Всё дело в контроле: кто-то им обладает, а кто-то – нет.
Волшебник бросил горсть слипшихся листьев в своё тошнотворное зелье и обратил ко мне спокойный взгляд бездонных глаз:
– Разумеется, тот, у кого нет природного дара, обращается к менее изящным способам контроля. – Он схватил крысу, пробегавшую мимо и, несмотря на то что она извивалась, выдрал у неё четыре зуба и бросил их в сосуд, где они с шипением растворились. – Например, Король верит в то, что обладает властью и сам управляет своей судьбой. В общем-то, этого желают все живые существа. Но я руковожу его действиями столь же уверенно, как ребёнок с ангельским личиком управляет куклой. Ты слышала историю, которую я ему поведал? Я рассказал лишь половину – ту, что требовалась ему для того, чтобы позволить оставить тебя себе. Я хотел, чтобы ты оказалась там, где сейчас находишься, и рассказал ровно столько, сколько необходимо для самооправдания. Хочешь услышать остальное?
Я слабо пошевелилась и застонала сквозь грязный кляп.
– Разумеется, хочешь. Ты будешь слушать всё, что я говорю, верно? На чём я остановился? Ах да, Серпентина умерла, и её тело попало в сто сорок пять сытых желудков.
Сказка Волшебника (продолжение)
Дворец Индраджита Ужасного спал той ночью мирно и видел кровавые сны о праведных убийствах. Но, когда стальные зубья гор разбили ночное небо, как оконное стекло, произошла странная вещь: Вараахасинд, носители смерти, начали сходить с ума.
Поначалу никто ничего не заметил. Ведь солдаты всегда вели себя по-варварски, украшая жилища конечностями убитых дев и разрисовывая лица кабаньей кровью. Чтобы заметить в них признаки безумия, оно должно было стать сильным, точно пара волов.
Вышло так, что один из лейтенантов встретил рассвет в бане, спокойно сбривая изукрашенную бороду, которая ложилась ему на ключицы, словно клыки огромного вепря. Он аккуратно срезал её лезвием меча, уничтожая символ своей славной мужественности. Борода была гордостью Вараахасинд, сбривать её было нарушением кодекса, за это ждала смертная казнь путём выставления на солнце. Но этот человек избавился от неё так основательно, что его лицо сделалось детским и гладким, как луна.
На следующей неделе капитана нашли в бежевой лохани, где он пел гимн без слов, из одних безобразных гласных. Хуже того, лохань до позолоченных краёв была полна копошащихся зелёных змей, толстых как женская талия, которые в рептильном экстазе обвивали капитана.
Наконец, на третий день нового года второй командующий беспощадного войска утратил дар речи. Он плевался и шипел непристойным образом, его тело корёжило от усилий, требовавшихся для произнесения хотя бы одного шипящего слога. Когда придворный доктор успокоил бедолагу в достаточной степени, чтобы он открыл рот, выяснилось, что его язык стал раздвоенным – сквозь толстую плоть проходила глубокая щель.
Глядя на всё это, Раджа и глава Вараахасинд начали опасаться за собственный разум и призвали некоего волшебника, чтобы тот определил источник болезни.
Я тогда был молод, едва успел надеть ошейник при Индраджите. Впервые в жизни я был не просто Омир, роющийся на фермерском поле в поисках корней, а Омир Серв. Другие бросали это звание, точно проклятие, я же носил его как корону. Оно означало, что я больше чем картофелина, репа или свёкла, покрытая грязью. Даже раб лучше, которого до самой его смерти передают от хозяина к хозяину. Я носил железный ошейник с той же лёгкостью, с какой носят ожерелье. Он плотно охватывал моё горло от подбородка до грудной клетки. Символ моего рабского служения каждое утро полировали до блеска; он сверкал будто меч, приставленный к моей шее. Мне было запрещено вершить магию, кроме как на службе у Индраджита, и даже тогда за мной наблюдали собратья по ремеслу, словно я был обычным сапожником. Но это было лучше, чем сеять пастернак и лапать потную жену. И вот, когда меня впервые привели к Зубастому Трону, от возбуждения, после долгих месяцев скуки и напрасной траты таланта, во мне забурлила кровь.
– Омир Серв, низший из рабов, ты явился пред нами, чтобы разгадать загадку сомнамбулизма, поразившего моих людей. От скорости, с которой ты справишься с этим заданием, напрямую зависит, как долго ты проживёшь, покинув этот зал, – сурово провозгласил Индраджит, не дожидаясь вступительной речи, которую я усердно готовил.
Корона Клыков мерцала и светилась, отражая свет факелов и искажая моё зрение. Но я подумал, что, возможно, это к лучшему. Поскольку, разумеется, уже знал, что стало причиной болезни. Ведь я был мудрейшим из всех собратьев и сестёр по рабству. У меня имелось лакомство, которое можно подвесить перед этим свиным рылом, и оно позволило бы мне купить то, в чём я больше всего нуждался.
– Благороднейший из королей, – быстро заговорил я, – могу разгадать твою загадку за один миг, не обращаясь к книгам или оракулам, если ты соизволишь заплатить цену, которую я попрошу.
Я увидел, как гнев Раджи вспыхнул от подобной дерзости. Но страх одержал великую победу в битве, развернувшейся в его душе, и он кивнул, выражая согласие, которое нельзя было отменить.
– Разгадка проста. Вы убили и съели Звезду, одну из тех, кого простодушные называют богами. Её присутствие внутри вас и ваших людей пытается утвердиться, вновь приобрести форму Великой Змеи.
– И что ты просишь в обмен на эту простую разгадку?
– Свободу, мой владыка, что же ещё?
Индраджит нахмурил лоб, который стал подобен полю после бури. Когда он ответил, его голос звучал хрипло от ярости:
– Мы дали тебе своё слово, и оно нерушимо. Но за такую награду ты должен дать нам лекарство от этой язвы, чтобы покончить со злодейством, которое наша бывшая жена вершит изнутри.
Меня охватила дрожь, поскольку я не мог признаться, что подобное, вероятно, превосходило мои силы. Глупый Раджа совершил преступление, наказание за которое неизбежно. Если бы он посоветовался со мной до того, как сожрал сожительницу, я бы придумал для неё куда более сладостные пытки, в которых никого нельзя было бы обвинить. Наказания всегда вызывали у меня особый интерес.
Я быстро подсчитал. В тот момент важнее всего было дать ему что-то, некий путеводный указатель. Мой господин Индраджит находился в растерянности, не имел ни чёткого плана, ни приказов на пергаменте, подписанных чернилами, сделанными из масла раздавленных сапфиров. Он не отличался оригинальностью мысли, ему были понятны лишь планы, полные крови, причем никогда – его собственной. Учитывая такие переменные, обрисовался курс, у которого и впрямь имелись небольшие шансы на успех. И, что ещё важнее, он бы проник прямо в душу Раджи, налитую, как всегда, самым чёрным из вин, что родилось из гнилого винограда.
– Мой досточтимый лорд! Серпентина, пребывающая внутри, охвачена слепым желанием наказать мужчин, и части её бывшего тела разделены лишь сеткой из плоти. Но, если вы отправите ваше верное войско на смерть, та её часть, что находится внутри вас, уснёт и больше не проснётся, а ваше справедливое и могучее правление продолжится.
Раджа надолго замолчал и будто осел на своем громадном эмалевом троне, инкрустированном зубами многих тварей и драгоценными камнями – столь тёмными, как кровь из тайных жил покорённых. Его лицо неуловимо двигалось: произошел тектонический сдвиг черт, пока он обдумывал убийство многих людей. Я имел все основания думать, что его беспокоило не количество, а вопрос, примут ли они смиренно массовую казнь. Это были не какие-нибудь крестьяне, и лишь он знал, какая алхимия пробудила их к жизни.
Наконец, Индраджит заговорил, и его голос звучал как закрывающийся мраморный склеп:
– Пошли гонцов, Омир Серв, пусть прикажут воинам собраться в Зале голосов. На закате я обращусь к ним с речью.
Вот так, легко и просто, закончилась моя аудиенция, а моя свобода стала чуть ближе. В последний раз я ждал заката с таким нетерпением, когда был ребёнком на руках у матери и не мог совладать с восторгом, который у меня вызывали зимние фестивали и украшенные золотыми фонариками ветви деревьев.
Ночь пришла в свой черёд. Сто и сорок четыре воина прилежно собрались в похожем на пещеру Зале голосов, где шепоты усиливались до криков, пронзающих до костей. Все они явились в лучшем боевом облачении, возможно предчувствуя, что это вечер исключительной важности. Зубы вепрей болтались на их мускулистых шеях и кожаных нагрудниках, у некоторых даже пронзали ноздри и уши. Каждый был в плаще из шкуры кабана, которую вываривали и дубили до тех пор, пока она не приобретала уродливый оттенок ошпаренной розовости. Они разрисовали лица жиром и дёгтем, пропитали волосы кровью и выстроились перед Индраджитом, стоявшим на помосте. Я сидел позади него и смотрел на их грубые лица безмятежно и благоволительно.
– Преданнейшие из преданных, любимейшие из наших рабов, – начал он, простирая руки отеческим жестом, – великий страх следовал за нами по пятам, как верная гончая. Лекарство от безумия, поразившего вас, найдено, и мы пришли сюда этим вечером, чтобы принять его.
Не знаю, что он хотел с ними сделать, и уже никогда не узнаю. Воины внезапно замерли, будто сквозь них прошла чёрная молния, их мышцы сковало судорогой, лица исказились от внезапного ужаса или экстаза. Как один, сто и сорок четыре человека разинули рты невероятным образом, шире, чем положено людям. Ужасная симфония прозвучала, когда их челюсти сломались и головы откинулись назад. Я смотрел, как сто и сорок четыре мужчины заговорили одним жутким голосом, доносившимся из глубин земли, вызывая шатание гор и раскатываясь эхом под сводами холла, точно выпущенная из лука стрела:
– ТОЛЬКО ЖИВЫХ МОЖНО ИСЦЕЛИТЬ. Я МЕРТВА. ПОГЛЯДИ НА МЕНЯ, СУПРУГ МОЙ. РАЗВЕ Я НЕ КРАСИВА? РАЗВЕ Я НЕ СИЛЬНА?
Сначала Индраджит ничего не понял и, побелев как баба, кубарем скатился с трона.
– Что это за черная магия, Волшебник? Что ты наделал?
– Это был не я, ваша милость, – сказал я, запинаясь, и помог ему встать.
Тем временем беспощадный голос снова вырвался из сломанных ртов:
– ГЛУПЫЙ МАЛЬЧИШКА НА ЖЕСТЯНОМ ТРОНЕ! Я ЕСТЬ ВСЁ СУЩЕЕ. С ЧЕГО ТЫ ВЗЯЛ, ЧТО МЕНЯ УНИЧТОЖИТ ОГОНЬ ИЛИ ЧТО Я СГИНУ В БРЮХАХ ЭТИХ МУЖЧИН? НО ВОТ ТЕБЯ УНИЧТОЖИТЬ НЕТРУДНО.
Внезапно тела воинов жутко затряслись, их кости застучали, точно барабаны. Из раздробленных челюстей вырвался необъяснимый свет, чёрный, бледный и зелёный, как если бы сам воздух загорелся. Великолепные волны дымчатого света сплелись в громадную колонну, и, едва осколок света покидал тело одного из Вараахасинд, это тело корчилось и умирало, превращаясь в зуб, из которого он произошел. Перестук зубов, падавших на мозаичный пол, складывался в мрачное эхо, и колонна росла.
Индраджит затрясся. Теперь ему всё стало понятно, и он беспомощно схватился за живот, зная, что внутри находится последняя часть его жены: сбежать от неё было невозможно. Змея из света нависла над Раджой, безглазая, но зрячая. Он распростёрся перед ней, безмозглый дурень, и молил о пощаде. Она заговорила опять, и на этот раз её голос, уже не исходивший из столь многих глоток, напоминал тихое шипение ветра и угасающего пламени:
– Будь ты не тем, кто ты есть, я дала бы тебе целый мир.
И свет поглотил его, прошел сквозь плоть, и от этого кровь превратились в порошок. А когда свет покинул тело, осталась лишь корона, безмолвно перекатывавшаяся на троне; все её желтые клыки были дочерна обожжены.
Сам свет будто помедлил, глядя на меня; его грозная пустота сосредоточилась на моём сердце, и я на миг испугался, что меня не пощадят, хоть я и не принимал участия в ужасном пиршестве. Я застыл перед этой полуженщиной, и её взгляд длился словно тысячу ночей.
Но вот в Зале голосов появился второй свет, и про меня забыли. Белые завитки просочились сквозь витражные окна, как золотые колонны. Новый свет был таким сильным, что я не мог на него смотреть. Он заполнил зал с ковром из сломанных зубов, точно имел вес воды, которую медленно наливают в стакан. А потом он исчез так же внезапно, как и появился. Из белого дыма перед змеёй возник мужчина в белом, с бледным копьём и развивающимися за спиной бесцветными волосами. Он с нежностью открыл алебастровый рот, и маленькая тайная вспышка света прошла между ними, ласковая как звёзды весной.
Когда он сомкнул бесцветные губы, змея исчезла. Серпентина стояла на её месте, хотя и не совсем целая. Она была жёсткой и прозрачной, будто вырезанной из стекла. Крупные ониксовые браслеты в форме беспокойных змей охватывали её руки от плеч до запястий. Кроме этих массивных украшений, на женщине ничего не было, а её волосы удерживал тонкий обруч в виде единственной змеи с многоцветной шкурой. И все эти цвета казались бледными, приглушенными, словно картина, на которую плеснули водой.
Не сказав мне ни слова, бледный незнакомец подхватил её застывшее тело и унёс прочь из Зала.
Сказка Ведьмы (продолжение)
– Ты понимаешь? Если будешь молчать и ждать, в конце концов сможешь устроить миленькую месть. Меня это не интересует. Король – неотёсанный тупица, и, когда я получу от тебя необходимое, ты окажешь мне любезность, убив его и освободив меня от службы, как когда-то освободила смерть Индраджита. Строй планы в темноте, потому что, кроме неё, у тебя ничего нет.
Волшебник отвернулся от стола, держа в руке чашу с густым зелёно-чёрным напитком, по цвету напоминавшим плесневелую плоть. Он улыбнулся – такая улыбка могла показаться ласковой или горделивой на другом лице, но не на этом. Омир поднял меня за волосы, выдернул кляп изо рта и заставил выпить зелье. У него был вкус желчи и гнилых цветов – роз, видимо. Были ещё какие-то тёмные затхлые нижние ноты вкуса, которые вполне могли оказаться по́том какого-то неназываемого тела.
Когда жидкость попала внутрь меня, и в моём животе забурлило, Волшебник швырнул меня прочь и стал наблюдать с любопытством кота, глядящего на мышь, которую он вот-вот проглотит. Я кричала и царапала саму себя – жуткое золотое облако отняло у меня зрение, а моя кожа рвалась на части, как страницы его непотребных книг. Меня дважды вырвало вперемешку с испускаемыми воплями, терявшимися под каменными сводами. Он и пальцем не пошевелил, чтобы помочь, стоял и смотрел, как у меня, коленопреклонённой, крадут мою кожу.
Наверное, в конце концов я потеряла сознание. Когда пришла в себя, он держал передо мной большое зеркало, и на его губах играла жестокая улыбка победителя.
В зеркале, украшенном резной рамой, я увидела высокую женщину с волосами цвета молодой пшеницы, которые ниспадали ниже талии мерцающими локонами, с большими серыми глазами, точно озёра чистого дождя, и молочной кожей без единой отметины. Я стала долговязой, груди мои были высоки и полны, не осталось и следа хотя бы от одного узла мышц – я была слабой и мягкой, как новорожденный ягнёнок.
– А теперь, – проникновенно сказал Волшебник, – мы назовём тебя Королевой. – Увидев выражение моего лица, он рассмеялся. – Ты же не думала, что я позволю моему Королю возлечь с дикаркой! Метаморфоз – моё искусство! Теперь ты красива, и он может показать тебя людям, а ты не можешь вернуться к своему народу, потому что он тебя не признает. Ты принадлежишь нам. Мы назовём тебя Хелией в честь великого солнца, которое путешествует по небу и благословляет правление нашего Короля.
– Ты не отнимешь у меня имя, раб, – негромко сказала я, касаясь волос, подобных которым раньше никогда не видела, если не считать златогривых лошадей моей юности.
– Моя Королева, я его уже отнял.
Я проводила ночи по очереди с Королём и его беззвучной жестокостью – ибо он едва ли сказал мне слово после нашей поспешной свадьбы в храме, который я не смогу назвать, когда на моей талии защёлкнули пояс из золота и нефрита вместо кольца. Похоже, Король удивился, что пояс пришёлся мне впору. Другие ночи я была связанной в комнате Омира, где он пускал мне кровь, чтобы извлечь из моих жил силу, дарованную бабушкой. Волшебник вскрывал меня серебряными и золотыми иглами, даже нелепыми шипами размером с мускулистую руку. Но они проникали недостаточно глубоко, и кровь ни разу не стала серебряной. Хотя, возможно, во мне ничего и не было. Вероятно, я была пуста, как дыра в воздухе.
Омир не слушал, когда я говорила, что во мне ничего нет, что я лишь ученица и останусь таковой навсегда; забрал у меня луну и дал только неустанно обжигающее солнце.
Каждый день я проводила в башне, ставшей моей тюрьмой. Даже когда была беременна, мне не давали возможность отдохнуть, кроме как замертво лёжа на каменных плитах и прислушиваясь к звукам моей собственной, капающей сквозь щели в полу крови.
И всё же все Королевства возрадовались, когда я родила сына, названного в честь львов из диких степей. Лишь после того как я произвела на свет наследника, мне был дарован час в день, чтобы держать его на руках и смотреть, как мои слёзы падают на его гладкий лобик.
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
Леандр глядел в пустоту, его руки дрожали, во рту пересохло. Птицы смотрели на него, как на неимоверно бестолкового ребёнка, который едва научился подбрасывать мячик и ловить его, не роняя.
– Хелия? – прошептал он.
– Я думала, ты догадаешься раньше. Как бы там ни было, все откровения, в конце концов, оказываются разочарованиями. Ты думал, тебя случайно ко мне занесло? Только свернул за угол, а тут я. Ты ведь предполагал, что успеешь пройти куда больше, прежде чем встретишь Ведьму? Все эти годы я ждала у границы, до которой мог дотянуться твой отец; знала, что мой сын не может всю жизнь просидеть в Замке и даже не попытаться вырваться на свободу. Я всю себя посвятила этой мысли, будто мастерила лук, чтобы пускать стрелы в твою сторону. Впрочем, я не думала, что, придя сюда, ты первым делом убьешь свою сестру.
Возможно, лишь в этот миг Леандр понял истинный смысл истории Ведьмы, и преграда на пути его слёз лопнула, как паутинка на ветру. Он не на шутку разрыдался – за сестру, и за мать, и за отца, о чьих преступлениях не догадывался.
– Но я могу её вернуть! Ведь я принёс шкуру…
– Да-да, сын мой, подожди. Ещё не время, и я не всё рассказала. – Она неуклюже потянулась, чтобы прижать Принца к себе: объятия Нож были странными и неумелыми, так тигр мог бы обнимать морского котика. Она прошептала ему на ухо голосом трескучим, словно шелест камышей:
– На твой первый день рождения твой отец устроил великий праздник. Частью пиршества должна была стать чистка тюрем – ещё живых пленников, изголодавшихся точно олени в конце зимы, собирались казнить: всех несчастных, кто остался из моего племени.
Меня, разумеется, ни на пир, ни на казнь не пригласили…
Сказка Ведьмы (продолжение)
Двор сиял как огромный пирог, покрытый глазурью, и тебя передавали сотню раз с плеч на плечи, целовали тысячи ртов, в то время как я лежала в башне, обездвиженная золотыми путами. Но, когда ночь сделалась полна, словно парус, и все выпили вина столько, сколько ненасытные козлята сосут молока из своей бородатой мамочки, я перерезала верёвки острым камнем и, спрятав грубое лезвие в платье, выбралась из башни, вниз по знакомым ступеням, в последний раз спустилась во тьму темницы, где родилась Гнёздышко.
Они в ужасе глядели на меня из своих клеток. Я была для них чужачкой, уродливым вурдалаком всех оттенков золота. Мне пришлось их уговаривать, объяснять, что я вовсе не Королева, а их знакомая Нож, и, как полагается ножу, я отпущу их на свободу. Они не верили. Одетый в лохмотья ребёнок, который жевал сырое мясо и гонялся за воронами, чтобы добыть их перья, не мог быть наряженным в шелка и пахнуть фиалками, выросшими на мягком мху. Они спросили меня, как отличить следы оленихи от следов оленя и сколько диких кошек я убила до замужества, как звали мою бабушку и обеих моих сестёр.
Я ответила на все вопросы и один за другим сломала замки. Соплеменники сели вокруг меня, трясясь мелкой дрожью, точно стая диких птиц. Их осталось около сорока из многих сотен воинов.
– Я не могу допустить, чтобы вы завтра пошли под королевский топор, как скот. И могу выкупить ваши жизни куда по лучшей цене, чем эта. Только вот… я не уверена, что у меня получится. Волшебник резал меня, но ничего не нашел. Я не знаю, но попробую. Сядьте ближе, чтобы я могла дотянуться до любого из вас…
Они сдвинулись со всех сторон: запах их пота и умирания проник в меня, будто медленный яд. Все эти лица с заострившимися скулами, глаза и костлявые пальцы, хватавшиеся за меня! Они не знали, к чему тянутся, но понимали, что тянутся к их Ножу и спасению.
Я закрыла глаза и сердцем своим обратилась к Чёрной кобыле, породившей звёзды в начале мира. Молила её дать мне силу, на которую у меня не было права, и свет, который не был моим. Я медленно подняла острый камень и вонзила его себе в грудь, прорезав кожу и добравшись до живого мяса так глубоко, как только могла вынести. И потекла кровь, красная и тёмная, но не серебряная.
Я резанула ещё глубже, толкая камень внутрь себя, пока он не оцарапал кость. Я закричала, и мой голос эхом отразился во тьме, эхом от эха всех моих криков при рождении дочери и тех, что я испустила, позволив ей уйти.

Что-то бледное закапало из меня: маленькие капли, подобные жемчужинам. Они совсем не походили на сокровища света моей бабушки, и всё же свет был на дне моего тела.
Племя сгрудилось вокруг меня, словно лишь моё тело могло их согреть, я наклонилась и показала им, что надо вкусить эту жидкость, сосать из меня жизнь, как умирающий в пустыне сосёт кровь своей лошади, чтобы не погибнуть.
Каждому досталось по капле, а я становилась всё слабее, потому что сорок мужчин и женщин могут выпить много, особенно если они испуганы. В полуобмороке, с трудом держась на ногах, я присела на корточки среди них, по одному брала их хрупкие тела в руки и переделывала, как когда-то бабушка, словно глиняных кукол на каменном столе.
Они менялись медленнее, чем Гнёздышко, потому что я была очень слаба и потому что у меня не было света из пещеры, от звёзд. Но выросли большие серебряные крылья, губы превратились в клювы, а ноги исчезли под бледными перьями. Один за другим мои родичи вскакивали и протискивались между прутьями оконной решетки, летели в ночь, подсвеченную праздничными огнями, и брали луну под крыло, приветствуя звёзды криком.
А я сидела в сырой темнице, всхлипывая и смеясь; моя кожа горела от света, руки простёрлись к ним, понуждая их лететь всё выше и выше.
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
Леандр почувствовал жар и вес десятка чёрных взглядов на себе. Дикие гуси, соткавшие из своих тел одеяло для его матери, смотрели на него, лишая самообладания; их глаза были полны секретов. Нож погладила длинные шеи.
– Остальное ты знаешь. Меня наказали: тебя забрали и отдали горничной, а она сбежала и не увидела, что произошло у костра. Когда меня оставили гореть, пришла моя стая и, не убоявшись огня, освободила меня, унесла в Лес. Бедняги – они совсем не помнили себя в пернатых телах; не понимали, зачем ныряют в огонь. Некоторые из них погибли, но сделали это. Они просто знали, что любят и не могут жить без меня. В конце концов мы снова одно племя.
Леандр закрыл глаза, не в силах вынести взгляды длинношеих созданий.
– Мы подошли к сути, сын мой, – сказала она, скрестив руки на широкой груди. – Я предупреждала, что ты можешь предпочесть смерть предложенному мной спасению. Я не смогла отомстить за своих людей, лишь спасла им жизнь. Ты должен добиться большего. Когда нож войдёт в грудь твоего отца, я удовлетворюсь, а ты будешь прощён. Поклянись мне в этом!
Принц почему-то думал, что её цена будет ужаснее, не отразит и без того горячего желания отомстить за птичью хижину. Он не колебался ни секунды и почувствовал облегчение от того, что наконец может что-нибудь для них сделать. Леандр обнял мать, вдыхая её дикий острый запах, ощущая под руками толстые кости. После всего услышанного он не мог принести иной клятвы и пробормотал, что согласен. Нож похлопала его по спине и оттолкнула.
– Что ж, думаю, луна уже взошла, и ты можешь завернуть бедную сестричку в шкуру, чтобы она вновь стала целой. Не забудь, что шкуру надо наложить кожа к коже, иначе всё зря. Вяжи крепко, ибо ей придётся пробиваться наружу собственными усилиями, иначе никак.
– Это магия. Тебе стоит этим заняться, не мне.
Ведьма хрипло закашлялась и сплюнула:
– Я и займусь. Я её мать. Твоё дело – трава и листва, мальчик, а моё – кровь.
В Саду
Мальчик уставился на девочку, чьё лицо обрамляла россыпь белых звёзд, что стелились по небу как небесная пена. Её глаза были закрыты; она была очарована собственным голосом, который двигался вперёд-назад по его коже, будто смычок по струнам скрипки. Если бы она приказала ему отрастить крылья точь-в-точь как у Гнёздышка и вылететь из башни, он бы выпрыгнул из окна, лишь бы она не переставала говорить.
Завороженный закрытыми глазами и водопадом тёмных волос, мальчик вновь осмелился лечь рядом с ней на широком каменном подоконнике и положить голову ей на колени, точно молодой лев, поддавшийся укротителю.
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
Леандр смотрел на труп своей сестры, который за время его странствий ничуть не изменился и не поддался гниению: кожа была по-прежнему бледной, а серебристо-блестящие волосы остались безупречными и прекрасными. Его руки коснулись её тела, и оказалось, что оно холодное, но не окоченелое.
Принц завернул сестру в алую шкуру, как велела мать. Он позаботился о том, чтобы скрестить ей руки на груди, и свернул волосы, чтобы они не приклеились к шкуре. Согнул её ноги и протянул под ней красную ткань. Когда спрятал последний уголок, вся кожистая штуковина оказалась жесткой и круглой, словно яйцо, и на летней траве она светилась, как зловещая звезда. Леандр рухнул у ствола узловатого дуба, весь мокрый от пота.
Нож опустилась на колени на тёмную траву, положив рядом с собой что-то, завязанное в узел. Её суставы трещали, как окна, открытые зимой. Она погладила яйцо и прижалась к нему, обняла и что-то ласково проговорила. Потом закрыла глаза, и принцу на миг показалось, что старуха плачет, – но, конечно, этого не было.
Она вытащила длинный нож из одного из чехлов на поясе и положила его на колени. Вгляделась в отражение луны на металле.
– Шкура хорошая, мой мальчик, ты отлично справился. Но она её не убила, так что недостаточно лишь завернуть тело и ждать пробуждения. Недостаточно! Раб так и не смог нанести достаточно глубокую рану, а я добралась до нужной глубины лишь однажды. В этот раз я за всё отплачу – заберусь достаточно глубоко, чтобы вернуть её назад; достаточно глубоко, чтобы заполнить её скорлупу звёздным желтком; достаточно глубоко, чтобы моя девочка вернулась домой.
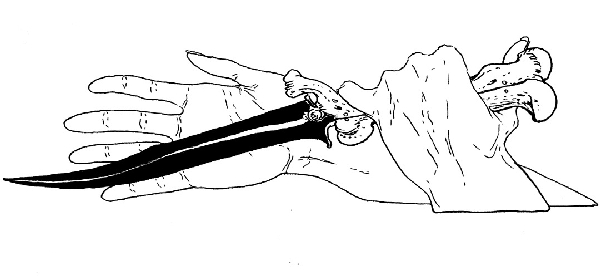
Поначалу Леандр не сообразил, о чём она, – как все принцы, он с неохотой уделял внимание тому, что не лежало перед ним, разборчиво написанное чернилами трёх разных цветов. Но, когда Ведьма подняла лезвие, он всё понял и рванулся вперёд, чтобы остановить её, но она была быстрее и вонзила нож себе в грудь до того, как сын успел схватить её за руку.
– Достаточно! – рявкнула она и одним жутким движением вскрыла свою грудную клетку прямо над алым яйцом. Кровь хлынула на шкуру, тёмная как темница, точно гусиный глаз. А потом он пришел, тот самый свет… Сначала по капле, потом тонкой струйкой, просачиваясь в яйцо, будто сметана в сосуд. Оно побелело от кровесвета и засветилось, будто лампа. Нож рухнула на скользкую поверхность и сползла на траву; её тело было пустым, как дыра в небе.
Вскоре свет полностью впитался в шкуру, и она опять стала тёмной и красной на погруженной в тень траве. Через несколько мгновений из скорлупы послышались жуткие звуки, царапанье и плач, тяжелое, постепенно ослабевавшее дыхание. Леандр хотел разломать яйцо, упасть навзничь и оплакать свою мать. Раздираемый желаниями, он ничего не сделал – лишь стоял как вкопанный и беспомощно наблюдал.
С громким треском, будто сломалась дворцовая колонна, сквозь скорлупу пробилась белая рука и вцепилась в скользкую поверхность. Затем появилась девушка с волосами, унизанными осколками багровой скорлупы, мокрая и блестящая от жидкости, что была внутри яйца. Она выбралась, работая болезненно тонкими руками и ногами. Ступив на траву, девушка заметила свою изящную ступню и застыла. Она вытянула вперёд руки и уставилась на них. Потом заметила стоявшего под деревом Принца.
Гнёздышко открыла свой человечий рот впервые и закричала так громко и страшно, что соловьи замертво попадали с ветвей.
Она всё кричала и кричала, её грудь часто подымалась и опускалась, крики заполнили ночь. Леандр поспешил к ней, и она безвольно повисла в его объятиях, продолжая смотреть на свои руки. Он подумал, что девушка не может говорить – ей ведь не знаком ни один язык! – и принялся ласково шептать, что всё в порядке, она в безопасности, и он её брат. Когда она стала вырываться на свободу, Принц обвязал её тонкую талию остатками шкуры, на манер дамского кушака. Она полоснула его ногтями, что-то невнятно протараторила и снова закричала. Лишь увидев тело Ведьмы, девушка смолкла и потянулась к нему. Продолжая поддерживать хрупкую сестру, он помог ей подползти к неподвижной старухе.
Гнёздышко рвалась к Нож, не умея толком ходить и выкрикивая единственное слово, по которому Принц понял, что она умела говорить. И не только говорить. Заклинание тут было ни при чём: она сохраняла разум в птичьем теле с первого дня жизни.
Гнёздышко упала на грудь Нож, всхлипывая и повторяя хриплым голосом:
– Мама, мама, мама…
Они лежали рядом на сырой земле, Нож не просыпалась.
Гнёздышко тоже не желала двигаться. Она запустила пальцы в волосы матери, а Леандр запустил пальцы в её волосы. Дикие гуси по одному выпрыгивали из дверей старой хижины и, переваливаясь, шли к Нож и остаткам шкуры-яйца. По одному они клали жемчужно-серые головы на её тело, каждый находил себе место на её ещё тёплой коже. По одному гуси закрывали глаза, не желая расставаться со своей хозяйкой в самом конце. Нож будто парила среди моря крыльев, смерть очередной птицы всякий раз забирала у Леандра и Гнёздышка то, что могло бы напоминать им о матери.
Леандр отпустил руку сестры и развернул узел, лежавший рядом с телом, недавно бывшим ведьмой по имени Нож. Внутри он нашел краюшку хлеба, бугорчатую и странной формы, с коркой уродливого красноватого цвета. Она была не свежая и внешне не производила впечатление вкусной, но Леандр понял – это тот самый хлеб, замешанный его изувеченной рукой на его крови и слезах, что никак не могли остановиться. Он с самого начала был создан для этого утра. Разломив краюшку пополам, Принц обхватил дрожащую, ошеломлённую Гнёздышко и начал медленно проталкивать маленькие кусочки хлеба сквозь её трясущиеся губы. Она кривилась, но глотала, словно умирала от голода. Он тоже съел немного. Вкус был странный, на языке осталась горечь.
Через какое-то время они покинули мать и ушли навстречу лунному свету.
Гнёздышко стояла у ручья и мыла свои новые руки – мыла так, что они кровоточили. Брат подошел к ней и осторожно взял её ладони в свои. Они были липкими от крови, бежавшей струйками, а взгляд у неё был безумный.
– Гнёздышко, ты ранишь себя. Нам нужно идти в Замок. Если повезёт, проберёмся внутрь сегодня ночью.
Девушка яростно затрясла головой – на тёмных волосах ещё виднелся серебряный кровесвет, и она казалась старухой с сединой в чёрных кудрях. Голос Гнёздышко был как испорченный камертон, точно арфа, разбитая в щепки на пустом берегу.
– Я. Не. Пойду. Не туда. Не в гнездо.
– Нож просила нас…
– Мать!
– Мать просила нас, взяла с нас слово.
– С тебя.
– Ладно, она взяла слово с меня. Значит, пойду я. Ты бросаешь её теперь, раз она умерла? Это мой отец – не твой. В чём дело?
– Бросаю её? Бросаю? – Она ударила себя кулаком в грудь. – Моя мать! Моя стая!
– Да, но моя стая ведёт себя так. Стая принцев. Нам нужны Подвиги. Мы даём обеты. И иногда убиваем Королей. Это наш долг.
– Не мой. Ты не мой птенчик. Не мой долг. – Она выплюнула последнее слово, выхаркнула его откуда-то из глубины своего тела. Посмотрела на брата, окинула его взглядом с головы до пят. Немного успокоилась, собралась с мыслями. – Ты один, – прошептала она. – Я одна. Мать была одна. Ничего не меняется. Я тебе расскажу почему. Когда я была не я. Когда я летала…
Сказка Гусёнка
Ночь за ночью под луной я умирала от голода, одна, без стаи. Я помнила мать и знала, что я не-птица. И всё-таки очень хотела есть; даже думать не могла, так меня мучил голод. Рядом с гнездом были Соколы. Рабы-охотники. Я полетела за ними, подбирая то, что выпадало из их клювов. Они кричали на меня из-под кожаных масок, кровавили мне крылья, пытались выцарапать глаза. Я была не такая, как они. Не их долг. Я ещё не умела хорошо летать, но училась. Я следила за чайками, скворцами, дятлами-сокоедами и колпицами: от них научилась и пикировать, и делать виражи, и ускоряться, и приземляться.
Никаких слов – только полёт и ветер вместо матери.
К Воронам отправилась я, они не приняли меня.
К Воробьям отправилась я, они не приняли меня.
К Ястребам отправилась я, они не приняли меня.
К Орлам отправилась я, они не приняли меня.
Я была одна. Все гуси улетели на юг; никого не осталось, чтобы взять меня с собой. Нет стаи – нет еды. Я была совсем маленькая, а странствия увели меня далеко от гнезда. Я спала в дуплах, на ветру с восточной луны, мёрзла и боялась, боялась Соколов и теней, что прятались в гнезде. Кричала во сне и тихо плакала.
Однажды утром, когда мне исполнился… год? Два? Время для гусей течёт по-другому. Пернатый великан, размером больше Сокола, нашел меня на дереве, где я прятала голову под крыльями. Он взъерошил мои перья своим тёплым клювом, и я осмелилась посмотреть ему в глаза. Они были красные, оранжевые, белые – цвета огня.
– Почему ты плачешь, малышка? – спросил он, и его голос был подобен солнечному отблеску на крыле.
– Я одна, – ответила я и задрожала, испугавшись больших бронзовых когтей.
– Я тоже, – сказал он. Перья у него были такие же, как глаза, – цвета углей и языков пламени, пожирающих зелёные ветви, а хвост напоминал золотой водопад. – Если хочешь, можешь пойти со мной, тогда мы оба будем не одинокими. Я научу тебя ловить кротов, когда они выбираются на солнце; воровать вишни из сада так, чтобы тебя не подстрелили, и покажу источники с чистой водой, которые не охраняют собаки.
Я вдохнула холодный воздух – но исполин был тёплый, как трескучий огонь в очаге, и мои перья больше не дрожали от холода. Я была голодна и не знала, что такое вишня; перебирая перепончатыми лапами, выбралась из дупла на ветер.
Мне было нечего сказать. Я знала лишь о червях и кусочках мяса, которые роняли Соколы, и о том, что в некоторых дуплах живут другие птицы. Огненнокрылый прочистил горло.
– Ты, наверное, не просто одна, а заблудилась, – вежливо заметил он.
– Да… наверное. Кажется, когда-то у меня была мать, и она отослала меня прочь, но я мало помню. Ищу таких, как я. Соколы клюют меня, вороны обзывают. Я не нашла никого с серыми перьями, перепончатыми лапами и длинными шеями.
– Ну что ж, – с серьёзным видом сказал птица, – тогда вдвойне важно, чтобы ты научилась воровать, иначе умрёшь от голода, прежде чем отыщешь своих серокрылых, перепончатолапых и длинношеих собратьев. Тебе повезло, ты повстречала Жар-Птицу. Они – лучшие из всех птиц, а я – лучший среди них. Ты лишь ребёнок, и за тобой надо приглядывать хотя бы до той поры, пока не наступит лето и не вернутся гуси. Потому что ты, птенчик мой, гусыня. По крайней мере, мне так кажется. Я вообще-то раньше ни одной гусыни не видел. Не переживай, серокрылая малышка, я научу тебя всему, что нужно знать, и расскажу о том, как совершил свою лучшую кражу…
Сказка Жар-Птицы
Зови меня Фонарь – и не смейся! Я всегда был ласковым, и моя мать решила, что лучше назвать меня в честь маленького огонька в стеклянном сосуде, а не в честь пламени, пожирающего деревья, детей и житницы. Обычно Жар-Птицы не склонны общаться с себе подобными, но я любил свою семью и оставался в гнезде намного дольше прочих гордых алых селезней.
Я был ласковым – и при этом лучшим вором в стае: мог схватить мельчайшее горчичное зёрнышко с ладони принцессы, и она бы заметила пропажу, лишь возжелав посадить его в своём саду. Однажды, когда моя кузина высиживала кладку из восьми оранжевых яиц – немаленькую! – в своём гнезде из пепла и жаловалась на то, как ей хочется вишен, чем ярче, тем лучше, меня попросили раздобыть их, пока сёстры не заклевали её до смерти, исстрадавшись по тишине. Вишни! Только особенные, сладкие и блестящие, могли насытить мать восьмерых.
Я любил свою кузину, хоть её карканье и резало слух… Но разве у наседки нет права желать странного, когда она в гнезде и на яйцах? Я полетел разыскивать ягоды.
В одном отдалённом краю, среди пустыни, жила сахиба, которую в те времена звали Равхиджа; её сады были так же знамениты, как и её красота. Она посвящала всё своё время уходу за деревьями, которые рано или поздно начинали плодоносить; плоды были без единого изъяна или пятнышка, один слаще другого, блестящие и тяжелые. Я назвался умелым вором, но ещё никто не сумел забраться к Равхидже, чей ум был не менее знаменит, чем сады. Именно её вишен возжелала моя кузина, и я решил, что стану первым, кто сумеет сделать невозможное.
Ни мой размер, ни цвета не позволяют назвать меня незаметным. В моей профессии это помеха, но я справляюсь, как могу. Как только солнце втянуло свои тёмно-голубые когти и последняя вспышка верного света скрыла моё оперение от любого случайного взгляда, я легко перепрыгнул низкую кирпичную стену. Мой хвост волочился по мягкой красной почве, пока я крался, то перепархивая, то переступая лапами сквозь ряды деревьев, выискивая одно достаточно яркое, чтобы можно было спрятаться. Там росли деревья хурмы, яблони, лаймы и пеканы, гранаты, инжиры, апельсины и танжерины, груши и абрикосы, авокадо, точно жирные изумруды, и сливы, как пурпурные кулаки. Все плоды чуть не лопались от сока, прячась в блестящей зелёной листве, полностью созрели, хотя, безусловно, никак не могли появиться одновременно и рядом друг с другом. Ведь одни растения предпочитали мороз, другие – полыхающее небо. Вишни, вот они – здоровенные, будто гигантские костяшки, и краснее моих собственных перьев! Я сорвал их множество, пока шел, и придержал в своём зобу как аистиха, отбирающая рыбу для птенцов. Потом взлетел и схватил лучшую ягоду, не потревожив потолок из листьев и оставшись необнаруженным. Я был золотой искрой среди зелени, быстрой как мысль. Мне это даётся легко – дело привычки. Обещаю, кулёма, ты тоже этому научишься!
Но я должен был отыскать место, где можно спрятаться до тех пор, пока снова не станет темно и не удастся перепрыгнуть через стену, не привлекая к себе внимание Равхиджи. Для этого подходили лишь некоторые деревья – у Жар-Птицы, увы, необычное оперение. Но судьбе было угодно, чтобы в самом центре сада обнаружилось самое удивительное дерево из всех, что мне доводилось видеть. Оно было создано для меня, подходило по цвету и плодам, будто я вырос среди его ветвей и улетел вместе с ветром однажды осенью – так давно, что всё забыл.
Это было тыквенное дерево. Точнее говоря, я счёл его таковым, хотя все другие известные мне тыквы росли на лозах, стелившихся по земле. Стволом ему служила тёмно-оранжевая горлянка, изогнутая спиралью, с толстым основанием, из-под которого высовывались золотые корни, и тонкой верхушкой; кора была изрезана глубокими бороздами, уходившими до самого верха. Тут и там имелись ветви, желтые с бледно-зелёными кончиками, каждая толщиной с талию. Всё дерево опутали красно-золотые лозы, с которых свешивались массивные тыквы, будто лампы, и каждая светилась, словно там и впрямь жил маленький огонёк. Это был праздник, блиставший посреди сказочного сада, как танцовщица в толпе безвкусно одетых женщин, не способных двигаться под музыку.

Я полетел к нему, как летят навстречу любви. Это дерево спрячет меня, убережет: настолько яркое, что в его кроне я стану маленьким коричневым воробьем. Оно горело почти как полыхающие деревья моей пустыни, но его свет был нежным и мягким, и само дерево не сгорало. Ни один садовник не обнаружил бы меня среди этого золота. Я в благоговении обошел дерево по кругу, а потом взлетел к мясистой вершине. Но вдруг меня пронзила жуткая боль, от которой я кубарем полетел с безупречных ветвей. Я испугался, что настал конец, меня пронзил какой-то жуткий трезубец. И я упал – какой позор для Жар-Птицы! – прямо в переплетение мерцающих корней. Когда перед глазами прояснилось, я увидел перед собой две безупречные ножки, зелёные, точно молодые побеги.
Равхиджа наклонилась ко мне, вертя в изящных пальцах длинное рубиновое перо с каплей тёмной крови на кончике стержня.
– И зачем же тебе понадобились мои вишни, милый попугайчик? – сладким голосом спросила она.
Равхиджа выглядела в точности как тыквенное дерево. Её волосы ниспадали до щиколоток витыми шнурами, мясистыми и оранжевыми, а одежду заменяли широкие припорошенные пылью листья, которые покрывали каждый дюйм тела, обрамляя лицо. Оно было красное и блестящее, точно рассечённая тыква.
– Почему ты пошел на такой риск ради нескольких вишен? Ведь их можно купить где угодно. Зачем ты пришел воровать у меня?
Я покраснел, насколько это возможно для Жар-Птиц, и без того наполовину багровых.
– Моя кузина жаждет этих вишен. Представь себе, она сидит на кладке из восьми яиц, а твои плоды знамениты. Конечно, я мог бы их купить, но тогда был бы лишён возможности похвалиться.
Волшебный лоб нахмурился, и Равхиджа выпрямилась, всё ещё держа моё перо в опущенной руке. Я неуклюже поднялся, а она поглядела сквозь зелёные ресницы на великолепное дерево. Она так стояла долго, будто они с деревом о чём-то тайно беседовали. Наконец заговорила, и её голос был как мёд с перцем или густой сладкий сок:
– Если верить слухам, раз я взяла перо из твоего хвоста, могу отдавать тебе приказы. Это и впрямь так?
Разумеется, она всё знала. Удача была не на моей стороне.
– К несчастью для меня, да.
– Что бы ты сказал, уточка моя, если бы я предложила сделку, а не просто начала тобою распоряжаться?
– Зачем тебе это делать, если ты знаешь, что я не смогу отказать? – спросил я, всё ещё чувствуя дурноту после утраты пера.
Равхиджа улыбнулась – её зубы тоже были бледно-зелёными, цвета грушевой кожицы.
– Это всё манеры, вежливость. Честь! Дело в том, что я – в отличие от некоторых – склонна добывать желаемое путём справедливого обмена, а не с помощью жульничества. Сорняк берёт то, что ему не принадлежит, и производит лишь новые сорняки; яблоня берёт то, что ей дают по своей воле, и возвращает сидр, пироги, пирожные и варенье.
Я хотел возразить, что нет вины сорняка в том, что его семя ветром занесло в яблоневый сад, и вообще существуют растения, чья полезность никоим образом не связана с пирогами. Но передумал.
– Что ж, – сказал я, вычищая грязь из крыльев, – о чём речь?
– Ты получаешь любой из моих фруктов в обмен на тот, которого у меня нет.
Тут я насторожился, мои оставшиеся перья встопорщились от интереса.
– Мне придётся его украсть?
Она засмеялась, её наряд из листьев зашелестел.
– Боюсь, ты можешь оказаться прав. Но по крайней мере ими никто не владеет, так что кража будет таковой лишь по названию – в том смысле, что, собирая фрукты с дерева, ты его обкрадываешь. Мне нужны семена иксоры, которые похожи на вишни, так что я не буду возражать, если ты возьмёшь несколько настоящих вишен для своей кузины. Иксоры растут в пустыне под названием Пороховая бочка, их ветви горят днём и ночью. Но я думаю, что для тебя это не проблема.
– Нет, моя госпожа, – ответил я с усмешкой. – Ещё не зажегся огонь, что сможет мне навредить.
Я не хотел говорить Равхидже, что знал об иксорах всё, так как родился в их обжигающей тени и что именно на пепелище одного из них меня ждала кузина.
– Ты согласен на сделку?
– Да. Ты отдашь мне перо, раз мы теперь стали хорошими друзьями?
Она посмотрела на длинное красное перо, потом снова на дерево.
– Нет, – медленно проговорила она. – Я предпочитаю честный обмен, но не стоит полностью доверять вору. Ты получишь его назад, когда я получу свой фрукт.
Я поскрёб когтистой лапой землю у золотых корней. Попался так попался!
– Тогда мне стоит отправиться в путь, пустыня далеко. Но должен заметить, прежде чем улечу, что никогда не слышал о тыквенном дереве, ни в одном уголке мира. Поскольку всем известно, что тыквы растут на лозах, я подозреваю, что ты сотворила злое колдовство, чтобы превратить одну такую лозу в дерево, – значит, мне тоже не стоит тебе доверять.
Равхиджа снова прислонилась к необычному, хотя и симпатичному на вид, дереву и широко ухмыльнулась. У меня на глазах – я не лгу тебе, маленькая гусыня, – она наклонялась всё сильнее, пока оранжевый ствол не поглотил её целиком, так что лишь зелёные пальцы остались снаружи.
– Я собираю редкие вещи, – раздался её голос, чуть приглушенный мякотью ствола, – потому со мной произошла неприятность.
Голова Равхиджи вновь появилась среди высоких ветвей, и она понемногу выбралась – длинные жгуты её волос натягивались, прежде чем с чпоканьем выскочить на свободу и упасть почти до земли. И вот она удобно устроилась на ветке, между двумя совсем маленькими тыковками.
– Видишь ли, – сказала она, вздыхая, – когда становишься знаменит благодаря разнообразным товарам, к твоим дверям начинают приходить очень разные люди. Они требуют удовлетворить их просьбы, какими бы ужасными те ни были.
Сказка Садовницы
Я дерево.
Впрочем, с той же лёгкостью можно сказать, что это дерево – я. Я родилась, когда дерево, что росло до него, уронило в землю семя; я открыла глаза под землёй и ею питалась, она была моим пирогом и вареньем. Ещё была чудесная вода, сочившаяся сквозь землю, как мёд сквозь сито. Меня всё время мучила жажда.
И вот однажды я проросла зелёным листочком, развернула его, точно открыла дверь, и вышла навстречу солнцу ребёнком, похожим на любого другого ребёнка. Но я по-прежнему спала внутри дерева по ночам, пока оно росло и пока я росла. Мы возлюбили друг друга, как конечность торс, и были счастливы вместе.
Однажды мимо кирпичной стены шел бродячий торговец с мешком, полным чудес на продажу. Я подбежала к нему – раньше никогда не видела людей – и спросила, как его зовут, из какого он города, чем занимается, сколько у него братьев и сестёр и прочие вещи, которые любопытный ребёнок желает узнать о незнакомце. Он был очень добр и предложил мне перебраться через стену, чтобы поглядеть, что он продаёт. А продавал он семена.
Яблони, хурма, грецкие орехи, лимоны, миндаль, финики и вишни – всё, что можно себе представить; а я уж точно и помыслить о таком не могла. Я хотела перейти через стену, как некоторые стремятся отправиться на войну, а кто-то – к женщине. Но у меня не было денег, я ведь росла деревцем и проросла недавно. Торговец пожалел меня, маленькую неряху с оранжевыми волосами и зелёными зубами, нищенку, у которой было лишь несколько акров пустой земли. Он присел, так что наши лица оказались вровень, и сказал, что, если я отправлюсь вместе с ним торговать, чинить, менять и делать прочие вещи, которыми занимаются путешественники, он станет платить мне один грош в месяц, купит настоящее платье и у меня будут все семена, какие только пожелаю.
Я решила, что это прекрасный план, перепрыгнула через стену, точно шустрая галка, и рухнула замертво.
Я не умерла, но это не имеет значения. Когда я пришла в себя, уже была глубокая ночь, и торговец перенёс меня обратно за стену, уложил на чахлую траву и сунул мне в руку мешочек, битком набитый семенами.
Мне не суждено было пересечь стену, как дереву не суждено вытянуть корни из земли и отправиться на телеге в другой лес. Неприятное открытие… Я была любознательна, как любое дитя, но мир за кирпичной стеной оказался для меня недосягаем.
И тогда я его вырастила. Яблони, хурму, грецкие орехи, лимоны, миндаль, финики. И конечно, вишни. Всё, что ты можешь себе представить, и многое из того, что я не могла представить себе. Времени у меня было достаточно – деревья живут долго. Я изучила ирригацию и аэрацию, трехчастное поле и целину, удобрение и обрезку, науку прививания. Всё это время тыквенное дерево росло и плодоносило, и, если я подкармливала его мякотью другие деревья, они начинали плодоносить круглый год. Акры запустевшей земли превратились в лес и самый прекрасный на земле сад, и в самом его сердце стояло дерево, которое суть я, и я, которая суть дерево. Все мы росли вместе и были счастливы.
Потом к нам стали приходить люди. Это были не добрые торговцы с мешками семян для маленькой грязнули. О, некоторые были достаточно добры, выпрашивая корзину груш или бушель фиг для тех или иных целей. Но зачем мне деньги, если я пью дождь и питаюсь землей? Наконец они вынудили меня начать торговлю. Фрукты в обмен на семена – если у них получалось принести мне то, чего в моём саду не было, я давала им всё, чего они хотели. Мой сад сделался ещё пышнее и красивее, появились и новые гости. Они рассказывали мне о мире, а я запоминала каждое слово, как усердная ученица.
И вот трижды две недели тому назад к моей стене пришел человек. Он мне сразу не понравился, но разве может дерево судить о людях по внешнему виду? Дуб может быть кривым, но сердце у него всё равно доброе и полное сока. Его волосы напоминали железо, кожа – кору лещины; одежды были ярко-красными, будто малиновка, что чирикает на яблоневой ветви. А шея бледная, синеватая, словно она не знала солнца с того момента, как он появился на свет из материнской утробы.
– Доброго тебе дня, Равхиджа, – сказал он и поклонился. Я к тому времени давно перестала удивляться, что всякие незнакомцы знают меня по имени. – Я пришел с длинным списком.
Я упёрлась ладонями в бёдра, на которых росло моё собственное красивое платье, хотя, должна признаться, иной раз с тоской вспоминаю муслин, обещанный торговцем.
– Если тебе есть что предложить на обмен, я постараюсь отыскать то, что тебе нужно.
– В этом всё и дело. Видишь ли, я пришел не торговать, а заявить о своих намерениях. Зачем отказываться от того, что тебе принадлежит по праву, если можно просто взять желаемое? – Он щёлкнул пальцами, и над его ладонью появился синеватый огонёк, который потрескивал и шипел. – Думаю, дереву хватит и такого объяснения. Никто из нас не хочет жертвовать собой. Впусти меня.
Разве у меня был выбор? Он бы сжег всё дотла или, если ему была известная моя природа, перетащил бы меня за стену и в любом случае всё разграбил. Я провела его по саду, как если бы он был хозяином, хотя ничья нога, кроме моей, ещё не ступала по этой земле. Я попыталась дать ему всё по списку – очень странному списку, в котором имелось множество трав и фруктов, коры и сока, даже образцов почвы. У меня было почти всё: слава моя родилась не на пустом месте.
Но последний пункт, ох…
– Думаю, понятно, что иксоры у меня нет, – прошептала я, избегая взгляда незнакомца и сторонясь танцующего пламени в его руке. – Ты бы почуял запах дыма, если бы оно у меня росло.
– Но мне сказали, что у тебя есть всё, что растёт под солнцем. Мне нужна иксора, без неё остальное бесполезно.
– Зачем тебе всё это? – жалобно спросила я, стараясь не плакать.
– Дорогая моя госпожа, я Волшебник. Хватит и того, что мне это требуется. Некоторые рождаются с магией, которая бьется внутри них, как муха, пойманная в стакан. Другим так не везёт.
Сказка о Мальчике, который нашел Смерть
Я давным-давно понял, что лучше быть Волшебником, чем не быть им. Лучше запереться в комнате, похожей на кухню, и заварить себе новый мир в стеклянном сосуде, чем ковыряться в грязи ради жалких корнеплодов или таскать молоко, надоенное из костлявых тёлок, и чесать щёки, пока они не станут красными, как свежее мясо.
Видишь ли, я никак не мог перестать чесаться.
С самого рождения кожа всё время слезала с меня бледными чешуйками, будто я вот-вот сброшу её целиком, и это было очень больно. И чесание на самом деле не помогало, но я не мог остановиться и царапал руки, грудь, шею, щёки, даже веки – на мне не было ни единого места, которое не полыхало бы от зуда.
Люди охали, увидев меня, – мальчика, с которого слезала кожа, и её тонкие лохмотья развевались, словно бумажные ленты на суровом ветру. Доктора, ведьмы и даже волшебники приходили один за другим, но никто не смог охладить моё полыхающее тело. Наконец мать завернула меня в пелёнки, привязала руки к доскам, чтобы я не мог чесаться, и прислонила меня к влажной стене погреба. Там я и рос; кормили-поили меня с ложечки морковным пюре и морковным супом; морковкой на пару, печёной, сырой, жареной и сушеной; хлебом с морковной корочкой и чаем из цветов моркови. На наших полях росла только морковь, и дни мои были заполнены оранжевыми корнеплодами, которые испуганная мать ложкой засовывала в мой шелушащийся рот.
Я висел на своих досках, и по моей коже будто ползали мурашки. Дыхание стало неглубоким и быстрым, мне всё время не хватало воздуха. Став юным мальчиком, я по-прежнему висел на стене, как портрет самого себя; моя кожа затвердела, превратившись в подобие чешуи, все волосы выпали, но зуд и жжение не прекратились. Однако я по-прежнему не мог чесаться. Легчайшее дуновение морковного ветерка через окно вызывало страшные муки, лишая воздуха и иссушая кожу сквозь бинты.
– Смерть у окна, – шептал отец матери после трапезы из морковного супа и морковной ботвы. Я глядел, но сквозь закопчённое окно не видел ничего, кроме болезненной луны, похожей на семечко в чёрной борозде.
– Он у дверей Смерти, – шептала мать отцу, когда мои вздохи сделались редкими и свистящими, точно сорняки на грядках. Я глядел – но меня держали в спальне, где была одна дверь – толстая, покорёженная, наша собственная.
А когда я был совсем плох и из моего рта на пол текла оранжевая рвота, родители качали головами и говорили:
– Смерть за его плечом.
Я извивался, чтобы увидеть эту тень за моей спиной, но там никого не было.
Вскоре после того, как мне исполнилось двенадцать, всё наконец прекратилось. Будто странное существо коснулось меня в ночи, и моя чешуйчатая, шелушащаяся кожа смягчилась. Я опять начал дышать полной грудью, со временем у меня даже отросли волосы. Казалось, я никогда не болел. Моя мать, чью радость можно было измерять в бушелях, развернула пелёнки, отвязала мои руки от досок и увидела, что её сын вырос, – раньше она могла видеть меня лишь по частям, когда меняла повязки. Я был темноволосым и темноглазым, кожа моя походила на поле после засухи, но шрамы начинали бледнеть. Однако мой взгляд мать не могла вынести.
Родителям не терпелось отправить меня работать в поле, ведь было пропущено столько лет, но я перестал чесаться не для того, чтобы начать ковыряться в земле.
– Все эти годы вы говорили, что Смерть рядом, но я никого не видел. Прежде чем посвятить свою жизнь морковке и коровам, я разыщу Смерть и спрошу, отчего я не понадобился ей, раз она столько лет жила в моём доме и висела на тех же досках, что и я.
Мои родители обменялись испуганными взглядами, решив, что за время болезни их сын сошел с ума.
– Смерть нельзя искать, – сказали они. – Она сама всех находит. Радуйся, что вы с нею разминулись, и научись выдёргивать корнеплоды из земли так, чтобы они не ломались.
Но у меня был разум ребёнка, и в моём сердце Смерть была высоким человеком в чёрном, который, возможно, ездил верхом на чёрном льве – я никак не мог решить. Раз она была рядом и видела мои страдания, мы точно подружимся. Ведь она успела хорошо меня узнать. Я бы спросил её: раз мы друзья, почему она позволила мне и дальше гореть, а не забрала с собой?
Родители запретили мне думать об этом, и я поступил разумно – выбрался из окна, когда мир погрузился во тьму, и пробрался через поля молодой моркови. Возможно, они скучали по мне, даже плакали. Я не знаю, потому что не вернулся.
Я следовал к своей цели самым логичным образом – искал в тех местах, где Смерть бывала чаще всего. Изнурённые болезнью мужчины и женщины, мертворождённые дети, зачумлённые дома и богадельни, поля битвы, если мне случалось их найти и пробраться вдоль линии фронта в фургоне с провизией, в поисках солдат с самыми тяжкими ранениями. Я даже подружился с отравителями, чтобы быть рядом с их жертвами в последний момент. Я был изобретателен, а моё молодое тело точно навёрстывало упущенное за время, проведенное привязанным к доскам. Я был неутомим и умнел с каждой ложью, произнесённой в присутствии умирающего, в определенном смысле учился. Рассечённая и гниющая плоть уж точно научила меня большему, чем морковь и дождевая вода.
Но Смерть я не нашел.
Я спрашивал каждого доктора и повитуху, солдата и наёмного убийцу. Все говорили одно и то же:
– Не человек ищет Смерть, а Смерть находит человека.
Наконец, сделавшись длинным и упругим, как ивовый прут, я забрёл в королевство, где полыхающее солнце казалось немыслимо красным, в джунглях всё хлюпало от сырости, король был воплощенным ужасом, а дороги выглядели полосами грязи на зелёном фоне. Неподалёку от столицы я промок до пояса, пробираясь через кустарник с широкими листьями, с которых на меня лилась илистая вода. Дорога была ненамного лучше леса, и я пребывал в дурном настроении, когда меня вдруг нагнал незнакомец.
– Здравствуй, мальчик, – сказал этот коротышка, почти гном в цветастом наряде и с волосами, уложенными замысловатым образом, с широким железным ошейником на болтах, закрывавшим всю его шею и часть плеч. Щёки у него были круглые, голос – грубый, как старый столб от забора. Он кивнул, приветствуя меня. – Ты паломник?
– Конечно, нет, с чего вы взяли? – резко бросил я в ответ.
– Только паломники следуют этим путём. Думаю, им кажется, что так они сражаются с трудностями, как душа с телом, – или другая похожая чушь.
– А вы паломник?
– В каком-то смысле.
– Я просто не знал, что есть другая дорога, – мрачно признался я.
– Много и разные. Вероятно, однажды в мире не останется дорог, которые не будут вести к нашим гаваням, башням и церквям. Кто-то на это надеется. Но если ты не паломник, отчего направляешься в Вараахасинд, Город Вепрей, где восседает на престоле Индраджит?
Я со вздохом пустился в объяснения, ставшие к тому времени привычными, как привычен мне собственный язык во рту:
– Я ищу Смерть. Я был у её дверей, она была у моего окна, стояла за моим плечом, но я не смог её увидеть. Я преследую эту цель уже много лет и прошел полмира, разыскивая её. И не говорите, что мне надо ждать, пока она сама меня найдёт, или что такой милый мальчик должен веселиться и играть. Я это слышал. Кое-что похуже тоже.
Человек призадумался; его ошейник поблескивал на солнце, отражая влажную зелёную тропу.
– Нет, я бы ничего подобного тебе не сказал.
Некоторое время мы пробирались сквозь мерзкую грязь. Потом среди толстых деревьев показались первые городские шпили из выкрашенного в белый цвет кирпича.
После долгого молчания человек проговорил:
– Если бы я сказал тебе, что знаю, где живёт Смерть, и с радостью тебя туда провожу?
Я сглотнул.
– Я бы спросил, что вы попросите в обмен на такую услугу.
– Лишь одно: чтобы ты, выслушав Смерть, выслушал и меня – и решил, кто из нас мудрее.
Конечно, были другие, кто говорил, что знает, и меня вели в тёмные переулки с сырыми тенями, где грабили или избивали и оставляли лицом вниз в бесчисленных лужах. Но я не мог себе позволить, следуя к столь необычной цели, отказывать кому бы то ни было. Я пожал плечами и пошел за ним в город, где навесы из свиных шкур затеняли узкие извилистые улочки, а воздух пах ячменным пивом. Я шел за ним по бесконечным террасам из красного кирпича и блестящим рисовым полям, что громоздились друг на друге на склонах холмов, поросших пышной зеленью; полям, разместившимся меж башен и бараков, везде, где можно было устроить пруд.
У вершины одного из холмов стоял дом, вроде муравейника у невероятной стены, которая отгораживала напоминавший тёмную блестящую луковицу дворец от рисовых плантаций и пыльных террас. Дом был большой и мог бы считаться красивым, если бы сильно не напоминал человечью голову, наполовину закопанную в землю. Его тростниковая кровля ниспадала, точно волосы; окна словно следили за нами, а веки-ставни припадочно дёргались на полуденной жаре.
– Вот Дом Смерти, – заявил мой спутник так небрежно, будто оповещал меня о прибытии в дом пекаря или повитухи.
Мы вошли в большую комнату, напоминавшую кухню, где самые разные вещи варились, сушились и плавали в булькающем кипятке. Коротышка словно забыл о моём присутствии и начал проверять всё, что испускало пар или аромат. Я наконец кашлянул, и он встрепенулся, точно испуганный воробей.
– Ох! Смерть, верно? Да-да, сейчас.
Он ненадолго погрузился в поиски чего-то за большим шкафом, а потом жестом фокусника протянул мне покрытый пылью предмет.
Это была большая стеклянная банка, до краёв наполненная землёй.
– Ты зря потратил моё время, старик, – сказал я со вздохом.
– Вовсе нет, мальчик. Ты желал Смерти? Вот она. Грязь и распад, больше ничего. Смерть всех нас превращает в землю. – Он нахмурился, чуть надул щёки. – Разочарован? Желал увидеть человека в чёрном? Кажется, у меня где-то завалялась мантия. Угрюмое худое лицо и костлявые руки? В моём доме больше костей, чем ты можешь сосчитать. Ты уныло обошел полмира в поисках Смерти, будто это слово значит больше, чем хладные трупы и грибы, растущие из глазниц юных девушек. До чего глупое дитя! – Его движения вдруг сделались стремительными, как у черепахи, ловящей паука, – такой перемены не ждёшь от кого-то медлительного и круглого. Он схватил меня за горло и сжал пальцы так, что я не мог дышать, в точности как в те ужасные дни, когда висел на стене и задыхался. Я свистел и хрипел, колотил его руками по груди; перед моими глазами поплыл багровый туман. – Тебе нужна Смерть? – прошипел он. – Я и есть Смерть. Я сломаю тебе шею и похороню в своей банке с грязью. Убивая, ты становишься Смертью, поэтому у Смерти тысяча лиц, тысяча тел, тысяча взглядов. – Он ослабил хватку. – Но ты и сам можешь стать Смертью, обрести её лик и взгляд. Хочешь сделаться Смертью? Хочешь жить в этом доме и учиться её ремеслу?
Тяжело дыша, я потёр шею и просипел:
– Ты такой же, как другие. Заманил меня в свой дом, обещая мудрость, а наделил тумаками.
– О-о, я совсем не такой, как другие. Я Волшебник, слуга Индраджита, и самая подлинная Смерть, какую только можно разыскать. Можешь и дальше бродить, следуя за призраками, если хочешь, – в конце концов кто-нибудь придушит тебя за кусок еды, и ты познаешь смертную природу человека, скажем так, на практике. Или оставайся со мной и учись, и однажды будешь стоять перед кем-то, как я стоял перед тобой, и он узнает в тебе Смерть, черноглазую и в чёрном одеянии. Может, ты и тупой, но не каждый ребёнок так жаждет стать учеником Смерти. Я предлагаю то, что ты ищешь. Хватит ли у тебя мудрости это принять?
Я уставился в пол и после долгого молчания пробубнил:
– Мне что же, и ошейник надеть придётся?
– Это вопрос выбора, – мягко проговорил он. – И свой я сделал сам. Магия – многогранный камень…
– Моя мать говорит, что магия от Звёзд, а во мне света не больше, чем в нашей корове.
– Некоторые в это верят. А те из нас, кому случалось обнаружить магию в вещах, камнях и словах, траве и листве, давно поняли, что неважно, откуда листва получила свою силу, – главное, что эта сила у неё есть. Некоторые из моих соплеменников, мужчин, женщин и монстров, давным-давно решили обменять свою свободу на власть. Они приняли ошейники, позволили властителям запрячь себя в ярмо. Если тебе нужна власть, ты сделаешь то же самое.
– Магия и есть власть, – возразил я.
– Магия – это магия. Если хочешь сварить зелье от кашля для соседских сорванцов или уберечь волосы от седины, магия к твоим услугам, тебе потребуется лишь чугунок. Но власть, возможность управлять своей судьбой и чужими судьбами, настоящая власть и, несомненно, возможность превратиться в Смерть, быть неоспоримой Смертью в глазах заблудших… Монарх с его возможностями может оказаться полезен, ему доступно куда большее, нежели просто трава и листва.
Я посмотрел на банку с землёй и облизнул пересохшие губы. После стольких лет Смерть опять стояла у моего окна и за моим плечом, а я был у её двери, и на этот раз видел всё, что она предлагала.
Сказка Садовницы (продолжение)
Я украдкой бросила взгляд на его бледную шею. Моё горло было сухим, как берёзовая кора.
– Но у тебя нет ошейника.
Он наклонился ко мне: так близко, что я почувствовала его болезненно-сладкое дыхание, словно цветочный покров на трупе.
– Я провёл там много лет, и кожный недуг меня больше не тревожил. Я учился изо всех сил, потому что одарённостью похвастаться не мог. Знания дались ценой нелёгкого труда, и я берегу их со страстью любовника, часто получавшего отказ. Но однажды, – его щёки вдруг порозовели, – я увидел в тёмном и блестящем Дворце необычную вещь, которую не смог забыть, хотя и пытался. Я завоевал свою свободу, древесное дитя, и теперь ни один Король не назовёт меня сервом. Я разматываю нить свободы в поисках возможности повторить ту вещь и близок к цели – мне нужна иксора, чтобы продвинуться в своём исследовании. Но я устал, Равхиджа. Я устал бродить по миру, это мне не к лицу; уже посетил достаточно много презренных садов в поисках мельчайших семян. Если у тебя нет иксоры, ты добудешь её для меня.
– Сир! – воскликнула я. – Если вы знаете, кто я, знаете и то, что я не могу покинуть сад! Как же я доберусь до дерева, растущего в пустыне?
– Это не моя забота. Я был изобретателен, и тебе придётся. Ты добудешь мне семена, или я сожгу твой сад дотла. – Он машинально поскрёб бледную шею. – Я превращу все деревья в пламенеющие иксоры, и тебя вместе с ними, поскольку сомневаюсь, что ты долго проживёшь после того, как твоё золотое древо обратится в пепел. Смерть найдёт тебя, и её взгляд будет чёрен.
Гость ушёл, унося шесть корзин моих редчайших плодов, и пообещал вернуться осенью, вместе со своим танцующим голубым огоньком. Я же беспомощно стояла у стены.
Сказка Жар-Птицы (продолжение)
– Что за чудовище… – выдохнул я.
Равхиджа уныло кивнула и спустилась с ветви:
– Лето почти кончилось, и у меня нет иксоры. Ничего удивительного. Я пыталась выменять семена, но нет такого храброго человека, который проник бы в сердцевину пылающего дерева, чтобы достать для меня одну маленькую ягодку.
– Нет человека, – сказал я, чувствуя, как внутри меня будто откатился камень, загораживающий вход в пещеру, – но есть птица, и нет в мире существа, более приспособленного к факельным деревьям, чем я. Ты не догадываешься, насколько это просто! Иксора – мой дом, собрать несколько искрящихся плодов так же легко, как склевать кукурузные зёрна из корзины. Даже если бы у тебя не было моего пера, прекрасная хозяйка тыкв, я с радостью отправился бы ради тебя в пустыню.
С зелёными слезами на глазах Равхиджа поцеловала меня в пушистую щёку и напомнила, что следует подождать, пока дерево будет почти мертво, и лишь затем ворошить пепел. Ей нужно было, по меньшей мере, три семечка, а мне по возвращении разрешалось взять любые фрукты. Равхиджа суетилась, точно мать, которая отправляет сына в школу; напоминала о том и этом; предупреждала, чтобы я не обжегся, хотя это было излишне. Прощаясь, я клюнул её волосы – это означает симпатию, моя серощёкая девочка.
По вкусу они были точь-в-точь как тыква.
До пустыни лететь далеко. Много стран надо пересечь, и цвета их столь же разнообразны, как шутовское одеяние. Я следил, как они возникают и исчезают подо мной, высыхая, пустея и превращаясь в песок. Преодолев границу, которая отделяет зелёные края от пустыни, нужно лететь дальше, чтобы достичь белых песков и соляных равнин, где растут иксоры.
Я хорошо знаю те места.
Когда последние зелёные земли остались позади, я почувствовал, что за мной следят. Этому я тебя тоже научу, гусёнок! Возникло тихое и едва уловимое ощущение присутствия нежеланной компании. Любая птица должна уметь это чувствовать, как и отличать ветер, поднимающий к облакам, от ветра, влекущего к воде. Но за мной ещё никогда не охотились так целенаправленно, как в тот раз. Шаги охотника были легче вздохов, и хотя иногда мне казалось, что я его вижу – точку на земле подо мной, – гораздо чаще я чувствовал его в воздухе рядом, и это заставляло беспокоиться.
Зная, что за мной охотятся, я не мог отправиться к гнезду кузины и приветственно прижаться к ней, прежде чем заняться сбором ягод. Я не знал, есть ли в лесу другие деревья, готовые плодоносить. Я много дней летал кругами, увлекая за собой странного охотника подальше от гнездовий Жар-Птиц. Пришлось проложить извилистый путь сквозь пылающие рощицы, на это ушло много дней. Наконец, в обход добравшись до соляных равнин, я увидел то, что хотел, разложенное на белой земле, точно приглашение к пиру.
Я птица неглупая. Охотник устроил мне ловушку, которой – даже не будь у меня задания прекрасной тыквенной девушки – было бы трудно избежать. Ведь на свете нет еды вкуснее, чем та, которой кормит мать. Я поглядел с высоты на фрукты, десятки вишен, которые могли бы пробудить целый лес, и едва не разорвался пополам, стараясь от них отвернуться. И всё же отвернулся.
Странное дело, но в лесу я уже не чувствовал слежку. Это чувство исчезло, растворилось, как ветерок во время шторма. Рядом никого не было: мой преследователь потерял след или сдался. Причина не имела значения, главное, что я мог наконец приблизиться к своей кузине и выплюнуть несколько вишен, спрятанных в зобу, около её гнезда, как аист срыгивает рыбу. Она их склевала, но ягоды оказались горькими. Кузина плакала и не могла остановиться; её слёзы, точно горящее масло, оставляли чёрные пятна на песке рядом с гнездом из пепла.
– Фонарь, птенчики, – задыхаясь от рыданий, проговорила она. – Птенчики! Он их всех забрал.
– Что? – воскликнул я. – Кто забрал? О чём ты, кузина? Твои яйца здесь, я вижу, как они переливаются под тобой! Прекрати плакать и расскажи, что случилось!
Всхлипнув, она в ужасе прошептала:
– Кто-то пришел в пустыню: весь белый, пахнущий сгоревшим хлебом и медной стружкой. Он подошел к каждому умирающему дереву, которое могло бы стать гнездом, вытащил жилу с соком и семя. – Я, потрясённый, ахнул. – Но и этого показалось мало: он скормил мясо своим женщинам, а семена сложил горкой, будто мусор. – Гусыня опять разразилась бурными рыданиями; её грудь ходила ходуном, и я испугался, как бы кладка не потрескалась. – Они их опрокинули, – пробормотала она так тихо, что я едва расслышал. – Женщины их опрокинули, как опрокидывают детские шарики для игры, и там не было яиц, чтобы родилась искра. Пройдут годы, прежде чем другая самка совьет гнездо.
Я утешал кузину в её беде, а сам едва стоял на ногах от горя. Конечно, ты не понимаешь, серое сердечко. Это наш великий секрет, и я поведаю его тебе, чтобы ты поняла – я не прячу мудрость, которой стоит поделиться. У яиц, которые снесла моя кузина, не было петуха, их оплодотворило умирающее дерево. Искросемя порождает новое дерево и новую птицу; первые корни новая иксора выпускает из яйца с птенчиком. Кремню семени нужно что-то для появления искры – и перья, и кора. Мы не можем друг без друга! Самец Жар-Птицы лишь охраняет гнездо. Мы как пчёлы – не можем спариваться, по крайней мере, не с нашими самками. Я слыхал, что кое-кому удалось вытащить яйца из дерева и зажечь собственной кожей, но даже их имена стали пеплом. Вся моя семья – матери, братья, сёстры, кузины, тётки и дядья – и ни одного отца. У меня никогда не будет собственных птенчиков. Иксора – наша вторая половина.
Теперь ты понимаешь, отчего я с готовностью согласился на просьбу Равхиджи, хотя три семени, предназначенных для неё, могли бы стать тремя Жар-Птицами. Я бы и без пера выполнил эту просьбу. Я думал, что, если моя кузина может высиживать древесные яйца, быть может, дерево… Впрочем, это уже не имеет значения.
Я ничего не мог сделать, оставалось ждать. И вот выводок появился на свет – нет ничего прекраснее восьми юных огненных пташек, пробивающихся сквозь скорлупу. Но им и мне пришлось ждать ещё, пока другие иксоры рассыплются в пепел, чтобы юные чёрные тельца заполыхали ярким пламенем, другие самочки оплодотворили свои яйца в потоке сока, а я отыскал три семени для Равхиджи.
Прошло пять лет, прежде чем я получил то, в чём она нуждалась. Я полетел назад над странами, что менялись подо мной от золота к зелени, и дурные предчувствия вкупе с леденящим душу страхом переполняли меня, как мёд соты. Я внушал себе, что Равхиджа нашла другой выход: однажды утром к её стене пришёл чужак-охотник, который с радостью отдал маленькие красные семена. «Кто-то точно её спас», – уговаривал я себя. Она радостно помашет мне, стоя возле своего дерева, скажет: «Не глупи! Всё хорошо закончилось». И её оранжевые волосы будут светиться на солнце.
Но я знал, что это ложь. Когда наконец увидел сад, он был чёрен, будто печная сажа, а стена оказалась разрушенной, разбитой на куски. Голые остовы деревьев выделялись на фоне серого унылого неба – ничто не росло и не плодоносило. Некогда пышная зелень превратилась в слой праха, покрывавший землю. Всё погибло, всё! Я облетел руины и едва сумел удержаться в небе – моя вина была тяжела, как привязанный к шее якорь.
Но кое-что осталось. В центре сада, где стояло красивое дерево, породившее во мне тайную надежду, пробился стройный зелёный росток, почти невидимый в лучах заходящего солнца.
Рядом с ним в сожженной земле ковырялась маленькая девочка.
– Ой! – воскликнула она, увидев меня. – Какая красивая птичка!
Я опустился подле неё, мой блестящий хвост взметнул пепел старого дерева.
– Равхиджа? – неуверенно тронув её клювом, спросил я.
– Ох, нет, я Равхи! – воскликнула она, подпрыгивая, чтобы погладить мои перья, как сделал бы любой восхищённый ребёнок. Девочка глядела на меня из-под зелёных ресниц, её волосы были короткими, но уже начали сворачиваться в мясистые оранжевые жгуты.
Конечно, я всё понял. Любое дитя иксоры поняло бы – древо уронило семена в землю, а нет земли щедрее, чем пожарище. Родилось новое древо, а вместе с ним и новая хозяйка.
Я отдал девочке семена. Больше ничего не мог сделать.
Она сочла их весьма милыми.
Сказка Гусёнка (продолжение)
– А как же твоё перо? – прошептала я. Под нами холодный и заснеженный озёрный край трепетал как огромная белая стая.
Фонарь покачал сверкающей головой.
– У Равхи его не было, и не имело смысла спрашивать, куда оно делось, – девочка ничего не знала о старом дереве или о садовнице. Думаю, Волшебник забрал перо, когда изображал Смерть. Я чувствую его, как глаз или ухо, отделённые от меня. Оно не сгорело, находится не близко, и никто не звал меня с его помощью.
Я подлетела чуть ближе к горячему великану, наслаждаясь его теплом. Налипший на моём клюве снег таял.
– Мне жаль, что она не могла бы свить с тобой гнездо, как ты хотел, – застенчиво сказала я.
Фонарь улыбнулся и прищурился, спасаясь от падающего снега.
– Таким, как я, не суждено иметь гнездо. На это было глупо надеяться. А если бы что-то получилось, мы с тобой не встретились бы, перепончатые лапки, и это было бы весьма печально.

Он летал со мной всю зиму и весну, кормил меня травой, мышами и одуванчиками, пока я не выросла, а моя шея не стала длинной. Когда вернулись гуси, я не захотела уходить к ним, а он не стал меня прогонять. Я летала под его крыльями, которые были широки, точно облака на закате, двери часовни или тени кедровых ветвей. Соколы мне больше не грозили. Вместе мы пересекли широкое пурпурное море и вернулись обратно, отдыхали под сенью пальм. Он научил меня многим песням и языку скворцов, аистов, чаек. А ещё воровскому ремеслу – я стала заправским домушником. У меня не было недостатка в вишнях.
Время останавливалось, когда мы летали и пробовали облака на вкус. Я была счастлива. Я была вся его. Нам никто не был нужен. Я не плакала. Но через два лета увидела знакомые деревья, и тень гнезда опять появилась на горизонте. Я вздрогнула от страха.
– Я привёл тебя домой, малышка, – сказал Фонарь, – потому что появилась новая стая, которая взывает к луне и солнцу, чтобы найти тебя.
– Я хочу остаться с тобой, – я заплакала, и он обнял меня крыльями, которые были подобны вечернему небу, сомкнувшемуся над моей головой.
Он с несчастным видом переминался с ноги на ногу.
– Мы разные, серое моё сердечко. Только те, у кого одинаковые перья и клюв, могут оставаться вместе навсегда. Может быть, мне вообще не стоило о тебе заботиться, но ты была такая слабая и милая, а у меня никогда не было птенчика, чтобы его любить. Теперь с тобой всё будет хорошо, я точно знаю. Тебе нужны стая и гнездо. Я же могу дать лишь полыхающее дерево и холодные фрукты. И… что-то манит меня, как палец, зацепивший за грудину. Моё перо зовёт меня к себе, и я не могу сопротивляться.
– Но мне не нужна новая стая! И ты можешь сопротивляться – повернуться и улететь в другую сторону так быстро, как только сумеешь.
Фонарь вздохнул, даже его блестящие краски, оранжевые и золотые перья, что освещали мой мир, показались приглушенными и тусклыми.
– Всё не так, любовь моя. Когда моё перо зовёт, я должен отправиться в путь. Я не могу лететь в другую сторону, как не могу лететь под водой.
Мне было всё труднее сдерживать слёзы. Мы опустились на кривой ствол дуба на краю большого внутреннего двора, и что-то там было, на брусчатке, что-то, пахнувшее воспоминаниями. От него повалили кубы дыма, а за дымом последовало яркое пламя, сверкавшее сквозь утренний туман.
– Мы разные, – повторил Фонарь. – Перед тобой огонь, иди же к нему без страха и родись заново с такими же, как ты, родись в огне, как я. В тебе будет немного того, из чего создан я.
Запах тянул меня – он был мне знаком, так знаком, и над костром откуда-то появились птицы, множество птиц, чьи крылья испускали одуряюще-прекрасный аромат. Я подумала о лошадях, молоке и тёмных сырых подвалах.
Это был запах моей матери. Своей тёплой головой Фонарь толкнул меня в спину прямо к ней. Медленно взмахнув крыльями, я скользнула в туман и полетела, не оглядываясь. Я знала, что не нужна ему… И вот передо мною была моя мать, которую я отчаялась найти. Из меня словно выдирали перья, и с их кончиков капала тёмная кровь.
Когда моя мать горела, я не испугалась: перекусила путы и поцеловала её полыхающие губы. Вокруг меня летали птицы, выглядевшие в точности как я, – с длинными шеями, серыми перьями и перепончатыми лапами. Они были моей стаей, знали, что я такая же; и она была моей стаей, и я любила её. Я не видела огня, только дорогу к ней, и я помогла ей подняться из пепла – должно быть, так поднялся Фонарь, когда был маленьким чёрным птенчиком. Я помогла матери подняться и улететь в ночь.
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
– Я принадлежала им. Не тебе. Только стая заботится о стае.
Гнёздышко устремила на Принца полный скорби и недоверия взгляд больших чёрных глаз.
– Но мы семья, мы одна… кладка, – негромко возразил Леандр.
– Мы разные. Ты своего отца подведёшь под коготь. Мне он не отец.
Кровь бросилась Леандру в лицо. Он увидел отца мысленным взором и не ощутил к нему любви.
– Он причинил вред нашей матери и всем её людям. Он всё губит!
– Почему меня должно заботить то, что случается на земле? Это не моё место. Я принадлежу воздуху, призракам.
– Гнёздышко, ты теперь женщина и стоишь на земле обеими ногами. Ты не можешь забыть об этом потому, что когда-то у тебя были крылья.
– Он не мой отец, не мой долг, – упрямилась она, уставившись в траву, которая отсвечивала лунным блеском.
– Нет. Но она была нашей матерью, подарила тебе ветер и облака, чтобы ты жила. Я сделал столько всего плохого, Гнёздышко. Мне был нужен Подвиг, и ради него пришлось вернуться в Замок, откуда я хотел сбежать. Но если так написано, значит, тому и быть. А написано, что, хоть мы и покинули Замок по отдельности, вернуться должны вместе. Там ещё есть Волшебник, который убил нашу бабушку и надругался над её костями. Это всё наше, в этом гнезде мы родились. Я твой. Ты мой долг. Пошли!
Леандр протянул сестре руку, белевшую в темноте, и она, помедлив, сжала его ладонь своей, испачканной в крови.
– Ради бабушки, – прошептала она, – и стаи, которая раньше была бескрылой.
По пути в Замок Леандр изумлялся умению Гнёздышка двигаться без единого звука. Её ноги ступали по земле бесшумно, пока они бежали из Ведьминой Долины назад, туда, где появились на свет.
Разумеется, стражники впустили Леандра – хоть он и долго отсутствовал, его не изгоняли, а Гнёздышко приняли за забаву, которую Принц привёл домой. Это было просто как детские кубики. Они пробирались сквозь комнаты верхних этажей, одну за другой преодолевая двери, запертые на большие латунные замки. Внезапно Принц замер.
– Жди здесь, – прошептал он и скрылся за одной из массивных дверей. Это была его собственная спальня. Посреди комнаты Леандр остановился, будто видел её впервые. Он уже был не тем человеком, который раньше здесь спал; тому, что он узнал, не было места в этих обитых бархатом стенах. Он покачал головой, напоминая себе о цели.
– Функция Принца, – негромко проговорил он, – убивать монстров. Если производную Принца приравнять к нулю, королевство выживет.
Он выпрямил спину и открыл резной тиковый столик возле своей парчовой кровати. Там лежало то, за чем он пришел. Принц вытащил из шкафчика длинный серебряный нож с изогнутой костяной рукоятью. Теперь он светился чистым светом, многозначительно мерцал в памяти Леандра. Ребёнком он выбрал этот нож в качестве игрушки из груды ножей, кинжалов и стилетов в хранилище. Нож позвал его – глядя на лезвие, Леандр с беспокойством понял, что этой ночью у него не осталось выбора, что он всю свою жизнь шёл к этому, и шёл не по своей воле.
– Вперёд, – сказал он сестре, в глазах которой зажёгся охотничий блеск, – сначала мы пойдём к Волшебнику.
Брат и сестра тихонько вошли в покои Волшебника, вскрыв замок. «Всё слишком легко, – подумал Принц. – Убийство должно быть тяжелым и страшным трудом, а не требующим усилий меньше, чем нужно, чтобы достать воды из колодца. Глухие удары, кровь, крики – вот чем оно просто обязано быть». Однако иных звуков, кроме тяжелого дыхания Гнёздышка за спиной, он не слышал. Девушка видела, как поблескивает нож у него за поясом, и решила его украсть. Но ей придётся подождать…
Омир, безобидный как дитя, спокойно спал среди белых мехов. Его рот всё ещё был пухлогубым и жёстким, но остальные черты давно проиграли битву со временем, подобным ножу, вонзённому под рёбра. Прежде Леандр встречал этого человека почти каждый день, но лишь теперь понял, до чего глубокие на этом лице морщины, какие ужасные шрамы оставили на его теле странные тайные эксперименты. Он вспомнил, как следили за ним эти глаза, похожие на два пруда с застоявшейся водой; вспомнил и рассказ матери о том, как Омир убил его прабабку, Согнутый Лук, – небрежно, словно она была наживкой для рыбы. Принц потянулся за ножом, уверенный, что справится с делом.
Но нож пропал.

Гнёздышко запрыгнула на один из высоких столов с узловатыми ножками. Она дышала глубоко и хрипло, а в бледной руке сжимала нож с костяной рукояткой. Должно быть, девушка узнала его в тот же миг, как увидела, – он был её собственный и принадлежал бабушке. Вероятно, нож позвал её, как зовёт перо, и теперь они были вместе, а Леандр не мог встать у них на пути.
С тихим криком, подобным тому, что издаёт молодой гусь при виде стаи в отдалении, Гнёздышко ринулась на спящего Волшебника и вонзила в него нож. Старик открыл покрасневшие глаза как раз вовремя, чтобы увидеть её развевающиеся волосы и щёки, покрасневшие от ярости и триумфа. Она склонилась над ним, будто собираясь поцеловать шершавые губы, и коварно прошептала прямо в сморщенное ухо:
– Смерть нашла тебя.
Омир увидел деву-птицу, что нависла над ним, будто страшный сокол, сверкая глазами.
– Я знал! – прохрипел он и поперхнулся, когда девушка повернула кинжал в ране. – Знал, что она это умела! Ведьма солгала, но я знал!
Гнёздышко коснулась лица Волшебника – медленно и нежно, по-детски. Её ногти легко рассекли кожу, словно та была водой. Она приложила пальцы к губам и жадно слизала его кровь.
– Раб, – прошипела она, – и всегда был рабом, шептал во тьме, воровал чужое добро.
– Может… может, его не стоит винить, – пробормотал Леандр. – Ведь, в конце концов, приказы отдавал мой отец.
Гнёздышко не услышала его слова. Омир закашлялся, на его подбородок хлынула кровь.
– Твой отец – дурак из дураков. А девчонка знает, всё знает! Мать рассказала ей о башне и о том, что я делал многое без приказа. Но она не убьет меня. Я тоже слышал много историй, знаю о Жар-Птице и о том, как они расстались: у меня его перо. Я держал его в этой самой комнате, в клетке из слоновой кости.
Глаза Гнёздышка сузились, превратившись в серебряные щели. Омир попытался сесть, но снова закашлялся и рухнул – нож не дал ему подняться.
– Ох, девочка… Почти попала, надо лишь чуть повернуть…
Она навалилась на костяную рукоятку, и Волшебник впервые закричал от неподдельной муки; его седые брови взметнулись, зубы оскалились.
– Где он? – зарычала девушка.
– У меня… у меня его нет. Я продал его, перо и клетку человеку из Аджанаба. Продал, клянусь! Умоляю… – Руки Волшебника тщетно пытались схватить кинжал. – Послушай меня, послушай! После стольких лет я наконец узнал, в чем секрет, и могу превратить тебя в Жар-Птицу, из любой ивы сделать для тебя иксору, зажечь твои крылья и отправить к нему. Я могу даже изменить тебя так, что он сможет пробудить твоё гнездо, и вам не понадобятся для этого деревья. Но, если ты убьешь меня, останешься несчастной девчонкой и никогда не полетишь, не сможешь разыскать его без моей помощи. Останешься в этом ужасном теле рядом со своим младшим братом. Уверяю тебя, от него никакого толку.
Гнёздышко плакала, её слёзы капали на слабые руки Омира. Плечи девушки были точно голые ветки; она глядела на него с ужасной надеждой, пламенеющей в тёмных глазах. Затем наклонилась очень близко, обняла старика. Несмотря на хриплый кашель и тёмное пятно, расползавшееся по животу, он попытался отечески похлопать её по спине. Но лишь раз сумел поднять руку, и та беспомощно упала на постель. Однако говорить он ещё мог, его голос был тих, как сосущая пиявка:
– Тише-тише, дядюшка всё исправит, вот увидишь. Не надо ничего говорить, я и так знаю, чего ты хочешь, милая. Всё будет хорошо!
Гнёздышко вскинула серебристую голову и прошептала ему на ухо:
– Мама.
А потом она, утратившая руки в первые дни своей жизни, схватила Омира за волосы, отточенным движением выхватила нож из его живота и перерезала ему горло.
Кровь была горячая и густая. Она текла по рукам, точно жидкая грязь, а Гнёздышко всё не выпускала кинжал. Леандр не смог разжать её пальцы. Он оттащил сестру от тела и силой вывел в холл, а её глаза всё сверкали, огромные и дикие.
Ночью в покои Короля их бы ни за что не пропустили, так что они пробирались вдоль каменной стены от подоконника к подоконнику, по лестнице из плюща и выступам, на которые можно было опереться лишь кончиками пальцев. Наконец брат с сестрой притаились под окном Короля, и Леандр многозначительно посмотрел на девушку, прежде чем прыгнуть внутрь. Ей нельзя было следовать за ним. Но, разумеется, именно это она и сделала, бесшумная как пауза между вдохом и выдохом.
Король лежал на своей кровати – один, всё ещё крепкий и сильный. Он не спал.
– Несомненно, я не учил тебя пренебрегать дверьми, – сказал он сыну.
Леандр отнюдь не ожидал такого, но скрыл страх под маской безразличия.
– Мне казалось, так будет лучше.
– И всё ещё кажется? Вижу, ты и бедную птичку с собой привёл. Поговорим начистоту?
Он не моргнул, не удостоил Гнёздышко и взгляда. Девушка была для него ничем, пустым местом.
– Если производную Принца приравнять к нулю, королевство выживет, – прошептал Леандр.
– Что за чушь ты несёшь, мальчик? Мерзкая Ведьма наконец тебя разыскала? Сам удивлён, что мне захотелось затащить в постель это ничтожество. Жаль, огонь не может гореть вечно. А казни надо проводить лично – вспомни об этом, мой сын, когда станешь королём.
– Я не буду королём. И убью тебя на месте за то, что ты сделал с народом моей матери; за то, что заставил меня сотворить бесчисленное множество раз с теми, кто приближался к нам под белым флагом.
Король издевательски расхохотался.
– О, мой сын! Как, по-твоему, я сделался королём? Тоже вонзил нож в сердце отца, пока тот спал.
Сказка Короля
До чего жирным казалось его лицо, лежавшее на подушке. Точно кусок мяса на белой скатерти, сплошь в паутине красных сосудов и с опухшим носом. Он не спал в одной постели с матерью уже много лет – впрочем, с ней никто не спал. Думаю, мне понравилось бы, заведи она любовника. Это сделало бы её человечнее. Но она никого не пускала к себе между ног; проводила ночи в убогой постели на вершине убогой башни, а мой отец спал в громадной кровати эбенового дерева с четырьмя столбиками, предназначенной для лорда и его леди.
Ты не знал? Мой отец никогда не был королём.
Деревенский барон, только и всего! Иногда зимой свиньи и коровы ночевали в главном зале, чтобы не передохнуть в мороз. Вонь от них поднималась к стропилам и висела там будто испачканная дерьмом люстра. Моя мать была совсем другой. Я был совсем другим. Я часто наблюдал за ней, любовался её профилем на фоне окна и удивлялся, как она умудрилась выйти замуж за мешок лука и свиных пятачков, которого мне приходилось звать отцом. Слуги говорили, он не всегда был таким бесполезным. До того, как моя мать позволила скорби отнять у неё голос, наш дом был богат, а коровы спали в траве, где им самое место.
Но всё изменилось. Она замолчала, не говорила ни слова. Моя мать сделалась молчаливой точно монахиня – в тот день, когда у неё забрали мою сестру.
Я был младенцем, когда это случилось, и не знал свою сестру. Но её отсутствие мучило дом, как голодный пёс. Дыра, занявшая её место, сидела с нами за обеденным столом, безвольно опустив плечи в затхлом воздухе; она ела, пила и дышала нам в затылок.
Другие мои сёстры вышли замуж до того, как я научился считать. Я рос в тихом доме один, со мной были только вонючие коровы, немая мать и дыра. Даже отец старался не проводить там время: оставался на полях, руководя уборкой сена и дойкой коз до темноты, чтобы проскользнуть к себе, ни с кем не встречаясь. Но дыра всё равно появлялась на звон дверного колокольчика, и он спешил в спальню, опустив голову, чтобы не встретиться с ней взглядом.
Я не думал, что кому-то будет его не хватать. Он стал дураком, хилым, точно стриженная овца, а я как раз стал мужчиной, был готов сделаться бароном и жаждал этого, потому что мне надоело смотреть, как ветшавший дом на глазах разваливается на части, поддерживаемый лишь дырой в воздухе, пустым местом. Однако копающиеся в грязи убожества, вроде моего отца, всегда отличались крепким здоровьем, и я знал, что баронство мне просто так никто не отдаст.
Я не пытался скрыть своё приближение, когда шел по лестнице в его комнату. Наоборот, громко топал – в мёртвом доме никому не было дела до того, что к утру ещё кто-то откинул копыта. Но дыра была там. Я чувствовал, как она тянет меня за рукав, преисполненная сестринского осуждения. Она грустно вздыхала, словно давая понять, что, если бы вдруг вернулась та, кого забрали много лет назад, вокруг не стояла бы гробовая тишина, и мне не пришлось бы слушать, как кричит мой отец, чтобы осознать, что сам я ещё жив… Дыра жалела меня, и я ненавидел её за это.
Впрочем, он не закричал. Всё оказалось легко, как отрезать кусок мяса для жаркого. Я, не задумываясь, вонзил нож в сердце отца, огромное, точно у быка. Всё случилось просто и естественно, как и должно было. «Убийство, – подумал я, – обязано быть сложнее». Его глаза распахнулись, и в горле тихо булькнуло, как у телёнка, забиваемого к летнему празднику. Отец не закричал. Я не почувствовал себя живым. Но стал бароном.
Мать следила, как я спускаюсь по лестнице, вытирая кровь о брюки. Она не мигала, её губы сжались и побледнели, но она ничего не сказала. Как всегда…
С баронством, как и ожидалось, я справился. Поля давали зерно, деревья – сидр, свиньи спали в своих грязных загонах и толстели. Из всех углов большого зала вымели пыль, к очищенным стропилам подвесили длинные белые знамёна. В замке появились люди, а когда лето сменило весну, начались музыка и танцы.
Дыра не вернулась.
Наконец пришло время подыскать себе жену. Мне не слишком этого хотелось, но говорили, что так поступают лорды, а я уже подумывал о том, чтобы надеть корону, как другие планируют переезд в дом побольше и у моря. Королю нужна королева. Барону не обойтись без баронессы. Поэтому я пролистал семейные книги с засаленными страницами. И узнал, почему моя мать вышла замуж за мешок лука и свиных пятачков.
В нашей захолустной семейке пьянчуг жену добывали не ухаживанием, а испытанием. Существует пояс из золота и яшмы, передаваемый от бабушки к внучке, и новой хозяйке дома он должен прийтись впору, иначе она не сможет спать в башне, двадцать лет игнорируя мужа. Суеверия, сверкающие глазами из тьмы, и глупость всегда живут дольше, чем семьи, которые за них ответственны.
Я снял с матери пояс. Она ничего не сказала. Как всегда… Но, когда я разослал гонцов с известием о том, что подходящие молодые женщины могут прийти и примерить пояс, она заперлась в башне и не выходила, сколько миловидные горничные ни уговаривали её открыть засовы. Изнутри не доносилось ни звука.
Недели летели одна за другой. Девушки танцующим шагом шли к моим дверям, одетые в платья всевозможных цветов и фасонов: ветошь и турнюры; блондинки и брюнетки; бархат, муслин и обычный хлопок, подпоясанный бечёвкой. Я набрасывал золото и яшму на десятки талий, застёгивал – и десятки щёк краснели. Пояс падал с их бёдер или сжимал их талии, пока они не начинали задыхаться, – он никому не пришелся впору, ни у одной женщины в стране не было законного права на него.
Я поступил логично: поднялся по длинной витой лестнице на вершину башни, держа в руках пояс, – на его тусклых самоцветах играли хмурые отблески. У толстой дубовой двери на бронзовых петлях я постучался, вежливый, как и подобает поклоннику.
– Матушка, – сказал я, – пояс никому не подошел.
Из комнаты не донеслось ни звука.
– Матушка, – сказал я, – мне надо жениться.
Из комнаты не донеслось ни звука.
– Матушка, – сказал я, – пояс подходит вам.
Только не надо изображать изумление! Мораль уступает дорогу королям, а вонючая добродетель скотоводов меня не интересует.
За дверью что-то зашуршало и зашелестело. Наконец мы покончили с ерундой, её детскими истериками и тем, как она пряталась, точно краб в алой раковине. Я плечом высадил дверь – силы мне тогда уже было не занимать, и бронза согнулась после второго удара, петли заскрипели и поддались. Моя мать сидела на кровати, стоявшей посреди комнаты, утопавшей в пыли; вокруг неё были разбросаны листы бумаги. Фиолетово-чёрное платье порвалось и было ей мало, рыжие волосы тусклой спутанной гривой ниспадали на продавленный матрас.
На коленях у неё была дыра.
Края дыры потрескивали и изгибались, чего я раньше никогда не видел; странный серебристый свет очерчивал ясные контуры длинноволосой девочки, дремавшей на материнских коленях. Выглядело так, будто девочку кто-то вырвал, оставив лишь намёк на то, как она могла выглядеть, какой могла бы быть. До этого утра я воспринимал дыру как пустоту, но теперь видел нечто осязаемое и имевшее вес – её можно было ощутить, потрогать, и она светилась. Странное ничто посверкивало, пока моя мать его гладила.
– Я её сделала, – сказала она скрипучим хриплым голосом, точно кто-то отпер заевшую дверь. – Когда он её забрал, я её сделала. Больше я не творила никакой магии.
– Магия, – пренебрежительно фыркнул я.
– Я сделала так, что она ходит по дому, ест, спит и смеётся, как и могло бы быть. Но она постоянно возвращалась сюда и спускалась лишь для того, чтобы увидеть, как ты растёшь, играешь, хмуришься и спишь.
– Это пустота, матушка. Меньше, чем воздух.
Она с жалким видом пожала плечами.
– Это не она, я знаю. Но, когда я сплю, она обнимает меня прозрачными руками, и я почти чувствую запах её кожи. Я по ней скучаю, страшно скучаю. После того как ты убил своего отца, я позволила ей остаться здесь.
Я пожал плечами.
– Я хотел стать бароном. И не буду за это извиняться. Из-за отца дом чуть не погиб, и ты вместе с ним. Как бы там ни было, ты вышла за него только из-за золотого пояса.
Она пристально посмотрела на меня сквозь завесу спутанных волос.
– Можешь верить во что хочешь, Измаил. Пояса и ошейники – лишь подходящий повод взять женщину, которую ты и так хочешь, не давая ей шанса заговорить.
Я уставился на искореженные от сырости доски пола. Не из-за смущения, имей в виду! А потому, что я решил, что именно так должен был поступить хороший сын в такой ситуации.
– Пояс больше никому не подходит.
Моя мать положила руку на бедро дыры; её лицо будто оплыло, словно она что-то утратила и внутри сделалась пустой, как сухая раковина улитки, катящаяся по песку.
– Если ты не смог удержаться от того, чтобы ворваться в мою комнату с предложением, на которое не осмелился бы и король…
– Было бы лучше, окажись я королём, матушка? – взорвался я и, ринувшись к кровати, сквозь дыру схватил её за обтянутые фиолетовой тканью плечи – как же она исхудала! – Окажись я королём, ты бы сделала реверанс, надела горностаевую мантию и танцевала бы на нашей свадьбе? Ты знаешь семейный закон. Лучше ты будешь принадлежать мне, чем этой отвратительной магической штуке, с которой сидишь тут взаперти день за днём! Я не стал извиняться за то, что сделал с отцом, и за тебя тоже не буду. В этом мире что-то можно получить лишь силой – вот чему меня научила жизнь в доме, где ничего не происходит, потому что здесь живут мертвецы!
Мать начала истерически смеяться и будто распахнулась, как дверь, сорванная с петель.
– Да, если бы ты был королём, это было бы законно; короли творят что хотят, короли и их волшебники – для них нет законов! Они берут и берут, что такого? Никто не ищет тех, кого забрали, о них просто забывают, они исчезают, и всё. – Она подняла на меня глаза, и её взгляд вдруг оказался проницательным, как взгляд лисы, увидевшей мышь. – Я сыграю с тобой, если хочешь, мой Измаил, но тебе придётся продемонстрировать свою доблесть. Если мне не изменяет память, так поступают молодые люди во время ухаживания.
Я осторожно отпустил её. Вот и всё? Принести ей розы или чешую дракона с дальних островов, и она не станет сопротивляться?
– Что мне сделать? Давай побыстрее с этим разберёмся.
– Принеси мне голову и ошейник и, если сочтёшь нужным, ещё какую-нибудь часть Волшебника, который забрал твою сестру.
Что ж, убийство – труд не сложный. Я встал с кровати, и на моём месте тотчас же сгустилась дыра. Я поклонился настолько учтиво, насколько это было в моих силах.
– Леди Иоланта, я к вашим услугам.
Откровенно говоря, мне не очень хотелось жениться на своей матери. Если бы пояс подошел другой женщине, я бы с той же лёгкостью взял в жены её. Но, когда занимаешь высокое положение, надо соблюдать протокол; ведь для неё не так ужасно участвовать в церемониях и танцевать на балах. Со своим последним мужем она постель не делила, если не считать того, что требовалось для появления наследника. Меня не радовала необходимость пойти и убить Волшебника, который навредил мне лишь тем, что оказался представителем омерзительной профессии, чтобы я смог сделать Иоланту дважды баронессой. Но разве есть в мире счастье? Я с этой неведомой зверушкой ни разу не встречался.
Дело не в том, что мы не знали, где живёт Волшебник, отнявший у меня сестру, последний батрак из глубинки был осведомлён, где Омир хранит свой посох и фиал. Но нельзя потребовать чью-то дочь назад у такого человека, особенно если он скован узами с королём вроде того, что правил нами в те времена.
Дворец того короля окружали густые леса, где друг к другу жались деревья, кривые, будто спины старых женщин. Мимо него текли две реки со странной водой: в одной она была чёрной, в другой – белой. Пересекая мосты, я посмотрел вниз: чёрная река, как мерцающий поток на склоне старого вулкана, то гладкий, то покрытый зыбью, отразила лицо достаточно красивого молодого человека, который не был принцем, но мог показаться таковым в особо ясный день. Белая река, гладкая и тусклая, словно молоко, не отразила ничего.
Не зная, как убить, если не обойтись простым визитом в спальню с ножом в руке, я попросил об аудиенции, и, что неудивительно, мне велели подождать. Я занимал себя как мог, познакомился с новой жизнью: в кои-то веки спал в чистых комнатах, ел за чистыми столами, одевался в чистую одежду.
Каждый день я отправлялся поглядеть в воды рек.
Наконец, меня призвали в зал для аудиенций с высоким потолком, представив как Измаила, барона Бакара – до чего странно было слышать, как моё имя произносил скучающий писарь! – и я предстал перед королём и его любимым рабом. Король как раз обедал, мусоля сено в золотом корыте, запихивая в рот полные пригоршни травы.
Чудовищно. Противоестественно. Людьми не должно править животное! Меня чуть не стошнило на вымощенный серебром пол.
Гнедой, король-кентавр Восьми королевств, взглянул на меня снизу вверх. Его передние ноги были согнуты в коленях, чтобы насыщаться с удобством. Каштановый хвост помахивал из стороны в сторону, а в коричневой бороде запутались травинки.
– О, – проворчал он, – это ты.
За его спиной стоял Волшебник в мешковатом сине-коричневом одеянии и железном ошейнике, тяжелом как епитимья. Он одарил меня взглядом, в котором сквозило сомнение.
– Это ведь он, не так ли, Омир? – спросил кентавр, не без труда поднимая своё лошадиное тело. Он отвернулся от корыта и двинулся ко мне, цокая копытами по плитке и держась так, что я видел только его правую сторону, левая оставалась в тени. Его гнедая шкура перетекала в бледную кожу, давно не знавшую солнца, и он был, как ты можешь догадаться, не одет. Трона не было – да и какой трон? Король располагался в груде розовых подушек на помосте; думаю, лошади и такого трона достаточно.
– Да, мой господин. Думаю, это он.
– Прощу прощения, кем вы меня считаете? – смущенно спросил я. Убийства должны совершаться в темноте и тишине, а я был в комнате, освещённой так ярко, словно её фундамент утопал в солнце. Что ещё хуже, меня ждали.
Гнедой почесал чёлку; его широкое, точно лунный диск, лицо поскучнело.
– Омир сказал, что ты близко – тот, кто меня заменит.
Сказка о Восьмикамерном сердце
Ещё до того, как мой дед отправился на пастбище, те, кто намного мудрее меня, решили, что Восемью королевствами, населёнными народами столь же разными, как десять тысяч травинок на лугу, не могут управлять мужчины и женщины. Из них получаются хорошие провинциальные дворяне, которым только и надо, что вести счета и заниматься благотворительностью. Но разве можно позволить им говорить и действовать от нашего народа – народа монстров?
Разумеется, нельзя.
Кентавры представлялись хорошим выбором: существа на середине пути от постели до конюшни, между людьми и чудовищами, дикой природой и упорядоченным миром. Казалось знамением, что наши мощные сердца, необходимые для столь массивных тел, обладали восемью камерами, по одной на каждое королевство. Так всё и было на протяжении многих поколений, кентавры правили – некоторые плохо, точно неумелые жеребцы; некоторые хорошо, будто смирные мерины. Такова судьба правителей – мы подвержены слабостям. Но, изучая человечьих королей, которые были до нас, мы узнали, что передавать корону сыновьям или дочерям так же глупо, как кормить волка морскими водорослями. Мы определяли наших правителей способом, который наилучшим образом соответствовал нашей сильной стороне, – в гонках.
Ясным осенним утром, когда яблони сбросили плоды на траву, я занял своё место у стартовой линии. Моей противницей была Серая-в-яблоках – высокая и красивая серая лошадь с такой широкой грудной клеткой, что я не смог бы её обнять, даже если бы мои руки стали в два раза длиннее. Я немного беспокоился: хоть быстроты мне не занимать, я не был сильнейшим в табуне, и моя грудь казалась хилой по сравнению с этой громадой костей и мышц, созданной для глубокого дыхания.
– Отличный день для гонок, – одобрительно прогудела Серая-в-яблоках, топча землю яркими перламутровыми копытами. – Надеюсь, ты будешь сражаться по-настоящему: мне бы не хотелось стать королевой лишь из-за того, что у тебя насморк.
Она одарила меня лучезарной улыбкой победительницы, обрамлённой пышной серебристой гривой. Несмотря на ситуацию, лошадь мне нравилась. Она хорошо пахла, как берёзовые листья, люцерна и быстрая река.
Правила были таковы: желающие править являлись к стартовой линии, но отваживались на это немногие, потому что кентавры отличаются сдержанностью и самодостаточностью, посмеиваются над приманками власти. Это ещё одна причина, по которой нас сочли достойными её. Каждого претендента запрягали в плуг. Ещё один плуг помещали между соревнующимися, и какой-нибудь местный волшебник или предсказатель, избранный для этой цели, зачаровывал его так, чтобы он двигался сам по себе. Лошадь, способная победить и самоходный плуг, и своих конкурентов, получала корону: тому, кто лучше всех пахал землю, чтобы она цвела, следовало помогать людям, чтобы и они процветали.
Тем осенним утром только мы с Серой-в-яблоках пришли бороться за королевство. На каждых гонках у стартовой линии нас было все меньше. В конечном счёте кентавры предпочли пастбище и игру, брачные ритуалы и катание в траве. Но я не был сдержанным и не насмехался над властью. Я не был умником из умников, поджидавшим удобного случая, – мне тогда было нечего есть. Корона пела и шептала, обольщала меня с высоты, подвешенная к ветви дерева в дальнем конце поля. Она сверкала, блистала и явно желала покоиться на моей голове. Мне она тоже нравилась, её исключительно собственный запах, которого мне вполне хватало.
Мои размышления прервала толпа, начавшая шуметь и раздраженно топать копытами. Призванный на состязание Волшебник приволок на поле свой плуг, который блестел на солнце, точно глаза юного жеребёнка; его длинное красное одеяние бросалось в глаза, трепеща на утреннем ветру.
Однако на нём не было ошейника.
Человек был лишен примет возраста, имел благородный профиль, явно немало посидел за столом, скрипя карандашом, одет и обут как полагается. Но без ошейника! Мы не знали, как на него смотреть, как к нему обращаться, и вообще, как он мог находиться среди нас.
Он спокойно отнёсся к нашим взглядам и принялся натирать блестящий плуг порошками и маслами, что-то ему нашептывая, как любимому псу, гладя его длинными пальцами с толстыми костяшками. Когда дело было сделано, плуг уже не блестел, а покрылся каплями и пятнами зловещего цвета – охры, бычьей крови и оникса. Волшебник предложил мне подойти и проверить его работу, точно это была особенно сложная арифметическая задачка. Я потрусил к нему, намереваясь побыстрее обнюхать ядовитые жидкости и объявить, что всё в порядке. Я оставался простой лошадью и ничего не знал о магии, кроме её дурного запаха.
Но стоило мне склониться над плугом, отгоняя мух хвостом и почёсывая затылок с видом знатока, волшебник тоже наклонился к лемеху, повернул ко мне своё узкое темноглазое лицо и прошептал так тихо, что показалось, будто это пчела жужжит над ухом: так тихо, что, кроме меня, никто не мог его услышать:
– Я могу дать тебе то, что ты хочешь.
– Что? – спросил я слишком громко.
Серая-в-яблоках бросила на меня взгляд поверх толпы дерзких жеребят, пытавшихся измерить её рост и ширину плеч. Её дыхание чуть ускорялось, когда она вставала на дыбы; великолепные обнаженные груди отливали серым. Она фыркнула и вскинула серебристую бровь. Я театрально кашлянул и улыбнулся ей, невзирая на насморк, – лошадь рассмеялась, и её смех вполне соответствовал широкой грудной клетке: от него могли и бочки полопаться.
– Я могу дать тебе то, что ты хочешь: победу в гонках, корону, – проговорил тот же голос, тише мух в хвосте годовалого жеребёнка. – Ты достаточно быстр, чтобы обогнать плуг, – это верно как дождь зимой, но тебе ни за что не обогнать её. Погляди на эти плечи, они же как пятнистые валуны! Она лучший бегун, чем ты, и, возможно, из неё получился бы лучший монарх. Но она не даст мне того, что хочу я; это видно по её холке, копытам и тому, как ниспадает её хвост, а также по линии челюсти. Она из тех, кто считает, что добродетель может легко сидеть на троне. А ты знаешь, кто на самом деле объезжает этот мир, я уверен.
– Чего ты хочешь? – На этот раз я был тих, словно мышь под метлой, и прилежно разглядывал детали плуга.
– О, тебя, мой дорогой Гнедой! Ты стоишь куда больше остальных тварей, и тебе это известно. – Он притворился, что затягивает ремни, и убрал прилипшую к вспотевшему лбу прядь.
– Вообще-то я бы так не сказал, – ответил я.
– Ты наполовину человек, наполовину животное и потому идеально соответствуешь моим стремлениям. Позволь мне заниматься своим делом в мире и спокойствии. Помогай время от времени в разных мелочах, и я выиграю эти гонки для тебя.
Мысли мои неслись со скоростью зайца, которого преследует лиса.
– У тебя нет ошейника.
Он стиснул зубы.
– Нет. Я освободился благодаря удачному стечению обстоятельств и наслаждаюсь его отсутствием. Рабство – грех.
Я продолжал соображать так быстро, как мог. Сделка казалась хорошей, но, если я хоть что-то смыслил, в итоге он потребует больше заявленного сейчас. Я вытер вспотевшие ладони о шкуру.
– Если я стану королём и мне будет прислуживать волшебник, правильнее всего, чтобы он был связан со мной и стал моим сервом. Иначе как я смогу ему доверять? Что помешает ему разорвать меня на части по первому капризу? Ты сказал, добродетели не место на троне? Значит, там как следует отдохнёт грех.
Суровое лицо волшебника скривилось, и я услышал, как скрипят его зубы. Он бросил умоляющий взгляд на небо, затем посмотрел на свои руки – они сжимались в кулаки и разжимались, будто желая спрятать появившиеся на ладонях позорные клейма. На миг мне показалось, что человек вот-вот заплачет. Но этого не случилось. Его плечи дрогнули, багровое одеяние вдруг показалось не таким ярким и весёлым. Он машинально поднял руку к шее и почесал бледную влажную кожу.
– Да, – хрипло проговорил он. – Хорошо, я снова надену ошейник, если ты отдашь себя мне. Оно того стоит, если я получу тебя. Мы будем принадлежать друг другу.
Я топнул по земле копытом.
– Что… что ты сделаешь? Это будет не очень ужасно, верно?
Печаль ушла из его взгляда быстрее, чем муха-подёнка взмахивает крыльями, и её место заняло хищное ликование необъезженного жеребца.
– Не слишком ужасно. Я взорву сердце в её груди – одну камеру за другой.
Я глянул на Серую-в-яблоках – до чего она была красива в мягком сиянии осени, пряча сахарный леденец за румяной щекой. Её длинные волосы искрились, как весенний ливень, а брюхо было покрыто мягчайшей белой шерстью. Мне она нравилась, очень нравилась. Но корона сверкала и пела. Как она пела!
– Да, – я с трудом сглотнул, – это не слишком ужасно.
Серая-в-яблоках игриво ткнулась в меня носом, когда я вернулся к украшенной гирляндами стартовой линии.
– Обещаю, – сказала она, дразня, и её обнаженная кожа сияла точно доспех, – я возьму тебя в супруги. Я слаще яблок, сахара и желудей после дождя, это я тоже обещаю.
Я умудрился изобразить широкую улыбку, которой требовала такая бравада, и приятельски хлопнул её по заду. Мои пальцы были смазаны дурнопахнущей серой мазью, которую дал мне Волшебник. Её не будет видно на коже, сказал он, и никто ничего не поймёт. Она зарделась от удовольствия – а румянец под серебряной кожей выглядит потрясающе.
Запели костяные рога, и мы бросились бежать быстрее любых всадников и любых лошадей, а самоходный плуг вприпрыжку нёсся за нами, рисуя в чернозёме длинную ровную борозду и рассыпая оранжевые хлопья притираний да мазей, которыми был покрыт.
На несколько мгновений я поверил, что могу победить сам, – я очень быстр, быстрее всех моих родственников с гнедой шкурой, и бывает, что изящная лошадь побеждает громадину. Мои ноги резво стучали по гальке, но Серая-в-яблоках просто берегла силы. Она рванула вперёд со смехом, от которого дружно содрогнулись вязы и пихты, и с дружелюбным восторгом хлопнула меня по крупу, обгоняя.
Моё сердце трепыхалось в груди, будто сочувствуя её сердцу – сдержит ли Волшебник слово? Лошадь была уже так далеко впереди, что я видел лишь её серо-белый хвост. А потом она споткнулась.
Я ощутил в собственной груди слабое эхо грома, что раздался внутри неё. Почувствовал, как камеры сердца взрываются одна за другой, будто стиснутые огромным кулаком. Одна, две, три, четыре. Пять, шесть. Семь. Восемь… Серая-в-яблоках рухнула на беговую дорожку с ужасным глухим стуком, и галька разлетелась во все стороны, точно волна.
Я поспешил вперёд. Плуг отстал на целый корпус. Я не взглянул на неё, пробегая мимо, лишь заметил, что рядом собрались те, кому вскоре предстояло о ней плакать. Я пересёк черту. Корона пела так громко, и я схватил её обеими руками. Её голос был чист как сахар, или яблоки, или жёлуди после дождя.
Когда мы сожгли Серую-в-яблоках, как у кентавров принято поступать с мёртвыми, я произнёс длинную прочувственную речь: я был королём, чей долг – оплакивать павших. Всё вокруг пропиталось запахом её горелой плоти, и я с трудом сдерживал тошноту. После того как мы переворошили её пепел, ко мне подошел Волшебник Омир и, глядя на обугленные кости, сказал:
– Забыл предупредить: ты будешь последним королём-кентавром. После тебя могли бы появиться и другие, если бы ты не оказался существом, которому поёт корона, – Серой-в-яблоках, кстати говоря, она не пела. Но случись такое, я бы тебя не выбрал, и печальное место в качестве завершающего длинную линию – твоё предназначение. Ты покоришь народы, которые помогут мне. После тебя будут править люди, а мне уже известно, в чём их суть. Когда ты начнёшь стареть, появится молодой и алчный мужчина с чудовищным поручением, он пронзит кинжалом твоё восьмикамерное сердце и станет королём.
С неба начали медленно падать крупные капли дождя, и последние угли костра Серой-в-яблоках погасли.
– Не пора ли нам под крышу? – спросил Волшебник, широко улыбаясь.
Сказка Короля (продолжение)
Король-кентавр заплутал в воспоминаниях.
– Я хотел стать хорошим королём, – задумчиво проговорил он. – В самом деле, этого хотел. Но пришлось подавлять бунты, собирать налоги и разбираться с угрозами на границе. Вместе с добродетелью такой груз слишком тяжел. Видишь ли, добродетель занимает слишком много места в седле.
Гнедой поднялся со своих подушек, и я впервые увидел его целиком, в том числе левый бок, который до сих пор прятался в тенях и розовом шелке. Он представлял собой густое переплетение шрамов, рубцов и глубоких ям, порезов всевозможной давности, от очень старых до свежих. Под ними совсем не было видно шкуры – лишь узловатая плоть, и целые лоскуты её отсутствовали, будто их сняли, как сливки. Все рёбра хранили следы переломов. Одно копыто было хрупким и пористым, как соты, а лодыжка покрыта коростой. Он берёг её и оттого ужасно хромал. Кентавр доковылял до меня и приблизил своё лицо к моему, откинув редкие волосы с измученного лба:
– Скажи мне… Измаил, так тебя зовут?.. Не тяжело ли твоей добродетели нести груз такого поручения?
– Оно легче, – прошептал я, – чем противная природе тварь, что позволяет рабу кромсать себя до тех пор, пока не утратит возможность ходить.
Гнедой посмотрел на себя и будто впервые увидел изувеченный бок.
– О да. Так он использует меня. Сомневаюсь, что тебя можно использовать так же – заметь, ему нужна лишь моя лошадиная плоть или, если повезёт, та, что принадлежит одновременно человеку и лошади. Должен признаться, я рад, что ты здесь. Наследники – это важно, как ни крути. Уверен, вы двое сумеете использовать друг друга, а я, честно говоря, устал быть полезным.
Я посмотрел на Омира. Наши взгляды встретились, как камень и сталь. В его глазах не было ни растерянности, ни стыда. В тот момент мы поняли друг друга, и все мысли о моей матери исчезли, как туман над озером с заснеженными берегами. Пусть она сгниёт в своей башне вместе с трижды проклятой дырой. Она была мне не нужна: я нуждался в нём.
Омир вытащил из складок тёмного одеяния длинный нож. Мы втроём смотрели, как он мерцает в лучах, струившихся сквозь изящные окна. Волшебник вручил нож мне. Я и не знал, что убийство может быть таким – открытым, при свете дня, со всеобщего молчаливого согласия. Почти церковная служба, и я волновался как ребёнок, впервые увидевший алтарь.
Я трепетал и будто слышал пение короны. Взял нож и, подойдя к Королю-кентавру, похлопал его по плечу, как всадник хлопает нервного скакуна. Он не отпрянул, и наши взгляды встретились – как древесина и сталь.
– Монстр, – прошипел я и вонзил нож ему в сердце, по самую рукоять, затем вытащил и вонзил снова. Один, два, три, четыре. Пять, шесть. Семь. Восемь.
Гнедой улыбнулся и упал на мраморный помост с глухим стуком, будто мешок тяжелых костей.
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
Леандр глазел на своего отца, лежавшего на огромной пустой кровати, на его седые виски́ и морщины на лице, порождённые явно не смехом. Его глаза мерцали в тусклом свете.
– Омир и я в самом деле нашли применение друг другу. Он не снял ошейник, а я не послал его на костёр. Он хотел заполучить степняков и их Ведьму, я – Волшебника, который будет согласно моей воле вызывать дождь и засуху, травить и уничтожать то, на что я укажу. Мы вершили великие дела: вместе покорили его степняков, которые, несомненно, были столь же противны природе, как и кентавры. Мне никогда не нравилась магия, но его я терпел, и он был мне за это признателен. Достойная сделка, поскольку никто не был заинтересован кромсать меня как кусок говядины. Не менее достойную сделку я заключил с этой страной, покорившейся моим приказам не хуже любой другой. Я не собирался становиться всеобщим любимцем и поборником справедливости – просто хотел быть сильным.
– Король способен на большее, – заупрямился Принц.
– Так поначалу думает каждый из нас, полный решимости превзойти отцовские достижения, зная, что нам под силу изменить природу людей, сделать её лучше и чище. Но потом кинжалы сверкают в ночи, крестьяне бунтуют, и разные зверства становятся привычным делом, как завтрак. Только принцы верят в высшее благо. Короли знают, что существует лишь Власть, во имя которой можно творить что угодно. Итак, ты перережешь мне горло или предпочтёшь более интимный метод – удушение? Кажется, у меня где-то завалялась гаррота.
– Нет, – ответил Леандр, – я не стану тебя убивать как вор в ночи.
Король опять издал тихий добродушный смех, будто читал сыну сказку на ночь.
– Леандр, воры не так уж плохи, а убийства рядятся в разные одежды. Нет смерти и убийства, которое было бы лучше прочих. Если ты можешь меня убить, способ едва ли заслуживает внимания. Ты желаешь прикончить своего отца и думаешь, что будешь спать крепче в ближайшие семьдесят лет, если сделаешь это благородным образом. Но твою честь запятнает отцеубийство, и никакие высоконравственные оправдания не вернут ей белизну. Ты ждёшь признания, чтобы очистить собственную душу? Что ж, ладно. Всё, что она тебе рассказала, – правда, а ещё было много другого. На моих руках больше крови, чем ты смог бы пролить за всю свою жизнь. Я этим горжусь. Это моя корона и мой скипетр! Жаль, что в тебе нет такой целеустремлённости, напора. Но ты поймёшь, как и все мы. – Тут король элегантным жестом отбросил розовое одеяло. Оказалось, что он полностью одет – на нём были потрёпанные кожаные штаны и нагрудник от доспеха, – и с головы до ног коричневый, будто гнедой конь. – Тебе нужно оружие? Ты и впрямь явился настолько неподготовленным? Плохой из меня отец. По крайней мере этим я могу подсобить. – Он вытащил из-под матраса кинжал – отблеск пламени скользнул вдоль лезвия, как шустрый лосось.
Ошеломленный Леандр принял оружие, едва ли чувствуя его рукоять в своих пальцах. «С той давней ночи, – подумал он, – когда я покинул Дворец, всё шло не так, как предполагалось».
Принц сел рядом с отцом – так близко, что почувствовал запах его сухой кожи, запах раскалённого песка.
– Я… прощу прощения.
Измаил, владыка Восьми королевств, закатил глаза и, выхватив собственный кинжал, приставил его к горлу Принца.
– Если ты не можешь справиться с одним пустяковым убийством, какой из тебя король? Вот как всё делается, сын мой.
Но, прежде чем он перерезал глотку Леандру, Гнёздышко, о которой оба забыли, увлечённые разговором, откинула голову, метнув чёрной гривой по полу. Она снова закричала – громче, чем в тот раз, когда явилась на свет, и все окна, стеклянные штучки разлетелись на осколки, а птицы попадали с небес. Вороны, воробьи, зяблики один за другим падали за окном, будто многоцветный дождь. Крик был исполнен гнева, нараставшего точно полноводная река, пока она смотрела, как отец-который-не-был-отцом собирается убить Принца. Когда кинжал коснулся шеи юноши, голос девушки разбил лезвие на части, и один из осколков угодил прямо в королевский глаз.
Леандр колебался лишь мгновение, а потом вонзил свой нож в грудь короля со всей силой, навалившись на рукоять, и клинок вошел как следует, глубоко.
Но король продолжал смеяться, даже когда у него на губах появилась кровавая пена.
– Помни, сын мой, – прохрипел он, умирая, – смертью своей наставляю тебя. Вот что такое власть. В конечном итоге нож всегда оказывается в твоих собственных руках.
Гнёздышко стояла на балконе Замка, одетая в мерцающее белое платье. Она смотрела вдаль, где предгорья превращались в настоящие горы.
– Я всегда желал одного – покинуть это место, – сказал Леандр, приблизившись и положив руку ей на плечо. – Освободиться. А он сумел меня поймать и запереть здесь навсегда. Меня приравняли к нулю навечно.
– Но гнездо выживет, братец, – ответила она.
Её голос с каждым днём становился мелодичнее. Леандр обнял сестру.
– По крайней мере ты со мной, Гнёздышко. Хватит и этого.
Но она выпуталась из объятий и с грустью посмотрела в его усталые глаза.
– Нет. – Она вздохнула. – Я ухожу. Я должна уйти. У меня есть долг, как и у тебя. Ты спас королевство своего отца, а я должна позаботиться о землях своей матери. – Её взгляд опять скользнул к дальним холмам, точно они были тенями, что охотились за ней. – Когда летала, я знала, кто я и что мои крылья… взяты взаймы, но не думала об этом. Не знаю, почему сохранила разум в теле птицы, – заклинание не должно было так подействовать. Но я любила ветер, и луну, и мою мать. Без причины – просто любила. Теперь причин предостаточно, и все они сходятся в пещере где-то в тех холмах, и лишь у меня есть право войти в неё. Ты рождён для престола – тебя назовут Королём-калекой, утратившим благословенные пальцы. Появятся истории, а затем легенды. Тебе от этого не сбежать, как мне не сбежать от воспоминаний о ветре, что ласкал мой живот. Вероятно, ты сможешь что-то изменить и остаться принцем, хотя все, у кого есть голос, будут звать тебя королём. А возможно, и нет. Но я не могу остаться, чтобы учить тебя. Я утратила всё, что имела, и мне нужно отыскать это снова у бедных потерянных Звёзд. Мы оба должны отыскать свой путь к силе и научиться с ней обращаться. Твоё гнездо не может быть моим.
Леандр сдерживал слёзы, грозившие вот-вот упасть на изящное плечо сестры.
– Но ты уйдёшь не сразу, верно? – спросил он сдавленным голосом. – Я этого не вынесу. Здесь так одиноко! Со временем я научусь держать власть, как уголь, и не обжигаться. Но ты должна остаться ещё хоть ненадолго, ради меня. Мы должны быть семьей, хотя бы на некоторое время. Хоть чуть-чуть.
Гнёздышко повернулась к нему с улыбкой ярче десятка полуденных солнц.
– Конечно, я побуду с тобой, мой единственный брат, мой родной.

Утром она исчезла, словно её и не было. Король в одиночестве стоял посреди огромного зала цвета слоновой кости.
Мальчик уставился на девочку, чьё лицо обрамляла россыпь белых звёзд, что стелились по небу как небесная пена. Её глаза были закрыты; она была очарована собственным голосом, который двигался вперёд-назад по его коже, будто смычок по струнам скрипки. Если бы она приказала ему отрастить крылья точь-в-точь как у Гнёздышка и вылететь из башни, он бы выпрыгнул из окна, лишь бы она не переставала говорить.
Завороженный закрытыми глазами и водопадом тёмных волос, мальчик вновь осмелился лечь рядом с ней на широком каменном подоконнике и положить голову ей на колени, точно молодой лев, поддавшийся укротителю.
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
Леандр смотрел на труп своей сестры, который за время его странствий ничуть не изменился и не поддался гниению: кожа была по-прежнему бледной, а серебристо-блестящие волосы остались безупречными и прекрасными. Его руки коснулись её тела, и оказалось, что оно холодное, но не окоченелое.
Принц завернул сестру в алую шкуру, как велела мать. Он позаботился о том, чтобы скрестить ей руки на груди, и свернул волосы, чтобы они не приклеились к шкуре. Согнул её ноги и протянул под ней красную ткань. Когда спрятал последний уголок, вся кожистая штуковина оказалась жесткой и круглой, словно яйцо, и на летней траве она светилась, как зловещая звезда. Леандр рухнул у ствола узловатого дуба, весь мокрый от пота.
Нож опустилась на колени на тёмную траву, положив рядом с собой что-то, завязанное в узел. Её суставы трещали, как окна, открытые зимой. Она погладила яйцо и прижалась к нему, обняла и что-то ласково проговорила. Потом закрыла глаза, и принцу на миг показалось, что старуха плачет, – но, конечно, этого не было.
Она вытащила длинный нож из одного из чехлов на поясе и положила его на колени. Вгляделась в отражение луны на металле.
– Шкура хорошая, мой мальчик, ты отлично справился. Но она её не убила, так что недостаточно лишь завернуть тело и ждать пробуждения. Недостаточно! Раб так и не смог нанести достаточно глубокую рану, а я добралась до нужной глубины лишь однажды. В этот раз я за всё отплачу – заберусь достаточно глубоко, чтобы вернуть её назад; достаточно глубоко, чтобы заполнить её скорлупу звёздным желтком; достаточно глубоко, чтобы моя девочка вернулась домой.
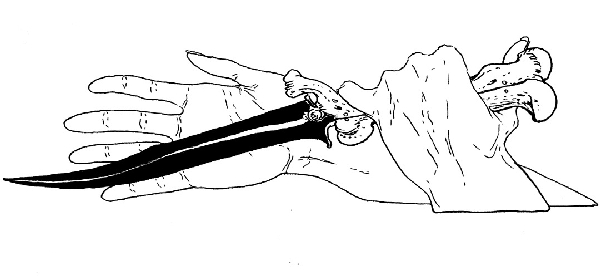
Поначалу Леандр не сообразил, о чём она, – как все принцы, он с неохотой уделял внимание тому, что не лежало перед ним, разборчиво написанное чернилами трёх разных цветов. Но, когда Ведьма подняла лезвие, он всё понял и рванулся вперёд, чтобы остановить её, но она была быстрее и вонзила нож себе в грудь до того, как сын успел схватить её за руку.
– Достаточно! – рявкнула она и одним жутким движением вскрыла свою грудную клетку прямо над алым яйцом. Кровь хлынула на шкуру, тёмная как темница, точно гусиный глаз. А потом он пришел, тот самый свет… Сначала по капле, потом тонкой струйкой, просачиваясь в яйцо, будто сметана в сосуд. Оно побелело от кровесвета и засветилось, будто лампа. Нож рухнула на скользкую поверхность и сползла на траву; её тело было пустым, как дыра в небе.
Вскоре свет полностью впитался в шкуру, и она опять стала тёмной и красной на погруженной в тень траве. Через несколько мгновений из скорлупы послышались жуткие звуки, царапанье и плач, тяжелое, постепенно ослабевавшее дыхание. Леандр хотел разломать яйцо, упасть навзничь и оплакать свою мать. Раздираемый желаниями, он ничего не сделал – лишь стоял как вкопанный и беспомощно наблюдал.
С громким треском, будто сломалась дворцовая колонна, сквозь скорлупу пробилась белая рука и вцепилась в скользкую поверхность. Затем появилась девушка с волосами, унизанными осколками багровой скорлупы, мокрая и блестящая от жидкости, что была внутри яйца. Она выбралась, работая болезненно тонкими руками и ногами. Ступив на траву, девушка заметила свою изящную ступню и застыла. Она вытянула вперёд руки и уставилась на них. Потом заметила стоявшего под деревом Принца.
Гнёздышко открыла свой человечий рот впервые и закричала так громко и страшно, что соловьи замертво попадали с ветвей.
Она всё кричала и кричала, её грудь часто подымалась и опускалась, крики заполнили ночь. Леандр поспешил к ней, и она безвольно повисла в его объятиях, продолжая смотреть на свои руки. Он подумал, что девушка не может говорить – ей ведь не знаком ни один язык! – и принялся ласково шептать, что всё в порядке, она в безопасности, и он её брат. Когда она стала вырываться на свободу, Принц обвязал её тонкую талию остатками шкуры, на манер дамского кушака. Она полоснула его ногтями, что-то невнятно протараторила и снова закричала. Лишь увидев тело Ведьмы, девушка смолкла и потянулась к нему. Продолжая поддерживать хрупкую сестру, он помог ей подползти к неподвижной старухе.
Гнёздышко рвалась к Нож, не умея толком ходить и выкрикивая единственное слово, по которому Принц понял, что она умела говорить. И не только говорить. Заклинание тут было ни при чём: она сохраняла разум в птичьем теле с первого дня жизни.
Гнёздышко упала на грудь Нож, всхлипывая и повторяя хриплым голосом:
– Мама, мама, мама…
Они лежали рядом на сырой земле, Нож не просыпалась.
Гнёздышко тоже не желала двигаться. Она запустила пальцы в волосы матери, а Леандр запустил пальцы в её волосы. Дикие гуси по одному выпрыгивали из дверей старой хижины и, переваливаясь, шли к Нож и остаткам шкуры-яйца. По одному они клали жемчужно-серые головы на её тело, каждый находил себе место на её ещё тёплой коже. По одному гуси закрывали глаза, не желая расставаться со своей хозяйкой в самом конце. Нож будто парила среди моря крыльев, смерть очередной птицы всякий раз забирала у Леандра и Гнёздышка то, что могло бы напоминать им о матери.
Леандр отпустил руку сестры и развернул узел, лежавший рядом с телом, недавно бывшим ведьмой по имени Нож. Внутри он нашел краюшку хлеба, бугорчатую и странной формы, с коркой уродливого красноватого цвета. Она была не свежая и внешне не производила впечатление вкусной, но Леандр понял – это тот самый хлеб, замешанный его изувеченной рукой на его крови и слезах, что никак не могли остановиться. Он с самого начала был создан для этого утра. Разломив краюшку пополам, Принц обхватил дрожащую, ошеломлённую Гнёздышко и начал медленно проталкивать маленькие кусочки хлеба сквозь её трясущиеся губы. Она кривилась, но глотала, словно умирала от голода. Он тоже съел немного. Вкус был странный, на языке осталась горечь.
Через какое-то время они покинули мать и ушли навстречу лунному свету.
Гнёздышко стояла у ручья и мыла свои новые руки – мыла так, что они кровоточили. Брат подошел к ней и осторожно взял её ладони в свои. Они были липкими от крови, бежавшей струйками, а взгляд у неё был безумный.
– Гнёздышко, ты ранишь себя. Нам нужно идти в Замок. Если повезёт, проберёмся внутрь сегодня ночью.
Девушка яростно затрясла головой – на тёмных волосах ещё виднелся серебряный кровесвет, и она казалась старухой с сединой в чёрных кудрях. Голос Гнёздышко был как испорченный камертон, точно арфа, разбитая в щепки на пустом берегу.
– Я. Не. Пойду. Не туда. Не в гнездо.
– Нож просила нас…
– Мать!
– Мать просила нас, взяла с нас слово.
– С тебя.
– Ладно, она взяла слово с меня. Значит, пойду я. Ты бросаешь её теперь, раз она умерла? Это мой отец – не твой. В чём дело?
– Бросаю её? Бросаю? – Она ударила себя кулаком в грудь. – Моя мать! Моя стая!
– Да, но моя стая ведёт себя так. Стая принцев. Нам нужны Подвиги. Мы даём обеты. И иногда убиваем Королей. Это наш долг.
– Не мой. Ты не мой птенчик. Не мой долг. – Она выплюнула последнее слово, выхаркнула его откуда-то из глубины своего тела. Посмотрела на брата, окинула его взглядом с головы до пят. Немного успокоилась, собралась с мыслями. – Ты один, – прошептала она. – Я одна. Мать была одна. Ничего не меняется. Я тебе расскажу почему. Когда я была не я. Когда я летала…
Сказка Гусёнка
Ночь за ночью под луной я умирала от голода, одна, без стаи. Я помнила мать и знала, что я не-птица. И всё-таки очень хотела есть; даже думать не могла, так меня мучил голод. Рядом с гнездом были Соколы. Рабы-охотники. Я полетела за ними, подбирая то, что выпадало из их клювов. Они кричали на меня из-под кожаных масок, кровавили мне крылья, пытались выцарапать глаза. Я была не такая, как они. Не их долг. Я ещё не умела хорошо летать, но училась. Я следила за чайками, скворцами, дятлами-сокоедами и колпицами: от них научилась и пикировать, и делать виражи, и ускоряться, и приземляться.
Никаких слов – только полёт и ветер вместо матери.
К Воронам отправилась я, они не приняли меня.
К Воробьям отправилась я, они не приняли меня.
К Ястребам отправилась я, они не приняли меня.
К Орлам отправилась я, они не приняли меня.
Я была одна. Все гуси улетели на юг; никого не осталось, чтобы взять меня с собой. Нет стаи – нет еды. Я была совсем маленькая, а странствия увели меня далеко от гнезда. Я спала в дуплах, на ветру с восточной луны, мёрзла и боялась, боялась Соколов и теней, что прятались в гнезде. Кричала во сне и тихо плакала.
Однажды утром, когда мне исполнился… год? Два? Время для гусей течёт по-другому. Пернатый великан, размером больше Сокола, нашел меня на дереве, где я прятала голову под крыльями. Он взъерошил мои перья своим тёплым клювом, и я осмелилась посмотреть ему в глаза. Они были красные, оранжевые, белые – цвета огня.
– Почему ты плачешь, малышка? – спросил он, и его голос был подобен солнечному отблеску на крыле.
– Я одна, – ответила я и задрожала, испугавшись больших бронзовых когтей.
– Я тоже, – сказал он. Перья у него были такие же, как глаза, – цвета углей и языков пламени, пожирающих зелёные ветви, а хвост напоминал золотой водопад. – Если хочешь, можешь пойти со мной, тогда мы оба будем не одинокими. Я научу тебя ловить кротов, когда они выбираются на солнце; воровать вишни из сада так, чтобы тебя не подстрелили, и покажу источники с чистой водой, которые не охраняют собаки.
Я вдохнула холодный воздух – но исполин был тёплый, как трескучий огонь в очаге, и мои перья больше не дрожали от холода. Я была голодна и не знала, что такое вишня; перебирая перепончатыми лапами, выбралась из дупла на ветер.
Мне было нечего сказать. Я знала лишь о червях и кусочках мяса, которые роняли Соколы, и о том, что в некоторых дуплах живут другие птицы. Огненнокрылый прочистил горло.
– Ты, наверное, не просто одна, а заблудилась, – вежливо заметил он.
– Да… наверное. Кажется, когда-то у меня была мать, и она отослала меня прочь, но я мало помню. Ищу таких, как я. Соколы клюют меня, вороны обзывают. Я не нашла никого с серыми перьями, перепончатыми лапами и длинными шеями.
– Ну что ж, – с серьёзным видом сказал птица, – тогда вдвойне важно, чтобы ты научилась воровать, иначе умрёшь от голода, прежде чем отыщешь своих серокрылых, перепончатолапых и длинношеих собратьев. Тебе повезло, ты повстречала Жар-Птицу. Они – лучшие из всех птиц, а я – лучший среди них. Ты лишь ребёнок, и за тобой надо приглядывать хотя бы до той поры, пока не наступит лето и не вернутся гуси. Потому что ты, птенчик мой, гусыня. По крайней мере, мне так кажется. Я вообще-то раньше ни одной гусыни не видел. Не переживай, серокрылая малышка, я научу тебя всему, что нужно знать, и расскажу о том, как совершил свою лучшую кражу…
Сказка Жар-Птицы
Зови меня Фонарь – и не смейся! Я всегда был ласковым, и моя мать решила, что лучше назвать меня в честь маленького огонька в стеклянном сосуде, а не в честь пламени, пожирающего деревья, детей и житницы. Обычно Жар-Птицы не склонны общаться с себе подобными, но я любил свою семью и оставался в гнезде намного дольше прочих гордых алых селезней.
Я был ласковым – и при этом лучшим вором в стае: мог схватить мельчайшее горчичное зёрнышко с ладони принцессы, и она бы заметила пропажу, лишь возжелав посадить его в своём саду. Однажды, когда моя кузина высиживала кладку из восьми оранжевых яиц – немаленькую! – в своём гнезде из пепла и жаловалась на то, как ей хочется вишен, чем ярче, тем лучше, меня попросили раздобыть их, пока сёстры не заклевали её до смерти, исстрадавшись по тишине. Вишни! Только особенные, сладкие и блестящие, могли насытить мать восьмерых.
Я любил свою кузину, хоть её карканье и резало слух… Но разве у наседки нет права желать странного, когда она в гнезде и на яйцах? Я полетел разыскивать ягоды.
В одном отдалённом краю, среди пустыни, жила сахиба, которую в те времена звали Равхиджа; её сады были так же знамениты, как и её красота. Она посвящала всё своё время уходу за деревьями, которые рано или поздно начинали плодоносить; плоды были без единого изъяна или пятнышка, один слаще другого, блестящие и тяжелые. Я назвался умелым вором, но ещё никто не сумел забраться к Равхидже, чей ум был не менее знаменит, чем сады. Именно её вишен возжелала моя кузина, и я решил, что стану первым, кто сумеет сделать невозможное.
Ни мой размер, ни цвета не позволяют назвать меня незаметным. В моей профессии это помеха, но я справляюсь, как могу. Как только солнце втянуло свои тёмно-голубые когти и последняя вспышка верного света скрыла моё оперение от любого случайного взгляда, я легко перепрыгнул низкую кирпичную стену. Мой хвост волочился по мягкой красной почве, пока я крался, то перепархивая, то переступая лапами сквозь ряды деревьев, выискивая одно достаточно яркое, чтобы можно было спрятаться. Там росли деревья хурмы, яблони, лаймы и пеканы, гранаты, инжиры, апельсины и танжерины, груши и абрикосы, авокадо, точно жирные изумруды, и сливы, как пурпурные кулаки. Все плоды чуть не лопались от сока, прячась в блестящей зелёной листве, полностью созрели, хотя, безусловно, никак не могли появиться одновременно и рядом друг с другом. Ведь одни растения предпочитали мороз, другие – полыхающее небо. Вишни, вот они – здоровенные, будто гигантские костяшки, и краснее моих собственных перьев! Я сорвал их множество, пока шел, и придержал в своём зобу как аистиха, отбирающая рыбу для птенцов. Потом взлетел и схватил лучшую ягоду, не потревожив потолок из листьев и оставшись необнаруженным. Я был золотой искрой среди зелени, быстрой как мысль. Мне это даётся легко – дело привычки. Обещаю, кулёма, ты тоже этому научишься!
Но я должен был отыскать место, где можно спрятаться до тех пор, пока снова не станет темно и не удастся перепрыгнуть через стену, не привлекая к себе внимание Равхиджи. Для этого подходили лишь некоторые деревья – у Жар-Птицы, увы, необычное оперение. Но судьбе было угодно, чтобы в самом центре сада обнаружилось самое удивительное дерево из всех, что мне доводилось видеть. Оно было создано для меня, подходило по цвету и плодам, будто я вырос среди его ветвей и улетел вместе с ветром однажды осенью – так давно, что всё забыл.
Это было тыквенное дерево. Точнее говоря, я счёл его таковым, хотя все другие известные мне тыквы росли на лозах, стелившихся по земле. Стволом ему служила тёмно-оранжевая горлянка, изогнутая спиралью, с толстым основанием, из-под которого высовывались золотые корни, и тонкой верхушкой; кора была изрезана глубокими бороздами, уходившими до самого верха. Тут и там имелись ветви, желтые с бледно-зелёными кончиками, каждая толщиной с талию. Всё дерево опутали красно-золотые лозы, с которых свешивались массивные тыквы, будто лампы, и каждая светилась, словно там и впрямь жил маленький огонёк. Это был праздник, блиставший посреди сказочного сада, как танцовщица в толпе безвкусно одетых женщин, не способных двигаться под музыку.

Я полетел к нему, как летят навстречу любви. Это дерево спрячет меня, убережет: настолько яркое, что в его кроне я стану маленьким коричневым воробьем. Оно горело почти как полыхающие деревья моей пустыни, но его свет был нежным и мягким, и само дерево не сгорало. Ни один садовник не обнаружил бы меня среди этого золота. Я в благоговении обошел дерево по кругу, а потом взлетел к мясистой вершине. Но вдруг меня пронзила жуткая боль, от которой я кубарем полетел с безупречных ветвей. Я испугался, что настал конец, меня пронзил какой-то жуткий трезубец. И я упал – какой позор для Жар-Птицы! – прямо в переплетение мерцающих корней. Когда перед глазами прояснилось, я увидел перед собой две безупречные ножки, зелёные, точно молодые побеги.
Равхиджа наклонилась ко мне, вертя в изящных пальцах длинное рубиновое перо с каплей тёмной крови на кончике стержня.
– И зачем же тебе понадобились мои вишни, милый попугайчик? – сладким голосом спросила она.
Равхиджа выглядела в точности как тыквенное дерево. Её волосы ниспадали до щиколоток витыми шнурами, мясистыми и оранжевыми, а одежду заменяли широкие припорошенные пылью листья, которые покрывали каждый дюйм тела, обрамляя лицо. Оно было красное и блестящее, точно рассечённая тыква.
– Почему ты пошел на такой риск ради нескольких вишен? Ведь их можно купить где угодно. Зачем ты пришел воровать у меня?
Я покраснел, насколько это возможно для Жар-Птиц, и без того наполовину багровых.
– Моя кузина жаждет этих вишен. Представь себе, она сидит на кладке из восьми яиц, а твои плоды знамениты. Конечно, я мог бы их купить, но тогда был бы лишён возможности похвалиться.
Волшебный лоб нахмурился, и Равхиджа выпрямилась, всё ещё держа моё перо в опущенной руке. Я неуклюже поднялся, а она поглядела сквозь зелёные ресницы на великолепное дерево. Она так стояла долго, будто они с деревом о чём-то тайно беседовали. Наконец заговорила, и её голос был как мёд с перцем или густой сладкий сок:
– Если верить слухам, раз я взяла перо из твоего хвоста, могу отдавать тебе приказы. Это и впрямь так?
Разумеется, она всё знала. Удача была не на моей стороне.
– К несчастью для меня, да.
– Что бы ты сказал, уточка моя, если бы я предложила сделку, а не просто начала тобою распоряжаться?
– Зачем тебе это делать, если ты знаешь, что я не смогу отказать? – спросил я, всё ещё чувствуя дурноту после утраты пера.
Равхиджа улыбнулась – её зубы тоже были бледно-зелёными, цвета грушевой кожицы.
– Это всё манеры, вежливость. Честь! Дело в том, что я – в отличие от некоторых – склонна добывать желаемое путём справедливого обмена, а не с помощью жульничества. Сорняк берёт то, что ему не принадлежит, и производит лишь новые сорняки; яблоня берёт то, что ей дают по своей воле, и возвращает сидр, пироги, пирожные и варенье.
Я хотел возразить, что нет вины сорняка в том, что его семя ветром занесло в яблоневый сад, и вообще существуют растения, чья полезность никоим образом не связана с пирогами. Но передумал.
– Что ж, – сказал я, вычищая грязь из крыльев, – о чём речь?
– Ты получаешь любой из моих фруктов в обмен на тот, которого у меня нет.
Тут я насторожился, мои оставшиеся перья встопорщились от интереса.
– Мне придётся его украсть?
Она засмеялась, её наряд из листьев зашелестел.
– Боюсь, ты можешь оказаться прав. Но по крайней мере ими никто не владеет, так что кража будет таковой лишь по названию – в том смысле, что, собирая фрукты с дерева, ты его обкрадываешь. Мне нужны семена иксоры, которые похожи на вишни, так что я не буду возражать, если ты возьмёшь несколько настоящих вишен для своей кузины. Иксоры растут в пустыне под названием Пороховая бочка, их ветви горят днём и ночью. Но я думаю, что для тебя это не проблема.
– Нет, моя госпожа, – ответил я с усмешкой. – Ещё не зажегся огонь, что сможет мне навредить.
Я не хотел говорить Равхидже, что знал об иксорах всё, так как родился в их обжигающей тени и что именно на пепелище одного из них меня ждала кузина.
– Ты согласен на сделку?
– Да. Ты отдашь мне перо, раз мы теперь стали хорошими друзьями?
Она посмотрела на длинное красное перо, потом снова на дерево.
– Нет, – медленно проговорила она. – Я предпочитаю честный обмен, но не стоит полностью доверять вору. Ты получишь его назад, когда я получу свой фрукт.
Я поскрёб когтистой лапой землю у золотых корней. Попался так попался!
– Тогда мне стоит отправиться в путь, пустыня далеко. Но должен заметить, прежде чем улечу, что никогда не слышал о тыквенном дереве, ни в одном уголке мира. Поскольку всем известно, что тыквы растут на лозах, я подозреваю, что ты сотворила злое колдовство, чтобы превратить одну такую лозу в дерево, – значит, мне тоже не стоит тебе доверять.
Равхиджа снова прислонилась к необычному, хотя и симпатичному на вид, дереву и широко ухмыльнулась. У меня на глазах – я не лгу тебе, маленькая гусыня, – она наклонялась всё сильнее, пока оранжевый ствол не поглотил её целиком, так что лишь зелёные пальцы остались снаружи.
– Я собираю редкие вещи, – раздался её голос, чуть приглушенный мякотью ствола, – потому со мной произошла неприятность.
Голова Равхиджи вновь появилась среди высоких ветвей, и она понемногу выбралась – длинные жгуты её волос натягивались, прежде чем с чпоканьем выскочить на свободу и упасть почти до земли. И вот она удобно устроилась на ветке, между двумя совсем маленькими тыковками.
– Видишь ли, – сказала она, вздыхая, – когда становишься знаменит благодаря разнообразным товарам, к твоим дверям начинают приходить очень разные люди. Они требуют удовлетворить их просьбы, какими бы ужасными те ни были.
Сказка Садовницы
Я дерево.
Впрочем, с той же лёгкостью можно сказать, что это дерево – я. Я родилась, когда дерево, что росло до него, уронило в землю семя; я открыла глаза под землёй и ею питалась, она была моим пирогом и вареньем. Ещё была чудесная вода, сочившаяся сквозь землю, как мёд сквозь сито. Меня всё время мучила жажда.
И вот однажды я проросла зелёным листочком, развернула его, точно открыла дверь, и вышла навстречу солнцу ребёнком, похожим на любого другого ребёнка. Но я по-прежнему спала внутри дерева по ночам, пока оно росло и пока я росла. Мы возлюбили друг друга, как конечность торс, и были счастливы вместе.
Однажды мимо кирпичной стены шел бродячий торговец с мешком, полным чудес на продажу. Я подбежала к нему – раньше никогда не видела людей – и спросила, как его зовут, из какого он города, чем занимается, сколько у него братьев и сестёр и прочие вещи, которые любопытный ребёнок желает узнать о незнакомце. Он был очень добр и предложил мне перебраться через стену, чтобы поглядеть, что он продаёт. А продавал он семена.
Яблони, хурма, грецкие орехи, лимоны, миндаль, финики и вишни – всё, что можно себе представить; а я уж точно и помыслить о таком не могла. Я хотела перейти через стену, как некоторые стремятся отправиться на войну, а кто-то – к женщине. Но у меня не было денег, я ведь росла деревцем и проросла недавно. Торговец пожалел меня, маленькую неряху с оранжевыми волосами и зелёными зубами, нищенку, у которой было лишь несколько акров пустой земли. Он присел, так что наши лица оказались вровень, и сказал, что, если я отправлюсь вместе с ним торговать, чинить, менять и делать прочие вещи, которыми занимаются путешественники, он станет платить мне один грош в месяц, купит настоящее платье и у меня будут все семена, какие только пожелаю.
Я решила, что это прекрасный план, перепрыгнула через стену, точно шустрая галка, и рухнула замертво.
Я не умерла, но это не имеет значения. Когда я пришла в себя, уже была глубокая ночь, и торговец перенёс меня обратно за стену, уложил на чахлую траву и сунул мне в руку мешочек, битком набитый семенами.
Мне не суждено было пересечь стену, как дереву не суждено вытянуть корни из земли и отправиться на телеге в другой лес. Неприятное открытие… Я была любознательна, как любое дитя, но мир за кирпичной стеной оказался для меня недосягаем.
И тогда я его вырастила. Яблони, хурму, грецкие орехи, лимоны, миндаль, финики. И конечно, вишни. Всё, что ты можешь себе представить, и многое из того, что я не могла представить себе. Времени у меня было достаточно – деревья живут долго. Я изучила ирригацию и аэрацию, трехчастное поле и целину, удобрение и обрезку, науку прививания. Всё это время тыквенное дерево росло и плодоносило, и, если я подкармливала его мякотью другие деревья, они начинали плодоносить круглый год. Акры запустевшей земли превратились в лес и самый прекрасный на земле сад, и в самом его сердце стояло дерево, которое суть я, и я, которая суть дерево. Все мы росли вместе и были счастливы.
Потом к нам стали приходить люди. Это были не добрые торговцы с мешками семян для маленькой грязнули. О, некоторые были достаточно добры, выпрашивая корзину груш или бушель фиг для тех или иных целей. Но зачем мне деньги, если я пью дождь и питаюсь землей? Наконец они вынудили меня начать торговлю. Фрукты в обмен на семена – если у них получалось принести мне то, чего в моём саду не было, я давала им всё, чего они хотели. Мой сад сделался ещё пышнее и красивее, появились и новые гости. Они рассказывали мне о мире, а я запоминала каждое слово, как усердная ученица.
И вот трижды две недели тому назад к моей стене пришел человек. Он мне сразу не понравился, но разве может дерево судить о людях по внешнему виду? Дуб может быть кривым, но сердце у него всё равно доброе и полное сока. Его волосы напоминали железо, кожа – кору лещины; одежды были ярко-красными, будто малиновка, что чирикает на яблоневой ветви. А шея бледная, синеватая, словно она не знала солнца с того момента, как он появился на свет из материнской утробы.
– Доброго тебе дня, Равхиджа, – сказал он и поклонился. Я к тому времени давно перестала удивляться, что всякие незнакомцы знают меня по имени. – Я пришел с длинным списком.
Я упёрлась ладонями в бёдра, на которых росло моё собственное красивое платье, хотя, должна признаться, иной раз с тоской вспоминаю муслин, обещанный торговцем.
– Если тебе есть что предложить на обмен, я постараюсь отыскать то, что тебе нужно.
– В этом всё и дело. Видишь ли, я пришел не торговать, а заявить о своих намерениях. Зачем отказываться от того, что тебе принадлежит по праву, если можно просто взять желаемое? – Он щёлкнул пальцами, и над его ладонью появился синеватый огонёк, который потрескивал и шипел. – Думаю, дереву хватит и такого объяснения. Никто из нас не хочет жертвовать собой. Впусти меня.
Разве у меня был выбор? Он бы сжег всё дотла или, если ему была известная моя природа, перетащил бы меня за стену и в любом случае всё разграбил. Я провела его по саду, как если бы он был хозяином, хотя ничья нога, кроме моей, ещё не ступала по этой земле. Я попыталась дать ему всё по списку – очень странному списку, в котором имелось множество трав и фруктов, коры и сока, даже образцов почвы. У меня было почти всё: слава моя родилась не на пустом месте.
Но последний пункт, ох…
– Думаю, понятно, что иксоры у меня нет, – прошептала я, избегая взгляда незнакомца и сторонясь танцующего пламени в его руке. – Ты бы почуял запах дыма, если бы оно у меня росло.
– Но мне сказали, что у тебя есть всё, что растёт под солнцем. Мне нужна иксора, без неё остальное бесполезно.
– Зачем тебе всё это? – жалобно спросила я, стараясь не плакать.
– Дорогая моя госпожа, я Волшебник. Хватит и того, что мне это требуется. Некоторые рождаются с магией, которая бьется внутри них, как муха, пойманная в стакан. Другим так не везёт.
Сказка о Мальчике, который нашел Смерть
Я давным-давно понял, что лучше быть Волшебником, чем не быть им. Лучше запереться в комнате, похожей на кухню, и заварить себе новый мир в стеклянном сосуде, чем ковыряться в грязи ради жалких корнеплодов или таскать молоко, надоенное из костлявых тёлок, и чесать щёки, пока они не станут красными, как свежее мясо.
Видишь ли, я никак не мог перестать чесаться.
С самого рождения кожа всё время слезала с меня бледными чешуйками, будто я вот-вот сброшу её целиком, и это было очень больно. И чесание на самом деле не помогало, но я не мог остановиться и царапал руки, грудь, шею, щёки, даже веки – на мне не было ни единого места, которое не полыхало бы от зуда.
Люди охали, увидев меня, – мальчика, с которого слезала кожа, и её тонкие лохмотья развевались, словно бумажные ленты на суровом ветру. Доктора, ведьмы и даже волшебники приходили один за другим, но никто не смог охладить моё полыхающее тело. Наконец мать завернула меня в пелёнки, привязала руки к доскам, чтобы я не мог чесаться, и прислонила меня к влажной стене погреба. Там я и рос; кормили-поили меня с ложечки морковным пюре и морковным супом; морковкой на пару, печёной, сырой, жареной и сушеной; хлебом с морковной корочкой и чаем из цветов моркови. На наших полях росла только морковь, и дни мои были заполнены оранжевыми корнеплодами, которые испуганная мать ложкой засовывала в мой шелушащийся рот.
Я висел на своих досках, и по моей коже будто ползали мурашки. Дыхание стало неглубоким и быстрым, мне всё время не хватало воздуха. Став юным мальчиком, я по-прежнему висел на стене, как портрет самого себя; моя кожа затвердела, превратившись в подобие чешуи, все волосы выпали, но зуд и жжение не прекратились. Однако я по-прежнему не мог чесаться. Легчайшее дуновение морковного ветерка через окно вызывало страшные муки, лишая воздуха и иссушая кожу сквозь бинты.
– Смерть у окна, – шептал отец матери после трапезы из морковного супа и морковной ботвы. Я глядел, но сквозь закопчённое окно не видел ничего, кроме болезненной луны, похожей на семечко в чёрной борозде.
– Он у дверей Смерти, – шептала мать отцу, когда мои вздохи сделались редкими и свистящими, точно сорняки на грядках. Я глядел – но меня держали в спальне, где была одна дверь – толстая, покорёженная, наша собственная.
А когда я был совсем плох и из моего рта на пол текла оранжевая рвота, родители качали головами и говорили:
– Смерть за его плечом.
Я извивался, чтобы увидеть эту тень за моей спиной, но там никого не было.
Вскоре после того, как мне исполнилось двенадцать, всё наконец прекратилось. Будто странное существо коснулось меня в ночи, и моя чешуйчатая, шелушащаяся кожа смягчилась. Я опять начал дышать полной грудью, со временем у меня даже отросли волосы. Казалось, я никогда не болел. Моя мать, чью радость можно было измерять в бушелях, развернула пелёнки, отвязала мои руки от досок и увидела, что её сын вырос, – раньше она могла видеть меня лишь по частям, когда меняла повязки. Я был темноволосым и темноглазым, кожа моя походила на поле после засухи, но шрамы начинали бледнеть. Однако мой взгляд мать не могла вынести.
Родителям не терпелось отправить меня работать в поле, ведь было пропущено столько лет, но я перестал чесаться не для того, чтобы начать ковыряться в земле.
– Все эти годы вы говорили, что Смерть рядом, но я никого не видел. Прежде чем посвятить свою жизнь морковке и коровам, я разыщу Смерть и спрошу, отчего я не понадобился ей, раз она столько лет жила в моём доме и висела на тех же досках, что и я.
Мои родители обменялись испуганными взглядами, решив, что за время болезни их сын сошел с ума.
– Смерть нельзя искать, – сказали они. – Она сама всех находит. Радуйся, что вы с нею разминулись, и научись выдёргивать корнеплоды из земли так, чтобы они не ломались.
Но у меня был разум ребёнка, и в моём сердце Смерть была высоким человеком в чёрном, который, возможно, ездил верхом на чёрном льве – я никак не мог решить. Раз она была рядом и видела мои страдания, мы точно подружимся. Ведь она успела хорошо меня узнать. Я бы спросил её: раз мы друзья, почему она позволила мне и дальше гореть, а не забрала с собой?
Родители запретили мне думать об этом, и я поступил разумно – выбрался из окна, когда мир погрузился во тьму, и пробрался через поля молодой моркови. Возможно, они скучали по мне, даже плакали. Я не знаю, потому что не вернулся.
Я следовал к своей цели самым логичным образом – искал в тех местах, где Смерть бывала чаще всего. Изнурённые болезнью мужчины и женщины, мертворождённые дети, зачумлённые дома и богадельни, поля битвы, если мне случалось их найти и пробраться вдоль линии фронта в фургоне с провизией, в поисках солдат с самыми тяжкими ранениями. Я даже подружился с отравителями, чтобы быть рядом с их жертвами в последний момент. Я был изобретателен, а моё молодое тело точно навёрстывало упущенное за время, проведенное привязанным к доскам. Я был неутомим и умнел с каждой ложью, произнесённой в присутствии умирающего, в определенном смысле учился. Рассечённая и гниющая плоть уж точно научила меня большему, чем морковь и дождевая вода.
Но Смерть я не нашел.
Я спрашивал каждого доктора и повитуху, солдата и наёмного убийцу. Все говорили одно и то же:
– Не человек ищет Смерть, а Смерть находит человека.
Наконец, сделавшись длинным и упругим, как ивовый прут, я забрёл в королевство, где полыхающее солнце казалось немыслимо красным, в джунглях всё хлюпало от сырости, король был воплощенным ужасом, а дороги выглядели полосами грязи на зелёном фоне. Неподалёку от столицы я промок до пояса, пробираясь через кустарник с широкими листьями, с которых на меня лилась илистая вода. Дорога была ненамного лучше леса, и я пребывал в дурном настроении, когда меня вдруг нагнал незнакомец.
– Здравствуй, мальчик, – сказал этот коротышка, почти гном в цветастом наряде и с волосами, уложенными замысловатым образом, с широким железным ошейником на болтах, закрывавшим всю его шею и часть плеч. Щёки у него были круглые, голос – грубый, как старый столб от забора. Он кивнул, приветствуя меня. – Ты паломник?
– Конечно, нет, с чего вы взяли? – резко бросил я в ответ.
– Только паломники следуют этим путём. Думаю, им кажется, что так они сражаются с трудностями, как душа с телом, – или другая похожая чушь.
– А вы паломник?
– В каком-то смысле.
– Я просто не знал, что есть другая дорога, – мрачно признался я.
– Много и разные. Вероятно, однажды в мире не останется дорог, которые не будут вести к нашим гаваням, башням и церквям. Кто-то на это надеется. Но если ты не паломник, отчего направляешься в Вараахасинд, Город Вепрей, где восседает на престоле Индраджит?
Я со вздохом пустился в объяснения, ставшие к тому времени привычными, как привычен мне собственный язык во рту:
– Я ищу Смерть. Я был у её дверей, она была у моего окна, стояла за моим плечом, но я не смог её увидеть. Я преследую эту цель уже много лет и прошел полмира, разыскивая её. И не говорите, что мне надо ждать, пока она сама меня найдёт, или что такой милый мальчик должен веселиться и играть. Я это слышал. Кое-что похуже тоже.
Человек призадумался; его ошейник поблескивал на солнце, отражая влажную зелёную тропу.
– Нет, я бы ничего подобного тебе не сказал.
Некоторое время мы пробирались сквозь мерзкую грязь. Потом среди толстых деревьев показались первые городские шпили из выкрашенного в белый цвет кирпича.
После долгого молчания человек проговорил:
– Если бы я сказал тебе, что знаю, где живёт Смерть, и с радостью тебя туда провожу?
Я сглотнул.
– Я бы спросил, что вы попросите в обмен на такую услугу.
– Лишь одно: чтобы ты, выслушав Смерть, выслушал и меня – и решил, кто из нас мудрее.
Конечно, были другие, кто говорил, что знает, и меня вели в тёмные переулки с сырыми тенями, где грабили или избивали и оставляли лицом вниз в бесчисленных лужах. Но я не мог себе позволить, следуя к столь необычной цели, отказывать кому бы то ни было. Я пожал плечами и пошел за ним в город, где навесы из свиных шкур затеняли узкие извилистые улочки, а воздух пах ячменным пивом. Я шел за ним по бесконечным террасам из красного кирпича и блестящим рисовым полям, что громоздились друг на друге на склонах холмов, поросших пышной зеленью; полям, разместившимся меж башен и бараков, везде, где можно было устроить пруд.
У вершины одного из холмов стоял дом, вроде муравейника у невероятной стены, которая отгораживала напоминавший тёмную блестящую луковицу дворец от рисовых плантаций и пыльных террас. Дом был большой и мог бы считаться красивым, если бы сильно не напоминал человечью голову, наполовину закопанную в землю. Его тростниковая кровля ниспадала, точно волосы; окна словно следили за нами, а веки-ставни припадочно дёргались на полуденной жаре.
– Вот Дом Смерти, – заявил мой спутник так небрежно, будто оповещал меня о прибытии в дом пекаря или повитухи.
Мы вошли в большую комнату, напоминавшую кухню, где самые разные вещи варились, сушились и плавали в булькающем кипятке. Коротышка словно забыл о моём присутствии и начал проверять всё, что испускало пар или аромат. Я наконец кашлянул, и он встрепенулся, точно испуганный воробей.
– Ох! Смерть, верно? Да-да, сейчас.
Он ненадолго погрузился в поиски чего-то за большим шкафом, а потом жестом фокусника протянул мне покрытый пылью предмет.
Это была большая стеклянная банка, до краёв наполненная землёй.
– Ты зря потратил моё время, старик, – сказал я со вздохом.
– Вовсе нет, мальчик. Ты желал Смерти? Вот она. Грязь и распад, больше ничего. Смерть всех нас превращает в землю. – Он нахмурился, чуть надул щёки. – Разочарован? Желал увидеть человека в чёрном? Кажется, у меня где-то завалялась мантия. Угрюмое худое лицо и костлявые руки? В моём доме больше костей, чем ты можешь сосчитать. Ты уныло обошел полмира в поисках Смерти, будто это слово значит больше, чем хладные трупы и грибы, растущие из глазниц юных девушек. До чего глупое дитя! – Его движения вдруг сделались стремительными, как у черепахи, ловящей паука, – такой перемены не ждёшь от кого-то медлительного и круглого. Он схватил меня за горло и сжал пальцы так, что я не мог дышать, в точности как в те ужасные дни, когда висел на стене и задыхался. Я свистел и хрипел, колотил его руками по груди; перед моими глазами поплыл багровый туман. – Тебе нужна Смерть? – прошипел он. – Я и есть Смерть. Я сломаю тебе шею и похороню в своей банке с грязью. Убивая, ты становишься Смертью, поэтому у Смерти тысяча лиц, тысяча тел, тысяча взглядов. – Он ослабил хватку. – Но ты и сам можешь стать Смертью, обрести её лик и взгляд. Хочешь сделаться Смертью? Хочешь жить в этом доме и учиться её ремеслу?
Тяжело дыша, я потёр шею и просипел:
– Ты такой же, как другие. Заманил меня в свой дом, обещая мудрость, а наделил тумаками.
– О-о, я совсем не такой, как другие. Я Волшебник, слуга Индраджита, и самая подлинная Смерть, какую только можно разыскать. Можешь и дальше бродить, следуя за призраками, если хочешь, – в конце концов кто-нибудь придушит тебя за кусок еды, и ты познаешь смертную природу человека, скажем так, на практике. Или оставайся со мной и учись, и однажды будешь стоять перед кем-то, как я стоял перед тобой, и он узнает в тебе Смерть, черноглазую и в чёрном одеянии. Может, ты и тупой, но не каждый ребёнок так жаждет стать учеником Смерти. Я предлагаю то, что ты ищешь. Хватит ли у тебя мудрости это принять?
Я уставился в пол и после долгого молчания пробубнил:
– Мне что же, и ошейник надеть придётся?
– Это вопрос выбора, – мягко проговорил он. – И свой я сделал сам. Магия – многогранный камень…
– Моя мать говорит, что магия от Звёзд, а во мне света не больше, чем в нашей корове.
– Некоторые в это верят. А те из нас, кому случалось обнаружить магию в вещах, камнях и словах, траве и листве, давно поняли, что неважно, откуда листва получила свою силу, – главное, что эта сила у неё есть. Некоторые из моих соплеменников, мужчин, женщин и монстров, давным-давно решили обменять свою свободу на власть. Они приняли ошейники, позволили властителям запрячь себя в ярмо. Если тебе нужна власть, ты сделаешь то же самое.
– Магия и есть власть, – возразил я.
– Магия – это магия. Если хочешь сварить зелье от кашля для соседских сорванцов или уберечь волосы от седины, магия к твоим услугам, тебе потребуется лишь чугунок. Но власть, возможность управлять своей судьбой и чужими судьбами, настоящая власть и, несомненно, возможность превратиться в Смерть, быть неоспоримой Смертью в глазах заблудших… Монарх с его возможностями может оказаться полезен, ему доступно куда большее, нежели просто трава и листва.
Я посмотрел на банку с землёй и облизнул пересохшие губы. После стольких лет Смерть опять стояла у моего окна и за моим плечом, а я был у её двери, и на этот раз видел всё, что она предлагала.
Сказка Садовницы (продолжение)
Я украдкой бросила взгляд на его бледную шею. Моё горло было сухим, как берёзовая кора.
– Но у тебя нет ошейника.
Он наклонился ко мне: так близко, что я почувствовала его болезненно-сладкое дыхание, словно цветочный покров на трупе.
– Я провёл там много лет, и кожный недуг меня больше не тревожил. Я учился изо всех сил, потому что одарённостью похвастаться не мог. Знания дались ценой нелёгкого труда, и я берегу их со страстью любовника, часто получавшего отказ. Но однажды, – его щёки вдруг порозовели, – я увидел в тёмном и блестящем Дворце необычную вещь, которую не смог забыть, хотя и пытался. Я завоевал свою свободу, древесное дитя, и теперь ни один Король не назовёт меня сервом. Я разматываю нить свободы в поисках возможности повторить ту вещь и близок к цели – мне нужна иксора, чтобы продвинуться в своём исследовании. Но я устал, Равхиджа. Я устал бродить по миру, это мне не к лицу; уже посетил достаточно много презренных садов в поисках мельчайших семян. Если у тебя нет иксоры, ты добудешь её для меня.
– Сир! – воскликнула я. – Если вы знаете, кто я, знаете и то, что я не могу покинуть сад! Как же я доберусь до дерева, растущего в пустыне?
– Это не моя забота. Я был изобретателен, и тебе придётся. Ты добудешь мне семена, или я сожгу твой сад дотла. – Он машинально поскрёб бледную шею. – Я превращу все деревья в пламенеющие иксоры, и тебя вместе с ними, поскольку сомневаюсь, что ты долго проживёшь после того, как твоё золотое древо обратится в пепел. Смерть найдёт тебя, и её взгляд будет чёрен.
Гость ушёл, унося шесть корзин моих редчайших плодов, и пообещал вернуться осенью, вместе со своим танцующим голубым огоньком. Я же беспомощно стояла у стены.
Сказка Жар-Птицы (продолжение)
– Что за чудовище… – выдохнул я.
Равхиджа уныло кивнула и спустилась с ветви:
– Лето почти кончилось, и у меня нет иксоры. Ничего удивительного. Я пыталась выменять семена, но нет такого храброго человека, который проник бы в сердцевину пылающего дерева, чтобы достать для меня одну маленькую ягодку.
– Нет человека, – сказал я, чувствуя, как внутри меня будто откатился камень, загораживающий вход в пещеру, – но есть птица, и нет в мире существа, более приспособленного к факельным деревьям, чем я. Ты не догадываешься, насколько это просто! Иксора – мой дом, собрать несколько искрящихся плодов так же легко, как склевать кукурузные зёрна из корзины. Даже если бы у тебя не было моего пера, прекрасная хозяйка тыкв, я с радостью отправился бы ради тебя в пустыню.
С зелёными слезами на глазах Равхиджа поцеловала меня в пушистую щёку и напомнила, что следует подождать, пока дерево будет почти мертво, и лишь затем ворошить пепел. Ей нужно было, по меньшей мере, три семечка, а мне по возвращении разрешалось взять любые фрукты. Равхиджа суетилась, точно мать, которая отправляет сына в школу; напоминала о том и этом; предупреждала, чтобы я не обжегся, хотя это было излишне. Прощаясь, я клюнул её волосы – это означает симпатию, моя серощёкая девочка.
По вкусу они были точь-в-точь как тыква.
До пустыни лететь далеко. Много стран надо пересечь, и цвета их столь же разнообразны, как шутовское одеяние. Я следил, как они возникают и исчезают подо мной, высыхая, пустея и превращаясь в песок. Преодолев границу, которая отделяет зелёные края от пустыни, нужно лететь дальше, чтобы достичь белых песков и соляных равнин, где растут иксоры.
Я хорошо знаю те места.
Когда последние зелёные земли остались позади, я почувствовал, что за мной следят. Этому я тебя тоже научу, гусёнок! Возникло тихое и едва уловимое ощущение присутствия нежеланной компании. Любая птица должна уметь это чувствовать, как и отличать ветер, поднимающий к облакам, от ветра, влекущего к воде. Но за мной ещё никогда не охотились так целенаправленно, как в тот раз. Шаги охотника были легче вздохов, и хотя иногда мне казалось, что я его вижу – точку на земле подо мной, – гораздо чаще я чувствовал его в воздухе рядом, и это заставляло беспокоиться.
Зная, что за мной охотятся, я не мог отправиться к гнезду кузины и приветственно прижаться к ней, прежде чем заняться сбором ягод. Я не знал, есть ли в лесу другие деревья, готовые плодоносить. Я много дней летал кругами, увлекая за собой странного охотника подальше от гнездовий Жар-Птиц. Пришлось проложить извилистый путь сквозь пылающие рощицы, на это ушло много дней. Наконец, в обход добравшись до соляных равнин, я увидел то, что хотел, разложенное на белой земле, точно приглашение к пиру.
Я птица неглупая. Охотник устроил мне ловушку, которой – даже не будь у меня задания прекрасной тыквенной девушки – было бы трудно избежать. Ведь на свете нет еды вкуснее, чем та, которой кормит мать. Я поглядел с высоты на фрукты, десятки вишен, которые могли бы пробудить целый лес, и едва не разорвался пополам, стараясь от них отвернуться. И всё же отвернулся.
Странное дело, но в лесу я уже не чувствовал слежку. Это чувство исчезло, растворилось, как ветерок во время шторма. Рядом никого не было: мой преследователь потерял след или сдался. Причина не имела значения, главное, что я мог наконец приблизиться к своей кузине и выплюнуть несколько вишен, спрятанных в зобу, около её гнезда, как аист срыгивает рыбу. Она их склевала, но ягоды оказались горькими. Кузина плакала и не могла остановиться; её слёзы, точно горящее масло, оставляли чёрные пятна на песке рядом с гнездом из пепла.
– Фонарь, птенчики, – задыхаясь от рыданий, проговорила она. – Птенчики! Он их всех забрал.
– Что? – воскликнул я. – Кто забрал? О чём ты, кузина? Твои яйца здесь, я вижу, как они переливаются под тобой! Прекрати плакать и расскажи, что случилось!
Всхлипнув, она в ужасе прошептала:
– Кто-то пришел в пустыню: весь белый, пахнущий сгоревшим хлебом и медной стружкой. Он подошел к каждому умирающему дереву, которое могло бы стать гнездом, вытащил жилу с соком и семя. – Я, потрясённый, ахнул. – Но и этого показалось мало: он скормил мясо своим женщинам, а семена сложил горкой, будто мусор. – Гусыня опять разразилась бурными рыданиями; её грудь ходила ходуном, и я испугался, как бы кладка не потрескалась. – Они их опрокинули, – пробормотала она так тихо, что я едва расслышал. – Женщины их опрокинули, как опрокидывают детские шарики для игры, и там не было яиц, чтобы родилась искра. Пройдут годы, прежде чем другая самка совьет гнездо.
Я утешал кузину в её беде, а сам едва стоял на ногах от горя. Конечно, ты не понимаешь, серое сердечко. Это наш великий секрет, и я поведаю его тебе, чтобы ты поняла – я не прячу мудрость, которой стоит поделиться. У яиц, которые снесла моя кузина, не было петуха, их оплодотворило умирающее дерево. Искросемя порождает новое дерево и новую птицу; первые корни новая иксора выпускает из яйца с птенчиком. Кремню семени нужно что-то для появления искры – и перья, и кора. Мы не можем друг без друга! Самец Жар-Птицы лишь охраняет гнездо. Мы как пчёлы – не можем спариваться, по крайней мере, не с нашими самками. Я слыхал, что кое-кому удалось вытащить яйца из дерева и зажечь собственной кожей, но даже их имена стали пеплом. Вся моя семья – матери, братья, сёстры, кузины, тётки и дядья – и ни одного отца. У меня никогда не будет собственных птенчиков. Иксора – наша вторая половина.
Теперь ты понимаешь, отчего я с готовностью согласился на просьбу Равхиджи, хотя три семени, предназначенных для неё, могли бы стать тремя Жар-Птицами. Я бы и без пера выполнил эту просьбу. Я думал, что, если моя кузина может высиживать древесные яйца, быть может, дерево… Впрочем, это уже не имеет значения.
Я ничего не мог сделать, оставалось ждать. И вот выводок появился на свет – нет ничего прекраснее восьми юных огненных пташек, пробивающихся сквозь скорлупу. Но им и мне пришлось ждать ещё, пока другие иксоры рассыплются в пепел, чтобы юные чёрные тельца заполыхали ярким пламенем, другие самочки оплодотворили свои яйца в потоке сока, а я отыскал три семени для Равхиджи.
Прошло пять лет, прежде чем я получил то, в чём она нуждалась. Я полетел назад над странами, что менялись подо мной от золота к зелени, и дурные предчувствия вкупе с леденящим душу страхом переполняли меня, как мёд соты. Я внушал себе, что Равхиджа нашла другой выход: однажды утром к её стене пришёл чужак-охотник, который с радостью отдал маленькие красные семена. «Кто-то точно её спас», – уговаривал я себя. Она радостно помашет мне, стоя возле своего дерева, скажет: «Не глупи! Всё хорошо закончилось». И её оранжевые волосы будут светиться на солнце.
Но я знал, что это ложь. Когда наконец увидел сад, он был чёрен, будто печная сажа, а стена оказалась разрушенной, разбитой на куски. Голые остовы деревьев выделялись на фоне серого унылого неба – ничто не росло и не плодоносило. Некогда пышная зелень превратилась в слой праха, покрывавший землю. Всё погибло, всё! Я облетел руины и едва сумел удержаться в небе – моя вина была тяжела, как привязанный к шее якорь.
Но кое-что осталось. В центре сада, где стояло красивое дерево, породившее во мне тайную надежду, пробился стройный зелёный росток, почти невидимый в лучах заходящего солнца.
Рядом с ним в сожженной земле ковырялась маленькая девочка.
– Ой! – воскликнула она, увидев меня. – Какая красивая птичка!
Я опустился подле неё, мой блестящий хвост взметнул пепел старого дерева.
– Равхиджа? – неуверенно тронув её клювом, спросил я.
– Ох, нет, я Равхи! – воскликнула она, подпрыгивая, чтобы погладить мои перья, как сделал бы любой восхищённый ребёнок. Девочка глядела на меня из-под зелёных ресниц, её волосы были короткими, но уже начали сворачиваться в мясистые оранжевые жгуты.
Конечно, я всё понял. Любое дитя иксоры поняло бы – древо уронило семена в землю, а нет земли щедрее, чем пожарище. Родилось новое древо, а вместе с ним и новая хозяйка.
Я отдал девочке семена. Больше ничего не мог сделать.
Она сочла их весьма милыми.
Сказка Гусёнка (продолжение)
– А как же твоё перо? – прошептала я. Под нами холодный и заснеженный озёрный край трепетал как огромная белая стая.
Фонарь покачал сверкающей головой.
– У Равхи его не было, и не имело смысла спрашивать, куда оно делось, – девочка ничего не знала о старом дереве или о садовнице. Думаю, Волшебник забрал перо, когда изображал Смерть. Я чувствую его, как глаз или ухо, отделённые от меня. Оно не сгорело, находится не близко, и никто не звал меня с его помощью.
Я подлетела чуть ближе к горячему великану, наслаждаясь его теплом. Налипший на моём клюве снег таял.
– Мне жаль, что она не могла бы свить с тобой гнездо, как ты хотел, – застенчиво сказала я.
Фонарь улыбнулся и прищурился, спасаясь от падающего снега.
– Таким, как я, не суждено иметь гнездо. На это было глупо надеяться. А если бы что-то получилось, мы с тобой не встретились бы, перепончатые лапки, и это было бы весьма печально.

Он летал со мной всю зиму и весну, кормил меня травой, мышами и одуванчиками, пока я не выросла, а моя шея не стала длинной. Когда вернулись гуси, я не захотела уходить к ним, а он не стал меня прогонять. Я летала под его крыльями, которые были широки, точно облака на закате, двери часовни или тени кедровых ветвей. Соколы мне больше не грозили. Вместе мы пересекли широкое пурпурное море и вернулись обратно, отдыхали под сенью пальм. Он научил меня многим песням и языку скворцов, аистов, чаек. А ещё воровскому ремеслу – я стала заправским домушником. У меня не было недостатка в вишнях.
Время останавливалось, когда мы летали и пробовали облака на вкус. Я была счастлива. Я была вся его. Нам никто не был нужен. Я не плакала. Но через два лета увидела знакомые деревья, и тень гнезда опять появилась на горизонте. Я вздрогнула от страха.
– Я привёл тебя домой, малышка, – сказал Фонарь, – потому что появилась новая стая, которая взывает к луне и солнцу, чтобы найти тебя.
– Я хочу остаться с тобой, – я заплакала, и он обнял меня крыльями, которые были подобны вечернему небу, сомкнувшемуся над моей головой.
Он с несчастным видом переминался с ноги на ногу.
– Мы разные, серое моё сердечко. Только те, у кого одинаковые перья и клюв, могут оставаться вместе навсегда. Может быть, мне вообще не стоило о тебе заботиться, но ты была такая слабая и милая, а у меня никогда не было птенчика, чтобы его любить. Теперь с тобой всё будет хорошо, я точно знаю. Тебе нужны стая и гнездо. Я же могу дать лишь полыхающее дерево и холодные фрукты. И… что-то манит меня, как палец, зацепивший за грудину. Моё перо зовёт меня к себе, и я не могу сопротивляться.
– Но мне не нужна новая стая! И ты можешь сопротивляться – повернуться и улететь в другую сторону так быстро, как только сумеешь.
Фонарь вздохнул, даже его блестящие краски, оранжевые и золотые перья, что освещали мой мир, показались приглушенными и тусклыми.
– Всё не так, любовь моя. Когда моё перо зовёт, я должен отправиться в путь. Я не могу лететь в другую сторону, как не могу лететь под водой.
Мне было всё труднее сдерживать слёзы. Мы опустились на кривой ствол дуба на краю большого внутреннего двора, и что-то там было, на брусчатке, что-то, пахнувшее воспоминаниями. От него повалили кубы дыма, а за дымом последовало яркое пламя, сверкавшее сквозь утренний туман.
– Мы разные, – повторил Фонарь. – Перед тобой огонь, иди же к нему без страха и родись заново с такими же, как ты, родись в огне, как я. В тебе будет немного того, из чего создан я.
Запах тянул меня – он был мне знаком, так знаком, и над костром откуда-то появились птицы, множество птиц, чьи крылья испускали одуряюще-прекрасный аромат. Я подумала о лошадях, молоке и тёмных сырых подвалах.
Это был запах моей матери. Своей тёплой головой Фонарь толкнул меня в спину прямо к ней. Медленно взмахнув крыльями, я скользнула в туман и полетела, не оглядываясь. Я знала, что не нужна ему… И вот передо мною была моя мать, которую я отчаялась найти. Из меня словно выдирали перья, и с их кончиков капала тёмная кровь.
Когда моя мать горела, я не испугалась: перекусила путы и поцеловала её полыхающие губы. Вокруг меня летали птицы, выглядевшие в точности как я, – с длинными шеями, серыми перьями и перепончатыми лапами. Они были моей стаей, знали, что я такая же; и она была моей стаей, и я любила её. Я не видела огня, только дорогу к ней, и я помогла ей подняться из пепла – должно быть, так поднялся Фонарь, когда был маленьким чёрным птенчиком. Я помогла матери подняться и улететь в ночь.
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
– Я принадлежала им. Не тебе. Только стая заботится о стае.
Гнёздышко устремила на Принца полный скорби и недоверия взгляд больших чёрных глаз.
– Но мы семья, мы одна… кладка, – негромко возразил Леандр.
– Мы разные. Ты своего отца подведёшь под коготь. Мне он не отец.
Кровь бросилась Леандру в лицо. Он увидел отца мысленным взором и не ощутил к нему любви.
– Он причинил вред нашей матери и всем её людям. Он всё губит!
– Почему меня должно заботить то, что случается на земле? Это не моё место. Я принадлежу воздуху, призракам.
– Гнёздышко, ты теперь женщина и стоишь на земле обеими ногами. Ты не можешь забыть об этом потому, что когда-то у тебя были крылья.
– Он не мой отец, не мой долг, – упрямилась она, уставившись в траву, которая отсвечивала лунным блеском.
– Нет. Но она была нашей матерью, подарила тебе ветер и облака, чтобы ты жила. Я сделал столько всего плохого, Гнёздышко. Мне был нужен Подвиг, и ради него пришлось вернуться в Замок, откуда я хотел сбежать. Но если так написано, значит, тому и быть. А написано, что, хоть мы и покинули Замок по отдельности, вернуться должны вместе. Там ещё есть Волшебник, который убил нашу бабушку и надругался над её костями. Это всё наше, в этом гнезде мы родились. Я твой. Ты мой долг. Пошли!
Леандр протянул сестре руку, белевшую в темноте, и она, помедлив, сжала его ладонь своей, испачканной в крови.
– Ради бабушки, – прошептала она, – и стаи, которая раньше была бескрылой.
По пути в Замок Леандр изумлялся умению Гнёздышка двигаться без единого звука. Её ноги ступали по земле бесшумно, пока они бежали из Ведьминой Долины назад, туда, где появились на свет.
Разумеется, стражники впустили Леандра – хоть он и долго отсутствовал, его не изгоняли, а Гнёздышко приняли за забаву, которую Принц привёл домой. Это было просто как детские кубики. Они пробирались сквозь комнаты верхних этажей, одну за другой преодолевая двери, запертые на большие латунные замки. Внезапно Принц замер.
– Жди здесь, – прошептал он и скрылся за одной из массивных дверей. Это была его собственная спальня. Посреди комнаты Леандр остановился, будто видел её впервые. Он уже был не тем человеком, который раньше здесь спал; тому, что он узнал, не было места в этих обитых бархатом стенах. Он покачал головой, напоминая себе о цели.
– Функция Принца, – негромко проговорил он, – убивать монстров. Если производную Принца приравнять к нулю, королевство выживет.
Он выпрямил спину и открыл резной тиковый столик возле своей парчовой кровати. Там лежало то, за чем он пришел. Принц вытащил из шкафчика длинный серебряный нож с изогнутой костяной рукоятью. Теперь он светился чистым светом, многозначительно мерцал в памяти Леандра. Ребёнком он выбрал этот нож в качестве игрушки из груды ножей, кинжалов и стилетов в хранилище. Нож позвал его – глядя на лезвие, Леандр с беспокойством понял, что этой ночью у него не осталось выбора, что он всю свою жизнь шёл к этому, и шёл не по своей воле.
– Вперёд, – сказал он сестре, в глазах которой зажёгся охотничий блеск, – сначала мы пойдём к Волшебнику.
Брат и сестра тихонько вошли в покои Волшебника, вскрыв замок. «Всё слишком легко, – подумал Принц. – Убийство должно быть тяжелым и страшным трудом, а не требующим усилий меньше, чем нужно, чтобы достать воды из колодца. Глухие удары, кровь, крики – вот чем оно просто обязано быть». Однако иных звуков, кроме тяжелого дыхания Гнёздышка за спиной, он не слышал. Девушка видела, как поблескивает нож у него за поясом, и решила его украсть. Но ей придётся подождать…
Омир, безобидный как дитя, спокойно спал среди белых мехов. Его рот всё ещё был пухлогубым и жёстким, но остальные черты давно проиграли битву со временем, подобным ножу, вонзённому под рёбра. Прежде Леандр встречал этого человека почти каждый день, но лишь теперь понял, до чего глубокие на этом лице морщины, какие ужасные шрамы оставили на его теле странные тайные эксперименты. Он вспомнил, как следили за ним эти глаза, похожие на два пруда с застоявшейся водой; вспомнил и рассказ матери о том, как Омир убил его прабабку, Согнутый Лук, – небрежно, словно она была наживкой для рыбы. Принц потянулся за ножом, уверенный, что справится с делом.
Но нож пропал.

Гнёздышко запрыгнула на один из высоких столов с узловатыми ножками. Она дышала глубоко и хрипло, а в бледной руке сжимала нож с костяной рукояткой. Должно быть, девушка узнала его в тот же миг, как увидела, – он был её собственный и принадлежал бабушке. Вероятно, нож позвал её, как зовёт перо, и теперь они были вместе, а Леандр не мог встать у них на пути.
С тихим криком, подобным тому, что издаёт молодой гусь при виде стаи в отдалении, Гнёздышко ринулась на спящего Волшебника и вонзила в него нож. Старик открыл покрасневшие глаза как раз вовремя, чтобы увидеть её развевающиеся волосы и щёки, покрасневшие от ярости и триумфа. Она склонилась над ним, будто собираясь поцеловать шершавые губы, и коварно прошептала прямо в сморщенное ухо:
– Смерть нашла тебя.
Омир увидел деву-птицу, что нависла над ним, будто страшный сокол, сверкая глазами.
– Я знал! – прохрипел он и поперхнулся, когда девушка повернула кинжал в ране. – Знал, что она это умела! Ведьма солгала, но я знал!
Гнёздышко коснулась лица Волшебника – медленно и нежно, по-детски. Её ногти легко рассекли кожу, словно та была водой. Она приложила пальцы к губам и жадно слизала его кровь.
– Раб, – прошипела она, – и всегда был рабом, шептал во тьме, воровал чужое добро.
– Может… может, его не стоит винить, – пробормотал Леандр. – Ведь, в конце концов, приказы отдавал мой отец.
Гнёздышко не услышала его слова. Омир закашлялся, на его подбородок хлынула кровь.
– Твой отец – дурак из дураков. А девчонка знает, всё знает! Мать рассказала ей о башне и о том, что я делал многое без приказа. Но она не убьет меня. Я тоже слышал много историй, знаю о Жар-Птице и о том, как они расстались: у меня его перо. Я держал его в этой самой комнате, в клетке из слоновой кости.
Глаза Гнёздышка сузились, превратившись в серебряные щели. Омир попытался сесть, но снова закашлялся и рухнул – нож не дал ему подняться.
– Ох, девочка… Почти попала, надо лишь чуть повернуть…
Она навалилась на костяную рукоятку, и Волшебник впервые закричал от неподдельной муки; его седые брови взметнулись, зубы оскалились.
– Где он? – зарычала девушка.
– У меня… у меня его нет. Я продал его, перо и клетку человеку из Аджанаба. Продал, клянусь! Умоляю… – Руки Волшебника тщетно пытались схватить кинжал. – Послушай меня, послушай! После стольких лет я наконец узнал, в чем секрет, и могу превратить тебя в Жар-Птицу, из любой ивы сделать для тебя иксору, зажечь твои крылья и отправить к нему. Я могу даже изменить тебя так, что он сможет пробудить твоё гнездо, и вам не понадобятся для этого деревья. Но, если ты убьешь меня, останешься несчастной девчонкой и никогда не полетишь, не сможешь разыскать его без моей помощи. Останешься в этом ужасном теле рядом со своим младшим братом. Уверяю тебя, от него никакого толку.
Гнёздышко плакала, её слёзы капали на слабые руки Омира. Плечи девушки были точно голые ветки; она глядела на него с ужасной надеждой, пламенеющей в тёмных глазах. Затем наклонилась очень близко, обняла старика. Несмотря на хриплый кашель и тёмное пятно, расползавшееся по животу, он попытался отечески похлопать её по спине. Но лишь раз сумел поднять руку, и та беспомощно упала на постель. Однако говорить он ещё мог, его голос был тих, как сосущая пиявка:
– Тише-тише, дядюшка всё исправит, вот увидишь. Не надо ничего говорить, я и так знаю, чего ты хочешь, милая. Всё будет хорошо!
Гнёздышко вскинула серебристую голову и прошептала ему на ухо:
– Мама.
А потом она, утратившая руки в первые дни своей жизни, схватила Омира за волосы, отточенным движением выхватила нож из его живота и перерезала ему горло.
Кровь была горячая и густая. Она текла по рукам, точно жидкая грязь, а Гнёздышко всё не выпускала кинжал. Леандр не смог разжать её пальцы. Он оттащил сестру от тела и силой вывел в холл, а её глаза всё сверкали, огромные и дикие.
Ночью в покои Короля их бы ни за что не пропустили, так что они пробирались вдоль каменной стены от подоконника к подоконнику, по лестнице из плюща и выступам, на которые можно было опереться лишь кончиками пальцев. Наконец брат с сестрой притаились под окном Короля, и Леандр многозначительно посмотрел на девушку, прежде чем прыгнуть внутрь. Ей нельзя было следовать за ним. Но, разумеется, именно это она и сделала, бесшумная как пауза между вдохом и выдохом.
Король лежал на своей кровати – один, всё ещё крепкий и сильный. Он не спал.
– Несомненно, я не учил тебя пренебрегать дверьми, – сказал он сыну.
Леандр отнюдь не ожидал такого, но скрыл страх под маской безразличия.
– Мне казалось, так будет лучше.
– И всё ещё кажется? Вижу, ты и бедную птичку с собой привёл. Поговорим начистоту?
Он не моргнул, не удостоил Гнёздышко и взгляда. Девушка была для него ничем, пустым местом.
– Если производную Принца приравнять к нулю, королевство выживет, – прошептал Леандр.
– Что за чушь ты несёшь, мальчик? Мерзкая Ведьма наконец тебя разыскала? Сам удивлён, что мне захотелось затащить в постель это ничтожество. Жаль, огонь не может гореть вечно. А казни надо проводить лично – вспомни об этом, мой сын, когда станешь королём.
– Я не буду королём. И убью тебя на месте за то, что ты сделал с народом моей матери; за то, что заставил меня сотворить бесчисленное множество раз с теми, кто приближался к нам под белым флагом.
Король издевательски расхохотался.
– О, мой сын! Как, по-твоему, я сделался королём? Тоже вонзил нож в сердце отца, пока тот спал.
Сказка Короля
До чего жирным казалось его лицо, лежавшее на подушке. Точно кусок мяса на белой скатерти, сплошь в паутине красных сосудов и с опухшим носом. Он не спал в одной постели с матерью уже много лет – впрочем, с ней никто не спал. Думаю, мне понравилось бы, заведи она любовника. Это сделало бы её человечнее. Но она никого не пускала к себе между ног; проводила ночи в убогой постели на вершине убогой башни, а мой отец спал в громадной кровати эбенового дерева с четырьмя столбиками, предназначенной для лорда и его леди.
Ты не знал? Мой отец никогда не был королём.
Деревенский барон, только и всего! Иногда зимой свиньи и коровы ночевали в главном зале, чтобы не передохнуть в мороз. Вонь от них поднималась к стропилам и висела там будто испачканная дерьмом люстра. Моя мать была совсем другой. Я был совсем другим. Я часто наблюдал за ней, любовался её профилем на фоне окна и удивлялся, как она умудрилась выйти замуж за мешок лука и свиных пятачков, которого мне приходилось звать отцом. Слуги говорили, он не всегда был таким бесполезным. До того, как моя мать позволила скорби отнять у неё голос, наш дом был богат, а коровы спали в траве, где им самое место.
Но всё изменилось. Она замолчала, не говорила ни слова. Моя мать сделалась молчаливой точно монахиня – в тот день, когда у неё забрали мою сестру.
Я был младенцем, когда это случилось, и не знал свою сестру. Но её отсутствие мучило дом, как голодный пёс. Дыра, занявшая её место, сидела с нами за обеденным столом, безвольно опустив плечи в затхлом воздухе; она ела, пила и дышала нам в затылок.
Другие мои сёстры вышли замуж до того, как я научился считать. Я рос в тихом доме один, со мной были только вонючие коровы, немая мать и дыра. Даже отец старался не проводить там время: оставался на полях, руководя уборкой сена и дойкой коз до темноты, чтобы проскользнуть к себе, ни с кем не встречаясь. Но дыра всё равно появлялась на звон дверного колокольчика, и он спешил в спальню, опустив голову, чтобы не встретиться с ней взглядом.
Я не думал, что кому-то будет его не хватать. Он стал дураком, хилым, точно стриженная овца, а я как раз стал мужчиной, был готов сделаться бароном и жаждал этого, потому что мне надоело смотреть, как ветшавший дом на глазах разваливается на части, поддерживаемый лишь дырой в воздухе, пустым местом. Однако копающиеся в грязи убожества, вроде моего отца, всегда отличались крепким здоровьем, и я знал, что баронство мне просто так никто не отдаст.
Я не пытался скрыть своё приближение, когда шел по лестнице в его комнату. Наоборот, громко топал – в мёртвом доме никому не было дела до того, что к утру ещё кто-то откинул копыта. Но дыра была там. Я чувствовал, как она тянет меня за рукав, преисполненная сестринского осуждения. Она грустно вздыхала, словно давая понять, что, если бы вдруг вернулась та, кого забрали много лет назад, вокруг не стояла бы гробовая тишина, и мне не пришлось бы слушать, как кричит мой отец, чтобы осознать, что сам я ещё жив… Дыра жалела меня, и я ненавидел её за это.
Впрочем, он не закричал. Всё оказалось легко, как отрезать кусок мяса для жаркого. Я, не задумываясь, вонзил нож в сердце отца, огромное, точно у быка. Всё случилось просто и естественно, как и должно было. «Убийство, – подумал я, – обязано быть сложнее». Его глаза распахнулись, и в горле тихо булькнуло, как у телёнка, забиваемого к летнему празднику. Отец не закричал. Я не почувствовал себя живым. Но стал бароном.
Мать следила, как я спускаюсь по лестнице, вытирая кровь о брюки. Она не мигала, её губы сжались и побледнели, но она ничего не сказала. Как всегда…
С баронством, как и ожидалось, я справился. Поля давали зерно, деревья – сидр, свиньи спали в своих грязных загонах и толстели. Из всех углов большого зала вымели пыль, к очищенным стропилам подвесили длинные белые знамёна. В замке появились люди, а когда лето сменило весну, начались музыка и танцы.
Дыра не вернулась.
Наконец пришло время подыскать себе жену. Мне не слишком этого хотелось, но говорили, что так поступают лорды, а я уже подумывал о том, чтобы надеть корону, как другие планируют переезд в дом побольше и у моря. Королю нужна королева. Барону не обойтись без баронессы. Поэтому я пролистал семейные книги с засаленными страницами. И узнал, почему моя мать вышла замуж за мешок лука и свиных пятачков.
В нашей захолустной семейке пьянчуг жену добывали не ухаживанием, а испытанием. Существует пояс из золота и яшмы, передаваемый от бабушки к внучке, и новой хозяйке дома он должен прийтись впору, иначе она не сможет спать в башне, двадцать лет игнорируя мужа. Суеверия, сверкающие глазами из тьмы, и глупость всегда живут дольше, чем семьи, которые за них ответственны.
Я снял с матери пояс. Она ничего не сказала. Как всегда… Но, когда я разослал гонцов с известием о том, что подходящие молодые женщины могут прийти и примерить пояс, она заперлась в башне и не выходила, сколько миловидные горничные ни уговаривали её открыть засовы. Изнутри не доносилось ни звука.
Недели летели одна за другой. Девушки танцующим шагом шли к моим дверям, одетые в платья всевозможных цветов и фасонов: ветошь и турнюры; блондинки и брюнетки; бархат, муслин и обычный хлопок, подпоясанный бечёвкой. Я набрасывал золото и яшму на десятки талий, застёгивал – и десятки щёк краснели. Пояс падал с их бёдер или сжимал их талии, пока они не начинали задыхаться, – он никому не пришелся впору, ни у одной женщины в стране не было законного права на него.
Я поступил логично: поднялся по длинной витой лестнице на вершину башни, держа в руках пояс, – на его тусклых самоцветах играли хмурые отблески. У толстой дубовой двери на бронзовых петлях я постучался, вежливый, как и подобает поклоннику.
– Матушка, – сказал я, – пояс никому не подошел.
Из комнаты не донеслось ни звука.
– Матушка, – сказал я, – мне надо жениться.
Из комнаты не донеслось ни звука.
– Матушка, – сказал я, – пояс подходит вам.
Только не надо изображать изумление! Мораль уступает дорогу королям, а вонючая добродетель скотоводов меня не интересует.
За дверью что-то зашуршало и зашелестело. Наконец мы покончили с ерундой, её детскими истериками и тем, как она пряталась, точно краб в алой раковине. Я плечом высадил дверь – силы мне тогда уже было не занимать, и бронза согнулась после второго удара, петли заскрипели и поддались. Моя мать сидела на кровати, стоявшей посреди комнаты, утопавшей в пыли; вокруг неё были разбросаны листы бумаги. Фиолетово-чёрное платье порвалось и было ей мало, рыжие волосы тусклой спутанной гривой ниспадали на продавленный матрас.
На коленях у неё была дыра.
Края дыры потрескивали и изгибались, чего я раньше никогда не видел; странный серебристый свет очерчивал ясные контуры длинноволосой девочки, дремавшей на материнских коленях. Выглядело так, будто девочку кто-то вырвал, оставив лишь намёк на то, как она могла выглядеть, какой могла бы быть. До этого утра я воспринимал дыру как пустоту, но теперь видел нечто осязаемое и имевшее вес – её можно было ощутить, потрогать, и она светилась. Странное ничто посверкивало, пока моя мать его гладила.
– Я её сделала, – сказала она скрипучим хриплым голосом, точно кто-то отпер заевшую дверь. – Когда он её забрал, я её сделала. Больше я не творила никакой магии.
– Магия, – пренебрежительно фыркнул я.
– Я сделала так, что она ходит по дому, ест, спит и смеётся, как и могло бы быть. Но она постоянно возвращалась сюда и спускалась лишь для того, чтобы увидеть, как ты растёшь, играешь, хмуришься и спишь.
– Это пустота, матушка. Меньше, чем воздух.
Она с жалким видом пожала плечами.
– Это не она, я знаю. Но, когда я сплю, она обнимает меня прозрачными руками, и я почти чувствую запах её кожи. Я по ней скучаю, страшно скучаю. После того как ты убил своего отца, я позволила ей остаться здесь.
Я пожал плечами.
– Я хотел стать бароном. И не буду за это извиняться. Из-за отца дом чуть не погиб, и ты вместе с ним. Как бы там ни было, ты вышла за него только из-за золотого пояса.
Она пристально посмотрела на меня сквозь завесу спутанных волос.
– Можешь верить во что хочешь, Измаил. Пояса и ошейники – лишь подходящий повод взять женщину, которую ты и так хочешь, не давая ей шанса заговорить.
Я уставился на искореженные от сырости доски пола. Не из-за смущения, имей в виду! А потому, что я решил, что именно так должен был поступить хороший сын в такой ситуации.
– Пояс больше никому не подходит.
Моя мать положила руку на бедро дыры; её лицо будто оплыло, словно она что-то утратила и внутри сделалась пустой, как сухая раковина улитки, катящаяся по песку.
– Если ты не смог удержаться от того, чтобы ворваться в мою комнату с предложением, на которое не осмелился бы и король…
– Было бы лучше, окажись я королём, матушка? – взорвался я и, ринувшись к кровати, сквозь дыру схватил её за обтянутые фиолетовой тканью плечи – как же она исхудала! – Окажись я королём, ты бы сделала реверанс, надела горностаевую мантию и танцевала бы на нашей свадьбе? Ты знаешь семейный закон. Лучше ты будешь принадлежать мне, чем этой отвратительной магической штуке, с которой сидишь тут взаперти день за днём! Я не стал извиняться за то, что сделал с отцом, и за тебя тоже не буду. В этом мире что-то можно получить лишь силой – вот чему меня научила жизнь в доме, где ничего не происходит, потому что здесь живут мертвецы!
Мать начала истерически смеяться и будто распахнулась, как дверь, сорванная с петель.
– Да, если бы ты был королём, это было бы законно; короли творят что хотят, короли и их волшебники – для них нет законов! Они берут и берут, что такого? Никто не ищет тех, кого забрали, о них просто забывают, они исчезают, и всё. – Она подняла на меня глаза, и её взгляд вдруг оказался проницательным, как взгляд лисы, увидевшей мышь. – Я сыграю с тобой, если хочешь, мой Измаил, но тебе придётся продемонстрировать свою доблесть. Если мне не изменяет память, так поступают молодые люди во время ухаживания.
Я осторожно отпустил её. Вот и всё? Принести ей розы или чешую дракона с дальних островов, и она не станет сопротивляться?
– Что мне сделать? Давай побыстрее с этим разберёмся.
– Принеси мне голову и ошейник и, если сочтёшь нужным, ещё какую-нибудь часть Волшебника, который забрал твою сестру.
Что ж, убийство – труд не сложный. Я встал с кровати, и на моём месте тотчас же сгустилась дыра. Я поклонился настолько учтиво, насколько это было в моих силах.
– Леди Иоланта, я к вашим услугам.
Откровенно говоря, мне не очень хотелось жениться на своей матери. Если бы пояс подошел другой женщине, я бы с той же лёгкостью взял в жены её. Но, когда занимаешь высокое положение, надо соблюдать протокол; ведь для неё не так ужасно участвовать в церемониях и танцевать на балах. Со своим последним мужем она постель не делила, если не считать того, что требовалось для появления наследника. Меня не радовала необходимость пойти и убить Волшебника, который навредил мне лишь тем, что оказался представителем омерзительной профессии, чтобы я смог сделать Иоланту дважды баронессой. Но разве есть в мире счастье? Я с этой неведомой зверушкой ни разу не встречался.
Дело не в том, что мы не знали, где живёт Волшебник, отнявший у меня сестру, последний батрак из глубинки был осведомлён, где Омир хранит свой посох и фиал. Но нельзя потребовать чью-то дочь назад у такого человека, особенно если он скован узами с королём вроде того, что правил нами в те времена.
Дворец того короля окружали густые леса, где друг к другу жались деревья, кривые, будто спины старых женщин. Мимо него текли две реки со странной водой: в одной она была чёрной, в другой – белой. Пересекая мосты, я посмотрел вниз: чёрная река, как мерцающий поток на склоне старого вулкана, то гладкий, то покрытый зыбью, отразила лицо достаточно красивого молодого человека, который не был принцем, но мог показаться таковым в особо ясный день. Белая река, гладкая и тусклая, словно молоко, не отразила ничего.
Не зная, как убить, если не обойтись простым визитом в спальню с ножом в руке, я попросил об аудиенции, и, что неудивительно, мне велели подождать. Я занимал себя как мог, познакомился с новой жизнью: в кои-то веки спал в чистых комнатах, ел за чистыми столами, одевался в чистую одежду.
Каждый день я отправлялся поглядеть в воды рек.
Наконец, меня призвали в зал для аудиенций с высоким потолком, представив как Измаила, барона Бакара – до чего странно было слышать, как моё имя произносил скучающий писарь! – и я предстал перед королём и его любимым рабом. Король как раз обедал, мусоля сено в золотом корыте, запихивая в рот полные пригоршни травы.
Чудовищно. Противоестественно. Людьми не должно править животное! Меня чуть не стошнило на вымощенный серебром пол.
Гнедой, король-кентавр Восьми королевств, взглянул на меня снизу вверх. Его передние ноги были согнуты в коленях, чтобы насыщаться с удобством. Каштановый хвост помахивал из стороны в сторону, а в коричневой бороде запутались травинки.
– О, – проворчал он, – это ты.
За его спиной стоял Волшебник в мешковатом сине-коричневом одеянии и железном ошейнике, тяжелом как епитимья. Он одарил меня взглядом, в котором сквозило сомнение.
– Это ведь он, не так ли, Омир? – спросил кентавр, не без труда поднимая своё лошадиное тело. Он отвернулся от корыта и двинулся ко мне, цокая копытами по плитке и держась так, что я видел только его правую сторону, левая оставалась в тени. Его гнедая шкура перетекала в бледную кожу, давно не знавшую солнца, и он был, как ты можешь догадаться, не одет. Трона не было – да и какой трон? Король располагался в груде розовых подушек на помосте; думаю, лошади и такого трона достаточно.
– Да, мой господин. Думаю, это он.
– Прощу прощения, кем вы меня считаете? – смущенно спросил я. Убийства должны совершаться в темноте и тишине, а я был в комнате, освещённой так ярко, словно её фундамент утопал в солнце. Что ещё хуже, меня ждали.
Гнедой почесал чёлку; его широкое, точно лунный диск, лицо поскучнело.
– Омир сказал, что ты близко – тот, кто меня заменит.
Сказка о Восьмикамерном сердце
Ещё до того, как мой дед отправился на пастбище, те, кто намного мудрее меня, решили, что Восемью королевствами, населёнными народами столь же разными, как десять тысяч травинок на лугу, не могут управлять мужчины и женщины. Из них получаются хорошие провинциальные дворяне, которым только и надо, что вести счета и заниматься благотворительностью. Но разве можно позволить им говорить и действовать от нашего народа – народа монстров?
Разумеется, нельзя.
Кентавры представлялись хорошим выбором: существа на середине пути от постели до конюшни, между людьми и чудовищами, дикой природой и упорядоченным миром. Казалось знамением, что наши мощные сердца, необходимые для столь массивных тел, обладали восемью камерами, по одной на каждое королевство. Так всё и было на протяжении многих поколений, кентавры правили – некоторые плохо, точно неумелые жеребцы; некоторые хорошо, будто смирные мерины. Такова судьба правителей – мы подвержены слабостям. Но, изучая человечьих королей, которые были до нас, мы узнали, что передавать корону сыновьям или дочерям так же глупо, как кормить волка морскими водорослями. Мы определяли наших правителей способом, который наилучшим образом соответствовал нашей сильной стороне, – в гонках.
Ясным осенним утром, когда яблони сбросили плоды на траву, я занял своё место у стартовой линии. Моей противницей была Серая-в-яблоках – высокая и красивая серая лошадь с такой широкой грудной клеткой, что я не смог бы её обнять, даже если бы мои руки стали в два раза длиннее. Я немного беспокоился: хоть быстроты мне не занимать, я не был сильнейшим в табуне, и моя грудь казалась хилой по сравнению с этой громадой костей и мышц, созданной для глубокого дыхания.
– Отличный день для гонок, – одобрительно прогудела Серая-в-яблоках, топча землю яркими перламутровыми копытами. – Надеюсь, ты будешь сражаться по-настоящему: мне бы не хотелось стать королевой лишь из-за того, что у тебя насморк.
Она одарила меня лучезарной улыбкой победительницы, обрамлённой пышной серебристой гривой. Несмотря на ситуацию, лошадь мне нравилась. Она хорошо пахла, как берёзовые листья, люцерна и быстрая река.
Правила были таковы: желающие править являлись к стартовой линии, но отваживались на это немногие, потому что кентавры отличаются сдержанностью и самодостаточностью, посмеиваются над приманками власти. Это ещё одна причина, по которой нас сочли достойными её. Каждого претендента запрягали в плуг. Ещё один плуг помещали между соревнующимися, и какой-нибудь местный волшебник или предсказатель, избранный для этой цели, зачаровывал его так, чтобы он двигался сам по себе. Лошадь, способная победить и самоходный плуг, и своих конкурентов, получала корону: тому, кто лучше всех пахал землю, чтобы она цвела, следовало помогать людям, чтобы и они процветали.
Тем осенним утром только мы с Серой-в-яблоках пришли бороться за королевство. На каждых гонках у стартовой линии нас было все меньше. В конечном счёте кентавры предпочли пастбище и игру, брачные ритуалы и катание в траве. Но я не был сдержанным и не насмехался над властью. Я не был умником из умников, поджидавшим удобного случая, – мне тогда было нечего есть. Корона пела и шептала, обольщала меня с высоты, подвешенная к ветви дерева в дальнем конце поля. Она сверкала, блистала и явно желала покоиться на моей голове. Мне она тоже нравилась, её исключительно собственный запах, которого мне вполне хватало.
Мои размышления прервала толпа, начавшая шуметь и раздраженно топать копытами. Призванный на состязание Волшебник приволок на поле свой плуг, который блестел на солнце, точно глаза юного жеребёнка; его длинное красное одеяние бросалось в глаза, трепеща на утреннем ветру.
Однако на нём не было ошейника.
Человек был лишен примет возраста, имел благородный профиль, явно немало посидел за столом, скрипя карандашом, одет и обут как полагается. Но без ошейника! Мы не знали, как на него смотреть, как к нему обращаться, и вообще, как он мог находиться среди нас.
Он спокойно отнёсся к нашим взглядам и принялся натирать блестящий плуг порошками и маслами, что-то ему нашептывая, как любимому псу, гладя его длинными пальцами с толстыми костяшками. Когда дело было сделано, плуг уже не блестел, а покрылся каплями и пятнами зловещего цвета – охры, бычьей крови и оникса. Волшебник предложил мне подойти и проверить его работу, точно это была особенно сложная арифметическая задачка. Я потрусил к нему, намереваясь побыстрее обнюхать ядовитые жидкости и объявить, что всё в порядке. Я оставался простой лошадью и ничего не знал о магии, кроме её дурного запаха.
Но стоило мне склониться над плугом, отгоняя мух хвостом и почёсывая затылок с видом знатока, волшебник тоже наклонился к лемеху, повернул ко мне своё узкое темноглазое лицо и прошептал так тихо, что показалось, будто это пчела жужжит над ухом: так тихо, что, кроме меня, никто не мог его услышать:
– Я могу дать тебе то, что ты хочешь.
– Что? – спросил я слишком громко.
Серая-в-яблоках бросила на меня взгляд поверх толпы дерзких жеребят, пытавшихся измерить её рост и ширину плеч. Её дыхание чуть ускорялось, когда она вставала на дыбы; великолепные обнаженные груди отливали серым. Она фыркнула и вскинула серебристую бровь. Я театрально кашлянул и улыбнулся ей, невзирая на насморк, – лошадь рассмеялась, и её смех вполне соответствовал широкой грудной клетке: от него могли и бочки полопаться.
– Я могу дать тебе то, что ты хочешь: победу в гонках, корону, – проговорил тот же голос, тише мух в хвосте годовалого жеребёнка. – Ты достаточно быстр, чтобы обогнать плуг, – это верно как дождь зимой, но тебе ни за что не обогнать её. Погляди на эти плечи, они же как пятнистые валуны! Она лучший бегун, чем ты, и, возможно, из неё получился бы лучший монарх. Но она не даст мне того, что хочу я; это видно по её холке, копытам и тому, как ниспадает её хвост, а также по линии челюсти. Она из тех, кто считает, что добродетель может легко сидеть на троне. А ты знаешь, кто на самом деле объезжает этот мир, я уверен.
– Чего ты хочешь? – На этот раз я был тих, словно мышь под метлой, и прилежно разглядывал детали плуга.
– О, тебя, мой дорогой Гнедой! Ты стоишь куда больше остальных тварей, и тебе это известно. – Он притворился, что затягивает ремни, и убрал прилипшую к вспотевшему лбу прядь.
– Вообще-то я бы так не сказал, – ответил я.
– Ты наполовину человек, наполовину животное и потому идеально соответствуешь моим стремлениям. Позволь мне заниматься своим делом в мире и спокойствии. Помогай время от времени в разных мелочах, и я выиграю эти гонки для тебя.
Мысли мои неслись со скоростью зайца, которого преследует лиса.
– У тебя нет ошейника.
Он стиснул зубы.
– Нет. Я освободился благодаря удачному стечению обстоятельств и наслаждаюсь его отсутствием. Рабство – грех.
Я продолжал соображать так быстро, как мог. Сделка казалась хорошей, но, если я хоть что-то смыслил, в итоге он потребует больше заявленного сейчас. Я вытер вспотевшие ладони о шкуру.
– Если я стану королём и мне будет прислуживать волшебник, правильнее всего, чтобы он был связан со мной и стал моим сервом. Иначе как я смогу ему доверять? Что помешает ему разорвать меня на части по первому капризу? Ты сказал, добродетели не место на троне? Значит, там как следует отдохнёт грех.
Суровое лицо волшебника скривилось, и я услышал, как скрипят его зубы. Он бросил умоляющий взгляд на небо, затем посмотрел на свои руки – они сжимались в кулаки и разжимались, будто желая спрятать появившиеся на ладонях позорные клейма. На миг мне показалось, что человек вот-вот заплачет. Но этого не случилось. Его плечи дрогнули, багровое одеяние вдруг показалось не таким ярким и весёлым. Он машинально поднял руку к шее и почесал бледную влажную кожу.
– Да, – хрипло проговорил он. – Хорошо, я снова надену ошейник, если ты отдашь себя мне. Оно того стоит, если я получу тебя. Мы будем принадлежать друг другу.
Я топнул по земле копытом.
– Что… что ты сделаешь? Это будет не очень ужасно, верно?
Печаль ушла из его взгляда быстрее, чем муха-подёнка взмахивает крыльями, и её место заняло хищное ликование необъезженного жеребца.
– Не слишком ужасно. Я взорву сердце в её груди – одну камеру за другой.
Я глянул на Серую-в-яблоках – до чего она была красива в мягком сиянии осени, пряча сахарный леденец за румяной щекой. Её длинные волосы искрились, как весенний ливень, а брюхо было покрыто мягчайшей белой шерстью. Мне она нравилась, очень нравилась. Но корона сверкала и пела. Как она пела!
– Да, – я с трудом сглотнул, – это не слишком ужасно.
Серая-в-яблоках игриво ткнулась в меня носом, когда я вернулся к украшенной гирляндами стартовой линии.
– Обещаю, – сказала она, дразня, и её обнаженная кожа сияла точно доспех, – я возьму тебя в супруги. Я слаще яблок, сахара и желудей после дождя, это я тоже обещаю.
Я умудрился изобразить широкую улыбку, которой требовала такая бравада, и приятельски хлопнул её по заду. Мои пальцы были смазаны дурнопахнущей серой мазью, которую дал мне Волшебник. Её не будет видно на коже, сказал он, и никто ничего не поймёт. Она зарделась от удовольствия – а румянец под серебряной кожей выглядит потрясающе.
Запели костяные рога, и мы бросились бежать быстрее любых всадников и любых лошадей, а самоходный плуг вприпрыжку нёсся за нами, рисуя в чернозёме длинную ровную борозду и рассыпая оранжевые хлопья притираний да мазей, которыми был покрыт.
На несколько мгновений я поверил, что могу победить сам, – я очень быстр, быстрее всех моих родственников с гнедой шкурой, и бывает, что изящная лошадь побеждает громадину. Мои ноги резво стучали по гальке, но Серая-в-яблоках просто берегла силы. Она рванула вперёд со смехом, от которого дружно содрогнулись вязы и пихты, и с дружелюбным восторгом хлопнула меня по крупу, обгоняя.
Моё сердце трепыхалось в груди, будто сочувствуя её сердцу – сдержит ли Волшебник слово? Лошадь была уже так далеко впереди, что я видел лишь её серо-белый хвост. А потом она споткнулась.
Я ощутил в собственной груди слабое эхо грома, что раздался внутри неё. Почувствовал, как камеры сердца взрываются одна за другой, будто стиснутые огромным кулаком. Одна, две, три, четыре. Пять, шесть. Семь. Восемь… Серая-в-яблоках рухнула на беговую дорожку с ужасным глухим стуком, и галька разлетелась во все стороны, точно волна.
Я поспешил вперёд. Плуг отстал на целый корпус. Я не взглянул на неё, пробегая мимо, лишь заметил, что рядом собрались те, кому вскоре предстояло о ней плакать. Я пересёк черту. Корона пела так громко, и я схватил её обеими руками. Её голос был чист как сахар, или яблоки, или жёлуди после дождя.
Когда мы сожгли Серую-в-яблоках, как у кентавров принято поступать с мёртвыми, я произнёс длинную прочувственную речь: я был королём, чей долг – оплакивать павших. Всё вокруг пропиталось запахом её горелой плоти, и я с трудом сдерживал тошноту. После того как мы переворошили её пепел, ко мне подошел Волшебник Омир и, глядя на обугленные кости, сказал:
– Забыл предупредить: ты будешь последним королём-кентавром. После тебя могли бы появиться и другие, если бы ты не оказался существом, которому поёт корона, – Серой-в-яблоках, кстати говоря, она не пела. Но случись такое, я бы тебя не выбрал, и печальное место в качестве завершающего длинную линию – твоё предназначение. Ты покоришь народы, которые помогут мне. После тебя будут править люди, а мне уже известно, в чём их суть. Когда ты начнёшь стареть, появится молодой и алчный мужчина с чудовищным поручением, он пронзит кинжалом твоё восьмикамерное сердце и станет королём.
С неба начали медленно падать крупные капли дождя, и последние угли костра Серой-в-яблоках погасли.
– Не пора ли нам под крышу? – спросил Волшебник, широко улыбаясь.
Сказка Короля (продолжение)
Король-кентавр заплутал в воспоминаниях.
– Я хотел стать хорошим королём, – задумчиво проговорил он. – В самом деле, этого хотел. Но пришлось подавлять бунты, собирать налоги и разбираться с угрозами на границе. Вместе с добродетелью такой груз слишком тяжел. Видишь ли, добродетель занимает слишком много места в седле.
Гнедой поднялся со своих подушек, и я впервые увидел его целиком, в том числе левый бок, который до сих пор прятался в тенях и розовом шелке. Он представлял собой густое переплетение шрамов, рубцов и глубоких ям, порезов всевозможной давности, от очень старых до свежих. Под ними совсем не было видно шкуры – лишь узловатая плоть, и целые лоскуты её отсутствовали, будто их сняли, как сливки. Все рёбра хранили следы переломов. Одно копыто было хрупким и пористым, как соты, а лодыжка покрыта коростой. Он берёг её и оттого ужасно хромал. Кентавр доковылял до меня и приблизил своё лицо к моему, откинув редкие волосы с измученного лба:
– Скажи мне… Измаил, так тебя зовут?.. Не тяжело ли твоей добродетели нести груз такого поручения?
– Оно легче, – прошептал я, – чем противная природе тварь, что позволяет рабу кромсать себя до тех пор, пока не утратит возможность ходить.
Гнедой посмотрел на себя и будто впервые увидел изувеченный бок.
– О да. Так он использует меня. Сомневаюсь, что тебя можно использовать так же – заметь, ему нужна лишь моя лошадиная плоть или, если повезёт, та, что принадлежит одновременно человеку и лошади. Должен признаться, я рад, что ты здесь. Наследники – это важно, как ни крути. Уверен, вы двое сумеете использовать друг друга, а я, честно говоря, устал быть полезным.
Я посмотрел на Омира. Наши взгляды встретились, как камень и сталь. В его глазах не было ни растерянности, ни стыда. В тот момент мы поняли друг друга, и все мысли о моей матери исчезли, как туман над озером с заснеженными берегами. Пусть она сгниёт в своей башне вместе с трижды проклятой дырой. Она была мне не нужна: я нуждался в нём.
Омир вытащил из складок тёмного одеяния длинный нож. Мы втроём смотрели, как он мерцает в лучах, струившихся сквозь изящные окна. Волшебник вручил нож мне. Я и не знал, что убийство может быть таким – открытым, при свете дня, со всеобщего молчаливого согласия. Почти церковная служба, и я волновался как ребёнок, впервые увидевший алтарь.
Я трепетал и будто слышал пение короны. Взял нож и, подойдя к Королю-кентавру, похлопал его по плечу, как всадник хлопает нервного скакуна. Он не отпрянул, и наши взгляды встретились – как древесина и сталь.
– Монстр, – прошипел я и вонзил нож ему в сердце, по самую рукоять, затем вытащил и вонзил снова. Один, два, три, четыре. Пять, шесть. Семь. Восемь.
Гнедой улыбнулся и упал на мраморный помост с глухим стуком, будто мешок тяжелых костей.
Сказка о Принце и Гусыне (продолжение)
Леандр глазел на своего отца, лежавшего на огромной пустой кровати, на его седые виски́ и морщины на лице, порождённые явно не смехом. Его глаза мерцали в тусклом свете.
– Омир и я в самом деле нашли применение друг другу. Он не снял ошейник, а я не послал его на костёр. Он хотел заполучить степняков и их Ведьму, я – Волшебника, который будет согласно моей воле вызывать дождь и засуху, травить и уничтожать то, на что я укажу. Мы вершили великие дела: вместе покорили его степняков, которые, несомненно, были столь же противны природе, как и кентавры. Мне никогда не нравилась магия, но его я терпел, и он был мне за это признателен. Достойная сделка, поскольку никто не был заинтересован кромсать меня как кусок говядины. Не менее достойную сделку я заключил с этой страной, покорившейся моим приказам не хуже любой другой. Я не собирался становиться всеобщим любимцем и поборником справедливости – просто хотел быть сильным.
– Король способен на большее, – заупрямился Принц.
– Так поначалу думает каждый из нас, полный решимости превзойти отцовские достижения, зная, что нам под силу изменить природу людей, сделать её лучше и чище. Но потом кинжалы сверкают в ночи, крестьяне бунтуют, и разные зверства становятся привычным делом, как завтрак. Только принцы верят в высшее благо. Короли знают, что существует лишь Власть, во имя которой можно творить что угодно. Итак, ты перережешь мне горло или предпочтёшь более интимный метод – удушение? Кажется, у меня где-то завалялась гаррота.
– Нет, – ответил Леандр, – я не стану тебя убивать как вор в ночи.
Король опять издал тихий добродушный смех, будто читал сыну сказку на ночь.
– Леандр, воры не так уж плохи, а убийства рядятся в разные одежды. Нет смерти и убийства, которое было бы лучше прочих. Если ты можешь меня убить, способ едва ли заслуживает внимания. Ты желаешь прикончить своего отца и думаешь, что будешь спать крепче в ближайшие семьдесят лет, если сделаешь это благородным образом. Но твою честь запятнает отцеубийство, и никакие высоконравственные оправдания не вернут ей белизну. Ты ждёшь признания, чтобы очистить собственную душу? Что ж, ладно. Всё, что она тебе рассказала, – правда, а ещё было много другого. На моих руках больше крови, чем ты смог бы пролить за всю свою жизнь. Я этим горжусь. Это моя корона и мой скипетр! Жаль, что в тебе нет такой целеустремлённости, напора. Но ты поймёшь, как и все мы. – Тут король элегантным жестом отбросил розовое одеяло. Оказалось, что он полностью одет – на нём были потрёпанные кожаные штаны и нагрудник от доспеха, – и с головы до ног коричневый, будто гнедой конь. – Тебе нужно оружие? Ты и впрямь явился настолько неподготовленным? Плохой из меня отец. По крайней мере этим я могу подсобить. – Он вытащил из-под матраса кинжал – отблеск пламени скользнул вдоль лезвия, как шустрый лосось.
Ошеломленный Леандр принял оружие, едва ли чувствуя его рукоять в своих пальцах. «С той давней ночи, – подумал он, – когда я покинул Дворец, всё шло не так, как предполагалось».
Принц сел рядом с отцом – так близко, что почувствовал запах его сухой кожи, запах раскалённого песка.
– Я… прощу прощения.
Измаил, владыка Восьми королевств, закатил глаза и, выхватив собственный кинжал, приставил его к горлу Принца.
– Если ты не можешь справиться с одним пустяковым убийством, какой из тебя король? Вот как всё делается, сын мой.
Но, прежде чем он перерезал глотку Леандру, Гнёздышко, о которой оба забыли, увлечённые разговором, откинула голову, метнув чёрной гривой по полу. Она снова закричала – громче, чем в тот раз, когда явилась на свет, и все окна, стеклянные штучки разлетелись на осколки, а птицы попадали с небес. Вороны, воробьи, зяблики один за другим падали за окном, будто многоцветный дождь. Крик был исполнен гнева, нараставшего точно полноводная река, пока она смотрела, как отец-который-не-был-отцом собирается убить Принца. Когда кинжал коснулся шеи юноши, голос девушки разбил лезвие на части, и один из осколков угодил прямо в королевский глаз.
Леандр колебался лишь мгновение, а потом вонзил свой нож в грудь короля со всей силой, навалившись на рукоять, и клинок вошел как следует, глубоко.
Но король продолжал смеяться, даже когда у него на губах появилась кровавая пена.
– Помни, сын мой, – прохрипел он, умирая, – смертью своей наставляю тебя. Вот что такое власть. В конечном итоге нож всегда оказывается в твоих собственных руках.
Гнёздышко стояла на балконе Замка, одетая в мерцающее белое платье. Она смотрела вдаль, где предгорья превращались в настоящие горы.
– Я всегда желал одного – покинуть это место, – сказал Леандр, приблизившись и положив руку ей на плечо. – Освободиться. А он сумел меня поймать и запереть здесь навсегда. Меня приравняли к нулю навечно.
– Но гнездо выживет, братец, – ответила она.
Её голос с каждым днём становился мелодичнее. Леандр обнял сестру.
– По крайней мере ты со мной, Гнёздышко. Хватит и этого.
Но она выпуталась из объятий и с грустью посмотрела в его усталые глаза.
– Нет. – Она вздохнула. – Я ухожу. Я должна уйти. У меня есть долг, как и у тебя. Ты спас королевство своего отца, а я должна позаботиться о землях своей матери. – Её взгляд опять скользнул к дальним холмам, точно они были тенями, что охотились за ней. – Когда летала, я знала, кто я и что мои крылья… взяты взаймы, но не думала об этом. Не знаю, почему сохранила разум в теле птицы, – заклинание не должно было так подействовать. Но я любила ветер, и луну, и мою мать. Без причины – просто любила. Теперь причин предостаточно, и все они сходятся в пещере где-то в тех холмах, и лишь у меня есть право войти в неё. Ты рождён для престола – тебя назовут Королём-калекой, утратившим благословенные пальцы. Появятся истории, а затем легенды. Тебе от этого не сбежать, как мне не сбежать от воспоминаний о ветре, что ласкал мой живот. Вероятно, ты сможешь что-то изменить и остаться принцем, хотя все, у кого есть голос, будут звать тебя королём. А возможно, и нет. Но я не могу остаться, чтобы учить тебя. Я утратила всё, что имела, и мне нужно отыскать это снова у бедных потерянных Звёзд. Мы оба должны отыскать свой путь к силе и научиться с ней обращаться. Твоё гнездо не может быть моим.
Леандр сдерживал слёзы, грозившие вот-вот упасть на изящное плечо сестры.
– Но ты уйдёшь не сразу, верно? – спросил он сдавленным голосом. – Я этого не вынесу. Здесь так одиноко! Со временем я научусь держать власть, как уголь, и не обжигаться. Но ты должна остаться ещё хоть ненадолго, ради меня. Мы должны быть семьей, хотя бы на некоторое время. Хоть чуть-чуть.
Гнёздышко повернулась к нему с улыбкой ярче десятка полуденных солнц.
– Конечно, я побуду с тобой, мой единственный брат, мой родной.

Утром она исчезла, словно её и не было. Король в одиночестве стоял посреди огромного зала цвета слоновой кости.
На рассвете
Рассвет принялся наряжаться в синее и золотое, украшать волосы красными самоцветами. Он протянул руки к двум детям, почти заснувшим на подоконнике на вершине башни. Голова мальчика лежала у девочки на коленях, её руки гладили его волосы, пока она договаривала последние слова сказки. Ветер прошелся по Саду, подняв вихрь белых лепестков, которые потекли прохладными реками, то и дело сливаясь в водовороты. Дикие птицы вскинули головы и запели с такой страстью, что песня чуть их не убила.
Мальчик взглянул на девочку, чья голова украсилась короной из солнечного света, сияющим венцом из жидкого золота. Её тёмные глаза тепло светились, будто камни, отполированные течением реки.
– Это была удивительная история! – воскликнул он, восторженно обнимая девочку.
Скользнув вниз по плющу и осыпающимся камням, девочка напоследок одарила мальчика робкой улыбкой. Он следил за ней, сияя, и нежные руки солнца касались его лица.
– Завтра я расскажу тебе другую, ещё более странную и удивительную, историю, если ночью ты вернёшься в Сад, ко мне…
Смеясь, она спрыгнула на траву и унеслась прочь от башни, исчезла среди деревьев, и волосы струились за нею, точно обещание.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ