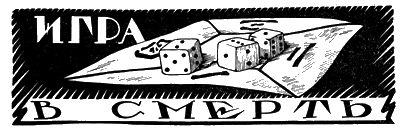
ИГРА В СМЕРТЬ
Приключения охотинков-соболевщиков в Уссурийском крае
Рассказ Николая Ловцова
Рис. Б. Шварца
— Ну, ну, пора, будет, — понежился и вставай! — услышал я голос своего старого приятеля, уссурийского охотника Сухожилова, и, высунув из-под одеяла голову, встретился с его добрыми глазами, прикрытыми густыми ресницами.
Но тут же осенний морозный воздух охватил мое тело, и я, ежась, снова потянул на себя одеяло.
— Эх, ты, охотник! Я уже чай согрел, а ты мерзнешь, — как же мы с тобой так три недели проживем в тайге? — усмехнулся он, сдергивая мое одеяло.
— Да постой, постой, — ухватился я за него руками, — еще темно, вон и звезды на небе…
— Ну, ну же, будет дрыхнуть! Всю ночь проспал… А уговор помнишь?
Этсго мне было достаточно. Я сейчас же вспомнил, что, устраиваясь на ночлег, мы с Сухожиловым условились: первую половину ночи он дневалит, стережет коней, смотрит за огнем и, вообще, наблюдает наше добро, а во вторую половину— на дежурство должен был заступить я. Но вышло совсем не так, — всю ночь просидел один Сухожилов. Это меня обидело. Я подошел к нему и с досадой сказал:
— Ты это что же, разбудить не хотел? Так мы с тобой после этого можем быть приятелями или нет? Или, может, ты думаешь, что я дежурить не способен? В таком случае зачем ехал со мной?
— Эх, право, какой ты обидчивый, — недовольно протянул он. — Видишь ли, первое дело, мне будить тебя не хотелось, уж больно ты хорошо спал; притом я уже старик, ко мне и так сон не идет, а второе дело, тут, около нашего привалу, кто-то шлялся. Сначала это как будто кабаны, ну, а потом, по-моему, тигр голос подал, и кони наши перепугались, к огню прижались. Вот, я все время настороже и сидел, выглядывал, кто бы не сунулся. Ну, сам знаешь, как только почуял бы, что зверь близко, так, не беспокойся, тебя сразу бы разбудил. К тому же ты знаешь, что слух мой вострее и привычки звериные мне доподлинно известнее, чем тебе. А теперь, брат ты мой, давай-ка седлать коней, вьючить заводного, да сегодня же перейдем Сихота-Алинь. Хребет этот нелегкий, а теперь, вот, чайку испьешь, к тому времени и солнце поднимется, да и в путь-дорожку.
Делать было нечего. Сухожилов оказался прав, и, чтобы сгладить свою вину, я первым принялся седлать и вьючить коней. А потом, попив горячего чая, мы молча сели в седла, и Сухожилов выехал вперед, указывая мне дорогу. Вьючная лошадь, на которой был наш охотничий припас, шла между нами.
— Вот что, Алексеич, — обратился он ко мне, после того как мы проехали минут 20–30, — вон за тем поборотом, за увальчиком, тропа шире будет да мягче, — ты равняйся со мной, я тебе расскажу, как соболевать будем, а то вы, рассейские, как в наш Уссурийский край попадете, так за дело и не знаете как приняться…
— Что ж, давно пора, снаряженье мы захватили, а пока ты мне ничего не объяснил, как с ним обращаться, — давно бы пера!
— Ну, ну, не ворчи. Повременишь…
Действительно, сначала наша дорога шла по узкой таежной тропинке, заваленной корягами, павшими деревьями и засыпанной россыпью — мелким камнем, скатывавшимся с гор, вдоль подножья которых вилась наша тропа. И только часа через три мы выбрались на более широкую и мягкую, и там я поровнялся с конем Сухожилова, поймав нашего вьючного за повод, чтобы тот не оторвался от нас.
— Что ж, так и быть, посвящу тебя в наши премудрости… — начал мой спутник. — Видишь ли, соболь-то — зверь дорогой, и бьют его здесь здорово, — меры не знают. Но опять же бьют его на нашей уссурийской земле больше не мы, а все те же китайцы. Помнишь, я тебе рассказывал, как они лудевы[7]) делают. Так вот, вместе с лудевами здесь у нас просто захват нашей тайги. Все способы они придумали. И, знаешь, ничего нам с ними пока не сделать. Делов у нас без этого много, и где тут на тайгу обращать внимание. Притом у нас и охотников хороших нет. Все мы больше норовим около дому промышлять, чтоб баба недалеко была, а ведь зверь-то не не дурак, он не набежит на тебя и не скажет: «Возьми-ка меня, шкура-то, ведь, у меня добрая». Притом на соболя, вот, и ружья не так нужны, тут снасть больше необходима.
— А у нас зачем с тобой ружья за спинами болтаются?
— Ты разве забыл, кто ночью-то около нас ходил? В тайге, брат, не шути, тигра ловушкой не испугаешь. Потом медведь, волк, рысь, да разве мало зверя у нас!.. Ружье и на других, мелких годится. Да и соболя иногда на пулю берешь, — все бывает…
Однако, слушай о нем: живет он больше в самых глухих местах. Соболь— зверь осторожный, и еще его привычка, — по земле он бегать не любит, все больше норовит по колоднику. Ну, вот, китайцы первыми заприметили это, впрочем, первыми его привычки узнали гольды да орочи, а китайцы от них переняли и сразу же, на их же манер, давай мастерить ловушки и ставить среди валежника да на колоднике. А так как китаец — человек без лени, то он сразу в этом деле своих учителей опередил.
А делается это так: сначала выбирается место такое, чтоб было видно, что по нему соболь ходит. Ну, а если вблизи нет подходящего бурелома, то промышленники нарочно валят деревья. А на этом лежне в два ряда вбивают колышки. Каждый высотой в 6–8 дюймов. Колышки ставятся по бокам, а в середине проход делается, как бы коридор. Длина этого прохода или коридора должна быть аршина полтора, ширина же вершка 2–4. Над лежнем же кладут другое бревно, меньше лежня, но такое, чтобы могло свободно лечь в коридорчик. Одним концом это бревно упирается в землю, а другим поднимается кверху, так фута на два, на три от лежня. Между рядами колышков кладут две тоненькие драночки, которые внутренними своими концами опираются на два прута, заложенных в вырезки, сделанные с обеих сторон двух ближайших к ним приколышей. От одного из этих прутиков к верхнему бревну идет веревочная снасть. При помощи маленького рычажка снасть держит бревно в висячем положении. И вот, когда соболь пробегает по дранке, он силой своей тяжести сдвигает их с прутиков. Бревно срывается и давит зверька…
Ставить такую ловушку надо — ох, умеючи! Если присноровишь слабо — будет давить без разбору всю мелкую живность: бурундуков, мышей и даже мелкую птаху, вроде поползней, синиц и других таких же. Ну, а поставишь туго — она пропустит соболя. Это, брат, наука тонкая! Мы, вот, с тобой выехали-то недельки на три, а китайцы с 15 сентября, это по старому, ушли уже на соболевание. В тайге у них заранее есть приготовленные фанзочки, и живут они в них по одному, по два, много — по три человека. Снарядит себе каждый из них штук 500–700 ловушек, расставит в окрестностях фанзы, и с утра как зарядит бегать от одной к другой, от одной к другой… Буря ли, вьюга ли, — китаец, пока не оглядел свои снасти, обхода не кончит. А чтобы легче обход было делать — это когда у него много ловушек, — то он на полдороге ставит себе еще и запасную фанзочку. Застала его ночь в тайге, — он нырнет в фанзочку, переспит в ней, а на утро опять пускается в обход до своей центральной фанзы…
— Вот как бьют соболя-то! — вдруг закончил Сухожилов, хлопнув рукой по крупу моего коня.
— Ну, а много ли так набивают? — заинтересовался я.
— Как тебе сказать… Раньше, когда в здешних местах соболь был, его добывали штук 12–15 за зиму на охотника, ну, а теперь 2–5, и то говорят— хорошо.
— Так за этим и стоит весь день потеть? — удивился я.
— Зачем за этим? Кроме соболя тут же китаец бьет белку, хорька, рябчика, — глядишь, он и заработал. Да и охотничают они только до декабря, а там, как занесет тайгу снегом, уже не вылезешь, каюк делу приходит, и снасти свои не узнаешь, — везде сугробы будут.
Впереди мы услышали шум горной речки, затем тропа сузилась, я осадил своего коня, и не успели мы проехать и двух десятков сажень, как наша тропа пересеклась бурливым и глубоким ручьем. Шириной он был не более четырех-пяти аршин.
— Неладное дело… — покачал головой мой спутник, слезая с лошади, — раньше здесь мостик был, а теперь куда-то снесло, а так эту речушку не перебродить.
— Что ж, объезжать будем?
— Нет, Алексеич, в тайге объезжать не приходится. Вот, слезай-ка, добудь во вьюке топоришки и принимайся валить деревья. Самим придется мастерить переправу…
Привязать лошадей, добыть инструменты и повалить деревья не было труда. Но мы долго повозились с переброской их через реку. Они у нас так неудобно падали, что два из них унесла вода. И только часа через три упорного труда, поперек бушующей воды у нас легло десяток четырехвершковых бревен. Концы их мы прикрепили кольями, сверху подтянули жердочками и начали переводить коней.
Сначала, как более спокойного, я перевел своего чалого, за ним пошел Сухожилов со своим конем, там он принял моего, а я вернулся за вьючным. И только успел я завести его на мостик, как в кустах около нас кто-то громко заревел… Мой конь забился, провалился одной ногой между бревен, поднялся на дыбы и так рванул поводья, что я не удержался и повалился с моста. Но, на мое счастье, мне под руку попал сучок, случайно не срубленный нами у крайнего бревна. Это меня спасло от холодной ванны. Не успел Сухожилов броситься ко мне на помощь, как я был уже рядом с ним и тут же поймал своего беглеца, запутавшегося в длинных сыромятных поводьях.

— Ревет-то тигр… — шепнул мне Сухожилов, суя поводья остальных коней и бросаясь через мостик в кусты. А я еле удерживал перепуганных животных. Они поводили ушами, дрожали и тряслись всем телом. По их поведению можно было уверенно сказать, что зверь где-то ходит тут, около нас, потому что органы слуха у таежных лошадей всегда лучше, нежели у луговых.
Вдруг Сухожилов бегом возвратился ко мне и исчез в кустах, что были на нашем пути…
— Куда ты? — не выдержал я.
— Кажись, на эту сторону махнул, а ты все же гляди назад! — успел он бросить мне, исчезая в густой листве кустарника, и, вслед за этим, я услышал сначала три выстрела, потом реп тигра, а затем и голос моего спутника…
— Держи коней! Там где-то другой зверь… Как бы не оборвались!
Я с тревогой оглядел кругом местность. Речонка попрежнему бурлила и пенилась. Кони трясли головами и пряли ушами. Все было тихо. Но для безопасности я, улучив минуту, выкинул из своего центрального ружья патроны с картечью и сейчас же засадил в патронники пули.
— Эй, Алексеич, выезжай-ка! Пожалуй, до темноты он не нападет! — услышал я издалека голос Сухожилова и сейчас же повел коней на его. голос.
Подъезжая к нему я с удивлением заметил, что он пристально рассматривает ноги нашего вьючного коня.
— А это совсем плохо, — указал он на длинную рану. — Видать, когда он провалился между бревен, так и ссадил ее. Сейчас он только прихрамывает, а завтра может и совсем стать. Пока рана горячая, ее бы медвежьим салом.
— А где нам найти сало?
— Сейчас подумаем. Постой, тут недалеко мой приятель живет; китаец, зовут его Ха-Ли-Чан. У него такое снадобье всегда есть. Завернем к нему. Кстати, там и переночуем. Без крыши сегодня будет спать неудобно.
— Что ж, давай, заедем. Тебе лучше знать, — согласился я, направляясь за ним.
Дорога снова потянулась узкой тропой, с корягами, с павшими деревьями и россыпями. Солнце заходило, и сумерки окутывали лес и горы. Кони то и дело спотыкались и клевали мордами вниз. Колючие ветви кустарника и разросшиеся ели хлестали по лицу. Приходилось наклоняться, и я в душе уже ругал моего приятеля, желая сейчас же заночевать, хотя бы и под открытым небом.
Вдруг вдали мелькнул огонек, и вслед за ним мы услышали высокий, гортанный, характерный для китайцев, крик.
— Неладно что-то у Ха-Ли-Чана, — пробурчал с тревогой Сухожилов.
— Как неладно? — насторожился я.
— Вишь, китайцев много, а у него всегда всякий ихний сброд собирается. Тут и хунхузы, и соболевщики и искатели жень-шеня[8]). Как соберутся, так за игру принимаются или ханшин[9]) пьют. В игре же китайцы — ух, как азартны!
— Вот, никогда не слыхал, — удивился я.
— Ну, теперь не до того, слыхал или нет. Ты вот что, Алексеич, повремени-ка здесь малость, а я стороной обойду фанзу и вызову хозяина. Разведку произвести следует, а то влопаемся и костей не вынесем, — проговорил он, передавая мне своего коня и исчезая в кустарнике…
После его ухода я осторожно снял ружье, проверил его заряд и потом отвел коней глубже в кусты, чтобы случайный взгляд из фанзы не заметил их.
Сухожилов не возвращался минут 20–30, и я уже начал тревожиться, тем более, что, как мне показалось, в фанзе шум усилился, и я уже различал несколько спорящих голосов и стук о что-то твердое и полое. Иногда мне казалось, что там кого-то бьют по голове. Но вот послышались шаги. Я насторожился.
— Алексеич, где ты? — уловил я тихий голос моего приятеля.
— Здесь!
— Куда же пропал-то?
— Да тут, около тебя, в кустах, — так же тихо откликнулся я.
— Вот это хорошо, ей-ей хорошо! Молодец ты, что коней сразу припрятал, — похвалил он меня и затем, обратившись к кому-то, проговорил:
— Вишь, Ха-Ли-Чан, мой капитана спи мал-мало будет, и конь надо лечить…
Китаец вылез из кустов и, подойдя ко мне с Сухожиловым, предостерегающе прошептал:
— Моя фанза хунхуз, охотник, кости играть, моя мал-мало другой изба есть, рядом изба, один крыша изба. Твоя там широко хорошо сипи. Трогай твоя хунхуз не будет. Хунхуз гостя Ха-Ли-Чана не трогай…
— Ладно, ладно, а мы тебе заплатим, не беспокойся, только коней куда бы припрятать? — обрадовался я, слезая со своего чалого.
— Зачем твоя плати? Моя деньга не надо. Моя Сухожило друг, наша деньга не бери, — вдруг обиделся он, принимая от меня коней и направляясь с ними к маленькому сараю, выстроенному в стороне от фанзы.
Расседлав коней, смазав рану больного коня медвежьим салом и задав им бобовых жмыхов, оказавшихся каким-то образом у Ха-Ли-Чана, мы прошли за ним в чистую половину его фанзы, которую он почему-то звал «другой изба». И эта его «другой изба» была отделена тонкой перегородкой от второй большой и грязной половины, из которой доносились голоса китайцев.
Усадив нас на кане (нары, подогреваемые снизу дымоходом), Ха-Ли-Чан сварил нам жиденького, но душистого чая и угостил пампушками. Расставив все это на том же кане, на котором мы сидели, Ха-Ли-Чан исчез за перегородкой.
Сухожилов, не спеша, выпил три небольших чашечки, проглотил одну пампушку и, положив под бок винтовку, прижался носом к перегородке, где было несколько щелей. Я тоже выпил чай, но, заметив, что пампушки произвели на моего приятеля не особенно хорошее впечатление, вытащил из своих сум сухари и с аппетитом стал их грызть.
Однако поведение Сухожилова меня так заинтересовало, что, насытившись, я тоже подошел к перегородке и последовал его примеру.
Там, в просторной комнате, закоптелой и грязной и освещенной несколькими сальниками, сидело на широченном кане человек восемнадцать полуголых и оборванных китайцев. Перед четырьмя средними лежал красный платок с нарисованными на нем знаками, на который бросались кости с очками. Вместо денег китайцы расплачивались маленькими палочками, с выжженными на них значками.
— Вишь, деньги-то у Ха-Ли-Чана, а вместо денег он им свои чеки выдал — палки. Это порядок расчета у них такой, притом и хозяину удобнее процент удержать, — пояснил мне Сухожилов.
Китайцы играли с большим азартом: они кричали, спорили, стучали кулаками по кану и с кулаками же подскакивали один к другому. Больше всех шумели двое. Первый был совсем голый и костлявый. По тому, что на его руках болтались деревянные браслеты, можно было заключить, что он искатель жень-шеня.
Второй был в китайских ватных штанах военного покроя. Его движения и манеры показывали, что он когда-то был военным, а теперь, наверное, хунхуз. Он был невысокого роста, коренастый, узколицый, с большим шрамом, проходившим от левого глаза по всему лицу через нос, отчего его и так приплюснутый нос, казалось, был вдавлен.
Женьшенщик проигрывал, а хунхуз выигрывал. Женьшенщик поминутно бегал к Ха-Ли-Чану, и у него, на остатки рассыпного золота и японские кредитки выменивал новые чеки — деревянные палочки. Ему отчаянно не везло. Все его ставки бились, а его мазовщики[10]) все время ему что-то показывали, — видимо они подозревали в хунхузе мошенника. Поэтому-то и был спор.
— Пусть их покричат, давай-ка чайку еще попьем! — одернул меня Сухожилов и тут же предупредил: — Смотри, ружье далеко не убирай, пожалуй пригодится, — эти люди, как в азарт войдут, ничего не помнят.
Я ближе пододвинул к себе ружье и вслед за Сухожиловым принялся снова за чай. Однако не успели мы выпить и по одной чашке, как отчаянный шум снова нас привлек к щелям.
Мы прислушались к горячему спору за стенкой.
— Проиграл, так давай деньги, — требовал хунхуз от женьшенщика.
— Моя все деньги тебе отдавал, последний раз метал, сам знаешь, долг, — отговаривался тот.
— Клади деньги на кан! В игре нет долгов! — требовали Еслед за хунхузом и era сторонники, мазовщики. — Давай деньги!
Спор разгорался. Китайцы повскакали с кана, разделились на две партии. Одни были на стороне выигравшего хунхуза, другие на стороне женьшенщика. Даже дело дошло до того, что поднялись кулаки и засверкали ножи. Пожалуй, дальше можно было ожидать чего-нибудь худшего, но кто-то из них догадался:
— Играй хулацзы!
— Хулацзы, хулацзы играй! — подхватили остальные, и все, как по команде, притихли, разместившись на прежних местах.
— Ого, дело-то серьезное, — прошептал Сухожилов. — Смотри — эта игра на продажу самого себя. Хулацзы — значит раб. Если женьшенщик проиграет, он поступит в полное распоряжение хунхуза, тот имеет право продать его и даже…
Но не успел Сухожилов закончить фразы, как женьшенщик взметнул кости, и китайцы с загоревшимися глазами уставились на платок. Мы тоже с волнением наблюдали за этой картиной. Женьшенщик сначала повертел кости над головой, потом соскочил с кана, отошел в угол, пошептал что-то над. ними и, быстро подскочив к платку, с размаху кинул их на платок, от волнения закрыв глаза.
Китайцы наклонились над очками.
— Одиннадцать, одиннадцать, — с облегчением произнесли сторонники женьшенщика и впились глазами в хунхуза. Хунхуз улыбнулся, спокойно собрал кости и, не дав опомниться присутствующим, в свою очередь, бросил кости на платок. У него оказалось на каждой кости по шесть очков.
— Восемнадцать! — громко выкрикнул он, вскакивая с кана. — Восемнадцать! Твоя хулацзы!
— Нет, моя хулацзы не будет! — вдруг диким голосом завопил женьшенщик и, выхватив у одного из присутствующих нож, резким взмахом отхватил от своего живота кусок кожи с мясом и бросил его на платок.

Это уже была игра «на мясо», и ни один китаец не имет права отказаться от этой ставки…
В фанзе все как-то сжалось и притихло. Игроки посторонились от женьшенщика и со страхом и с восхищением смотрели на него.
Я теснее прижался к щели, крепче сжав свое ружье.
— Тише, тут дело дурным пахнет, — шопотом остановил меня Сухожилов.
Хунхуз молча подошел к платку, подобрал кости, незаметным движением руки откинул мясо женьшенщика в сторону и так же спокойно, как и в прежний раз, кинул кости. Все притаили дыхание.
У хунхуза снова оказалось шесть очков на каждой костяшке.
Женьшенщик, шатаясь, собрал кости, поднял их над головой, крутнул в воздухе раза два и, крепко сжимая в кулаках кости, уперся ими в платок. Потом он разом разжал кулаки и отвернулся.
— Восемнадцать! — крикнул кто-то из китайцев.
— Восемнадцать? — разом повернул женьшенщик свое костлявое лицо.
Хунхуз, не обращая на него внимания, снова подобрал кости и, как бы невзначай, бросил их на платок. У него оказалось всего пять очков. Женьшенщик радостно подскочил к кану, в свою очередь собрал в руки кости, потряс их над платком и уже спокойнее выбросил их. У него набралось десять очков.
— Нет хулацзы, нет хулацзы! — радостно закричал он, подпрыгивая перед хунхузом.
— Моя все равно тебе хулацзы не отпускай. Твоя надолго хулацзы, моя играй на мясо, — остановил его хунхуз.
— Не надо мяса, давай ему обратно хулацзы, давай обратно хулацзы! — потребовали за ним все китайцы.
— Нет, моя мясо играй! — твердо стоял на своем хунхуз.
— Давай ему хулацзы, зачем себя портить! Зачем хворать будешь, мясо от брюха резать надо, — пробовали урезонить его приятели.
— Нет, моя мясо играй! — попрежнему упрямо твердил хунхуз, отходя от всех в угол.
Но ему не дали сделать и шагу; китайцы набросились на него, сшибли с ног, кто-то сунул женьшенщику тот самый нож, которым он только что резал себе живот, и все в один голос потребовали:
— Бери от него свой мясо, бери!
Я опять схватился за ружье.
— Не трогай, это их обычай, у них в тайге свои законы, не вмешивайся, а то и тебе кусок отсекут, — остановил меня Сухожилов.
Но все равно я не успел бы помочь хунхузу. Женшенщик в одно мгновенье взмахнул ножом и, отхватив от его живота точно такой же кусок, какой ставил и сам, потряс им в воздухе.
— Теперь хулацзы даешь? Даешь хулацзы? — закричал он.
— Даешь хулацзы? — с азартом повторили остальные китайцы.
— Нет! — также твердо выкрикнул хунхуз, вскакивая на ноги и таща за собой к двери женьшенщика. — Теперь моя смерть играй будет! Моя с тобой смерть играй будет!
— Смерть играй, это справедливо! — объявил Ха-Ли-Чан, до сего времени не вмешивавшийся в спор, и, вытащив из-под кана длинную веревку, увлек за собой всех на двор.
— Давай-ка, Алексеич, по добру по здорову за хребет выбираться, а то не ровен час и мы ввяжемся в эту катавасию. Дело тут опасное, все равно, что с огнем, — посоветовал мне Сухожилов.
— А что? — удивился я.
— А вот, видишь ли, хунхуз после проигрыша был обязан объявить женьшенщику, что тот от хулацзы освобождается. Видишь ли, он этого не сделал, сам решил отдать свое мясо, а теперь и пошел на последнее дело, — игру в смерть. А это у них кончается не одной смертью, а несколькими. Тут такой пир у них будет… Забирай-ка вещи, да по коням!..
И Сухожилов, забрав свою винтовку и переметные сумы, двинулся к выходу.
На дворе мы осторожно прокрались к сараю, оседлали лошадей и вывели их на двор. Но все же, подталкиваемые любопытством, мы решили проследить за этой игрой.
Я первый высказал эту мысль.
— Не думал, что ты такой любопытный до смертоубийств. Ну, да ладно! Только осторожней, садись на коня, с него, смотри, не слезай, и вот, выберемся туда к дороге, там место хорошее, чуть чего — и удрать успеем во-время и нам видно все будет, — посоветовал он, направляясь к кустам рябины.
Из-за кустов мы увидели большую гладкую поляну, посреди которой одиноко стояло сучковатое дерево. Крупная, полная луна светила не хуже, чем тусклое осеннее солнце. Оба китайца: женьшенщик и хунхуз, поджав раны, стояли под деревом…
На верхушке сухостоя возился один из приятелей хунхуза и там заправлял длинную веревку, принесенную Ха-Ли-Чаном. Концы веревки держал Ха-Ли-Чан, завязывая на них петли.
Китайцы правильным полукругом обступили игроков и молча, с блестящими глазами наблюдали за приготовлениями.
Но вот веревка была готова, оба игрока просунули головы в петли и, под счет толпы, разом подпрыгнули вверх, потом потянули друг друга. Суть этой страшный игры заключалась в том, что каждый из китайцев должен был тянуть веревку до тех пор, пока его противник не будет задушен.
Когда игроки подпрыгнули и их веревка натянулась, китайцы вытянули вперед головы и сузили круг…
А под деревом противники ворочались, подпрыгивали и что-то кричали, стараясь задушить один другого. Но так как по весу они оказались равными, то игра затянулась. Они оба посинели, жилы на лбу напряглись, у обоих изо рта выступила пена; но ни тот, ни другой не имел силы затянуть веревку на шее противника.
Наконец, зрители не выдержали и, подскочив к игрокам, с азартом потребовали от того и другого, чтобы они сильнее натягивали веревку. Некоторые из них с омерзительными движениями и прыжками показывали даже, как надо натягивать, чтобы удобнее задушить противника…
Это меня так возмутило, что я, уже не рассуждая, сжал бока своему коню, выхватил из-за пояса громадный кавказский кинжал, служивший мне в последнее время вместо охотничьего ножа, и, пустив коня на всем скаку, обрезал веревку.
Игроки сразу оборвались и покатились на землю. Китайцы же сначала опешили и, опустив руки, молча наблюдали за тем, как я повернул коня к Сухожилову, но потом спохватились, зашумели и, когда уже я гнал коня обратно, с чем попало бросились на меня.
Не будь Сухожилова, мне бы не сдобровать. Он во-время скинул с плеча винтовку и тут же разрядил ее в сухое дерево. Китайцы, услышав частые выстрелы и свист пуль, прилегли к земле. Сухожилов подскочил ко мне и крикнул:
— Гони прямо, дорогой!
И сам, еще раз зарядив винтовку, для острастки выстрелил раза два по направлению фанзы и пустился за мной…
На хребте он догнал меня, сдержал свою лошадь и покачал головой.
— Эх, и угораздило ж тебя! Какой ты прыткий! Ведь не будь винтовки, не выйти бы тебе живым. Притом теперь и дособолевались! Ворочайся-ка домой, а там за Амур поедем. Здесь, Алексеич, они этого не простят, разыскивать теперь нас будут. Эх, право, какой ты?!.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ