Они рассуждали несколько времени о сих строках, но не могли никак их растолковать; при всем том, казалось им небесполезным, что не оставили этого без внимания, и герцог положил бумажку в карман. Потом начали осматривать комнату, в которой постель и все мебели нашли в прежнем порядке; но не было уже скелета. Усугубив внимание, приметили довольно большое пространство пола, обагренное кровию, как видно, с давнего уже времени, и истекавшей в таком количестве, что, скопившись у дверей, составила небольшой бугорок. За несколько шагов от постели нашли на земле серебренный сосуд, который, по-видимому, сильно был брошен, потому что одна сторона его была помята, и столь он почернел, что едва можно было узнать род металла. Близ сего сосуда на полу видны пятна, произведенные черной жидкостию. Сии признаки подали повод ко многим догадкам. Они все согласились в том, что совершено убийство в сей комнате; но кто был жертвою оного, того никак не можно было узнать; ибо нельзя было надеяться выведать о том от графа, а тем менее от его сестры. Итак, оказание правосудия родственникам убитого должно было предоставить суду Божию, или доколе само собою дело сие не обнаружится. Тогда Гримоальд сказал с обыкновенною своею дерзостию, что он приемлет на себя сделать о том надлежащие исследования и допросить Брюншильду, присовокупя к тому, что обязан дожностию настоять о дозволении сделать допрос герцогине и ее брату, и уверял, что надеется в том на ловкость свою и выведает от них непременно о истине сей истории, «потому что никогда, — говорил он, — не встречал я ни одного так называемого привидения, чтоб его не выгнать и не открыть причины его проказ».
— Я этому верю, — сказал Раймонд, — ежели, по вашим словам, встречали вы только крыс и нетопырей. Но прошу вас сказать, какого рода была крыса, принудившая вас вчерашнего дня выронить из рук лампаду, или что за нетопыри, забавлявшие нас пением, между тем как вы купались в болоте?
Гримоальд отвечал сердито, что теперь шутки не у места и что в другое время докажет он упрямому англичанину, что храбрость и достоинство его особы заслуживают гораздо лучшего внимания, нежели как он думает.
— Почему знать, — присовокупил он, — может быть, собственные мои выгоды терпят от этого убийства, и я более всех имею права об оном разыскивать.
— Да кто же ты такой? — спросил его Альберт.
— Гримоальд-мститель, — отвечал Раймонд, смеясь изо всех сил.
— Я рыцарь, и это вам докажу, — сказал незнакомец, выходя гордо из комнаты.
Более ничего не случилось с ними в сию ночь, почему, проведя несколько времени в комнатах, вышли.
Большая часть ночи уже протекла, и как они чувствовали более охоты к разговорам, нежели ко сну, то направили путь свой к комнате герцога, стараясь пробираться сколь возможно тише, дабы не быть ни от кого услышанными.
Несколько спустя по возвращении их граф Рихард выходит вдруг из кабинета, держа в одной руке сосуд, а в другой кинжал; он отскочил назад от удивления, приметив двух рыцарей, вошедших столь тихо, что он не слыхал, да и нельзя было ему прежде их увидеть, потому что дверь кабинета была заперта. Но исступление его было недолговременно; он бросает сосуд, из которого в первом движении своем разлил несколько жидкости, и стремится к герцогу в намерении пронзить его кинжалом. Двое рыцарей, схватив его, не допустили до Альберта; но он, стараясь от них вырваться, освободил одну руку свою, вынул другой кинжал и вонзил его в бок Раймонда, который был тогда без кирас. Рыцари в прошедшую ночь находились в полном вооружении, опасаясь какой-либо измены со стороны герцога, но потом, не имея насчет его никаких подозрений, сочли таковую предосторожность для пустых привидений ненужной.
С помощью Альберта схватили они убийцу; но он столь был силен, что они с трудностию могли его держать. Притом же Раймонд не мог долго делать им вспоможения, ибо рана причиняла ему несносную болезнь. Он уверял, что кинжал прошел неглубоко, но чувствовал воспаление во всей этой части и необычайную слабость, хотя немного потерял крови. Герцог и Гримоальд были в величайшей нерешимости и они не могли оставить Рихарда, чтоб подать помощь Раймонду, и даже сами имели нужду в его пособии для удержания графа. Они могли легко его убить, но Альберт имел намерение исторгнуть из него признание, могущее обнаружить то злодеяние, о котором подозрение на него упадало. Старались его втащить в другое отделение замка, где надеялись получить скорую помощь; но Рихард противился всем их усилиям.
— Убейте его! — кричал Гримоальд.
— Нет, — отвечал Альберт, — пусть он живет для признания и раскаяния в злодействах своих.
— В комнате, обитаемой духами, найдете нужную помощь, — сказал позади их голос, от которого Рихард побледнел и затрепетал.
Дрожащий убийца потерял все свои силы и казался лишенным чувств.
— Граф Рихард вскоре предстанет и отмстит за свои обиды, — продолжал голос.
Сии слова столь испугали графа, что волосы поднялись дыбом на голове его, на лице изобразился сильный ужас, и он, сделав последнее усилие, вырвался из рук их и бросился к дверям.
Всеобщее удивление, произведенное неизвестным голосом и чрезмерным ужасом графа, понудило державших его выпустить из рук, и он, воспользовавшись тем, достиг было дверей; но тут остановлен был двумя служителями Альберта, которые, по счастию, для некоторых надобностей находились недалеко от комнаты герцога, и, будучи привлечены шумом многих голосов, между коими различили крик своего господина, прибежали в то самое время к дверям, когда граф спешил из них выйти. Беспорядок его одежды и дикие взоры побудили их схватить его.
Альберт приказал им втащить графа в его комнату и там сковать, что и исполнили они с помощию сотоварищей своих.
— Это, конечно, и есть тот лев, — говорил Гримоальд, — от которого неизвестная цидулка велела вам остерегаться. Но где же сир Раймонд?
Они побежали и нашли его в одной комнате, из которой не имел он силы выйти.
Осматривая рану его, увидели, что она сильно воспламенилась и почернела во многих местах.
— Я думаю, — говорил Раймонд, — что кинжал сего злодея напоен ядом, потому что обыкновенная и столь легкая рана не может произвести такой боли и слабости, какую я чувствую.
Тот же час оказали ему нужное вспомоществование, и мало-помалу болезнь и слабость его уменьшились.
Некто из стерегущих убийцу сказал своим сотоварищам, что сир Раймонд скончался. Тогда граф вскричал:
— Очень жаль, что не Альберт! Этот напоенный ядом кинжал для него был назначен в случае, когда бы он отказался от напитка, мною ему приготовленного.
— Дерзкий предатель, — сказал ему Гримоальд, услышав его, — сей же час поверг бы я во ад гнусную душу твою, прекратив мерзкую твою жизнь, если б ты не заслуживал должайших и жесточайших мучений.
— Я смеюсь твоим угрозам, — отвечал ему граф с сатанинскою гримасою, — в моей власти состоит прервать дни свои в одно мгновение. Ты можешь меня убить; но не в силах продолжить жизни моей ни на одну минуту, когда того не захочу.
Уже рассвело, и герцог рассуждал с своими сотоварищами о мерах, какие должен был предпринять, как вдруг одна из женщин Гильдегарды вбегает в комнату, крича испуганным и прерывающимся голосом:
— О, моя госпожа! моя добрая госпожа! Что с нею сделалось? Отдайте мне мою госпожу!
— Что значит этот крик? — вопросил Альберт.
— О, государь! Гильдегарда уехала; она пропала. Мы искали ее везде, но не нашли; она пропала!
Рихард-убийца возобновил злобную свою улыбку. Герцог приказывал служанке Гильдегарды успокоиться, но она продолжала выть столь сильно, что Герцог начинал подозревать, не кроются ли какие виды в таком притворном отчаянии. Оставив одного служителя с Гримоальдом для присмотра за графом, пошел, чтоб осведомиться, точно ли скрылась его дочь. Он узнал, что действительно всюду переискали ее бесполезно, и никто не мог сказать, что с нею сделалось. Возвращаясь в комнату, где оставил графа с служанкою Гильдегарды, намерен был заставить ее рассказать подробно о всех известных ей по сему случаю обстоятельствах; но нашел ее в таком положении, что не мог надеяться получить нужного объяснения. Она источала пену от ярости: Гримоальд схватил ее за шею, а слуга держал за руки. Удивленный Альберт спрашивал о причине такого насилия.
— Несколько спустя по удалении вашем, — сказал ему Гримоальд, — видя, что Рихард крепко связан, думал, что не нужно здесь мое присутствие, и хотел вам вспомоществовать в ваших поисках. Но лишь только вышел отсюда шагов за двадцать, как услышал шум и голос служителя, меня на помощь призывающего. Я воротился и увидел, что он борется с сею госпожою, стараясь вырвать из рук ее кинжал. Я помог обезоружить ее, и он сказал мне, что вскоре по выходе моем из комнаты вынула она из-под платья кинжал и, держа его в одной руке, приблизилась к графу для освобождения от цепей, коими скованы были его руки; ваш слуга схватил ее за руку, чтоб выдернуть кинжал, что самое и произвело шум, возвративший меня в сию комнату.
По сем известии Альберт, конечно же, с намерением произвести в действо угрозы свои, взяв кинжал, приставил его к груди служанки, говоря, что непременно пронзит ее, ежели тот же час не откроет причины притворного своего отчаяния и не уведомит, что произошло с Гильдегардою. Страх смерти дал ей восчувствовать, что приняла на себя комиссию, которой не могла выполнить, и она призналась, что Гильдегарда действительно скрылась; что, пришедши к ней для услуг, уведомилась она о ее уходе и, узнав тогда же, что задержали Рихарда, вознамерилась сокрытие Гильдегарды употребишь на освобождение графа, который платил ей за то, что вводила его в комнаты своей госпожи; что и в прошедшую ночь введен он был ею в комнаты Гильдегарды и оставался с нею.
— Надеялась, — присовокупила она, — криками своими побудить всех живущих в замке к погоне за Гильдегардою, так что граф останется без стражи, и я могу освободить его от оков. И как, действительно, остался с ним один только служитель, то я думала привесть его в робость своим кинжалом и спасти, против воли его, графа.
— Вероломный! — вскричал герцог, бросив на графа свирепый взор. — Что ты сделал с моею дочерью? Она, верно, похищена твоими соумышленниками.
Новая гримаса вместо ответа возвестила предательское удовольствие гнусной души его.
Альберт приказал заключить служанку в безопасное место и клялся, что ежели она с графом будут упрямиться объявить о месте, в котором скрыта дочь его, то подвергнутся жесточайшим мучениям; но граф не преставал хранить молчание. Потом герцог велел призвать служителей Рихарда, и они все предстали, кроме одного.
— Где же Гондемар? — вскричал Альберт.
Они отвечали, что ушел неизвестно куда. Альберт уверился тогда, что Гондемар похитил его дочь по приказанию своего господина; но что она должна быть сокрытою в замке, ибо у ворот находилась крепкая стража, чрез стены же перелезть было никак не можно. Несчастный Альберт терялся в размышлениях, не зная, к чему приступить; наконец решился, по совету Гримоальда, немедленно приковать Рихарда в одной из комнат отделения, обитаемого духами, а сестру его в другой, не разбирая никаких для них удобностей и наблюдая только, чтобы они были как возможно друг от друга отдалены.
Здесь пронырства графа остались без всякого действия и развращения его лишились всех наслаждений своих. Его оставили одного в жертву бешенству своему в самой обветшалой комнате, какую только приискать могли. Циновка из тростника служила ему постелею, и вместо роскошных яств, коими он пресыщался, дали малое количество грубого кушанья и положили пред ним немного сучьев и род железной жаровни вместо камелька. Несколько времени не радел было он о употребления их, но дождь и ветер, проницающие сквозь расщелины потолка и стен, принудили его согреваться от жаровни, в которой уголья почти уже погасали.
Изнуренный бессильным свирепством своим, не возмогшим ни прервать, ни облегчить его оков, распростерся он на циновке; но тщетно искал успокоения, и ночь показалась ему необычайно долгою. Один тусклый блеск жаровни освещал его жилище. Дрова почти все сгорели, и он с тщательностию обирал уже остатки их; при всем том, чтоб несколько умерить жестокость холода, должен был почти задыхаться от дыма, потому что комната его не имела, кроме расщелин в стенах, другого для него выхода. Окна были наглухо заколочены и не впущали никакого света: одним словом, комната сия уподоблялась темнице, в которой не можно было ничего ни видеть, ни слышать.
В сем ужасном положении Рихард старался заснуть и по временам забывался, но терзания его совести, вместо раскаяния, часто прерывали его сон. Лишь только начал было засыпать, как пробужден был шумом, побудившим его открыть глаза.
Он видит, что жаровня от него отодвинута, и против оной сидящий на креслах скелет, казалось, как будто грелся у огня. Сие зрелище представилось ему тем ужаснейшим, что блеск от жаровни освещал только ближайшие предметы, все же остальные части комнаты находились в совершенной темноте. Рихард не мог преодолеть в себе движения ужаса. Он встал и хотел броситься к призраку, но неизвестно чем был удержан и не мог его достать.
В ту самую минуту скелет отступает и придвигает к себе жаровню своими страшными костяными пальцами. Рихард в другой раз объят был ужасом и удивлением. Он упал на циновку, закрыв глаза руками, чтоб избавиться от сего разительного зрелища. Освободившись несколько от страха своего, узнал, что стремление его удержано было цепями, прикованными к пробоям, в стене утвержденным. Несколько времени не растворял он глаз, но, услышав шорох пепла в жаровне, взглянул и наказан был за любопытство свое гораздо ужаснейшим против прежнего явлением.
Он видит пред собою фигуру настоящего графа Рихарда, которого, под предлогом его сокрытия, похитил он имущество, титла и самое имя.
В одной руке держал он кинжал, коим расколачивал уголья, как будто для распространения большего света в комнате, а в другой сосуд.
— Знаешь ли этот сосуд, вероломный Губерт? — сказал призрак грозным тоном.
Губерт, подобно пораженному громом, упадает на циновку; холодное трепетание объяло его члены; он зажмурил глаза и закрыл опять лицо руками своими.
— Воззри на меня, — кричал ему призрак, — или приготовляйся к смерти!
Дрожащий Губерт возвел на минуту глаза, и спешил отвратить их.
— Вероломный и жестокий похититель, — продолжало привидение, — узнаешь ли сей кинжал и сосуд, которые ты мне представлял, объявляя, что от того или от другого должно мне погибнуть? Выбирай из них сам. Так, предатель, этот сосуд есть тот самый, который принес ты ко мне с развращенною Гунильдою.
Губерт не в силах был ответствовать.
— На сию ночь, — продолжал призрак, — оставляю я тебя для раскаяния, ежели ты к оному еще способен; но завтрашний день будет последним днем твоей жизни.
Потом, умолкнув, взял одной рукою скелет, другою опрокинул жаровню, и глубочайшая темнота распространилась по всей комнате. Губерт не слыхал более ничего, но, удрученный бременем своих преступлений, не мог умерить ни ужаса своего, ни терзания совести; обморок освободил его на несколько времени от сих мучений.
При всем том Губерт не лишен был свойства, известного вообще под именем храбрости; ибо, ежели тот должен почитаться храбрым, кто убивает множество неприятелей в сражении, или на поединке нападает с отважностию на жизнь другого, то никто в таком смысле не был храбрее Губерта. Когда честолюбие, гнев, энтузиазм или мщение электризуют наши свойства и возбуждают нас к отважным деяниям в случае, ежели должно победить неприятелей или учиниться идолом народным, то тогда не храбрость, а вышеознаменованные страсти нас оживотворяют. Таким образом, когда страсти молчали, исчезала и храбрость Губерта; одного призрака довольно было для поселения в нем ужаса, и он с сей стороны судил о явлении графа Рихарда.
Не нужно, кажется, глубокомысленных рассуждений для удостоверения, что чистый дух не можете действовать на вещество, что он неспособен к поднятию или же пренесению вещи, имеющей какую-либо тяжесть, и следовательно, не может иметь никакого рода содействия на нас или на предметы, нас окружающие. Но сие простое и естественное рассуждение не представилось тогда смущенному Рихарду. Явление человека, о котором твердо был уверен, что лишил его жизни, вид орудий своего злодеяния и приговор близкой смерти, произнесенный фигурою, поразили дух его удивлением и ужасом, коим не мог изъяснить он настоящей причины.
Обморок его был весьма продолжителен. Получивши употребление чувств, нашел себя в совершенной темноте. Ужас овладел им, и он не мог заснуть, хотя имел величайшую в том надобность. Когда дневной свет начал несколько проницать в его темницу, увидел он жаровню на том же месте, где она была при явлении призрака, но опрокинутою низом вверх; в прочем все было в прежнем порядке в его комнате, и не примечалось ни малейшего признака отверстия, в которое кто-либо мог войти.
Сие обозрение усугубило его страх; он старался уверить себя, что все виденное им было одно сновидение; но отодвинутая и опрокинутая жаровня совершенно опровергала это мнение.
В десять часов утра Гримоальд вошел в его комнату, и принес несколько черного хлеба. Один из служителей Альберта внес воды и дров, поставил жаровню и развел огонь; они спрашивали Губерта, отчего жаровня опрокинулась, но не получили никакого ответа. При всем том, это обстоятельство вселило в них подозрение, и, опасаясь, чтобы не сбил он своей цепи, потому что отдалился от постели, принесли новую цепь и заковали его гораздо крепче прежнего.
Едва это окончили, как Альберт вошел и чрезмерно был удивлен необычайным смущением Губерта, которого лицо изображало ужас и смущение. Герцог приписывал сию скорую перемену раскаянию, яко необходимому следствию преступлений, и страху быть жестоко наказанным. Желая воспользоваться таковым расположением, начал он его допрашивать.
— Где дочь моя, несчастный? — говорил ему Альберт.
Губерт отвечал одною язвительною улыбкою и хранил молчание.
— Рихард, долго ли тебе еще упрямиться и мне не отвечать? Неужели желаешь, чтоб я произвел в действо угрозы свои, и исторг жизнь твою в мучениях?
— Не опасайтесь, — отвечал голос, — он не пренесет ужасов смерти.
Они узнали тот же самый голос, который в прошедший день возвещал им о помощи; но Губерт побледнел и затрепетал: это был голос графа Рихарда, коего привидение столь жестоко перепугало его минувшей ночи.
— Какого злодеяния воспоминание производит в тебе таковые смятения? — спросил герцог, увидев холодный пот, текущий с лица его.
Глубокое стенание было его ответом. Зубы его колотились от содрогания; бешенство и ужас изображались во всех чертах его лица.
— Конечно, какое-нибудь пагубное таинство есть причиною его страха, — вскричал герцог. — О Гильдегарда! о дочь моя! Где ты? Что с тобою сделалось? Чего не должно ожидать от изменников, извлекших тебя из дому родительского! Может быть, увы! нет уже на свете дочери моей!
— Она жива, — отвечал Губерт сквозь зубы. Отчаяние Альберта причиняло ему несказанное удовольствие и побудило его на несколько времени забыть страх свой.
При сих двух словах вдруг радость заступила место отчаяния в Альберте, так что, не возмогши говорить, смотрел он на графа с видом, изъявляющим снисхождение и чувствительность.
— Ах! скажи мне, — вскричал он, коль скоро получил употребление слов, — скажи, что жизнь и честь моей дочери находятся в безопасности, и все твои злодеяния будут прощены. Где она? Где могу найти ее?
— Она в безопасном месте, но ты не в силах освободить ее, — отвечал ему с насмешливым видом злой Губерт. — Она в совершенной моей власти. Все поселяне здешней округи разделяли ее благосклонности; я извлек ее из объятий их и храню для одного себя. Итак, на что тебе препятствовать наслаждениям моим, которые дочь твоя часто возбуждала своими ласканиями?
Невозможно описать свирепости и отчаяния, овладевших мгновенно Альбертом.
— Фурия адская, — вскричал он, — гнусное чудовище, изрыгнутое Тартаром для терзания сердца моего, ежели ты обесчестил мою дочь, то готовься к пренесению всех мучений, какие только может вымыслить справедливейшее изо всех мщений.
Губерт смотрел на страдания сего несчастного отца радостными глазами и с видом удовольствия.
— Мучения твои, — говорил он ему, — составляют приятнейшее для меня зрелище и приводят в забвение собственные скорби мои: каждое из твоих стенаний изливает целительный бальзам на мое сердце.
Тогда исступление Альберта вышло из границ; он бросился из комнаты, испуская пронзительные вопли, и бежал для приготовления пытки; но представьте всю чрезмерность удивления его и радости, когда у самых дверей темницы встречает он Гильдегарду, стремящуюся в объятия его.
Здесь, читатель, должно остановиться. Дадим время отцу и дочери ко изъявлению взаимных восторгов своих. После ужасной сцены, которой были свидетелями, нужно духу некоторое успокоение, чтоб лучше насладиться приятнейшим явлением.
Забудем горести жестоки,
К которым рок нас осудил.
Подобно молнии исчезают,
Как тень проходят счастья дни,
Несчастия равно не вечны:
Всему на свете — есть предел.
— Не мечта ли это? — вскричал Альберт, коль скоро первые движения радости его успокоились. — Ты ли это, дочь моя? Тебя ли прижимаю к сердцу своему?
Гильдегарда держала отца в своих объятиях, лобызала руки его, орошая их сладостными слезами, изображающими излияние сердечной нежности.
Между тем, как Гильдегарда и отец ее наслаждались радостными восторгами, гнусный Губерт изрыгал тьмы злословий; зрелище, пред ним предстоящее, составляло несноснейшее для него мучение. Альберт и его дочь, будучи заняты друг другом, казалось, почти не примечали его присутствия. Все окружающие внимали с участием взаимным их вопросам и ответам, и забвенный ото всех Губерт тщетно изъявлял бешенство свое: даже не слыхали звука его цепей.
— Какое благодетельное Божество возвратило тебя родителю твоему? — спросил Альберт у своей дочери.
— Так, батюшка, так, сам Бог сжалился над вашею дочерью и в самую ужасную минуту ниспослал ей помощь неожидаемую и сверхъестественную. Видите сего варвара? он стремился погубить меня, и непременно бы в том успел, ежели бы один призрак (ибо нельзя другим образом его назвать) не исторг меня из его рук.
В продолжение той ночи, когда посещали вы опустелое отделение замка, о чем я узнала после, граф введен был в мою комнату одною моею служанкою, которая, конечно, была от него подкуплена. Впустивши его, вышла она и заперла дверь. Долгое время недостойный мой дядя говорил мне непонятным для меня образом, потому что и в мысль мою не входило, чтоб он мог возыметь столь гнусные виды. Не желаю вам наскучить подробным описанием его поступков, скажу только, что я отвечала ему прежде шутками, а потом принуждена была рассердиться. Будучи в удивлении и оскорбившись его неожидаемым приходом в мою комнату в такое необычайное время, приказывала ему выйти. Он пошел к дверям, и я уже надеялась от него избавиться, но это для того только, чтоб запереть их на замок, а ключ положил к себе в карман. Потом возвратился ко мне, и просил себя выслушать, но я не токмо что не была в состоянии внимать ему, но даже от страха не могла кричать. Ах, батюшка, сколько я страдала, вообразив, что, будучи столь отдаленна, тщетно буду призывать к себе на помощь! Между тем, как ужас держал в оковах язык мой, граф продолжал свои дерзкие разговоры. Наконец собрала я столько сил, чтоб просить его в другой раз оставить меня в покое, но вместо того он подвинулся ко мне еще ближе. Увы! откуда должна была ожидать помощи? Он начал угрожать, а я стала кричать изо всех сил, хотя и не чаяла быть ни от кого услышанною. Уже сие чудовище меня схватило, и погибель моя казалась неизбежною, как вдруг один голос вскричал позади нас: «Остановись, несчастный, взирай на меня и трепещи!»
Граф содрогнулся, выпустил меня и, оборотясь, увидел пред собою человека в полном вооружении с обнаженным мечом. Сия фигура приблизилась, и дядя мой упал в обморок, вскричав: «Это граф Рихард!»
«Встань, чудовище, и выдь отсюда, — сказал ему мой избавитель. — Ты приступаешь еще к новым злодеяниям, но знай, что я всюду за тобою последую, и Гильдегарда находится под моим покровительством».
Граф, пораженный сими словами, вынул ключ от моей комнаты и скрылся. Вооруженный призрак поднял деревянную расписанную панель, которая совершенно уподоблялась стене, и вывел меня с собою, увещевая ничего не опасаться; но я от страха едва могла держаться на ногах, и не в силах была идти.
«Гильдегарда, — сказал мне мой проводник, — вы здесь не в безопасности; положитесь на меня, я удалю вас и сокрою от всяких покушений».
Он взял меня за руку, и я последовала за ним. Мы шли чрез множество темных проходов, сходили по многим лестницам, так что силы мои совершенно истощились, пока достигли комнаты, уподобляющейся монастырской келье. Тут он меня оставил; одна старая женщина принесла мне пищи и ночевала со мною; но на все мои вопросы отвечала только: «Будьте спокойны, любезная Гильдегарда, небеса вам покровительствуют и не умедлят все обнаружить».
Но я и забыла, что она отвечала на один мой вопрос. Я спросила ее, не случилось ли чего с вами, и где вы находитесь? Она отвечала, что вы занимаетесь осматриванием опустевшего отделения замка и скоро окажете правосудие виновным.
Сей ответ, успокоивши меня несколько, усугубил мое любопытство. «Уведомьте меня, ради Бога, — сказала я ей, — человек или привидение приспело ко мне на помощь в то время, когда ниоткуда ее не ожидала?» Она села и начала смеяться. Сего утра вооруженный призрак пришел опять, повел меня теми же проходами, говоря, что намерен отдать в ваши руки, но наперед имел предосторожность завязать мне платком глаза, что я без прекословия ему позволила, будучи ободрена его поступками, и вскоре очутилась в соседственном отсюда отделении. Он просил подождать себя несколько времени и не открывать глаз, на что я согласилась. Чрез четверть часа он вошел и сам развязал мой платок. «Вы видите отсюда, — сказал он мне, — эту отворенную дверь, подите в нее и продолжайте идти чрез все растворенные комнаты, доколе не услышите голоса вашего родителя, и не опасайтесь, хотя в то же время признаете голос Рихарда, потому что его уже страшиться нечего». Вот, батюшка, как я с вами была разлучена, и опять достигла благополучно ваших объятий.
Освобожденный от всех беспокойств в рассуждении своей дочери, Альберт не мог умерить восторгов радости своей. Жестокость, несвойственная его характеру, истребилась из сердца, и он чувствовал к графу одно только презрение.
— Этот негодяй, — говорил он Гильдегарде, — забавлялся мучением моим, уверяя, что имеет тебя в своей власти.
— Забудем о том, он сам теперь находится в наших руках, — сказал Гримоальд, взиравший на сию сцену в молчании.
— Неправда, он в моих руках, — возразил настоящий граф, покрытый кирасами, который вошел тогда в комнату и приблизился к Губерту.
— О Небо! это мой ангел-хранитель, — вскричала Гильдегарда, схватив и лобызая его руку, покрытую перчаткою.
Сие явление возымело совсем противное действие над Губертом; он повергся в стенании на свою циновку и закрыл руками лицо, закутывая голову епанчою.
— Я также пришел навестить его, — сказал сын Гродерна, приблизившись к пленнику.
Юный Эдгар не был уже в платье поселянина, но в одежде, приличной достоинству его рода. Высокий и статный его рост, благородный вид и приятные черты лица обратили на него взоры всех окружающих. Но в сей новой одежде никто не мог его узнать, и вопрошали о том один у другого.
— Я пришел, — сказал он, — искать правосудия и отмстить за оскорбления, нанесенные отцу моему.
Он хотел было продолжать, как пронзительный и дикий женский голос обратил внимание слушателей. Она вбегает стремительно в комнату, и все видят Брюншильду в исступлении свирепства.
— Так, так, — вскричала она, повергнувшись на циновку графа, изнуренна я конвульсиями своего бешенства, — я освобожу его из рук гнусных гонителей.
Стража за нею последовала и хотела ее вывести; но она, вскочив и выхвативши из-под робы своей кинжал, стремилась поразить герцога, который, по счастью предусмотрев то, отвернулся столь поспешно, что удар скользнул только по его одежде. Когда ее схватили и сковали крепчайшим образом, все действующие лица прошедшей сцены последовали за нею в комнату, куда ее вовлекли, исключая пленника, сына Гродерна и привидения в кирасах.
Заключив Брюншильду, герцог возвратился в комнату пленника. Он нашел его одного, распростертого без чувств на постели. Герцог вышел, заперевши дверь на замок, и соединился с своею дочерью, остававшеюся под смотрением Гримоальда.
Остаток дня протек в различных разговорах; наконец решились, чтоб Брюншильда провела ночь в своей комнате, и Альберт велел поспешить приготовлением того отделения, в коем виновная его супруга должна была окончить время своего наказания. Вечером один из стражей Брюншильды пришел уведомить герцога, что она совершенно лишилась разума.
— Это, я думаю, не новое, — говорил Гримоальд, — но пойдем посмотрим ее, ибо сие мнимое сумасшествие может быть не иное что, как умысел к успешнейшему произведению новых проказ.
Альберт встал и прочие за ним последовали. Они нашли герцогиню в сильной горячке и в жару, производящем бред, так что никак не можно было подозревать ее в притворстве.
Альберт, будучи от природы сострадательным, сжалился над нею: велел освободить ее от оков и оказывать нужные пособия для ее излечения; но его сожаление ускорило только смертию Брюншильды. В исступлении сумасшествия вырвалась она из рук стражи своей, и как двери были растворены для прочищения воздуха, то выбежала из комнаты и бросилась сверху лестницы, внизу которой нашли ее уже мертвою. Она раздробила себе череп, так что весь мозг из него выскочил.
Чувствительная Гильдегарда проливала слезы о своей матери; но не потерю ее оплакивала она, а поступки ее жизни и столь ужасный род смерти. Сие плачевное происшествие произвело в Альберте глубокое впечатление: он ощутил нужду в уединении, и заперся в комнаты свои на несколько часов.
В следующую ночь свирепый Губерт подвержен был новым опытам: около полуночи слышит он, что дверь его комнаты отворяется, и видит входящих шесть фигур одна за другою, в длинных черных одеждах. Каждая из них держала в одной руке бич, а в другой факел. За ними следовал сын Гродерна и настоящий граф Рихард, ведя с собою изувеченную, растерзанную и окровавленную фигуру, в которой устрашенный граф познает черты развращенной Брюншильды. Между тем как, содрогаясь от ужаса, взирал он на сие страшное зрелище: «О Губерт, — говорила ему фигура, — не для того провидение дозволяет нам возвращаться в сей свет, чтоб извещать живущих о наших страданиях, или о происходящем в страшных местах вечного мучения; не для того мы посылаемся, чтоб обнаруживать преступления других; но чтобы увещевать злых, и побуждать грешников к раскаянию. Жестока наша участь, и нас ожидают бесконечные страдания; страдания, о которых хотя мы и прежде были предуведомляемы, но не хотели им верить. Наконец познала я, но уже поздно, правосудие Бога и его Всемогущество. Но ты, Губерт, ты брат мой и соучастник во всех преступлениях, ты отказываешься оказать справедливость невинному и объявить виновного. Неужели сердце твое неприступно к раскаянию? Ты должен непременно принести покаяние и обвинить самого себя. Герцог скоро предстанет; готовься исповедаться пред ним во всех злодеяниях своих».
Минуту спустя герцог и Гримоальд входят; в величайшем удивлении видят они и слышат говорящую фигуру Брюншильды.
— Граф Рихард, — продолжала она, — пишите признание в его преступлениях.
Губерт, сраженный ужасом, оставался безмолвным и недвижимым; он даже не имел силы отвратить глаз от сего страшного позорища и хранил молчание. Тогда одна из черных фигур приближается и, велев настоящему Рихарду с его сыном обнажить плечи Губерта, начала сечь нещадно спину его своим страшным бичом. Губерт не испустил ни единого вопля, ни стенания, и пребывал непоколебим в молчании. Другая фигура, в свою очередь, поступила с ним таким же образом, но все было тщетно: бичевание не более угроз имело действия. Все шесть фигур по порядку раздирали плечи Губерта, кровь текла ручьями, но он не преставал быть безмолвным.
— Начнем его пытать, — вскричал граф в кирасах, и вдруг четыре человека предстали. Губерт содрогнулся, а герцог не мог промолвить ни слова от удивления.
— Теперь, Губерт, станешь ли говорить? — вопрошала его фигура в кирасах.
— Нет, никогда, — отвечал он охриплым голосом.
— Привяжите его, — сказала фигура, и тогда же началась пытка. Бодрость его исчезла и, побежденный скорбию, говорил он герцогу, что учинит признание во всем, коль скоро престанут его мучить. Его велели развязать; но, приведенный в чрезмерней) слабость, не мог он исполнить своего обещания и просил до следующего дня отсрочки, на которую с приметным неудовольствием согласились мучители его. Настоящий Рихард, или фигура в кирасах, просил герцога удалиться из комнаты, доколе Губерт не придет в состояние сделать признания своего. Альберт согласился и звал Гримоальда за собою; но он имел намерение остаться: для того, говорил он, чтоб посмотреть, что произойдет во время его отсутствия. Граф Рихард, услышав то, сказал ему, положив руку на его плечо:
— Поверь мне, господин рыцарь, что здесь любопытство твое не у места; разве ты намерен подвергнуться таковому же бичеванию, какое сейчас видел?
Мститель побледнел, и страх его столь был приметен, что Альберт не мог удержаться от смеха. При всем том рыцарь, стараясь скрыть робость свою, угрожал, что претворит в прах все привидения; но герцог, сжалившись, звал его в другой раз с собою. Они возвратились вместе к Раймонду, который страдал еще немало от раны своей, и занимался разговорами с прекрасною Гильдегардою. Наконец по столь беспокойном дне все почувствовали нужду в отдохновении и разошлись очень рано по своим комнатам.
На другой день собрались к слушанию исповеди Губерта; но нашли его к тому нерасположенным, так что для преодоления его упрямства должно было снова готовиться к пытке. Но один вид ужасных орудий возымел желаемое действие: Губерт прервал молчание, и, обратясь к герцогу, говорил ему следующее:
— Внимай мне, и да наполнится сердце твое горестию! Чтоб более растерзать оное, начну я повесть свою со времен Брюншильдиной матери.
Князь Людвиг провождал спокойные и щастливые дни с первою своею супругою. Благоденствие его было совершенно: он был любим и почитаем подвластными ему народами, находился в мире со всеми своими соседями, и добродетельная его супруга обладала всеми любезными качествами. Малое время спустя после их брака, княгиня разрешилась от бремени дочерью, которая с летами учинилась столь же милою, как и ее мать, хотя и уступала ей в красоте. Никогда не было примера трех особ, живших между собою в лучшем согласии, и более уважаемых от всех их окружающих. Сравни это, дерзкий Альберт, с своею участию, и да причинит в тебе сия повесть столько горести и смущения, сколько я от всего сердца желаю. В таком положении находился Людвиг, как в первый раз увидел он Гунильду. Ее прелести имели для него приманчивость новости и затмевали красоту его супруги. Будучи чрезмерно опечаленною его холодностию, не щадила она никаких способов к возбуждению в муже своем погасших чувствий, составлявших прежде взаимное их благоденствие; но все ее старания, угождения и ласки не токмо что не тронули его, но произвели противное действие, так что его супруга, лишенная всей надежды, впала в глубокую меланхолию, которая в скором времени расстроила ее здоровье.
Она не могла уже находить удовольствий в обществах, потому что в них муж ее занимался единственно Гунильдою, предупреждая во всех случаях ее желания и не совращая с нее взоров своих. Нечувствительно отказалась она от света и, заключившись в свои комнаты, обитала одна с своею горестию. Гунильда употребила отсутствие ее в пользу для возбуждения в любовнике своем подозрений. Она внушала ему, что сие мнимое отвращение от света было обманчивою маскою для прикрытия какой ни есть порочной приверженности. Людвиг, не удовольствуясь тем, что оказывал к своей супруге холодность, равнодушие и отвращение, учинился еще подозревающим, грубым, взыскательным и даже жестоким. Здоровье его супруги давно уже находилось в худом положении, и сие новое прискорбие ускорило ее смертию. Она лишилась жизни своей, произведя на свет сына.
Людвиг, не уважая правилами, предписываемыми в таковых случаях обыкновением и самою благопристойностию, несколько недель спустя по смерти своей супруги сочетался с Гунильдою, которая была уже тогда матерью Брюншильды и моею. Она объявила, что принимает на себя воспитание сына, оставшегося после покойной княгини, почему взяла его в свои комнаты, не допускала к нему никого, кроме избранных ею людей, и отселяла всех тех, которые служили ему во время жизни его матери. Несколько времени спустя разнесли слух, что юный принц скончался. Гунильда приказала двум из преданных ей людей умертвить его и принять все нужные предосторожности, чтоб обмануть Людвига, ежели б захотел увидеть тело сына своего.
Людвиг был чувствительно тронут сею неожидаемою потерею, ибо он любил с горячностию своего сына. Гунильда старалась его уверить, что будто он был прижит не с ним, но он отверг с презрением таковую клевету. Не нужно было долго жить с моею матерью, чтоб почувствовать во всей силе потерю супруги, которой он лишился. Пороки Гунильды делали разительную противоположность с ее добродетелями, и напоминали ему часто о слепой его несправедливости. Он захотел видеть своего сына, и для избежания подозрений должно было его удовлетворить. Людвиг приметил около шеи сего младенца широкую черную полосу, которой требовал изъяснения. Гунильда увидела всю неосторожность исполнителей ее приказания, но, стараясь скрыть гнев свой и смятение, отвечала Людвигу, что сын его скончался от сильных конвульсий.
Людвиг, не удовольствовавшись сим ответом, приказал врачам осмотреть тело сына своего, но Гунильда нашла случай преклонишь их на свою сторону, и врачи объявили, что сей знак был обыкновенным следствием конвульсий. Людвиг оставался в сомнении, но, не имея ясных доказательств, принужден был похоронить своего сына и хранить молчание.
Несколько спустя после сего приключения, мать моя рассорилась с служителями, которым приказала убить юного принца. Эта ссора столь ее беспокоила, что решилась она наконец тайным образом скрыть сих двух человек, которые и пропали вдруг без вести; не делали об них никаких поисков для того, что никто не имел к ним ни малейшей приверженности, и вскоре совершенно их забыли. Я думал тогда, и теперь также полагаю, что они отравлены Гунильдою.
Но этого было не довольно для моей матери; оставалась еще при дворе одна ненавистная ей особа: это была дочь Людвига, сестра юного принца, удавленного по ее приказанию.
Весьма трудно было посредством убийства сбыть ее с рук, не оставив следов оного, тем более что принцесса, не так, как ее брат, находилась не в совершенной власти моей матери. Итак, не имея в виду лучших средств, решилась она отдалить ее от двора, учинив жизнь ее сколь возможно жестокою.
Принцесса Эмма сочеталась втайне браком с одним молодым дворянином, имевшим с давнего времени пребывание при дворе ее родителя. Нежность Этебента утешала ее от беспрестанных гонений Гунильды. Но мать моя не замедлила уведомиться о сем браке, и употребила его к совершенному удовлетворению ненависти и видов своих. Эмма лишилась свободы, а муж ее жизни; по смерти его возненавидела она свет, и наипаче общество развращенного двора. Отец ее возвратил ей свободу, но Эмма воспользовалась ею единственно для своего пострижения; и, опасаясь, чтоб ненависть мачехи не преследовала ее даже в уединении, избрала самый отдаленнейший монастырь, так что не было об ней никакого слуху. Сокрытие принцессы Эммы произвело немалый ропот; подозревали в том мать мою; но я, будучи известен о всех ее деяниях, могу уверить, что в сем случае несправедливо обвиняли ее. Эмма действительно удалилась в монастырь и, конечно, теперь находится еще в живых, но совершенно неизвестно, какую страну избрала она для своего уединения.
Гунильда слишком предана была порокам, чтоб ограничить страсть свою позволенными наслаждениями; да и не натурально, чтоб женщина, имевшая любовную интригу с чужим мужем, пребывала верною своему. Она попеременно делала участниками ложа своего всех молодых придворных, которые ей нравились; кто же презирал ее благосклонности, тот редко избегал мщения ее.
Граф Рихард прибыл ко двору; я не стану распространяться о его убийстве, скажу только, что я был творцом оного, и сия сцена, которой воспоминание составляет мучения мои, происходила в этом самом отделении, в котором теперь находимся, во время отсутствия Людвига. По возвращении его Гунильда обвиняла графа всякого рода преступлениями и заговорами, какие только могла вымыслить, присовокупив к тому, что, уведомившись об открытии оных и страшась мщения Людвига, предался он бегству до его прибытия. Потом посредством хитрых ласканий испросила для меня у мужа своего все титла и преимущества графа; назвала меня его именем, и запретила под смертною казнию всем подвластным своим именовать меня иначе, как графом Рихардом.
На другой день после убийства графа, мать моя велела запереть и совершенно заколотить комнаты, им занимаемые, но во всем отделении ужас злодеяния нас преследовал: то слышны были стенания, то являлись призраки, так что наконец, терзаемы собственным воображением своим, лишились совершенно спокойствия.
Одним вечером, находясь за столом, были объяты столь сильным ужасом, что выбежали стремительно из залы, и как никто не смел войти в нее, то все эти комнаты были тогда же заперты и наглухо заколочены. Сие отделение, имея положение к северу, было мрачно, холодно и сыро; Людвигу не нравилась эта часть замка и по возвращении его (ибо все это происходило в его отсутствие) не было ему противно, что его заперли, почему почти и не расспрашивал он о дальнейших тому причинах.
Когда ты вступил в брак с Брюншильдою, я получил от тебя дозволение иметь пребывание при твоем дворе, но сия снисходительность не приобрела моей приверженности. Я питал зависть к твоему полномочию и имуществу; прилагал все усилия к возбуждению против тебя ненависти и мщения, производя на твой счет разные насильства. Все поселянские дочери и жены, несколько пригожие, перебывали непременно в руках моих; я приказывал вводить их в замок и удовлетворял над ними сладострастие свое, распространяя повсюду, что ты был их похитителем. Дюнифледа воспламенила желания мои, и я приготовлялся так же ее похитить.
Брюншильда не была целомудреннее своей матери. Не токмо что иностранцы, но даже окружные поселяне были участниками ложа твоего. Сын Гродерна, который, правду сказать, ни видом, ни поступками не походит на поселянина, произвел сильнейшее впечатление над ее чувствиями. Красота этого молодого человека может почти извинить таковую прихоть, но он был столь дерзок, что отвергнул ее благосклонности, предпочтив ей Гильдегарду, которая взаимно ему соответствовала. Сия непорочная девица, утешение и надежда твоей старости, часто заключала в скромные объятия свои подлого поселянина. Сколько раз видал я ее удаляющеюся в средину леса, где провождала целые дни с своим любезным Эдгаром, наслаждаясь тайными и приятными утехами любви!
— Мерзкий лжец, — вскричал герцог, — как ты дерзнул порочить мою дочь?
— Дай мне окончить, — сказал ему граф, — ты еще не знаешь всей своей фамилии. В хижине Жакмара найдешь двух внучат своих. Сын Гродерна не оставляет своих детей, и в соседстве от себя воспитывает их; Гильдегарда часто посещает и ласкает отродие свое; но должна принимать в том предосторожность, и ты, как добрый отец, обязан дать в том волю матерней ее нежности, приняв в свой замок ее детей. Какое будет для тебя удовольствие заключать в объятия свои милых детей добродетельной Гильдегарды, делающей утеху твоему сердцу, честь роду, и сколько ты должен быть обязан мне за такое интересное открытие!
— Гнусный клеветник! — вскричал герцог, и голос его пресекся. Он готов был упасть, когда бы не был поддержан одним служителем.
— Но не одного Эдгара, — продолжал Губерт, — удостаивала дочь твоя своих благосклонностей. Многие рыцари разделяли их. Что же касается до меня, то вместо любви питал я к ней одну ненависть, и довольно одного названия твоей дочери, чтоб вселить в меня к ней отвращение. Но я желал учинить ее матерью единственно для того, чтоб принести тебе новое удовольствие, когда маленькие мои выродки будут звать тебя дедушкой.
Гнусный Губерт мог вечно продолжить бесстыдные свои рассказы, ибо герцог не в состоянии был его слушать. Но на что же, скажут некоторые, имел он столь мало рассудка, что верил словам злодея, о качествах которого довольно уже был известен? Он, конечно, не совсем прав; но не должно ли извинить его родительскую чувствительность? В течение двух дней Альберт насмотрелся и наслышался столько отвратительных деяний, душа его столь была возмущена и воображение расстроено, что совершенно заглушен был в нем глас рассудка. Между тем как все окружающие старались его успокоить, Гильдегарда является с сыном Гродерна в ту минуту, когда рассудок Альберта начинал одерживать верх, и он стал было сомневаться о истине слышанного им; но прибытие его дочери в последствии молодого поселянина показалось ему явным доказательством своего бесчестия. Гнев Альберта достиг такой степени, что он пребыл несколько минут подобно окамененному от сего явления, и, оставаясь неподвижным в том же положении, как увидел их, хотел говорить, но не мог произнести ни одного слова. Наконец, собрав все силы свои, вскричал:
— Вероломная, разве пришла сюда искать смерти, тобою заслуженной? А ты, негодный, — говорил Эдгару, — как дерзнул явиться предо мною? Исчезни, — продолжал он, выхватив меч, — или эта рука омоет в крови твоей свое оскорбление.
Смущенный Эдгар выходит с поспешностию, и Гильдегарда последует за ним; но Альберт, увидя, что они бегут вместе, гонится за ними и конечно бы, их достигнул, ежели бы встреча графа Рихарда не заградила ему на несколько времени пути.
— Преследуй их, — кричал ему герцог с помутившимися глазами и свирепым тоном. Граф Рихард дает ему дорогу и следует за ним, не понимая, за кем он гнался. Гильдегарда вбегает в свою комнату, а сын Гродерна за нею, не зная, куда она его вела, при том же и не желая ее оставить в такой опасности. Герцог следует близко за ними, и находит дочь свою, распростертую на полу без чувств, а Эдгара пред нею на коленях, преклоняющего голову к груди ее. Сие зрелище наполнило новым свирепством Альберта; он бросился на Эдгара и хотел пронзить его мечом своим, но, будучи ослеплен сильным разгорячением, не успел в том; ибо при сем стремлении поскользнулся, меч вывалился из рук его, и он упал, ударившись головою о мраморный камин, и лишился чувств. Рихард и Эдгар, не возмогши освободишься от удивления своего, взирали друг на друга, не зная, что начать, но Рихард, первым вышедши из сего исступления, призвал служителей и велел отнести герцога в его комнату, где, оставив его, возвратился к Гильдегарде. Она получила было употребление чувств, но воспоминание прошедшей сцены ввергнуло ее в новый обморок. Чрез многие дни не в состоянии она была выходить из своей комнаты, но при всем том известилась от слышавших повесть Губерта о причине гнева ее отца. Герцог выздоравливал очень медленно; сильное смятение его духа, причиненное последним происшествием, а наипаче повестию вероломного Губерта, немало умножали болезнь, причиненную падением. Наконец увещания двух рыцарей и графа Рихарда дали ему почувствовать всю жестокость его поступка и легковерность, с какою внимал нелепым доносам изменника, который, по собственному своему признанию, находил удовольствие терзать его сердце.
— Но скажите мне, — вскричал герцог, — по какому случаю дочь моя встретилась с сим молодым человеком?
— Ежели вы в состоянии перенести новое удивление, — отвечал ему Рихард, — то я докажу вам, что дочь ваша непричастна в проступках, коими ее обвиняют, и Эдгар во всех отношениях достоин ее руки.
Хотя сии последние слова весьма были неприятны слуху Альберта, но он просил Рихарда изъяснить их.
— Я вас оставляю на несколько минут, — сказал ему Рихард. — Прикажите ввесть сюда Губерта, и отец Эдгара уведомит вас о всем, что вы желаете знать.
Рихард вышел, а Альберт послал за своею дочерью. Гильдегарда столь была слаба, что, вошедши в комнату своего отца, упала в обморок; но слабость сия скоро миновалась Альберт обнял ее с нежностию, и взаимная их доверенность совершенно восстановилась.
Около семи часов стучались у дверей герцога; он приказал отворить и увидел привидение или фигуру Брюншильды, поддерживаемую Гродерном и его сыном. Несколько спустя Гримоальд и Раймонд в последствии двух стариков вводили пленника. Герцог велел им сесть, и Гродерн начал повесть свою.
— Вас обманули, Альберт, — говорил он герцогу, — и известие сего чудовища совершенно ложно. Может быть, ожидаете вы, что Рихард придет сюда исполнить свое обещание; но знайте, что не существует другого Рихарда, кроме тою, которого видите пред собою.
Гродерн, выходивший только для того, чтоб сверх кирас надеть поселянскую одежду, сбрасывает ее тогда с себя, и все познают в нем графа Рихарда. Потом, обратясь к Губерту:
— Ты, конечно, удивляешься, — сказал он ему, — что видишь меня еще в живых, но должен знать, что я не проглотил яда, тобою мне поднесенного. Мать твоя соделала двор свой театром распутства, и Брюншильда, воспитанная в таковой школе, должна была необходимо уподобляться своей матери. Я, подобно многим другим, был предметом похотливых желаний Гунильды; но должность и привязанность моя к своему князю, конечно бы, удержала меня от соответствия на ее любовь, ежели бы не довольно было к тому одного моего к ней отвращения. Я сочетался явно браком с одною добродетельною и прекрасною иностранкою. Это было не противно моему князю; но любовь Гунильды превратилась в ненависть и соделала ее неукротимою. Она старалась внушить Людвигу, что мой брак весьма подозрителен, что моя супруга и ее свита были не иное что, как хитрые шпионы, и что мы производим опасные переписки. «Что нам нужды до их переписок, — отвечал Людвиг, — не будем делать ничего такого, что бы должно было скрывать, и шпионам не останется ничего выведывать». Не возмогши раздражить против меня Людвига, клялась она в моей погибели; я отправил свою жену, в намерении сам за нею последовать и оставить вскоре двор, но твоя мать предупредила. Посреди ночи разбужен я был сильным стуком у своих дверей; слуга мой вопрошал о причине и получил в ответ, что принесли ко мне важные и не терпящие ни малейшего отлагательства письма. Я приказываю отворить и, к великому моему удивлению, вижу входящую Гунильду в последствии Губерта, ее сына, в полном вооружении. Первый их приступ был убийство моего слуги, и я остался тогда в полной их власти. Губерт приблизился и, приставляя к груди моей острие кинжала, «вот, — говорил мне, — награда твоего предательства». «Изменник, — вскричала жестокая Гунильда, — муж мой не хотел наказать тебя за злодеяния; но ты не избегнешь от праведного моего мщения». «Скажите мне, — говорил я им, — в чем состоят преступления мои?» «Но прежде этого выпей сей яд», — возразил свирепый Губерт. «Предатель, — продолжала мать его, — не намерен ли ты был обесчестить супруги своего государя? Мой сын будет мстителем; Губерт, принудь его принять напиток». «Государь мой, — говорил я ему, — я никогда не был причастен преступлениям, в которых меня обвиняют, и княгиня известна о моей невинности». Но она, опасаясь, как видно, чтоб я не открыл сыну ее истины, вырвала у него кинжал и готовилась поразить меня. «Остановитесь, государыня, — вскричал я, — я соглашаюсь умереть». Губерт поднес мне сосуд; альков, окружающий мою постелю, был пространен и мрачен; притворяясь глотающим яд, я разлил большую его часть и, увидя, что остается одна густота, которая, к счастию, опала на дно сосуда, и боясь, чтоб они этого не приметили, бросил я его в средину комнаты. Но и малое количество испитого мною яда произвело во мне сильное воспаление; несколько минут почитал я смерть свою неизбежною. Они были также в том уверены и удалились, восхищаясь успехом предприятия своего.
Коль скоро они меня оставили, вскочил я с постели своей, напился чистой воды и принял одного напитка, почитаемого превосходным антидотом противу яда. Почувствовавши облегчение и ободрившись, оделся и на рассвете вышел из замка, не быв ни от кого примеченным, кроме одного привратника, которого щедрым подарком побудил к скромности.
За несколько времени до сей ужасной сцены, открыл я между раскрашенною обделкою моей комнаты поднимающуюся панель и вход в подземелье, которое, продолжаясь под рекою, приводило в монастырскую келью. Выход также был закрыт подъемною панелью, которая изнутри кельи совершенно уподоблялась стене. Пред нею поставлен был налой, а на нем большая картина, изображающая распятие. Не выходя еще из замка, втащил я туда тело моего слуги и, выпросивши у монахинь большой ящик, положил его в нем и оставил в подземелье.
Удалясь из замка, вошел я в монастырь, и сквозь келью ходил очень часто, будучи переодет и вооружен, в отделение оного, мною прежде занимаемое. Я находил все в таком же положении, как было мною оставлено, и как подземелье имело сообщение с другими частями замка, то я поселил такой ужас в виновную Гунильду, что, не осмеливаясь входить в северное отделение, она совершенно его оставила, и разнесли слух, что вся эта часть обитаема духами. Потом я оставил сию страну и соединился с своею супругою.
Несколько часов спустя по выходе моем из замка Гунильда призвала привратника, и побудила его посредством великой награды распространить слух, что видел меня уехавшим того же самого утра. Удивленный привратник взял от нее деньги, не сказав ей, что и действительно видел мой выход. По возвращении Людвига сказала она ему, что будто бы я хотел учинить ей насилие, но сын ее тому воспрепятствовал.
Супруга моя находилась при другом дворе. При соединении с нею переменил я свое имя. Изо всего нашего имущества оставалось только у нас несколько наличных денег и дорогих каменьев. Все мое недвижимое имение перешло в руки Губерта, а супруга моя лишилась своего от военных разорений. Мы распродали все свои вещи и, прибывши сюда в одежде поселян, выбрали для обитания своего малую хижину посреди леса, во ожидании случая к наказанию преступления и к отмщению за оскорбления свои. Труды нашего сына довольны были к нашему пропитанию, и без нынешних происшествий, может быть, провели бы мы всю свою жизнь в кроткой и спокойной неизвестности.
Любопытство приводило меня по временам в замок, в коем известны мне все проходы, и таким образом уведомился я о бесчестных предприятиях Брюншильды и расстроил оные. Теперь ты видишь, Губерт, что я не привидение: здравомыслящий человек не может верить таким нелепостям; при всем том, не иначе как посредством чудесностей надеялся я уничтожить твои замыслы. Идучи в комнату герцога, услышал я крик Гильдегарды и вышел из своей панели, между тем как ты оборотился ко мне спиною. Ужас представил меня в глазах твоих свыше смертного: новое доказательство, что привидения или мертвецы есть одна мечта виновной совести или слабоумия.
Скелет, толико удививший герцога Альберта и двух его сотоварищей, был не иное что, как иссохший труп моего слуги; посредством проволоки и пружин мог я легко производить им виденные вами действия. Теперь сниму личину с так называющейся тени Брюншильды.
Когда лицо ее было открыто, тогда все с удивлением познают в ней игуменью, и сия игуменья была принцесса Эмма, которая видом своим много уподоблялась Брюншильде.
Тогда встал Гримоальд.
— Вы слышали, — сказал он, — повесть графа Рихарда; приготовьтесь же теперь к новому удивлению. Вы видите во мне сына Людвига и Аннефледы. Другого младенца вместо меня умертвили, а меня спасли. Провидение вспомоществовало покровителям моим в содержании меня, и долгое время пребывал я не известным о тайне своего рождения; но наконец, сочли они за нужное открыть мне ее, и коль скоро о том уведомился, то прибыл сюда под предлогом искания приключений. Итак, я объявляю, что все сии поместья мне принадлежат.
Удивленный и раздраженный Альберт хотел было ему ответствовать, как предупрежден был в том графом Рихардом.
— Гримоальд, — сказал он ему, — ты не что другое, как дерзкий обманщик: я один могу представить истинного и законного наследника; Эдгар, приведи моих друзей.
Эдгар вводит двух стариков, которые объявляют, что они есть те самые, которым Гунильда велела учинить убийство; но, по согласию с графом, имея в виду другие намерения, спасли они принца и подложили умершего младенца на его место; пятно же на шее его сделано было нарочно, чтоб обмануть Гунильду.
— Тобою самим, Губерт, в том свидетельствуюсь, — говорил граф. — Скажи, эти два человека те ли самые, коим мать твоя препоручила умерщвить юного принца?
— Так, это справедливо, и несказанно меня удивляет; но должен признаться, что я не согласился бы в сей истине, ежели бы не приносила она мне удовольствия видеть Альберта, лишенного поместьев своих. Уже давно поражало меня сходство Эдгара с отцом его, и тем большую вселяло в меня к нему ненависть.
Альберт, безмолвный от удивления, казался погруженным в глубокое размышление, а граф Рихард продолжал повесть свою:
— Я бдил над ним с величайшим старанием, и могу сказать, что он достоин рода своего. Уже долгое время он любит вашу дочь и взаимно ею любим; но при всей своей горячности, никогда они не преступали правил добродетели. Работая в садах замка, имел он частые случаи с нею разговаривать. Гильдегарда нередко посещала мою супругу; она знала, что сын мой не был простым поселянином. Я называю его своим сыном для того, что всегда ощущал к нему нежность родительскую. Она намерена была пожертвовать любовию своею должности и забыть Эдгара; но опасности, которым недавно он подвергался, возбудили и придали новые силы страсти ее.
Алберт воздыхал и казался нерешимым, но коль скоро граф престал говорить, встал он, взял за руку дочь свою и, представляя ее Эдгару, наполнил сердца их радостию, удивлением и признательностию.
— Дети мои, — говорил он им, — эти поместья ваши; я вам их возвращаю и желаю вам счастливых дней.
— Нет, государь, — отвечал Эдгар, повергаясь пред ним на колени, — доколе будем иметь счастие наслаждаться продолжением дней ваших, сии поместья принадлежат вам; я ничего не желаю, кроме вашей дочери; дозвольте нам пребывать в замке под вашим покровительством, и от одних вас желаем мы всегда зависеть.
Гильдегарда приняла то же положение, и просила отца своего склониться на требования Эдгара. Альберт обнял с нежностию детей своих и согласился на их желание. Потом, обратясь к другим действующим лицам сей интересной сцены, увидел, что одного из них недоставало: Гримоальд-мститель рассудил скрыться неприметно; он, конечно, пошел искать новых приключений и какого ни есть другого замка, где бы мог с лучшим успехом оказать свои требования и неустрашимость.
Губерт осужден был к вечному заключению; раздали его поместья, оказав в сем разделе преимущество достойнейшим. Жакмар получил порядочный удел для детей своих. Эдгар сочетался с Гильдегардою и замок герцога Альберта учинился жилищем согласия, мира и благоденствия. Сир Раймонд несколько спустя возвратился в Англию, и в бумагах, оставшихся после его смерти, нашли подробности сей истории.
КОНЕЦ
Анонимный роман «The Animated Skeleton» (с подзаголовком «Count Richard, or the Animated Skeleton») был впервые опубликован в 1798 г. в лондонском издательстве У. Лейна «Минерва-пресс», где вышли в свет многие произведения эпохи расцвета английской готики.

Уже в 1799 г. в Париже появился французский перевод романа, озаглавленный «Le Chateau D’Albert, ou Le Squelette Ambulant». В 1803 г. за ним последовал и русский перевод И. Павленкова; роман — как и многие другие готические произведения той поры — был приписан переводчиком знаменитой А. Радклиф. Некоторые исследователи готического жанра, к слову, считают «Движущийся скелет» одним из самых удачных подражаний Радклиф, не лишенным к тому же определенной оригинальности. В свою очередь, в XIX в. роман послужил предметом подражаний; известно также о существовании позднего итальянского перевода.
Об авторе романа не имеется никаких сведений, однако в 1799 году французский «Journal général de la littérature de France» сообщал, что он был написан женщиной.
Текст печатается по изданию 1803 г. Орфография и пунктуация приближены к современным нормам; в случае диалогов, как правило, введено деление на абзацы.
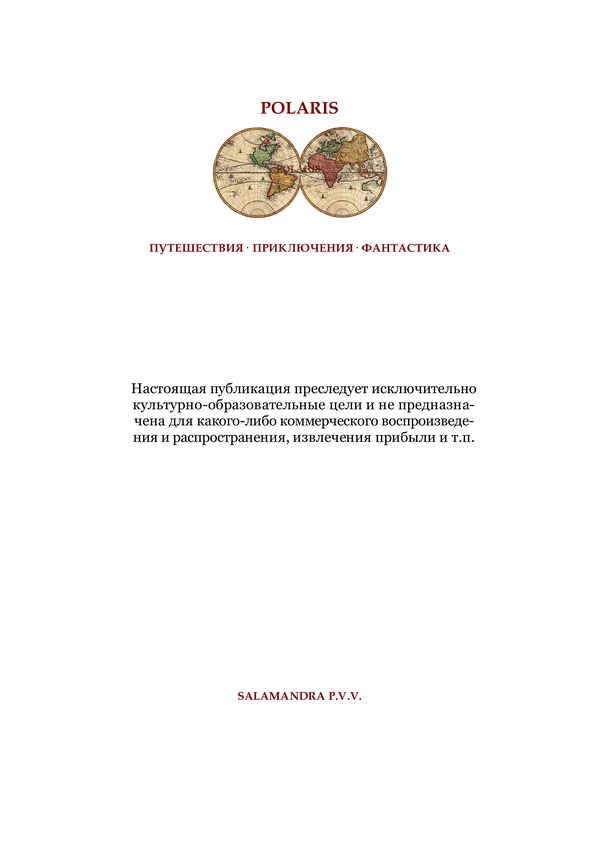
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ