Глава 1.
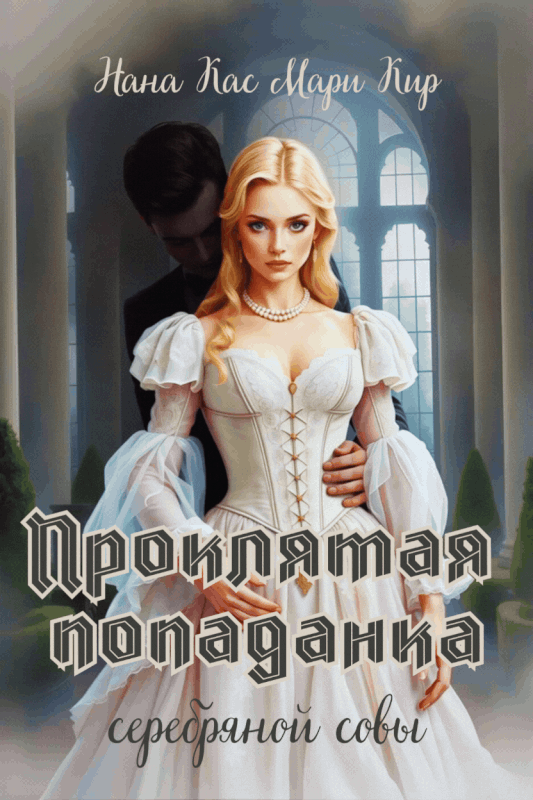
 Моргаю. Всего один раз.
Моргаю. Всего один раз.
Пыль пахнет временем, но не абстрактными секундами, убегающими со стрелок часов, а осязаемыми, забытыми словами и ушедшими в небытие вздохами.
Всё в моей жизни чётко делилось на «до» и «после». «До» это мой безупречный план. Золотая медаль, лингвистика, блестящая карьера в стеклянной башне с видом на будущее. Жизнь, где всё логично, предсказуемо и подчинено железным правилам. Никаких сюрпризов. И уж тем более никаких проклятий.
Я отвела руку от потёртой кожи, чтобы провести ладонью по уставшим глазам. Последнее, что запечатлела память: терпкий запах старинной бумаги, въевшийся в кончики пальцев, и ледяное прикосновение к крышке ларца.
И реальность сдвигается.
Хрупкая невесомость чашки в моей руке. Тяжёлый воздух наполнен ароматом цветов и чем-то ещё сладким, неуловимо чужим. Я вновь моргаю, пытаясь стряхнуть с сетчатки призрачные круги от летнего солнца, что слепило меня в прабабкином кабинете. Но они не рассеиваются, а становятся каркасом, основой нового мира, проступающего сквозь пелену.
«После» началось здесь.
Одну секунду назад мои пальцы скользили по потрескавшейся бумаге старого письма. А теперь… я утопаю в бархатной глубине кресла с готически высокой спинкой. В огромное арочное окно льётся рассеянный свет, ложась на тёмный паркет, отполированный до зеркального блеска. Прямо передо мной на низком столике дымится серебряный самовар, тихо потрескивая, а рядом тончайший фарфоровый сервиз с позолотой. В камине, вопреки всякой логике и времени года, тлеет полено, наполняя комнату древесным теплом и запахом воска.
Всё вокруг дышит до тошноты богатой красотой. Словно дорогая, но бездушная декорация из исторического фильма, где каждый предмет кричит о чужой жизни.
Я инстинктивно сжимаю пальцы, и изящная чашка мелко дрожит, издав звон. От движения кружевные манжеты шёлкового платья щекочут запястья. С моего плеча соскальзывает тяжёлая, непривычно длинная золотистая прядь.
Паника, тупая и мгновенная, скручивает низ живота.
Где я? Что это? Сон? Бред? Но сны не бывают такими осязаемыми. Я чувствую каждую складку ткани на коже, обжигающее тепло фарфора в ладони и сладковатую тошноту, плывущую от густого, удушливого аромата.
– Надеюсь, чай ещё не остыл? Миссис Эпсворт утверждает, что я обладаю дурной привычкой затягивать утренний кофе до бесконечности.
Незнакомый голос впивается в одурманенное сознание, и я поднимаю взгляд.
В таком же кресле напротив, полубоком ко мне, сидит мужчина. Он погружён в чтение газеты. Свет из окна мягко падает на его профиль, высекая из полумрака высокий лоб, прямой нос и резко очерченный подбородок. Тёмные волосы, зачёсанные назад, слегка вьются у висков, отчего в его строгом облике проскальзывает небрежная элегантность.
– Погода, кажется, намерена испортиться, – его низкий голос с бархатной хрипотцой разрезает тишину, будто мы встречаемся так каждое утро. – Ветер с севера. Вы ведь планировали прогулку в сад? Стоит захватить плащ.
Ледяная волна прокатывается от макушки до пят, выжигая остатки мысли и воздуха.
Мир сужается до его глаз. Очень тёмных, почти чёрных. И в них бездонная, всепоглощающая тоска, которую я видела всего несколько минут назад на пожелтевшей фотографии с инициалами «К.К.».
Крылов Киллиан.
Имя бьёт в виски с такой силой, что комната плывёт перед глазами. Это невозможно. Он был портретом на стене. Всего мгновением в истории нашей семьи. Немым артефактом прошлого, а не живым человеком из плоти и крови, что сидит в нескольких метрах, дышит, шелестя газетой.
– Вы сегодня кажетесь немного бледной, – замечает он, и в глубине тех самых глаз мелькает тень вежливого участия.
Он продолжает говорить, но его хриплый голос тонет в нарастающем писке в ушах. Уставившись на него, я не разбираю ни единого слова, лишь чувствую, как кровь отливает от лица и стынет в венах.
Пальцы предательски слабеют, и чашка с мелодичным звоном разбивается о паркет, обдав подол платья тёмными, почти кровавыми брызгами.
Мужчина резко поднимается с кресла. Теперь его взгляд не отсутствующий. Он острый, сосредоточенный, прожигающий насквозь. В нём мелькает удивление, а следом мгновенная, живая тревога.
– Алисия? – окликает он, сдвинув брови.
Это имя повисает в воздухе словно приговор. Горло сжимается в тисках. Пытаюсь отшатнуться, бежать, но ноги не слушаются, будто из гипса. Пятна света пускаются в пляс: тёмное дерево, ослепительная позолота рам, его бледное, искажённое тревогой лицо.
Из груди вырывается звук, не крик, а короткий, надорванный стон, полный такого животного ужаса, что я сама его пугаюсь.
Я вижу, как газета падает на паркет бесшумным облаком. Его высокая фигура устремляется ко мне, преодолевая пространство гостиной. Рука тянется через пляшущий туман, чтобы ухватить меня, удержать от падения. А в расширенных зрачках паника.
Глава 2.
Первым приходит не свет и не звук, а ощущение стремительного падения, выворачивающего душу наизнанку. Меня швыряет в кромешной тьме, где нет верха, низа, только вихрь, разрывающий на части. Ледяной ветер обжигает кожу и проходит насквозь, вымораживая кости и память. В ушах гул моего собственного, но абсолютно беззвучного крика.
Пытаюсь ухватиться за что-нибудь пальцами, ногтями… но вокруг лишь пустота, плотная и безжалостная. Мои мысли распадаются под чудовищным напором чистого ужаса. Сердечный приступ? Инсульт? Нет... Я испытываю слишком много, чтобы умирать. Чувствую каждый нерв, оголённый и звонкий от перегрузки.
И внезапно... падение обрывается. Резко, будто нашлось дно. Меня тянет с чудовищной скоростью через пелену мрака, и сквозь толщу, словно мутной воды, начинают проступать размытые пятна. Дрожащее, живое свечное пламя.
Я лежу на чём-то невероятно мягком и огромном. Тело ватное, веки налиты свинцом, но у меня получается их приподнять.
Над головой незнакомый тёмно-багровый балдахин, собранный в пышные складки. Воздух густой, пропахший ладаном, воском и тишиной.
И тут память возвращается обжигающим холодом, пронзая всё тело.
Кабинет прабабки Дианы. Мамина усталая просьба разобрать архив превратилась в летнюю каторгу перед отъездом в университет. Мой безупречно выверенный план пошёл под откос...
Короткой вспышкой в сознании всплывает лицо. Искажённое не фотографическим недочётом, а всепоглощающим бессилием. Самые тёмные глаза, что смотрят сквозь время прямо на меня.
Сердце заколотилось, сжимаясь в ледяной ком. Я в просторной кровати под зловещим балдахином. Высокие потолки давят лепниной, а громадные шторы глушат любой намёк на внешний мир. Всё вокруг монументальное, из чёрного дерева, поглощающего свет.
Резко сажусь, и мир плывёт, закручиваясь воронкой. В висках стучит: «Беги!»
В этот момент дверь с протяжным скрипом приоткрывается. В комнату вплывает пожилая женщина в тёмно-зелёном платье и белоснежном чепце. Увидев меня, она всплёскивает руками, и на морщинистом лице расцветает улыбка безудержного облегчения.
– Госпожа Алисия! Слава Создателю! Вы очнулись!
Алисия?
Моё имя Лидия.
Почему она зовёт меня Алисией?
Она приближается к кровати и поправляет одеяло.
– Вы нас так напугали… Почти трое суток без памяти. Хозяин не отходил, пока доктор не велел дать вам покой.
Трое суток? Хозяин?
Каждое слово, точный удар молотка, вбивающий в сознание гвоздь ужаса. Это не может быть реальностью. Скорее галлюцинация, в которую меня погрузили с головой.
– Воды, госпожа? – Голос женщины ласковый, но он обжигает, словно раскалённая проволока.
Молча киваю, не в силах издать ни звука. Горничная наливает воду из расписного кувшина и передаёт мне. Пальцы дрожат так, что я едва удерживаю стакан. Ледяная влага обжигает пересохшее горло, но не может растопить ком паники, засевший глубоко внутри, под самым сердцем.
Пока я пью, делая маленькие глотки, женщина суетится, поправляя подушки. Её сочувствующий взгляд скользит по моему лицу…
– Как же вы нас напугали, – причитает она, стирая невидимую пыль с прикроватной тумбы, – такой обморок, да ещё и с криком... Господин Киллиан думал, вам дурно сделалось от чаю. Уж он-то был вне себя.
Киллиан.
Перед глазами, поверх этого жуткого сна, снова всплыло лицо мужчины, искажённое неподдельной тревогой, когда он бросился ко мне через гостиную. Его руки, прикосновение, которое сквозь накатывающую пелену обморока показалось одновременно сильным, властным и... до жути бережным. Это не вязалось с плоским образом холодного злодея из недописанного письма.
«Если со мной что-то случится…»
Обрывок фразы из ларца пронзает, как осколок. Сердце ёкает и замирает.
Вернув стакан, я заставляю лёгкие работать ровнее. Здесь нужна мыслить логически. Это единственный якорь, что удержит меня от безумия.
– Я… не понимаю, – голос звучит чужим, выше и тоньше моего. – Что… случилось?
Женщина вздыхает, с материнской заботой присаживаясь на край кровати.
– Да ничего особенного, госпожа. Сидели вы с хозяином в голубой гостиной, чай пили. Беседовали о будущем бале у князей Голицыных. Вы смотрелись усталой, но спокойной. Мило улыбались. И вдруг… – Она разводит руками. – Будто бес в вас вселился. Вскочили, словно ужаленные, вскрикнули и на пол.
Слушаю, и обрывки мозаики складываются в жутковатую картину. Они пили чай. Беседовали. А потом я, Лидия из будущего, моргнула и оказалась здесь, за несколько дней до трагедии, лицом к лицу с человеком из истлевшего прошлого. Мой крик и обморок были единственно возможной реакцией.
Пока горничная говорит, мой взгляд скользит по комнате. Роскошной, но душной, как гроб, задрапированный бархатом. И там, на туалетном столике, притаилось небольшое овальное зеркало в серебряной оправе. Меня тянет к нему с неодолимой силой, смесью страха и мазохистского любопытства. Я должна увидеть.
– Зеркало, – вырывается у меня, выдавая бурю внутри.
Глава 3.
Женщина отнесла зеркало обратно на туалетный столик и, пообещав принести бульон, наконец вышла. Щелчок замка прозвучал оглушительно, словно разорвав последние нити, связывающие с моей реальностью. Я застыла в давящей тишине, от которой звенело в ушах. Совершенно одна. В чужом теле, в чужой эпохе, в роскошной тюрьме без решёток.
Я откидываюсь на подушки, сжимая виски пальцами, чтобы подавить нарастающий хаос внутри. Голова гудит, перегруженная попытками осмыслить случившееся.
Это не сон.
Слишком осязаемы запахи: воска, благовоний, удушливый аромат лаванды от постельного белья. Реальна и тяжесть чужих волос на плечах, хрупкость тонких запястий, одно из которых я сжимаю, отсчитывая учащённый пульс.
Я зажмурилась, цепляясь за память, как утопающий за соломинку.
Воспоминания поплыли чёткими кадрами. Лето, пыльный кабинет, залитый слепящим солнцем. Мама назвала это «данью уважения предкам» перед моим возвращением в университет. Её просьба казалась такой незначительной на фоне моих грандиозных планов. Я злилась, считая каждую потерянную минуту, мечтая о своей упорядоченной жизни, где нет места пыльным семейным тайнам.
И тот самый ларец. Чёрного дерева с серебряной совой на крышке, с пронзительным знающим взглядом. Стопка писем, перевязанных лентой… И последняя записка, обрывающаяся на полуслове: «Если со мной что-то случится, прошу, ищи подсказку…» Продолжение которого я так и не успела найти. А потом… фотография.
Лицо, застывшее во времени, смотрело на меня с посеревшего картона.
Теперь Киллиан здесь. Во плоти. Супруг Алисии. Где-то за этими стенами дышит тот, чья судьба переплелась с моей самым непостижимым образом. Что скрывалось за маской светского мужа? Почуял ли он в моём вскрике лишь недомогание?
Робкий стук в дверь заставил меня вздрогнуть. Сердце бешено заколотилось, предвосхищая появление нового персонажа. И в проём просунулось испуганное личико молоденькой горничной.
– Госпожа, – шепчет она, – хозяин спрашивает, можно ли к вам.
Киллиан? Он пришёл?
Судный час наступил раньше, чем я успела опомниться. Инстинкт кричит: «Нет!». Спрятаться, запереться, сделать вид, что меня нет.
Сжав кулаки под одеялом, я наполнила лёгкие воздухом, но не успела возразить, дверь открывается, и в комнату входит он.
Мужчина на пороге выше, чем мне показалось в гостиной. Его тёмный сюртук подчёркивал ширину плеч и стройность. Лицо бледное, с тенями под глазами. Но не это привлекло внимание, а его взгляд, следивший за мной с фотографии, сейчас смотрит с такой смесью тревоги и почтительной осторожности, что по коже пробежали мурашки.
Киллиан замер, не решаясь подойти ближе.
– Алисия, – произнёс он тихо своим бархатистым голосом, лишённым гнева, в нём слышалась только глубокая усталость. – Как вы?
Он назвал меня её именем. С такой естественной нежностью, будто произносил тысячу раз. Острая боль сжала сердце. Он обращался не ко мне, я лишь самозванка в её коже, ворующая их историю.
Не в силах ответить, я просто смотрю на него, пока мелкая дрожь пронзает всё тело. Мой ужас, должно быть, написан на лице крупными буквами, потому что его взгляд становится ещё более пристальным.
Киллиан делает осторожный шаг вперёд, и я инстинктивно отстраняюсь, вжимаясь в резное изголовье кровати.
Мужчина замер, приподнимая руки в жесте, одновременно успокаивающем и сдающемся.
– Я не причиню вам вреда, Алисия. Клянусь. – Его взгляд скользнул по моему лицу, по белым от напряжения пальцам, вцепившимся в дерево. – Доктор сказал, вам нужен покой.
Доктор. Всё настолько чудовищно реально, так безупречно отлажено. Не мираж, целый мир со своими железными правилами, врачами… мужьями. Трагедиями, давно прописанными в истории.
Я попыталась заставить работать голосовые связки. Выдохнуть «я не она», сорвать с себя маску одним признанием. Но язык лежит во рту мёртвым грузом. Слова застряли в горле, перекрытые ледяной волной паники. А если скажу? Он поверит? Или решит, что я обезумела, и запрёт в комнате с мягкими стенами? А может… моё безумие и станет тем спусковым крючком, который превратит разбитого аристократа в убийцу?
– Не пытайтесь говорить, – тихо говорит он. В глубине его глаз мелькнуло нечто похожее на раскаяние.
В голосе звучала такая искренность, что паника на мгновение отступила, уступая место парализующей растерянности.
Кто ты? Заботливый муж с разрывающимся от беспомощности сердцем? Или искусный актёр, играющий на струнах чужой жалости? Письмо с предупреждением взывало к осторожности, требовало не доверять. Но тогда кому?
– Я… я не помню. – Прячу разгорячённое лицо в ладонях. Горло саднило, словно я кричала несколько часов. – Ничего не помню. Что здесь происходит? Кто я?
В наступившей тишине можно было утопиться. Я боялась поднять взгляд, и увидеть разоблачение в его глазах. Затем услышала тяжёлый, сдавленный вздох. Звук человека, смиряющегося с бедой.
– Это пройдёт, – отвечает он без упрёка. – Доктор предупреждал о возможной путанице в памяти. Вы Алисия Крылова. Моя жена. И вы в безопасности в нашем доме.
Глава 4.
Тогда, в воздухе кабинета, пропитанном духом старой бумаги, это щемящее любопытство казалось невинной забавой.
Я развязывала выцветшую шелковую ленту, листала чужие, поблёкшие от времени письма, пока мои пальцы дрожали от волнения, от прикосновения к истории.
Как же я заблуждалась.
Среди громадных кряжистых томов, словно дитя, заблудившееся в лесу спящих гигантов, стоял изящный ларец неестественно чёрного цвета. Тяжелей, чем можно было предположить по его размерам, он удивительно приятно лежал в ладонях. На крышке, обрамленной причудливыми узорами, красовалась инкрустация из серебра в виде совы, чьи крылья обнимали циферблат часов. Её большие выпуклые глаза, сделанные из тёмного камня, казалось, смотрели прямо на меня.
В тот миг что-то ёкнуло внутри. Я пыталась подавить настойчивое желание узнать больше, оно вело в тёмные закоулки, где привычные правила логики бессильны. Но, как следствие, у меня ничего не вышло.
Письма в ларце были разные: деловые предложения, сухие благодарности за переводы… Ничего, что говорило бы о владельце или цепляло за душу. С лёгким разочарованием я отложила их в сторону, как вдруг из пачки выпал небольшой листок. Торопливое письмо, сбившееся с ритма, с резкими росчерками, выдававшими панику. «Мой дорогой, я боюсь, что подозрения не беспочвенны. Он что-то замышляет. Если со мной что-то случится, прошу, ищи подсказку…»
На этом всё обрывалось. Последнее слово превратилось в кляксу, похожую на чёрную слезу, будто перо вырвали из руки. Но внизу, под этим незаконченным криком, стояла изящная подпись, словно поставленная вне времени: «Твоя Алисия».
Прабабка часто произносила это имя. Рассказывала о последней женщине в семье Крыловых как о великой воительнице, после смерти которой целый «проклятый» род сгинул. О той самой Алисии, чья судьба внезапно перестала быть страницей истории.
Но кто «он»? Какую «подсказку» искать?
Моя рациональная часть требовала отложить «мелодраму викторианской эпохи» и заняться реальной работой. Но другая, та, что замирала от страха при виде пауков и боялась кромешной темноты в двадцать лет, была загипнотизирована.
В бархатном ложе ларца нащупав едва заметную неровность и подцепив ногтем край ткани, я открыла потайное отделение. Внутри лежала чёрно-белая фотография. Мужчина с пронзительным взглядом словно бы искал кого-то по ту сторону объектива.
В тот момент в кабинете внезапно потемнело. Нервы сдали, и я собиралась оставить загадки прошлого, но из тайника выпала крошечная металлическая сова-печатка.
«Истинная любовь вечна. Услышьте мои слова…»
Разглядывая изящную гравировку, я читала шёпотом, а глаза сами следовали по строчке.
«…чтобы дверь открылась».
Крышка ларца захлопнулась с неожиданно громким щелчком, словно печать, поставленная под всем этим странным днём. Письма и фотография остались внутри, а у меня возникло ощущение, будто я повернула ключ в замочной скважине давно запертой двери. И теперь из-за неё доносится тихое, едва слышное дыхание.
От ещё большей загадки виски сжало стальным обручем, и в следующее мгновение я уже открыла глаза не в пыльном кабинете.
Выходит, я провалилась сквозь время, а те слова оказались не просто исторической загадкой? Они были приглашением! И я его приняла...
– Осторожно, сударыня, ради Бога!
Суетливая горничная бережно кладёт руку мне на плечо, помогая сесть. Её прикосновение тёплое и живое. Слишком реальное. Оно добивает последние остатки моей надежды на кошмар.
– Где я? – пытаюсь спросить, но получается лишь хриплый шёпот.
– В ваших покоях, госпожа Алисия, – женщина смотрит на меня с искренним беспокойством.
Она вернулась сразу после ухода Киллиана. Подоткнула мне под спину горы подушек, поставила на складной столик поднос с дымящимся бульоном, хрустящим багетом, маслом и вареньем. Хоть стресс и сковывал желудок ледяными цепями, еда всегда меня успокаивала. Поэтому я взяла дрожащей рукой ложку и, зачерпнув жидкость, поднесла ко рту.
Горничная оказалась на удивление заботливой, если не считать, что вся её доброта адресована призраку. Каждое «госпожа Алисия» отзывалось во мне фальшивой нотой. Она помогает справиться с обедом, хвалит мой аппетит, поправляет подушки, а её натруженные пальцы ловко разглаживают складки покрывала. И в этой простой бытовой сцене столько непринуждённой нормальности, что моё положение казалось ещё более абсурдным.
– Вы так напугали хозяина, – приговаривает она, суетясь вокруг. – Он сам на руках принёс вас сюда. Белый как полотно весь. Хоть он и сдержан всегда, но видно было, потрясён до глубины души.
Молча киваю, боясь открыть рот. Её слова не укладываются в голове, сталкиваясь с обрывком того письма. «Потрясён». Убийца может быть потрясён смертью жены, но не её внезапным обмороком. Если, конечно, обморок не спутал ему все карты.
Моя логика бьётся в истерике, отчаянно пытаясь выстроить из осколков связную картину.
– Мне нужно… встать. – Стены этой роскошной клетки смыкаются. Если я проведу здесь ещё минуту, то мой рассудок не выдержит.
– Ой, нет, что вы! Доктор покой велел! – Всплеснула руками горничная, заслоняя собой путь.
Глава 5.
Марфа, как я выяснила, когда в комнату зашла молоденькая горничная и обратилась к ней по имени, восприняла моё упрямое желание «привести себя в порядок» с убийственной буквальностью.
Переодевание стало церемонией медленного удушения, пыткой, достойной инквизиции. Горничная принесла неэластичный корсет, о котором я когда-то читала в романах, а настоящего костяного монстра из плотной ткани и гибких пластин. Когда Марфа принялась его зашнуровывать, мир сузился до невыносимо сдавливающего дискомфорта. Рёбра протестующе скрипели, лёгкие не могли расправиться, я ловила воздух жалкими глотками. Казалось, ещё немного, и потеряю сознание от банального удушья.
– Чуть свободнее, Марфа, умоляю, – выдавила я, цепляясь за стойку кровати.
– Но, сударыня, вы же говорили, что талия должна быть тоньше, чем у королевы!
От этой фразы становится ещё хуже. Значит, настоящая Алисия была не только легкомысленной, но и жертвой моды до самоистязания. Возможно, я ошиблась в причине своего обморока. Не шок от путешествия во времени, а тотальная гипоксия свела с ума мой мозг.
– Сегодня я предпочту дышать, – хриплю я.
Марфа с немым осуждением слегка распускает шнуровку, но это всё равно что ослабить удавку, а не снять её с шеи. Когда же я вижу гору тканей, кринолины, фижмы, бесчисленные нижние юбки, протест вырывается сам собой.
– Меня едва держат ноги, а в этих доспехах я даже с места не сдвинусь!
– Но, госпожа, – всплеснула руками младшая горничная, – без кринолина платье не сядет по фигуре!
– Я хочу одеться… посвободнее, – отрезаю я, отбрасывая ненужные ткани. Беру лишь один пышный подъюбник и тёмно-аквамариновое платье с длинным рукавом, самое простое из предложенного.
Молчаливое недоумение красноречивее любых слов. Они переглядывались, помогая мне облачиться в выбранный наряд, движимые скорее привычным послушанием, чем пониманием.
Когда горничная застёгивает последнюю пуговицу на лифе, я ловлю своё отражение в зеркале. Передо мной стоит незнакомая знатная дама. Изящная, с бледным лицом, смягчённым лёгким макияжем, тонкой талией и аккуратно убранными в пучок волосами. Но внутри этой изысканной оболочки бьётся сердце перепуганного зверька, метаясь в поиске выхода.
– А с виду-то и не скажешь, что чего-то не хватает, – с осторожным удовлетворением произносит Марфа, окидывая меня критическим взглядом вместе с молоденькой горничной. – Хозяин, я думаю, будет доволен.
Её слова, как удар хлыста, возвращают в реальность, к главной проблеме. Киллиан.
Что мне делать, когда увижу его снова? Как вела себя с ним Алисия? Кокетничала? Была холодна и бесцеремонна? Я не знаю абсолютно ничего об их отношениях, кроме одного неоспоримого факта, перечёркивающего всё остальное: их роман закончится её смертью.
– Марфа, – осторожно начинаю я, опуская взгляд и играя складками платья, – после… падения… я многое не помню. Чувствую себя такой глупой.
Надеюсь, что симуляция потери памяти станет моим щитом. И не ошиблась. Лица горничных смягчаются, на них расплывается тёплое, почти материнское сочувствие.
– Ах, бедная вы моя! Это часто бывает после такого потрясения. Не извольте беспокоиться, всё потихоньку вспомнится.
– Боюсь, даже самые простые вещи вылетели из головы, – вздыхаю я, с наигранной слабостью опускаясь на стул у туалетного столика. – Наш с графом… сегодняшний разговор в гостиной. О чём он был? Мне смутно помнится, будто мы спорили, но…
Оборвав фразу, даю ей пространство для ответа. Это ловушка, расставленная с холодным расчётом. Если они ссорились, я получу потенциальный мотив. Если нет, ценную информацию об их обычной жизни.
Марфа хмурится, словно перебирая в памяти утренние события.
– Разговор? Вы просто обсуждали новую книгу, что господин Киллиан привёз вам из Петербурга. Поэзию какую-то, модную нынче. Потом беседовали о предстоящем бале. Никакого спора и в помине не было.
Книга. Поэзия. Бал. Ничего, что могло привести к трагедии, возникшей не из-за сиюминутной ссоры. Это чуть лучше. Или гораздо хуже, делая угрозу куда более страшной: невидимой и абсолютно непредсказуемой.
В дверь тихо постучали. Молодая горничная бросилась открывать, и в проёме, залитом светом из коридора, снова возник Киллиан. Мертвенная бледность с его лица сошла, но напряжение в широких плечах никуда не исчезло. Взгляд оценивающе скользнул по мне, от непокорных прядей волос до кончиков туфель, задерживаясь на моём «приличном», по мнению Марфы, виде.
– Вы выглядите… значительно лучше, – наконец произнёс он.
Пытаюсь изобразить на своих губах нечто, похожее на улыбку, но чувствую, как лицо сводит жалкая, натянутая гримаса. Я сжимаю пальцы, спрятанные в складках бархатного платья, в обессиленные кулаки.
Мужчина застыл в дверях, и его молчание казалось громче любого крика. Понимаю, я должна что-то сказать, сделать жест. Но разум пуст, а тело сковал страх. Все правила этикета, почерпнутые из романов, растворились в панике. Я просто сижу, сжимая в потных ладонях бархат юбки, и смотрю на него, как загипнотизированная птица на змею.
– Я вернулся убедиться, что вы подкрепились, – нарушает тягостную паузу Киллиан. Он обводит комнату взглядом и смотрит на поднос с почти пустой тарелкой. – Марфа, принеси нам вина.
Глава 6.
После ухода Киллиана комната, наполненная гнетущим молчанием, будто выдохнула. Но облегчения не наступило. Я сижу, вцепившись в подлокотники кресла, и прислушиваюсь к шагам в коридоре. Они удаляются мерно, словно отбиваемые метрономом. Ничего в нём не выдавало взволнованного человека. Но что я вообще знаю о преступниках? В моей реальности самым страшным злодеем был пьяный однокурсник, пытавшийся стащить с меня очки.
Марфа, забрав поднос и отметив мою мертвенную бледность, снова завела свою шарманку: «Прилечь бы вам, сударыня, отдохнуть».
Прилечь? Когда каждый нерв звенит, как натянутая струна? Это выше моих сил. Мне нужен план. Действие, пусть самое незначительное.
– Нет, – стараюсь звучать твёрдо. – Я лучше пройдусь. По комнате. Чтобы ноги не затекли.
Женщина одаривает меня взглядом сдержанного недоумения, но не спорит.
Да, я ходячая аномалия, и это привлекает внимание всех. Но что я могу с этим сделать?
Едва дверь закрывается за ней, я поднимаюсь и медленно обхожу свою позолоченную клетку. Мне нужна зацепка. Любая. Всё, что может рассказать о женщине, чьё имя я ношу. И подхожу к туалетному столику. Флакончики с духами, серебряная щётка для волос, шкатулка с безликими украшениями. Чисто и на удивление бездушно. Ни намёка на характер. Я тяну за ручку верхнего ящика, но он не поддаётся.
Сердце ёкает и разгоняется с новой силой.
Запертый ящик? В нём может быть всё что угодно. Ключ, документы или то самое недописанное письмо. Я лихорадочно ощупываю столешницу, переворачиваю каждый флакон, проверяю под кружевной салфеткой. Ничего. Тогда опускаюсь на колени, холод паркета проникает сквозь тонкую ткань платья, и заглядываю под столик. И вижу его. Маленький плоский ключик, искусно прилепленный кусочком воска к нижней стороне столешницы. Примитивно, но для беглого взгляда незаметно.
Пальцы дрожат, когда я скребу ногтем по воску. Ключ срывается и падает прямо в ладонь. Я вставляю его в замочную скважину, и щелчок звучит громче пушечного выстрела.
Внутри ящика на аккуратно сложенных носовых платках лежит тетрадь в кожаном переплёте. Моё дыхание застревает в горле. Это не просто шанс, а возможность понять, кем была женщина, в чьей шкуре я заточена. И найти ответ на главный вопрос: почему она умерла так рано.
Захлопываю дневник, едва мои глаза отрываются от последних строк. Слова продолжают плясать, складываясь в ужасающую картину. Это не история любви, а исповедь несчастной женщины.
Со страниц на меня смотрела ещё одна незнакомка. Не та Алисия, которую торжествующе восхваляла прабабка. Не умная и добрая графиня, что тайком помогала семьям на окраинах и метким словом ставила на место зарвавшегося аристократа. В сбивчивых строчках предстала измученная, озлобленная женщина, вышедшая за Киллиана по расчету, устроенному её обедневшей семьёй. Она писала, что он богат, влиятелен, но «человек без сердца», холоден и замкнут, а библиотека и коллекция диковинных механизмов интересуют его куда больше жены. Алисия томилась от скуки и одиночества, ища утешения в мимолётных флиртах на балах, о чём написано с вызывающим цинизмом. Но сквозь её презрение к мужу проступал куда более всепоглощающий страх. Не перед ним как тираном. Судя по всему, она боялась мрачной атмосферы особняка. Портретов с предками в длинной галерее, гробовой тишины в его кабинете и пристального, изучающего взгляда мужа.
Что-то в этом доме сломало её, превратив в ту, что писала эти полные ужаса строки?
От последней записи, сделанной за неделю до моего появления, кровь застыла в жилах: «Сегодня ночью видела его в библиотеке. Он не читал. Стоял перед тем странным механизмом из своей коллекции, похожим на часы с серебряной совой. Он что-то шептал, и глаза его горели таким нечеловеческим огнём, какого я не видела. Он выглядел… одержимым. Я убежала. Иногда мне кажется, я вышла замуж не за человека, а за какую-то тёмную энигму, которая рано или поздно поглотит меня целиком».
Серебряная сова. Часовой механизм. Одержимость.
Это может быть простым совпадением. Та самая сова, что привела меня сюда? Она здесь? И Киллиан каким-то образом с ней связан. А моё падение в прошлое не случайность. Это было… последствием?
Судорожно листаю дневник назад, пока пальцы не натыкаются на самую первую запись, сделанную через месяц после свадьбы: «К. сегодня показал мне свою сокровищницу, коллекцию древних механизмов. Среди них была любопытная вещь: письменный прибор с совой. Говорит, это семейная реликвия. Глаза у неё такие живые, словно она следит за тобой. Я поспешила уйти. От неё веяло опасностью, не от мира сего...».
По спине покатилась ледяная волна смятения от ещё одной несостыковки. Он солгал? В письме моя прабабка ясно указала, что она приобрела письменный прибор и ларец на блошином рынке, а здесь Киллиан утверждает совершенно обратное. Зачем им лгать? И где сейчас эти проклятые артефакты? В библиотеке?
Тихий скрип половиц за дверью разрезает тишину. Резко захлопнув дневник, я запихиваю его в ящик и задвигаю с глухим стуком. Сердце колотится, стремясь вырваться из клетки. Я метнулась к кровати, пытаясь принять небрежную позу и не выдать панику.
Дверь открывается, и в проёме появляется Киллиан. Его взгляд скользит по моему лицу, задерживается на вздымающейся груди и останавливаются на пальцах, судорожно сжимающих складки платья.
– Вам не кажется, что вы зачастили с визитами в мои покои? – срывается с губ, прежде чем я успеваю обдумать слова. Вопрос прозвучал резко, почти враждебно, с запинкой от адреналина.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ