Максим Горький
Песня о Буревестнике
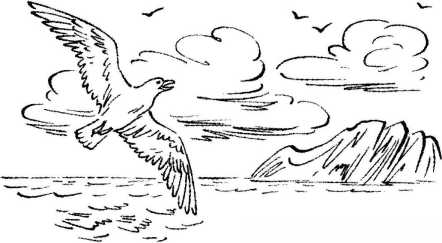
Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет Буревестник, чёрной молнии подобный.
То крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам, он кричит, и — тучи слышат радость в смелом крике птицы.
В этом крике — жажда бури! Силу гнева, пламя страсти и уверенность в победе слышат тучи в этом крике.
Чайки стонут перед бурей, — стонут, мечутся над морем и на дно его готовы спрятать ужас свой пред бурей.
И гагары тоже стонут, — им, гагарам, недоступно наслажденье битвой жизни: гром ударов их пугает.
Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утёсах… Только гордый Буревестник реет смело и свободно над седым от пены морем!
Всё мрачней и ниже тучи опускаются над морем, и поют, и рвутся волны к высоте навстречу грому.
Гром грохочет. В пене гнева стонут волны, с ветром споря. Вот охватывает ветер стаи волн объятьем крепким и бросает их с размаху в дикой злобе на утёсы, разбивая в пыль и брызги изумрудные громады.
Буревестник с криком реет, чёрной молнии подобный, как стрела пронзает тучи, пену волн крылом срывает.
Вот он носится, как демон, — гордый, чёрный демон бури, — и смеётся, и рыдает… Он над тучами смеётся, он от радости рыдает!
В гневе грома, — чуткий демон, — он давно усталость слышит, он уверен, что не скроют тучи солнца, — нет, не скроют!
Ветер воет… Гром грохочет…
Синим пламенем пылают стаи туч над бездной моря. Море ловит стрелы молний и в своей пучине гасит. Точно огненные змеи, вьются в море, исчезая, отраженья этих молний.
— Буря! Скоро грянет буря!
Это смелый Буревестник гордо реет между молний над ревущим гневно морем; то кричит пророк победы:
— Пусть сильнее грянет буря!..
Песня о Соколе
Море огромное, лениво вздыхающее у берега, — уснуло и неподвижно в дали, облитой голубым сиянием луны. Мягкое и серебристое, оно слилось там с синим южным небом и крепко спит, отражая в себе прозрачную ткань перистых облаков, неподвижных и не скрывающих собою золотых узоров звёзд. Кажется, что небо всё ниже наклоняется над морем, желая понять то, о чём шепчут неугомонные волны, сонно всползая на берег.
Горы, поросшие деревьями, уродливо изогнутыми норд-остом, резкими взмахами подняли свои вершины в синюю пустыню над ними, суровые контуры их округлились, одетые тёплой и ласковой мглой южной ночи.
Горы важно задумчивы. С них на пышные зеленоватые гребни волн упали чёрные тени и одевают их, как бы желая остановить единственное движение, заглушить немолчный плеск воды и вздохи пены, — все звуки, которые нарушают тайную тишину, разлитую вокруг вместе с голубым серебром сияния луны, ещё скрытой за горными вершинами.
— А-ала-ах-а-акбар!.. — тихо вздыхает Надыр-Рагим-оглы, старый крымский чабан, высокий, седой, сожжённый южным солнцем, сухой и мудрый старик.
Мы с ним лежим на песке у громадного камня, оторвавшегося от родной горы, одетого тенью, поросшего мхом, — у камня печального, хмурого. На тот бок его, который обращён к морю, волны набросали тины, водорослей, и обвешанный ими камень кажется привязанным к узкой песчаной полоске, отделяющей море от гор. Пламя нашего костра освещает его со стороны, обращённой к горе, оно вздрагивает, и по старому камню, изрезанному частой сетью глубоких трещин, бегают тени.
Мы с Рагимом варим уху из только что наловленной рыбы, и оба находимся в том настроении, когда всё кажется прозрачным, одухотворённым, позволяющим проникать в себя, когда на сердце так чисто, легко и нет иных желаний, кроме желания думать.
А море ластится к берегу, и волны звучат так ласково, точно просят пустить их погреться к костру. Иногда в общей гармонии плеска слышится более повышенная и шаловливая нота, — это одна из волн, посмелее, подползла ближе к нам.
Рагим лежит грудью на песке, головой к морю, и вдумчиво смотрит в мутную даль, опершись локтями и положив голову на ладони. Мохнатая баранья шапка съехала ему на затылок, с моря веет свежестью в его высокий лоб, весь в мелких морщинах. Он философствует, не справляясь, слушаю ли я его, точно он говорит с морем:
— Верный Богу человек идёт в рай. А который не служит Богу и пророку? Может, он — вот в этой пене… И те серебряные пятна на воде, может, он же… кто знает?
Тёмное, могуче размахнувшееся море светлеет, местами на нём появляются небрежно брошенные блики луны. Она уже выплыла из-за мохнатых вершин гор и теперь задумчиво льёт свой свет на море, тихо вздыхающее ей навстречу, на берег и камень, у которого мы лежим.
— Рагим!.. Расскажи сказку… — прошу я старика.
— Зачем? — спрашивает Рагим, не оборачиваясь ко мне.
— Так! Я люблю твои сказки.
— Я тебе всё уж рассказал… Больше не знаю… — Это он хочет, чтобы я попросил его. Я прошу.
— Хочешь, я расскажу тебе песню? — соглашается Рагим.
Я хочу слышать старую песню, и унылым речитативом, стараясь сохранить своеобразную мелодию песни, он рассказывает.
I
Высо́ко в горы вполз Уж и лёг там в сыром ущелье, свернувшись в узел и глядя в море.
Высо́ко в небе сияло солнце, а горы зноем дышали в небо, и бились волны внизу о камень…
А по ущелью, во тьме и брызгах, поток стремился навстречу морю, гремя камнями…
Весь в белой пене, седой и сильный, он резал гору и падал в море, сердито воя.
Вдруг в то ущелье, где Уж свернулся, пал с неба Сокол с разбитой грудью, в крови на перьях…
С коротким криком он пал на землю и бился грудью в бессильном гневе о твёрдый камень…
Уж испугался, отполз проворно, но скоро понял, что жизни птицы две-три минуты…
Подполз он ближе к разбитой птице, и прошипел он ей прямо в очи:
— Что, умираешь?
— Да, умираю! — ответил Сокол, вздохнув глубоко. — Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо… Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга!
— Ну что же — небо? — пустое место… Как мне там ползать? Мне здесь прекрасно… тепло и сыро!
Так Уж ответил свободной птице и усмехнулся в душе над нею за эти бредни.
И так подумал: «Летай иль ползай, конец известен: все в землю лягут, всё прахом будет…»
Но Сокол смелый вдруг встрепенулся, привстал немного и по ущелью повёл очами…
Сквозь серый камень вода сочилась, и было душно в ущелье тёмном и пахло гнилью.
И крикнул Сокол с тоской и болью, собрав все силы:
— О, если б в небо хоть раз подняться!.. Врага прижал бы я… к ранам груди, и… захлебнулся б моей он кровью!.. О, счастье битвы!..
А Уж подумал: «Должно быть, в небе и в самом деле пожить приятно, коль он так стонет!..» И предложил он свободной птице:
— А ты подвинься на край ущелья и вниз бросайся. Быть может, крылья тебя поднимут и поживешь ещё немного в твоей стихии.
И дрогнул Сокол и, гордо крикнув, пошёл к обрыву, скользя когтями по слизи камня.
И подошёл он, расправил крылья, вздохнул всей грудью, сверкнул очами и — вниз скатился.
И сам, как камень, скользя по скалам, он быстро падал, ломая крылья, теряя перья…
Волна потока его схватила и, кровь омывши, одела в пену, умчала в море.
А волны моря с печальным рёвом о камень бились… И трупа птицы не видно было в морском пространстве…
II
В ущелье лёжа, Уж долго думал о смерти птицы, о страсти к небу.
И вот взглянул он в ту даль, что вечно ласкает очи мечтой о счастье.
— А что он видел, умерший Сокол, в пустыне этой без дна и края? Зачем такие, как он, умерши, смущают душу своей любовью к полётам в небо? Что им там ясно? А я ведь мог бы узнать всё это, взлетевши в небо хоть ненадолго.
Сказал и — сделал. В кольцо свернувшись, он прянул в воздух и узкой лентой блеснул на солнце.
Рождённый ползать — летать не может!.. Забыв об этом, он пал на камни, но не убился, а рассмеялся…
— Так вот в чём прелесть полётов в небо! Она — в паденье!.. Смешные птицы! Земли не зная, на ней тоскуя, они стремятся высо́ко в небо и ищут жизни в пустыне знойной. Там только пусто. Там много света, но нет там пищи и нет опоры живому телу. Зачем же гордость? Зачем укоры? Затем, чтоб ею прикрыть безумство своих желаний и скрыть за ними свою негодность для дела жизни? Смешные птицы!.. Но не обманут теперь уж больше меня их речи! Я сам всё знаю! Я — видел небо… Взлетал в него я, его измерил, познал паденье, но не разбился, а только крепче в себя я верю. Пусть те, что землю любить не могут, живут обманом. Я знаю правду. И их призывам я не поверю. Земли творенье — землёй живу я.
И он свернулся в клубок на камне, гордясь собою. Блестело море, всё в ярком свете, и грозно волны о берег бились.
В их львином рёве гремела песня о гордой птице, дрожали скалы от их ударов, дрожало небо от грозной песни:
«Безумству храбрых поём мы славу!
Безумство храбрых — вот мудрость жизни! О смелый Сокол! В бою с врагами истёк ты кровью… Но будет время — и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!
Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!
Безумству храбрых поём мы песню!..»
…Молчит опаловая даль моря, певуче плещут волны на песок, и я молчу, глядя в даль моря. На воде всё больше серебряных пятен от лунных лучей… Наш котелок тихо закипает.
Одна из волн игриво вскатывается на берег и, вызывающе шумя, ползёт к голове Рагима.
— Куда идёшь?.. Пшла! — машет на неё Рагим рукой, и она покорно скатывается обратно в море.
Мне нимало не смешна и не страшна выходка Рагима, одухотворяющего волны. Всё кругом смотрит странно живо, мягко, ласково. Море так внушительно спокойно, и чувствуется, что в свежем дыхании его на горы, ещё не остывшие от дневного зноя, скрыто много мощной, сдержанной силы. По тёмно-синему небу золотым узором звёзд написано нечто торжественное, чарующее душу, смущающее ум сладким ожиданием какого-то откровения.
Всё дремлет, но дремлет напряжённо чутко, и кажется, что вот в следующую секунду всё встрепенётся и зазвучит в стройной гармонии неизъяснимо сладких звуков. Эти звуки расскажут про тайны мира, разъяснят их уму, а потом погасят его, как призрачный огонёк, и увлекут с собой душу высоко в тёмно-синюю бездну, откуда навстречу ей трепетные узоры звёзд тоже зазвучат дивной музыкой откровения…

 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ