Глава десятая Причуды кулинарии
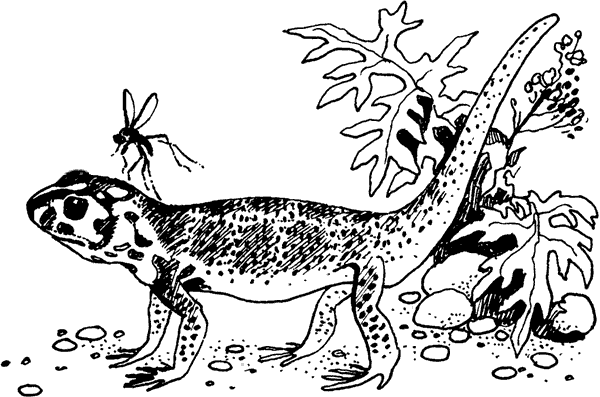
После весенних дождей и слякоти сегодня первый настоящий теплый день в предгорьях Киргизского Алатау. Появилась коротенькая травка. Совсем еще низенькими куртинками показалась полынь. Кое-где раскрылись крокусы. Еще цветут крохотные белые цветы пастушьей сумки. Пробудился и мир насекомых, и кто только не снует меж травинок. Самые разные чернотелки не спеша ползут во всех направлениях, изредка мелькнет жужелица. Из яичек, спрятанных на зиму под кустом полыни, вышли гусеницы походного шелкопряда и, свив общую паутину, греются на солнце всей семьей. Но больше всего муравьев.
Свободная от растений площадка пестрит от маленьких хрущиков. Жуки оживлены, куда-то торопятся и постепенно забираются в трещины земли. Скоро площадка пустеет, многочисленное общество хрущиков исчезает и только один-два случайных жука показываются на минутку наружу. Непонятно, почему жуки собрались такой большой компанией?
Пока раздумываю над странным поведением хрущиков, к моим ногам не спеша подползает крупный коренастый черный жук. К его маленькому брюшку причленена большая и мощная грудь. У него сильные ноги, а передние голени как лопаты. Нетрудно догадаться, что это жук-землерой и, видимо, большой специалист в своем деле.
Хватаю его пинцетом. Жук свирепо раскрывает длинные челюсти, но щиплется не больно. У него не острые кинжалы хищника, а скорее терка, предназначенная для перемалывания растительной пищи.
Какие забавные у жука глаза! Мощный отросток, разделяет их на две половинки: верхнюю и нижнюю. Интересное приспособление! Верхней половинкой глаз можно замечать врагов, а нижней рассматривать дорогу, пищу и многое другое. Кроме того, отросток — неплохая зашита, предохраняющая глаза, когда приходится рыть землю. В это время не только ноги, но и голова и челюсти тоже инструменты.
Но самое забавное, с левой стороны под челюстями у жука виден длинный острый шип, как шило или штык. Только с одной стороны! Наш незнакомец, значит, левша! Может быть, он урод? Да, ведь это жук-кравчик карелина. Вот он какой! До сего времени я знал его только по картинкам, а теперь довелось и встретиться.
Немного ниже, у дороги, кравчиков много. И почти все они заняты делом. Коренастые труженики, пятясь, волокут откушенные веточки растений. Переноска груза продолжается недолго. Торопясь, кравчик вскоре скрывается в маленькой норке. Одна-две секунды из нее еще торчит былинка, потом, шевельнувшись, исчезает. Жаль, что нет с собой лопаты, а без нее ничего не разведать в каменистой почве. Придется отложить раскопку на несколько дней.
Вскоре я снова на кравчиковой горе. Там на каждом квадратном метре по нескольку норок. Но сегодня пасмурно, дует прохладный ветер, и поэтому нет моих знакомых жуков. Они, видимо, спрятались в свои норки. Ну что же, начнем их раскапывать.
Через несколько часов работы предо мною открываются секреты жизни кравчиков. Все норы принадлежат самцам-холостякам. Норы короткие, длиной не более десяти сантиметров. В глубине убежища сидит сам хозяин и медленно поедает запасенный корм — веточки полыни. В своем подземелье безопаснее и спокойнее заниматься этим делом. Каждый холостяк ожидает к себе в гости подругу и, как только она пожалует, тотчас же начинается большая и трудная работа. Жуки усиленно роют землю и выталкивают ее наружу. Вскоре нора становится глубокой и уходит вниз на двадцать — сорок сантиметров. Теперь жуки зорко сторожат свое жилище. Попробуй-ка в это время сунуться в такую нору какой-нибудь бездомный холостяк! Хозяин тотчас же ринется в драку, и защелкают друг о друга кривые сабли-отростки, пока пришелец не уберется восвояси. Неудачников холостяков бродит немало, и у входа в норы часто разыгрываются сражения.
Но вот заботливые родители закончили копать нору, сделали и колыбельку. Она, как шар, аккуратно выглажена, стенки тщательно утрамбованы. Начинается усиленная заготовка провианта. Листья и стебли жуки сносят в колыбельку. Вскоре она туго забита разными растениями: тут и светло-зеленая полынь, и нераспустившиеся цветки пастушьей сумки, и листья клевера, и многое другое. Потом жуки строят другие колыбельки, в каждую из них откладывают по яичку. Оно очень нежное, и едва к нему прикоснешься, как его оболочка лопается. Зачем яичку твердая скорлупа, раз для него подготовлено надежное убежище! К тому же оно еще и крупное, шесть-восемь миллиметров длиной, только в два-три раза короче самого кравчика. Таких яичек немного у самки. И тоже понятно почему: заботливым родителям, обеспечивающим убежищем и едой потомство, не надо откладывать много яиц.
Что же будет дальше с яичком, колыбелькой и родителями? Быстро проходит весна и лето. Зеленые предгорья становятся бурыми. Не осталось следов и от нор кравчиков, и там, где было много холмиков выброшенной ими наружу земли, ничего не разглядеть. Как жаль, что раньше не догадался чем-либо пометить норки. Ну что же, придется рыть землю наугад.
Нелегкая это работа — рыться в земле без уверенности в удаче. Сухая почва с трудом поддается лопате, железо все время скрежещет о камни. От непривычного напряжения шумит в голове и горят ладони. Но несколько удачных находок — и усталость забыта! Первый и самый главный вывод: кравчики-родители живы. Закончив заботы о потомстве, они не собираются кончать счеты с жизнью и, видимо, живут не один год, а больше, вопреки существующему мнению. Самки сторожат закрытые колыбельки, самцы закопались поглубже в прохладную сырую почву. А из яичек в колыбельках выросли крупные белые личинки с красноватой головой. Там, где личинки небольшие, видно, что из зеленой массы, утрамбованной в колыбельке, получился прекрасный силос. Он даже приятно пахнет. Грибки или бактерии переработали траву, сделали ее питательной и вкусной.
Кто бы мог подумать, что кравчикам известно искусство силосования кормов! И, наверное, для этой цели употребляются какие-то особенные микроорганизмы. Неплохо бы ученым заинтересоваться секретом изготовления такого силоса, выделить из него бактериальную закваску и использовать ее в животноводстве.
Еще одна раскопка поздней осенью дополняет наблюдения. На месте личинок в колыбельках сидят сверкающие чистыми одеяниями молодые жуки, а в стороне, в отдельных закопанных норках — их здравствующие старики-родители. Все дружные семьи приготовились зимовать и с наступлением весны начнут жизнь сызнова.
Грибки — калорийная, богатая белками пища. Некоторые муравьи стали исключительно грибкоедами, а выращивание грибков достигло необыкновенного совершенства и сложности.
Среди больших песчаных бугров, поросших дзужгуном, вижу узкую и длинную светлую тропинку со снующими по ней муравьями-жнецами. Сейчас весна, урожая трав еще нет, но трудолюбивые сборщики уже несут в свои закрома какие-то узенькие коричневые семена, заостренные с обеих концов и продольной ложбинкой по середине. Следую за муравьями-носильщиками, нахожу их обитель, усаживаюсь рядом с нею.
Из двух входов подземного муравейника степенно выходят крупные солдаты, каждый с маленьким комочком песка. Они заняты строительством. Другие муравьи заняты тем, что вытаскивают наружу коричневые узенькие семена, относят их в одно место на свалку, туда же, куда бросают своих мертвых собратьев. Там, на площади около квадратного метра, скопилось уже немало брошенных семян.
Что же происходит: одни сборщики трудятся, разыскивают крохотные семена, волокут их в свои жилища, другие — тоже трудятся — выбрасывают их наружу! Надо узнать, в чем дело, к чему эта кажущаяся бессмысленной работа.
В муравейник, оказывается, несут семена какие-то странные, с черными кончиками, пораженными грибками. Выбрасывают же семена без этих черных кончиков.
Долго брожу вокруг и наконец узнаю в чем дело. Семена принадлежат небольшому злаку — овсюгу. Сейчас на нем уже почти созрели семена. Те же семена, которые упали в прошлом году, частично проросли, частично погибли, их поразил грибок, угнездившийся, главным образом, в самом основании зерна и реже на его вершине. Ради этого грибка и заготавливают муравьи семена. Чем их прельщают продукты, пораженные грибками? Сложная кулинария у муравьев-жнецов!
Интересно, что за грибок развивается на зернах овсюга и нельзя ли его использовать для силосования злаковых растений, употребляемых в пищу домашними животными? Главная еда муравьев-жнецов — зерна разных растений. Они их не просто поедают. Как мне удалось подметить, у муравьев, содержавшихся более двадцати лет в неволе у меня в искусственном муравейнике, часть собранных в кладовые зерен перерабатывается в своеобразную закваску не без помощи микроорганизмов.
После пыльной дороги на Соленые озера какой роскошью кажется асфальт и как незаметно набегают на спидометре машины километры! Промелькнули села, река Чилик, и вот уже перед нами мрачные горы ущелья Сюгата — восточные отроги Заилийского Алатау. Незаметный поворот с шоссе, и внизу среди скал и зарослей ив, чингиля и тамариска журчит ручей. Через ущелье видна обширная пустыня, за нею полоска реки Или, а еще дальше — голубые горы Калканы с желтеющим между ними Поющим барханом.
Дальше к выходу из ущелья ручей исчезает. На сухом каменистом русле — роскошные заросли тамарисков, саксаула и чингиля. Мотор заглушен, сразу наступает тишина, лишь изредка доносятся мелодичные посвисты больших песчанок и странные крики кобылок-мозери. Солнце еще высоко, и можно осмотреть местность.
Всюду по веточкам саксаула бегают муравьи с красными головой и грудью и черным брюшком. Ловлю муравьев, разглядываю их крупную голову с близко посаженными длинными усиками, красную грудь и узловатую чешуйку на узкой талии. Это пустынный муравей (Camponotus semirifus). Но один из муравьев оказывается уродцем с очень большой и странной головой. На ней никак не разглядеть челюстей. Куда они исчезли?
Как велика сила воображения! Я рассматриваю вовсе не муравья. Передо мной красно-черный клоп, настолько похожий на муравья, что обнаружить обман можно только под лупой. Быть может, клоп обитает вместе с муравьем в пустыне на саксауле миллион лет и постепенно стал похож на него. Чем-то ему выгодно скрывать свою клопиную внешность под обличием своего соседа.
Как чуток и осторожен саксауловый муравей! Неловкое движение руки, и муравей перебегает на противоположную сторону, молниеносно сбегает вниз и на земле, сложив ноги, замирает. Быстрота и ловкость, с которой муравьи бегают по саксаулу, выдают в них исконных обитателей деревьев и кустарников. Чем же муравьи занимаются на саксауле? Как будто им нечего делать на зеленых ветках и незачем так долго сидеть на одном месте. Но в лупу видно, как муравей тщательно соскребает мицелии грибка мучнистой росы. И не только одна мучнистая роса для них важна. На саксауле растет множество разнообразных крошечных грибков.
Еще можно заметить, как муравьи останавливаются возле маленьких цикадок и просят у них сладкие выделения. Цикадка не особенно щедра. Зато у тли сладких выделений больше, хотя возле них крутится целый отряд остробрюхих муравьев (Crematogasater subdentata). Осторожные муравьи-кампонотусы, ловко избегая встречи со своими воинственными соседями, ухитряются урвать капельку лакомства. Итак, долгий кропотливый сбор микроскопических грибков, капельки сладких подачек тлей и цикадок — такова добыча саксаулового муравья. Не поэтому ли он так боязлив и осторожен?
Наловить два-три десятка муравьев для коллекции несложно. Но как найти их жилище? Придется заниматься слежкой. Осторожно и подолгу крутятся муравьи на земле, при малейшей тревоге затаиваются в укромных местах. Долгие поиски не приводят к цели. Солнце клонится к западу, пустыня оживает, песчанки устраивают оживленную перекличку, их песни несутся со всех сторон. Открыли входы в свои жилища муравьи-жнецы и отправились, как всегда большой компанией, за семенами растений. Миловидные птички — две каменки-плясуньи — крутятся на кустах, высматривают добычу. Поспешные ящерицы шмыгают от укрытия к укрытию. Далеко в стороне прокричал чернобрюхий рябок.
Сколько я попусту перекопал земли, смел в сторону опавших веток саксаула, устилавших землю, но гнездо муравьев-незнакомцев не нашел. Уж не под толстой ли веткой саксаула, наполовину засыпанной землей, оно находится? Слишком часто там крутятся муравьи. Рядом с веткой видно крохотное отверстие без комочков почвы, выбрасываемой на поверхность. В него забираются испугавшиеся меня муравьи. Через минуту туда же заползают и остальные. Если все же это норка, то муравьи явно избегают возле нее скопляться, и зря никто не крутится рядом с нею.
Берусь за лопату. Маленький ход неожиданно приводит в просторные и чистые галереи с многочисленными переходами. Даже не верится, что они созданы этими небольшими строителями. А еще в слое влажной почвы вижу группу черно-красных муравьев с личинками, куколками и яичками. Какой среди них царит переполох и растерянность! Оказывается в гнезде находятся, кроме обычных муравьев, еще и более крупные с заметно раздувшимся брюшком. Видимо, это няньки и одновременно хранители запасов пищи в своих животиках на случай бескормицы в голодный период сухого лета. Ниже, в самой укромной камере, вижу и самку, перепуганную, робкую, в соседних же камерах устроились крылатые самки и маленькие черные крылатые самцы. Все до единого жителя стараются спрятаться под комочки земли, и нет среди них никого, кто бы попытался оборонять свою обитель. Мирные и трудолюбивые грибкоеды не способны к обороне. Не потому ли они так осторожны, так тщательно скрывают вход в свое жилище, относят далеко в сторону землю при строительстве галерей, а единственный вход в жилище делают маленьким и незаметным.
Кое-кто из муравьев, жалкий и запыленный, выбирается из земли и по привычке спешит на куст саксаула. Там у основания растения суетятся те, кто спустился на землю и теперь, увидев разоренное жилище, находится в величайшем смятении. Мне жаль бедных кампонотусов, и радость открытия омрачается уничтожением такой дружной и, наверное, много лет существовавшей семьи маленьких тружеников пустыни и зарослей саксаула.
Как будто в общих чертах выяснено, чем питаются саксауловые муравьи. Но, кто знает, быть может, то, что мне удалось распознать, не относится ко всем представителям этого вида.
Не попробовать ли содержать гнездо муравьев — желтых лазиусов в неволе? Поздней осенью я вешаю на кусты возле нескольких гнезд этого вида кусочки ваты. А когда приходит зима, мы отправляемся на лыжах за обитателями подземных жилищ.
Мои метки — кусочки ваты, оставленные с осени, целы. Быстро отгребаем в сторону снег, раскапываем землю. В сложном переплетении ходов и камер едва шевелятся полусонные муравьи. Берем несколько комков земли вместе с муравьями, тщательно укладываем в большой цветочный горшок из обожженной глины и спешим домой, опасаясь переохладить нашу ношу. На следующий день в горшке царит оживление. Муравьи проснулись от зимнего сна и принялись наводить порядок в своем жилище, роют новые ходы, подновляют старые. А я рад бьющей ключом жизни.
Вскоре в муравейнике устанавливается особенный порядок. Но тлей, выделениями которых, главным образом, кормятся муравьи, нет, наши маленькие квартиранты голодают, не желают сидеть под землей, хотя в природе обычно не показываются на поверхности земли, посылают своих охотников за съестными припасами. Чем-то надо кормить наших невольников. Предлагаю муравьям раствор сахара и меда. Любители сладкого, они предпочитают мед. Вскоре между горшком с муравьями и тарелкой с едой образуется тропинка по краю стола, покрытого стеклом.
Иногда, забывая о правилах муравьиной жизни, во время уборки я вытираю настольное стекло мокрой тряпкой, и тогда муравьи долго не могут найти путь к тарелке, бродят всюду в растерянности. Оказывается, по пути к еде муравьи оставляют на стекле капельки прозрачных выделений особых желез, и они, затвердевая, служат ориентирами.
Впрочем, не все беспомощны, когда пахучая дорожка разрушена. Вскоре находятся смельчаки и умельцы. Они быстро распознают путь по каким-то ориентирам и ставят на нем свои «вешки».
Однажды рано утром, когда муравьи спали, я повернул стекло в другую сторону, и все, кто вышел за едой, пошли старой дорогой, но не туда, где находилась муравьиная столовая. Значит, пахучие метки были не так просты и указывали еще и направление, то есть были полярными.
За долгие зимние дни и недели муравьи обжились в неволе. Наблюдая за ними через лупу, удавалось увидеть разные случаи из их жизни.
Все шло как будто хорошо, но желтые лазиусы не желали заводить потомство. По-видимому, чего-то не хватало в питании. Пришлось разработать специальное меню и как можно больше его разнообразить. На тарелке-столовой побывали и раствор меда, и молоко, и творог, и кусочки мяса. Неожиданно выяснилось, что меду и сахару отдавалось особенное предпочтение, если к ним добавлялись дрожжи. Возле такого угощения сразу собиралось множество жителей горшочка.
Казалось странным: почему муравьи любят дрожжи? Не потому ли что дрожжевые грибки, разлагая сахар, выделяют спирт? Не добавить ли к сладостям немного алкоголя?
Возле тарелки с сахарным сиропом и десятком капель спирта возникло настоящее столпотворение! С жадностью муравьи накинулись на новую для них еду и быстро стали переполнять свои зобики. Добытчики с величайшей поспешностью мчались к горшочку, как будто опасаясь, что лакомство может исчезнуть и его надо как можно скорее запасти впрок. Но никто из наглотавшихся нового блюда не обнаруживал никаких признаков опьянения. Впрочем, у муравьев пища из зобика поступает в желудок ничтожными порциями и очень медленно, так как все содержимое муравьям-добытчикам полагается передавать другим членами семьи, сидящим дома и занимающимся строительством жилища, воспитанием потомства и уходом за самками.
С тех пор как наши крошечные пленники стали регулярно получать по несколько капель спирта вместе с жидким сладким блюдом, к тарелке без него муравьи не желали даже притрагиваться.
Чем же объяснить столь странный вкус желтых лазиусов? Чем хотите, только, конечно, не желанием одурманивать свою голову, подобно тому, как это делает неразумная часть человечества. В жизни муравьев все строго регламентировано и целесообразно. Наверно, в выделениях тлей, основной пищи этого вида, всегда находятся дрожжевые грибки, они перерабатывают какую-то часть сладкого вещества в спирт. Эта ничтожная добавка спирта и стала необходимой в рационе питания крохотных «скотоводов».
— Уж если и муравьи обожают спиртное, то чем же мы хуже! — посмеивались мои знакомые-поклонники Бахуса.
— Всякие опыты и наблюдения в искусственной обстановке не заслуживают серьезного внимания! — утверждали скептики.
— Знаете, — глубокомысленно изрек один ученый-физиолог, — алкоголизму способствуют многие причины. Но одна из них, имеющая отношение к объектам вашего исследования, бесспорна. Это неполноценное питание!
Кто знает, быть может, физиолог и был в какой-то мере прав. Во всяком случае, он был ближе к истине, чем поклонники спиртного и скептики, как обычно все отрицающие и не предлагающие ничего нового. Ведь наши муравьи питались не тем, к чему привыкли на воле, в естественной обстановке.
Когда наступила весна, мы отнесли в поле наш муравейник, нашли для него подходящее место, вырыли ямку и пересадили в нее наших пленников. К осени там оказался отличный, хотя и небольшой муравейник, и уж в нем муравьи, конечно, не нуждались в добавке алкоголя.
Подсадить их в то место, откуда они были взяты зимой, я не решился. За долгие месяцы неволи наши муравьи могли приобрести другой запах, их из-за него могли встретить как чужаков и уничтожить.
В самое жаркое время года, в конце июля — начале августа, на солончаках близ рек или озер, на пышных и очень густых кустах селитрянки появляются черные ягоды. Как у большинства растений, приносящих плоды, у селитрянки куст кусту рознь, и если на некоторых ягоды маленькие, черные, почти сухие, то на других они большие, с крупную смородину, сочные, слегка коричневые.
Ягоды селитрянки не в почете у жителей пустыни. Только одни птицы да мыши лакомятся ими, хотя они, особенно крупные, сладки, приятны на вкус, в них много влаги, даже человек может утолить ими жажду в самую жару, когда без конца хочется пить. Почему же никто не ест ягоды селитрянки?
Я очень люблю эти ягоды и ем их пригоршнями. Кусты чернеют на ярком солнце, видны далеко, едва ли не за пол километра, может быть, и черные они для того, чтобы красоваться и привлекать к себе внимание издалека на светлом фоне пустыни. Мне думается, что когда-нибудь селекционеры выведут отличные сорта этой пустынной ягоды, и она заслужит такое же признание, как, скажем, ежевика, малина, земляника.
Усиленно угощаю селитрянкой своего товарища. Он страдает от жажды, но крепится, не может преодолеть недоверия к неизвестному растению. Но вот решился. Пожевал и быстро выплюнул: «Не нравится, пахнет мертвецом и косточка скользкая». Видимо, неприязнь ко всему новому лежит в древнейшим инстинкте опасения отравиться.
Почему же ягоды селитрянки не заготавливают муравьи-жнецы, не лакомятся ими и другие муравьи?
Срываю несколько ягод и кладу их возле входа в муравейник бегунка. Возле моего приношения собирается несколько любопытных. Они обследуют незнакомый предмет усиками, один натолкнулся на блестящее от влаги место, где был черенок, и прильнул к нему жадно челюстями. Его примеру последовали другие. Тогда я срываю еще несколько ягод, надрезаю их ножницами и, сочащиеся обильным соком, даю муравьям. Что тогда произошло! Из муравейника повалила толпа, ягоды покрылись толстым слоем лакомок, возле каждой — мохнатый клубок, лишь в стороны торчат ноги да размахивают длинные усики. Кое-кто, деловитый, принялся затаскивать добро в подземные камеры, показал пример, и вскоре все угощение исчезло. В другом муравейнике — неудача. Большая ягода застряла, наделала много хлопот, ни вперед, ни назад не могут ее протолкнуть обеспокоенные жители муравейника.
Очень понравились ягоды селитрянки муравьям. Так почему же они сами ими не лакомятся? Кусты, обильно обвешанные ягодами, рядом. Может быть, сказывается предубеждение, ягоды вкусны в редкие дождливые годы, в засушливые же неприглядны. А так как годы с обильными осадками редки, то муравьи привыкли считать урожай селитрянки, не стоящим внимания. Впрочем, на солончаках, где высоки грунтовые воды, селитрянка почти каждый год плодоносит. Неужели от урожая до урожая у муравьев нет памяти на появляющийся на короткое время источник влаги да еще и в необычном месте, на кустах, тогда как добыча бегунков — различные насекомые — только на поверхности земли.
Проходит несколько недель. Прохладнее становятся ночи, и не так жарко накаляется солнцем пустыня. Сочные ягоды селитрянки постепенно сохнут, сморщиваются, еще больше чернеют, а потом опадают на землю. Здесь их растаскивают мыши, да клюют голодные перелетные птицы.
Как напиться из ручья, если нет с собой кружки, а берег низкий и заболоченный? Черпать воду руками неудобно, тем более когда очень хочется утолить жажду и маленькими глотками быстро не напьешься. Но задача легко разрешима, если по берегам растет тростник. Срежьте тростинку потолще, оставьте три членика. Концы двух крайних члеников тоже срежьте. Тонкой вершиной стебля тростника проткните оставшиеся две перегородки среднего членика, выдуйте из трубочки беловатую сердцевину — и все готово, из трубочки можно пить.
В ущелье Тайгак местами ручей течет между такими высокими тростниками, что в них может легко скрыться всадник. Тихое журчание ручья, да квохтанье горных курочек — единственные звуки в пустынном ущелье. Иногда зашумят в тростниках небольшие серенькие овсянки, да так громко, будто большой зверь ломится через заросли.
Мысль о трубочке из тростника невольно приходит в голову, когда после трудного похода по горам я спустился к ручью. Здесь я выбрал толстый тростник и косо срезал у самого корня. И тогда вдруг из трубочки показалась коричневая головка насекомого и, сверкнув блестящей головкой, исчезла. Вот так тростник! Сколько за долгие странствования переделал из него трубочек, но ничего подобного никогда не видел.
Осторожно расколол трубочку вдоль. В углу, прижавшись к перегородке, притаилась белая гусеница длиной около трех сантиметров и диаметром пять-шесть миллиметров. Как же она, такая большая, могла оказаться здесь, в совершенно здоровом и целом тростнике? И тайна белой гусеницы так живо меня заинтересовала, что и усталость, и мысли об отдыхе, и то, что до бивака еще несколько километров пути, были забыты.
Не теряя времени, надо скорее приняться за поиски. Но десяток расщепленных тростников приносит разочарование. Гусениц в них нет. Внутри только очень рыхлая нежно-белая сердцевина, похожая на вату.
Но если найдена одна гусеница, должны быть и другие. Вновь срезаю ножом тростник и расщепляю его вдоль. Вскоре поиски приносят успех. Одна, а за нею другая гусеницы обнаружены в трубочке. Они, оказывается, занимают только самые нижние членики тростника, в верхней части стебля их искать бесполезно. Надо срезать растение почти у самого корня. Неплохая особенность жизни гусеницы! Попробуй-ка тростниковая овсянка раздолбить самый нижний членик и достать из него гусеницу! Тут самый крепкий клюв бессилен. Кроме того, в нижних члениках летом прохладнее, а зимой под снегом не страшны морозы и губительные резкие смены температур.
Как же гусеницы могли оказаться в стебле тростника? Снаружи нет никаких следов проникновения и только кое-где на лакированно-желтой поверхности стебля, если освободить его от обертывающего листа, заметно несколько темноватых пятен. Кстати, эти пятна — хорошая улика! Теперь не надо срезать тростник подряд, а достаточно ободрать с него нижний лист и посмотреть, есть ли пятна. Находка ободряет и радует, так как значительно облегчает поиски.
Но все же как гусеница проникла в тростник? Сейчас осень. Скоро наступят холода, выпадет снег. Гусеница будет зимовать в тростнике. Ей, пожалуй, уже не придется расти. Весной она окуклится и вылетит бабочкой. А там — короткая жизнь на крыльях как раз в то время, когда покажутся молодые и зеленые побеги тростника. На них, на самые ранние нижние членики и будут отложены яички. Все остальное сделает вышедшая из яйца молодая маленькая гусеница. Она прогрызет нежную стенку трубочки, заберется внутрь, и домик готов. Проделанная же ею дверка быстро зарастет.
Когда секрет жительницы трубочки отгадан, десяток гусениц помещен в пробирку и заспиртован, а стопочка трубочек с гусеницами заготовлена для отправки в город. В лаборатории, может быть, выведутся бабочки, и тогда удастся установить, к какому виду принадлежат жительницы тростника.
Гусеница очень своеобразна. Ее белый цвет — это тело, просвечивающее сквозь тонкую кожицу. По существу, гусеница бесцветна. Ей не нужна окраска под траву, засохшие листья, камешки или песчинки, чтобы быть незаметной. Не нужны и яркие пятна, чтобы отпугивать врагов. В таком надежном жилище, изолированной от всего окружающего, гусенице ни к чему окраска. Не нуждается она и в волосках, и в прочной коже, предохраняющей тело от ударов и ранений. Зато голова гусеницы снабжена крепкими челюстями.
Тело насекомых одето в панцирь. Когда организм молод и растет, панцирь, как только становится тесным, сбрасывается. Вместо него вырастает новый, более просторный. Самое же удивительное то, что наша гусеница не линяет и в ее ходах нет никаких следов сброшенных одежд. Для нее оказалась лишней эта непременнейшая обязанность ее сородичей. Почему так?
Видимо, в таком надежном домике, как тростниковая трубочка, не нужен прочный панцирь, он заменяется нежной и тонкой кожицей, которая, растягиваясь, не мешает росту или, по меньшей мере, сбрасывается тонкими участочками или шелушится.
Но как ловко гусеница движется в трубочке вперед и назад! Ведь ей повернуться, такой большой, нельзя. Выложенная на лист бумаги, оказавшись в необычной обстановке на непривычно ярком свету, гусеница, не меняя положения тела, мчится так, как привыкла в своем заточении, то вперед, то назад, да так, что временами теряешься и не знаешь, на каком конце находится голова.
Так постепенно открываются маленькие тайны тростниковой гусеницы, и ее жизнь становится понятной. Только один вопрос неясен. В члениках, занятых гусеницами, так же чисто, как и в других, и ватная сердцевина такая же. Совершенно целы и стенки трубочки, и только кое-где в них выгрызены одна-две небольшие ямочки, против которых снаружи видны темные пятнышки, по которым и можно разыскать гусеницу.
Чем гусеница питается? Ведь не может же она вырасти из ничего! Стенки трубочки, перегородки — все цело, нигде нет следов даже самой незначительной трещины. Не видно в ее домике и следов испражнений.
Не рассмотреть ли, как устроено тело гусенички? Из полевой сумки извлечены очки, на одно из стекол прилажена часовая лупа и закреплена на голове резинкой. Походная препарировальная лупа готова. Двумя иглами вскрываю гусеницу. Среди мышц и жира разыскиваю кишечник. Он наполнен беловатой массой и, не доходя до конца тела, слепо заканчивается. Гусеница, оказывается, не может испражняться. Природа лишила ее этой особенности. В тесном жилище внутри растения нужна идеальная чистота. На испражнениях могут развестись бактерии, которые способны погубить и гусеницу, и кормящее ее растение.
Но все же, как питается гусеница, понять не могу. Надо еще внимательнее обследовать полость трубочки.
Под лупой в тростнике едва заметны тонкие нити белого грибка. Их нет в тех члениках, где гусеницы не живут. Так вот чем питается загадочная гусеница! Каким-то путем гусеница заносит в трубочку грибок. Он растет, и урожай его аккуратно собирается и поедается. Грибок, по-видимому, очень специфичен. Он не растет бурно, чтобы заглушить просвет членика, не приносит заметного вреда растению. Быть может, бабочка, вылетая из тростника, уносит с собой и споры этого грибка. Потом каким-то путем она передает грибок своим яичкам, будущим гусеничкам. Случай этот очень интересен. Нечто подобное известно у многих насекомых. Самки одного из видов муравьев, отправляясь навсегда из своего родного муравейника в брачный полет, чтобы впоследствии обосновать новую колонию, захватывают с собой в специальной сумочке на теле грибки, которые в муравейнике возделываются и употребляются в пишу. Также поступают многие насекомые, личинки которых обитают в древесине.
Вот так гусеница! Как она ловко приспособилась к жизни в тростнике!
Проходит зима. В большой стеклянной банке, в которую сложены обрезки тростника с гусеницами, не видно никаких признаков жизни. Казалось бы, в тепле давно должно закончиться развитие бабочки. Но кроме тепла гусенице, судя по всему, еще нужно и определенное время. У нее особый отсчет времени, свои внутренние часы с многомесячным заводом. Только благодаря им бабочка не ошибется и вылетит точно ко времени появления молодых тростников.
Наступила весна. В городе на деревьях раскрылись почки, и по синему небу поплыли кучевые облака. Однажды утром в банке оказалось тонкое и изящное насекомое с длинным яйцекладом. Оно быстро бегало по стеклу и, вздрагивая усиками, пыталось вырваться навстречу солнечным лучам. Это, без сомнения, был наездник — лютый враг гусениц. По-видимому, прошлым летом, проколов тростинку, в которой жила гусеничка, мать наездника отложила в тело хозяйки домика яичко, а когда развитие ее было закончено и гусеница окуклилась, из яичка вышла личинка и прикончила жительницу трубочки.
Ну, раз вышел наездник, то скоро должна показаться и бабочка!
Предположение подтвердилось. На следующий день в углу банки неподвижно сидела скромная серая ночная бабочка. Так вот ты какая, жительница трубочки!
Прошло много лет, и как-то случайно в тростнике я нашел странную, длиннющую, тонкую куколку. Обычно, когда гусеница начинает окукливаться, она заметно укорачивается, и куколка принимает форму бочонка. В тростнике же как укоротишься! Это была она, куколка тростниковой бабочки. Как я не догадался посмотреть ее прежде! Не всегда удается продумывать какое-либо явление до самого конца. Есть ли еще на свете такая длинная и тонкая куколка у бабочек — не знаю. Но это чудо природы я увидел впервые в своей жизни. Как же из такой тоненькой и длинной куколки вышла нормальная бабочка?
И еще выяснилась одна небольшая деталь. Оказывается, прежде чем окуклиться, гусеница прогрызала стенку своего жилища, но не до самого конца, а оставив тонкую, как папиросная бумажка, оболочку. Если у гусениц бабочек ротовые органы грызущие, то у самих бабочек грызть-то нечем. Предусмотрительная, ничего не скажешь!
Мы миновали такыры, поросшие редкими саксаульниками, пересекли два крохотных ключика, окруженных развесистыми ивами, и выбрались на каменистую пустыню, покрытую плотным черным щебнем, да редкими куртинками серой полыни и боялыша. Дорога шла мимо мрачных гор Катутау. Пора было выбирать бивак, и мы свернули к горам. Места для стоянки было вдоволь, бесплодная ровная пустыня раскинулась на десятки километров. Но всюду ровные вершины холмов, пригодные для стоянки, были заняты колониями большой песчанки, земля изрешечена их норами и оголена. Иногда машина проваливалась в подземные галереи этого грызуна и, поднимая пыль, с трудом выбиралась из неожиданной западни. Ночевать вблизи поселения грызуна не хотелось. Большая песчанка иногда болеет туляремией[11] и чумой. На ней могут быть блохи.
С трудом нашли чистую площадку, вблизи которой не было никаких нор, быстро попили чай, приготовили постели и легли спать. Пологов решили не растягивать. Место было безжизненное, и вряд ли здесь обитали скорпионы, каракурты и комары, из-за которых приходится предпринимать меры предосторожности.
С бивака открывалась чудесная панорама. Вдали к югу простиралась далекая долина реки Или, зеленая полоска тугаев, окаймлявшая едва заметную ленту реки, за нею высился хребет Кунгей Алатау с заснеженными вершинами.
Стало темнеть. Ветер затих. Лишь чувствовалась едва уловимая тяга воздуха. И тогда появились комары. С легким звоном один за другим они плавно проносились над нашими головами, не задерживаясь и не обращая на нас внимания и не предпринимая попыток полакомиться нашей кровью. Лишь некоторых из них привлекала компания из трех человек, устроившихся на ночлег на земле возле машины.
Поведение комаров было настолько необычным, что мы сразу обратили внимание на столь странное пренебрежение к нам этих отъявленных кровососов. Чем объяснить отсутствие интереса комаров к человеку в местности, где на многие десятки километров вокруг не было ни поселений, ни домашних, ни крупных диких животных? Оставались одни предположения.
Ближайшее место, где водились комары — река Или, — от нас находилось километрах в пятнадцати. Там было настоящее комариное царство и в нем немного счастливчиков, которым доставалась порция крови, столь необходимая для созревания яичек. Поэтому отсюда тысячелетиями с попутными ветрами комары привыкли отправляться в пустыню за добычей, с ветрами же возвращаться обратно. Сухие пустыни вблизи Или кишели комарами, и в этом я не раз убеждался во время многочисленных путешествий.
Но какая добыча могла привлекать комаров в этой безжизненной пустыне? Очевидно, одна-единственная — большая песчанка, городки которой виднелись едва ли не на каждом шагу. В норе комар безошибочно находил того, кого искал, и, добившись своего, счастливый и опьяневший от крови некоторое время скрывался в прохладной и влажной норе. Затем он отправлялся в обратный путь. Песчанкам же некуда деваться. Они привыкли к тому, что в их подземных жилищах кишели блохи, клещи, москиты и комары.
Так постепенно и развился в комарином племени инстинкт охоты за обитателями пустыни, и те, у кого он был особенно силен, равнодушно пролетали мимо другой добычи. В норах песчанки они находили и стол и кров.
У нас кончились запасы воды, и к вечеру, покинув долину Сюгато, мы поехали к горам Турайгыр, рассчитывая в одном из ущелий этого пустынного хребта найти ручей. Да и порядком надоела голая жаркая пустыня.
Неторная дорога вскоре нас повела круто вверх в ущелье. Вокруг зазеленела земля, появились кусты таволги, барбариса, кое-где замелькали синие головки дикого лука и наконец на поляне среди черных угрюмых скал заблестел крохотный ручеек. Вытянув шеи и с испугом поглядывая на нас, от ручейка в горы помчалась горная куропатка-кеклик, а за нею совсем крошечные кеклята. Было их что-то очень много, более тридцати.
Я остановил машину, переждал, когда многочисленное семейство перейдет наш путь и скроется в скалах, с уважением поглядывая на многодетную мать. Самочки горной куропатки кладут около десятка яиц, а столь многочисленный выводок у одной матери состоял из сироток, подобранных ею. Защищая потомство, родители нередко бездумно жертвуют собою, отдаваясь хищнику.
Но едва только я заглушил мотор машины, выбрав место для бивака, как со всех сторон раздались громкие и пронзительные крики сурков. Здесь, оказывается, обосновалась целая колония этих зверьков. Холмы из мелкого щебня и земли, выброшенные ретивыми строителями подземных жилищ, всюду виднелись среди зеленой растительности.
Кое-где сурки стояли столбиками у входов в свои норы, толстые, неповоротливые и внешне очень добродушные, хозяйски покрикивая на нас и в такт крикам вздрагивая полными животами.
Сурки меня обрадовали. Наблюдать за ними большое удовольствие. Радовала и мысль, что еще сохранились такие глухие уголки природы, куда не проникли безжалостные охотники и браконьеры и где так мирно, не зная тревог, живут эти самые умные из грызунов. Сурки легко приручаются в неволе, привязываются к хозяину, ласковы, сообразительны. Их спокойствие, добродушие и, я бы сказал, внутренняя доброжелательность особенно импонируют нам, беспокойным и суетливым жителям города. Кроме того, сурки, обитающие в горах Тянь-Шаня, как я убедился, предчувствуют грядущее землетрясение, что и описал в своей книге, посвященной этому тревожному явлению. Солнце быстро опустилось за горы, и в ущелье легла тень. Я прилег на разосланный на земле брезент.
Вскоре надо мною повис рой крохотных мушек. Они бестолково кружились над моим лицом, многие уселись на меня, и черные брюки из-за них стали серыми. Я не обратил на них особенного внимания. Вечерами, когда стихает ветер, многие насекомые собираются в брачные скопища, толкутся в воздухе роями, выбирая какое-либо возвышение, ориентир, камень, куст или даже лежащего человека. Служить приметным ориентиром для тысячи крошечных насекомых мне не составляло особого труда. Только почему-то некоторые из них уж слишком назойливо крутились возле лица и стали щекотать кожу. Вскоре я начал ощущать болезненные уколы на руках и голове. Особенно доставалось ушам. И тогда я догадался, в чем дело: маленькие мушки прилетели сюда не ради брачного роения и не так уж безобидны, как мне вначале показалось. Проверить догадку было нетрудно. Вынул из полевой сумки лупу, взглянул на то место, где ощущался болезненный укол, и увидел самого маленького из кровососов — комарика-мокреца (Ceratopogonidae).
Личинки мокрецов, тонкие и белые, развиваются в воде, в гниющих растительных остатках, под корою деревьев, в сырой земле. Взрослые комары питаются кровью животных и нападают даже на насекомых. Но каждый вид избирает только определенный круг хозяев. Они очень докучают домашним животным и человеку, и не зря в некоторых местах Европы мокрецов окрестили за особенности их поведения «летней язвой».
Но удивительное дело! Мокрецы нападали только на меня. Мои же спутники, занятые бивачными делами, ничего не замечали.
Я быстро поднялся с брезента. Мокрецов не стало. Оказывается, они летали только над самой землей.
Сумерки быстро сгущались. Сурки давно исчезли под землей. В ущелье царила глубокая тишина. И когда мы сели ужинать, все сразу почувствовали многочисленные укусы «летней язвы».
Не в пример своим спутникам я хорошо переношу укусы комаров и мошек и мало обращаю на них внимания. Не страдаю особенно и от мокрецов. Но почему-то они меня больше обожают, чем кого-либо из находящихся рядом со мною. Странно! Как будто с сурками у меня мало общего. Ни сурчиная полнота, ни медлительность и чрезмерное добродушие мне не свойственны. Ни горных баранов, ни горных козлов здесь уже не стало, и мокрецы давно приспособились питаться кровью сурков. Быть может, поэтому они вначале медлили, а потом напали только на меня, когда я лежал на земле. Они привыкли не подниматься высоко над землей. Еще они лезли в волосы головы. Волосатая добыча для них была более привычной. Остальные причины предпочтения ко мне, оказываемые крохотными жителями ущелья, таились, по всей вероятности, в каких-то биохимических особенностях моей крови.
Как бы там ни было, ущелье, так понравившееся нам колонией сурков, оказалось не особенно гостеприимным. Пришлось срочно на ночь натягивать над постелями марлевые пологи, хотя спать в них летом душно.
Рано утром, едва заалел восток, один из наиболее ретивых и сварливых сурков долго и громко хрюкал и свистел, очевидно, выражая свое неудовольствие нашим вторжением в тихую жизнь их небольшого общества и желая нам поскорее убраться подальше. Мы вскоре удовлетворили его желание и, поспешно собравшись, не завтракая, отбиваясь от атаки почти неразличимых глазом кровососов, с горящими ушами покинули ущелье. Нет, уж лучше, мокрецы, насыщайтесь своими сурками!
Вероятно, мокрецам было кстати наше появление. Для них мы представляли все-таки какое-то разнообразие в меню.
Через несколько лет произошла еще одна немного забавная встреча с мокрецами в роще разнолистного тополя на правом берегу реки Или близ мрачных гор Катутау. Роща придавала особенно привлекательный облик пустыне и очень походила на африканскую саванну. Я остановился возле старого дуплистого дерева. Никто не жил в его пустотелом стволе, и квартира-дупло пустовала. Уж очень много было в этой роще старых тополей. Внимание мое привлекло одно небольшое дупло. У его входа крутился небольшой рой крошечных насекомых. Кое-кто из них, видимо утомившись, присаживался на край дупла, но вскоре снова начинал воздушную пляску. Кто они и что означал их полет небольшим роем?
Я поймал несколько участников компании, взглянул на них через лупу и узнал мокрецов.
Дупло находилось на уровне моей головы. Я долго разглядывал пляшущих кровососов, никто из них не пожелал обратить на меня внимания. Видимо, все они относились к тем, кто привык питаться кровью каких-то жителей, обитающих в дуплах, возможно, скворцов — они носились в роще озабоченные семейными делами — или удода. Только один из маленьких кровососов, как мне показалось, слегка укусил меня за ухо.
Нас трое. Мы идем друг за другом по самому краю песчаной пустыни рядом с роскошным зеленым тугаем. Туда не проберешься. Слишком густые заросли и много колючек. Иногда ноги проваливаются в песок там, где его изрешетили своими норами большие песчанки.
Вечереет. За тугаями и рекой синеют горы Чулак. Постепенно синева гор густеет, становится фиолетовой.
Легкий ветер гонит вслед за нами облако москитов. Они выбрались из нор песчанок и не прочь полакомиться нашей кровью. Но вот интересно! Белесые и почти неразличимые кровопийцы избрали местом пропитания наши уши. Мы усиленно потираем ушные раковины, и они постепенно наливаются кровью, краснеют, горят. С ними происходит то, что как раз и нужно охотникам за нашей кровью. Из таких ушей легко сосать кровь.
Проклятые москиты испортили все очарование вечерней прогулки, и сильный запах цветущего лоха, и щелкание соловьев уже не кажутся такими прелестными, как вначале.
Солнце садится за горы, темнеет. Мы поворачиваем обратно к биваку, навстречу ветру, и москиты сразу же от нас отстают. Неважно они летают, слишком малы.
— Не кажется ли странным, — спрашиваю я своих спутников, — что москиты кусают только за уши?
— Да, действительно странно! — говорит один.
— Наверное, на ушах тонкая кожа! — отвечает другой.
Но и за ушами, и на внутренней поверхности предплечий кожа еще тоньше и к ней — никакого внимания. Неужели москиты следуют издавна принятому обычаю? Их главная пища — кровь больших песчанок. Эти грызуны размером с крупную крысу покрыты шерстью и разве только на ушах она короткая и через нее легко проникать коротким хоботкам. Но как они ловко разбираются в строении животных, раз отождествили уши человека с ушами грызунов!
На следующий день мы путешествуем на машине вдоль кромки тугая по пескам и часто останавливаемся. Моим спутникам, москвичам, все интересно, все в диковинку, все надо посмотреть и, конечно, запечатлеть на фотопленку. Встретилось гнездо бурого голубя, сидит на кусте агама, под корой туранги оказался пискливый геккончик. У геккончика забавные глаза, желтые в мелких узорах, с узким щелевидным зрачком. Если фотографировать его голову крупным планом, получится снимок настоящего крокодила. Геккончик замер, уставился на меня застывшим глазом. Пока я готовлюсь к съемке, на него садится большой коричневый комар (Aedes flavescens), быстро шагает по спине ящерицы и, наконец устроившись на самом ее затылке, деловито вонзает в голову свой длинный хоботок. Вскоре его тощее брюшко постепенно толстеет, наливается янтарно-красной ягодкой. Комар ловко выбрал место на теле геккончика! Его на затылке ничем не достанешь. Тоже, наверное, обладает опытом предков и кусает с расчетом.
Мои спутники не верят в рациональность поведения кровососов. Я же напоминаю им, что и клещи на теле животных очень ловко присасываются в таких местах, где их трудно или даже невозможно достать. Так же поступают и слепни. А тот, кто не постиг этого искусства, отметается жизнью, остается голодным и не дает потомства.
Тихое утро в ущелье Тайгак. Издалека доносится квохтание горных курочек. Крикнет скальный поползень. Прошелестит прозрачными крыльями стрекоза, в зарослях полыни тоненьким звоном запоет рой ветвистоусых комаров. Множество других негромких звуков подчеркивает удивительную тишину скалистых гор.
Длинные тени перекинулись на другую сторону ущелья, и, хотя где-то уже греет солнце, здесь еще царит полумрак и только вершины гор освещены, золотятся. С равнины доносятся песни жаворонков, и вот уже несколько певунов трепещут над ущельем розовыми от лучей солнца крыльями.
Мне хорошо знакомо это живописное место, и я давно собираюсь его нарисовать. Сейчас как будто все готово к этому, и предусмотрительно захваченный в поездку этюдник чудесно пахнет масляными красками.
На большом камне установлено полотно и для устойчивости придавлено с боков небольшими глыбами. Камень поменьше стал столом для этюдника, еще камень — стулом для меня. На палитру выдавлены краски, в стаканчик налит скипидар. И вот уже представляется, как на картоне вырастают угрюмые скалы, между ними проглядывает фиолетово-розовая полоса предгорной равнины, расцвеченная цветущими маками, и как над сине-зеленой полоской тугаев громоздятся снежные вершины далекого Заилийского Алатау. Время за работой летит быстро. Глубокие тени бегут по скалам, с каждой минутой меняются цвета, вот и золотистые лучи солнца кое-где заглянули в глубокое ущелье.
Едва только солнце начало разогревать землю, как пробудился ветер, шевельнул тростники у горного ручья, засвистел среди острых камней и заглушил крики горных куропаток-кекликов, шорох крыльев стрекоз и нежный звон ветвистоусых комаров. А когда ветер с гор потянул по ущелью в низину, будто кто-то неожиданно бросил в меня горсть маленьких черных жучков. Они прилепились к комочку цинковых белил на палитре, уселись на белоснежные «вершины» Заилийского Алатау и запестрели на «облаках» и светлом фоне картины. Черные жучки выпачкались, стали пестрыми и, отчаянно барахтаясь, начали погружаться в краску, не в силах из нее выкарабкаться.
Почему-то они совсем не садились на другие краски. Их не привлекали красные, фиолетовые и другие цвета. Им непременно нужны были цинковые белила.
Неожиданная помеха останавливает работу. Приходится заниматься освобождением жучков. Но они, плотные и округлые, никак не даются, выскальзывают из пинцета, еще больше размазывая картину.
Пытаясь исправить работу, вижу, как вслед за порывами ветра снова один за другим черные жучки шлепаются на светлые места картины, ползут во все стороны, протягивая за собой длинные грязные полосы. Надо как-то остановить движение жучков по этюду. Тут пинцет бессилен.
Капля скипидара на каждого противника живописи оказывается смертельной. Но от скипидара образуются потеки, а на место погибших и сброшенных насекомых садятся все новые и новые. Вся работа кажется бессмысленной и борьба с моими недругами бесполезной. Быть может, попытаться избавиться от них каким-нибудь другим сильным запахом? Бегу к биваку, выцеживаю из бака машины вонючий этилированный бензин и поспешно обмазываю им подрамник. От бензина мои неприятели гибнут быстрее, чем от скипидара, хотя запах его не останавливает новых пришельцев.
Еще некоторое время продолжаю борьбу с жучками. Но во что превратилась картина! Все «небо» пестрит точками и полосками, а «снеговые вершины» совсем скрыты под слоем моих мучителей. Тут их не менее тысячи.
Я побежден. Этюд окончательно погиб. Снимаю краски с картона и палитры мастихином. В них в предсмертных судорогах копошится масса жучков. С неприязнью разглядываю их продолговатые тела, вздутые, почти шаровидные переднеспинки. Это туркестанский мягкотел (Cerallus turkestanicus). Образ жизни его неизвестен.
Где же в пустыне обитают эти жучки, почему они не встретились мне раньше? Самые тщательные поиски оказываются безрезультатными. Жучков в ущелье нет. Нет их и в пустыне. Тогда все произошедшее становится загадочным. Но нужно продолжать поиски.
Только на второй день далеко от ущелья на красных маках удается найти двух маленьких туркестанских мягкотелов. Видимо, на этих растениях развиваются личинки жуков. Так вот откуда вы прилетели на запах цинковых белил! Ваши маленькие усики в струйках ветра уловили запах краски, почему-то оказавшийся для вас таким непреодолимо заманчивым.
Очень часто в природе все кажущееся загадочным имеет простое объяснение. Только не всегда легко его найти. Долго думалось о маленьких жучках и не верилось, что запах белил случайно притягивал их к себе. Но отгадка не находилась. Прошло несколько лет. Как-то, рассказывая своему знакомому художнику о своих путешествиях по пустыне, вспомнил о неудавшемся этюде и странном нашествии жучков.
— Забавно! — сказал художник. — Забавно, что вашим жучкам так понравились цинковые белила. А ведь в них нет ничего особенного и делаются они из окиси цинка и макового масла. Оно особенно светлое.
— Постойте, постойте! — перебил я художника. — Так дело в маках. Да ими весной вся пустыня расцвечена!
Все стало ясным. Отгадка нашлась. Жучки обитали на красных маках. Масло из культурных маков, видимо, имело запах, свойственный макам вообще. Только запах этот был, наверное, значительно сильнее, и от моей картины повеяло таким сильным запахом родного растения, что жучки ринулись в ущелье Тайгак и там обнаружили меня с масляными красками…
Нудный апрель, затяжная весна, тепла все еще нет. Тучи, холодный ветер, редкая ласка солнца. За месяц почти никакого сдвига в природе. Деревья все такие же голые, как и зимой, не набухают на них почки. Голубям надоело враждовать, скворцы давно разыскали убежища. Вяло и лениво кричат фазаны, иногда петухи разыгрывают сражения. Медленно сохнет земля. Но крокусы отцвели. Склоны гор расцветились желтыми пятнами гусиного лука. У вершин, где еще холоднее, синеют ирисы. Природа ждет тепла, а оно где-то задержалось, запаздывает.
Из зарослей на дне ущелья выскакивают кеклики. Их жизнь стайками давно закончилась, птицы разбились парочками и ждут не дождутся тепла.
Карабкаюсь по ущелью к вершинам гор. По небу плывут кучевые облака. Когда из-за них выходит солнце, сразу становится тепло и уютно.
Почти из-под ног с недовольным визгом вылетает ястреб-тетеревятник и, лавируя между кустами и камнями, исчезает за скалистым гребнем горы. Оказывается, я помешал ему насладиться трапезой. Он почти съел кеклика, вокруг пиршества кольцо из перьев. А рядом лежит другой со слегка разорванной грудью. Он уже окоченел. Зачем алчному хищнику столько добычи!
Всюду летают осы — основательницы будущего общества. Тычутся в цветы ради нектара, ищут места для устройства гнезда.
Прежде в ущелье бежал небольшой ручей. В этом году его нет. Сухо, несмотря на то что зима была снежной и всюду в горах много воды. Странны законы рождения и гибели горных источников.
Из каменной осыпи наружу высыпала целая стайка черных сверчков, расселась на камнях, поблескивая черными глазами. Им не до песен, они еще молоды, с недоразвитыми крыльями. Но до брачной поры осталось немного, не хватает только тепла.
Между камнями над ямкой качается от ветра искусно выплетенная ажурная паутина, а в самом центре ее — серая соринка. Неужели такой паучок? Всматриваюсь через лупу: соринка! А может быть, все же ошибся? Еще смотрю: нет, все же паучок! Вытянул вперед и назад ноги, сжался. Ни за что не узнать, настоящая палочка. Какой ловкий обманщик!
Паутину неосторожно задел рукой, испуганный паучок упал и остался лежать на камнях такой же неприметной соринкой. Теперь его тем более не разглядеть.
Вокруг бродят голодные клещи-дермаценторы (Dermacentor) и, учуяв нас, мчатся со всех сторон. Самый нетерпеливый и быстрый набрел на ямку, затянутую паутинной сетью, свалился с острого выступа камня и запутался в тенетах, подергивая паутиновые нити.
Соринка на камне ожила, поднялась, сильно раскачиваясь из стороны в сторону, будто от настоящего ветра, пометалась по сети, снова застыла палочкой: клещ — не добыча, слишком велик и невкусен. А кровопийца недолго мучился, выбрался и прямо ко мне помчался.
Мой спаниель мечется, дел у него масса. Везде кеклики. Нелегко их гнать по склону вверх, прыгая с камня на камень и лавируя между колючими кустами. От быстрого бега перехватывает дыхание. А иначе нельзя, ничего не поделаешь. Такова собачья доля, такова работа. Иногда выскочит заяц. Тогда изо всех сил на коротких ногах, размахивая длинными ушами, в погоню. Вскоре собака вымоталась. Хочет пить. А где найти воду? Не стало ручья, ушел под землю.
Чем выше в горы, тем холоднее ветер. Под большим камнем сохранился сугроб снега. Видимо, сюда его намело ветрами. Снег ноздреватый, сочный. Что может быть лучше для страдающей от жажды собаки! По краям сугроба расселись осы. Они тоже намотались за день, хотят пить. Никогда не думал, что осы будут сосать снег, и впервые в жизни увидел такое.
Впрочем, дело может быть в другом! Талая вода полезна для организма. Давно замечено, что под кромкой тающего льда скорее развиваются растения. Пользу от талой воды подметили в народе, что нашло отражение в пословицах: «Талую воду пить, здоровым быть» или «Лошадь талой воды напьется, без болезней обойдется». Издавна в народе считалось, что если курочка на Евдокию (14 марта) напьется талой воды, то рано начнет нести яйца. В Индии подметили, что яки летом в высокогорье, когда всюду бегут ручьи, предпочитают есть снег. Недавно ученые доказали полезные свойства талой воды. Растения, поливаемые ею, быстрее развиваются и дают большие урожаи.
Сейчас осам было бы нетрудно найти воду в другом месте, но вот слетелись, наверное, неслучайно именно на талую воду.
Выбрав на сугробе почище местечко, я скатываю комочки тающего снега и кладу в рот. И хотя ломит от холода зубы, хорошо!

 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ