XIX ВЕК
УИЛЬЯМ ВОРДСВОРТ (1770-1850)
Начало английского романтизма литературоведы связывают с появлением совместного сборника стихов Уильяма Вордсворта и Сэмюэля Тейлора Колриджа (1772-1834). Оба поэта оказали заметное влияние на всю мировую и, в частности, на русскую поэзию. Судьбы Вордсворта и Колриджа тесно переплетены, рассказывать о каждом – значит, во многом повторяться. В данной книге наш выбор пал на старшего по возрасту.

Уильям Вордсворт (Уордсуорт) родился 7 апреля 1770 года в Кокермауте, графство Камберленд. Он был вторым ребенком из пяти детей Д. Вордсворта, поверенного и агента Дж. Лоутера, позже получившего графский титул Лонсдейл. Жили Вордсворты на севере Англии, в так называемом Озерном крае.
Мать Уильяма умерла рано, и в 1779 году отец отправил мальчика в классическую школу в Хоуксхеде (деревня в Северном Ланкашире, центр Озерного края), где подопечным давали отличное образование. Уже в школе Уильям начал писать стихи.
В 1787 году Вордсворт поступил в Сент-Джеймс-колледж Кембриджского университета. Молодому человеку в Кембридже не понравилось. Своеобразной формой протеста против царившей там атмосферы зависти и подхалимажа стал пассивный отказ от учебы. Он увлекся писанием поэм. В Кембридже поэт приступил к созданию «Равнины Солсбери», «Вечерней прогулки», «Изобразительных набросков», «Жителей Пограничного края».
Важнейшим событием в студенческие годы стали для Вордсворта каникулы 1790 года. В июле он и его университетский друг Р. Джонс пешком пересекли Францию, переживавшую революционное пробуждение, и через Швейцарию добрались до озер на севере Италии.
Тем временем умер отец Вордсворта, причем граф Лонсдейл остался ему должен несколько тысяч фунтов, но отказался признать этот долг. Семья надеялась, что по окончании Кембриджа Уильям примет духовный сан, но он не был к этому расположен.
В ноябре 1791 года молодой человек снова отправился во Францию, в Орлеан, чтобы основательно заняться французским языком. Там он полюбил дочь военного врача Анетт Валлон, которая вскоре забеременела от него. Однако Вордсворту пришлось по требованию опекунов вернуться в Англию еще до рождения ребенка. 15 декабря 1792 года Аннет родила дочь Каролину. Вордсворт признал свое отцовство, но жениться не смог.
По возвращении в Англию поэт поселился в Лондоне. Денег у него не было, определенной профессии не было, дома своего не было. Почти четыре года молодой человек проводил время в компании лондонских радикалов, что стало для него хорошей школой познания жизни низов английского общества. Уильям общался с брошенными матерями, нищими, бездомными детьми, бродягами и калеками многочисленных военных мероприятий Английской короны.
Осенью 1794 года умер один из молодых друзей Вордсворта, завещав ему 900 фунтов. Поэт немедленно арендовал дом, в котором поселился в обществе любимой сестры Дороти. С этого времени сестра не разлучалась с Уильямом до конца его жизни.
Через два года Вордсворты перебрались в Альфоксден-хаус рядом с Бристолем. Там Уильям познакомился с Сэмюэлем Колриджем. Молодые люди быстро нашли общий язык и решили помогать друг другу. Эта дружба изменила не только жизнь обоих поэтов, но и саму английскую поэзию.
В течение 1797-1798 годов они практически не расставались и проводили время в «поэтических забавах». Вордсворт обратился к созданию небольших лирических и драматических стихов, снискавших ему любовь читающей публики. Многие из них были написаны в соответствии с творческой программой, разработанной Вордсвортом совместно с Колриджем и предполагавшей разрушение поэтического канона неоклассицизма.
Так начался период в жизни поэта, который биографы Вордсворта называют «великим десятилетием».
В 1798 году друзья издали поэтический сборник «Лирические баллады». Предисловие к сборнику носило характер литературного манифеста, в котором определялись новый стиль, новый словарь и новая тематика для английской поэзии.
Фактически Вордсворт и Колридж стали во главе так называемой Озерной школы, или школы лейкистов, которая имела значительное и благотворное влияние на английскую поэзию, развив вкус к изучению простого человека и природы. Сам термин возник в 1800 году, когда в одном из английских литературных журналов Вордсворт был объявлен главой Озерной школы, а в 1802 году Колридж и Саути были названы ее членами. Жизнь и творчество этих трех поэтов связаны с Озерным краем, северными графствами Англии, где много озер. Поэты-лейкисты великолепно воспели этот край в своих стихах. Озерная школа имела определенное влияние на Байрона и Шелли.
Колридж задумал огромную поэму, предполагалось рассказать в ней обо всех науках, философских системах и религиях человечества. Поэт предварительно назвал ее «Ручей». Но сил на такой грандиозный замысел у нетерпеливого Колриджа не хватило, он скоро охладел к своей идее и предложил Вордсворту заняться ее воплощением. Тот согласился и работал над поэмой всю жизнь, целых сорок лет. Новый автор назвал свое детище «Отшельник». Вордсворт успел завершить только первую часть поэмы, которую опубликовал в 1814 году под названием «Прогулка».
В мае 1802 года умер старый граф Лонсдейл, и наследник согласился выплатить Вордсвортам 8 000 фунтов. Это существенно укрепило благосостояние Доротеи и Уильяма, собиравшегося жениться на подруге его детских лет Мэри Хатчинсон. Поскольку между Англией и Францией был заключен недолговечный Амьенский мир, в августе все трое побывали в Кале, где повидались с Анетт Валлон и Каролиной. А 4 октября Мэри и Вордсворт обвенчались. Брак их был очень счастливым. С 1803 по 1810 год у них родились три сына и две дочери. Так и не вышедшая замуж Доротея осталась жить в доме брата. Семья росла, и Вордсвортам приходилось периодически менять место жительства, переезжая в более просторные дома. В 1806 году поэт приобрел собственный домик Доув-коттедж в Грасмире, графство Уэстморленд. Позже семья переехала в Райдал-Маунт близ Эмблсайда, где в 1812 году умерли дочь Вордсвортов Катерина и сын Чарлз.
Вышедший в Англии в 1807 году сборник «Стихотворения в двух томах» завершил «великое десятилетие» Вордсворта.
В 1813 году по протекции лорда Лонсдейла Вордсворт получил должность государственного уполномоченного по гербовым сборам в двух графствах, Уэстморленде и части Камберленда, что позволило ему обеспечить семью. Эту должность поэт исполнял до 1842 года, когда ему назначили королевскую пенсию – 300 фунтов в год.
Еще при жизни к 1830-м годам Вордсворт был признан классиком английской литературы. В последние годы жизни поэт много времени отдавал тому, что его домашние в шутку называли «штопкой». Он постоянно и настойчиво переделывал ранее созданные произведения для каждого очередного переиздания.
В 1843 году умер поэт Роберт Саути, Вордсворт удостоился звания поэта-лауреата и оставался таковым до самой смерти.
Умер Уильям Вордсворт в Райдал-Маунте 23 апреля 1850 года.
Высоко оценил вклад поэтов Озерной школы не только в английскую, но и в мировую поэзию А. С. Пушкин. Лучшие переводы произведений Уильяма Вордсворта сделаны С. Я. Маршаком.
ПЬЕР ЖАН БЕРАНЖЕ (1780-1857)
Беранже – единственный песенник в этой книге[161]. Конечно, он активно писал идиллии, сатиры, даже поэмы, но уровень их слишком невысок, а прославился он как автор слов для песенок и куплетов, преимущественно политического характера. В книгу рассказ о нем включен потому, что имя Беранже широко известно в мире поэзии, и творчество его хотя бы относительно напоминает поэзию великую. Жизнь же Беранже столь поучительна для современной России, что обойти ее было бы просто непредусмотрительно.

Поймите меня правильно. Я не намерен обижать песенников, принижать их достоинство и делать париями в литературе. Но нельзя смешивать разные типы искусства! Каждый должен заниматься своим делом. И если поэзия велика и могущественна сама по себе, то искусство создателя песенных слов является лишь составляющей произведения, где доминируют две другие его части – музыка и исполнительское мастерство. Именно по причине второстепенности их творчества так рвутся в поэты песенники, апеллируя к тому, что творения поэтов тоже великолепно ложатся на музыку и даже когда-то в древности исполнялись только в музыкальном сопровождении. Как правило, такое понимание поэзии или представление песенников поэтами есть болезнь детства и по мере взросления человека проходит. Конечно, если человек не застревает в детском возрасте.
Жан Франсуа Беранже был человеком легкомысленным и авантюрным. Более всего на свете он мечтал о дворянском титуле. Будучи сыном модного портного, Жан Франсуа унаследовал от папаши кое-какие деньги и, работая счетоводом, смог позволить себе жениться на молоденькой модистке Жанне Шампи. Молодой человек покинул жену менее чем через год и в поисках счастья отправился скитаться по странам и весям.
Жанна была уже на сносях. 19 августа 1780 года она родила мальчика, которому дали имя Пьер Жан. Ребенка сразу же отдали кормилице, а мать вновь занялась ремеслом модистки. Три года о Пьере Жане никто не вспоминал. Потом его забрал к себе дед по материнской линии Пьер Шампи. Жан Франсуа появился лишь пару раз, после одного такого посещения родилась сестра будущего поэта София.
Когда пришло время, дед отвел Пьера Жана в школу. Но мальчик не любил учиться. Все время жаловался на головную боль и оставался дома.
В 1789 году началась Великая французская революция, и малолетний Беранже околачивался возле Бастилии, когда крепость штурмовала возбужденная толпа. Осенью того же года дед решил отправить мальчика от греха подальше – в провинцию, к тетке.
Тетушка Мари Виктуар Тюрбо на всю жизнь стала самым дорогим и любимым человеком для Пьера Жана. Была она женщина добрая, глуповатая, скандальная и буквально обожала политику.
Мари содержала трактир «Королевская шпага» в Перонне. Она сразу пристроила мальчика к делу, и Пьер стал обслуживать посетителей.
Однажды весной 1792 года во время грозы в трактир влетела шаровая молния и ударила мальчика прямо в голову. Он потерял сознание, потом долго болел, с тех пор стал хуже видеть. Но это не помешало мальчику в тринадцать лет наконец пойти в школу. Правда, он так и не одолел правил орфографии, зато научился говорить революционные речи. На местных праздниках его всегда вызывали на трибуну, и ничего не смыслящий ни в политике, ни в философии, ни в жизни паренек, как попугай, выкрикивал в ликующую толпу пышные призывы и лозунги. Тетушка при этом очень гордилась и считала племянника чрезвычайно умным. После речей все пели «Марсельезу».
Когда в ходе революционных репрессий закрылась школа, Пьер Жан устроился работать в местную типографию. Здесь-то парень и научился сочинять куплеты…
И тут отец вызвал сына в Париж.
Пьер Жан вернулся в семью. И начались бесконечные ссоры, споры и скандалы. Революция кончилась, якобинцев гильотинировали. Но сын Беранже остался убежденным республиканцем, а отец Беранже – убежденным монархистом. Матери же было тошно от обоих. Отцу удалось сделать себе необходимые документы, после чего он стал дворянином – Беранже де Мерси. Первым делом он открыл меняльную контору. Пьер Жан, который отлично считал в уме, стал его сотрудником. Работать приходилось преимущественно с бедняками, обсчитывать и обирать их. Пьер Жан, человек в душе добрый и справедливый, выдерживал это с трудом. Но однажды полиция арестовала отца и закрыла контору – в столице раскрыли очередной монархический заговор и заподозрили Жана Франсуа в участии в нем. Позже его отпустили, но вскоре меняльная контора лопнула. На остатки денег отец открыл библиотеку-читальню, и Пьер Жан стал библиотекарем.
9 ноября 1799 года Наполеон Бонапарт совершил государственный переворот. Беранже-младший был в восторге. Он не сомневался, что революция восторжествовала вновь.
Правда, самому ему было не до политики. Из Перонна приехала его двоюродная сестра Аделаида Парон. Молодые люди переспали, и неожиданно для обоих у них в январе 1802 года родился сын Фюрси Парон. Дитя сразу сплавили кормилице в деревню, а Аделаида стала любовницей Беранже-старшего[162]. А Пьеру Жану как раз пришел срок идти в армию, и он вынужден был скрываться от воинского призыва.
Вскоре Беранже полюбил по-настоящему. Звали ее Жюдит Фрер. О ней песенник написал известную песенку «Как она красива»… Постепенно у него появились влиятельные друзья в мире литературы. Прежде всего это был писатель и сенатор Антуан Арно[163].
Беранже все чаще и чаще стал обращаться к песенному жанру. Он вошел в песенное содружество «Обитель беззаботных». Постепенно песни Пьера Жана стали расходиться по Франции. В мае 1812 года Беранже впервые решил собрать написанные им песни и опубликовать в одной книге. Осуществить задуманное он смог уже только после падения Наполеона. Сборник «Песни нравственные и другие» вышел в конце 1815 года. А накануне Беранже разодрал и сжег рукописи всех своих поэтических произведений высокого жанра.
Первым, кто вознамерился воспользоваться талантом Беранже-песенника, стал король Людовик XVIII Бурбон. Песеннику предложили штатное место в государственной газете. Убежденный республиканец, Пьер Жан отказался и в ответ на предложение послал песенку «Маркиз Караба», в которой продемонстрировал суть политики нового короля (и любой власти вообще):
Давить и грабить мужичье —
Вот право древнее мое;
Так пусть оно из рода в род
К моим потомкам перейдет.
С тех пор имя маркиза де Караба стало во Франции нарицательным.
Вообще необходимо отдать Беранже должное: у него была замечательная способность в одной небольшой песне вскрыть целый пласт человеческих отношений и при этом столь мощно выделить какую-нибудь особенно яркую, характерную черту человеческого поведения, что герой его очередной песни становился обобщающим, а имя его – нарицательным.
Так случилось и с песенкой «Месье Жюда» (в русском переводе «Господин Искариотов»). Она появилась следом за «Маркизом де Караба» и высмеивала шпионов-любителей и добровольных доносчиков. Припев ее стал необычайно популярным, сперва во Франции, а затем разошелся по всему миру:
Тише, тише, господа!
Господин Искариотов —
Патриот из патриотов,
Приближается сюда.
Эти и многие другие песни, касавшиеся острых политических проблем, вошли в двухтомник песен, вышедший в 1821 году. Беранже занял у друзей 15 000 франков и все расходы оплатил сам. Издание распродалось в небывало короткие сроки, так что, когда опомнившиеся власти запретили его, конфисковывать было нечего.
Против автора сборника возбудили уголовное дело. В здание суда сразу же прославившийся Пьер Жан пробивался через огромную толпу зевак. При этом ему пришлось с горькой иронией приговаривать:
– Господа, без меня все равно не начнут!
Беранже обвинили в нанесении оскорбления общественной и религиозной морали и приговорили к трехмесячному заключению в тюрьме и штрафу в размере 500 франков.
Тюрьма не образумила Пьера Жана. При новом короле Карле X Беранже издал очередной сборник своих произведений «Неизданные песни», в который вошла песенка «Красный человечек» со знаменитым припевом:
Молитесь, чтоб Творец
Для Карла спас венец!
В этот раз Беранже присудили к девяти месяцам тюрьмы и 10 000 франков штрафа. Но он уже был кумиром Франции. Его политические песни пела вся страна. Его приветствовали. Ему поклонялись. Расщедрившийся Стендаль даже заявил во всеуслышание, что считает Беранже крупнейшим поэтом эпохи. Конечно, романист погорячился, но для политиков страны стало престижно посещать в тюрьме опального песенника.
В июле 1830 года во Франции произошла очередная революция. Король Карл X был свергнут и бежал. Восторгам Беранже не было предела. Вновь драка, вновь бунт, вновь торжествуют идеалы либерализма и его муза!… И очередное разочарование. На престол взошел король-банкир Луи Филипп Орлеанский.
Разочарование песенника в новой власти пришло скоро и оказалось столь глубоким, что Беранже предпочел совсем уехать из Парижа. Его потянуло на природу, подальше от шумных и подлых политиков, которые все равно неизбежно предавали бедноту и продавались толстосумам. Там, в Пасси, Пьер Жан впервые увидел, до какой степени нищеты довели все эти революции несчастное крестьянство. Впервые песенник задумался о том, что не город и его бессмысленная лженародная толпа несут в себе коренные устои общества, что вытягивает на себе страну безропотный труженик крестьянин, которому в результате чьей-то там борьбы за «справедливость», «равенство» и «всеобщее счастье» достаются лишь горе, беды и страдания.
А в стране назревала очередная революция. 28 февраля 1848 года Луи Филипп был свергнут и бежал.
Вечный обличитель и кумир пьяных компаний, непременно распевавших в застолье его забавные песенки, Беранже примчался в Париж, чтобы своим авторитетом помочь очередным кровососам понадежнее укрепиться на загривке несчастного народа. В этот раз толпа выбрала песенника депутатом Национального собрания. Что мог сделать там дряхлый, ничего не соображавший в новом мире старик и провинциал? Но ведь он сочинял застольные, зачастую пошленькие, а значит, приятные черни песенки! Значит, в законодатели его, в Национальное собрание! Пусть вершит судьбами страны!
Должно быть, это было самое позорное для Беранже время. К счастью, продлилось оно недолго. 2 декабря 1851 года в стране произошел новый переворот. Национальное собрание разогнали. Республиканцы и либералы зайцами разбежались по заграницам – прохлаждаться на наворованные ими за время пребывания у власти денежки. А 2 декабря 1852 года новым императором Франции провозгласили Наполеона III.
Нищему честному глупцу Беранже некуда было бежать. Он только плакал и печалился. Ему оставалось только одно – умереть…
Пьер Жан Беранже умер 16 июля 1857 года в Париже. Похоронили его на кладбище Пер-Лашез.
Самые знаменитые, лучшие переводы песен Беранже на русский язык сделаны замечательным русским поэтом и переводчиком Василием Степановичем Курочкиным (1831-1875).
АДЕЛЬБЕРТ ФОН ШАМИССО (1781-1838)
Окрасился месяц багрянцем,
Где волны бушуют у скал,
Поедем, красотка, кататься,
Давно я тебя поджидал…
Окрасился месяц багрянцем,
Где волны бушуют у скал,
Поедем, красотка, кататься,
Давно я тебя поджидал…
Слова этого русского романса – перевод стихотворения Адельберта фон Шамиссо. Поэт странной судьбы – свой в мире трех народов, но везде чужой; французский аристократ, родовые корни которого уходят в глубины истории, беглец от французской революции и прирожденный демократ, горячо сочувствовавший русским декабристам; светлый лирик и удачливый ученый-натуралист, своими научными открытиями далеко опередивший естествознание начала XIX века…
Людовик Карл-Адельберт фон Шамиссо де Бонкур (Луи Шарль Аделаид де Шамиссо) родился 30 января 1781 года во Франции, в родовом замке Шато-де-Бонкур (провинция Шампань) в семье знатных французских аристократов.

Когда в 1789 году началась Великая французская буржуазная революция, его родителям удалось вовремя сбежать в Германию, где мальчик и вырос. Поскольку вся дальнейшая судьба изгнанника была связана с Пруссией, а немецкий язык стал для поэта родным – на нем он творил и предпочитал общаться, – Шамиссо считается немецким писателем. По этой причине в русском произношении ударение в его фамилии можно делать и на второй, и на последний слог.
В Германии семья Шамиссо была принята весьма благосклонно, впрочем, как и большинство беглецов из революционной Франции. Достаточно того факта, что в 1796 году пятнадцатилетний Адельберт был принят пажом на службу к самой прусской королеве Луизе-Августе-Вильгельмине-Амалии (1776-1810).
В милитаристской Пруссии юному эмигранту была прямая дорога в армию. В 1798-1807 годах он служил офицером в прусских войсках. В моральном отношении это было очень тяжело для француза. Сначала Шамиссо пришлось воевать против революционной родины, а затем Пруссия была с позором разгромлена Наполеоном, и молодому человеку довелось пережить стыд капитуляции на милость победителя перед торжествующими соотечественниками.
Покорив Пруссию, Наполеон милостиво «простил» французских эмигрантов и разрешил им вернуться во Францию. Обрадованные родители Шамиссо, его братья и сестры стали паковать вещи, и тут неожиданно Адельберт категорически отказался покидать Германию. Его долго уговаривали, даже угрожали проклятием, но упрямец стоял на своем. В конце концов семья уехала на родину, а блудный сын остался разделить участь своего нового отечества.
Из армии Шамиссо ушел и предпочел заняться литературным трудом. Когда поэту исполнилось двадцать пять лет, он издал первый сборник своих стихотворений – «Альманах Муз». Но затем в настроениях Шамиссо произошел какой-то внутренний перелом. В 1808 году он уехал во Францию и два года преподавал в провинциальной школе в Наполеонвилле (в Ванде). В 1810 году ему отказали от места. Литературные интересы привели Шамиссо к известной писательнице Анне Луизе де Сталь, хозяйке знаменитого либерального парижского салона и идеологу французского романтизма. Лето 1811 года поэт провел у нее в гостях в Коппэ на Женевском озере. Там Шамиссо заинтересовался естественными науками.
Вернувшись в Берлин, поэт записался в университет на медицинский факультет, где изучал ботанику и зоологию.
Однажды Шамиссо был в гостях у супружеской четы Фарнхагенов фон Энзе. Это символические имена в немецкой культуре XIX века – семейство меценатов, любителей изящного. В беседе оказались затронутыми какие-то неведомые душевные струнки писателя. Вернувшись домой, Шамиссо буквально в припадке вдохновения написал за двое суток фантастическую сказку «Удивительная история Петера Шлемиля» – о том, как молодой человек променял свою тень на никогда не пустеющий кошелек. Это было первое произведение в мировой литературе, где автор попытался рассмотреть тему двойничества – впервые тень отделилась от человека.
«Удивительная история Петера Шлемиля» вышла в свет в 1814 году и принесла ее автору всеевропейскую известность.
И тут Шамиссо улыбнулась грандиозная удача. Как-то раз друг и впоследствии комментатор и издатель произведений Шамиссо Ю. Хитциг показал ему заметку в газете, где сообщалось «о предстоящей экспедиции русских к Северному полюсу». Снаряжал экспедицию на собственные деньги граф Николай Петрович Румянцев (1754-1826), прославленный основатель Румянцевской (Ленинской) библиотеки и музея.
– Я хочу, я буду с этими русскими на Северном полюсе! – воскликнул Адельберт.
Хитциг был знаком с Августом Коцебу (1761-1819), немецким писателем и платным агентом русского царя. По просьбе Хитцига тот переговорил со своим сыном Отто (Оттоном) Евстафьевичем Коцебу (1788-1846), командиром корабля «Рюрик», на котором в 1815-1818 годах и состоялась знаменитая экспедиция, искавшая северо-восточный проход из Тихого океана в Ледовитый[164]. Сам Отто Коцебу к тому времени был уже опытным моряком, поскольку в 1803-1806 годах участвовал в кругосветной экспедиции И. Ф. Крузенштерна. Отто Евфстафьевич не мог отказать отцу, а поскольку он сам набирал команду, Шамиссо был немедленно назначен на должность натуралиста экспедиции.
9 августа 1815 года в Копенгагене Адельберт Шамиссо взошел на борт «Рюрика». Это был маленький, но исключительно крепкий бриг. На нем служило всего двадцать матросов и несколько офицеров.
Экспедиция оказалась на редкость удачной. За три года плавания почти никто не болел. Команда оказалась высокопрофессиональной и дисциплинированной, хотя капитан своей сухостью и заносчивостью вызывал серьезное недовольство.
Шамиссо сразу получил имя Адельберт Логинович. Самым близким товарищем его стал Иван Иванович Эшшольц, двадцатитрехлетний профессор Дерптского университета, доктор экспедиции и по совместительству натуралист-зоолог и энтомолог. Они жили в одной каюте, спали на подвесных койках, питались в общей кают-компании.
В течение экспедиции были сделаны многочисленные открытия в самых разных областях знаний. 13 октября 1815 года по дороге из Плимута в Тенериф в Атлантическом океане начался штиль. Погода позволяла проводить активные натуралистические изыскания. Шамиссо, в частности, занялся изучение сальп[165]. 16 октября 1815 года он в ходе наблюдений за сальпами сформулировал закон чередования поколений[166]. Зачастую этот закон упрощенно переносят на людей и объясняют им то, что внуки характером и повадками в большей степени похожи на кого-нибудь из бабушек или дедушек, чем на родителей. Сам Шамиссо сказал о своих подопытных: «…сальпа подобна не своей матери и своей дочери, а своей бабушке и своей внучке». Идея о том, что дети могут совершенно не походить на родителей, подрывала теорию незыблемости видов, являвшуюся базовой для господствовавшей тогда системы Карла Линнея и готовила почву для возникновения теории Чарлза Дарвина о происхождении видов.
Шамиссо также открыл и описал около пятидесяти новых растений, которые носят его имя по сей день.
Помимо натуралистических изысканий Шамиссо занимался и этнографией. Он первым исследовал грамматику полинезийского языка и прославился как выдающийся «русский этнограф». Туземец Каду попросил Шамиссо взять его в путешествие к северным морям. Исследователь уговорил капитана и опекал полинезийца до возвращения того на родной остров. Каду стал первым аборигеном Полинезии, побывавшим в Беренговом проливе.
Великий поэт сделал открытие и в геологии – он обосновал природу рождения атоллов. Через пятнадцать лет почти по тому же маршруту, что и «Рюрик», прошел знаменитый «Бигль», на котором совершил свое прославленное плавание Чарлз Дарвин. Ученый признал верность аттоловой теории Шамиссо.
«Рюрик» был на грани открытия северо-восточного прохода, но во время случившегося шторма в Тихом океане Отто Коцебу сильно ударился обо что-то грудью и повредил себе легкие. Ему стало тяжело дышать ледяным воздухом полярного моря. И по приказу капитана «Рюрик» повернул на юг.
Экспедиция продолжалась около трех лет. Путешественники посетили африканские острова, Южную Америку, Сибирь, Северную Америку, Полинезийские острова, Капландию. Ими было открыто множество островов. На карте Чукотского моря, в заливе Коцебу появился и навеки остался остров Шамиссо.
Вернувшись в 1818 году в Берлин, путешественник получил степень почетного доктора философии и место кустоса[167] берлинского ботанического сада. По следам экспедиции Шамиссо написал книгу «Путешествие вокруг света».
Оставшиеся годы жизни поэт много занимался стихотворчеством. Он вошел в кружок берлинских романтиков, характерными чертами творчества которых были тяга к экзотике и широкое использование форм народной песни. Именно песенное направление особенно полюбилось Шамиссо, причем стихи для песен он сочинял циклами.
Впрочем, долгое время Шамиссо не признавал себя немецким поэтом. Но однажды он услышал, как старая прачка напевает песню на его стихи. Вот тогда Шамиссо расплакался и сказал, что действительно стал народным немецким поэтом.
Парадокс истории! Когда в фашистской Германии сжигали книги писателей иноплеменного происхождения, то уничтожались и книги Шамиссо, но жгли их, распевая народные песни на слова Шамиссо.
Очень любил его поэзию великий немецкий композитор Роберт Шуман (1810-1856), который создал музыку к циклу песенных стихов Шамиссо «Любовь и жизнь женщины».
Судьба была благосклонна к Шамиссо. В Берлине он влюбился, женился, разбогател, был всюду принят и уважаем. Конечно, громкой славой это не назовешь, однако имя его было известно всей культурной Германии.
Со временем здоровье поэта значительно ухудшилось. Когда в 1837 году скончалась жена Шамиссо, он ушел в отставку и предался грусти. Умер Адельберт фон Шамиссо 21 августа 1838 года на пятьдесят восьмом году жизни.
На русский язык произведения Шамиссо переведены замечательными поэтами, в том числе В. А. Жуковским и А. Н. Майковым.
ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ ЖУКОВСКИЙ (1783-1852)
Его называют учителем всех русских поэтов-лириков. Друг, учитель и защитник А. С. Пушкина. Человек добрейшей души, готовый прийти на помощь каждому, кто в ней нуждался. На протяжении долгих лет каждое утро в доме Жуковского выстраивалась очередь просителей, и по мере сил он старался помочь каждому, кто в этом нуждался.
Невозможно переоценить его вклад в дело становления и развития русской культуры. Именно Жуковский, благодаря своему великому поэтическому дару, создал целый ряд великолепных переводов шедевров мировой поэзии, причем переводы эти по таланту создателя с легкостью могут поспорить с самими оригиналами. Нередко мы даже не замечаем, что читаем перевод, поскольку перед нами раскрывает свою божественную тайну очередной шедевр гениального творца.

Во время Русско-турецкой войны 1768-1774 годов некий бравый майор, обрусевший немец Муфель после взятия Бендер послал на воспитание своему старому приятелю двух плененных сестер-турчанок – Сальху и Фатьму. Приятелем был богатый русский помещик, владелец многочисленных имений в Тульской, Калужской и Орловской губерниях – Афанасий Иванович Бунин.
Сальхе было шестнадцать лет, Фатьме – одиннадцать. Младшая сестра вскоре умерла, а старшая выучила русский язык и была крещена в православную веру под именем Елисавета Дементьевна Турчанинова.
Законная жена Бунина Мария Григорьевна, прижив с мужем одиннадцать детей, отказалась от супружеских обязанностей и дала Афанасию Ивановичу полную свободу. Юная Елисавета по наивности своей полагала, что везде есть гаремы и что у мужчины должно быть несколько жен. Потому, будучи по закону вольной, она стала любовницей барина. В усадьбе села Мишенское близ Белева, где постоянно проживала семья Буниных, ее поселили в отдельном домике. Мария Григорьевна приняла турчанку хорошо, рад ей был и друг Бунина – Андрей Григорьевич Жуковский, разорившийся дворянин, много лет живший у Буниных приживалой. Сальха была сначала нянькой младших детей, потом ключницей.
В 1781 году в семье Буниных случилось несчастье: умер, а скорее всего покончил с собой по причине несчастной любви единственный сын Иван. Мария Григорьевна не сомневалась, что трагедия эта стала наказанием свыше за прелюбодеяния мужа, и прекратила всякие отношения с Афанасием Ивановичем и турчанкой.
Но вот 9 февраля (29 января по старому стилю) 1783 года у Елисаветы родился мальчик. Бунин упросил Жуковского усыновить младенца. Так и появился в Мишенском мальчик Василий Андреевич Жуковский.
В первые же дни своей жизни Васенька стал всеобщим примирителем. Елисавета сама принесла младенца в барский дом и положила его к ногам Марии Григорьевны. Барыня увидела в ребенке замену несчастному Ивану и пообещала:
– Васеньку я воспитаю сама, как родного.
И стал Василий барчонком и всеобщим любимцем. Дом был полон женщин, и каждая норовила приласкать его и побаловать.
Однако Афанасия Ивановича с первых дней беспокоило будущее сына. Чтобы в дальнейшем не возникало проблем с его дворянством, грудного Васеньку записали сержантом в Астраханский гусарский полк. В шесть лет мальчик уже дослужился до прапорщика, что давало ему независимо от рождения право на дворянство. Мальчика внесли в соответствующий раздел дворянской родословной книги Тульской губернии.
В марте 1791 года скончался Афанасий Иванович Бунин. В завещании он ни словом не упомянул ни о сыне Василии, ни о Елисавете Дементьевне. Они фактически оставались без средств к существованию.
– Барыня, – сказал Бунин перед смертью жене, – для этих несчастных я не сделал ничего, но поручаю их тебе и детям моим.
– Будь спокоен, – отвечала Мария Григорьевна. – С Лисаветой я никогда не расстанусь, а Васенька будет моим сыном.
И сдержала свое слово.
Образование юный Вася получил семейное. Затем был частный пансион и народное училище, из которого Жуковского исключили за неспособность. Мальчик продолжал обучение в доме своей крестной матери и одновременно сводной сестры Варвары Афанасьевны Юшковой. Здесь впервые проявились его литературные способности. Юшковы организовали домашний театр. Для этого театра мальчик написал маленькую драму «Камилл, или Освобожденный Рим». Васеньке устроили овацию. Ободренный, он буквально ринулся в сочинительство.
В 1796 году с согласия Марии Григорьевны млеющий от восторга двенадцатилетний Васенька был отправлен служить прапорщиком в Нарвский полк, квартировавший в Кексгольме. Однако, к великому разочарованию мальчика, только что вступивший на престол император Павел I запретил брать на действительную службу несовершеннолетних офицеров. Тогда хороший знакомый семьи Буниных А. Т. Болотов[168] присоветовал Марии Григорьевне отдать Василия в Благородный пансионат при Московском университете.
Жуковский учился там с 1797 по 1800 год. Здесь он близко подружился с Андреем и Александром Тургеневыми. Вместе они организовали «Дружеское литературное общество». Пансионат Жуковский окончил с именной серебряной медалью, имя его было занесено на почетную мраморную доску.
Служить молодого человека направили в Главную соляную контору городовым секретарем с окладом 175 рублей в год. Жил он по-прежнему в доме Юшковых. Литературную деятельность Василий Андреевич не оставлял, уделяя внимание преимущественно переводам. Он перевел на русский язык «Страдания юного Вертера» Гёте, затем роман Коцебу «Мальчик у ручья» и его же комедию «Ложный стыд».
Вскоре после убийства Павла I Жуковский был переведен на службу в Петербург. Поскольку сводная сестра поэта Екатерина Афанасьевна через мужа породнилась с Карамзиным, Василий был представлен Николаю Михайловичу и подружился с ним. Карамзину в 1802 году поэт показал свой перевод стихотворения Томаса Грея[169] «Сельское кладбище». Тот пришел в восторг и, будучи редактором журнала «Вестник Европы», опубликовал его. Эта публикация принесла Василию Андреевичу всероссийскую известность.
Так начался первый период в творчестве Жуковского. Длился он с 1802 по 1808 год, когда поэт исповедовал модную тогда школу сентиментализма.
В 1805 году, будучи в Белеве, Жуковский стал преподавать историю и литературу дочерям Екатерины Афанасьевны – Маше и Саше. Каждое утро он приходил к девочкам и неожиданно для себя влюбился в двенадцатилетнюю Машу! Он долго мучился и, наконец, признался в своих чувствах к ребенку Екатерине Афанасьевне. Мать была возмущена и оскорблена. Василий Андреевич уехал в Москву.
С 1808 года наступил второй период в творчестве великого поэта – период романтической поэзии. Жуковским были созданы первые баллады: «Людмила» (1808), «Кассандра» (1809), «Светлана» (1808-1812). Поэт создавал их на основе иностранных литературных источников. Но именно эти баллады положили начало русскому романтизму. Всего Жуковским было написано 39 баллад и поэм. «Людмила» и «Светлана» на долгие годы сделали Василия Андреевича одним из самых любимых поэтов России.
13 мая 1811 года умерла благодетельница поэта Мария Григорьевна Бунина. С горькой вестью приехала к Василию Андреевичу его потрясенная мать Елисавета Дементьевна и через десять дней тоже умерла. Так в кратчайший срок потерял Жуковский двух самых дорогих ему женщин.
А через год вторглась в Россию армия Наполеона. В начале войны поэт вступил в Московское ополчение и служил поручиком. В день Бородинского сражения он был в резерве. После сдачи Москвы его прикомандировали к штабу Кутузова. В Тарутино Василий Андреевич написал великую оду «Певец во стане русских воинов».
После войны Жуковский решил всю свою оставшуюся жизнь посвятить творчеству. Помочь ему взялся хороший знакомый С. С. Уваров[170]. Он вознамерился выхлопотать Василию Андреевичу пенсион от императорского двора как поэту. С этой целью в 1815 году Уваров представил Жуковского вдовствующей императрице Марии Федоровне[171]. После часовой аудиенции поэт был приглашен на место придворного чтеца и учителя русского языка при Марии Федоровне, которая за долгие годы жизни в Петербурге не смогла выучить язык своих подданных. Так начался двадцатипятилетний период придворной службы Жуковского.
Поэт поселился в Зимнем дворце. В 1816 году ему назначили пожизненную пенсию. Через год Жуковского назначили учителем русского языка к невесте великого князя Николая, будущей императрице Александре Федоровне[172].
Василий Андреевич имел в императорской семье высочайший авторитет, чем откровенно пользовался в благих целях. Он постоянно выступал просителем за несчастных и преследуемых. Благодаря влиянию при дворе он неоднократно добивался смягчения участи сосланного А. С. Пушкина, помог при выкупе из крепостной неволи Т. Г. Шевченко, содействовал освобождению из ссылки А. И. Герцена, просил об облегчении судьбы декабристов, хлопотал о больном поэте К. Н. Батюшкове, беспокоился об освобождении от солдатчины Е. А. Баратынского.
Смерть в 1823 году Маши Протасовой во время родов стала для Василия Андреевича тяжелейшим ударом. Поэт помчался из Петербурга в Дерпт, где жила его возлюбленная с молодым мужем. У женщины было предчувствие скорой смерти. У открытой могилы ее Жуковскому передали адресованное ему письмо. Там, в частности, было написано: «Это письмо получишь ты тогда, когда меня подле вас не будет, но когда я еще ближе буду к вам душою. Тебе обязана я самым живейшим счастьем, которое только ощущала!… Теперь – прощай!»
С июля 1824 года Жуковский получил новое назначение – он стал наставником великого князя Александра Николаевича – старшего сына великого князя Николая Павловича и будущего императора Александра II. В этой должности поэт пережил восстание 14 декабря 1825 года, когда каждую минуту ожидали нападения на императорскую семью. Все тревожные часы восстания Василий Андреевич находился в Зимнем дворце.
В 1826 году Жуковский получил длительный отпуск и отправился в путешествие по Европе. В частности, он посетил Веймар, где познакомился с Гёте. Немецкий гений подарил поэту свое отточенное гусиное перо.
Знаковым стал для Жуковского 1831 год, когда он и Пушкин жили в Царском Селе. В то лето Пушкин написал «Сказку о царе Салтане». Василий Андреевич тоже взялся за сказки. Им были сочинены «Сказка о царе Берендее», «Спящая царевна» и «Война мышей и лягушек».
Через два года Жуковским было написано стихотворение, которое сам он назвал «Молитва русского народа», но потомкам оно стало известно как текст российского гимна.
Осенью 1836 года Пушкин сообщил Василию Андреевичу о назревавшей между ним и Дантесом дуэли. Жуковский немедленно примчался из Царского Села и попытался уладить дело миром. Целую неделю вел он переговоры с Геккерном. Его хлопотами дело могло быть улажено миром. Но 26 января 1837 года Пушкин написал ругательное письмо Геккерну. Дуэль состоялась. Умирающий поэт позвал к своему одру именно Василия Андреевича и просил стать его душеприказчиком. Когда Пушкин умер и тело поэта вынесли в соседнюю комнату, Жуковский собственноручно опечатал его кабинет. По печальному стечению обстоятельств это был день рождения Василия Андреевича, на который был загодя приглашен покойный.
После смерти Пушкина Жуковский решал издательские дела поэта, проблемы с его долгами, хлопотал перед императором о пенсии вдове и малолетним детям.
В 1841 году отношения Василия Андреевича с царским двором ухудшились настолько, что, получив почетную отставку, он принял решение переселиться в Германию, где весной того же года пятидесятивосьмилетний поэт, наконец, женился на юной Елизавете, дочери своего старого приятеля художника Рейтерна. Поселились новобрачные в Дюссельдорфе.
Творческая деятельность Жуковского не ослабевала. Он закончил начатый еще в России перевод индийской народной повести «Наль и Дамаянти», перевел поэму «Рустем и Зораб» и «Одиссею» Гомера, «Орлеанскую деву» Шиллера. Написал белыми стихами три сказки братьев Гримм – «Об Иване-царевиче и сером волке», «Кот в сапогах», «Тюльпанное дерево».
30 октября 1842 года у Жуковских родилась дочь Александра[173]. 1 января 1845 года Елизавета родила сына Павла[174]…
В сентябре 1848 года Жуковские окончательно переехали в Баден-Баден. Здесь в конце 1851 года поэт написал свое последнее стихотворение «Царскосельский лебедь». Он постоянно мечтал вернуться в Россию, даже разработал лучший маршрут поездки. Жуковский успел узнать о кончине в марте 1852 года Николая Васильевича Гоголя, с которым дружил и переписывался последние десятилетия жизни, и о том, как великий писатель сжег второй том «Мертвых душ».
Прочитав рассказ о последних часах Гоголя в пятом номере «Москвитянина», он был страшно поражен предсмертным криком писателя:
– Оставьте меня! Не мучьте меня!
Несколько часов после этого Василий Андреевич просидел в темноте в своем кабинете, затем вышел, лег на диван и уже не вставал. С каждым днем ему становилось все хуже и хуже. 12 апреля 1852 года в 1 час 37 минут ночи Василий Андреевич Жуковский умер.
Останки его вначале были положены в склепе на загородном кладбище Баден-Бадена. В августе того же года слуга Жуковского Даниил Гольдберг на пароходе отвез прах поэта в Петербург. Похоронили Василия Андреевича на кладбище Александро-Невской лавры рядом с Карамзиным и поэтом Козловым.
ДЖОРДЖ ГОРДОН БАЙРОН (1788-1824)
Джордж Гордон Байрон родился 22 января 1788 года в Лондоне. Мальчику сразу же дали двойную фамилию.

По отцу он стал Байроном. Родословная Байронов ведет начало от нормандов, которые поселились в Англии во времена Вильгельма Завоевателя и получили земли в графстве Ноттингем. В 1643 году король Карл I дал сэру Джону Байрону титул лорда. Дед поэта дослужился до чина вице-адмирала и славился своей неудачливостью. У него было прозвище Джек Непогода, поскольку, стоило его экипажу поднять паруса, как немедленно начиналась буря. В 1764 году на корабле «Дофин» Байрон был направлен в кругосветное плавание, но умудрился в ходе этой кампании открыть только острова Разочарования, хотя вокруг было еще множество неизвестных архипелагов – их не заметили. В единственном морском сражении, которое он провел как флотоводец, Байрон потерпел сокрушительное поражение. Больше командование флотом ему не доверяли.
Старший сын Джека Непогоды Джон Байрон окончил французскую военную академию, поступил в гвардию и почти ребенком участвовал в американских войнах. Там за храбрость он получил кличку Безумный Джек. Вернувшись в Лондон, Байрон совратил богатую баронессу Конэйерс и бежал с нею во Францию, где беглянка родила дочь, ее светлость Августу Байрон, единственную сводную сестру поэта (впоследствии Августа сыграла в судьбе Байрона зловещую роль), и умерла. У Безумного Джека не осталось средств к существованию, но удача не оставила повесу. Довольно скоро он встретил на модном курорте Бат богатую невесту Кэтрин Гордон Гайт. Внешне девушка была «страшненькой» – низенькая, толстенькая, длинноносая, чересчур румяная, но после кончины отца ей достались солидный капитал, родовое поместье, лососевые промыслы и акции Абердинского банка.
Древний шотландский род Гордонов состоял в родстве с королевской династией Стюартов. Гордоны славились своим бешеным нравом, многие закончили жизнь на виселице, причем одного из них, Джона Гордона-второго, повесили в 1634 году за убийство самого Валленштейна. Множество известных шотландских баллад повествуют о подвигах шальных Гордонов. Но к концу XVIII века род почти вымер. Прадед поэта утонул, дед – утопился. Чтобы род не исчез окончательно, сыну Кэтрин дали вторую фамилию – Гордон.
Джон Байрон женился на Кэтрин Гордон по расчету, она же страстно любила и одновременно ненавидела мужа до конца своих дней.
Новорожденный Джордж был очень красив, но как только он встал на ножки, родные с ужасом увидели, что мальчик хромает. Оказалось, что стеснительная мать во время беременности сильно перетягивала чрево, в результате плод занял неправильное положение, и во время родов его пришлось вытаскивать. При этом неизлечимо повредили связки на ножках ребенка.
Джон Байрон подло поступил со своей второй женой и ее сыном. Обманом он промотал и состояние, и поместье, и акции Кэтрин и сбежал во Францию, где умер в 1791 году в возрасте тридцати шести лет. Поговаривали, что авантюрист покончил с собой. Маленький Джордж никогда не забывал отца и восхищался его военными подвигами.
Кэтрин с младенцем Джорди переехала поближе к родным в шотландский город Абердин, где сняла за умеренную плату меблированные комнаты и наняла двух служанок – сестер Мэй и Агнессу Грэй. За мальчиком присматривала Мэй.
Ребенок рос добрым и послушным, но отличался крайней вспыльчивостью. Однажды нянька поругала его за испачканное платье. Джорди сорвал с себя одежду и, сурово глядя на Мэй Грэй, молча разорвал платье сверху донизу.
События в жизни маленького Байрона развивались очень быстро. В пять лет он пошел в школу; в девять лет Джордж впервые влюбился – в свою кузину Мэри Дюфф; а когда мальчику исполнилось десять лет, умер его двоюродный дед лорд Уильям Байрон, и титул пэра и родовое поместье Ньюстед Эбби под Ноттингемом перешли к Джорджу. Юному лорду был назначен опекун лорд Карлейл, который приходился Байрону дальним родственником. Мальчик с матерью и Мэй Грэй переехали в собственное имение. Старинный дом находился вблизи знаменитого Шервудского леса, на берегу большого озера, наполовину заросшего камышом.
Осенью 1805 года Байрон поступил в Тринити-колледж Кембриджского университета. Теперь он стал получать деньги на карманные расходы. Однако едва у юноши завелись деньги, Джордж забросил учебу, поселился в отдельно снятой квартире, завел себе любовницу из шлюх, нанял учителей бокса и фехтования. Узнав об этом, миссис Байрон закатила сыну грандиозный скандал и попыталась прибить его каминными щипцами и совком. Джорджу пришлось какое-то время прятаться от матери.
В Кембридже Байрон уже писал стихи. Однажды он показал свои сочинения Элизабет Пигот, сестре его друга по колледжу Джона Пигота. Девушка пришла в восторг и уговорила автора опубликовать его писания. В 1806 году Байрон издал для узкого круга друзей книжку «Стихи на случай». Через год последовал сборник «Часы досуга – автор Джордж Гордон лорд Байрон, несовершеннолетний». За эту книжку его зло высмеяли критики. Поэт был уязвлен до глубины души и некоторое время подумывал о самоубийстве.
4 июля 1808 года Байрон получил диплом магистра и покинул Кембридж. Он вернулся домой накануне своего совершеннолетия. Пришло время вступать в обязанности пэра. Молодой человек представился в палате лордов и принял присягу 13 марта 1809 года. Председательствовал лорд Илдон.
Почти сразу после этого Байрон и его самый близкий друг по Кембриджу Джон Кэм Хобхауз отправились в путешествие – через Лиссабон по Испании до Гибралтара, оттуда морем в Албанию, где их пригласил к себе известный своей храбростью и жестокостью турецкий деспот Али-паша Тепеленский. Резиденция паши находилась в Янине. Там Байрона встретил маленький седенький семидесятилетний старичок, который был известен тем, что поджаривал своих врагов на вертеле и однажды утопил в озере двенадцать женщин, не угодивших его невестке. Из Албании путешественники направились в Афины, далее они побывали в Константинополе, на Мальте… Только 17 июля 1811 года лорд Байрон вернулся в Лондон и ненадолго задержался там по личным делам, когда пришло известие, что 1 августа в Ньюстеде скоропостижно умерла от инсульта его мать.
Похоронив самого близкого человека, Байрон решил искать утешения в парламентской деятельности. 27 февраля 1812 года он выступил в палате лордов со своей первой речью – против законопроекта тори о смертной казни для ткачей, умышленно ломавших недавно изобретенные вязальные машины.
А в последний день февраля 1812 года произошло знаменательное событие в истории мировой поэзии. Дело в том, что из путешествия Байрон привез рукопись написанной спенсеровой строфой автобиографической поэмы, повествующей о печальном скитальце, которому суждено познать разочарование в сладостных надеждах и честолюбивых упованиях юности. Поэма называлась «Паломничество Чайльд Гарольда». Книга с двумя первыми песнями поэмы вышла в свет 29 февраля 1812 года, в этот день миру явился один из величайших поэтов Джордж Гордон Байрон.
Светское общество было потрясено шедевром. Несколько месяцев в Лондоне говорили только о Байроне, восторгались и восхищались им. Великосветские львицы организовали на поэта настоящую охоту.
Сноха хорошего знакомого Байрона лорда Мельбурна леди Каролина Лэм так описала свои впечатления от первой встречи с поэтом: «Злой, сумасшедший, с которым опасно иметь дело». Через два дня, когда Байрон сам приехал к ней в гости, Лэм записала в дневнике: «Это прекрасное бледное лицо будет моей судьбой». Она стала любовницей Байрона и не пожелала скрывать этого от лондонского общества. Поэт приходил к Каролине с утра и целые дни проводил в ее будуаре. В конце концов, на защиту чести лорда Лэма поднялись мать и свекровь леди Лэм. За помощью, как ни странно, женщины обратились к Байрону. Втроем они стали уговаривать Каролину вернуться к мужу. Но безумно влюбленная в поэта, леди ничего не желала слушать. Чтобы окончательно привести ее в чувства, Байрон попросил руки у двоюродной сестры Каролины Анабеллы Милбенк, однако в этот раз получил отказ.
Во время любовной эпопеи с Каролиной Лэм, когда бедняжка даже пыталась во время бала покончить с собой, Байрон совершил одно из самых постыдных деяний в его жизни. В январе 1814 года к нему в Ньюстед приехала погостить сводная сестра Августа. Джордж полюбил ее и вступил в кровосмесительную связь. Когда в начале сентября они расстались, Августа была беременной. Через неделю Байрон письмом вновь попросил руки у Анабеллы Милбенк и получил согласие.
Поэт Байрон не остановился на «Чайльд Гарольде». Следом он создал цикл «Восточных поэм»: «Гяур» и «Абидосская невеста» опубликованы в 1813 году, «Корсар» и «Лара» – в 1814 году.
Бракосочетание Байрона и Анабеллы Милбенк состоялось 2 января 1815 года. Через две недели в Лондон прикатила Августа, и началась «жизнь втроем». А вскоре стало известно, что состояние лорда Байрона сильно расстроено, что ему не на что содержать супругу. Долги кредиторам составляли астрономическую по тем временам сумму – почти 30 000 фунтов. Обескураженный Байрон озлобился на весь мир, запил, начал винить во всех своих бедах жену.
Напуганная дикими выходками супруга, Анабелла решила, что он впал в безумие. 10 декабря 1815 года женщина родила Байрону дочь Августу Аду, а 15 января 1816 года, взяв с собою младенца, уехала в Лестершир навестить родителей. Несколько недель спустя она объявила, что не вернется к мужу. Позднее современники утверждали, что Анабелле донесли о кровосмешении Байрона с Августой и о его гомосексуальных связях. Биографы, изучив многочисленные документы того времени, пришли к выводу, что подавляющее большинство грязных слухов о поэте исходило из окружения мстительной Каролины Лэм.
Байрон согласился жить с женой раздельно. 25 апреля 1816 года он навсегда выехал в Европу. В последние дни перед отъездом поэт вступил в любовную связь с Клэр Клермон, приемной дочерью философа Уолстонкрафта Годвина.
Сначала Байрон поселился в Женеве. Сюда к нему приехала и Клэр Клермон. Компанию девице составляли ее сводная сестра Мэри с мужем – Перси Биш Шелли. Байрон и раньше был знаком с творчеством Шелли, но знакомство их состоялось только в Швейцарии. Поэты подружились, Байрон испытывал отеческие чувства к быстро разраставшемуся семейству Шелли.
Друзья вместе посетили Шильонский замок. Оба были потрясены увиденным. По возвращении из экскурсии в одну ночь Байрон написал поэтический рассказ «Шильонский узник», а Шелли создал «Гимн духовной Красоте». В Женеве Байрон сочинил также третью песню «Чайльда Гарольда» и начал драматическую поэму «Манфред».
Слава обернулась для поэта своей скверной стороной. Узнав, что великий Байрон живет на берегу Женевского озера, сюда стали приезжать толпы любопытных туристов. Все чаще, выглядывая в окно, поэт натыкался на окуляры биноклей – любопытствующие высматривали, с какой женщиной теперь он живет. В конце концов эти преследования надоели. Когда 12 января 1817 года Клэр родила от Байрона дочь Аллегру, поэт уже жил в Италии, где спокойно закончил «Манфреда» и приступил к написанию четвертой песни «Чайльд Гарольда».
В Венеции Байрон арендовал дворец Мончениго на Большом канале. Именно здесь были созданы сатиры «Беппо» и «Дон Жуан». С Клэр Клермон Байрон расстался навсегда, но при первой же возможности выписал к себе маленькую Аллегру.
Поскольку поэту постоянно не хватало денег, осенью 1818 года он продал за 90 000 гиней Ньюстед, расплатился с долгами и смог начать спокойную обеспеченную жизнь. Ежегодно за издание своих произведений Байрон получал гигантские по тем временам деньги – 7000 фунтов, а если учесть, что он еще имел ежегодные проценты с прочей недвижимости в сумме 3 300 фунтов, то надо признать, что лорд был одним из богатейших людей Европы. Толстеющий, отпустивший длинные с проблесками первой седины волосы – таким представал он теперь перед своими венецианскими гостями.
Но в 1819 году к Байрону пришла последняя, самая глубокая любовь. На одном из светских вечеров поэт случайно познакомился с молодой графиней Терезой Гвиччиоли. Ее называли «тициановской блондинкой». Графиня была замужем, но супруг был старше ее на сорок четыре года. Когда синьор Гвиччиоли узнал об увлечении Байрона, он решил увезти супругу в Равенну, от греха подальше. Накануне их отъезда Тереза стала любовницей Байрона и этим фактически решила его дальнейшую судьбу.
В июне 1819 года поэт последовал за возлюбленной в Равенну. Он поселился в Палаццо Гвиччиоли и перевез туда малышку Аллегру. Видевший терзания дочери отец Терезы, граф Гамба, добился от папы римского разрешения для графини проживать раздельно с мужем.
Пребывание в Равенне стало для Байрона необычайно плодотворным: он написал новые песни «Дон Жуана», «Пророчество Данте», историческую драму в стихах «Марино Фальеро», перевел поэму Луиджи Пульчи «Большой Морганте»…
И тут в судьбу Байрона вмешалась политика. Граф Гамба и его сын Пьетро оказались участниками заговора карбонариев[175]. Они постепенно втянули в заговор и поэта, поскольку его деньги могли помочь их делу. Оказавшись участником рискованного дела, Байрон был вынужден в марте 1821 года отдать Аллегру в монастырскую школу в Баньякавалло. Вскоре власти Равенны раскрыли заговор, отца и сына Гамба изгнали из города. Тереза последовала за ними во Флоренцию.
Как раз в это время по Италии кочевала семья Шелли. Перси Биш уговорил Байрона приехать к нему в Пизу. Сюда пришло известие о том, что умерла теща Байрона, леди Ноэл. Она не сердилась на непутевого зятя и завещала ему 6000 фунтов, но при условии, что он возьмет имя Ноэл, поскольку и у этого рода не оставалось носителя имени. Так у поэта оказалась третья фамилия. Отныне полностью он стал именоваться Джордж Ноэл Гордон Байрон. А вскоре умерла покинутая отцом Аллегра. Это было самое страшное потрясение в последние годы жизни поэта.
Несчастья продолжали преследовать изгнанников. В мае 1822 года власти Пизы предложили им покинуть город. Перебрались в виллу близ Ливорно. Через три месяца здесь утонул Шелли, и на попечении Байрона остались Мэри и шестеро неуправляемых детей.
Несмотря ни на какие беды Байрон не оставлял творчество. Он намеревался создать более пятидесяти песен «Дон Жуана» и таким образом дать миру огромный плутовской роман. Закончить поэт успел только шестнадцать песен и написал четырнадцать строф семнадцатой песни.
Неожиданно лондонский «Греческий комитет» обратился к поэту с просьбой помочь Греции в войне за независимость. Рассчитывали на его деньги, но 15 июля 1823 года Байрон вместе с Пьетро Гамба и Э. Дж. Трелони выехал из Генуи на остров Кефалония. Поэт полностью профинансировал снаряжение греческого флота и в начале января 1824 года присоединился в Миссолунги к вождю греческого восстания князю Маврокордато. Под командование Байрону отдали отряд сулиотов[176], которым он выплачивал денежное довольствие из личных средств.
В Греции Байрон простудился, искупавшись в море в холодной воде. Начались боли в суставах, затем они переросли в конвульсии. Врачи поговаривали о приступе эпилепсии. Через какое-то время наступило улучшение, и сильно скучавший Байрон пожелал совершить небольшую конную прогулку. Едва он отъехал на сравнительно большое расстояние от дома, пошел сильный холодный ливень. Через два часа после возвращения с прогулки у поэта началась лихорадка. Промучившись несколько дней в горячке, Джордж Ноэль Гордон Байрон скончался 19 апреля 1824 года на тридцать седьмом году жизни. 16 июля того же года останки поэта были похоронены в родовом склепе Байронов.
Леди Анабелла Байрон умерла 16 мая 1860 года, через тридцать шесть лет после мужа.
Судьба и творчество Байрона оказали огромное влияние на европейское общество первой половины XIX века. Это явление получило в истории название байронизма. Яркими носителями байронизма стали величайшие поэты России – А. С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов. Пушкин, в частности, не скрывал, что «Евгения Онегина» он писал во многом под воздействием творчества английского гения.
На русский язык произведения Байрона перевели В. А. Жуковский, А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, А. Н. Майков, Л. А. Мей, А. А. Фет, А. Н. Плещеев и многие другие выдающиеся поэты.
ПЕРСИ БИШ ШЕЛЛИ (1792-1822)
Бурная скандальная жизнь Перси Биш Шелли и его ужасная трагическая смерть сделали поэта своеобразным символом разбушевавшегося порока и заслуженного возмездия. Виновен ли Шелли в такой жесткой оценке? Трудно сказать. Но редкий порок не приписан ему нашими современниками, особенно любителями интеллектуального фантазирования.

Родился будущий поэт 4 августа 1792 года в Филд-Плейс (графство Суссекс). Он был старшим из семерых детей состоятельного землевладельца Т. Шелли, впоследствии возведенного в баронеты.
После сравнительно безоблачного раннего детства Перси Биш учился в привилегированных школах в Сайон-Хаусе близ Лондона и в Итоне. В октябре 1810 года юноша поступил в Юниверсити-колледж Оксфордского университета. Здесь Шелли живо интересовался логикой, этикой, метафизикой и критикой христианства и свел дружбу с Т. Дж. Хоггом (1792-1862), который разделял многие его увлечения, хотя и уступал в остроте ума. Друзья стали закоренелыми атеистами и в начале 1811 года анонимно выпустили брошюру под названием «Необходимость атеизма», в которой утверждали, что бытие Божие нельзя обосновать рационально. Откровенное глумление над Богом вызвало возмущение у руководства университета. Авторов брошюры вычислили быстро, но они отказались признаться в содеянном. Тогда 25 марта 1811 года обоих заслуженно исключили из университета.
Отец Шелли был возмущен недостойным поведением сына. Но окончательный разрыв с родителями произошел летом того же года после бегства молодого человека с одноклассницей его сестер Гарриет Уэстбрук. В Эдинбурге Перси и Гарриет обвенчались.
Шла затяжная война против Наполеона. Как обычно в тяжелые для Великобритании времена, борцы за независимость Ирландии устраивали раскольническую возню. Неприкаянный бездельник Шелли поспешил поучаствовать в смуте и прихватил с собой юную супругу. Он колесил по Шотландии, Англии, Ирландии и Уэльсу, нигде не задерживался подолгу, много читал и с мыслью о близящемся освобождении человечества одну за другой публиковал «свободолюбивые» брошюры.
Как и прочие ранние произведения, проза Шелли того периода была весьма слабой, к тому же носила политический и антирелигиозный характер. Бунтарские настроения присущи и его первым литературным произведениям – анонимно изданным готическим романам «Застроцци» (опубликован в 1810 году) и «Сент-Эрвин» (опубликован в 1811 году), сборнику стихов «Подлинные стихотворения Виктора и Казиры» (1810, совместно с сестрой Элизабет), ранним политическим стихотворениям.
Шелли познакомился с автором «Исследования о политической справедливости» Уолстонкрафтом Годвином и с философом Дж. Ф. Ньютоном, разрабатывавшим далекие от канонических теории религии и морали. Каждый из них оказал огромное влияние на мировоззрение Шелли и в известной степени – на всю его дальнейшую жизнь.
1813 год ознаменовался для Перси анонимным изданием его первого значительного произведения – поэмы «Королева Маб» и рождением дочери Ианты. К тому времени семейная жизнь Шелли основательно расстроилась, а после того как в июле 1814 года поэт познакомился с дочерью Годвина Мэри, окончательно развалилась. Мэри шел семнадцатый год, Перси – двадцать второй. Молодые люди полюбили друг друга.
Шелли предложил Гарриет развестись, но та категорически отказалась. Тогда 28 июля 1814 года влюбленные сбежали и уехали на континент. С того времени Перси и Мэри считали это число своим общим днем рождения и до конца совместной жизни праздновали только его. Более того, с 28 июля 1814 года влюбленные стали вести общий дневник!
В декабре 1814 года покинутая мужем безутешная Гарриет преждевременно родила от Шелли сына Чарлза. Через три месяца Мэри тоже родила первенца, но мальчик умер в младенчестве.
И вот наступил 1816 год, который мистически настроенные фантазеры называют роковым годом Перси Биш Шелли – годом, когда великий поэт продал душу дьяволу. В начале года у Мэри родился еще один сын – Уильям. Летом любовников пригласил к себе Байрон, и они гостили у сумрачного гения в Швейцарии. Здесь никогда не поднимавшийся ранее до подобных поэтических высот Шелли создал сразу четыре шедевра англоязычной литературы – стихотворения «Гимн Интеллектуальной Красоте» и «Монблан», а также поэмы «Аластор, или Дух одиночества» (начата в 1815 году) и «Лаон и Цитна», впоследствии переименованная в «Восстание Ислама».
Видимо, именно в Швейцарии и произошел спор между Мэри Шелли и Байроном о том, кто создаст лучшее произведение о привидениях. Как известно, верх одержала Мэри, написавшая с помощью Перси Шелли «Франкенштейна». Это произведение положило начало жанру романов ужаса.
В конце года покончила жизнь самоубийством Гарриет. Едва новость достигла любовников, как они поспешили вступить в законный брак. Случилось это 30 декабря.
Мэри втянула в свой распутный мир сестру Клэр Клермон, которая в 1818 году родила от Байрона внебрачную дочь. Шелли пришлось взять на содержание и мать, и младенца, поскольку Годвин отказался от развратных дочерей. В октябре Мэри родила дочь Клару, и Перси в пятый раз стал отцом.
Далее оставаться в Англии семейству Шелли не было смысла. Поэт много болел, ему надо было зарабатывать средства на содержание семьи. Единственное, что его еще здесь удерживало, были дети от Гарриет, но в марте 1819 года суд отдал их на воспитание родителям несчастной женщины, а те запретили Шелли приближаться к их дому.
Долгожданный отъезд в Италию не изменил кочевого образа жизни заблудшего семейства. Едва ли между Миланом и Неаполем найдется большой город или морской курорт, где бы Шелли не останавливались на протяжении последних четырех беспокойных лет их жизни.
В Венеции умерла Клара. В Неаполе Шелли удочерил младенца Елену – она прожила пять месяцев и тоже умерла. В Риме умер сын Уильям. Во Флоренции Мэри родила четвертого сына – Перси. Задержались Шелли в Пизе, где в относительном покое они прожили бoльшую часть 1820-1822 годов.
Примерно к этому периоду относится история, характеризующая отношения в этой странной семье. Друг поэта богоборец Хогг влюбился в Мэри. Женщина поставила об этом в известность Перси. И тогда Шелли предложил ей начать под его руководством любовную переписку с молодым человеком, поскольку вздумал поэкспериментировать с любовью втроем.
Но Мэри эта идея не нравилась, она буквально вымучивала из себя каждое послание. В конце концов Шелли был вынужден отказаться от своей затеи ради сохранения семьи. Роман закончился, едва успев начаться.
В Европе Перси Биш Шелли создал более восьмидесяти прекрасных лирических стихотворений, сделал множество переводов, написал ряд крупных и сложных поэтических произведений, а также известный трактат «Защита поэзии». Наиболее известные шедевры поэта: стихотворная повесть «Розалинда и Елена», камерная лирическая драма «Освобожденный Прометей», поэма «Юлиан и Маддало», романтическая трагедия «Ченчи», поэма «Маскарад Анархии», драматические сатиры «Питер Белл Третий» и «Царь Эдип, или Тиран-толстоног», мифологическая поэма «Атласская колдунья», лирическая драма «Эллада», элегия в память Джона Китса «Адонаис», незавершенная поэма «Торжество жизни», в которой поэт попытался изложить своего рода духовную историю западной цивилизации.
8 июля 1822 года Перси Биш Шелли, его друг лейтенант Э. Э. Уильямс и матрос Ч. Вивиан отплыли из Ливорно на недавно купленной поэтом парусной шлюпке «Дон Жуан». Они намеревались прогуляться вдоль побережья. Во второй половине дня начался шторм. Примерно в десяти милях от Виареджо, в заливе Специя шлюпка столкнулась с фелюгой из Ливорно. Все пассажиры «Дон Жуана» утонули. Через некоторое время их сильно покалеченные тела прибило к берегу.
Лорд Байрон, Ли Хант и Э. Дж. Трелони 13 августа 1822 года торжественно сожгли тела Шелли и Уильямса на костре. В начале 1823 года прах Шелли захоронили на протестантском кладбище в Риме, рядом с могилой погребенного незадолго до того Джона Китса.
После гибели мужа Мэри смогла написать только «Воспоминания». Все последующие годы вдова посвятила творчеству мужа и очищению его светлого имени от клеветы.
Мэри Шелли умерла 1 февраля 1851 года в возрасте пятидесяти трех лет. Несколько последних лет она была неподвижна, ее разбил паралич.
Лучше переводы произведений Перси Биш Шелли на русский язык были сделаны К. Д. Бальмонтом.
ДЖОН КИТС (1795-1821)
Жизнь выдающегося английского поэта Джона Китса была короткой и неприметной, вдали от эпохальных бурь и людских страстей. Фактически это была продолжительная агония умирающего человека в окружении умирающих людей. За двадцать пять лет своей короткой жизни поэт пережил смерть стольких близких людей, сколько мало кому довелось и в пятидесятилетнем возрасте. Эта уготованная судьбой печаль неизбежно сказалась на творчестве Китса. Первый биограф и первый издатель поэта Ричард Монктон Милнз (впоследствии лорд Хотон) так одной фразой описал его жизнь: «Несколько верных друзей, несколько прекрасных стихотворений, страстная любовь и ранняя смерть».
Литературная деятельность Китса продолжалась немногим более шести лет (1814-1819) и кончилась тогда, когда для него только наступала пора зрелости. Поэт перестал творить за год до своей смерти.

Джон Китс родился 31 октября 1795 года в Финсбери[177].
Он был первенцем Томаса и Фрэнсис Китс. У Джона были еще три младших брата – Джордж (1797-1841), Томас (1799-1818), Эдвард (1801-1802) – и сестра Фрэнсис Мэри (1803-1889). В молодости отец будущего поэта служил на платной конюшне, принадлежавшей Джону Дженнингсу, затем женился на дочери хозяина и стал управляющим.
С восьми лет Джон был отдан в престижную частную закрытую школу преподобного Джона Кларка в Энфилде (к северу от Лондона). Сын директора школы Чарльз Кауден Кларк, в более поздние годы видный литератор, был учителем и другом Китса. Он первый познакомил мальчика со старой английской поэзией. Джон увлекся стихотворчеством и даже взялся за собственный перевод «Энеиды» Вергилия. Да и в целом дела у мальчика шли неплохо, но 16 апреля 1804 года Томас Китс погиб в результате несчастного случая, и дети остались сиротами.
Мать недолго печалилась о безвременно ушедшем супруге и 27 июня того же года вторично вышла замуж – за Уильяма Роллингса. Отчим не захотел содержать детей Китса. Фрэнсис пришлось отдать их на воспитание к своим родителям в Энфилде.
Почти через год, 8 марта 1805 года умер дедушка – Джон Дженнингс. Кстати, именно в его честь и был назван первенец Китсов. Дед оставил семье небольшое состояние. Бабушка с детьми переселилась в Эдмонтон, неподалеку от Энфилда. Здесь младшие Китсы тихо и дружно жили, пока в марте 1810 года не умерла от туберкулеза их мать, и они остались круглыми сиротами. К сожалению, Фрэнсис успела заразить неизлечимой тогда болезнью своих сыновей Томаса и Джона.
Опекунами несовершеннолетних Китсов были определены Джон Науленд Сэнделл и Ричард Эбби, оба почтенные и уважаемые в округе люди. В отличие от трагических историй из душещипательных романов оба опекуна честно и искренне заботились о сиротах. После смерти Сэнделла в 1816 году все заботы о молодых людях взял на себя Ричард Эбби, зажиточный чаеторговец.
Летом 1811 года шестнадцатилетний Джон Китс покинул школу в Энфилде и поступил в обучение к хирургу и фармацевту Томасу Хэммонду в Эдмонтоне. Именно в годы учебы у Хэммонда юноша окончательно оформился как поэт. В 1814 году Китсом был создан ряд стихотворений, в частности известный сонет «Как голубь из редеющего мрака…», написанный по случаю смерти бабушки Алисы Дженнингс (урожденной Уолли).
В октябре 1815 года началась стажировка Джона в лондонском госпитале Гая. Одновременно молодой человек не оставлял усиленные занятия поэзией. У него появились связи в литературном и художественном мире Лондона. Китс познакомился с поэтом и журналистом Ли Хантом (1784-1859), издателем популярного еженедельника «Наблюдатель», с художниками Б. Р. Хейдоном (1786-1846) и Дж. Северном (1793-1879), которые стали его близкими друзьями.
Впервые произведение Джона Китса было опубликовано Хантом еще до их личного знакомства. 5 мая 1816 года в «Наблюдателе» появился сонет «К одиночеству». Тогда же началась дружба Китса с Перси Биш Шелли.
Стажировка будущего хирурга близилась к концу. В июле 1816 года Джон сдал экзамены и получил право по достижении совершеннолетия практиковать в качестве хирурга и фармацевта. Опекун Эбби был доволен – его долг перед покойными друзьями медленно, но неуклонно исполнялся. И неожиданно коса нашла на камень. Однажды во время операции Джон Китс поймал себя на том, что достаточно длительное время думал не о больном и о последовательности своих действий, а сочинял стихотворение. Молодой человек испугался. С одной стороны, так можно погубить невинного человека, с другой стороны, видимо, главное призвание его жизни – поэзия. И Джон объявил о том, что оставляет врачебную практику.
Эбби был в шоке, он умолял, уговаривал своего подопечного одуматься, но безрезультатно. Китс бесповоротно ушел из медицины. В этом решении Джона поддержал Ли Хант. Молодой человек был окрылен поддержкой нового друга и посвятил ему свой первый поэтический сборник, озаглавленный «Стихотворения», который вышел в марте 1817 года.
Критика отнеслась к молодому поэту одобрительно, но Китс ожидал большего. В апреле 1817 года он уехал из Лондона, чтобы в уединении работать над поэмой «Эндимион». Она была опубликована через год и неожиданно подверглась жесткой критике в ведущих литературных журналах. Обозреватели литературных отделов объявили поэму «спокойным, невозмутимым, слюнявым идиотизмом» и советовали «Джонни» оставить стихи и «вернуться к своим склянкам и пилюлям».
К тому времени в настроениях Китса произошли значительные перемены. Он стал тяготиться опекой Ханта. Сам ли поэт, или по чьей-то подсказке, но Китс вдруг заметил поверхностность суждений уже немолодого покровителя, его в определенной мере легкомысленность и самонадеянность. У Джона появился новый учитель – видный радикал Уильям Хэзлитт (1778-1830). Блестящий критик, знаток Шекспира, историк английской поэзии и театра, политический писатель, он бесстрашно нападал на лиц, облеченных высшей властью, и на важнейшие общественные институты Великобритании.
Под влиянием Хэзлитта Китс создал поэму «Изабелла, или Горшок с базиликом» на сюжет пятой новеллы четвертого дня «Декамерона» Боккаччо.
В конце июня 1818 года уехал в Америку второй по старшинству брат Китса – Джордж. Он был уже женат, и на отъезд подвигла молодого человека его супруга Джорджиана. Джон проводил супругов до Ливерпуля. Он мучительно переживал это расставание, поскольку на руках у него оставался тяжело больной младший брат Томас, да и сам поэт не мог похвастать крепким здоровьем.
Чтобы немного развеяться, Китс в компании своего друга Чарльза Брауна отправился в пешее путешествие по Озерному краю, Шотландии и Ирландии. Он посетил могилу Бёрнса в Дамфрисе и его домик в Эре. Поездку пришлось срочно прервать – на острове Малл Джон сильно простыл, как оказалось впоследствии, эта простуда спровоцировала у него скоротечный туберкулез.
Дома поэт застал умирающего от чахотки Томаса. У постели агонизирующего брата, чтобы хоть немного отвлечься, Китс начал сочинять поэму «Гиперион», навеянную творчеством Мильтона. Великое произведение осталось неоконченным – Китс завершил лишь две первые книги. Работа над поэмой была прервана смертью брата.
Томас Китс умер 1 декабря. Потрясенный до глубины души Джон решил переселиться в Хэмпстеде к Чарльзу Брауну, вместе с которым он решил написать пьесу «Оттон Великий». Соседкой Брауна была милая восемнадцатилетняя девушка по имени Фанни Брон (1800-1865). При первой встрече она очень не понравилась Китсу, но уже через неделю он был очарован ею. 25 декабря 1818 года поэт сделал Фанни предложение, а в июле 1819 года состоялась помолвка. История их любви отражена в замечательных письмах поэта, принадлежащих, как и большинство его писем, к шедеврам английской эпистолярной прозы.
1819-й – последний творческий год в жизни поэта. Начался он с завершения романтической поэмы «Канун Святой Агнессы». Но великим взлетом поэтического гения Джона Китса стали апрель и май, когда им были созданы пять од. Четыре из них – «Ода Психее», «Ода Соловью», «Ода греческой вазе» и «Ода Меланхолии» признаны вершинами англоязычной поэзии.
Летом и осенью Китс написал трагическую поэму «Ламия» и переработал «Гиперион», новый вариант известен под названием «Падение Гипериона. Видение».
После сентября 1819 года Китс ничего значительного не создал. Материальное его положение ухудшилось по вине брата Джорджа. С конца года поэт все чаще ощущает нездоровье, утомление, все труднее и мучительнее его борьба за существование, непрестанная нужда и зависимость от друзей. В письмах его все сильнее звучат пессимистические мотивы; начатые осенью сатирическая поэма «Колпак с бубенцами» и трагедия «Король Стефан» остались незавершенными.
В январе 1820 года в Лондон приехал Джордж Китс. Почти месяц длилась последняя встреча братьев. 3 февраля Джон проводил Джорджа до Ливерпуля, а по возвращении домой у него открылось сильнейшее легочное кровотечение. Понимая, что долго ему не протянуть, Китс попытался расторгнуть помолвку с Фанни Брон, но девушка категорически отказалась с ним расставаться.
В начале июля 1820 года вышла в свет последняя прижизненная книга поэта – «“Ламия”, “Изабелла”, “Канун святой Агнессы” и другие стихи».
Осенью, поскольку здоровье Китса неуклонно ухудшалось, он по настоятельным советам врачей отправился на лечение в Италию. 18 сентября в сопровождении художника Джозефа Северна поэт отплыл из Грейвзэнда, а 15 ноября путешественники прибыли в Рим. К этому времени состояние Китса было безнадежным.
30 ноября поэт написал свое последнее письмо. С 10 декабря течение его болезни резко обострилось.
Джон Китс умер в Риме 23 февраля 1821 года. Похоронили его на римском протестантском кладбище.
Байрон совершенно необоснованно утверждал, что в смерти Китса повинна злобная критика в английских журналах, травившая молодого поэта. Потрясенный ранней смертью приятеля, Шелли посвятил ему одно из самых замечательных своих произведений – элегию «Адонаис» (1821).
О Джоне Китсе забыли почти на тридцать лет. Но в 1848 году вышла в свет биография поэта, затем издали его сочинения. И к Китсу пришла заслуженная повсеместная слава. На его могиле установили примечательный памятник, а дома в Риме и в Хэмпстеде, где он жил, стали музеями.
На русский язык поэзию Джона Китса переводили К. И. Чуковский, Б. Л. Пастернак, В. Левик, С. Я. Маршак и многие другие замечательные отечественные переводчики.
АДАМ МИЦКЕВИЧ (1798-1855)
Биография Адама Мицкевича столь политизирована, столь искажена выдумками и «догадками» биографов, начиная с первых и завершая современными, что для ее объективного изложения приходится приложить большие усилия и ограничиться преимущественно хронологией событий. Объясняется такое положение прежде всего тем, что большинство зарубежных биографов сосредоточили внимание преимущественно на обвинениях русских в «мучительстве» великого поляка, а революционно-демократические и советские историки – на клеймлении «злобного» царизма.
Предварительно отметим, что замечательный польский поэт в Польше практически не жил и, когда у него появилась такая возможность, предпочел уехать в Париж.

Адам Мицкевич родился 24 декабря 1798 года на хуторе Заосье близ Новогрудка[178].
Мать поэта, урожденная Барбара Маевская, была дочерью мелкого служащего. Отец, Миколай Мицкевич, работал в Новогрудке судейским землемером, а также у него была адвокатская практика. Мицкевич-старший участвовал в восстании Тадеуша Костюшко и всю жизнь мечтал об освобождении Польши от «русского ига».
В семье росли четверо сыновей – старшие Франтишек и Адам и младшие Александр и Георг.
Весной 1804 года страдающий от «русского ига» Миколай Мицкевич купил в Новогрудке усадьбу и построил там деревянный дом, «лучший во всем городе, в котором только монастыри и костелы были каменными».
В раннем детстве воспитанием мальчиков занимались няня Гансевская и старый слуга Блажей. От них Адам впервые услышал белорусские и литовские народные песни, сказки, легенды. Позднее вместе со старшим братом Адам учился в доминиканской школе в Новогрудке, где написал свои первые стихи.
Миколай Мицкевич очень надеялся на то, что придет Наполеон и разгромит Россию. Эти же надежды он внушал своим сыновьям. Однако отец не дождался начала войны с французами и умер. Братья же Мицкевичи с восторгом ловили каждую весточку о походе Наполеона и стали свидетелями позорного бегства французской армии. Эти горькие, трагические впечатления оставили глубокий след в душе Адама.
После смерти отца семья испытала сильнейшую материальную нужду, и Адаму пришлось стать репетитором для учеников младших классов.
Бедность не помешала юноше поступить в 1815 году за счет государства на физико-математический факультет Виленского университета. Через год он перешел на историко-филологический факультет.
В университете одним из учителей Мицкевича был знаменитый историк Иоахим Лелевель[179], с которым поэт впоследствии поддерживал теплые дружеские отношения. Мицкевич выучил несколько языков, в том числе русский, французский, английский и немецкий, свободно читал в оригинале памятники античной литературы.
В 1817 году Адам с товарищами организовали «тайное» студенческое «Общество филоматов»[180]. Согласно уставу члены общества должны были любить родной язык, хранить национальное достоинство и сочувствовать обездоленным. Со временем из «Общества филоматов» выделилось более конспиративное «Общество филаретов»[181].
В университетские годы Мицкевич впервые опубликовал произведение собственного сочинения. В журнале «Тыгодник Виленский» в 1818 году увидело свет стихотворение «Зима».
Во время летних каникул того же 1818 года, будучи случайно в имении Тугановичи, Адам познакомился с Марылей Верещак, девушкой, чей образ он хранил в душе на протяжении всей жизни. Марыля стала музой многих произведений поэта. Любовь была взаимной. Однако родители девушки настояли на ее помолвке с графом Путкамером. За него Марыля и вышла замуж. Известие о свадьбе возлюбленной стало тяжелым ударом для Мицкевича.
В 1819 году Адам закончил Виленский университет. Поскольку обучение происходило на государственный счет, он был по распределению направлен в маленький провинциальный городок Ковно[182] учителем. О службе поэта в провинции один из его друзей писал: «Адам до сих пор продолжает преподавать в Ковно. Двадцать уроков в неделю совершенно изнуряют его; он все время страдает бессонницей». Однообразные, серые будни. Газеты приходили с опозданием. «Порою хандра и злость так велики, что достаточно добавить две унции, чтобы помешаться или повеситься». В добавление ко всем несчастьям в Ковно пришло известие о смерти любимой матери. В те дни Мицкевич записал: «Мать – это была моя величайшая тревога и вся моя услада, все мое утешение!… Я остался один».
В Ковно был создан поэтический цикл «Баллады и романсы», который составил основное содержание первого стихотворного сборника Мицкевича «Поэзия», который вышел в свет в Вильно в 1822 году. Через год появился новый сборник, в который вошли две поэмы – «Гражина» (посвящена борьбе Литвы с Тевтонским орденом) и «Дзяды»[183] (2 и 4 части). 1-я часть «Дзяд» была найдена только после смерти поэта, а 3-ю часть Мицкевич издал гораздо позднее. Оба сборника обозначили начало романтического периода в польской поэзии.
Тем временем назревали важные политические события. С 1813 года фактическим правителем Польши был выдающийся русский государственный деятель Николай Николаевич Новосильцев[184]. Он внимательно следил за националистическим движением в Польше. Особенно опасной он считал аристократическую оппозицию, которую возглавлял князь Адам Чарторыйский[185], близкий друг императора Александра I и императрицы Елизаветы Алексеевны. Ходили даже слухи, будто у Елизаветы родилась дочь от Чарторыского. Князя необходимо было отстранить от польских дел, но для этого нужен был серьезный повод.
Новосильцев искал различные подходы к неуязвимому князю. Все знали, что Чарторыский часто бывал в Виленском университете, посещал лекции и «развращал политически учащуюся молодежь». Решено было провести в университете дознание. Так вышли на юных болтунов из «Общества филоматов». Сами по себе филоматы только смешили матерых сановников, но в политической борьбе все средства хороши. Решено было попугать Александра I заговором. Среди арестованных оказался и Адам Мицкевич.
В 1834 году поэта на девять месяцев посадили в келью Базилианского монастыря в Вильно, поскольку тюрьмы там не было. Затем его и других филоматов отправили в ссылку по маршруту Петербург – Москва – Одесса – Крым – Москва – Петербург – и далее Рим – Дрезден – Париж.
За четыре с половиной года пребывания в России Мицкевич издал пять книг, в том числе двухтомник избранных произведений, написал «Крымские сонеты» (1826) и эпическую поэму в байроновском духе «Конрад Валленрод» (1828); овладел итальянским языком; вращался в обществе выдающихся людей; имел свою кухню и повара; часто влюблялся (наиболее известен его роман с графиней Каролиной Собаньской[186]); чуть не женился, но при этом страдал «по своей истерзанной горем родине». Всюду поляков принимали с распростертыми объятиями. Особенно подружился Мицкевич с А. С. Пушкиным, приветствовали его и будущие декабристы.
В 1829 году поэт получил разрешение поселиться в его многострадальной родине – и сразу оказался в Риме, где жил до 1831 года. В Вечном городе в декабре 1830 года на балу он случайно узнал, что Польша находится в состоянии войны с Россией. Восстание в Варшаве началось вечером 29 ноября 1830 года как военный переворот, но быстро превратилось, по словам польских историков, в массовое движение. Правда, документы этого не подтверждают.
Император Николай I решил лично разобраться с требованиями восставших. В январе 1831 года в Петербург прибыла делегация сейма. Николай принял ее в Зимнем дворце. Парламентеры заявили свои права на правобережную Украину, включая Киев, в придачу потребовали Литву и часть Белоруссии. Николай остановил оратора на середине речи и коротко сказал:
– Господа, историю я знаю не хуже вас. Мои условия: полное разоружение. Наказание понесут только зачинщики. И передайте этим… из сейма… И князю Чарторыйскому. Ежели ваши пушки станут стрелять по России, то попадать они будут по Польше.
Война длилась девять месяцев. Мицкевич объявил, что восстание не может дать положительных результатов и что оно будет иметь пагубные последствия.
Несмотря на столь прискорбное мнение, поэт все-таки вознамерился присоединиться к восставшим. Но по дороге в Варшаву он влюбился в графиню Констанцию Лубенскую. Начался роман. И Мицкевич предпочел остаться в ее поместье, где в перерывах между любовными утехами он охотился на кабанов. Ему даже приписывают такую фразу: «Я не любитель охоты, но смекаю: лучше выслеживать четвероногих, чем двуногих».
От Любенской Мицкевич прямым ходом направился в Дрезден, где собрались состоятельные мятежники, издалека наблюдавшие агонию польского восстания. Уж наговорились и напротестовались там всласть! Прусское правительство предпочло прогнать болтунов из своей страны.
В середине 1832 года Мицкевич уехал в Париж, где в 1834 году женился на Целине Шимановской, дочери знаменитой пианистки. Отныне его главной заботой стало содержание молодой супруги. Фридерик Шопен познакомил Мицкевича со своей любовницей Жорж Санд, которая взялась помочь поэту поставить несколько пьес, но все эти потуги кончились неудачей.
В течение 1832-1834 годов Мицкевичем были созданы две его величайшие поэмы – 3-я часть «Дзядов» и «Пан Тадеуш».
Поэмой «Пан Тадеуш» завершился творческий путь Мицкевича как художника слова. Он практически перестал писать стихи.
У жены Мицкевича обнаружилась душевная болезнь, и ее время от времени клали в лечебницу. Впрочем, это не мешало ей рожать детей – у Мицкевича было три сына и четыре дочери.
Поэт очень страдал из-за болезни Целины. В 1841 году его познакомили с Анджеем Товянским[187], и тот, обладая гипнотическим даром, успешно излечил несчастную женщину. Случившееся произвело на поэта столь сильное впечатление, что он искренне уверовал в мессианское учение Товянского и стал активным членом его секты. По этому поводу в одном из писем Шопен сетовал: «Мицкевич как адепт Товянского очень меня тревожит. То, что Товянский, как ловкий мошенник, одурманив дураков, тянет их за собой, может вызвать только смех, но Мицкевич – возвышенная душа и мудрая голова – как он этого мошенника не разгадал и не высмеял…»
Примерно с середины 1841 года поэт стал проповедовать идеи польского мессианизма. Мицкевич утверждал, что у Польши особая роль в судьбе народов мира. Свою философию он изложил в публицистическом произведении «Книги польского народа».
Некоторое время Мицкевич был профессором славянской литературы в парижском Коллеж де Франс. Однако за пропаганду товянизма французское правительство в 1845 году отстранило его от чтения лекций, а в 1852 году философа отправили в отставку.
Через два года началась Крымская война. В 1855 году Мицкевич под видом научной командировки уехал в Константинополь, где намеревался организовать польский легион для помощи французам и англичанам в войне против русских крестьян, составлявших основу защитников Севастополя.
В Турции Адам Мицкевич заразился холерой и умер 26 ноября 1855 года. В 1856 году прах поэта был перевезен в Париж, а в 1890 году его вывезли в Краков и поместили в саркофаг в Вавельском кафедральном соборе.
На русский язык произведения Адама Мицкевича переводили А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов, В. Я. Брюсов, В. Ф. Ходасевич, Н. Н. Асеев, П. Г. Антокольский, Д. Б. Кедрин, А. А. Тарковский, Ф. Вермель и другие.
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ПУШКИН (1799-1837)
«…Пушкин – наше все: Пушкин – представитель всего нашего душевного, особенного, такого, что остается нашим душевным, особенным после всех столкновений с чужим, с другими мирами. Пушкин – пока единственный полный очерк нашей народной личности, самородок, принимавший в себя, при всевозможных столкновениях с другими особенностями и организмами, – все то, что принять следует, отбрасывавший все, что отбросить следует, полный и цельный, но еще не красками, а только контурами, набросанный образ народной нашей сущности, – образ, который мы долго еще будем оттенять красками. Сфера душевных сочувствий Пушкина не исключает ничего до него бывшего и ничего, что после него было и будет правильного и органически – нашего… Пушкин-то и есть наша такая, на первый раз очерком, но полно и цельно обозначившаяся душевная физиономия, физиономия, выделившаяся, вырезавшаяся уже ясно из круга других народных, типовых физиономий, – обособившаяся сознательно, именно вследствие того, что уже вступила в круг их. Это – наш самобытный тип, уже мерявшийся с другими европейскими типами, переходивший сознанием те фазы развития, которые они проходили, но братавшийся с ними сознанием, – но вынесший из этого процесса свою физиологическую, типовую самостоятельность»[188].

Я начал рассказ с большой цитаты из работы Аполлона Григорьева, потому что первые слова ее знают почти все, а о продолжении слышали единицы. В результате каждый перевирает великую идею, четко оформившую значение Пушкина в нашем мире и в нашей жизни, кто как хочет.
Аполлон Григорьев не просто указал нам на значение Пушкина для России, он показал значение Великого поэта в жизни каждой нации, и его слова во многом, если не во всем, можно отнести ко многим поэтам, о ком рассказано в этой книге.
Идею Григорьева подхватил Федор Михайлович Достоевский в своей знаменитой речи 8 июня 1880 года в Колонном зале Дворянского собрания на публичном заседании Общества любителей российской словесности, посвященном открытию в Москве памятника А. С. Пушкину. В этой же речи Достоевский воскликнул:
– Смирись, гордый человек, потрудись, праздный человек!
Этими словами великий романист, быть может, и сам того не подозревая, подчеркнул жертвенное место Первого поэта народа в нашем вечно конфликтующем мире и нашу общую священную обязанность хранить и защищать его светлую память.
Счет книгам, статьям и прочим исследованиям о жизни Александра Сергеевича уже давно идет на сотни тысяч. Поэтому в данной статье я расскажу только общую канву его биографии, предоставляя читателю возможность ознакомиться с историей жизни поэта в более объемных изданиях.
Александр Сергеевич Пушкин родился 26 мая 1799 года в Москве. Отец его, Сергей Львович (1771-1848), был отставной майор; мать, Надежда Осиповна (1775-1836), происходила из рода знаменитого арапа Петра I Абрама Петровича Ганнибала.
В детстве ребенком занималась преимущественно няня Арина Родионовна[189].
В 1811 году Пушкина отдали в только что открывшийся и самый престижный по тем временам Царскосельский лицей, которому покровительствовал император Александр I. Попасть в него было весьма сложно, поскольку в лицее предполагалось готовить будущих государственных деятелей. Протекцию юному Саше составил А. И. Тургенев[190].
Мальчик был шаловливым, острым на язык, доставлял много хлопот своим учителям и друзьям-лицеистам, почему получил в лицее кличку «Обезьяна». Все шалости, к счастью, сходили юному поэту с рук.
В 1815 году на экзамене Пушкин поразил своим стихотворением «Воспоминание о Царском Селе» великого Г. Р. Державина.
По окончании лицея Александр Сергеевич был определен в Коллегию иностранных дел в чине коллежского секретаря[191].
С 1818 года Пушкин стал участником кружка «Зеленая лампа»[192]. Среди членов кружка у поэта было много друзей впоследствии ставших декабристами. Почему Пушкин к ним не присоединился? Существует много версий. Основная – понимавшие значение творчества поэта для России, товарищи решили им не рисковать – звучит неубедительно. Наиболее правдоподобная – декабристское движение выросло из «Общества друзей императрицы Елизаветы Алексеевны», которое возникло с целью свержения Александра I в пользу его супруги. Елизавета Алексеевна не поддержала своих сторонников, но в дальнейшем пристально следила за ними и, вероятно, своевременно оценив благодаря Державину талант юноши, оградила поэта от «дурного влияния».
Официальное пушкиноведение утверждает, что за оду «Вольность», вызвавшую гнев у Александра I, поэт чуть не поплатился ссылкой в Сибирь, но по ходатайству В. А. Жуковского и А. И. Крылова ссылка была заменена переводом по службе в Кишинев.
В 1820 году Александр Сергеевич отправился на юг России. Вместе с семьей генерала Раевского[193] он совершил поездку на Кавказ и в Крым. Известно, что поэт был влюблен в старшую дочь генерала Марию Раевскую[194], которой сделал предложение, но генерал не отдал за опального поэта свою дочь, считая этот брак неподходящим.
В южной ссылке Пушкин написал «Кавказского пленника», «Песнь о вещем Олеге», поэмы «Братья-разбойники» и «Бахчисарайский фонтан». В 1823 году его перевели в Одессу под начало новороссийского генерал-губернатора М. С. Воронцова, величайшего государственного деятеля первой половины XIX века. Пушкин не нашел общего языка с честнейшим и благороднейшим графом. Предполагают, что причиной тому стал флирт поэта с супругой генерал-губернатора Новороссии. Эпиграмма:
Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полный наконец, —
полностью остается на совести Пушкина.
Воронцов «отблагодарил» молодого человека малоприятным поручением – собирать сведения о появившейся в Новороссии саранче. Пушкин ответил веселым отчетом:
Саранча летела, летела – и села.
Сидела, сидела, все съела и вновь улетела.
Воронцов попросил императора удалить от него Пушкина. Поэта сослали в родовое псковское поместье Михайловское под присмотр отца. К тому времени Александр Сергеевич уже работал над стихотворным романом «Евгений Онегин» и гениальной драмой «Борис Годунов».
В Михайловском Пушкин встретил Анну Керн[195], женщину сомнительного поведения, но идеализированную впоследствии биографами поэта. По крайней мере, вопреки официальному пушкиноведению, не раз утверждалось и даже представлялись доказательства того, что великое стихотворение «К Керн» – «Я вас любил…» – на самом деле было обращено не к ней.
В декабре 1825 года Пушкин узнал о восстании декабристов и был потрясен. Новый император Николай I призвал Пушкина в столицу и дал поэту аудиенцию. Одним из первых вопросов Николая был – где бы Пушкин находился, окажись он в декабре в Петербурге. Александр Сергеевич честно ответил, что был бы в рядах декабристов. Это дало повод демократической, а затем советской критике разрабатывать тему Пушкина-революционера. Как бы там ни было, император, ценя гений поэта, удостоил его высочайшей чести и известил:
– Я сам буду твоим цензором.
Таким образом, Пушкин был одновременно избавлен от преследований огромной бюрократической машины цензуры, сильно грешившей самодурством всего боявшегося чиновничества, а с другой стороны, вся ответственность за публикацию его произведений перекладывалась на плечи монарха.
Лишь один раз разгневался Николай I на своего поэта. Под влиянием поэзии Парни Пушкин написал хулиганскую поэму «Гавриилиада». Распространялась она в списках, поскольку император стремился жестко блюсти моральные устои общества. Когда рукопись поэмы попала в руки Николаю, он немедля приказал отдать Пушкина под надзор полиции.
В 1829 году Александр Сергеевич сделал предложение известной красавице Наталье Николаевне Гончаровой[196]. Девица медлила с ответом. Но тут помог случай. Пушкин очень выгодно продал свое собрание сочинений и поправил материальные дела, вследствие чего тут же получил согласие от матери Гончаровой.
В феврале 1831 года состоялось венчание Пушкина и Гончаровой в церкви Большого Вознесения у Никитских Ворот в Москве. Во время церемонии поэт выронил обручальное кольцо, затем у него погасла свеча… Пушкин понял все случившееся как предзнаменование его печальной участи.
И действительно, после женитьбы жизнь поэта приняла совсем другой оборот. В мае 1832 года у него родилась дочь Маша, затем сыновья – Александр и Григорий – и еще одна дочь Наталья. В доме с Пушкиными жили две незамужние сестры Натальи Николаевны. Расходы увеличились настолько, что денег стало не хватать. Появились долги, которые росли чуть ли не в геометрической прогрессии[197].
В 1835 году Пушкин получил разрешение на издание журнала «Современник», первый номер которого вышел уже в 1836 году. В то время семья жила в Петербурге.
Александр Сергеевич уговаривал жену поехать жить в деревню. Но Наталья Николаевна отказалась наотрез. Познакомившись с Жоржем Дантесом[198], приемным сыном нидерландского посла Геккерна[199], Наталья Николаевна стала выказывать ему благосклонность. По городу поползли слухи, Пушкин получил по этому поводу оскорбительную записку.
Вопреки строжайшему запрету Николая I проводить дуэли, по законам того времени оскорбленному Пушкину ничего не оставалось, как вызвать Дантеса. Дуэль состоялась на Черной речке, излюбленном месте дуэлянтов. После первого выстрела Дантеса Пушкин был ранен, он упал на шинель, но сумел лечь на живот, прицелиться и выстрелить в Дантеса, попав ему в руку.
Поэта отвезли домой. Ночь и целый день Пушкин провел в мучениях. Последние дни и часы поэта подробно описаны во многих книгах. Здесь же расскажем о малоизвестных событиях.
Александр Сергеевич очень переживал, что нарушил царский запрет на дуэли, и просил прощения у императора Николая I.
– Жду царского слова, чтобы умереть спокойно, – говорил он друзьям.
Николай I в записке, переданной через В. А. Жуковского, написал: «Если Бог не велит нам уже свидеться на здешнем свете, посылаю тебе мое прощение и мой последний совет умереть христианином. О жене и детях не беспокойся, я беру их на свои руки».
Пушкин ответил Жуковскому:
– Скажи Государю, что я желаю ему долгого, долгого царствования, что я желаю ему счастия в сыне, что я желаю ему счастия в его России.
И все-таки преступление дуэли было совершено, и прощать дуэлянта публично император не имел права. Поэтому похоронить Пушкина было приказано негласно.
Царь, как и обещал, взял на себя заботу о семействе Пушкина. Распоряжение Государя: «1. Заплатить долги. 2. Заложенное имение отца очистить от долга. 3. Вдове пенсион и дочери по замужество. 4. Сыновей в пажи и по 1 500 р. на воспитание каждого по вступление на службу. 5. Сочинения издать на казенный счет в пользу вдовы и детей. 6. Единовременно 10 т.».
В завершение статьи невозможно не упомянуть о трудах пушкиноведа Киры Павловны Викторовой (ум. 2001). В настоящее время ее версия биографии Александра Сергеевича принимается в штыки подавляющим большинством профессиональных исследователей жизни и творчества поэта и уж тем более малосведущими любителями пушкинистики. Правда, последние годы идеи Викторовой стали приписывать создателю Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина (Пушкинского заповедника) Семену Степановичу Гейченко, но документальных подтверждений таким заявлениям пока не найдено.
Жизнь Пушкина Викторова трактует с тех позиций, что в судьбе и творчестве поэта была единственная муза – его тайная любовь императрица Елизавета Алексеевна, супруга Александра I. Знаменитый же «Любовный список» Александра Сергеевича – это его ерническое издевательство над пошлостью обывателей. Исследовательницей собраны и представлены многочисленные доказательства, подтверждающие ее точку зрения. Вокруг проблемы Елизаветы Алексеевны и идет весь сыр-бор: любил Пушкин Елизавету Алексеевну или не любил, писал ли поэт с Елизаветы Татьяну Ларину или не писал, была ли императрица для Пушкина дороже всех на свете или к концу жизни он все-таки предпочитал Наталью Гончарову…
За этими бесплодными толками и теряется квинтэссенция исследований Киры Викторовой, ради которой я и упоминаю о ней в этом рассказе. Исследователь выдвинула спорный, но, на мой взгляд, необычайно важный тезис о равнозначном триединстве пушкинского гения – гениального поэта, гениального историка, гениального философа. Данным тезисом Викторова открыла новую страницу в истории пушкиноведения и распахнула перед каждым из нас необъятные просторы для личного познания Первого поэта России.
ФЕДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ (1803-1873)
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.
Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить.
В этих строках весь Тютчев. Больше о нем и рассказывать бессмысленно, ибо лучше не скажешь. Остается только узнать событийный ряд из жизни, пожалуй, самого уважаемого и чтимого поэта России.

Федор Иванович Тютчев родился 23 ноября (5 декабря по новому стилю) 1803 года в усадьбе Овстуг Брянского уезда Орловской губернии, в стародворянской семье.
Отец поэта, Иван Николаевич Тютчев, рано уволившись из военной службы, пошел по штатской линии и дослужился до надворного советника[200].
Особенно большое влияние оказала на мальчика мать его, Екатерина Львовна Тютчева, урожденная Толстая. «Женщина замечательного ума, сухощавого, нервного сложения, с наклонностью к ипохондрии, с фантазией, развитою до болезненности»[201].
Федор был вторым ребенком в семье, старший его брат Николай родился в 1806 году, была еще у поэта младшая сестра Дарья. Это дети выжившие. Трое братьев умерли в младенчестве – Сергей, Дмитрий, Василий, – и смерть их оставила глубокий след в памяти поэта.
К Федору с рождения его был приставлен дядька Н. А. Хлопов[202], который и заботился о мальчике до девятнадцатилетнего возраста. Был бы с Тютчевым и дальше, но умер.
Все раннее детство мальчик провел в Овстуге. В Москве у Тютчевых был свой дом, но постоянно они стали жить в нем с ноября 1812 года, когда из города уже были изгнаны полчища Наполеона. Тогда-то и началась у Феди Тютчева новая жизнь. Ему наняли учителя, человека во всех отношениях примечательного. Это был молодой поэт-переводчик Семен Егорович Раич (1792-1855), выпускник одной из лучших тогда семинарий. С первых дней знакомства учитель отмечал удивительные способности ребенка – талант и великолепную память. В двенадцать лет Федор «переводил уже оды Горация с замечательным успехом».
Частым гостем дома Тютчевых был В. А. Жуковский. Поэт жил в те годы в келье Чудова монастыря в Кремле. 17 апреля 1818 года отец привел туда юного Федора[203]. Биографы говорят, что это был день рождения поэта и мыслителя Федора Ивановича Тютчева.
Одно из тютчевских подражаний Горацию – ода «На новый 1816 год» – было прочитано 22 февраля 1818 года критиком и поэтом, профессором Московского университета Алексеем Федоровичем Мерзляковым в Обществе любителей российской словесности. 30 марта того же года четырнадцатилетний поэт был избран сотрудником Общества, а через год в печати появилось тютчевское вольное переложение «Послания Горация к Меценату».
Дальнейшее образование Федор Иванович получил в Московском университете на словесном отделении. Там он подружился с молодыми Михаилом Погодиным[204], Степаном Шевыревым[205], Владимиром Одоевским[206]. В этом обществе у юноши начали формироваться славянофильские взгляды.
Университет Тютчев окончил на три года раньше положенного срока и со степенью кандидата, которую получали только наиболее достойные. На семейном совете было решено, что Федор поступит на дипломатическую службу.
5 февраля 1822 года отец привез юношу в Петербург, а 24 февраля восемнадцатилетний Тютчев был зачислен на службу в коллегию иностранных дел с чином губернского секретаря[207]. В Петербурге юноша жил в доме Остерман-Толстого[208], который и выхлопотал Федору должность сверхштатного чиновника русского посольства в Баварии. Столицей Баварии был Мюнхен.
За границей Федор Иванович находился, с незначительными перерывами, двадцать два года. Мюнхен как раз переживал период высшего культурного расцвета. Город называли «германскими Афинами».
Там Тютчев как дипломат, аристократ и литератор оказался в центре культурной жизни одного из самых некогда могущественных народов Европы. Он изучал романтическую поэзию и немецкую философию, сблизился с Президентом Баварской АН Фридрихом Шеллингом[209], перевел на русский язык произведения Фридриха Шиллера, Иоганна Гёте и других немецких поэтов. Собственные стихи Тютчев печатал в российском журнале «Галатея» и в альманахе «Северная лира». В мюнхенский период поэтом были написаны шедевры его философской лирики – «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «О чем ты воешь, ветр ночной?…» и другие.
В 1823 году Тютчев познакомился с пятнадцатилетней Амалией Лерхенфельд[210], которая стала его первой и единственной любовью на всю жизнь. Амалия тоже сразу же выделила Федора Ивановича из толпы своих поклонников, часто танцевала с ним на балах, еще чаще вдвоем они гуляли по Мюнхену, поскольку «надо же новому чиновнику русской миссии познакомиться с городом».
Ходили упорные слухи, что родители только воспитали Амалию, а на самом деле она была незаконнорожденной дочерью прусского короля Фридриха Вильгельма III и единокровной сестрой супруги Николая I императрицы Александры Федоровны. Заметив усиливающееся увлечение девушки Тютчевым, граф Лерхенфельд поспешил выдать дочь замуж за барона Александра Крюденера, секретаря русского посольства.
Едва состоялась свадьба Амалии, как Тютчев тоже поспешил жениться. Его избранницей стала молодая вдова Элеонора Петерсон, урожденная графиня Ботмер. Женившись на ней, поэт взял под опеку троих ее детей от первого брака.
Жилось Тютчеву нелегко. Карьера его никак не складывалась – он не любил выслуживаться и терпеть не мог льстить. А Элеонора к уже имевшимся от первого мужа мальчикам родила Федору еще трех прелестных девочек – Анну, Дарью и Екатерину. Все это семейство нужно было кормить.
В феврале 1833 года на одном из балов приятель Тютчева, баварский публицист Карл Пфеффель, познакомил поэта со своей сестрой, двадцатидвухлетней красавицей Эрнестиной и ее пожилым мужем бароном Дёрнбергом. Женщина произвела на Федора Ивановича большое впечатление. Во время этого же бала барон почувствовал себя плохо и, уезжая, отчего-то сказал Тютчеву:
– Поручаю вам свою жену…
Через несколько дней барон Дёрнберг умер.
Между Тютчевым и Эрнестиной начался любовный роман. Во время одной из размолвок между влюбленными возбужденный поэт уничтожил все написанные им до этого стихи.
К 1836 году отношения поэта и вдовы Дёрнберг стали очевидными для всех. Узнав обо всем, Элеонора Тютчева попыталась покончить жизнь самоубийством – она несколько раз ударила себя в грудь кинжалом от маскарадного костюма. Женщину вылечили, а Федор Иванович дал жене обещание порвать с любовницей.
Тем временем стали налаживаться литературные дела поэта. По рекомендации П. А. Вяземского и В. А. Жуковского в пушкинском «Современнике» была опубликована за подписью Ф. Т. подборка из 24 стихотворений Тютчева «Стихи, присланные из Германии». Эта публикация принесла поэту известность. Но вскоре Пушкин погиб на дуэли, и Тютчев откликнулся на это событие пророческими строками:
Тебя ж, как первую любовь,
России сердце не забудет…
На страницах «Современника» стихи Тютчева продолжали печататься и после смерти Пушкина, вплоть до 1840 года[211].
Русские власти перевели Федора Ивановича в Турин (Сардинское королевство), где он замещал какое-то время посла. Отсюда его направляли с дипломатическим поручением на Ионические острова, а в конце 1837 года, уже камергер и статский советник, он был назначен старшим секретарем посольства в Турине.
Весной 1838 года Элеонора Тютчева с детьми гостили в Петербурге. Обратно они возвращались на пароходе. В ночь с 18 на 19 мая там вспыхнул пожар. Элеонора, спасая детей, испытала сильнейший шок. Потрясение оказалось столь велико, что достаточно было ей заболеть по возвращении простудой, и женщина умерла 27 августа 1838 года на руках у мужа. Тютчев в одну ночь поседел.
Но уже в декабре того же года в Генуе произошла тайная помолвка поэта и Эрнестины Дёрнберг. Венчание состоялось 17 июля следующего года и вызвало грандиозный скандал. Федора Ивановича уволили с дипломатической службы и лишили звания камергера.
В течение нескольких лет Тютчевы оставались в Германии, а в 1844 году вернулись в Россию. Немного раньше поэт выступал со статьями панславистского направления «Россия и Германия», «Россия и Революция», «Папство и римский вопрос», работал над книгой «Россия и Запад». В своих философских трудах Федор Иванович писал о необходимости восточноевропейского союза во главе с Россией и о том, что именно противостояние России и Революции определит в ближайшем времени судьбу человечества. Он утверждал, что русское царство должно простираться «от Нила до Невы, от Эльбы до Китая».
Выступления Тютчева в печати вызвали одобрение императора Николая I. Автору было возвращено звание камергера, и в 1848 году Тютчев получил должность при Министерстве иностранных дел в Петербурге. Через десять лет, уже в царствование Александра II, его назначили председателем Комитета иностранной цензуры.
В Петербурге Тютчев сразу же стал заметной фигурой в общественной жизни. Современники отмечали его блестящий ум, юмор, талант собеседника. Его эпиграммы, остроты и афоризмы были у всех на слуху.
К тому времени относится и подъем поэтического творчества Тютчева. Н. А. Некрасов опубликовал статью «Русские второстепенные поэты», в которой причислил стихи Федора Ивановича к блестящим явлениям русской поэзии и поставил Тютчева в один ряд с Пушкиным и Лермонтовым.
А в июле того же года Федор, будучи женатым человеком и отцом семейства, влюбился в двадцатичетырехлетнюю Елену Денисьеву[212], почти ровесницу своих дочерей. Открытая связь между ними, во время которой Тютчев не оставлял семью, продолжалась четырнадцать лет. У них родилось трое детей. Одно время утверждалось, что за связь со стареющим поэтом Денисьеву изгнали из общества, но в настоящее время биографы опровергли эту точку зрения. В 1864 году Денисьева умерла от туберкулеза.
В 1854 году в приложении к «Современнику» были опубликованы девяносто два стихотворения Тютчева, а затем по инициативе И. С. Тургенева был издан его первый поэтический сборник.
После Крымской войны новым министром иностранных дел России стал А. М. Горчаков[213]. Он глубоко уважал ум и прозорливость Тютчева, и Федор Иванович получил возможность длительное время влиять на внешнюю политику России. Тютчева произвели в действительные статские советники[214].
Славянофильские взгляды Ф. И. Тютчева продолжали укрепляться. Однако после поражения России в Крымской войне он стал призывать не к политическому, а к духовному объединению. Суть своего понимания России поэт выразил в стихотворении «Умом Россию не понять…», написанном им в 1866 году.
После смерти Денисьевой, в которой Федор Иванович винил себя, поэт уехал к семье за границу. Возвращение его в 1865 году в Россию открыло самый тяжелый период в жизни поэта. Ему пришлось пережить смерть двоих детей от Денисьевой, затем кончину матери. За этими трагедиями последовали смерти еще одного сына, единственного брата, дочери.
Лишь однажды в этой череде смертей открылась перед поэтом светлая страница из его прошлой жизни. В 1869 году, будучи на лечении в Карлсбаде, Федор Иванович встретил свою первую любовь Амалию. Они часто и долго, как когда-то в Мюнхене, бродили по улицам Карлсбада и вспоминали свою молодость.
В один из таких вечеров, вернувшись в отель, Тютчев почти без помарок записал, словно продиктованное свыше, стихотворение:
Я встретил вас – и все былое
В отжившем сердце ожило;
Я вспомнил время золотое —
И сердцу стало так тепло…
Прошло три года. 1 января 1873 года Федор Иванович, «несмотря ни на какие предупреждения, вышел из дому для обычной прогулки, для посещения приятелей и знакомых… Его вскоре привезли назад разбитого параличом. Вся левая часть тела была поражена, и поражена безвозвратно». В таком состоянии поэт начал лихорадочно сочинять стихи.
Федор Иванович Тютчев умер в Царском Селе 15 (27 по новому стилю) июля 1873 года. Похоронили его на Новодевичьем кладбище Петербурга.
Следует отметить, что при жизни поэта Тютчева знали очень немногие, всенародное признание пришло к нему через много лет после смерти, а истинную великую ценность для нации всего его творчества мы узнаём только сейчас.
ГЕНРИ ЛОНГФЕЛЛО (1807-1882)
Генри Уодсуорт (Вордсворт) Лонгфелло – первый профессиональный поэт в США, отец американской поэзии. Творческая судьба его удивительна. При жизни произведения поэта были столь популярны, что Лонгфелло мог жить на одни гонорары. Это редчайший случай в истории мировой литературы. Еще более редкий феномен XIX века: при жизни автора тираж его книг превысил миллион экземпляров.
Однако начиная с конца XIX века и особенно в XX веке отношение читателей и критики к Лонгфелло резко изменилось. В лиричности его стихов стали отмечать чрезмерную сентиментальность, в четкости мысли – назидательность, а в явных связях с европейской поэтической традицией – плагиат! И особенно неприятно признавать политизированность главного произведения Лонгфелло – «Песни о Гайавате», призванной посредством фальсификации национального индейского фольклора возвеличить белого человека.
Как бы там ни было, в истории литературы Генри Лонгфелло остался первым великим поэтом США.

Он родился 27 февраля 1807 года в Портленде, в штате Мэн, который тогда был частью Массачусетса. Здесь жили преимущественно пуритане кальвинистского толка, люди суровые, трудолюбивые, главной целью жизни которых было спасение души, что должно достигаться каждодневным трудом в поте лица и бегством от мирских соблазнов.
Отец будущего поэта Стефан Лонгфелло был уважаемым портлендским адвокатом и представлял свой округ в Конгрессе. Мать мальчика звали Зильфа. Дочь генерала Пелега Уодсуорта, она вела свой род от первых американских переселенцев.
Как и большинство пуритан, Генри с малолетства полюбил чтение. Самой любимой его книгой была «Книга эскизов» Вашингтона Ирвинга. Под влиянием Ирвинга юный Лонгфелло начал писать стихи. Ему было тогда тринадцать лет. Первое же стихотворение Генри – «Битва у Ловелз-Понд» – было опубликовано в городской газете.
Благодаря удачному переводу из Горация, Лонгфелло получил стипендию для продолжения образования и поступил в Боуден-колледж, по окончании которого в 1825 году ему предложили должность профессора новых языков. Лонгфелло дал согласие, но в целях подготовки запросил долгосрочный отпуск. Готовясь к работе на кафедре, поэт три с половиной года провел в путешествии по Франции, Испании, Италии и Германии, где старательно изучал европейские языки, историю и культуру.
В Соединенные Штаты Лонгфелло вернулся в 1829 году и сразу занял должность библиотекаря и профессора в Боуден-колледже. В 1831 году поэт женился на Марте Сторер Поттер. В свадебное путешествие они отправились в Европу, где Лонгфелло заодно изучил шведский, финский и датский языки и литературу.
Но счастье убежденного пуританина-семьянина длилось недолго. Марта Сторер Поттер неожиданно умерла в 1835 году, и Лонгфелло остался вдовцом.
Писатель тяжело переживал трагедию. Но менее чем через год после смерти жены ему предложили такую же должность в Гарвардском университете. В 1836 году Лонгфелло переехал в Кембридж[215]. Поселился он в Крэг Хаусе, в котором некогда жила семья самого Джорджа Вашингтона.
На новом месте профессор Лонгфелло делил время между чтением лекций и творчеством. В 1839 году вышла в свет его романтическая повесть «Гиперион», а затем пришла очередь поэтическому сборнику «Ночные голоса». Неожиданно стихи стали популярными среди англоязычных читателей не только в Америке, но и в Европе. Особенно восторгались стихотворением «Псалом жизни».
В начале 1840-х годов Лонгфелло сблизился с аболиционистами[216], но вступать в движение не пожелал. Он предпочел действовать доступными ему средствами. Из третьей поездки в Европу, которую поэт совершил в 1842 году, Лонгфелло привез несколько стихотворений на тему рабства и опубликовал их как памфлет. Вообще же по жизни он всеми силами сторонился реальной политики, что не помешало поэту политиканствовать в творчестве.
Почти сразу после переезда в Кембридж Лонгфелло познакомился с Фрэнсис Эплтон, дочерью купца из Бостона. Встречались они долго, причем с самого начала Генри испытывал к девушке самые теплые чувства. Достаточно сказать, что он вывел Фрэнсис под именем Марии Эшбертон в «Гиперионе». Наконец, Лонгфелло сделал предложение, и в 1843 году состоялась свадьба. В счастливом браке они жили почти восемнадцать лет. 9 июля 1861 года его Фрэнсис трагически погибла – искра от зажженной спички упала ей на платье, оно вспыхнуло, и женщина сгорела живьем.
Это было время необычайной популярности романов Фенимора Купера. Уже давно вышли в свет и стали любимы читателями всего мира «Шпион» и «Последний из могикан», в 1841 году был опубликован «Зверобой». Само собой разумеется, эти произведения обсуждались и в литературной среде, и в кружке «браминов» – группы университетских поэтов, возглавлявшейся Лонгфелло.
В ходе этих обсуждений зародилась идея создания национального американского эпоса. Однако для эпоса белая Америка была слишком молода. Но тут в 1846 году появилась книга «Миф о Гайавате» с изложением мифов индейцев оджибве, написанная Генри Роу Скулкрафтом (1793-1864), выдающимся этнографом, географом и первопроходцем, первым специалистом по жизни американских индейцев. Скулкрафт был женат на Джейн Джонстон, чье индейское имя было Обабамвава-Гежегокуа (Женщина Звука Падающих Звезд, Проносящихся Через Небо), дочери ирландца и индианки Ошаугус-Кодайвайква (Женщина Зеленой Прерии). Дедом Джейн был Вободжиг, вождь оджибве из Ла-Пойн в штате Висконсин. Большая часть материала для книги Скулкрафта была собрана его женой и тещей – индианками.
Познакомившись с «Мифом о Гайавате», поэт решил на основе индейских легенд создать эпическую поэму, но использовал легенды с грубым цинизмом завоевателей. Для работы над поэмой в 1854 году Лонгфелло оставил кафедру и целиком посвятил себя творчеству. Он писал «Песнь…» с 25 июня 1854 года по 29 марта 1855 года и опубликовал 10 ноября 1855 года. Интересно, что Лонгфелло задумал свою поэму как поэтический ответ на «Калевалу», чей размер и ритм он воспроизвел столь старательно, что критики то и дело обвиняют его в плагиате.
Героем поэмы стал полулегендарный индейский вождь племени мохок (онондага по происхождению) Гайавата, предположительный организатор так называемой Лиги ирокезов[217]. Почетный титул Гайавата сохранялся в ритуальном списке 50 вождей Лиги ирокезов в XIV – XVI веках.
Лонгфелло, опираясь на космогонические мифы индейцев, вознамерился довести повествование до времен появления белого человека. Поэт захотел объявить преемственность индейских традиций в форме мирной капитуляции индейской идеологии перед христианством. В заключительной песне поэмы Гайавата призывает своих соплеменников приветствовать «старших братьев – белых». Индейцы по сей день воспринимают эту песнь как «бесстыдное надругательство над историей и индейским эпосом».
При всем при том «Песнь о Гайавате» имела головокружительный успех у культурной публики во всем мире.
Когда в США началась Гражданская война (1861-1865), поэт предпочел не заметить ее. В творческом наследии Лонгфелло нет ни строчки о трагических событиях тех дней.
В 1868 году поэт совершил свое последнее путешествие в Европу. В поездке его сопровождали три дочери от Фрэнсис Эплтон. Американец был с честью принят поэтом-лауреатом Великобритании Альфредом Теннисоном. Посетил он и королеву Викторию, которая была большой почитательницей творчества Лонгфелло.
По возвращении поэтом был создан и опубликован в 1872 году «Христус. Таинство» – трилогия о христианстве, начиная с его истоков. Лонгфелло полагал, что именно это произведение станет вершиной его творчества, но ошибся.
В последние годы жизни Лонгфелло страдал от ревматизма, но не утратил бодрости духа и работоспособности. В частности, им был сделан перевод на английский язык «Божественной комедии» Данте.
Генри Уодсуорт Лонгфелло умер в Кембридже 24 марта 1882 года. В 1884 году в «Уголке поэтов» Вестминстерского аббатства в Лондоне был установлен мраморный бюст поэта. Лонгфелло стал первым американским поэтом, удостоившимся такой чести.
В России поэзия Лонгфелло долгое время пользовалась поистине всенародной любовью. Его произведения не раз переводились на русский язык.
Первый перевод «Песни о Гайавате», сделанный Д. Л. Михайловским, появился в 1868 году. Однако эталоном переводческого искусства стал перевод поэмы, сделанный в 1896 году И. А. Буниным. За это гениальное произведение переводчик получил в 1903 году Пушкинскую премию Академии наук.
В США гораздо большей популярностью пользуются стихотворения Лонгфелло «Я в воздух запустил стрелу» и «Поездка Пола Ривира».
ЭДГАР АЛЛАН ПО (1809-1849)
Знаменитые слова шекспировского Ромео «Судьба играет мной!» как никому подходят самому великому писателю Америки Эдгару Аллану По. Человек, преследуемый роком, – вот, пожалуй, самое точное определение его жизненного пути. Порой кажется, что самые болезненные, самые трагические образы в романах Федора Михайловича Достоевского, который не раз признавался, что в писательстве находился под сильнейшим влиянием По, создавались на основании жизненных коллизий американского писателя.

С другой стороны, невозможно преувеличить силу воздействия творчества По на всю мировую литературу XIX – XX веков. Обычно в первую очередь вспоминают о том, что именно он является основоположником жанра детектива, и часто забывают, что начиная с Теннисона под прямым влиянием поэзии По находилась вся блистательная европейская поэзия, а поэты-символисты называли его и своим предтечей, и крестным отцом, и прямым родителем.
Элизабет Арнольд происходила из потомственной семьи актеров, а потому сама с десяти лет выступала на сцене. Первым мужем ее был некий комик К. Д. Хопкинс, но он рано умер. Как раз в это время в труппе появился молодой и слабенький актер, в недавнем прошлом студент-юрист Дэвид По. Молодые люди полюбили друг друга и поженились.
Вскоре у них родился первенец. Его назвали Уильямом и быстренько спровадили к родителям Дэвида. Второй сын родился у четы По 19 января 1809 года, когда они работали на театральных подмостках Бостона. Его назвали Эдгаром.
А в конце 1810 года Дэвид неожиданно исчез. Биографы поэта по сей день спорят: бросил ли отец семью или где-то скоропостижно умер от чахотки – фамильной болезни рода По.
Как бы там ни было, беременная и больная чахоткой актриса Элизабет По осталась одна с трехлетним Эдгаром на руках. Чтобы хоть как-то выживать, она до последнего дня не оставляла сцену. 20 декабря 1810 года в Норфолке она разрешилась дочерью Розалией.
К открытию сезона 1811 года женщина приехала в Ричмонд, где ее всегда хорошо принимали зрители. Маленького Эдгара мать вынуждена была всегда брать с собой на работу. Каждый раз по дороге они проходили мимо дома на Четырнадцатой улице, где проживала семья мистера Джона Аллана, младшего компаньона в богатой фирме «Эллис и Аллан, оптовая и розничная торговля».
Супруга мистера Аллана, миссис Фрэнсис Киллинг, не могла иметь детей и очень тосковала от этого. Когда в 1812 году умерла Элизабет По, женщина приняла в судьбе ее детей самое непосредственное участие и забрала Эдгара в свой дом. Розалию удочерила семья Макензи, которые на всю жизнь стали близкими друзьями поэта. К сожалению, у многих женщин По оказалась наследственная болезнь – остановка в умственном развитии. У Розалии она произошла в двенадцать лет, дурочка пережила своего несчастного брата и всегда находилась под присмотром добрых Макензи.
Эдгар стал любимцем Фрэнсис Киллинг. А вот хозяин дома Джон Аллан принял мальчика настороженно, усыновлять отказался, но со временем тоже стал воспринимать Эдгара как своего сына. С этого времени у будущего поэта появилась вторая фамилия – Аллан.
Детство и юность, проведенные в семье Алланов, полученное там воспитание и образование, его отношения с опекуном определили дальнейшую судьбу По.
Как и к другим детям из хороших виргинских семей, к мальчику была приставлена нянька-негритянка, которая оставалась в доме вплоть до отъезда Алланов в Англию в 1815 году. Большая любительница страшных историй, она почти каждый вечер таскала малыша на посиделки рабов, где обязательно рассказывали длинные жуткие истории про мертвецов. Бурная детская фантазия запечатлела эти ужасы в памяти Эдгара навсегда.
Еще одним источником для фантазий впечатлительного мальчика были нескончаемые истории о морских путешествиях, которые рассказывали часто бывавшие у Алланов капитаны, торговцы и искатели приключений.
В 1815 году Джон Аллан решил предпринять вместе с семьей путешествие в Англию и Шотландию, где проживала его многочисленная родня. Там Эдгар был отдан в частную школу английского Ричмонда, где он получил классическое образование и начал сочинять стихи.
В августе 1820 года Алланы вернулись домой в Америку. Опекун сразу же определил Эдгара в «Английскую и классическую школу». Там поэтический талант мальчика развернулся вширь.
В Ричмонде у Эдгара было много друзей. Однажды маленький Роб Стенард, исполнявший при По роль оруженосца и очень гордившийся этим, позвал старшего друга к себе в гости. Эдгар пришел и неожиданно страстно влюбился в мать Роба миссис Джейн Стенард. Так к поэту впервые пришла настоящая любовь. В стихах По женщина обычно представлена Еленой. В апреле 1824 года Джейн Стенард умерла в возрасте тридцати одного года от чахотки. Эдгар был потрясен, долгое время почти каждый день ходил к ней на могилу, страдал…
Весной 1825 года умер дядя Джона Аллана, который оставил племяннику огромное состояние. Аллан стал одним из богатейших людей Виргинии, а Эдгар в глазах окружающих отныне представал наследником одного из крупнейших состояний штата. На самом деле все обстояло несколько иначе. Аллан очень любил свою жену, но Фрэнсис Киллинг была очень болезненной женщиной, а потому ему пришлось тайно завести себе любовницу на стороне. У той женщины народились его родные дети, и обеспечивать приемыша Аллан не собирался. Но и оставлять юношу без поддержки тоже не намеревался.
В феврале 1826 года с подачи опекуна По поступил в Виргинский университет. Здесь неопытный Эдгар сразу попал в руки нечистых на руку людей, решивших нагреть руки на наследничке бешеных денег. Молодой человек втянулся в карточную игру, стал постоянным участником пьяных сборищ, наделал много долгов – на сумму более 2 500 долларов. Все это продолжалось до декабря, когда приехал сам Аллан и увез воспитанника в Ричмонд. С университетским образованием было покончено.
К тому времени в одной пьяной стычке Эдгар получил черепно-мозговую травму, после которой у него всю жизнь периодически случались нервные припадки. Дома По разругался с опекуном, и Аллан велел юноше убираться из его дома. На причитания жены он выкрикнул:
– Что ж, пусть узнает, каково голодать!
Возбужденный Эдгар уехал в Бостон, а опекуну сообщил, что отправился в Европу, в Санкт-Петербург. Для Фрэнсис Аллан исчезновение ее «дорогого мальчика» стало смертельным ударом.
Тем временем в Бостоне По познакомился с молодым неопытным владельцем типографии Кельвином Томасом, и тот на свои деньги отпечатал небольшой тираж первой книги поэта «Тамерлан и другие стихотворения». Торговать Томас не умел, и сборник остался нераспроданным[218].
В дни выхода книги По впервые оказался без средств к существованию. Чтобы выжить, он решил завербоваться на пять лет в армию, что и сделал под именем Эдгар А. Пери из Бостона. Но жизнь в войсках оказалась такой нудной и беспросветной, что молодой человек забил тревогу и написал к опекуну, чтобы Джон Аллан вытащил его оттуда. Тот долго отнекивался, но 28 февраля 1829 года умерла Фрэнсис Аллан, перед смертью взявшая с мужа клятву, что он никогда не оставит Эдгара без поддержки.
На похоронах По обещал опекуну, что непременно поступит в военную академию. И Аллан выкупил его, заплатив за наем на место По другого военнослужащего.
Начались мытарства поэта по поступлению в Вест-Пойнтскую военную академию[219].
А пока поэт уехал в Балтимор, где впервые встретился со своими родственниками по отцовской линии. Он поселился у своей тетки Мари Клемм, которая стала самым близким для Эдгара человеком на всю оставшуюся жизнь. В доме тетки еще жили ее дети – дочь Вирджиния и сын Генри, старая миссис По[220] (бабка Эдгара по отцовской линии) и старший брат поэта Вильям Генри Леонард По. Бабка была парализованная, Вильям[221] болел чахоткой, Генри[222] оказался горьким пьяницей, а маленькая Вирджиния с возрастом унаследовала описанную выше семейную болезнь – задержку в развитии – и тоже, как оказалось впоследствии, уже была больна туберкулезом. Жили не просто скудно, а в предельной нищете. Часто Мари Клемм ходила с корзиной по знакомым и собирала, кто что подаст на пропитание.
Трудно было привыкшему к роскоши Эдгару жить в доме тетки. А тут он узнал, что Джон Аллан менее чем через год после смерти жены вновь вступил в брак. Молодой человек примчался домой, закатил скандал и был выставлен за порог. Отныне Алланы стали для него чужими людьми.
Соседкой Мари Клемм была некая девица Мэри Девро. Со временем она стала любовницей поэта, по крайней мере, единственной известной биографам.
По несколько раз делал неудачные попытки помириться с Джоном Алланом в расчете получить хоть какое-то наследство. Последняя их встреча произошла в феврале 1834 года. Эдгару сообщили, что бывший опекун умирает от водянки. Поэт приехал в Ричмонд, проник в комнату к умирающему, но едва увидев приемыша, Джон страшно закричал и стал махать на него палкой. Прибежали слуги и с позором выкинули По вон. Джон Аллан умер 28 марта 1834 года, даже словом не упомянув Эдгара в завещании. Иллюзорные надежды на достойное состояние лопнули безвозвратно.
Но По уже искал иные пути к обеспечению семьи. В июле 1833 года еженедельная газета «Балтимор сэтэрдей визитэр» объявила конкурс на лучшие рассказ и стихотворение, назначив за них премии соответственно в 50 и 25 долларов[223]. По представил на конкурс несколько новелл и получил первую премию за новеллу «Рукопись, найденная в бутылке». Вдобавок к нему пришла известность, его стали издавать, приглашать на литературные встречи и в салоны.
Именно тогда у Эдгара и Мари Клемм возникла идея женить По на Вирджинии. Девочке шел тринадцатый год. Тогда на такие ранние браки смотрели сквозь пальцы.
Но семья изнемогала от безденежья. С помощью друзей он устроился на работу редактором в ричмондский журнал «Сазерн литерери мессенджер», где стал публиковать содержательные и зачастую едкие статьи и рецензии и рассказы о причудливом и ужасном.
Когда По пришел в журнал, тираж его был 700 экземпляров, ко времени его ухода достиг 3 500 экземпляров. Но успех скверно подействовал на поэта. Он запил. Потом бросил журнал, уехал в Балтимор и 22 сентября 1835 года там тайно женился на Вирджинии. А затем По попросил прощения у издателя «Мессенджера», обещал не пить и вернулся, но уже с семьей.
Однако спокойная жизнь у поэта не получалась. К концу 1836 года он стал довольно сильно пить, вследствие чего здоровье его снова ухудшилось. С ростом его писательской известности в Эдгаре появилась некоторая заносчивость, порицавшаяся даже друзьями. Главный редактор журнала был терпелив, но и ему досаждало далеко не примерное поведение По. В конце концов поэт предпочел уехать из Ричмонда. В последующие годы он много ездил, успел пожить и в Нью-Йорке, и в Филадельфии.
Начало 1840-х годов стало счастливейшим временем в жизни поэта. Именно тогда им был создан первый в истории детективный рассказ «Убийства на улице Морг». Биограф так описывают жизнь По в те светлые дни: «Пока в соседней комнате Вирджиния играла со своей кошечкой, а миссис Клемм ощипывала цыпленка к обеду, рожденная воображением По кровожадная обезьяна сдирала скальпы со своих жертв».
Эта идиллия неожиданно закончилась в конце января 1842 года. Однажды вечером в доме По собралось небольшое общество. В камине пылал огонь, Вирджиния пела гостям… Вдруг она схватилась руками за горло, и грудь ее обагрилась хлынувшей изо рта кровью. Казалось, что женщина умирает. Но это было только начало агонии, затянувшейся на несколько лет.
По снова запил. Порою казалось, что поэт сходит с ума. Порою По просто бродил по улицам, охваченный не то безумием, не то меланхолией, и его не могли найти по нескольку дней. В дом вновь постучалась нищета.
И неожиданно к Эдгару пришло новое великое поэтическое вдохновение. В период 1844-1849 годов им были созданы такие гениальные произведения, как «Страна сновидений», поэма «Ворон», «Улялюм», «Звон», «Аннабель Ли».
Главную ставку в своей дальнейшей карьере По сделал на поэму «Ворон» и не ошибся. 29 января 1845 года первой напечатала поэму «Америкен ревю». Никогда еще на долю написанного американцем поэтического произведения не выпадало столь стремительного и широкого успеха. В течение недели «Ворона» перепечатали (без выплаты гонорара) почти все крупнейшие издания страны.
По мгновенно прославился, превратился в вызывающую всеобщее любопытство странную, романтическую, роковую и трагическую фигуру, какой с тех пор и остается по сей день. И самое потрясающее во всей этой истории то, что нищета ни на шаг не отступила от поэта и его семьи.
Одна из знакомых По, посетив его дом, так описала умирающую Вирджинию: «Она лежала у себя в спальне. Во всем были заметны такая безупречная чистота и порядок и одновременно такая нищета и убожество, что вид несчастной страдалицы вызвал во мне ту щемящую жалость, какую способны испытывать лишь бедняки к беднякам.
На соломенном матраце не было чехла – только белоснежное покрывало и простыни. Погода стояла холодная, и больную сотрясал страшный озноб, которым обычно сопровождается чахоточная лихорадка. Она лежала, укутавшись в пальто мужа и прижав к груди большую пеструю кошку. Чудное животное, казалось, понимало, какую приносит пользу. Пальто и кошка только и давали тепло бедняжке, если не считать того, что муж согревал в ладонях ее руки, а мать – ноги».
Вирджиния По умерла в январе 1847 года.
После смерти жены По долго болел. Он лишился сна, боялся один оставаться в темноте, в бреду к нему являлась женщина в белом. Осенью поэт попытался покончить жизнь самоубийством: он принял большую дозу опиума. Однако яд не убил его. Эдгар долго лежал без сознания, но благодаря заботам пришедших на помощь друзей постепенно поправился.
Невзирая на беды вдохновение не оставило поэта. В 1848-1849 годах им были написаны «Колокола», стансы «Анни», стихотворение «Аннабель Ли» и героическое по духу «Эльдорадо». Была опубликована прозо-поэма «Эврика».
Через год после кончины Вирджинии Эдгар решил жениться вторично. Короткое время он был недолго помолвлен с поэтессой Сарой Хелен Уитмен. Но когда невеста узнала, что По продолжает тайно пьянствовать, она ему отказала.
Тогда в июне 1849 года в Ричмонде По посватался к вдове Саре Шелтон, в которую был влюблен в юности. Женщина дала согласие.
Дела требовали поездки поэта в Балтимор. По наиболее правдоподобной версии, дальнейшие события развивались следующим образом:
«В те дни в Балтиморе проходили выборы в конгресс и законодательное собрание штата. Город, печально прославившийся политической коррупцией, терроризировали шайки “охотников за голосами”, чьи услуги оплачивались из партийных касс. Избирателей не регистрировали, и всякий, кто желал или мог поднять руку в присутствии поверщика выборов и ответить на несколько немудреных вопросов, получал право принять участие в голосовании. Выборы, таким образом, выигрывала та партия, которой удалось привести к урнам наибольшее число “сторонников”. Бедняг, которые, поддавшись на посулы или угрозы, попадали в лапы политических разбойников, за два-три дня до голосования сгоняли в специальные места – “курятники”, – где держали, одурманенных спиртным и наркотиками, до начала выборов. Затем каждого заставляли голосовать по нескольку раз.
Выборы должны были состояться 3 октября 1849 года. По приехал за пять дней до назначенного срока и, следовательно, находился в Балтиморе все то время, пока шла охота за голосами. Поэтому предположение, что он, уже в беспомощном состоянии, был силой отведен в один из “курятников”, не только возможно, но и наиболее правдоподобно. В его пользу говорит и следующий факт. На Хай-стрит, в западной части старого паровозного депо, находился принадлежащий партии вигов “курятник”, печально известный под названием “Клуб четвертого округа”. Рассказывают, что во время выборов 1849 года туда заточили около 140 “избирателей”. В день выборов По был обнаружен всего в двух кварталах от “Клуба”, в таверне “Кут энд Сарджент” на Ломбард-стрит».
Друзья сразу же отправили Эдгара в частную клинику, но состояние больного было уже безнадежным. Умирал По очень тяжело. В страшном бреду к нему являлись демоны и волокли в ад. Приходя в себя, поэт все время спрашивал:
– Есть ли у такого пропащего человека, как я, надежда в ином мире?
Последние его слова были:
– Господи, спаси мою бедную душу!
Эдгар Аллан По умер 7 октября 1849 в Балтиморе. Похоронен там же на кладбище Old Western Burial Ground.
На русский язык поэзию Эдгара Аллана По перевели К. Бальмонт, В. Брюсов, К. Чуковский, М. Зенкевич и другие.
АЛЬФРЕД ТЕННИСОН (1809-1892)
Бороться и искать, найти и не сдаваться… -
Бороться и искать, найти и не сдаваться… -
этот отрывок из стихотворения Альфреда Теннисона «Путешествие Улисса» еще недавно знало почти все население Советского Союза. Они стали девизом главного героя очень популярного многие годы романа Вениамина Каверина «Два капитана». Правда, имя величайшего поэта викторианской эпохи[224] в книге не называлось. И неудивительно. Трудно найти в мире поэзии человека, который с таким пренебрежением относился бы к России и русским, как Теннисон. Сам поэт на семидесятом году жизни признавался:
– Я ненавидел Россию с самого своего рождения и буду ненавидеть, пока не умру.
В чем же причины такого неприятия нашей страны? Сам Теннисон рассказывал об этом следующее. В конце XVIII века в Англии сильно опасались императора Павла I, грозившего послать русскую армию на завоевание Индии. Когда Павел был убит, жители острова восприняли это событие как праздник. Отец поэта Джордж Клейтон Теннисон был хорошо знаком с лордом Хеленсом, которому правительство поручило официально представлять Англию на коронации императора Александра I. Теннисон упросил приятеля включить его в посольство.

В Москве с Теннисоном произошло следующее. Однажды вечером лорд Хеленс давал званый обед, на котором присутствовали все иностранные послы и много русских аристократов. Не зная русского языка, Теннисон не запомнил ни одного имени представлявшихся ему вельмож. Во время обеда то и дело звучали намеки на убийство Павла I. После одного такого замечания Теннисон-старший, по словам поэта, «…перегнулся через увешенную наградами грудь русского сановника, сидевшего рядом с ним, и закричал в своей обычной импульсивной манере:
– Эй, Хеленс, зачем говорить так осторожно о том, что общеизвестно. Мы все в Англии хорошо знаем, что император Павел был убит в Михайловском замке, и мы точно знаем, кто это сделал. Граф Зубов сбил его с ног, а граф Пален задушил его».
За столом воцарилась мертвая тишина. Чуть позже лорд Хеленс улучил минуту и отозвал Теннисона в сторонку.
– Человек, через которого ты перегнулся, обращаясь ко мне, был граф Пален. Напротив тебя за столом сидел Зубов. Ты публично обвинил их в убийстве императора. Если сегодня же не уберешься, то через 48 часов ты будешь в камере Петропавловской крепости. Уезжай сегодня ночью на самых быстрых лошадях, которых только сможешь достать!
Как драпал уважаемый Джордж Клейтон Теннисон из России, можно себе представить. Если при этом учесть, что никто и не думал его преследовать. Пережитый ужас он так и не смог никогда забыть и передал его своим детям.
Альфред Теннисон родился 6 августа 1809 года. Отец его в то время служил приходским священником в Сомерсби (графство Линкольншир). При этом необходимо помнить, что Теннисоны вели свой род от династии английских королей Плантагенетов. Мальчик был четвертым ребенком в многодетной семье.
Джордж Клейтон Теннисон мог бы стать крупным серьезным писателем, но был вспыльчив, болезненно стеснителен и обидчив. С таким характером заниматься творчеством противопоказано – затравят. Потому Джордж Клейтон и служил приходским священником, постоянно страдал депрессией и патологической рассеянностью.
Образование мальчик получил преимущественно дома. Учителем его стал сам отец. Но четыре года Альфред все-таки провел в начальной школе близлежащего городка Лаута.
Еще ребенком под влиянием отца Альфред начал сочинять стихи, легко придумывал рифмованные двустишья, разнообразил метрику. Когда ему еще не было пятнадцати лет, мальчик написал поэму в духе Вальтера Скотта и две пьесы в стихах.
Поэзией увлекалась вся семья Теннисонов. В 1827 году Альфред и его старший брат Чарльз анонимно издали сборник «Стихи двух братьев». Большая часть стихотворений в нем принадлежала Альфреду.
В том же году тетушка, благоволившая Альфреду, дала средства на его обучение в Тринити-колледже Кембриджского университета. Молодой человек быстро выделился там благодаря своим дарованиям. Он стал членом студенческого Кембриджского литературного общества и близко познакомился со многими талантливыми людьми.
В 1829 году Теннисон получил университетскую Канцлерскую медаль за стихотворение «Тимбукту». В декабре следующего года Теннисон выпустил книжку под названием «Стихотворения», главным образом лирические.
Когда в Испании развернулась гражданская война между клерикалами и либералами[225], Теннисон вместе с другом Артуром Хэлламом провезли через революционную Францию деньги для испанских повстанцев. Однако в Англию Альфред вернулся убежденным противником революции. Это была, пожалуй, единственная авантюра в жизни поэта. После поездки в Испанию он вел сугубо обывательский образ жизни.
В феврале 1831 года умер Джордж Клейтон Теннисон. Альфред был вынужден оставить университет и вернуться домой помогать матери.
Большим потрясением для Теннисона стала внезапная смерть в 1833 году в Вене Артура Хэллама. Поэт решил написать в память о друге книгу «In Memorian»[226]. Работа заняла целых семнадцать лет!
За эти годы семья Теннисонов переехала из Сомерсби в городок Хай-Бич под Лондоном. Там Альфред познакомился ближе с сестрой жены его брата Чарльза – Эмили Селвуд. Молодые люди полюбили друг друга, Теннисон сделал официальное предложение. Состоялась помолвка, однако затем родители Эмили усомнились в материальной состоятельности жениха и расторгли ее.
Теннисон неоднократно делал попытки утвердиться как поэт. Он выпустил несколько поэтических сборников, благодаря которым в 1845 году друзья смогли выхлопотать ему государственное пособие. Однако в целом успех этот был незначительным и обеспечить благополучную семейную жизнь не мог.
Но вот наступил 1850 год. В мае вышло «In Memoriam» – собрание отдельных элегических стихотворений, оплакивавших кончину Артура Хэллама. Успех книги был неожиданным и стремительным. Один из современников сказал о ней: «Это один из самых богатых даров, принесенных дружбой на алтарь смерти».
«In Memoriam» дала поэту достаточно средств, и он благополучно женился на Эмили Селвуд. А через четыре месяца королева Виктория пожаловала Альфреду Теннисону звание поэта-лауреата[227].
С этого времени вся жизнь Теннисона была посвящена творчеству. В 1853 году поэт переехал на остров Уайт, где и было создано большинство его шедевров.
С особым удовольствием воспел Теннисон победы английского оружия в Крымской войне 1853-1856 годов. Этому была, в частности, посвящена кипящая страстями драма «Мод».
Во время войны поэт лично распространял при королевском дворе следующую якобы правдивую историю о русских варварах. Некая русская семья вынуждена была переезжать из одного селения в другое по заснеженной степи. Неожиданно на несчастных напала стая волков. Чтобы спастись, отец и мать одного за другим побросали волкам на съедение всех своих маленьких деток. «Могут ли так поступить нормальные люди?» – всякий раз вопрошал Теннисон в конце своего рассказа. И сердобольные английские дамы искренне ужасались варварству русских дикарей.
В 1859 году поэт завершил работу над главным своим трудом – циклом эпических поэм о славе и падении короля Артура – под названием «Королевские идиллии». Публикация «Идиллий» еще более укрепила за Теннисоном славу лучшего поэта Великобритании.
Отныне сам принц Альберт стал лично наведываться к Теннисону в гости, а королева Виктория не раз принимала его у себя.
В дальнейшем поэт публиковал произведения разных жанров – драмы, поэмы, баллады. Но в целом творчество Теннисона было связано прежде всего с исторической и мифологической тематикой.
В 1884 году Теннисону был пожалован титул барона, и он занял свое место в палате лордов.
Умер Альфред Теннисон 6 октября 1892 года в Олдуорте, графство Суррей.
На русский язык стихи Теннисона переводили А. Н. Плещеев, М. Л. Михайлов, С. Я. Маршак и другие.
АЛЬФРЕД ДЕ МЮССЕ (1810-1857)
Биографы почему-то ставят жизнь и судьбу поэта в прямую зависимость от его связи с известной французской романисткой Жорж Санд. Даже творчество его делят на три этапа: до Жорж Санд, во время любовных отношений с ней, после Жорж Санд. Вряд ли де Мюссе заслужил такое отношение. Абсолютно независимый от стороннего влияния, гениально одаренный поэт, он составляет славу французской и мировой поэзии первой половины XIX века.

Луи Шарль Альфред де Мюссе родился в Париже 11 декабря 1810 года в дворянской, но обедневшей в годы революции и наполеоновских войн семье.
Отец будущего поэта служил в канцелярии военного министерства и одновременно занимался литературным трудом. Он – автор нескольких романов и исторических сочинений. В 1821 году именно де Мюссе-отец издал первое полное собрание сочинений Жан Жака Руссо, а потом написал одну из лучших биографий философа.
Старший брат Альфреда Поль-Эдм тоже был весьма одаренным человеком и сочинял пользовавшиеся успехом романы и повести.
В 1817 году младший Мюссе поступил в престижный коллеж Генриха IV, где изучал латынь, историю, философию, литературу. Однако именно в колледже было замечено, что мальчик страдает нервными расстройствами, доводившими его до припадков. Особенно тяжело отразилась на психическом состоянии Альфреда неожиданная гибель его близкого товарища по коллежу. Вероятнее всего, именно под впечатлением этого события и были созданы мальчиком первые стихотворения.
После коллежа для де Мюссе-младшего настала пора поиска собственного жизненного пути. Он пытался изучать юриспруденцию, медицину, пробовал себя в живописи и писал в стиле Делакруа.
Несостоявшегося художника посетила первая любовь. Это была маркиза Делакарт, испанка по происхождению, урожденная баронесса Бозио, одна из красивейших женщин Парижа.
Альфред страстно влюбился в нее. Однажды маркиза Делакарт явилась на бал в костюме бога Гименея, де Мюссе-младший выступал при ней пажом. Это была вершина блаженства для юного поклонника светской львицы. Однако вскоре маркиза пресытилась обществом юноши и променяла его на зрелого мужчину – критика и фельетониста Жюля Жанена. Связь с Делакарт заметно отразилась на раннем творчестве поэта, он увлекся испанской темой и создал замечательный стихотворный цикл об Испании.
Вскоре после разрыва с Делакарт де Мюссе вошел в литературный кружок «Сенакль», который возглавлял Виктор Гюго. Случилось это в 1828-1829 годах. Именно в обществе литераторов молодой человек окончательно понял, что его истинное предназначение – поэзия.
Первый сборник романтических стихотворений Альфреда де Мюссе «Испанские и итальянские повести» вышел в свет в 1830 году и сразу привлек внимание читателей. В книгу вошли и стихи, посвященные погибшему другу отрочества, и стихотворения, созданные в дни юношеской любви к маркизе Делакарт.
Родители Мюссе были в восторге от первого литературного опыта сына. Альфреда сразу же приняли в высшее общество, причем за внимание милого юнца боролись самые прославленные красавицы аристократического Парижа. Молодой человек стал личным другом герцога Орлеанского. Даже при дворе короля Луи Филиппа к де Мюссе отнеслись с пиететом и прислушивались к его мнению.
Поэт наслаждался успехом. То и дело он завязывал ни к чему не обязывавшие любовные интрижки, кутил, развлекался, вел беспорядочный образ жизни. Домой возвращался за полночь, сразу садился за рабочий стол и до утра лихорадочно сочинял стихи. Чтобы преодолевать постоянно одолевавшую его усталость, де Мюссе пристрастился к возбуждающим средствам – начинал он с вина, затем перешел на водку.
Тем временем на литературном небосклоне Парижа взошла новая звезда – Аврора Дюдеван, писавшая под псевдонимом Жорж Санд. В салонах Парижа судачили о ее романтическом прошлом, о страстной ее любви к Жюлю Сандо, о неудачном романе с Проспером Мериме… Участвовал в таких беседах и Мюссе. Впрочем, к тому времени поэт уже сам прослыл в обществе повесой, легкомысленным эгоистом и отчаянным модником.
Летом 1833 года на торжественном приеме, устроенном владельцем журнала «Revue des Deux Mondes», они познакомились и очаровали друг друга. Не помешала даже разница в возрасте – Мюссе был на шесть лет младше Жорж Санд. 29 июля 1833 года Аврора получила от де Мюссе письмо с признанием в любви. Она колебалась некоторое время, но в конце концов сдалась уговорам молодого красавца.
Де Мюссе переехал жить в дом к Жорж Санд. Она стала называть его «мой мальчуган Альфред». Влюбленные были счастливы. Говорили, что Аврора помолодела на десять лет! Де Мюссе воспевал ее в стихах. Об этом времени поэт вспоминал так: «Я работал целый день: выпил бутылку водки и написал стихотворение. Она выпила литр молока и написала половину тома».
Со временем у Альфреда появилось ощущение пресыщения любовью. Как признавался он сам, Жорж Санд разочаровала его как любовница. Де Мюссе хотел страстей и возвышенных чувств одновременно, а Аврора все чаще напоминала ему девицу легкого поведения. Молодой человек откровенно заскучал.
Чтобы освежить отношения, в декабре 1833 года любовники отправились в Италию. Поездку финансировала Жорж Санд, у де Мюссе денег не было.
Во время путешествия изысканный Мюссе с удивлением обнаружил, что его возлюбленная слишком мужеподобна. Он жаловался на ее педантизм, сдержанность, холодность, на то, что она живет и трудится строго по плану. Аврора отказывалась общаться с кем бы то ни было, пока не отрабатывала запланированный на день объем текста.
Наконец, в январе 1834 года любовники прибыли в Венецию и остановились в знаменитом ныне 10 номере отеля «Даниэли». Все время пребывания в прославленном городе они то ссорились, то устраивали оргии в честь очередного примирения. Но чаще все-таки ссорились. Альфред называл Аврору «воплощенной скукой», «глупой бабой».
Однажды, сидя на террасе «Даниэли», де Мюссе сорвался и сказал:
– Прости, Жорж, я ошибался, я не люблю тебя.
Она ответила:
– Мы друг друга не любим. И никогда не любили.
Женщина хотела немедленно уехать, но поскольку у де Мюссе не было за душой ни гроша, бросить его на произвол судьбы Аврора не могла. Да и сразу же по приезде в Венецию у Жорж Санд началась лихорадка.
Пока женщина болела, Альфред развлекался один, а как только Санд пошла на поправку, с лихорадкой свалился де Мюссе.
Во время болезни поэта Аврора увлеклась его лечащим врачом. Молодой венецианец Пьетро Паджелло был глуповат и беден, но красив как бог. Санд влюбилась.
Сложилась легенда о том, будто писательница сбежала с Паджелло, оставив нищего де Мюссе одного метаться в бреду в номере «Даниэли».
В реальности больной Альфред заметил, что между Санд и врачом начался роман. Сквозь бред больной мог наблюдать, как его бывшая возлюбленная, сидя на коленях у Паджелло, целуется с ним.
Однажды утром, проснувшись, поэт увидел в соседней комнате столик, на котором еще стояла чайная чашка.
– Ты пила чай? – спросил де Мюссе.
– Да, с доктором.
– А почему только одна чашка?
– Вторую уже убрали.
– Убрали! Ты лжешь. Вы пили из одной чашки.
– Даже если и так, – возмутилась Жорж Санд, – тебе-то какое дело? Мы с тобой более не любовники.
В марте де Мюссе уехал из Италии, а Жорж Санд осталась с Пьетро Паджелло в Венеции. Их связь, основанная только на страсти, быстро закончилась – тихая семейная жизнь с глупеньким Паджелло не входила в планы романистки.
Де Мюссе вернулся в Париж разбитым духовно и физически. Увидевший его вскоре после возвращения Гейне сказал:
– У этого впереди великое прошлое…
Очень скоро де Мюссе пожалел о разрыве. Дело дошло до того, что он стал тайком ходить к дому Жорж Санд, бродить по ее излюбленным дорожкам и даже рыдать при виде окурка ее сигареты. Сломанный гребень любовницы стал талисманом его жизни.
Поэт описал свои муки в стихах, которые принадлежат к лучшим творениям французской любовной лирики, – в четырехтомнике «Ночи» (1835-1837) и в книге «Воспоминание» (1841). Автобиографический роман «Исповедь сына века» (1836) воспроизводит если не фактическую сторону, то атмосферу связи с Жорж Санд; в том же духе, только в басенной форме, написан рассказ «История белого дрозда» (1842).
Вернувшись из Венеции, романистка позвала де Мюссе обратно. И он прибежал, полный восторга и надежд. Однако это была жестокая ловушка! Жорж Санд не могла допустить, чтобы в парижском обществе кто-то считал ее брошенной. Она должна была бросить первой! Через три месяца новой связи Санд сбежала от поэта в Ноан, обставив это с такой ловкостью, что Альфред понял ее коварство слишком поздно.
После окончательного разрыва с любовницей де Мюссе пошел по рукам. Он то и дело влюблялся: одни избранницы лишь забавлялись с ним светскими разговорами, другие становились любовницами, но истинной любви поэт так и не нашел.
Хозяйка модного аристократического салона, княгиня из Милана Христина Бельджойзо стала той женщиной, с чьей помощью поэт попытался избавиться от фантома Жорж Санд. Увидев княгиню впервые, поэт был ослеплен ее красотой и восхищен ее умом… Князь Бельджойзо любезно пригласил де Мюссе бывать у них почаще. Но вскоре открылась тайна такого благодушия: княгиня была как кошка влюблена в своего мужа и просто высмеяла неудачливого ухажера. Поэт воспел княгиню под именем Нинон, а утешение нашел в объятиях гризетки Луизы и в платоническом романе с писательницей Луизой Коллэ.
Весной 1838 года в салоне мадам Жубер, тоже любовницы де Мюссе, поэт увидел юную испанскую певицу Полину Гарсию и влюбился в эту некрасивую, но очаровательную девушку. Она оказалась девицей весьма строгих правил и отвергла ухаживания Альфреда.
Через год завязался роман де Мюссе с начинающей примой «Комеди Франсез» Рашелью. Девушка была не прочь выйти замуж за поэта, но продлившиеся некоторое время отношения прервались с ее отъездом в Лондон.
После этого поэт увлекся актрисой Розой Шерри.
Пагубные пристрастия окончательно расстроили здоровье де Мюссе. Он вынужден был поехать на воды в Пломбьер, где встретил чудесную девушку, любовь которой могла бы излечить его душевные раны. Но поэт отказался от собственного счастья, поскольку уже столь увяз в алкоголе и наркотиках, что стал сомневаться в своей способности отказаться от дурных привычек.
Дар стихотворца постепенно покинул гениального поэта. После 1841 года он не написал ничего, что могло бы сравниться с творчеством прежних лет.
Де Мюссе часто заявлял о своей политической нейтральности, но в целом ряде произведений объявил себя поэтом Июльской монархии[228], за что не раз удостаивался всевозможных королевских милостей. После революции 1848 года де Мюссе поддержал Вторую республику и ее президента, будущего Наполеона III Бонапарта. За такую лояльность правительство поспособствовало тому, что в 1852 году Альфред де Мюссе был избран в члены Французской академии. Но поэта это не обрадовало. Он тосковал, его все чаще видели в кофейне Регентства у шахматной доски, за которой де Мюссе проводил долгие часы.
Постепенно общество начало забывать своего блистательного любимца, и его смерть 2 мая 1857 года не произвела на современников сильного впечатления.
На русский язык стихи Мюссе переводили И. С. Тургенев, А. А. Фет, В. С. Курочкин, А. Н. Апухтин, В. Я. Брюсов, а в советское время – В. А. Рождественский, С. В. Шервинский, Ю. Б. Корнеев, Э. Л. Липецкая и другие.
МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ ЛЕРМОНТОВ (1814-1841)
«Черт знает – страшно сказать, а мне кажется, что в этом юноше готовится третий русский поэт и что Пушкин умер не без наследника». Так 9 февраля 1840 года писал В. Г. Белинский в письме к В. П. Боткину после прочтения стихотворения Лермонтова «Дары Терека». Виссарион Григорьевич даже представить себе не мог, что ко времени написания этого письма великий поэт уже состоялся и что жить ему оставалось немногим более одного года.

Михаил Юрьевич Лермонтов родился в ночь со 2 на 3 октября 1814 года в Москве. Отец его Юрий Петрович Лермонтов был армейским капитаном. Мать, Мария Михайловна, урожденная Арсеньева, являлась единственной дочерью и наследницей пензенской помещицы Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, происходившей из рода Столыпиных. Брак между родителями оказался неудачным, они постоянно ссорились, и Мария Михайловна предпочитала чаще бывать у матери, чем дома.
24 февраля 1817 года мать поэта умерла от чахотки на двадцать втором году жизни. Похоронили ее в фамильном склепе в Тарханах. А в начале марта Юрий Петрович уехал в свое имение Кропотово, оставив сына на попечение бабушки. В дальнейшем отношения между отцом и сыном оставались дружескими, они переписывались, но почти не виделись. Умер Юрий Петрович 1 октября 1831 года от чахотки и похоронен в Кропотове Тульской губернии. Шел ему сорок четвертый год.
Детство поэта прошло в Тарханах. Вначале за ним смотрела немка Ромер, женщина строгих правил, добросердечная и религиозная. Когда мальчик подрос, к нему приставили гувернером немца Кнапа. Но по-настоящему Мишеньку опекали бабушка, тетушки и кузины. Был он всеобщим любимцем и баловнем.
Елизавету Алексеевну очень беспокоило здоровье внука. Особое внимание уделяла она физическому развитию мальчика. Впоследствии Михаил Юрьевич, несмотря на свою инфантильную комплекцию, отличался от своих сверстников ловкостью, смелостью и физической силою так, что гнул шомпола и завязывал из них узлы.
Для укрепления Мишенькиного здоровья летом 1825 года бабушка повезла его в Горячеводск[229] на воды. Там находилось имение родной сестры Елизаветы Алексеевны – Екатерины Алексеевны Хастатовой, за мужество и смелость прозванной в высшем обществе «авангардной помещицей». В те годы Россия еще только начинала осваивать Кавказ, и Екатерина Алексеевна была непосредственной свидетельницей и участницей многих происходивших там исторических событий. Ее рассказы навсегда захватили фантазию мальчика. По наблюдениям некоторых биографов, многие кавказские произведения поэта навеяны не столько его личными впечатлениями, сколько воспоминаниями о рассказах Хастатовой.
В Горячеводске к Мише пришла первая любовь. Сам он написал об этом следующее: «Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея 10 лет от роду? Мы были большим семейством на водах Кавказских: бабушка, тетушки, кузины. К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет 9. Я ее видел там. Я не помню, хороша была она или нет. Но ее образ и теперь еще хранится в голове моей».
В 1826 году Миша с бабушкой перебрались в Москву, где мальчика определили в пансион Женро. Там он обучался, в частности, французскому и английскому языкам, немецкий он уже знал в совершенстве. Через два года Лермонтов перешел в университетский благородный пансион и сверх того брал частные уроки у Мерзлякова, первого в те годы знатока словесности. По окончании курса состоялся публичный экзамен, на котором Михаил получил первую награду за сочинение и успехи в истории.
Стихи Лермонтов начал писать еще в Тарханах. А в Москве в 1828-1829 годах им были уже созданы поэмы «Корсар», «Преступник», «Олег», «Два брата», «Последний сын вольности», первая редакция «Демона». Все эти произведения, как и большинство творений поэта, были опубликованы только после его гибели. Сам Михаил Юрьевич считал их недоработанными, но началом своей поэтической работы он всегда называл 1828 год.
В 1830 году после сдачи экзаменов Лермонтов был зачислен на нравственно-политическое отделение Московского университета. К этому времени относится первое сильное юношеское увлечение Лермонтова Екатериной Александровной Сушковой (в замужестве Хвостовой), с которой он познакомился у своей приятельницы А. М. Верещагиной. Ей посвящен цикл стихов 1830 года. В декабре 1834 года поэт вновь встретился с Екатериной в Петербурге и через месяц добился от нее признания в любви. Это означало, что девушка скомпрометировала себя. Дальнейшие события показали скверную сторону характера поэта. 5 января 1935 года он написал Сушковой анонимное письмо с намеком, что в обществе знают о ее чувствах к Лермонтову. Немедленно произошел разрыв отношений, но до конца жизни Сушкова не узнала, что автором анонимки был сам Михаил Юрьевич.
По-видимому, несколько позднее Лермонтов пережил еще более сильное, хотя и кратковременное чувство к Наталье Федоровне Ивановой. Ей посвящен большой «ивановский цикл» стихов 1830-1832 годов. Иванова вначале ответила Лермонтову взаимностью, но затем неожиданно порвала с поэтом отношения, чем глубоко оскорбила его и вызвала в молодом человеке чувство женоненавистничества.
В ноябре 1831 года Михаил Юрьевич познакомился с Варварой Александровной Лопухиной (в замужестве Бахметевой). Поэт встретил девушку вскоре после разрыва с Ивановой. По свидетельству хорошо знавшего поэта Алексея Павловича Шан-Гирея, «чувство к ней Лермонтова было безотчетно, но истинно и сильно, и едва ли не сохранил он его до самой смерти своей…» Чувства были взаимными. В 1835 году Лопухина под давлением родителей вышла замуж за немолодого Николая Федоровича Бахметева. Предполагают, что на брак Варенька согласилась, когда до нее дошли слухи о поступке Лермонтова в отношении Сушковой. Поэт воспринял этот брак как предательство и долго страдал.
Лопухиной посвящены многие замечательные произведения Михаила Юрьевича, в том числе «Валерик», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Белеет парус одинокий…», третья редакция «Демона», поэмы «Измаил-Бей» и «Сашка», стихотворение «Нет, не тебя так пылко я люблю», неоконченный роман «Княгиня Лиговская». Лопухина стала прототипом Веры в «Княжне Мери», некоторые литературоведы считают, что с нее писана сама княжна Мери.
Долгое время родственники Варвары Александровны запрещали исследователям говорить о ее отношениях с Лермонтовым. Поэт при жизни тоже старался не открывать имя своей возлюбленной.
В 1832 году Лермонтов переехал в Петербург, надеясь продолжить образование в Петербургском университете; однако ему отказались зачесть прослушанные в Москве курсы.
Чтобы не начинать обучение заново, Михаил Юрьевич, вопреки советам бабушки, сдал в ноябре 1832 года экзамены в Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров и был зачислен на правах вольноопределяющегося унтер-офицера лейб-гвардии Гусарского полка. Два года провел поэт в Школе, где его время было посвящено преимущественно строевой службе, дежурствам, парадам…
В начале учебы Лермонтов чуть не погиб. Он самовольно сел на необъезженную молодую кобылу, к которой подбежал конь и с силой ударил седока копытом. У Михаила Юрьевича нога ниже колена была разбита до кости, его вынесли из манежа. После этого случая поэт долго болел, а когда выздоровел, стал прихрамывать.
По окончании Школы в сентябре 1834 года Лермонтов был произведен в корнеты лейб-гвардии Гусарского полка. Он поселился в Царском Селе, где стоял его полк, и повел буйную, рассеянную жизнь богатого офицера.
В июле – августе следующего года в «Библиотеке для чтения» была напечатана поэма «Хаджи-Абрек». Она стала первой в жизни публикацией Лермонтова. Известно, что рукопись была отнесена в журнал без ведома автора другом его Николаем Дмитриевичем Юрьевым.
В Царском Селе Лермонтов создал первую редакцию драмы «Маскарад», работал над поэмами «Сашка», «Боярин Орша», начал роман «Княгиня Лиговская». Драму «Маскарад» цензура признала безнравственной, к публикации ее разрешили только в 1842 году, после гибели поэта, а на сцене премьера ее состоялась только 27 октября 1852 года в Александринском театре.
27 января 1837 года был смертельно ранен А. С. Пушкин. В тот же вечер по городу распространился слух о его смерти. На следующий день Михаил Юрьевич на одном дыхании написал первую часть стихотворения «Смерть Поэта». По свидетельствам современников, после кончины Пушкина 29 января «стихи Лермонтова на смерть поэта переписывались в десятках тысяч экземпляров, перечитывались и выучивались наизусть всеми».
7 февраля Лермонтов написал заключительные 16 строк стихотворения («А вы, надменные потомки…»).
Очень скоро «Смерть поэта» в полном варианте достигла Николая I. Император был глубоко оскорблен в лучших чувствах. И кем?! Корнетом, молокососом! Уже 18 февраля Лермонтов был арестован и помещен в одной из комнат верхнего этажа Главного штаба. Началось политическое дело о «непозволительных стихах». Николай I приказал «… старшему медику гвардейского корпуса посетить этого господина и удостовериться, не помешан ли он…»
Под арестом к Лермонтову пускали только камердинера, приносившего обед. Поэт велел завертывать хлеб в серую бумагу, и на этих клочках с помощью вина, печной сажи и спички написал несколько удивительных по красоте и силе стихотворений, в их числе «Когда волнуется желтеющая нива…», «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…», «Кто б ни был ты, печальный мой сосед…»
В феврале 1837 года был отдан высочайший приказ о переводе Лермонтова прапорщиком в Нижегородский драгунский полк на Кавказ. В марте он выехал к новому месту службы через Москву. Пока поэт находился в пути, в журнале «Современник» было помещено его программное стихотворение «Бородино».
По дороге Лермонтов простудился. Вначале он лежал в ставропольском военном госпитале, затем его перевели в пятигорский госпиталь для лечения минеральными водами. Фактически это лечение стало путешествием по Кавказу. Лермонтов изъездил вдоль всю Линию, от Кизляра до Тамани, переехал горы, был в Шуше, в Кубе, в Шемахе, в Кахетии.
Тем временем за хлопоты о ссыльном внуке взялась Е. А. Арсеньева. Она обратилась за помощью к шефу корпуса жандармов Александру Христофоровичу Бенкендорфу и великому князю Михаилу Павловичу. Бенкендорф принял «живейшее участие в просьбе… доброй и почтенной старушки». По его ходатайству перед императором, в октябре 1837 года Лермонтов был переведен в Гродненский гусарский полк, стоявший в Новгородской губернии, а немного позднее – в лейб-гвардии Гусарский полк – в Царском Селе.
В январе 1838 года Лермонтов вернулся в Петербург.
Пришло время его литературной славы. Поэт сразу был принят в пушкинский литературный круг – его приветствовали В. А. Жуковский, П. А. Вяземский, П. А. Плетнёв, В. А. Соллогуб, семейство Карамзиных.
Из ссылки Лермонтов привез целый ряд гениальных произведений, которые он публиковал по мере их доработки. Еще будучи в ссылке, поэт анонимно напечатал в «Современнике» «Песнь про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», в 1838 году там же появилась «Тамбовская казначейша». В марте 1939 года в «Отечественных записках» была напечатана «Бэла. Из записок офицера о Кавказе».
В 1840 году в Петербурге отдельными изданиями вышли единственные прижизненные книги Лермонтова – сборник «Стихотворения», где в числе других произведений были впервые полностью опубликованы поэма «Мцыри» и «Герой нашего времени». Однако подавляющее большинство произведений великого поэта было опубликовано посмертно.
Михаил Юрьевич ухаживал в то время за красавицей княжной Марией Александровной Щербатовой. Девушка нравилась и барону Эрнесту Баранту, атташе французского посольства в России. 16 февраля 1840 года на балу у графини Александры Григорьевны Лаваль произошла ссора между соперниками, во время которой Барант спровоцировал Лермонтова на дуэль, которая состоялась 18 февраля 1840 года на Парголовской дороге за Черной речкой. Сначала дрались на шпагах, причем Барант слегка оцарапал Лермонтову грудь, а у поэта переломился конец шпаги. Тогда перешли на пистолеты. Барант стрелял первым и промахнулся, Лермонтов выстрелил в сторону. На том противники помирились.
Однако, когда слухи о состоявшейся дуэли дошли до высшего начальства, Лермонтова взяли под арест и предали суду. Баранта выслали из России.
Николай I, узнав о случившемся, сказал, что, если бы Лермонтов подрался с русским, он знал бы, что с ним сделать, но когда с французом, то три четверти вины слагается. В конце концов, император приказал ускорить дело и «поручика Лермонтова перевесть в Тенгинский пехотный полк тем же чином».
В начале мая 1840 года поэт в третий раз отправился на Кавказ и уже в июле участвовал в стычках с горцами и в кровопролитном сражении при реке Валерик. Об этом сохранилась запись очевидца: «Тенгинского пехотного полка поручик Лермонтов во время штурма неприятельских завалов на реке Валерик имел поручение наблюдать за действиями передовой штурмовой колонны и уведомлять начальника отряда об ее успехах, что было сопряжено с величайшею для него опасностью от неприятеля, скрывавшегося в лесу за деревьями и кустами. Но офицер этот, несмотря ни на какие опасности, исполнил возложенное на него поручение с отменным мужеством и хладнокровием и с первыми рядами храбрейших солдат ворвался в неприятельские завалы».
Тем временем на поэта надвигалась новая гроза. Прочитав «Героя нашего времени», Николай I отметил «… это жалкое дарование, оно указывает на извращенный ум автора». Назревала новая опала.
За подвиги во время военных действий император разрешил поэту двухмесячный отпуск. Но ходатайства военного командования о переводе Лермонтова «в гвардию тем же чином с отданием старшинства», о его награждении золотой саблей с надписью «За храбрость» и о награждении орденом Святого Станислава 3-й степени были отклонены.
В начале 1841 года Михаил Юрьевич приехал в Петербург и начал хлопоты об отставке. Но он не получил даже отсрочки и в апреле вынужден был вернуться в Пятигорск. Накануне выезда, 20 апреля, Лермонтов написал знаменитое стихотворение «Прощай, немытая Россия…».
Военное начальство разрешило поэту задержаться в Пятигорске для лечения на минеральных водах. Здесь в последние месяцы жизни Лермонтов создал такие шедевры, как «Сон», «Утес», «Тамара», «Выхожу один я на дорогу…», «Морская царевна», «Пророк» и другие.
В Пятигорске Лермонтов нашел общество прежних знакомых. В их числе был давнишний приятель поэта Николай Соломонович Мартынов. Дружили они еще со Школы юнкеров и почти никогда не прерывали отношений.
13 июля 1841 года на вечеринке у сестер Аграфены Петровны и Надежды Петровны Верзилиных Лермонтов и Мартынов поссорились. Точно причина ссоры неизвестна. По версии самого Мартынова, Лермонтов, будучи в компании с младшим братом Пушкина Львом Сергеевичем Пушкиным, долго насмехались над ним. Мартынов несколько раз прямо просил оставить его в покое, тем более что он был неравнодушен к Надежде Верзилиной. Но друзья не унимались. Мартынов был доведен издевками до состояния отчаяния и вызвал Лермонтова как заводилу на дуэль.
Утром 15 июля Лермонтов, Пушкин, их приятельница Екатерина Григорьевна Быховец ездили на пикник. Поэт был уверен, что все обойдется. Между 6 и 7 часами вечера того же дня Михаил Юрьевич Лермонтов был убит на дуэли. Пуля попала прямо в сердце.
Вначале поэта похоронили в Пятигорске. Но по прошению Е. А. Арсеньевой прах его перевезли в Тарханы, где и похоронили в семейном склепе 23 апреля 1842 года.
Елизавета Алексеевна ненадолго пережила внука. Она умерла 23 апреля 1845 года и похоронена в том же склепе.
Николай Соломонович Мартынов был отдан под суд. В дальнейшем по приказу Николая I он был посажен на три месяца на гауптвахту в Киевской крепости и предан церковному покаянию на 15 лет. В 1843 году Святейший Синод сократил срок покаяния до 5 лет. Умер Мартынов в 1875 году.
ТАРАС ГРИГОРЬЕВИЧ ШЕВЧЕНКО (1814-1861)
25 февраля 1814 года в селе Моринцы на Киевщине, в семье крепостного крестьянина Григория Ивановича Шевченко и его жены Екатерины родился сын Тарас. Шевченко были собственностью действительного тайного советника В. В. Энгельгардта.
В советской литературе представление о жизни крепостного крестьянина было сильно искажено, а трагичность их положения утрирована. В середине ХIХ столетия крепостные, начиная с 14-15-летнего возраста, должны были дважды в неделю ходить на барщину и делать безотказно то, что им приказывал барский управитель. Помимо этого они обязаны были платить деньгами или натурой десятину выращенного на той земле, что им предоставил помещик. Все прочее, что оставалось от выращенного или что крепостной зарабатывал на стороне, оставалось ему. На заработанное он имел право выкупить себя, семью и землю, на которой работал. Самые известные сахарозаводчики Новоросии и Малороссии – Терещенко, Ханенко, Семиренко – вышли из крепостных. Сами себя выкупили…

Не из бедных была и семья Тараса. Отец его, Григорий Иванович Шевченко-Грушевский, женился по любви на красавице Екатерине Бойко, дочери зажиточного закрепощенного казака Якима Бойко из Моринцев.
В родительском подворье молодым было тесно, ведь у старого Ивана Шевченко было еще четверо детей. Поэтому Бойко добился от управителя Ольшанским кустом сел пана Василия Энгельгардта, отставного ротмистра Дмитренко, чтобы молодым отдали дом и землю их соседа Колесника.
Колесник на то время уехал чумаковать – подрабатывать. Воспользовавшись его отсутствием, помощник управителя по Моринцам заставил его жену, которая была на последнем месяце беременности, идти на жатву. Там женщина и умерла во время родов. Умер и ребенок.
Когда добытчик вернулся и узнал о случившемся, он напился с горя и сильно избил изувера. За это Колесника отдали в рекруты, а дом со всем хозяйством достался семье Григория Шевченко. Жили они здесь неплохо. Держали буренку, свиней и овец, имели волов с телегой. Каждое лето Григорий чумаковал, а зимой зарабатывал деньги плотничаньем и стельмахством, поскольку очень хорошо чувствовал дерево и любил работать с ним.
В 1812 году началось нашествие Бонапарта. Все, кто еще помнил о Колеснике, даже не сомневались, что он неизбежно пропадет в чужой стороне. Но мужик сбежал из армии, вернулся в родное село и увидел, что в его подворье живет семейство соседа. Тогда проклял изгнанник весь род Шевченко и подался в гайдамаки. Поговаривали, что Тарас Григорьевич всю жизнь ходил под этим проклятием и даже надеялся откупиться от него поэмой «Гайдамаки».
В те времена вокруг Моринцев были огромные темные леса с непролазными чащами. Начал Колесник совершать оттуда набеги и грабить людей. Особо люто ненавидел он Григория Шевченко, несколько раз среди ночи нападал на его дом. За короткое время гайдамаки отняли у крестьянина двенадцать овец и корову, да еще и предупредили:
– Корову съедим, дом сожжем и самого тебя замучим. Не хочешь сего, так прочь отсюда убирайся!
Кинулся Григорий Шевченко в ноги тестю и отцу, чтобы избавили они его от разбойников. Родители купили ему за 200 рублей домик с усадьбой в Кириловке[230].
Детей у Шевченко было шестеро. Старшие – Екатерина и Никита, потом шел Тарас и младшенькие – Ирина, Мария и Иосиф.
Отец Тараса был грамотным. Хотел, чтобы грамотными стали и его дети. Когда будущему поэту исполнилось восемь лет, Григорий отдал его учиться грамоте в церковноприходскую школу, к дьячку Рубану. На Украине школы при церквях были большей частью польские, православные же школы были редкостью. Так что учился будущий поэт польскому языку и польской грамоте.
20 августа 1823 года умерла Екатерина Якимовна[231]. Григорий Шевченко остался вдовцом с пятью сиротами на руках[232]. Справиться с такой ватагой в одиночку он не мог и в октябре того же года женился на вдове-односельчанке Ксении, у которой было своих трое детей. Мачеха невзлюбила детей мужа и часто их колотила. Больше всех доставалось шаловливому Тарасу.
С десяти лет отец стал брать сына с собой – чумаковать. Они вместе побывали в Гуляй-поле, Новомиргороде, Грузовке, Елизаветграде. Тогда-то – и в дороге, и дома от деда Ивана, – наслушался Тарас рассказов о знаменитой Колиивщине[233].
Продолжалась такая жизнь недолго. В марте 1825 года умер Григорий Иванович Шевченко. Любопытно, что перед смертью, распоряжаясь немалым наследством, он сказал о сыне Тарасе:
– …для його моэ наслидство нiчого не буде значить, або нiчого не поможе…
Одиннадцатилетний Тарас остался полным сиротой. Ему помогали чужие люди, сначала он жил у дьячка, где обучился чтению и письму, затем у маляров, которые показали ему простейшие приемы рисования. Был мальчик пастушком, батрачил…
Тогда-то Тарас впервые влюбился – в подругу своей младшей сестры двенадцатилетнюю Оксану Коваленко.
В мае 1828 года умер В. В. Энгельгардт. Ему наследовал сын Павел Васильевич Энгельгардт, штаб-ротмистр. В память о покойном его друг семидесятипятилетний виленский генерал-губернатор граф О. Н. Римский-Корсаков взял молодого человека к себе адъютантом.
Чтобы показать свою значительность, к новому месту назначения Павел Васильевич захотел приехать с новонабранной гвардией из молодых крепостных. Он приказал Дмитренко сформировать ему этот отряд. К тому времени заботой окружающих Тарас уже полгода занимался у знаменитого тогда художника Степана Превлоцкого, который научил его азам живописи. Дмитренко предложил Шевченко стать при барине домашним художником, и тот согласился. В советское время писали, что поэт служил у барина казачком и что тот будто бы лупцевал его за рисование. На самом деле казачком у Энгельгардта служил Иван Нечипоренко, а домашнего живописца за исполнение его прямых обязанностей никто бить не мог. Тарас же был фактически приставлен к хозяйке, супруге Энгельгардта баронессе Софии Григорьевне, которая полюбила сироту и всячески его поощряла. Баронесса воспитывалась в семье масона и была приверженкой идеи равенства людей. Она научила Тараса правильному русскому языку, чтению и письму, гувернантка с разрешения барыни выучила юношу французскому.
Зато молодой Энгельгардт терпеть не мог своего крепостного, «быдло, которое из кожи вон лезло, чтобы тоже стать человеком»!
Баронесса стала позировать домашнему художнику,. По желанию хозяйки в Вильно Тараса определили для обучения к художнику Янасу Рустемасу (Рустем). София Григорьевна оплатила его обучение из своих средств.
С помощью родственников в 1830 году Энгельгардт был переведен на службу в Петербург[234]. Во время переезда Шевченко предпринял неудачную попытку сбежать, но наказания не последовало – защитила все та же баронесса. В столице у Павла Васильевича появился отличный дом. Расписывать комнаты барин пригласил известного художника Василия Ширяева, и Тарас уговорил Софию Григорьевну отдать его на обучение к мастеру. Не хотела баронесса расставаться со своим любимцем, но согласилась, и Шевченко на шесть лет перебрался жить к своему учителю.
В доме Ширяева, в 1837 году Тарас Григорьевич написал свою первую поэму «Причинна».
Молодой талантливый крестьянин обратил на себя внимание художественной общественности столицы. Энтузиасты решили помочь ему выкупиться из крепостной зависимости. Возглавил это дело В. А. Жуковский. В апреле 1838 года Шевченко был принят Карлом Брюлловым. Они долго беседовали. Результатом встречи стала лотерея в царской семье, на которой Брюллов выставил в розыгрыш портрет В. А. Жуковского. Картину купили за гигантскую по тем временам сумму – 2 500 рублей. Этих денег вполне хватило, чтобы выкупить молодого человека у Энгельгардта. 20 мая 1838 года Тарасу Григорьевичу вручили отпускную. Он стал вольным человеком.
Свобода дала толчок поэтическому гению Шевченко. В тот же год он создал поэму «Тарасова нiч», ряд прекрасных стихотворений, в том числе «Думку». Чуть позже была завершена поэма «Катерина».
Поселился Тарас Григорьевич у Брюллова. Там было создано знаменитое стихотворение «Думи мойи, думи мойи…». А затем в 1840 году вышел его первый поэтический сборник «Кобзарь», и к поэту пришла слава. Чуть позже, в 1843 году, появились «Гайдамаки»… Особенно знаменательным стал сборник его стихотворений «Три года», который завершался стихотворением «Как умру, похороните…»
В том же 1843 году в Киеве на балу у Татьяны Волховской Шевченко познакомился с Ганной Закревской, супругой отставного полковника Платона Закревского. Они понравились друг другу. В сентябре – октябре 1844 года Закревская была в Санкт-Петербурге вместе с мужем, который приехал в столицу по тяжбам с соседями. Анна и Тарас стали встречаться. Через девять месяцев, в июле 1845 года Закревская родила дочь Софию. Крестными были Виктор Закревский и его сестра. Платон Закревский отказался признать Софию своей дочерью. Тарасу Григорьевичу же в течение всей жизни не позволили хоть краем глаза взглянуть на его дитя, а он так мечтал о ребенке.
В 1846 году Шевченко вступил в основанное в конце 1845 года преподавателями и студентами Киевского университета Кирилло-Мефодиевское общество, преследовавшее цель создания федерации славянских народов. Поэт примкнул к левому крылу этого общества. В начале марта 1847 года на Шевченко и Кирилло-Мефодиевское общество был написан донос. Началось следствие. 5 апреля 1847 года на Днепровской переправе в Киеве Тараса Григорьевича арестовали.
Расправа была скорой, поскольку Николай I, которому Кирилло-Мефодьевское общество было абсолютно безразлично, давно хотел разделаться именно с Шевченко. Чем же так не угодил поэт императору? Политика была здесь совершенно ни при чем. Тарас Григорьевич глубоко оскорбил горячо любимую мать императора – императрицу Марию Федоровну-старшую, написав о ней стихотворение «Как опенек засушенный, бледна, тонконога…» Но еще страшнее было другое: по поручению Карла Брюллова Шевченко тайно рисовал нескромные картинки для наследника престола Александра Николаевича, будущего императора Александра II. Николай I ханжой не был, но такого разврата в своей семье допустить не мог. Скорым судом Тарас Шевченко был приговорен к десяти годам солдатской службы в Орской крепости «под строжайшим надзором, с запрещением писать и рисовать».
Уже 31 мая поэт отбыл в Оренбург.
Вначале Тарас Григорьевич служил в Орской крепости, где в 1849 году участвовал в экспедиции А. И. Буткова на Сырдарье, Аральском море, их берегах и островах. Затем в 1851 году был переведен в Новопетровское укрепление на Мангышлаке, где участвовал в Каратаусской экспедиции для выявления залежей каменного угля.
Невзирая на императорский запрет, все время ссылки поэт много работал – писал, рисовал… И сильно тосковал. Все чаще к нему наведывались мысли о смерти и о вечности. Сердце разъедала ностальгия по родине. Поэт пристрастился к выпивке и уже не смог избавиться от этой болезни до конца своих дней.
21 июля 1857 года, во многом благодаря хлопотам Алексея Константиновича Толстого, было получено извещение об освобождении поэта. Шевченко сразу же «на самой утлой рыбачьей ладье» помчался в Астрахань, оттуда в Нижний Новгород, где временно задержался, поскольку разрешения на дальнейший проезд из Санкт-Петербурга получено не было. Неожиданно поэт посватался к пятнадцатилетней актрисе Екатерине Пиуновой, которая за месяц до того стала его любовницей. Родители девицы пришли в ужас, а сама возлюбленная подвела Тараса Григорьевича к зеркалу и, показав на его отвисшее брюшко и лысину, заявила, что как любовник он еще на что-то годится, но на роль спутника жизни – никоим образом.
К счастью, в марте 1858 года Шевченко пришло разрешение на проживание в Санкт-Петербурге, и он вернулся в столицу. Уже великим, всеми признанным поэтом.
Тараса Григорьевича можно признать очень влюбчивым человеком. В жизни у него было много женщин. Наиболее сильные увлечения поэта: полька Дуня Гусикивская; натурщица немка Амалия Клоберг; уже известная нашим читателям Анна Закревская; княжна Варвара Репнина (так и умерла незамужней, потому что любила только Тараса); жена коменданта Новопетровской крепости Агата Ускова; татарка Забаржада; Екатерина Пиунова; жена ректора Киевского университета Максимовича; красавица поповна Феодосия, к которой поэт сватался и был отвергнут (позже Феодосия терзалась, что не стала женой Шевченко).
О последней любви Тараса Григорьевича надо сказать отдельно. Это была крепостная крестьянка Лукерья Полусмак (Ликера Полусмакова). Встреча их произошла в 1860 году в Петербурге. Девятнадцатилетняя Лукерья служила у знакомых Шевченко. Тарас снял девушке квартиру, и они жили вместе до ноября, когда выяснилось, что Лукерья изменяет поэту с неким молодым человеком. Произошел скандал и разрыв.
Шевченко в эти дни пребывал в полном отчаянии. Обострились старые болячки. Вскоре состояние его стало безнадежным. Умирал Шевченко от стенокардии, очень тяжело, больной ужасно страдал. Любопытный факт, лечил его родной дед Надежды Константиновны Крупской. Говорят, что лечил неверно, ошибся и загнал поэта в могилу. Так ли это на самом деле – неизвестно.
Умер Тарас Григорьевич Шевченко 26 февраля 1861 года в Санкт-Петербурге.
Еще в 1859 году Тарас Григорьевич побывал на родине и облюбовал под Каневом красивейшее место над Днепром, где хотел купить себе усадьбу. Он был уже знаменитым поэтом и имел для этого достаточно средств. Похоронить Шевченко было решено «…в том месте над Днепром, где он хотел жить в своей усадьбе».
Трагично сложилась судьба Лукерьи Полусмак. Она вышла замуж за парикмахера, но часто вспоминала о Тарасе Григорьевиче. На склоне лет женщина перебралась в Канев и почти десять лет – вплоть до своей смерти в 1917 году – ухаживала за могилой поэта. Местечковые дети так ее и называли – «Тарасова невеста». Вся в трауре, Лукерья приносила на гору гостинцы, раздавала ребятишкам, часами просиживала возле могилы, плакала. В дни своего приезда в Канев она записала в тогдашней книге посетителей: «13 мая 1905 года приехала твоя Лукерья, твоя любимая, мой друг. Сегодня мой день ангела. Посмотри на меня, как я каюсь».
На русский язык произведения Т. Г. Шевченко переведены Н. В. Бергом, А. Н. Плещеевым, М. В. Гербелем, Л. А. Меем, И. А. Белоусовым и другими.
АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ (1817-1875)
Великий русский национальный поэт Алексей Константинович Толстой, на мой взгляд, по сей день не получил должного признания у себя на Родине. Редко встретишь любителя поэзии, кто бы ни говорил о нем с величайшим почтением и любовью, но творчество Алексея Константиновича, его биография не изучаются должным образом в школе, знают о нем гораздо меньше, чем о его прославленных родичах-романистах, хотя – позволю себе высказать крамольную для многих мысль – в духовном плане для России он сделал гораздо больше, чем оба эти родича вместе взятые. Повторюсь, это сугубо мое мнение.

Алексей Константинович Толстой родился 24 августа 1817 года в Петербурге в очень знатной богатой семье. Достаточно сказать, что родным прадедом его по материнской линии был выдающийся русский вельможа, граф, многолетний президент Российской академии наук и последний гетман Украины Кирилл Григорьевич Разумовский; следовательно, двоюродным прадедом его являлся тайный супруг императрицы Елизаветы Петровны Алексей Кириллович Разумовский. Дед будущего поэта Алексей Кириллович Разумовский, граф и богач, был сенатором при Екатерине II и министром народного просвещения при Александре I.
Мать Толстого, семнадцатилетняя красавица Анна Алексеевна Перовская[235], в 1816 году вышла замуж за пожилого вдовца графа Константина Петровича Толстого, родного брата великого русского скульптора и рисовальщика (кстати, тоже по сей день не получившего достойного признания в своей стране) Федора Петровича Толстого.
Брак был неудачный. Через шесть недель после рождения сына супруги полностью разорвали отношения, и Анна Алексеевна уехала в Черниговскую губернию, в имение своего младшего брата Алексея Алексеевича Перовского (1787-1836). В дальнейшем отец в судьбе сына никакого участия не принимал.
Настоящим воспитателем мальчика стал дядя Алексей Алексеевич, знаменитый русский писатель. Публиковался он под псевдонимом Антоний Погорельский и является автором знаменитой сказки «Черная курица»
Рос Алеша всеобщим любимцем и баловнем. К радости дяди, литературные задатки проявились у него очень рано. Поэт вспоминал: «С шестилетнего возраста я начал марать бумагу и писать стихи – настолько поразили мое воображение некоторые произведения наших лучших поэтов… Я упивался музыкой разнообразных ритмов и старался усвоить их технику». Алексей Алексеевич приветствовал старания племянника и всячески культивировал в нем любовь к искусству.
Восьми лет Алеша вместе с матерью и дядей переехал в Петербург. Друг семьи Перовских Василий Андреевич Жуковский представил мальчика восьмилетнему цесаревичу Александру, будущему императору Александру II, и Алеша вошел в число детей, кто каждое воскресенье приходили к наследнику престола для игр. Добрые дружеские отношения между Алексеем и Александром продолжались в течение всей жизни Толстого. Впоследствии очень привязалась к поэту и несчастная супруга Александра II, императрица Мария Александровна. Она была большой ценительницей и почитательницей творчества Алексея Константиновича.
В 1826 году Алеша, его мать и дядя отправились в заграничное путешествие. Прежде всего они побывали в Германии, где заехали в Веймар. Там их принял Гёте, и потом Алексей Константинович всю жизнь вспоминал, как сидел на коленях у великого старца.
В 1834 году Алексей, будучи великолепно обученным на дому, был определен «студентом» в Московский архив Министерства иностранных дел. Обычно таковыми становились юноши из самых знатных аристократических семейств. В их обязанности входили разбор и описание древних документов.
Как «студент архива», в 1836 году Толстой выдержал в Московском университете экзамен «по наукам, составлявшим курс бывшего словесного факультета», и был причислен к русской миссии при германском сейме во Франкфурте-на-Майне. В том же году умер дядя Алексей Алексеевич Перовский. Все его огромное состояние было завещано любимому племяннику.
Красавец, приветливый и остроумный молодой человек. Таким описывают Алексея Константиновича того периода современники. Он был одарен необычайной физической силой – свободно сворачивал винтом кочергу, разгибал подковы и винтообразно свертывал пальцами зубцы вилок.
Время свое Толстой делил между службой, светским обществом и литературой. В конце 1830-х годов Толстой написал на французском языке два рассказа. Раньше они назывались фантастическими, теперь их можно отнести скорее к жанру ужасов. Это «Семья вурдалака» и «Встреча через триста лет».
Когда в 1840 году Алексея Константиновича перевели служить из Франкфурта-на-Майне в Петербург, во II отделение собственной Его Императорского Величества канцелярии, где он должен был заниматься вопросами законодательства, молодой человек по-прежнему продолжал часто ездить за границу и вести светскую жизнь. Николай I не оставлял его своими милостями. В 1843 году на двадцать шестом году жизни Толстой получил младшее придворное звание камер-юнкер[236].
Служба не помешала Алексею Константиновичу издать в 1841 году под псевдонимом Краснорогский[237] свою первую книгу – повесть «Упырь». Неожиданно она получила очень положительный отзыв В. Г. Белинского. Но в течение более десяти лет после этого Толстой публиковался мало – он представил на суд публики всего одно стихотворение и несколько рассказов и очерков.
Однако именно в 1840-х годах им был задуман и начат роман «Князь Серебряный». Тогда же Толстой сложился как поэт-лирик. Им были созданы ряд баллад, такие знаменитые стихотворения, как «Ты знаешь край, где все обильем дышит…», «Колокольчики мои…», «Средь шумного бала…» и другие.
В 1850 году Алексей Константинович был прикомандирован к сенатору Давыдову[238] и участвовал в ревизии Калужской губернии. В Калуге он жил полгода и часто посещал жену калужского губернатора Александру Осиповну Смирнову-Россет[239], читал ей свои стихи и главы из «Князя Серебряного». Смирнова-Россет была дружна с Николаем Васильевичем Гоголем, который как раз приехал к ней погостить и в присутствии Толстого читал главы из второго тома «Мертвых душ».
Зимой 1850-1851 годов Алексей Константинович познакомился с женой конногвардейского полковника Софьей Андреевной Миллер (урожденная Бахметьева) и влюбился в нее. Женщина ответила взаимностью. Они сошлись. Миллер долго не соглашался дать жене развод. Анна Алексеевна, мать поэта, невзлюбила Софью Андреевну всей душой, объявила ее развратной, падшей женщиной и всеми силами противилась женитьбе сына. Двенадцать лет влюбленные жили гражданским браком и смогли обвенчаться только в 1863 году! Софья Андреевна была высокообразованной женщиной, знала несколько языков. Толстой не раз называл ее «своим лучшим и самым строгим критиком». К ней обращена вся любовная лирика поэта начиная с 1851 года.
Большую роль в судьбе Толстого сыграли его двоюродные братья Алексей, Владимир и Александр Жемчужниковы[240]. Алексей и Владимир тоже известные русские поэты. Совместно с Алексеем Жемчужниковым Алексей Константинович написал комедию «Фантазия», которая была поставлена в Петербурге в том же 1851 году. На премьере присутствовал Николай I, был пьесой очень недоволен, пожурил авторов и велел снять «Фантазию» с репертуара.
Но Толстой и братья Жемчужниковы на этом не успокоились. Они придумали сатирическую литературную маску Козьмы Пруткова и сборник его сочинений, который появился на свет в 1854 году. Помогал им в создании произведений Козьмы Пруткова знаменитый русский поэт Ершов[241]. «Сочинения Козьмы Пруткова» по сей день остаются одним из самых любимых произведений российского читателя.
Тогда же Алексей Константинович познакомился и установил добрые отношения с Н. А. Некрасовым и стал публиковаться в «Современнике».
В годы Крымской войны Толстой хотел организовать партизанский отряд на случай высадки на балтийском побережье английского десанта, а затем, в 1855 году, поступил майором в стрелковый полк Императорской фамилии. Но на войну он не попал. Во время пребывания полка под Одессой поэт заболел тифом. Тогда от тифа погибла почти половина полка. Алексея Константиновича выходила приехавшая в действующую армию Софья Андреевна.
После кончины в 1855 году Николая I на престол взошел личный друг поэта Александр II. Во время коронации, которая состоялась в 1856 году, Толстой был назначен флигель-адъютантом[242], а затем, когда поэт не захотел оставаться на военной службе, император назначил его егермейстером. В этом звании, не неся никакой службы, Толстой оставался до самой смерти; только короткое время был он членом комитета о раскольниках.
Пользуясь своей близостью к императору, Алексей Константинович не раз вступался за собратьев по перу. Так, летом 1862 года он вступился за И. С. Аксакова, которому было запрещено редактировать газету «День»; в 1863 году защищал И. С. Тургенева, привлеченного к делу о лицах, обвиняемых в сношениях с «лондонскими пропагандистами»[243]; хлопотал за ссыльного Тараса Шевченко; в 1864 году даже пытался помочь неприятному ему Н. Г. Чернышевскому[244].
Вторая половина 1850-х годов – самый продуктивный период в творчестве поэта. «Ты не знаешь, какой гром рифм грохочет во мне, какие волны поэзии бушуют во мне и просятся на волю», – писал он Софье Андреевне.
Поскольку в этот период к руководству «Современником» пришел Н. Г. Чернышевский, Толстой полностью разорвал отношения с журналом. Он сблизился со славянофилами и стал публиковаться в их журнале «Русская беседа». Там в 1859 году была опубликована одна из величайших поэм русской литературы, творение Толстого «Иоанн Дамаскин».
Особенно дружественные отношения установились у поэта с Иваном Сергеевичем Аксаковым[245]. В аксаковской газете «День» было напечатано нашумевшее в свое время стихотворение о Петре I «Государь ты наш батюшка».
Лично Алексей Константинович не считал себя славянофилом и утверждал, что является убежденным западником. Со временем он полностью отошел от кружка Аксакова и даже высмеивал их в своих произведениях. О своем политическом кредо поэт сказал стихами:
… двух станов не боец, но только гость случайный,
за правду я бы рад поднять мой добрый меч,
но спор с обоими – досель мой жребий тайный,
и к клятве ни один не мог меня привлечь.
С середины 1860-х годов здоровье Толстого сильно пошатнулось. Он жестоко страдал от грудной жабы и невралгии с адскими головными болями. Алексей Константинович отошел от двора, жил преимущественно за границей – летом в разных курортах, зимой в Италии и Южной Франции. Подолгу пребывал в своих русских имениях – Пустыньке (возле станции Саблино, под Петербургом) и Красном Роге (Мглинского уезда Черниговской губернии, близ города Почепа). Жизнь по привычке вел на широкую ногу, а потому со временем разорился. Особенно тяжело отразилась на его хозяйстве реформа 1861 года, отменившая крепостное право.
Однако все эти беды не помешали поэту создать в период 1866-1870 годов великую трилогию исторических трагедий в стихах – «Смерть Иоанна Грозного», «Царь Федор Иоаннович» и «Царь Борис». В 1867 году «Смерть Иоанна Грозного» была поставлена на сцене Александринского театра в Санкт-Петербурге и имела грандиозный успех, несмотря на то что соперничество актеров лишило драму хорошего исполнителя заглавной роли.
Как бы предчувствуя свою близкую кончину, осенью 1875 года поэт написал стихотворение «Прозрачных облаков спокойное движенье», где, в частности, сказал:
Всему настал конец, прийми ж его и ты,
Певец, державший стяг во имя красоты.
28 сентября 1875 года во время очередного сильнейшего приступа головной боли Алексей Константинович Толстой ошибся и ввел себе слишком большую дозу морфия, которым лечился по предписанию врача. Случилось это в имении Красный Рог Черниговской губернии[246].
Многие произведения поэта были опубликованы уже после его смерти. В частности, это его юмористические поэмы, такие как «Очерк русской истории от Гостомысла до Тимашева» (Послушайте, ребята,/ Что вам расскажет дед./ Земля наша богата,/ Порядка в ней лишь нет.), «Сон Попова» (Приснился раз, Бог весть с какой причины,/Советнику Попову странный сон: / Поздравить он министра в именины/ В приемный зал вошел без панталон…) и другие.
Поэзия великого поэта вдохновила многих русских композиторов. Романсы на его стихи создали Н. А Римский-Корсаков – «На нивы желтые…», «То было раннею весной…»; С. В. Рахманинов – «Есть много звуков…»; П. П. Булахов – «Колокольчики мои…»; П. И. Чайковский – «Средь шумного бала…», «То было раннею весною…», «На нивы желтые…»
УОЛТ УИТМЕН (1819-1892)
Еще при жизни Уитмен стал жупелом гомосексуалистов англоязычного мира. Ныне он считается зачинателем движения за равноправие сексуальных меньшинств. Величайший поэт Америки, он создал всего одну книгу и писал ее всю жизнь.
Родился Вальтер Уитмен 31 мая 1819 года в малолюдном поселке Уэст Хиллз[247], штат Нью-Йорк, располагавшемся на берегу пустынного и холмистого острова Лонг-Айленд[248].

Род Уитмена жил в поселке более двухсот лет. Когда-то это была довольно зажиточная семья, но к началу XIX века Уитмены обнищали, да к тому же стали вырождаться. Вальтер оказался единственным здоровым ребенком в большой семье.
Мать будущего поэта Луиза Ван Вельзор была малограмотной, забитой женщиной. Кроме Вальтера на ее руках находились еще восемь детей. Мальчик горячо любил мать, до конца ее жизни их связывала сердечная дружба. С отцом у Вальтера не было особенной близости.
В 1823 году Уитмены переехали в Бруклин, где отец своими руками построил новый дом[249]. Мальчика отдали в бруклинскую школу. Но одиннадцатилетнему Вальтеру пришлось бросить учебу и поступить на службу к адвокатам – отцу и сыну – в качестве конторского рассыльного. Хозяева были добрыми людьми, старались приохотить мальчика к чтению, записали в библиотеку. И Вальтер втянулся, стал запоем читать Вальтера Скотта, Фенимора Купера, сказки «Тысячи и одной ночи».
Летом 1831 года Уитмен поступил учеником в типографию местной еженедельной газетки «Патриот», издававшейся бруклинским почтмейстером. Там у мальчика было достаточно много свободного времени, и он начал сочинять для газеты стишки и статейки. Впрочем, писания эти были откровенно бездарными.
А затем Уитмен стал кочевать с одной работы на другую. Причину этого один из очередных хозяев объяснил так: «Ему даже трястись будет лень, если на него нападет лихорадка». Другой же подтвердил: «Это такой лодырь, что требуется два человека, чтобы раскрыть ему рот».
Каждое лето Вальтер уезжал на родную ферму, где ничего не делал, лишь часто уходил к берегу океана полежать на горячих песках.
В 1836 году он окончательно вернулся на родной остров и стал школьным учителем в небольшом поселке Вавилоне. Работа оставляла много свободного времени: поэт часами бродил по берегу или купался в бухте.
Весной 1841 года Уитмен неожиданно уехал в Нью-Йорк, где в течение почти семи лет неприметно работал в различных изданиях то в качестве наборщика, а то и сочинителя очерков, рассказов и злободневных статей.
В 1842 году по заказу общества трезвости поэт написал роман против пьянства для маленького журнала «Новый свет». Неожиданно роман имел шумный успех! Однако дело на том и закончилось.
Так Уитмен дожил до тридцати пяти лет. А затем произошло внезапное перерождение. Как написал один из биографов поэта: «Еще вчера он был убогим кропателем никому не нужных стишков, а теперь у него сразу возникли страницы, на которых огненными письменами начертана вечная жизнь. Всего лишь несколько десятков подобных страниц появилось в течение веков сознательной жизни человечества».
В 1848 году Уитмен совершил путешествие в Новый Орлеан и обратно, по дороге он побывал в семнадцати штатах и проехал – по озерам, рекам, прериям – свыше четырех тысяч миль. Америка переживала тогда счастливейший период в своей судьбе, это было время всеобщего ожидания чего-то хорошего и светлого. Биографы уверены, что именно во время этой знаменательной поездки в Уитмене родился великий поэт.
Сам он утверждал, что «божественный час прозрения» пришел к нему в одно июльское ясное утро в 1853 или 1854 году. «Я помню, – записал он, – было прозрачное летнее утро. Я лежал на траве… и вдруг на меня снизошло и простерлось вокруг такое чувство покоя и мира, такое всеведение, выше всякой человеческой мудрости, и я понял… что Бог – мой брат и что Его душа – мне родная… и что ядро всей вселенной – любовь».
Уитмен стал все чаще уединяться на родительской ферме или на берегу океана и писать стихи. Книга «Листья травы» была написана в кратчайшие сроки. Издателя для нее не нашлось. Поэт набрал ее сам и сам напечатал в количестве 800 экземпляров в маленькой типографии, принадлежавшей его близким друзьям. Вышла она в июле 1855 года, за несколько дней до смерти отца Уитмена. Имя автора на переплете не значилось.
До выхода «Листьев травы» поэт называл себя своим собственным именем – Вальтер. Но для американского уха оно было слишком аристократичным. Поскольку книга была создана для простонародья, Уитмен взял себе прозвище Уолт. Другими словами, если бы имя Вальтер соответствовало русскому Степану, то Уолт переводился бы как Степашка.
Уолт скрылся от мира на Лонг-Айленде, где в уединении создавал новые стихи. Отныне все, что он сочинял, вставлялось в очередное переиздание «Листьев травы». Другими словами, Уитмен всю жизнь писал одну книгу.
Нападки критики сделали свое дело: первый тираж «Листьев травы» никто не покупал. Тогда поэт лично приехал в Нью-Йорк, сам написал о своей книге положительные отзывы и с помощью друзей разместил их в нескольких газетах.
По понемногу в стране стали появляться одинокие приверженцы «Листьев травы». Редкие энтузиасты провозгласили Уитмена учителем жизни.
В 1861 году началась Гражданская война. Через год был ранен сражавшийся в войсках северян брат поэта Джордж. Уолт поспешил на фронт, чтобы помочь брату. Джордж поправлялся, и успокоенный Уитмен собрался было домой. Но не смог. В полевых лазаретах скопилось множество раненых, ухаживать за ними было почти некому, люди тяжело страдали. И Уитмен остался, чтобы помогать.
Большинство военных лазаретов сосредоточивалось тогда в Вашингтоне. Поэт перебрался туда и три года ухаживал за больными и ранеными. Ежечасно он сталкивался с оспой, гангреной, тифом…
Отметим, поэт помогал раненым безвозмездно!!! Сам же он жил в конуре и средства на жизнь получал от сочинения мелких журнальных материалов.
К началу 1864 года Уитмен сильно подорвал себе здоровье и заболел. Говорили, что, перевязывая гангренозного больного, поэт неосторожно прикоснулся к ране порезанным пальцем, и вся его рука до плеча воспалилась. Болезнь как будто прошла быстро, но через несколько лет она привела к страшной трагедии.
После войны Уолт Уитмен поступил на службу чиновником в Департамент по делам индейцев при министерстве внутренних дел. Но когда министр Джеймс Гарлан, бывший методистский священник, узнал, что в числе его новых служащих находится автор «Листьев травы», он велел уволить Уитмена в двадцать четыре часа. Причина была проста – если в первом издании сборника Уитмен воспевал красоту человеческого тела и секса, то в третье издание, опубликованное в 1860 году, он вставил раздел «Галамус», в котором объединил произведения откровенно гомосексуального содержания.
Имеется длинный список любовников Уитмена. По преимуществу поэт выбирал себе семнадцатилетних мальчиков и прощался с ними в двадцатидвухлетнем возрасте. Первый постоянный любовник Фред Воан появился вскоре после выхода первого издания «Листьев травы». Этот водитель из Бруклина жил с поэтом несколько лет и затем писал ему всю жизнь.
Скандал в министерстве внутренних дел завершился тем, что Уолт перешел на должность клерка в министерство финансов. Там его никто не трогал. Неожиданно на защиту Уитмена встали критики. Гарлана объявили самодуром и устроили ему публичную порку. А Уолта с этого времени стали называть «добрым седым поэтом».
Катастрофа произошла в 1873 году. Дала себя знать та самая болезнь, полученная в госпитале. Уолта Уитмена разбил паралич, у него отнялась левая половина тела.
Поэт переехал в город Кемден, штат Нью-Джерси. Английские друзья собрали для него небольшой капитал, вполне достаточный для безбедного существования. Ухаживать за Уолтом взялась его почитательница Анна Гилкрайст. Друг поэта Джордж Страффорд предоставил ему свою лесную ферму как летнюю дачу.
Болезнь не подорвала оптимизм Уитмена. Его стихи той поры остались такими же песнями счастья, как и созданные в ранние годы.
Последние годы жизни поэт провел прикованный к инвалидному креслу. Он не скучал, друзья и возлюбленные не оставляли Уолта без внимания. С 1888 года почти ежедневно бывал у него новый любимец – юный банковский служащий, родственник Альберта Эйнштейна, Хорес Траубел. Как оказалось впоследствии, юноша вел подробные записи о жизни великого поэта. После кончины Уитмена Траубел опубликовал свои записи и заработал на этом солидное состояние. Надо сказать, что таким же образом поступило большинство бывших мальчиков поэта.
В 1890 году Уолт Уитмен купил кладбищенский участок неподалеку от Кемдена и заказал себе гранитное надгробие. Однако смерть к нему долго не приходила. Умирал он медленно и мучительно. Его еще три раза разбивал паралич.
Умер Уолт Уитмен 26 марта 1892 года. Церковь отказалась отпевать развратника. Это сделали многочисленные друзья поэта.
Первым переводчиком поэзии Уолта Уитмена на русский язык стал Иван Сергеевич Тургенев. Впоследствии его переводили Константин Бальмонт, Корней Чуковский, Иван Кашкин и другие. Творчество Уитмена оказало сильное влияние на Велимира Хлебникова и Владимира Маяковского.
АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ (1820-1892)
Афанасий Афанасьевич Фет (Шеншин) родился 23 ноября (5 декабря) 1820 года в селе Новоселки близ Мценска.

История его рождения столь запутана, что вряд ли кому доведется в ней разобраться, а сама по себе проблема необычайно важна для отечественной литературы, поскольку именно она предопределила жизнь, судьбу и творчество одного из величайших поэтов России.
Факты таковы. Мать мальчика Шарлотта Элизабета Беккер происходила из старинного восточногерманского дворянского рода. 18 мая 1818 года она вышла замуж за Иоганна Питера Карла Вильгельма Фёта, великогерманского окружного асессора из Дармштадта. Говорили, что Фёт был внебрачным ребенком одного из сыновей великого герцога Гессен-Дармштадтского. 17 июля 1819 года у четы Фётов родилась дочь. В начале 1820 года в Дармштадт приехал на излечение родовитый, но обедневший помещик Орловской губернии Мценского уезда Афанасий Неофитович Шеншин. Участник войны 1812 года, некрасивый, в возрасте (далеко за сорок лет). Он страстно полюбил Шарлотту Фёт, выкрал и увез ее в Россию. Женщине было в то время двадцать два года. Почему она согласилась на побег, неизвестно. Беглянка была беременна. Все биографы сходятся на том, что отцом великого поэта Шеншин не был. Однако впоследствии и Иоганн Фёт в завещании не признал мальчика своим сыном.
Сам Афанасий Афанасьевич публично утверждал, что отец его – Шеншин. Но сохранилось письмо Фета к невесте, в котором он раскрыл тайну своего рождения. На конверте письма, которое Фет просил сжечь сразу по прочтении, рукой Фета начертано: «Читай про себя» – и рукой его супруги М. Боткиной приписано: «Положить со мной во гроб». «Моя мать, – писал Фет, – была замужем за отцом моим – дармштадтским ученым и адвокатом Фетом, родила дочь Каролину и была беременна мною. В это время приехал и жил в Дармштадте вотчим мой Шеншин, который увез мать мою от Фета, и когда Шеншин приехал в деревню, то через несколько месяцев мать родила меня… Вот история моего рождения».
Афанасий Афанасьеивч родился – по одним документам – 29 октября 1820 года, по другим – 29 ноября. Сам поэт отмечал свой день рождения 23 ноября.
Младенца крестили по православному обряду и внесли в церковную метрическую книгу как сына Афанасия Шеншина. Однако на тот момент Иоганн Фёт еще считался мужем Шарлотты Беккер, брак был расторгнут в Дармштадте только 8 декабря 1821 года. И лишь 4 сентября 1822 года, когда Шарлотта приняла православие и получила православное имя Елизавета Петровна, состоялось венчание Шеншиных.
Известно, что в 1830 году Шеншин не включил имя Афанасия в прошение о внесении в дворянскую родословную книгу. Еще при жизни Фета стала распространяться весьма популярная сегодня сплетня о том, что А. Н. Шеншин, проезжая через Кенигсберг, будто бы «купил» у местного еврея-корчмаря его беременную жену и привез наложницу к себе в имение…
До четырнадцати лет Афанасий Шеншин-младший рос как обыкновенный русский барчук. В конце 1834 года жизнь его резко изменилась. Отец неожиданно увез Афанасия в Москву, затем в Петербург. Далее, посоветовавшись с влиятельными приятелями, он отправил мальчика в глухой лифляндский городишко Верро (ныне Выру в Эстонии), где Афанасия определили на учебу в «частное педагогическое заведение» некоего Крюммера. Все говорит о том, что у Шеншина объявились сильные враги, которые вздумали нанести удар по его самому уязвимому месту, – епархиальному начальству доложили, что сын Шеншина является внебрачным ребенком. Чиновникам немедля потребовалось «восстановить справедливость». Если бы Шеншин был богатым могущественным вельможей, проблем не возникло бы. В начале 1835 года Орловская духовная консистория постановила считать отцом мальчика не Шеншина, а умершего уже Иоганна Фёта.
Ради дальнейшего благополучия семьи Афанасий Неофитович был вынужден пожертвовать старшим сыном. Фет вспоминал: «Однажды отец без дальнейших объяснений написал мне, что отныне я должен носить фамилию Фет… В пансионе это известие возбудило шум: – Что это такое? у тебя двойная фамилия? отчего же нет другой? откуда ты? что ты за человек? и т.д., и т.д. Все подобные возгласы и необъяснимые вопросы еще сильнее утверждали во мне решимость хранить на этот счет молчание, не требуя ни от кого из домашних объяснений». Фамилию Фет Афанасий Афанасьевич носил почти сорок лет.
Одновременно с фамилией молодой человек потерял права на столбовое дворянство, на отцовское имение, на российскую принадлежность – отныне он считался гессен-дармштадским подданным, иностранцем, пришельцем и разночинцем… Подписывать Афанасий обязан был: «К сему руку приложил иностранец Фет». Когда позже поэта спросили, что для него было самым мучительным в жизни, он отвечал, что все слезы и боль его сосредоточены в одном слове – «Фет».
В 1837 году теперь уже Афанасий Фет приехал в Москву и поступил на философский факультет университета. Числился он студентом из иностранцев, учился не положенные четыре года, а целых шесть лет. Как признавал позже сам Фет, у него неожиданно пробудился поэтический дар, и вместо того чтобы ходить на лекции, он целыми днями писал стихи. В 1840 году вышел первый сборник его стихотворений «Лирический пантеон», подписанный «А. Ф.».
В период 1842-1843 годов в «Отечественных записках» и «Москвитянине» было опубликовано в общей сложности 85 стихотворений Фета. Талант начинающего поэта был отмечен Н. В. Гоголем.
Но в 1844 году жизнь Афанасия Афанасьевича в очередной раз резко изменилась. В начале года умерла тяжело болевшая мать, а осенью ушел из жизни дядя Петр Неофитович Шеншин. Когда Афанасия лишили прав наследования, одинокий дядя обещал оставить племяннику свое имение. Но Петр Неофитович умер в Пятигорске, где лечился на водах, а оставшееся без его присмотра имение разграбили, и деньги из банка таинственным образом исчезли. Афанасий Афанасьевич остался без средств к существованию. Выход у него оставался один – пойти служить в армию.
Фет принял русское подданство (не напоминает ли это вам нынешние издевательства властей над нашими соотечественниками?) и спустя месяц был произведен в корнеты. Прикомандировали его к штабу корпуса Орденского кирасирского полка в Херсонской губернии.
Через год поэт получил офицерский чин, первый в длинной череде выслуги для приобретения со временем дворянства.
Летом 1848 года у Фета произошел целый ряд знакомств, которые сыграли чуть ли не решающую роль в его дальнейшей судьбе. Полк, в котором служил Фет, размещался в селе Красноселье. Здесь молодой человек был приглашен на бал к местному богатому помещику, уездному предводителю дворянства Алексею Федоровичу Бржескому. На балу поэт познакомился с супругой хозяина – Александрой Львовной Бржеской, с которой оставался в дружеской переписке более пятидесяти лет – до конца жизни.
Неподалеку от имения Бржеских находилась Федоровка, имение сестры Алексея Федоровича – Елизаветы Федоровны Петкович, где часто гостили племянницы хозяйки – сестры Лазич. На правах хорошего знакомого Бржеских Фет зачастил в гости к Петковичам.
Молодой человек влюбился в Елену Лазич. Это общепринятая версия, но необходимо помнить, что сам Фет имя своей возлюбленной никогда не называл, а Лазич была определена литературоведами в 1920-х годах. В семействе родственников девушка пользовалась заслуженной симпатией. Отец Елены, генерал-майор в отставке, вдовец, был человеком порядочным, но бедным.
Роман длился более года. Неожиданно Фет принял решение, что никогда не женится на Елене, чем обрек себя на пожизненное духовное одиночество. Причины такого решения он объяснил так: «Я ясно понимаю, что жениться офицеру, получающему 300 руб., без дому, на девушке без состояния значит необдуманно и недобросовестно брать на себя клятвенное обещание, которого не в состоянии выполнить».
Вскоре Фету пришлось по служебной надобности на время уехать. Когда он вернулся, его ждала страшная весть: Елены Лазич уже не было в живых. О случившейся трагедии сам Фет написал так: «…последний раз легла она в белом кисейном платье и, закурив папироску, бросила, сосредоточенная вниманием на книге, на пол спичку, которую считала потухшей. Но спичка, продолжавшая гореть, зажгла спустившееся на пол платье, и девушка только тогда заметила, что горит, когда вся правая сторона была в огне. Растерявшись при совершенном безлюдье, за исключением беспомощной девочки сестры… несчастная, вместо того, чтобы, повалившись на пол, стараться хотя бы собственным телом затушить огонь, бросилась по комнатам к балконной двери гостиной, причем горящие куски платья, отрываясь, падали на паркет, оставляя на нем следы рокового горенья. Думая найти облегчение на чистом воздухе, девушка выбежала на балкон. Но при первом же появлении на воздухе пламя поднялось выше ее головы, и она… бросилась по ступенькам в сад… На крики сестры прибежали люди и отнесли ее в спальню. Всякая медицинская помощь оказалась излишней».
Позже Фет признался, будучи уверенным, что виноват в гибели Елены: «Я ждал женщины, которая поймет меня, и дождался ее. Она, сгорая, кричала: “Аu nom du ciel sauvez les lettres”. (“Ради всего святого, спасите письма”. – Франц.) и умерла со словами: “Он не виноват, а я”. После этого и говорить не стоит».
С этого страшного года за Фетом укрепилось прозвание «певец печали».
В 1853 году Фета перевели в гвардейский уланский полк, который на летних сборах располагался в Красном Селе, возле столицы. Это дало поэту возможность познакомиться с И. С. Тургеневым, а через него – с издателями и авторами «Современника»: Некрасовым, Панаевым, Гончаровым, Дружининым, Григоровичем, Анненковым, Боткиным, позднее со Львом Толстым. Вскоре Фет стал в «Современнике» своим человеком, но относились к нему со снисходительностью, как к человеку небольшого ума. О поэте с улыбкой говорили: «Глаза круглые, рот круглый, бессмысленное изумление на лице». С помощью «Современника» Фет издал в 1856 году сборник стихотворений, который имел огромнейший успех.
В 1857 году вышел указ нового императора Александра II, по которому звание потомственного дворянина давал лишь чин полковника. Потрясенный Фет понял, что военная служба даст ему дворянство только в конце жизни, вышел в отставку и переехал жить в Москву.
Весной 1857 года поэт сделал предложение Марии Петровне Боткиной, дочери известного купца-чаеторговца и сестре Василия Петровича Боткина, известного писателя, критика, близкого друга Белинского, друга и ценителя Фета. Мария Петровна предложения никак не ожидала, обрадовалась и немедля дала согласие. Жениху шел тридцать седьмой год, невесте – тридцатый. Боткина была привлекательна своим добродушием и простотой, но имела незаконнорожденного ребенка. Возник «союз одиноких душ», в котором было немало и настоящей любви. Мария Петровна стала с тех пор неотделима от Фета на всю оставшуюся жизнь. В приданое поэт получил 35 тысяч рублей серебром – огромную по тем временам сумму…
В 1860 году Фет купил в Мценском уезде Орловской губернии степной хуторок Степановку, который при его деловитом хозяйствовании быстро преобразился в богатейшую усадьбу с регулярным парком и с плодородными сельскохозяйственными угодьями.
Вскоре Фет превратился в страстного накопителя, занятого прежде всего мыслями о приумножении и без того уже немалого состояния. Росла его слава как выдающегося землеустроителя, прекрасного хозяйственника, позволявшего разбогатеть и крестьянину, и самому себе. Любопытно, что в канун реформы 1861 года Фет прославился на всю страну как яростный защитник старых порядков.
Со временем поэт купил Воробьевку (более чем за 100 тысяч рублей!) – замечательно красивую барскую усадьбу, которую он назвал «наша микроскопическая Швейцария». Затем имение Ольховатку Щигровского уезда Курской губернии, затем имение Граворонку в Землянском уезде Воронежской губернии, с этим имением поэту достался второй конный завод, поскольку конный завод был уже в Воробьевке.
Среди соседей-помещиков Фет становился все более уважаемым лицом. Выражением этого был выбор его в 1867 году на установленную судебной реформой 1864 года и считавшуюся тогда весьма почетной должность мирового судьи, в которой он оставался в течение целых 17 лет.
В Москве Феты купили просторный дом в центре города на Плющихе (ныне дом № 36).
Росла слава поэта Фета. В 1860-х годах шла ожесточенная борьба между революционными демократами и литературно наиболее близкими Фету либералами. Поэт занял особую позицию – антиреволюционную и антилиберальную. Вопреки Некрасову он заявил, что поэт не обязан быть гражданином! Поскольку в «Современнике» окончательно утвердилась линия Чернышевского – Добролюбова, Фет отказался сотрудничать с журналом.
В 1863 году поэт выпустил новое собрание своих стихотворений в двух частях, которое новое демократическое поколение не приняло – небольшой тираж книги по наводке Писарева не распродался до конца жизни Фета – почти за тридцать лет! Такое отношение читающей публики ввергло поэта в длительный творческий кризис. Он на долгие годы умолк, перестал публиковать свои стихотворения.
В 1873 году 26 декабря вышел Указ Сената о присоединении А. А. Фета к роду Шеншиных. Это была победа. Но, странное дело, так страстно жаждавший сменить имя поэт продолжал печатать стихи под прежней фамилией. Разъяснение он дал в следующих строках:
Я между плачущих Шеншин,
А Фет я только средь поющих.
Другом и поклонником Афанасия Афанасьевича был великий князь Константин Константинович Романов, известный в русской литературе поэт, издававшийся под псевдонимом К. Р. Его хлопотами в 1889 году к пятидесятилетнему литературному юбилею поэта новый император Александр III пожаловал Фету предворное звание старшего ранга – камергер.
К концу жизни поэт стал суровым консерватором. Рассказывали, что, бывая в Москве и проезжая на извозчике мимо университета, он в обязательном порядке опускал окно кареты и с ненавистью плевал в сторону заведения. Привыкший к этому кучер каждый раз останавливался без дополнительных указаний.
Только в 1881 году Фет неожиданно вернулся в литературу. Вначале как переводчик. Им был издан перевод главного труда Шопенгауэра «Мир как воля и представление». Далее последовали: в 1882 году – перевод первой части «Фауста» И. В. Гёте; в 1883 году – стихотворный перевод всех сочинений Горация; в 1888 году – вторая часть «Фауста». В течение последних семи лет жизни поэта вышли переводы: «Сатиры» Ювенала, «Стихотворения» Катулла, «Элегии» Тибулла, «Превращения» и «Скорби» Овидия, «Элегии» Проперция, «Энеида» Вергилия, «Сатиры» Персия, «Горшок» Плавта, «Эпиграммы» Марциала, «Герман и Доротея» Гёте, «Семела» Шиллера, «Дюпон и Дюран» Мюссе, многие стихотворения Гейне.
После долгого перерыва Фет вновь стал создавать оригинальные стихотворения. Они публиковались выпусками под названием «Вечерние огни» (выпуск I – 1883 год; выпуск II – 1885 год; выпуск III – 1888 год; выпуск IV – 1891 год).
В 1890 году вышли в свет два тома мемуаров «Мои воспоминания»; третий том «Ранние годы моей жизни» был опубликован посмертно в 1893 году.
В год смерти Фет подготовил итоговое издание своих произведений. Это позволило Н. Н. Страхову и К. Р. выпустить в 1894 году двухтомное собрание произведений Фета.
Последнее дошедшее до потомков стихотворение Фета датировано 23 октября 1892 года.
Подобно его рождению смерть Фета окутана покровом тайны. Свидетельства близких поэта таковы. За полчаса до смерти Фет настойчиво пожелал выпить шампанского. Жена побоялась дать больному алкоголь, и поэт отправил ее к врачу за разрешением. Оставшись вдвоем со своей секретаршей, Афанасий Афанасьевич продиктовал ей записку странного содержания: «Не понимаю сознательного преумножения неизбежных страданий, добровольно иду к неизбежному». Под этим он сам подписал: «21-го ноября Фет (Шеншин)». Затем схватил стальной стилет, лежавший на его столе для разрезывания бумаги. Секретарша бросилась вырывать оружие и поранила себе руку. Тогда Фет побежал через несколько комнат в столовую к буфету, очевидно, за другим ножом и вдруг, часто задышав, упал на стул. Это был конец. Формально самоубийство не состоялось. Но по характеру всего происшедшего это было, конечно, заранее обдуманным и решенным самоубийством.
Официально было объявлено, что поэт умер от застарелой «грудной болезни», осложненной бронхитом.
ШАРЛЬ БОДЛЕР (1821-1867)
Демон поэзии, маркиз де Сад в стихосложении, мрачный растлитель… Как только ни называли в свое время автора «Цветов зла». Видимо, вполне заслуженно, поскольку именно Шарль Бодлер настежь распахнул двери в поэзию литературному фрейдизму. Он одновременно молился Богу и Сатане, так как считал последнего земной ипостасью Господа и приемным отцом рода человеческого. Он выкрасил волосы в зеленый цвет и неизменно ходил в черном. Его наряд называли «одеждой гильотинированного». Человек странный и пугающий, гений шокирующий и раздражающий…
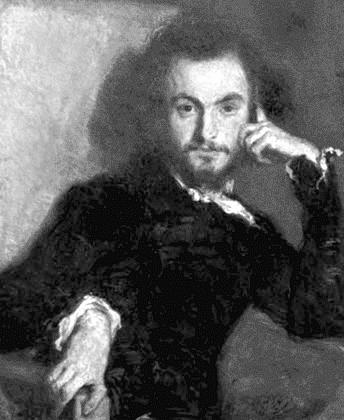
Шарль Бодлер родился 9 апреля 1821 года. Был он очень поздним ребенком – отцу его Жозефу Франсуа Бодлеру[250], господину весьма обеспеченному, уже исполнилось шестьдесят два года, а матери Каролине[251] – двадцать восемь лет. Как позднее говорил сам поэт, в этой разнице уже было нечто роковое, положившее начало внутреннему разладу его души. Усугублялось дело еще тем, что многие предки великого поэта были идиотами или маньяками и все отличались «ужасными страстями».
Раннее детство Шарля называют «ослепительно счастливым», ведь он стал долгожданным и единственным сыном. Но когда мальчику исполнилось пять лет, отец умер, оставив, правда, состояние, которое могло позволить сыну, ничего не делая, безбедно существовать всю жизнь.
Если верить исследователям, еще в раннем детстве Шарль стал испытывать к матери взрослую влюбленность. Страшной трагедией стало для ребенка второе замужество Каролины. Через год после кончины первого супруга она вступила в брак с Жаком Опиком[252]. Шарль до самой своей смерти называл замужество матери «предательством», добавляя, что она не имела права выходить замуж повторно, «имея такого сына, как я».
Семья переехала жить в Лион, где тогда служил отчим. В 1831 году Шарля отдали в местный Королевский колледж. Через пять лет Опика повысили и перевели в Париж, где юношу определили в коллеж Людовика Великого. Там Бодлер написал свои первые стихи в духе модного тогда байронизма.
В 1839 году произошла какая-то невыясненная история, за которую его исключили из коллежа перед самым окончанием курса. С того времени молодой человек стал вести рассеянную жизнь, завязал отношения с литературной богемой и женщинами двусмысленного общественного положения, отказался продолжить образование и бывать в высшем свете. Когда Шарль объявил родителям, что решил посвятить себя литературе, они были поражены.
Видимо, толчком для такого решения стала дружба с Бальзаком. Рассказывали, что Бальзак и Бодлер случайно наскочили один на другого во время прогулки, и это комичное столкновение, вызвавшее у обоих смех, послужило поводом к знакомству: полчаса спустя они уже бродили, обнявшись, по набережной Сены и болтали обо всем, что приходило в голову. Бальзак стал литературным учителем Бодлера.
Беспорядочные связи с девицами легкого поведения принесли свои тяжкие плоды – осенью 1839 года Шарль заразился сифилисом и долго лечился.
Опик попытался образумить приемного сына и отправил его в заморское путешествие. В июне 1841 года Бодлер отплыл из Бордо в Калькутту. Едва молодой человек добрался до острова Бурбон[253], он отказался плыть дальше, ссылаясь на тяжелейшую ностальгию, и вернулся в Париж. Из десятимесячного путешествия, если верить его словам, Бодлер вынес только «культ черной Венеры» и стал утверждать, что не может более глядеть на белых женщин.
Через два месяца после возвращения домой настал день его совершеннолетия, и Шарль получил отцовское наследство – 75 000 франков, которое немедля принялся проматывать.
А вскоре судьба зло посмеялась над поэтом: Бодлер влюбился в статистку из небольшого парижского театра, мулатку Жанну Дюваль. Роковая связь с ней продолжалась более двадцати лет – всю жизнь поэта. В этой женщине не было ничего замечательного: ни особенной красоты, ни ума, ни таланта, ни сердца, ничего, кроме безграничного эгоизма, корыстолюбия и легкомыслия. Однако Бодлер считал долгом чести не покидать эту несчастную.
Жанна всячески обманывала его, разоряла, вводила в неоплатные долги, а поэт кротко и покорно выносил все капризы. Более того, Жанна была алкоголичкой и еще в молодые годы была поражена параличом. Бодлер поместил ее в больницу и, отказывая во всем себе, устроил там самым комфортабельным образом. Мулатка поправилась и поселилась в одной квартире с поэтом. В последние годы жизни Бодлер не переставал ей помогать. Когда он лежал уже на смертном одре, бывшая любовница еще заваливала поэта письмами, в которых требовала денег, денег, денег… После кончины Бодлера женщина впала в страшную нищету и вскоре умерла. С ее образом связана большая группа стихотворений, образующих в «Цветах Зла» «цикл Жанны Дюваль» (XXII – XXXIX).
К 1840-м годам относится начало литературной деятельности Бодлера. Впервые он заявил о себе как художественный критик, хотя к тому времени уже была написана значительная часть стихотворений, впоследствии составивших «Цветы Зла».
К середине 1844 года Бодлер уже активно потреблял наркотики и растранжирил половину своего наследства. Встревоженные родственники, собравшиеся по настоянию Опика на «семейный совет», решили ходатайствовать перед властями об учреждении над Шарлем официальной опеки. Опекуном стал друг дома, нотариус Нарцисс Дезире Ансель, который в течение двадцати трех лет честно следил за денежными делами Бодлера и выдавал ему месячное содержание.
Поэт остро переживал такой позор. Даже попытался покончить жизнь самоубийством, к счастью, неудачно.
Конец 1840-1850-х стал для Бодлера временем жадного увлечения поэзией Эдгара По. Сегодня французы знают американского поэта прежде всего по переводам Бодлера. Он же написал несколько биографических эссе о По.
Долго медлил Бодлер с обнародованием своих оригинальных стихотворений. Только летом 1857 года увидел свет его поэтический сборник «Цветы Зла». Автору шел тридцать седьмой год. Замысел сборника скорее всего созрел у Бодлера довольно рано. Уже в 1846 году он говорил о том, что намерен выпустить книжку стихов под названием «Лесбиянки». Первые восемнадцать стихов будущего сборника были опубликованы в 1855 году в журнале «Ревю де Монд», и уже они принесли Бодлеру известность в литературном мире.
В это время, одновременно с Жанной Дюваль, у Бодлера появилась новая возлюбленная – дама полусвета Аполлония Сабатье[254]. Затем прибавилась третья – актриса Мари Добрен[255].
1857 год стал главным, мистическим годом в жизни Бодлера. В апреле умер Жак Опик. В июне вышли из печати «Цветы Зла», из-за которых прокуратура начала судебное преследование автора по обвинению в «оскорблении религии», хотя на самом деле сборник называли порнографическим[256]. Накануне суда Бодлер признался Аполлонии Сабатье в любви, которую ранее скрывал, и был отвергнут.
«Цветы Зла» принесли Бодлеру скандальную известность, но не прочное литературное признание. Его стали воспринимать как жертву режима Наполеона III.
Дальнейшая жизнь Шарля Бодлера складывалась печально. В 1861 году он расстался с Жанной Дюваль, хотя и продолжал содержать ее. Больше постоянных любовниц у него не было.
Вторым шедевром Бодлера считаются пятьдесят «стихотворений в прозе», появлявшихся в периодической печати с августа 1857 по август 1867 годов. Отдельным изданием под названием «Парижский сплин» они вышли только в 1869 году, уже после смерти поэта.
Надо сказать, что Бодлер очень переживал из-за обвинительного приговора «Цветам Зла». Пытаясь реабилитироваться, в декабре 1861 года он неожиданно выдвинул свою кандидатуру в Академию. Эта попытка была явно обречена на неудачу, и у поэта хватило здравого смысла своевременно снять свою кандидатуру.
Менее чем через год после этого стали сказываться последствия сифилиса, который Бодлер перенес в молодости. У него начались мучительные постоянные головокружения, жар, бессонница, физические и психические кризы. Он уже был почти не в состоянии писать, в каком-то тряпье, целыми вечерами бродил среди нарядных парижских толп и затравленно рассматривал прохожих. Как-то раз поэт спросил у случайной девушки, знакома ли она с произведениями некоего Шарля Бодлера. Девушка ответила, что знает только Альфреда Мюссе. Поэт пришел в ярость и наорал на бедняжку.
В апреле 1864 года Бодлер уехал в Брюссель. Там он пытался продолжить работу над «Стихотворениями в прозе» и над дневником «Мое обнаженное сердце», но усилия его окончились полной неудачей.
4 февраля 1866 года, будучи в церкви Сен-Лу в Намюре, Бодлер потерял сознание и упал прямо на каменные ступени. На следующий день врачи обнаружили у него первые признаки правостороннего паралича и тяжелейшей афазии, перешедшей позднее в полную потерю речи. Срочно приехавшая мать перевезла сына в Париж.
Поэт агонизировал у нее на руках еще четырнадцать месяцев!
Шарль Бодлер умер 31 августа 1867 года. Похоронили его на кладбище Монпарнас, рядом с ненавистным отчимом генералом Жаком Опиком.
31 мая 1949 года Уголовная палата Кассационного суда Франции отменила приговор трибунала департамента Сена от 21 августа 1857 года. «Цветы Зла» Бодлера были реабилитированы только спустя восемьдесят два года после смерти поэта.
Первый русский перевод произведения Бодлера – стихотворения «Каин и Авель» – был сделан Д. Минаевым. В дальнейшем его поэзию переводили Н. С. Курочкин, С. А. Андреевский, Д. С. Мережковский, П. Я. Якубович (Мельшин), А. А. Панов, Эллис (Лев Кобылинский), Арсений Альвинг (Смирнов), Адриан Ламбле, В. Г. Шершеневич, Н. С. Гумилев, М. И. Цветаева, М. Л. Лозинский, Г. В. Иванов, В. В. Левик и другие.
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ (1821-1877/1878)
8 января 1878 года в Петербурге хоронили Николая Алексеевича Некрасова. Несколько тысяч человек провожали его гроб до кладбища Новодевичьего монастыря. Прощальную речь у разрытой могилы произнес Федор Михайлович Достоевский. В ней он, в частности, осторожно сравнил Некрасова с Пушкиным. Неожиданно из толпы присутствовавших раздались крики:
– Выше! Выше!
Достоевский, должно быть, и не подозревал, что первым тогда затронул неразрешимый вопрос: кто является Первым Поэтом России.

Для русского человека вопроса здесь нет, ответ на него дал Аполлон Александрович Григорьев. Но не удивляйтесь, если, оказавшись за рубежом и случайно пообщавшись с любителями поэзии, не знающими русского языка, вы услышите однозначный ответ – Некрасов.
Три колосса русской поэзии конца XVIII – середины XIX века выступают от имени русского народа на просторах мировой поэзии – Г. Р. Державин, А. С. Пушкин и Н. А. Некрасов.
Державин в мире духовной поэзии – фигура незыблемая, творчество его знают мало, но ода «Бог» во все времена остается недосягаемой вершиной поэтического слова.
А вот с Пушкиным и Некрасовым дела обстоят гораздо сложнее. Для тех, кто не знает русского языка и вынужден читать нашу поэзию в переводах, Пушкин оказывается всего лишь одним из подражателей или в лучшем случае продолжателей поэзии Байрона, только со своей национальной окраской.
В то же время Некрасов является создателем двух грандиозных самобытных эпических произведений – поэм «Мороз, Красный нос» и «Кому на Руси жить хорошо». Он стоит в одном ряду с Гомером, Камоэнсом, Фирдоуси, с тем же Байроном и автором «Слова о полку Игореве»…
Другими словами, Первым Поэтом русского народа для русских всегда остается Пушкин, а для многих из тех, кто не знает русского языка, – Некрасов.
Конечно, по таким вопросам не спорят и такая постановка вопроса неправомерна. Не сомневаюсь, что многие примут эти строки в штыки. Однако написаны они не для эпатажа, а для простой констатации факта и еще по той причине, что стопятидесятилетнее использование творчества Николая Алексеевича в конъюнктурных политических целях замылило глаз нашему читателю и зачастую не позволяет ему достойным образом понять и почувствовать поэзию всемирного гения.
Человек увлекающийся и страстный, поручик егерского полка Алексей Сергеевич Некрасов (1788-1862) очень нравился женщинам. Его полюбила Александра Андреевна Закревская (ум. 1841), варшавянка, дочь богатого посессионера Херсонской губернии. Родители не соглашались выдать дочь за небогатого, мало-образованного армейского офицера. Брак состоялся без их согласия и оказался несчастливым. В зрелом возрасте Николай Алексеевич не раз говорил о страданиях матери, ставшей жертвой грубой и развратной среды.
Детство будущего поэта прошло в родовом имении отца, деревне Грешнево Ярославской губернии. Родители привезли его туда в 1823 году, после выхода отца в отставку. Непрактичный батюшка сильно запустил дела, вел несколько судебных тяжб с соседями. Нехватка средств заставила его поступить на службу – Алексей Сергеевич стал исправником[257].
Должность предполагала разъезды по селам. Отец нередко брал с собой на разбирательства юного Колю. Приезд исправника в деревню всегда знаменовал собой что-нибудь скверное и жестокое: мертвое тело, выбивание недоимок и прочее подобное. Таким образом, Николай Алексеевич с малых лет насмотрелся на народное горе и нужду.
В 1832 году Николай поступил в ярославскую гимназию, где учился до пятого класса. Учился он скверно, с гимназическим начальством не ладил, поскольку уже тогда сочинял сатирические стишки.
Алексей Сергеевич мечтал о том, что любимец его Колька пойдет по стопам отца и станет офицером. В 1838 году шестнадцатилетний Некрасов отправился в Петербург для определения в дворянский полк. Дело было почти налажено, но в столице Николай встретил своего гимназического товарища, студента Глушицкого, который познакомил юношу с другими студентами. И совершенно неожиданно в Некрасове проснулась жажда знаний. Он сообщил батюшке, что намерен поступать в университет. В ответ строптивый исправник предупредил, что если сын ослушается его воли, то будет оставлен решительно без какой-либо материальной поддержки. Невзирая на угрозу, Николай стал готовиться к вступительному экзамену. Он его провалил, но, будучи по природе упрямым, поступил вольнослушателем на филологический факультет.
Алексей Сергеевич тоже сдержал свое слово: все время пребывания сына в университете – с 1839 по 1841 год – ему не было передано ни копейки, не послано ни одного гостинца. По сей причине молодому человеку было не до учебы – почти все время его уходило на поиски заработка. Некрасов терпел страшную нужду, не каждый день имел возможность обедать за 15 копеек.
От продолжительного голодания он заболел и много задолжал солдату, у которого снимал комнатку. Еще полубольной, он пошел к товарищу, а когда вернулся, солдат, несмотря на ноябрьскую ночь, не пустил его обратно. Над юношей сжалился проходивший нищий и отвел его в какую-то трущобу на окраине города. В этом ночлежном приюте Некрасов нашел себе и заработок, написав кому-то за 15 копеек прошение.
С того времени дела стали потихоньку улаживаться. Николай стал давать уроки, писал статейки в «Литературное прибавление к Русскому Инвалиду» и в «Литературную Газету», сочинял для лубочных издателей азбуки и сказки в стихах, ставил водевили на Александринской сцене (под именем Перепельского). У Некрасова начали появляться сбережения, и он решился опубликовать сборник своих стихотворений. Сочинял Николай давно и в Петербург приехал с большой тетрадкой своих творений. Книга под заглавием «Мечты и звуки» вышла в 1840 году. Автором значился Н. Н.
В начале 1840-х годов Николай Алексеевич стал сотрудником «Отечественных Записок»[258], первоначально по библиографическому отделу. Там Некрасов близко познакомился с Белинским, который весьма скептически оценил прозу Николая Алексеевича и посоветовал больше внимания уделять стихотворчеству.
Работа в «Отечественных записках» позволила Некрасову сделать некоторые накопления и начать издательскую деятельность. С 1843 года он издал несколько сборников -«Статейки в стихах без картинок», «Физиология Петербурга», «1 апреля», «Петербургский Сборник». Особенный успех имел последний, в нем были опубликованы «Бедные люди» Ф. М. Достоевского.
Издательские дела Некрасова пошли настолько хорошо, что в конце 1846 года он, вместе с Панаевым[259], приобрел у Плетнева[260] «Современник»[261]. Многие сотрудники «Отечественных записок» перешли к Некрасову, в их числе В. Г. Белинский, который передал издателю часть того материала, который собирал для затеянного им сборника «Левиафан». Этим был обеспечен успех нового предприятия.
«Современник» быстро стал популярнейшим журналом в России. В первую очередь это произошло благодаря авторам, которые в нем публиковались. В «Современнике» впервые были изданы «Записки охотника» И. С. Тургенева, «Обыкновенная история» А. И. Гончарова, «Антон Горемыка» Д. В. Григоровича, поздние критические статьи В. Г. Белинского, «Детство», «Отрочество», «Юность» и «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого, «Сорока-воровка» и «Доктор Крупов» А. И. Герцена и многие другие замечательные произведения русской литературы.
В середине 1840-х годов у Некрасова появилась гражданская жена, Авдотья Яковлевна Панаева[262]. Они прожили вместе до 1863 года. Обычно говорят, что союз их был труженический. После кончины Белинского и с наступлением реакции, вызванной революционными событиями 1848 года в Европе, «Современник», оставаясь лучшим и распространеннейшим из тогдашних журналов, пошел на уступки духу времени. В связи с этим Некрасов и Панаева совместно написали приключенческие романы «Три страны света» и «Мертвое озеро». Для чего это было надо? В те годы цензура часто перед самым выходом журнала запрещала часть материалов. Дыры срочно закрывали фрагментами такого романа.
Около середины 1850-х годов Некрасов серьезно, казалось, смертельно, заболел горловой болезнью. Ему пришлось уехать на лечение в Италию. Это помогло.
Выздоровление поэта совпало с началом новой эры русской жизни. В творчестве Некрасова также наступил счастливый период, выдвинувший его в первые ряды русской литературы. А вождями «Современника» стали Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов. Они устраивали далеко не всех авторов, которые вскоре ушли из журнала. Одним из первых отказался публиковаться в «Современнике» И. С. Тургенев.
Наивысший расцвет творчества Николая Алексеевича начался с 1855 года. Он закончил поэму «Саша», в которой попытался показать, как рождаются «новые люди» и чем они отличаются от прежних «героев времени». Тогда же он написал такие знаменитые стихотворения, как «Забытая деревня», «Школьник», «Несчастные», «Поэт и гражданин».
Вышедший в 1856 году сборник «Стихотворения Н. Некрасова» принес поэту широкую известность. «Крестьянские дети» и созданные одновременно «Коробейники» окончательно укрепили его авторитет в мире поэзии.
Крестьянская реформа и отмена крепостного права своеобразно сказались на судьбе Некрасова. Вспыхнувшие почти сразу массовые крестьянские бунты заставили власти обратить особое внимание на разночинную интеллигенцию. В «Современнике» начались усиливающиеся затруднения. В 1861 году умер Н. А. Добролюбов, затем арестовали и сослали в Сибирь Н. Г. Чернышевского. Некрасов едва успел опубликовать на страницах журнала роман «Что делать?», как в июне 1866 года «Современник» был запрещен навсегда.
В тяжелые годы безнадежной борьбы за журнал Николай Алексеевич создал свой великий шедевр – поэму «Мороз, Красный нос», вошедшую в анналы мировой поэзии как первый в истории семейный эпос. Поэма была написана в 1863-1864 годах. Созданное в те же годы стихотворение «Орина, мать солдатская» на века стало символом материнской и сыновней любви русского народа.
После закрытия «Современника» Некрасов-издатель простаивал недолго. Спустя полтора года он взял в аренду «Отечественные записки» и возглавлял журнал с 1868 по 1878 год, до самой своей смерти. «Отечественные записки» пользовались таким же успехом, как и «Современник». В журнале вместе с Некрасовым работал Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. В отделе беллетристики печатались А. Н. Островский и Г. И. Успенский.
Сам же Николай Алексеевич в 1866 году приступил к написанию главного произведения своей жизни – эпической поэмы «Кому на Руси жить хорошо». Труд был закончен в 1876 году. Тогда же были созданы поэмы «Дедушка» и «Русские женщины».
Весной 1870 года сорокавосьмилетний поэт Некрасов, изнуренный работой, разочарованный в друзьях и с расстроенным здоровьем, встретился с молодой привлекательной девушкой Феклой Анисимовной Викторовой[263]. Она очаровала Николая Алексеевича не столько красотой и статной фигурой, сколько тихой лаской, застенчивостью и открытым добросердечием.
Поэт поселил Феклу на отдельной квартире и в свободное время ненадолго заходил к ней. Однако привязанность Некрасова к новой знакомой быстро росла, и Викторова переселилась к Николаю Алексеевичу в квартиру на Литейном. Имя Фекла казалось Некрасову грубым, неблагозвучным, и он велел звать ее Зиной, прибавив свое отчество. Вслед за ним и все знакомые стали звать фактическую жену поэта Зинаидой Николаевной.
В середине 1870-х годов Николай Алексеевич почувствовал себя плохо. Ему становилось все хуже и хуже. Врачи обнаружили у поэта рак кишечника.
Умирал Некрасов долго и в страшных мучениях. Жизнь его превратилась в медленную агонию. Напрасно был выписан из Вены знаменитый хирург Бильрот – мучительная операция оказалась безрезультатной.
Написанные во время болезни «Последние песни» стали одним из гениальнейших творений русской лирической поэзии.
27 декабря 1877 года Николай Алексеевич Некрасов умер. Похоронили его в Петербурге на Новодевичьем кладбище. В 1881 году на его могиле был установлен памятник (скульптор М. А. Чижов).
АПОЛЛОН НИКОЛАЕВИЧ МАЙКОВ (1821-1897)
В дореволюционной литературе Майкова называли величайшим русским поэтом послепушкинской эпохи. Насколько это спорно, не суть важно. В послереволюционное время о поэте постарались забыть, а затем стали представлять как десятистепенного, не заслуживающего особого внимания поэта, певца природы. Ему не могли простить его многолетнего, убежденного славянофильства и сына Аполлона, одного из организаторов и, что еще «ужаснее», ведущего публициста черносотенного движения в начале ХХ века. Между тем поэзия Майкова, ярко патриотичная, добрейшая и светлейшая, необычайно важна для каждого здорового россиянина, спасительна духовно, наставительна интеллектуально.

Аполлон Николаевич Майков родился 23 мая (4 июня по новому стилю) 1821 года в Москве[264] в старинной дворянской семье с богатыми культурными традициями. Родоначальником Майковых был дьяк великого князя Василия Васильевича и царя Ивана Грозного Андрей Майк. Как предполагают многие исследователи и были уверены все Майковы, к их роду принадлежал русский святой и церковный писатель Нил Сорский (в миру Нил или Николай Майков). Однако документального подтверждения этого пока не найдено.
Отец будущего поэта, Николай Аполлонович (1796-1873), был человеком необычайно интересной судьбы. Юнцом Майков-отец «был отдан во второй кадетский корпус в то время, когда для дворянина считались приличными только две карьеры: или в военной, или в статской службе. Прямо со школьной скамьи, не успев кончить курса, он был, как многие тогда, выпущен в офицеры, лет 18 от роду, в действующую армию, в корпус Багратиона». В битве при Бородине Николай Аполлонович был ранен в ногу и отправлен на излечение в поместье в Ярославскую губернию. Там же от скуки юноша занялся рисованием, скопировав для начала картинку, висевшую над его кроватью. Копия удалась, и уже вернувшись на службу в гусарский полк, Майков продолжал предаваться новому увлечению. После окончания войны Майков, награжденный орденом Владимира, вышел в отставку в чине майора, женился и, с облегчением переложив все житейские заботы на плечи жены, занялся живописью. Братья Майковы были уже в подростковом возрасте, когда отец их стал известным художником, любимцем императора Николая I. По поручению государя Майков написал ряд образов для церквей Святой Троицы в Измайловском полку (доставивших ему в 1835 году звание академика), образа для малых иконостасов Исаакиевского собора, над исполнением которых художник трудился около 10 лет.
Мать братьев Майковых, Евгения Петровна, урожденная Гусятникова (1803-1880), происходила из старого купеческого рода. Женщина высокообразованная, она сотрудничала в литературных журналах, выступала как поэтесса и беллетристка.
У Майковых было четыре сына. Старшие, Валериан[265] и Аполлон, и младшие, Владимир[266] и Леонид[267].
Раннее детство Аполлона Николаевича прошло в имении отца сельце Никольском, близ Троице-Сергиевой лавры и отчасти в имении бабушки сельце Чепчихе Клинского уезда Московской губернии.
Его постоянными товарищами были крестьянские дети. Здесь он на всю жизнь пристрастился к рыбной ловле, что в дальнейшем отразилось в его поэме «Рыбная ловля».
В 1834 году Майковы переселились в Петербург, и дальнейшая судьба поэта была связана со столицей.
Евгения Петровна была доброй и общительной дамой, всегда привечала молодых писателей, подкармливала малообеспеченных, каждый мог найти у нее поддержку и доброе слово. Впоследствии Майкову очень любил и уважал как добрейшего друга Федор Михайлович Достоевский.
В приветливом московском особнячке Майковых всегда собирались многочисленные гости – художники и писатели. В конце концов, сложился салон Майковых, но был он не великосветским, и в него не привлекали знаменитых литераторов. Здесь бывали преимущественно молодые, начинающие писатели, литераторы-полупрофессионалы, талантливые дилетанты, студенты, поклонявшиеся поэзии и искусству. Частым гостем салона стал в то время еще никому не известный Иван Александрович Гончаров (1812-1891).
Первоначальным образованием сыновей Майкова – Валериана и Аполлона – занимался на дому друга Николая Аполлоновича литератор Владимир Андреевич Солоницын. Историю словесности братьям преподавал И. А. Гончаров.
Образовавшийся в итоге «домашний кружок», в который входили также друзья дома В. Г. Бенедиктов, И. А. Гончаров и другие, «выпускал» рукописный журнал «Подснежник» и альманах «Лунные ночи», куда включались первые поэтические пробы юного Майкова.
Когда Аполлону исполнилось шестнадцать лет, он и Валериан поступили в Петербургский университет. Аполлон занимался на юридическом факультете.
В университете молодой поэт активно занимался творчеством. На дар Майкова обратили внимание, в особенности профессор Петр Александрович Плетнев, многие годы затем опекавший поэта и знакомивший крупнейших литераторов, в частности В. А. Жуковского и Н. В. Гоголя, с его произведениями.
После окончания университета Аполлона Николаевича определили служить в Департаменте государственного казначейства, но вскоре, получив от Николая I пособие для путешествия за границу, он уехал в Италию, где занимался живописью и поэзией, а затем в Париж, где слушал лекции по искусству и литературе. Побывал Майков и в Дрездене, и в Праге. Особенно его заинтересовала Прага, поскольку к тому времени поэт уже проникся идеями славянофильства и панславизма. В частности, он встретился и много общался с Шафариком[268].
В 1844 году Майков возвратился в Россию, где восемь лет проработал помощником библиотекаря при Румянцевском музее.
Первый поэтический сборник Аполлона Николаевича «Стихотворения» вышел в 1842 году и получил высокую оценку В. Г. Белинского.
В эти годы Майков сблизился с Белинским и его окружением – И. С. Тургеневым и Н. А. Некрасовым. Особой страницей в его жизни стало кратковременное участие поэта в деятельности кружка Петрашевского[269]. На этой почве Майков особенно подружился с Ф. М. Достоевским.
3 августа 1849 года, через три с половиной месяца после ареста всех активистов кружка петрашевцев, был арестован и Майков. Его допросили, пришли к выводу, что он в этом деле человек случайный, и в тот же вечер отпустили.
В 1852 году Майков женился на русской немке лютеранского вероисповедания Анне Ивановне Штеммер (1830-1911). Со временем у них родились четверо детей, но до совершеннолетия дожили только трое сыновей.
А в октябре 1852 года поэт вступил на службу в Петербургский комитет иностранной цензуры, где исполнял обязанности младшего цензора. При том что служба была сложной и трудной, поэт полюбил ее, особенно тогда, когда по его совету председателем комитета назначили его друга и великого русского поэта Ф. И. Тютчева, а в 1860 году секретарем там стал Я. П. Полонский[270]. С 1875 года Майков сам возглавил комитет.
– Мне ничего более не надо: я и умереть хочу, как и Тютчев, в дорогом моему сердцу комитете, – однажды признался Аполлон Николаевич. В этом ведомстве Майков проработал сорок пять лет, до самой смерти.
Как глава ученого комитета иностранной цензуры Майков состоял также членом ученого комитета Министерства народного просвещения. В 1853 году Академия наук избрала его членом-корреспондентом по отделению русского языка и словесности, а Киевский университет – почетным членом.
Крымская война 1853-1856 годов всколыхнула патриотические и монархические чувства Майкова. В самом начале 1855 года вышла его небольшая книжка стихов «1854-й год».
После Крымской войны Аполлон Николаевич сблизился с молодой редакцией «Москвитянина», поздними славянофилами и «государственниками». На почве славянофилов, но с твердой идеей государства, с признанием послепетровской истории Майков стал сторонником идей М. П. Погодина[271] и М. Н. Каткова[272]. При этом он создал ряд стихотворений о русской природе, которые заучивались наизусть «чуть ли не с первыми молитвами», ставшими хрестоматийными и цитатными: «Весна! Выставляется первая рама…», «Летний дождь», «Сенокос», «Ласточки» и другие.
Увлеченный эпохой Древней Руси и славянским фольклором, Майков создал лучший в истории мировой литературы перевод на современный русский язык эпоса «Слово о полку Игореве» (работа шла в период 1866-1870 годов).
По мотивам истории Древнего Рима поэт написал философско-лирическую драму «Два мира», удостоенную в 1882 году Академией наук Пушкинской премии.
В быту Майкову были присущи тонкий беззаботный юмор и доброта сердца. Он всю жизнь оставался искренним бессребренником.
27 февраля 1897 года Аполлон Николаевич Майков вышел на улицу слишком легко одетым, вскоре заболел и через полтора месяца 8 марта (20 по новому стилю) 1897 года умер. Похоронили его в Петербурге на кладбище Воскресенского Новодевичьего монастыря.
Многие стихи поэта вдохновили композиторов на создание романсов. Петр Ильич Чайковский написал два романса в одном из первых своих опусов (Ор.16): «Колыбельную песню» («Спи, дитя мое…») и «Новогреческую песню» («В темном аде под землей…»). Cтихи Майкова из поэтического цикла «На воле» композитор использовал в качестве эпиграфов к двум пьесам из музыкального цикла «Времена года» – «Март» и «Апрель». Также на стихи Аполлона Майкова Чайковский написал кантату «Москва».
ЭМИЛИ ДИКИНСОН (1830-1886)
Кто-то называет ее Сафо XIX века, кто-то – американской Цветаевой. Кто-то обличает в тайной эротомании, кто-то чуть ли не возводит в ранг святой девы. «Белая затворница» или «Амхерстская монахиня» – самая таинственная поэтесса в истории мировой литературы. Тайна Эмили Дикинсон не раскрыта по сей день и вряд ли когда найдет свою разгадку. И пронзительное творчество ее вряд ли может стать ключом к феномену вечной девы.

Эмили Дикинсон родилась 10 декабря 1830 года в маленьком провинциальном городке Амхерст, штат Массачусетс. Городок принадлежал пуританам, его единственной религиозной общиной являлась Конгрецианистская церковь.
Семья Дикинсон была типичной пуританской семьей – традиционно благонравной и достаточно зажиточной. Отец, весьма уважаемый в городе человек, работал адвокатом. Одно время он даже представлял интересы штата в Конгрессе (1853-1855). Эмили всю жизнь горячо любила его, и отец по-своему баловал дочь. Мать девочки была женщиной сухой, строгой и фанатично религиозной. Отношения со старшей дочерью у нее не сложились.
У Эмили были еще старший брат Остин (в детстве он тайком таскал сестре разную, в том числе и запрещенную в доме, литературу) и младшая сестра Лавиния – самые близкие по жизни люди.
Богатый дедушка будущей поэтессы основал в 1810 году Амхерстский колледж, а ее отец был казначеем этого колледжа с 1835 по 1870 год. Само собой разумеется, для получения образования Эмили отдали в семейное заведение. Затем в 1847-1848 годах девушка продолжила учебу в женском колледже «Маунт Холуок».
И дома, и в первом, и во втором учебных заведениях на главном месте стояли религиозное воспитание и домоводство. Так что молодые годы Эмили прошли под сильнейшим религиозным влиянием и в подготовке к исполнению супружеских обязанностей. С другой стороны, весь внутренний склад девушки не соответствовал характеру религиозной домохозяйки. Она так и не смогла стать убежденной верующей и не вошла ни в какую церковную общину. Не стала Эмили и замужней женщиной, всю жизнь она провела в отчем доме.
Однажды в 1850 году подчиненный Дикинсона-отца помощник адвоката Бенджамин Ньютон подарил девушке книгу поэм Ральфа Вальдо Эмерсона – свободомыслящего трансценденталиста[273] из Конкорда. Для Эмили, по ее словам, Эмерсон стал «оценщиком жизненных ценностей». Под влиянием его творений она тоже стала сочинять стихи.
Четверть века безвыездно прожила Дикинсон в Амхерсте, когда работавший в Конгрессе отец позвал ее к себе в Вашингтон. Поездка 1855 года оказалась для девушки знаменательной не столько массой новых и неожиданных впечатлений, сколько встречей с преподобным Чарльзом Уодсвортом, чьи проповеди она слушала в Филадельфии, куда попала по дороге в Вашингтон. Они познакомились и подружились. Как писала сама Эмили, пастор стал для нее «самым дорогим земным человеком».
Биографы Дикинсон пытаются представить Уодсворта ключевой фигурой в судьбе поэтессы. Они утверждают, что девушка влюбилась в пастора первой, великой и безнадежной любовью – Уодсворт был уже женат. Поэтесса долго переписывались с возлюбленным, но пастор сердечных чувств к ней не испытывал. Общение с Уодсвортом якобы вдохновило поэтессу на создание в течение 1858-1862 годов множества гениальных стихотворений. Подчеркнем, это лишь одна из версий биографов Дикинсон. Другие биографы считают эту версию надуманной и притянутой только для того, чтобы хоть как-то опровергнуть разговоры о нетрадиционной ориентации поэтессы. Что происходило на самом деле, никто не знает.
В 1862 году пастор уехал в Калифорнию, и Эмили, опять же по одной из версий, пережила тяжелейший эмоциональный кризис, что выразилось в ее временном творческом упадке.
Быть может, действительно находясь в столь тяжком душевном состоянии, Дикинсон впервые решилась показать свои стихи стороннему человеку. 15 апреля 1862 года Томас Хиггинсон – известный в те времена литератор и критик – получил странное письмо с несколькими не менее странными стихами. Начинающая поэтесса Эмили Дикинсон просила у него ответа на вопрос, насколько «дышат» ее стихи.
Хиггинсон был очарован стихами Дикинсон, но они шокировали маститого профессионала «хаотичностью и небрежностью». Переписка между критиком и поэтессой продолжалась всю жизнь, до кончины последней.
Больше всего стихотворений – около восьмисот – Эмили Дикинсон написала в годы Гражданской войны между Севером и Югом (1861-1865). Потом стихи пошли на убыль.
Серьезное заболевание глаз вынудило Эмили на целых два года прервать работу. В 1864-1865 годах ей пришлось уехать в Кембридж и пройти там длительный курс лечения. Вернувшись домой, поэтесса уже никогда не покидала своего семейного владения в Амхерсте.
Эмили Дикинсон жила как затворница, общалась лишь с родней и близкими знакомыми, да и то через полуоткрытую дверь или по переписке, к публичности не стремилась – это была жизнь девушки в пуританской Америке, и ее затворничество было ее свободным выбором. Первые годы Эмили много читала, занималась садом и творила.
Родственники долго не догадывались, что Эмили пишет стихи. А со временем она стала еще более замкнутой, необщительной и записывала свои короткие шедевры без названий на небольших клочках бумаги, которые потом туго перевязывала ниткой и тщательно прятала в разных ящиках комода. Иногда делала рукодельные альбомчики со стихами, собственноручно сшивала их и прятала.
Остин Дикинсон и его жена – очень близкая подруга поэтессы Сюзан Жилберт – жили в одном с нею доме. Известно, что значительная часть стихотворений Эмили посвящены любви к женщинам. Предполагают, что адресатом этих произведений была именно Сюзан. Что было на самом деле, мы не знаем, поскольку дневниковые записи поэтессы и переписка Дикинсон после ее смерти были тщательно отредактированы родственниками.
В городе шушукались о том, что старая дева стала добровольной монахиней. Словно подтверждая эту сплетню, с 1870 года поэтесса начала носить только белые платья. Потому впоследствии ее и прозвали «Белой затворницей».
В 1874 году умер горячо любимый отец Дикинсон. Его смерть сблизила поэтессу с другом покойного – Отисом Лордом. Биографы Эмили определили его как последнюю великую любовь затворницы.
Или под впечатлением от смерти отца, или в тоске по поздней любви, но в конце 1870-х годов Дикинсон предала себя добровольному заточению в стенах собственного дома. И до, и после этого ни одно историческое событие, случившееся во время жизни Эмили и потрясшее Соединенные Штаты, не нашло отражения в ее творениях. Поэтесса просто их не заметила.
Дикинсон тихо жила в своей комнате на втором этаже, а обосновавшаяся в соседнем доме ее незамужняя младшая сестра Лавиния ревниво охраняла покой Эмили. Сестра взяла на себя все бытовые заботы, чтобы ничто не мешало дорогой отшельнице. Значительное состояние семьи позволяло сестрам вести безбедное незаметное существование.
Закрывшись в своей комнате, поэтесса тяжело пережила смерть матери и Уодсворта в 1882 году и Отиса Лорда в 1884 году.
Эмили Дикинсон умерла в мае 1886 года, в том же доме, где родилась. В предсмертной записке она написала коротко: «Маленькие кузины. Отозвана назад».
Перед смертью она молила близких сжечь все ее рукописи, но, к счастью, Лавиния не решилась исполнить волю покойной. Она собрала листочки и альбомчики старшей сестры и сделала все возможное, чтобы поэтическое наследие Эмили нашло своего читателя.
Всего Дикинсон было создано свыше 1 770 стихотворений. При жизни поэтессы против ее желания, анонимно и без выплаты гонорара были опубликованы только семь произведений.
Первый неотредактированный сборник стихов Дикинсон был издан в 1890 году. Он поразил читателей изысканным и изощренным мистицизмом, неправильными экспериментальными грамматическими формами и отсутствием рифм.
В XX веке Эмили Дикинсон была признана одной из центральных фигур американской литературы.
На русский язык ее произведения переведены В. Марковой, Д. Даниловой, Я. Пробштейном и другими.
СТЕФАН МАЛЛАРМЕ (1842-1898)
В 1884 году Поль Верлен выступил в печати с рядом очерков под общим названием «Проклятые поэты». В числе авторов, чье творчество было проанализировано в этом цикле, самыми яркими художниками оказались Артюр Рембо и Стефан Малларме. Ныне очерки Верлена признаны явлением во французской критике. Но со временем под «проклятыми поэтами» почему-то стали подразумевать только троих – Верлена, Рембо и Малларме, в обязательном порядке делая акцент на нестандартную сексуальную ориентацию. Это тем более странно, что Малларме к данной проблеме не имел даже косвенного отношения.

Поэт родился 18 марта 1842 года в Париже.
Отец его Нума Малларме служил в столичном Управлении по делам собственности. Мать Стефана умерла, когда мальчику исполнилось пять лет. В дальнейшем он воспитывался дедом и бабушкой по материнской линии. Была у Стефана сестра Мари. Она умерла в 1857 году, девочке шел тринадцатый год. Ее кончина стала тяжелейшим ударом для подростка.
Вначале Стефана отдали учиться в религиозный пансион в Отейе, но через год он перешел в лицей Санса. Биографы обычно подчеркивают, что пребывание там стало для будущего поэта мучительным. Ему не удалось найти среди лицеистов друзей, и мальчик страдал от одиночества и всеобщего отторжения.
В 1860 году Малларме получил диплом бакалавра. Отец полагал, что сын должен идти по его стопам и стать государственным чиновником. Однако у Стефана были другие планы. В 1862 году он уехал в Лондон, где почти год совершенствовал свои знания в английском языке.
Вернувшись во Францию, молодой человек обосновался в Турноне, где стал преподавать английский в местном лицее. Вскоре Малларме женился, у него родилась дочь. Семья жила скромно, но можно было не сомневаться, что мелкий буржуа состоялся. Дальше Стефану оставалось только обеспечивать семью, выполнять свои служебные обязанности и радоваться тихим радостям простого человека. Это было время Второй империи во Франции. С 1852 года страной успешно правил Наполеон III. Аристократическая Франция веселилась и танцевала, а в недрах ее зрели первая в истории пролетарская революция и диктатура пролетариата.
Малларме было не до социальных катаклизмов. С 1862 года он писал стихи и не намеревался ограничиваться складыванием рукописей в ящик письменного стола.
В те годы большое влияние на поэта оказывала Парнасская школа[274]. В 1865 году Малларме отправил на суд одного из ведущих парнасцев Теодора де Банвиля свою поэму «Послеполуденный отдых фавна». Банвиль одобрил ее.
Первой публикацией Малларме стала подборка его стихов – всего десять произведений – в первом альманахе «Современный Парнас».
Однажды экземпляр альманаха попал в руки турнонских лицеистов. Когда Малларме вошел в класс, его встретили всеобщим хохотом. На доске красовалось четырежды повторенное слово – «Лазурь!»[275].
Поэт был оскорблен, и в 1866 году семья Малларме перебралась в Безансон. Но и там они надолго не задержались и уже через год переехали в Авиньон.
Однако именно в Безансоне в душе поэта произошел великий перелом. Сам Малларме сказал об этом так: «Я заложил основу грандиозного произведения». Он принялся за Книгу, окончательный вариант которой так и не был создан. Надо сказать, что 1860-е годы оказались для поэта странным периодом «незаконченных начал». Малларме приступал к созданию произведений, сохранившиеся отрывки которых говорят о выдающихся замыслах, но они так никогда не были окончательно воплощены в жизнь. Кризис, видимо, был связан с тем, что поэт разочаровался в парнасской школе. Он участвовал во втором альманахе «Современный Парнас» (1871), но на деле уже был далек от бывших единомышленников.
Начало 1870-х годов – время грандиозных потрясений во Франции. В 1870-1871 годах шла Франко-прусская война, в ходе которой Наполеон III попал в плен, где через три года умер. Вторая империя кончила свое существование, началась Третья республика. А 18 марта – 28 мая 1871 года произошла первая в истории пролетарская революция – Парижская коммуна.
Едва расстреляли Коммуну, как Малларме, оставив семью в Безансоне, вернулся в Париж. Закончились девять лет его провинциальной жизни. Одновременно завершился парнасский период его творчества, итог которому подвел «Похоронный тост», написанный в связи с кончиной Теофиля Готье. Отныне Малларме предался поискам абсолюта в поэзии, он пытался «изобрести некий язык», передающий «не сами вещи, но производимое ими воздействие».
В Париже поэт устроился преподавателем английского языка в лицее Фонтан. Он старался вести по возможности уединенный образ жизни и не вмешивался в злободневные художественные дебаты. Жилось не просто, в средствах Малларме был сильно ограничен. Но это не мешало ему заводить интересные знакомства: в 1872 году поэт познакомился с Артюром Рембо, в 1873-м – с Эдуардом Мане, в 1874-м – с Эмилем Золя.
Особо близкие отношения установились у него с Мане. Художник был на десять лет старше Малларме. Каждый вечер по дороге из лицея Фонтан домой поэт приходил в мастерскую Мане. Там Малларме познакомился с Мери Лоран. Романтические отношения связывали с ней Стефана всю жизнь.
Чтобы как-то поправить финансовые дела, в 1874 году Малларме в течение нескольких месяцев в одиночку выпускал журнал «Дерньер мод» – «Последняя мода». В журнале обсуждались дамские туалеты, украшения, мебель – короче, все, вплоть до театральных спектаклей и ресторанных меню. Некоторые биографы полагают, что таким образом через легковесные писания поэт пытался найти свой путь к столичной публике. Журналистская эпопея Малларме продолжалась всего несколько месяцев. Неудачная попытка издания «Дерньер мод», как утверждают современные литературоведы, стала знаком «проклятости» поэта, оказавшегося чужим в мире современной ему литературы.
В том же 1874 году поэт впервые начал снимать часть дома в деревне Вальвен – на берегу Сены и напротив леса Фонтенбло[276].
Относительно долгое время Малларме почти ничего не предлагал к публикации. Те же стихи, которые он изредка публиковал, поэт впоследствии называл «визитными карточками», которые он из учтивости посылал окружающим, «чтобы они не побили тебя камнями, догадавшись, что ты знаешь, что их не существует». Но и эти редкие публикации дали Малларме определенную известность в литературных кругах. Творчество его все более сближалось с поэзией Поля Верлена. Постепенно Стефан Малларме выходил в лидеры французского символизма.
В конце 1870-х годов критики парнасского направления Викэр и Боклэр в серии статей дали Верлену и Малларме обидное прозвище «декаденты»[277]. Неожиданно поэты с гордостью приняли это прозвище. Отвечая критикам, Верлен писал: «Нам бросили этот эпитет как оскорбление, я его принял и сделал из него военный клич, поскольку я знаю, он не означает ничего специального. Декадент. Да разве сумерки прекрасного дня не стоят любой утренней зари? И потом, если солнце заходит – то разве оно не взойдет завтра утром?»
С 1880 года Малларме начал организовывать у себя в квартире на рю де Ром «литературные вторники», в которых участвовали преимущественно молодые поэты и писатели, которые принадлежали к поэтическому направлению, получившему в дальнейшем название символизм.
Историю символизма обычно делят на несколько этапов.
Начало первому этапу было положено открытием «вторников» Малларме, где в первую очередь обсуждались вопросы о новых возможностях, открывавшихся перед поэзией, и прежде всего о суггестии[278], приближающей поэтический эффект к музыкальному. Через «вторники» Малларме прошли практически все поэты-символисты Франции вплоть до Андре Жида, Поля Клоделя и Поля Валери.
К концу 1885 года символисты заявили о своем существовании во всеуслышание. Их программной акцией стала публикация в январе 1886 года восьми «Сонетов к Вагнеру», созданных Верленом, Малларме, Гилем, Стюартом Меррилем, Шарлем Морисом, Шарлем Винье, Теодором де Визева, Эдуардом Дюжарденом. Первым развернутым «манифестом» символизма стал «Трактат о Слове» Рене Гиля, причем предисловие к нему написал сам Малларме.
Второй этап символизма пришелся на начало 1890-х годов. Его высшей точкой считается банкет 1891 года, устроенный по поводу выхода в свет сборника Жана Мореаса «Страстный пилигрим». На банкете председательствовал Малларме, окруженный литературно-художественной элитой во главе с Анатолем Франсом. Символизм получил официальное признание.
С открытием «вторников» Стефан Малларме постепенно стал самой популярной и влиятельной фигурой во французской поэзии. Его приглашали к сотрудничеству самые авторитетнейшие литературные издания страны, о нем писали критические работы, его приветствовала вся интеллектуальная элита Европы.
В 1887 году вышел сборник «Стихотворения Стефана Малларме». Характерной чертой его поэзии позднего времени стала анормальная усложненность языка. Поэта окончательно перестал интересовать читатель, его в гораздо большей степени интересовала мысль о свободе, позволяющей языку открыто принимать «древние молнии логики» и дающей ему возможность не искажаться необходимостью сообщения и бесконечными клише, препятствующими поэзии высказать нечто радикально иное.
В 1894 году Малларме оставил службу и полностью посвятил себя поэзии. Он продолжил работу над уже упоминавшейся здесь универсальной совершенной Книгой, которая дала бы исчерпывающее и уникальное объяснение мира.
После смерти Поля Верлена, последовавшей в 1896 году, Стефан Малларме был избран «принцем поэтов».
Через год поэт опубликовал свою последнюю поэму – «Удача никогда не упразднит случая». Написана она в виде одной длинной фразы без знаков препинания, напечатана лестницей на развороте двух страниц шрифтом разного размера. Тогда же появилась серия его статей под общим названием «Бредни», где поэт высказал мысли об упадке литературы и необходимости восстановить ее прежнее сакральное значение.
Стефан Малларме умер в Париже 9 сентября 1898 года.
Большая часть его произведений, равно как обширная переписка, были опубликованы после смерти поэта.
На русский язык произведения Малларме переведены Александром Блоком, Валерием Брюсовым, Осипом Мандельштамом, Максимилианом Волошиным, Иннокентием Анненским, Федором Соллогубом и многими другими поэтами.
ПОЛЬ МАРИ ВЕРЛЕН (1844-1896) и АРТЮР РЕМБО (1854-1891)
История Поля Верлена – это история гениально одаренного, тяжело больного от рождения человека и юного гениального негодяя, сумевшего обнаружить эту болезнь и разбередить ее, чтобы использовать в корыстных целях. Конечно, громко звучит и далеко не каждый согласится с таким определением, но, думаю, кто объективно знакомился с судьбой величайшего поэта-символиста, вряд ли станет опровергать такую точку зрения. Даже при самой искренней, кстати, вполне справедливой, любви к поэзии Рембо. Конечно, речь здесь будет идти сразу о двух французских гениях мировой поэзии. Однако, поскольку и жизнь, и особенно творчество Рембо целиком укладываются в рамки жизни Поля Верлена и судьбы обоих поэтов настолько тесно переплетены между собой, что я полагаю нецелесообразным разделять рассказ о них, и данная статья посвящена двум величайшим поэтам конца XIX века, во многом определившим судьбы мировой поэзии XX столетия.

Поль Мари Верлен родился 30 марта 1844 года в Меце (Лотарингия), в семье офицера. Отца часто переводили по службе в разные провинциальные гарнизоны. Когда во Франции произошел государственный переворот и к власти пришел Наполеон Бонапарт, будущий император Наполеон III, Верлен-старший вышел в отставку, и семья переехала жить в Париж. Полю было тогда семь лет.
В 1855 году будущего поэта отдали учиться в Лицей Бонапарта, где, не проявляя особого усердия к занятиям, юноша увлекся сочинительством, все свободное время уделяя поэзии. Он писал и просто стихотворения, и поэмы. Одну из них – поэму «Смерть» – юноша послал первому поэту Франции тех времен Виктору Гюго[279].
Как впоследствии отмечали близкие поэта, уже в те годы у Верлена иногда проявлялись врожденные отклонения, но Поль с ними вполне справлялся.
Сдав экзамен на бакалавра по классу риторики, Верлен поступил на факультет права Сорбонны, но проучился там недолго, поскольку, вкусив прелести богемной жизни, предпочел побыстрее завершить свое образование.
Чтобы содержать себя и не зависеть от родителей, молодой человек поступил на службу – первоначально в страховую компанию, а затем в Парижскую мэрию. В конце 1865 года, сильно подорвав неудачными коммерческими предприятиями имущественное положение семьи, умер отец Верлена. Это, если можно так сказать, развязало молодому человеку руки.
Отныне Поль с головой ушел в стихотворчество. Со временем он вступил в круг поэтов парнасской школы[280]. Первая книга Верлена, явно созданная под влиянием парнасцев, вышла в 1866 году. Называлась она «Сатурналии».
Новым дарованием наконец-то заинтересовался Виктор Гюго. Для встречи с великим писателем Верлен специально ездил в Брюссель. Любопытно, что 2 сентября 1867 года, никогда не знавший Бодлера лично, Поль оказался в числе тех немногих, кто провожал великого поэта в последний путь.
Несколько лет жизнь Верлена двигалась по тихой накатанной колее парижанина среднего достатка. Самым ярким событием стал выход в 1869 году второго поэтического сборника поэта «Галантные празднества». Многие мотивы в этой книге были навеяны полотнами французских художников XVIII века. Поэт организовывает «литературные среды».
Тогда же Верлен познакомился с некоей Матильдой Мотэ, ничем не замечательной буржуазкой, и осенью 1870 года, в первые недели Франко-прусской войны, женился на ней. Семейная жизнь скоро осложнилась, поскольку несоответствие интеллектуального и культурного уровня молодоженов оказалось слишком явным. Верлен стал потреблять алкоголь в неумеренных дозах. Семейные конфликты учащались и углублялись. Впрочем, это не помешало Верлену издать в 1870 году посвященный Матильде стихотворный сборник «Добрая песня».
Пришло время, и Поля призвали в армию. Воевать он не собирался, а потому стал скрываться от властей. Молодого человека поймали, на неделю посадили под замок… А скоро, в марте 1871 года, в Париже началась революция, и образовалась Парижская коммуна. Верлен еще работал в столичной мэрии. Когда из Версаля, где тогда находилось свергнутое Коммуной правительство, поступил приказ всем чиновникам саботировать революционную власть, поэт остался на своем месте и возглавил бюро по печати! Таким образом, он фактически стал коммунаром. Объясняются его действия просто – со многими руководителями Парижской коммуны Верлен был лично знаком со студенческих лет и по парижским кабачкам, равно как и со многими врагами Коммуны, засевшими в Версале. Поэту тогда даже не пришло в голову разделять своих соотечественников на непримиримых врагов.
Однако после расстрела Коммуны, опасаясь репрессий, Верлен скрылся, уехав из столицы в Аррас, но в августе того же года вернулся, решив пересидеть опасность в доме тестя.
И тут объявился Артюр Рембо.

Жан Никола Артюр Рембо родился 20 октября 1854 года во французском городке Шарлевиль в семье Фредерика Рембо, профессионального военного, и Марии-Катерины-Виталь Куиф. Когда Артюру исполнилось четыре года, отец бросил семью, с тех пор мальчика воспитывала строгая мать.
Рембо учился в провинциальной школе. Он был способным, но необычайно дерзким мальчиком. Поэтому Артюру часто доставалось за безалаберные выходки. В подростковом возрасте Рембо пристрастился к сочинительству. В 1870 году в местной газетенке было опубликовано его первое стихотворение. Шестнадцатилетний Артюр тут же возгордился, сбежал из дома и отправился в путешествие по северу Франции и Бельгии. Вовсю уже шла война. К счастью, паренька поймала полиция и сопроводила домой.
В семнадцать лет Рембо был уже зрелым, независимым ни от каких течений и условностей поэтом. В 1872 году он прислал Верлену, единственному, кого «признавал» из современных поэтов, свои стихи и попросил принять его в своем доме. Поль пришел в восторг от стихов никому не известного мастера и позвал его в Париж.
Артюр поселился в доме Верлена. Молодой человек, отличавшийся очень тяжелым характером – грубый, неуживчивый и скандальный, – тут же внес разлад в семейную жизнь Верлена. Но расстаться с ним поэт уже был не в силах – наконец-то он нашел родственную душу. Друзья проводили время в бесконечных прогулках, беседах, попойках.
После ряда тяжелых сцен было решено, что супруги Верлен на время разъедутся, чтобы «отдохнуть друг от друга». Мать поэта, женщина весьма обеспеченная, согласилась снабдить сына деньгами для путешествия.
Летом 1872 года Верлен и Рембо отправились в Бельгию, а затем перебрались в Лондон, где жили до весны 1873 года. Они вели веселую бродяжническую жизнь, писали стихи, болтали и… занимались любовью.
Долго ждавшая возвращения мужа Матильда начала в Париже дело о разводе. Узнав об этом, Верлен был до крайности потрясен.
Деньги, выданные матерью поэта, заканчивались. Продолжать финансировать противоестественные развлечения сына мадам Верлен не собиралась. Узнав о том, что Поль на мели и качать из него уже нечего, Артюр неожиданно дал любовнику от ворот поворот. Начались скандалы, истерики… 10 июля 1873 года в Брюсселе во время ссоры Верлен ранил Рембо из пистолета в руку. Его арестовали, судили за попытку убийства и приговорили к двум годам тюремного заключения и штрафу в двести франков.
На этом история отношений Верлена и Рембо закончилась. Длилась она немногим более одного года, но вошла в анналы истории литературы как один из самых драматических эпизодов в жизни величайших поэтов мира.
Рембо вернулся домой, на ферму в Роше, где он закончил стихотворный цикл «Одно лето в аду». Его сборник стихов и прозаические миниатюры под таким же названием вышли в 1873 году. Артюр подарил несколько экземпляров книги своим друзьям и послал экземпляр Верлену в тюрьму. Последний раз они виделись в 1875 году уже после освобождения Верлена из тюрьмы, и закончилась эта встреча ужасным скандалом.
Какое-то время Рембо жил в Англии, где закончил сборник стихотворений в прозе «Les illuminations», после чего сжег все рукописи и больше литературой не занимался.
Он снова пустился в странствия – работал учителем в Германии, разгружал суда в Марселе, зачислился в голландскую армию, но на острове Суматре дезертировал. Последние десять лет жизни поэт работал для французских экспортеров-импортеров, перепродавая все, начиная с фарфора и оружия – возможно, даже занимался работорговлей.
В 1880 году Артюр Рембо прибыл в Аден после непродолжительного пребывания на островах Ява и Кипр. Он совершал деловые поездки по землям современного Йемена, Эфиопии и Египта с риском для жизни, прошагал не одну милю во главе торговых караванов. Поэт стал первым европейцем, проникнувшим в провинцию Эфиопии Огаден.
Все еще страстно влюбленный в Артюра, Верлен в 1886 году издал книгу его стихов «Озарения», которая утвердила за путешествовавшим тогда Рембо репутацию маститого поэта.
В сентябре 1888 года распространился слух, что Рембо мертв, а в следующем году в качестве шутки был опубликован список фамилий тех, кто пожертвовал деньги на памятник поэту.
Тем временем Рембо и в самом деле сильно заболел. В феврале 1891 года он стал ощущать боли в левом колене и поехал к врачу в Марсель. Ногу пришлось ампутировать из-за огромной раковой опухоли.
Артюр Рембо умер в Марселе 10 ноября 1891 года и был скромно похоронен в Шарлевиле. В число его ближайших наследников – Рембо за время своей предпринимательской деятельности составил себе хорошее состояние – был включен его африканский мальчик-слуга Джами Вадай.
Поль Верлен, будучи в тюрьме, раскаялся и стал ревностным католиком. В заключении он издал замечательный сборник «Романсы без слов». Литературоведы считают эту книгу программной. Это книга впечатлений, книга печали, переданной музыкой стиха. Смысл слов в стихах здесь размыт, главным стал образуемый ими единый звуковой поток.
16 января 1875 года поэт был освобожден и вернулся в Париж. Матильда указала Верлену на дверь. Тогда Поль уехал в Англию, где жил длительное время – преподавал французский язык и рисование в различных школах и колледжах, давал частные уроки.
Вернувшись во Францию, Верлен устроился преподавателем в духовный коллеж в городке Ретель. Среди его учеников находился некий Люсьен Летинуа, сын фермера. Как говорят биографы, поэт горячо привязался к юноше, как бы видя в нем утраченного сына[281]. Когда Люсьен окончил коллеж и должен был уехать на родину, Верлен решил не расставаться с ним и стать фермером. Мать поэта согласилась дать денег и на эту затею, при этом она окончательно разорилась. Ферма была куплена на имя Летинуа-отца. Верлен поселился там вместе с Люсьеном. Очень скоро им это дело надоело, и несостоявшиеся фермеры отправились путешествовать. Отец же Люсьена, будучи по документам владельцем хозяйства, продал все имущество, а деньги присвоил себе.
Осенью 1881 года друзья вернулись в Париж, где Верлен возобновил литературные знакомства и быстро стал приобретать известность. Люсьен же отправился в армию отбывать воинскую повинность. Там он заболел тифом и умер.
Жить ни поэту, ни его матери было уже не на что. Тогда на последние сбережения Верлен купил клочок земли и вместе с матерью поселился в деревне. Дела его шли плохо. Верлен много пил, отношения с матерью стали портиться, и однажды разыгралась тяжелая сцена, во время которой Верлен чуть не убил мать. В дело вмешались третьи лица, и поэта посадили на месяц в тюрьму.
Из тюрьмы он вернулся в Париж, и начался последний период его жизни – период бродяжничества, пьянства и нищенства. Мать его умерла, и последняя опора в жизни поэта исчезла. Верлен стал «богемой» в полном смысле этого слова – завсегдатаем кабаков, постоянным пансионером госпиталей, куда его в первые годы безденежья помещали влиятельные друзья.
Одновременно росла слава Верлена! В 1894 году, после кончины Леконта де Лиля[282], поэты Франции (при соотношении 77 голосов – за, 38 – против) избрали Верлена «принцем поэтов».
Последнее стихотворение Поля «Смерть» было опубликовано 5 января 1896 года.
7 января 1896 года Поль Мари Верлен умер в Париже от воспаления легких. Похоронили его 10 января на кладбище Батиньоль. За гробом великого скитальца шла трехтысячная толпа литераторов и поклонников его поэзии.
На русский язык поэзия Верлена переведена К. Бальмонтом, Ф. Соллогубом, В. Брюсовым, Б. Пастернаком, А. Эфорном и другими.
Поэзию Арутюра Рембо перевели П. Антокольский, Е. Головин, В. Левин, В. Набоков и другие.
ОСКАР УАЙЛЬД (1854-1900)
Оскар Уайльд – человек и творец, оказавший огромнейшее влияние на культуру Западной Европы, Америки и России в конце XIX – XX века. В России в меньшей мере, поскольку Октябрьская революция положила конец эстетствующим настроениям, хотя глава большевистской культуры А. В. Луначарский был в довольно дружественных отношениях с английским поэтом незадолго до его кончины.
Конечно, Уайльда обычно называют самым выдающимся гомосексуалистом в истории человечества. Именно с проблемами нестандартной половой ориентации связана главная трагедия его жизни. Но на творчестве поэта и беллетриста это несчастье сказалось не так уж сильно.

Оскар Фингал О’Флаэрти Уиллс Уайльд родился 6 октября 1854 года в семье сэра Уильяма Уайльда, дублинского врача-офтальмолога с мировым именем[283]. Мать будущего поэта, леди Джейн Франчески Уайльд, была дамой неуравновешенной и склонной к эпатажу. Ей нравились символические жесты, а свои стихи – леди баловалась поэзией – она неизменно подписывала Speranza – Надежда, подчеркивая этим свою любовь к Ирландии.
У леди Джейн был свой литературный салон. В нем и провел свою раннюю юность будущий писатель. От столь эксцентричных родителей Оскар унаследовал редкую трудоспособность и любознательность, мечтательный и несколько экзальтированный ум, подчеркнутый интерес к таинственному и фантастическому, склонность придумывать и рассказывать необыкновенные истории.
В молодости Уайльда повсюду сопровождал неизменный успех. В 1874 году он поступил в колледж Мадлены Оксфордского университета, где его талант признали сразу же. Там молодой человек изучал искусство – зачитывался поэтами-романтиками, увлекался прерафаэлитами[284], а также слушал лекции Джона Рескина[285]. Культ прекрасного, утвердившийся в Оксфорде под влиянием Джона Рескина и породивший, в частности, культ эффектного, нарочито «непрактичного» костюма и ритуальную изысканность речевых интонаций, скоро вызвал к жизни новое направление, точнее, даже умонастроение. Этот стиль существования назывался эстетизм. Пророком его стал Оскар Уайльд. Кстати, университет поэт закончил с отличием.
В те же годы появились и первые поэтические опыты Уайльда. Первый сборник его произведений «Стихотворения» вышел в свет в 1881 году.
В конце 1881 года Уайльд поехал в Нью-Йорк, куда его пригласили прочитать несколько лекций об английской литературе. Там в лекции «Возрождение английского искусства» Уайльд впервые сформулировал основные положения эстетической программы английского декаданса[286]. Он признал преемственную связь декаданса с прерафаэлитами, заявив при этом, что законы искусства не совпадают с законами морали, и провозгласил право художника на полнейший творческий произвол.
Позднее Уайльд развил свое учение. В частности, он заявлял, что «не искусство отражает природу, а наоборот – природа является отражением искусства». «Природа вовсе не великая мать, родившая нас, – говорил он, – она сама наше создание!» Лондонские туманы, по утверждению Уайльда, существуют лишь потому, что «поэты и живописцы показали людям таинственную прелесть подобных эффектов».
После лекционного турне по Великобритании Уайльд женился на ирландке Констанс Ллойд, редактировал журнал «Женский мир» и писал эссе, которые издавал в сборнике «Замыслы», тогда же написаны два тома сказок – «Счастливый принц» и «Гранатовый домик» – и сборник рассказов «Преступление лорда Артура Сэвила». Большим успехом писателя стал рассказ «Кентервильское привидение».
Когда Констанс Уайльд родила ребенка[287], эстет Уайльд удивился, куда исчезли ее стройность и изящество. И женщина стала ему отвратительна.
В конце концов, эстетизм поэтической натуры привел Уайльда к тому, что после двух лет тихой семейной жизни и рождения двух сыновей, поэт был совращен семнадцатилетним студентом Оксфорда Робертом Россом.
Скоро Уайльду пришлось начать жить двойной жизнью, держа в полной тайне от жены и от своих респектабельных друзей то, что он все больше втягивался в круг молодых развратников.
Главной любовной связью Уайльда в начале 1890-х годов был Джон Грей, фамилию которого писатель дал главному герою своего самого знаменитого романа, который был издан в 1891 году. После публикации романа многие лондонские книгопродавцы отказались реализовывать эту книгу, посчитав ее «грязной», однако среди эстетствующей молодежи «Портрет Дориана Грея» пользовался огромной популярностью.
В целом первая половина 1890-х годов стала звездной эпохой Оскара Уайльда. Европа боготворила его, им восторгались, ему подражали. Особенно восторгала драматургия Уайльда. Помимо знаменитой драмы «Саломея» им были написаны комедии – «Веер леди Уиндермир», «Женщина, не стоящая внимания», «Идеальный муж», «Как важно быть серьезным».
Среди страстных поклонников писателя оказался начинающий поэт, аристократ, лорд Альфред Дуглас. Он был весьма красив и молод. В первый же день знакомства Уайльд до безумия влюбился в Альфреда, чем тот и стал бессовестно пользоваться – вытягивать деньги, понуждать публично восхвалять его графоманскую писанину и так далее. Дуглас приобщил Уайльда к сомнительным удовольствиям в кругу молодых людей, которые за несколько фунтов и обед были готовы на все. Эти авантюры Уайльд назвал «обедами в клетке с пантерой».
Все это рано или поздно должно было закончиться скандалом. Однажды один из приятелей Дугласа каким-то образом завладел некоторыми письмами Уайльда к возлюбленному и стал шантажировать поэта. В конце концов, Уайльд вынужден был выкупать эти письма.
Через какое-то время часть писем все-таки попала в руки отцу Дугласа, маркизу Квинсберри.
Маркиз был возмущен и оскорблен таким явным подтверждением своих давних подозрений насчет сексуальных наклонностей сына и направил Уайльду небрежно набросанное оскорбительное письмо, начинавшееся со слов: «Оскару Уайльду – позеру и содомиту».
Подстрекаемый Дугласом, который ненавидел своего отца, Уайльд немедленно возбудил против маркиза Квинсберри уголовное дело. Когда в соответствии с английским законом Квинсберри представил суду доказательство в виде списка из двенадцати молодых людей, которые были готовы подтвердить в суде то, что Уайльд приставал к ним с содомитскими предложениями, друзья посоветовали Уайльду отозвать иск из суда и срочно эмигрировать из Англии.
Но поэт стоял на своем и, когда суд начался, сказал в своем первом выступлении:
– На этом суде прокурором буду я!
Однако все получилось наоборот, и обвинения обернулись против Уайльда. Адвокат поэта был вынужден признать то, что Квинсберри справедливо назвал Уайльда содомитом. Не успел прозвучать оправдательный вердикт суда в отношении Квинсберри, как тут же было возбуждено уголовное дело за принуждение к содомии в отношении Уайльда, которого тут же арестовали.
Когда суд присяжных отказался вынести приговор по этому делу, судья назначил новый процесс, причем обвинителем на нем выступал Альфред Дуглас. 25 мая 1895 года Оскар Уайльд был приговорен к двум годам каторжных работ – таков был максимально возможный срок по этой статье обвинения. Судья при вынесении приговора сказал:
– На мой взгляд, это наказание слишком мягкое за все содеянное этим человеком.
Самое поразительное, что Уайльд немедленно простил Дугласа за предательство.
Два года, проведенные Оскаром Уайльдом в Редингской тюрьме, стали поворотными в его сознании и творчестве. Об этом свидетельствуют два гениальных произведения, созданных им в последние годы жизни, – «Баллада Редингской тюрьмы» и тюремная исповедь «De Profundis»[288].
Когда в 1898 году Уайльд вышел из тюрьмы, он оказался в Англии изгоем. С ним просто никто не хотел общаться.
Приняв имя Себастьян Мельмот, поэт доживал свои последние годы в нищете и одиночестве в грязных меблированных комнатах на окраинах Парижа.
Вскоре была опубликована «Баллада Редингской тюрьмы». Поскольку имя Уайльда было под негласным общественным запретом, он подписался своим тюремным номером «С. З. З.»
Во Францию к нему приехали Альфред Дуглас и Роберт Росс, на руках которого Оскар Уайльд умер, предварительно исповедовавшись у католического священника и получив отпущение грехов. Произошло это 30 ноября 1900 года. Похоронили поэта на кладбище Пер-Лашез.
Роберт Росс стал литературным душеприказчиком Уайльда, расплатился со всеми его долгами и всю жизнь помогал сыновьям поэта.
Поэтическое наследие Уайльда не слишком обширно – всего два сборника: «Стихи» и «Стихотворения, не вошедшие в сборники, 1887-1893», а также несколько лирико-эпических поэм. Наибольшей известностью пользуется «Баллада Редингской тюрьмы».
Поэзию Уайльда на русский язык переводили В. Брюсов, Н. Гумилев, В. Топоров, В. Соснора, Ю. Мориц и другие.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ