ЧАСТЬ 2
Медицинская анатомическая иллюстрация — история изучения тела человека в атласах 5 столетий

Итак, новая часть истории анатомических атласов. В прошлом посте [1] Андреас Везалий совершил анатомическую революцию, не только создав удивительные пособия, но и воспитав талантливых учеников, продолжавших прорывные исследования. В этом посте мы дойдем до анатомических иллюстраций эпохи барокко и потрясающего атласа голландского анатома Говарда Бидлоо, а также покажем иллюстрации из первого русского анатомического атласа, которые нам достались благодаря любезности сотрудников медицинской библиотеки Нью-Йорка.
XVII век: от кругов кровообращения до врачей Петра Великого
Университет Падуи в XVII веке сохранил преемственность, оставшись чем-то вроде современного MIT [2], но для анатомов раннего Нового времени.
История анатомии и анатомической иллюстрации XVII века начинается с Иеронима Фабрициуса (Hieronymus Fabricius [3]). Он был учеником Фаллопия и после окончания университета тоже стал исследователем и преподавателем. Среди его достижений описание тонкого строения органов пищеварительного тракта, гортани и головного мозга [4]. Он впервые предложил прообраз деления коры больших полушарий на доли, выделив центральную борозду. Также этот ученый открыл клапаны в венах, препятствующие обратному току крови. Помимо этого Фабрициус оказался неплохим популяризатором — он первым начал практику анатомических театров.
Фабрициус много работал с животными, что дало ему возможность внести вклад в зоологию (он описал фабрициеву сумку, ключевой орган иммунной системы птиц) и эмбриологию (он описывал стадии развития птичьих яиц и дал название яичникам — ovarium).
Фабрициус, как и многие анатомы, работал над атласом. При этом его подход был действительно основательным. Во-первых, он включил в атлас иллюстрации не только анатомии человека, но и животных. К тому же, Фабрициус решил, что работы должны быть выполнены в цвете и масштабе 1:1. Атлас, созданный под его руководством включал около 300 иллюстрированных таблиц, однако после смерти ученого они на время были утрачены, а повторно обнаружены лишь в 1909 году в государственной библиотеке Венеции. К тому моменту остались целы 169 таблиц.
Иллюстрации из таблиц Фабрициуса ( источник [5]). Работы соответствуют изобразительному уровню, который могли продемонстрировать живописцы того времени.
Фабрициус, как и его предшественники, сумел продолжить и развить итальянскую анатомическую школу. Среди его учеников и коллег был Джулио Кассери (Giulio Cesare Casseri [6]). Этот ученый и профессор того же университета Падуи родился в 1552 году, а скончался в 1616. Последние годы жизни он посвятил работе над атласом, который назывался точно так же, как и многие другие атласы того времени, «Tabulae Anatomicae». Ему помогали художник Одоардо Фалетти (Odoardo Fialetti [7]) и гравёр Франческо Валезио. Однако сама работа была опубликована уже после смерти анатома, в 1627 году.
Иллюстрации из таблиц Кассерио ( источник [8]).
Фабрициус и Кассери вошли в историю анатомического знания еще и тем, что оба были учителями Уильяма Харви (William Harvey [9] — у нас его фамилия более известна в транскрипции Гарвей [10]), который перевел изучение строения человеческого тела еще на уровень выше. Харви родился в Англии в 1578 году, но после учебы в Кембридже отправился в Падую. Он не был медицинским иллюстратором, но зато заострил внимание на том, что каждый орган человеческого тела важен прежде всего не тем, как он выглядит или где расположен, а тем, какую функцию он выполняет. Благодаря своему функциональному подходу к анатомии, Харви смог описать круги кровообращения. До него считалось, что кровь образуется в сердце и с каждым скоращением сердечной мышцы доставляется до всех органов. Никому не приходило в голову, что будь оно на самом деле так, каждый час в организме должно было бы образовываться порядка 250 литров крови.
Видным анатомическим иллюстратором первой половины семнадцатого столетия был Пьетро да Кортона (Pietro da Cortona [11], также известный как Пьетро Берреттини).
Да Кортона не был анатомом. Более того, он известен, как один из ключевых художников и архитекторов эпохи барокко. И надо сказать, что его анатомические иллюстрации не были столь впечатляющими, как живописные работы:
Анатомические иллюстрации Барреттини (источник [12])

Фреска «Триумф божественного провидения», над которой Барреттини работал с 1633 по 1639 год ( источник [13]).
Анатомические иллюстрации Барреттини были сделаны предположительно в 1618 году, в ранний период творчества мастера, на основе вскрытий, проводившихся в Госпитале Святого духа в Риме. Как и в ряде других случаев, по ним были сделаны гравюры, которые не были отпечатаны до 1741 года. В работах Барреттини интересны композиционные решения и изображение препарированных тел в живых позах на фоне зданий и пейзажей.
Кстати, в то время художники обращались к теме анатомии не только для изображения внутренних органов человека, но и для демонстрации самого процесса вскрытия и работы анатомических театров. Стоит упомянуть знаменитую картину Рембрандта «Урок анатомии доктора Тульпа»:
Картина «Урок анатомии доктора Тульпа», написанная в 1632 году.
Впрочем, этот сюжет был популярен:
Anatomy Lesson of Dr. Willem van der Meer Более ранняя картина, демонстрирующая учебное вскрытие — «Урок анатомии доктора Уильяма ван дер Меера», написанная Михилем ван Миревельтом в 1617 году.
Вторая половина XVII века в истории медицинской иллюстрации примечательна благодаря труду Говарда Бидлоо (Govard Bidloo [14]). Он родился в 1649 году в Амстердаме и выучился на врача и анатома в университете города Франекер в Голландии, после чего отправился преподавать технику анатомирования в Гаагу. Книга Бидлоо «Анатомия человеческого тела в 105 таблицах, изображенных с натуры [15]» стала одним из самых известных анатомических атласов XVII — XVIII веков и отличалась детальностью и аккуратностью иллюстраций. Она вышла в 1685 году, и позднее была переведенаа на русский язык по распоряжению Петра I, который принял решение развивать медицинское образование в России. Личным доктором Петра стал племянник Бидлоо Николаас (Николай Ламбертович [16]), который в 1707 году основал первую в России госпитальную медико-хирургическую школу и госпиталь в Лефортово, нынешний Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко.
По иллюстрациям из атласа Бидлоо видна тенденция к более точной, чем раньше, прорисовке деталей и большей образовательной ценнности материала. Художественная составляющая отходит на второй план, хотя все еще заметна. Взято отсюда [15] и отсюда [17].
XVIII век: экспонаты Кунсткамеры, восковые анатомические модели и первый русский атлас
Одним из наиболее талантливых и умелых анатомов в Италии начала XVIII века был Джованни Доминик Санторини [18] (Giovanni Domenico Santorini [19]), который, к сожалению, прожил не очень долгую жизнь и стал автором только одного фундаментального труда под названием “Анатомические наблюдения [20]». Это скорее анатомический учебник, нежели атлас — иллюстрации там есть только в приложении, но они заслуживают упоминания.
Иллюстрации из книги Санторини. Источник [20].
В Нидерландах в то время жил и работал Фредерик Рюйш [21] (Frederik Ruysch [22]), который изобрел успешную технику бальзамирования. Русскому читателю он будет интересен тем, что именно его препараты легли в основу коллекции Кунсткамеры. Рюйш был знаком с Петром. Царь, будучи в Нидерландах, часто посещал его анатомические лекции и наблюдал за тем, как он проводит вскрытия.
Рюйш делал препараты и зарисовки в том числе детских скелетов и органов. Как и у более ранних авторов из Италии в его работах была не только дидактическая, но и художественной составляющая. Несколько странная, впрочем.
Иллюстрации Рюйша. Источник [23].
Еще один видный анатом и физиолог того времени, Альбрехт фот Галлер [24] (Albrecht von Haller [25]), жил и работал в Швейцарии. Он знаменит тем, что ввел понятие раздражимости — способности мышц (а впоследствии и желез) реагировать на возбуждение нервов. Он написал несколько книг по анатомии, к которым были сделаны детальные иллюстрации.
Иллюстрации книг фон Галлера. Источник [26].
Вторая половина XVIII века в физиологии запомнилась работами Джона Хантера [27] (John Hunter [28]) в Шотландии. Он внес большой вклад в развитие хирургии, описание анатомии зубов, изучение восполительных процессов и процессов роста и заживления костей. Наиболее известным трудом Хантера стала книга “Observations on certain parts of the animal oeconomy [29]»
Иллюстрации из книг Хантера. Источник [29]. По ссылке можно помотреть другие иллюстрации из приложения к книге. Работы иллюстраторов все больше напоминают современные учебные пособия.
В XVIII веке был создан первый анатомический атлас, одним из авторов которого стал русский врач, анатом и рисовальщик Мартин Ильич Шеин [30]. Атлас назывался «Словник, или иллюстрированный указатель всех частей человеческого тела» (Syllabus, seu indexem omnium partius corporis humani figuris illustratus). Одна из его копий хранится в библиотеке Нью-Йоркской академии медицины [31]. Сотрудники библиотеки любезно согласились прислать нам сканы нескольких страниц атласа, впервые изданного в 1757 году. Вероятно, эти иллюстрации впервые публикуютя в интернете.
Иллюстрации из атласа Шеина ( Courtesy of the New York Academy of Medicine Library [32]). Видно, что это довольно подробное руководство, включающее изображение срезов отдельных органов, а также анатомию детского организма.
Помимо анатомических атласов в то время публиковались и иллюстрированные учебники по хирургии:
Иллюстрации из книги “ The Elements of Surgery [33]», 1746 год ( источник [34]).
Также в XVIII веке стала популярна технология создания образовательных анатомических моделей из воска, хотя их стали делать еще в конце века предыдущего — впервые этим занялся аббат из Болоньи Жетано Джулио Зумбо [35].
Фотография работы Зумбо ( источник [36]).
Фотография работы Клементо Сусини [37] ( источник [38]).
Больше примеров по ссылке [39].
В завершении упомянем еще троих авторов, на атласы которых интересно обратить внимание. Это
Леопольдо Кальдани [40] (Leopoldo Marco Antonio Caldani [40]), Паоло Масканьи [41] (Paolo Mascagni [42]) и Антонио Скарпа [43] (Antonio Scarpa [44]) Вот, например иллюстрация из атласа Масканьи (взято отсюда [45]):
В следующем посте мы доберемся до XIX и XX веков. Там масса интересного, включая анатомию Грея, атлас Синельникова, Гюнтера фон Хагенса и полную модель человека, сделанную на основе фотографий разрезанного на тонкие слои тела заключенного, приговоренного к смертной казни.
Сайт-источник PVSM.RU: www.pvsm.ru
Путь до страницы источника: www.pvsm.ru/news/68111
Ссылки в тексте:
[1] прошлом посте: habrahabr.ru/company/visual-science/blog/233787/
[2] MIT: http://web.mit.edu/
[3] Hieronymus Fabricius: http://en.wikipedia.org/wiki/Hieronymus_Fabricius
[4] мозга: http://www.braintools.ru
[5] источник: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2815943/
[6] Giulio Cesare Casseri: http://en.wikipedia.org/wiki/Giulio_Cesare_Casseri
[7] Odoardo Fialetti: http://en.wikipedia.org/wiki/Odoardo_Fialetti
[8] источник: http://www.nlm.nih.gov/dreamanatomy/da_g_I-D-1-05.html
[9] William Harvey: https://en.wikipedia.org/wiki/William_Harvey
[10] Гарвей: http://ru.wikipedia.org/wiki/Гарвей,_Уильям
[11] Pietro da Cortona: https://en.wikipedia.org/wiki/Pietro_da_Cortona
[12] источник: http://www.ihm.nlm.nih.gov/luna/servlet/view/all/what/Pictorial+Works/Anatomy/
[13] источник: http://www.italiannotebook.com/art-archaeology/triumph-divine-providence/
[14] Govard Bidloo: http://en.wikipedia.org/wiki/Govert_Bidloo
[15] Анатомия человеческого тела в 105 таблицах, изображенных с натуры: http://digitallibrary.vassar.edu/fedora/repository/vassar%3A25503/-/Collection/2
[16] Николай Ламбертович: http://ru.wikipedia.org/wiki/Бидлоо,_Николай_Ламбертович
[17] отсюда: http://www.nlm.nih.gov/exhibition/historicalanatomies/bidloo_home.html
[18] Джованни Доминик Санторини: http://ru.wikipedia.org/wiki/Санторини,_Джованни_Доменик
[19] Giovanni Domenico Santorini: http://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Domenico_Santorini
[20] Анатомические наблюдения: https://archive.org/details/observationesana00sant
[21] Фредерик Рюйш: http://ru.wikipedia.org/wiki/Рюйш,_Фредерик
[22] Frederik Ruysch: http://en.wikipedia.org/wiki/Frederik_Ruysch
[23] Источник: http://www.zymoglyphic.org/exhibits/ruysch.html
[24] Альбрехт фот Галлер: http://ru.wikipedia.org/wiki/Галлер,_Альбрехт_фон
[25] Albrecht von Haller: http://en.wikipedia.org/wiki/Albrecht_von_Haller
[26] Источник: http://www.albrecht-von-haller.ch/e/pictures.php
[27] Джона Хантера: http://ru.wikipedia.org/wiki/Хантер,_Джон
[28] John Hunter: https://en.wikipedia.org/wiki/John_Hunter_(surgeon)
[29] Observations on certain parts of the animal oeconomy: https://archive.org/details/observationsonce00hunt
[30] Мартин Ильич Шеин: http://health-ua.com/articles/2933.html
[31] хранится в библиотеке Нью-Йоркской академии медицины: http://nyam.waldo.kohalibrary.com/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=122073
[32] Courtesy of the New York Academy of Medicine Library: http://www.nyam.org/library/
[33] The Elements of Surgery: https://archive.org/details/elementsofsurger00mihl
[34] источник: http://catalogue.wellcomelibrary.org/record=b1228223
[35] Жетано Джулио Зумбо: http://en.wikipedia.org/wiki/Gaetano_Giulio_Zumbo
[36] источник: http://parzifalpurissimo.blogspot.ru/2011/03/zumbo-gaetano-giulio-anatomia-e.html
[37] Клементо Сусини: http://en.wikipedia.org/wiki/Clemente_Susini
[38] источник: http://himetop.wikidot.com/young-woman-wax-model-1795-by-clemente-susini
[39] по ссылке: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2815943/?report=classic
[40] Леопольдо Кальдани: http://en.wikipedia.org/wiki/Leopoldo_Marco_Antonio_Caldani
[41] Паоло Масканьи: http://ru.wikipedia.org/wiki/Масканьи,_Паоло
[42] Paolo Mascagni: http://en.wikipedia.org/wiki/Paolo_Mascagni
[43] Антонио Скарпа: http://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Скарпа,_Антонио
[44] Antonio Scarpa: http://en.wikipedia.org/wiki/Antonio_Scarpa
[45] отсюда: http://www.gonnelli.it/it/asta-0011-1/mascagni-paolo-prodromo-della-grande-anatomia-.asp
/post/234219/
Исторические документы библиотеки
Кронштадтского Военно-морского госпиталя.
17 июня 1717 года по указу Петра I в устье реки Невы на острове Котлин основывается «Адмиралтейский Госпиталь». При торжественной закладке Петром I больших укреплений на острове 7 октября 1723 года морская крепость и строящийся город получили имя Кронштадт. Адмиралтейский Госпиталь стал именоваться Кронштадтским.
Многие из врачей госпиталя являлись участниками кругосветных плаваний и больших морских экспедиций на кораблях Русского флота. Ими проведено медико-топографическое описание более 150 портов, побережий и других географических пунктов Европы, Азии, Африки, Америки, Океании и Антарктиды. Именами врачей Кронштадтского морского госпиталя А. Ф. Кибера, А. А. Бунге, А. Е. Фигурина, Л. М. Старокадомского и других названы острова, мысы, и проливы почти во всех частях света.
Наиболее широко научно-исследовательская работа в госпитале развернулась во второй половине XIX века, чему немало способствовало создание в 1859 году при госпитале военно-научного общества морских врачей, регулярная публикация протоколов его заседаний.
В 2017 году широко отмечался 300-летний юбилей госпиталя. На 1 июня 2017 года Кронштадтский Военно-морской госпиталь развернут на 150 коек. В штате 9 военнослужащих и 260 должностей гражданского персонала.
Ежегодно на стационарном обследовании и лечении в госпитале находится около 3500 больных. Активно ведется военно-историческая работа.
После реорганизационных мероприятий постсоветского периода Кронштадтский Военно-морской госпиталь находится на сложном пути восстановления своего былого могущественного статуса — одного из лучших лечебных учреждений Военно-морского флота Российской Федерации.
В очередном выпуске альманаха «Порты мира», посвященном г. Архангельску, приводим несколько публикаций сотрудников Кронштадтского Военно-морского госпиталя.

Из обзора плавания шхуны «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» за кампанию 1887 года
Судового врача П. Ф. ФЕДОРОВА
Материал представлен командованием 35 ВМГ (Кронштадтский военно-морской госпиталь), г. Кронштадт
Шхуна «Полярная Звезда» несла в Архангельске чисто гражданскую службу — доставляла на маяки Белого моря все необходимое по части освещения, продовольствия и ремонта, а потому не имеет никакого вооружения, кроме двух фалконеток тридцатых годов для сигналов и 12 ружей для учебных целей.
В прошлом 1887 году, мы начали кампанию 5-го мая, до 24-го июня простояли в г. Архангельске, в продолжение следующих 96 дней сделали переход от г. Архангельска до Кронштадта, куда прибыли утром 29 сентября, а 4-го октября совсем окончили кампанию, продолжавшуюся, таким образом, 153 дня. Экипаж шхуны состоял из 6 офицеров и 64 матросов.
В силу того, что это старое, деревянное судно, с весьма плохой машиной, с ходом всего 5 узлов в час (и то при благоприятных условиях), мы проходя Белое море, Ледовитый океан и огибая далее Скандинавский полуостров, всюду почти держались близ берегов и были, таким образом, наблюдателями норвежских, финляндских и частью шведских шхер. — Но и при таком, по-видимому, покойном, плавании, не все было благополучно на нашей шхуне: в одном из океанских плесов, пред городом Бергеном, при штормовом ветре, показалась течь и в трюме, и в дымогарных трубках машины. — При таких же условиях, но в больших размерах, течь в трюме повторилась пред г. Христианзандом. В Скагерраке, при переходе от г. Христианзанда к Копенгагену, крен от качки достигал в одну сторону 32⁰ — течь на судне было настолько сильна, что вода поднималась до топок, — все имеющиеся на судне помпы были пущены в дело. Судну грозила большая опасность, если бы мы были вдали от берега. К счастью, шторм дул к берегу, и мы, вместо Копенгагена, попали в шведский город Гетеборг, где шхуна введена была в док для необходимых поправлений.
В Балтийском море, близ острова Эланда, мы несколько суток отстаивались от шторма на двух якорях под парами, испытав пред этим сильную качку в открытом море.
Машина на всем пути, обнаруживая более или менее значительные неисправности, требовала разных поправок.
Мы нередко шли всего по 1\2 узлу в часть, а при сильном противном ветре и совсем не выгребали вперед. Если прибавить к этому малую вместительность угольных ям, то будет понятно, почему переход наш из г. Архангельска в г. Кронштадт продолжался 96 дней, при чем мы должны были побывать в 9 городах и 7 местечках Норвегии, в 2 городах и 5 местечках Швеции, в г. Копенгагене, в Ганге, Гельсинфорсе и 2 местах Аландских шхер. Почти во всех местечках и значительной части городов мы останавливались только для того, чтобы переночевать, так как ночью шхерами идти невозможно, и дать отдых лоцману, который, конечно, не в силах был стоять на верху все 24 часа.
Нижние морские чины размещались на шхуне за эту кампанию так: в жилой палубе 29 человек, в жилом трюме, сильно нагруженном казенными вещами, — 32 человека, 1 спал в машине, 2 — в подшкиперской, тоже заваленной разными судовыми принадлежностями. В жилой палубе на каждого матроса приходилось 25 куб. фут. (0,07 куб. саж.) (Вычисления производились по правилам, изложенным в гигиене проф. Доброславина, часть 1, стр.281. Обстановку матроса я считал равной 1\15 куб. саж., объем тела — 70 куб. футам.) в трюме — 23 куб. фут. (0,06 куб. саж.)
Не знаю, есть ли другие суда в нашем флоте с таким ничтожным объемом воздуха на каждого обитателя. — Если припомнить требования рациональной гигиены, то такая теснота должна бы сильно вредить здоровью команды. Но на самом деле оказывается не так; вследствие известного распределения служебных обязанностей между матросами.
Вся команда была разделена на 2 вахты, каждая вахта — на 2 отделения. Одна половина каждого отделения помещалась в трюме, другая в палубе. На якоре матросы несли службу по отделениям, на ходу — повахтенно. Поэтому получалось такое размещение: в палубе и трюме никогда не бывало более, чем по 22 человека; на ходу же в первой — не более 13, а во втором — 15 человек. Конечно, при таких условиях на долю каждого оставшегося приходился значительно больший объем воздуха. Кроме того на палубе, иначе сказать на открытом воздухе, отличавшемся идеальной чистотой, матросы пили чай, завтракали, обедали, ужинали, молились, снимались с якоря, производили пожарные тревоги и т. д. Словом здесь происходили все их служебные работы, при которых легкие наиболее вентилируются.
Далее, почти все свободные часы, особенно в хорошую погоду, матросы тоже проводили на палубе, вследствие тесноты и недостатка света в жилых помещениях, так что в последних им приходилось главным образом спать.
Наконец, жилые помещения довольно хорошо вентилировались — люки, ведущие в них, никогда не закрывались.
Каждый матрос в продолжение суток выглянет на палубу minimum 10 раз и если в своих выходах он будет ограничиваться только службой, а свободные часы проводить в жилом помещении, то все же на ходу он проведен на палубе не менее 13 часов, а на якоре — не менее 7.
Если все это принять во внимание, то условия относительно воздуха не так уж плохи на нашем маленьком судне, как это может показаться с первого взгляда и, по моему мнению, нисколько не уступают деревне; внутри крестьянских изб, особенно во время сна, вони и порчи воздуха нисколько не менее, чем в матросских помещениях, а во дворе и поле крестьянина воздух едва ли лучше, чем на палубе нашего судна.
Во все 153 дня кампании судно наше находилось постоянно в холодной воде, что, конечно, не могло не влиять на температуру и влажность внутри жилых помещений.
В г. Архангельске (от 5 до 26 июня) температура воды реки Северной Двины колебалась от 5,5⁰ R до 12,7⁰ R.
В Белом море и Ледовитом океане (от 26 июня до 4 июля) — от 3,8⁰ R до 7,0⁰ R.
Поэтому во всю кампанию судно наше отапливалось, за исключением только тех дней, когда в машине производились какие-нибудь починки.
Едва ли можно устроить паровое отопление более негигиенично, чем это было у нас; конечные паровые трубки, выносящие уже негодный, отработанный пар, оканчивались открыто в трюме — в льяла. Пар, конечно, быстро сгущался в теплую воду и как сам пар, так и теплая вода сильно увлажняли жилые помещения.
Кроме того, уже вследствие одной своей старости судно давало за сутки известное накопление воды в трюме, никогда не менее 4 дюймов, а так как судной имело большой дифферент, то вода эта, соединялась с машинной водой и разными продуктами жировых кислот, скоплялась в кормовой части трюма, и хотя каждый день выкачивалась отсюда, но не вся — помпа не забирала воды из льяльных пространств, отчего вода здесь загнивала, разлагалась и давала зловоние, особенно чувствительное во время качки и притом почти исключительно для обитателей кормовой части — т.е. для офицеров.
Для проветривания этой кормовой части трюма, по бортам (внутри офицерских кают), во внутренней обшивке, были устроены металлические решетки — шпации -, но так как через них распространялся сильный запах, то большая часть их была заклеена, — таким образом кормовая часть трюма почти совсем не проветривалась, представляя из себя в истинном смысле гнилое болото.
Вследствие крайней тесноты и парового отопления, в матросских помещениях, особенно ночью, было жарко, душно, сыро. Матросы спали в поту. Не пускать парового отопления было нельзя, становилось холодно и так сыро, что металлические вещи быстро покрывались ржавчиной, а белье и платье делались влажными.
Внизу жар, духота, вверху на палубе — пронизывающий сырой холод — вот весьма частые сочетания, крайне благоприятные для получения различных простудных заболеваний! И без сомнения этому вредному сочетанию и вообще сырости и холоду, мы обязаны тем, что в течение всей кампании 1887 года из всего количества больных матросов — 87 человек — 34 страдали разными формами простудных болезней, между которыми не было впрочем ни одного серьезного случая.
Питание команды, в общем, было весьма удовлетворительно. В Архангельске, на берегу, в скоромные дни пища матросов состояла из свежего мяса, в постные — из рыбы.
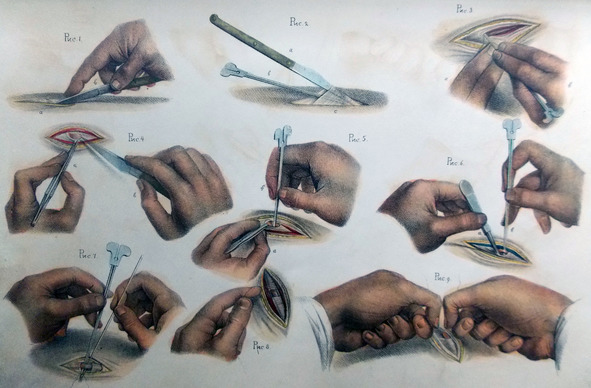
Иллюстрация из Атласа Хирургических инструментов,19 в.

Предметы медицинского назначения 19 века из Атласа Хирургических инструментов, собрание библиотеки ВМГ
Относительно питья дело было поставлено хуже. Кампания в Архангельске начиналась тотчас по вскрытии реки Северной Двины, когда вода в реке была весьма мутна, и эта мутная вода или по местному Архангельскому выражению «мутница» в среднем выводе продолжалась около 3 недель.
Ни одна кампания не проходила без того, чтобы в это время не появлялись между матросами больные поносом, очевидно, в зависимости от загрязненной воды, не смотря на предупредительные меры со стороны врача, (воду для питья брали с средины реки, кипятили и настаивали на сухарях.)
С 1-го июля, когда шхуна была уже в первом норвежском городе — Вардэ, питание матросов изменилось: по средам и пятницам варился горох, в остальные дни — на ходу употребляли солонину, а на стоянках, в городах, свежее мясо. Кроме того, в каждом городе мы запасались пресной водой.
Не все матросские желудки хорошо выносили это изменение воды и пищи, и почти четвертая часть всех больных, именно 20 из 87 страдала теми или другими формами расстройств кишечника; между которыми были два серьезных случая.
В общем, здоровье команды улучшилось в продолжение всей кампании, что видно из увеличения веса большинства матросов. Уже одно взвешивание показывает, что жизненный приход матросских организмов превышал расход, что им не были известны тяжелые изнурительные работы. И действительно, во всю кампанию им пришлось тяжело поработать в общей сложности не более 40 часов.
Из 153 дней судно провело на стоянках 123\5 суток, когда вся работа команды ограничивалась приведением судна в чистоту и порядок, нагрузкой угля, иногда парусным, шлюпочным учением и пожарными тревогами. Короче сказать, матросы нередко бывали свободны от занятий, и этими свободными часами я воспользовался для санитарных целей. В видах предупреждения заболеваний, с разрешения командира, я вел беседы с командой и венерических болезнях и пьянстве, обращая главное внимание на последствия этих болезней и предупредительные меры против них. Было бы слишком смело приписывать большое значение этим беседам, но все-таки, мне кажется, есть малая доля их влияния в том отрадном факте, что между нашими матросами не было за границей ни одного сифилитика и только один больной уретритом.
А относительно употребления спиртных напитков — матросы удостоились похвалы даже в заграничных газетах.
Был такой характерный случай. Наш старший офицер отправился к директору сада «Лоренцберг», в г. Гетеборге, с просьбой пустить команду в сад за половинную плату. Директор долго колебался, боясь за поведение матросов. но согласился. Матросы вели себя здесь настолько благонравно и прилично, что обратили общее внимание публики. А когда гулянье кончилось, команда построилась во фронт и в полном порядке вышла из сада, сопровождаемая огромной толпой народа с криками «ура»!
На следующий день местная газета в самых лестных для русского сердца выражениях описывала посещение наших матросов и особенно выражала удивление тому обстоятельству, что между ними не было ни одного пьяного, и ставила их в этом отношении в пример своим солдатам и матросам.
Опять повторяю, что было бы чересчур легкомысленно придавать большое значение моим беседам, но все же, мне кажется, они были по меньшей мере не излишни.
К числу больных, заболевших от условий нашей судовой жизни, относится матросский повар с конъюнктивом глаз от дыма, чада и жара нашего маленького камбуза, и другой матрос — с блефаритом, происшедшим от угольной пыли.
Все остальные заболевания, — бывшие на судне, случайны и не могут быть поставлены в прямую зависимость от судовой жизни.
Вот вкратце главные условия нашего судна и зависящие от них заболевания за кампанию 1887 года!
(«Медицинские прибавления» к Морскому сборнику. Июнь 1888 г. С.-Петербург, стр.413—420)
ФЕДОРОВ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ
Коллежский Асессор; в С. М. Х.А с 1876 года; лекарем с 1881 года в Архангельскую флотскую роту; мл. судовой врач с 1881; к 8 флотскому экипажу (СпБ) на год в 1884 г. Степень Доктора Медицины получил в 1885 году в Военно-Медицинской Академии; с 1887 года в 7 флотском экипаже.
Печатные работы:
1 — О распространении ленточных глист между населением г. Архангельска. Пр. Арх. Вр. 1885, ll, 32.
2 — О влиянии главных условий жизни Соловецкого монастыря на здоровье и заболеваемость его монахов.
Тж. 1892.
3 — Всасывает ли неповрежденная человеческая кожа лекарственные вещества из распыленных водных растворов? — диссертация на степень Доктора Медицины, СпБ. 1885 (эта работа хранится в библиотеке Кронштадтского Военно-Морского Госпиталя)

Эмблема Общества Морских врачей в Кронштадте
Петр Федорович — член «Общества Морских Врачей в Кронштадте».
О цинге и ее лечении
Старший судовой врач Г. Ивен

Главные ворота Кронштадтского ВМГ
В одном из заседаний С. Петербургского общества морских врачей за сезон 1861/1862 года доктор Яницкий сравнивал, в количественном и качественном отношениях, действия двух растительных соков, лимонного и клюквенного, при цинге. К сожалению, автор не упоминает в своей статье, употреблял ли он эти соки сами по себе, или одновременно с какими либо ароматическими и острыми противоцинготными средствами. Вот почему считаю нужным сообщить здесь о необходимости вспомогательного употребления ароматических средств при лечении скорбута кислыми растительными соками.
Из многочисленных опытов я убедился, что сок лимона и клюквы, употребляемый при цинге, без пособия других средств, недолго переносится больными; вызывая оскомину, он увеличивает страдание десен и затрудняет жевание; с другой стороны, он производит потерю аппетита, изжогу, развитие газов и поносов, которого в особенности необходимо избегать при этой болезни. Равным образом, от лечения нельзя ожидать вполне удовлетворительных результатов, если упомянутые кислые соки мы будем употреблять в соединении или почти одновременно с другими противоцинготными веществами, содержащими в себе эфирное горчичное масло или способным образом последнее (прим. автора: к средствам, содержащим в себе готовое эфирногорчичное масло, принадлежат, как известно, ложечная трава, редька, чеснок, лук и др., а к веществам, способным образовать это масло впоследствии, относятся семя черной горчицы и хрен). Допускают, что ароматические и острые противоцинготные средства, смешиваясь в желудке с кислыми растительными соками, образуют особые соединения, недействительные против скорбута. (прим. Автора: привожу клинический опыт, произведенный мною в Архангельском морском госпитале в 1833 г. Из огромного числа цинготных больных в этом году я выбрал 20 трудных и 20 легких больных и поместил их в две палаты, так что в каждой находилось по 10 легких и 10 трудных. Одной палате я назначил одновременное употреблений острых и кислых средств, а другой — разновременное. В результате оказалось, что в первой палате выздоровели все легкие и только трое трудных, а во второй тоже все легкие и восемь трудных). Как бы то ни было, но многочисленный опыт убедил меня, что для успешного лечения цинги, хреновые и горчичные средства следует давать больным только за обедом или вскоре после него, и затем уже, спустя, по крайней мере, полчаса, употреблять лимонный или клюквенный соки. Если, при слабой степени цинги одновременное употребление тех и других средств не редко оказывается полезным, то заметить, что в подобных случаях пищеварение больных еще довольно деятельно (они легко переносят лимонный сок); притом в слабой степени цинги едва ли нужно прибегать к употреблению каких либо лекарств, так как она всегда почти излечивается при помощи одних профилактических средств. Вот способ, который я успешно применял в Архангельском морском госпитале, с 1833—43 г., при лечении около 6000 больных. Свежий лимонный сок приправляли обыкновенно кожицею корки плода (flavedo), а при недостатке ее, на унцию сока прибавляли eleosacch, citri эjj, или pulv. rad. Zingiber. эj, или даже piper. nigri pulv. gr. x. Обыкновенно кожицу лимонной корки с соком и небольшим количеством сахара или меда (3ij на каждый лимон) толки в деревянной ступке и полученную кашку (electuarium) давали трудно больным по 3iij три раза в день, чрез два часа после употребления острых средств с пищею. Клюквенный сок я употреблял при недостатке свежего лимонного сока и морошки (baccae rubi chamaemori). Он действует однакож лучше недоброкачественного лимонного сока, обыкновенно покрытого плесенью на поверхности. Клюквенного сока, тоже с сахаром, получали трудно больные по три, а легкие — по две унции в сутки (3v-vj 5 раз в день), а также спустя два часа по принятии пищи. Последняя у легких больных состояла из мяса с хреном или черной горчицей, кислой капусты с луком, черного хлеба и хренового пива; трудно больные получали на обед 2-ую порцию, т.е. мясной суп с картофелем и овощами, жаркое с хреном и белый хлеб, на ужин суп и половинную порцию жаркого, а на завтрак суп с белым хлебом; сверх того, водки 1,5 унции и кружку хмелевого пива. Температура палат была +15 R.; больше, по возможности, пользовались банею и моционом.
Изложив лечение цинги вообще, перехожу к лечению ее осложнений, именно поноса и сывороточных излияний в грудную и брюшную полости. Петехиальная цинга, при самом начале своем, очень легко осложняется упомянутыми явлениями, которые в обыкновенной цинге случаются реже и притом гораздо позже.
Цинготный понос, как известно, отличается водянистыми, мало пахучими и, по большей части, непроизвольными испражнениями, с полосками или комочками серо-зеленоватого или черно-бурого цвета, с незначительным количеством слизи и недоваренными пищевыми веществами. При этом живот больного впал и нечувствителен к давлению; язык покрыт сероватою слизью, а при одновременном существовании сывороточной влаги в грудной или брюшной полостях — холоден, влажен, представляет складки и как бы размочен на краях; жажда незначительна; мутная, серо-зеленоватая моча отделяется в малом количестве, несколько отзывает кишечными испражнениями, дает щелочную реакцию и содержит несовершенно образованную белковину; полнота тела исчезает, при понижении его температуры; пульс медлен и слаб, дыхание едва заметно. Все это, при грязно-зеленоватом цвете кожи и значительном упадке сил, придает больному вид холерного in stadio algido. Картину болезни довершают особенный запах выдыхаемого воздуха, схожий с запахом солонины, испортившейся в рассоле, кровоточивость десен, кровоизлияния под кожу, окреплость клетчатки, головокружение, сонливость и пр.
В подобных случаях я назначал обыкновенно слабую порцию (овсяный суп из 1 фунта мяса с солью, и 1 фунт белого хлеба), для питья dec. hordei cum inf. menth piper., а после обеда и ужина по две унции портвейну. Фармацевтическое лечение состояло в употреблении tinct. nuc. vom. по 7—8 капель три раза в день, в особенности же tinet. canth. gutt. xv. in dto rad. orchid. morion. 3jii, по одной унции три раза в день, ежедневно возвышая прием tinet. canthar. одною каплею (прим. автора: появление позывов к мочеиспусканию у цинготных при употреблении tinet. canthar. Служит верным признаком скорого уничтожения болезни и, вместе с тем, заставляет прекратить дальнейшее употребление этого средства). По прекращению поноса, я оставлял употребление tinet. nue. vom., a tinet. canthar., назначив 2-ю порцию, продолжал употреблять, хотя без дальнейшего увеличения приемов, до совершенного уничтожения цинготного худосочия. Слишком продолжительное употребление этого последнего средства обыкновенно вызывает задержание мочи, в которой тогда появляется вполне образовавшаяся белковина. В подобных случаях я прекращал употребление tinet. canthar. И снова назначал tinet. nue. vom. В прежних приемах и конопляное молоко пополам с отваром салепного корня, по 2 унции три раза в день.
Если же сывороточное излияние при цинге появлялось без поноса (что впрочем случается редко), то лечение также состояло в назначении tinet.canth., лимонной кашицы и 2 порции с водкою. Зимою, когда нельзя было достать лимонов, я заменял эту кашку моченою, несовершенно спелою ягодою морошки с рассолом; это средство очень дешево в Архангельске. Семена морошки ароматно-горьковатого вкуса, обладают мочегонным действием и не скоро производят понос.
Так как обдукция цинготных больных слишком хорошо известны, то привожу здесь только мои патолого-химические исследования сывороточной влаги в грудной полости. Мутная сывороточная жидкость, найденная мною в грудной полости на третий день смерти больного, давала щелочную реакцию. Эту жидкость я разделял на 3 части. Процедив первую часть, я промывал и высушивал осадок, оставшейся на фильтре; процеженную жидкость сбивал палочкою из китового уса, при чем выделялось еще не много грязно-беловатого осадка, который я также промывал и высушивал. Оба полученные осадка свертывались от жару, растворялись в уксусной кислоте, но в воде с примесью небольшого количества соляной кислоты не растворялись; словом представляли все признаки волокнины. К процеженной и уже прозрачной жидкости я прибавлял значительное количество уксусной кислоты, после чего в смеси скоро появлялся обильный клочковатый осадок, который, по высушке, не растворялся в уксусной кислоте; это было слизистое вещество. Оставшуюся жидкость я выпаривал кипением до половины ее объема и затем кипятил ее с водою; по охлаждении, жидкость представлялась мутною и с небольшим клочковатым осадком, а от прибавления алкоголя становилась еще мутнее. Когда этот последний осадок был вымыт, высушен и обработан водою, он потерял 0,9 своего веса и оказался чистою белковиною. Вторую часть грудной влаги и исследовал по способу Berzelius и получил теже результаты. Третья часть была выпарена досуха. Полученный осадок, по обработке алкоголем и водою и после прибавления ac.nitrosi представлял все свойства желчного начала. Моча живых трудно цинготных больных содержит много слизистого вещества, сомнительные следы настоящей белковины, значительное количество несовершенно образовавшейся белковины, желчное начало, следы фосфорнокислых соединений и аммиак.
(Медицинские Прибавления к Морскому Сборнику, издаваемые Морским Медицинским Управлением, выпуск пятый, Санк-Петербург, 1865 г. Стр.584)
Научные работы, хранящиеся в библиотеке ВМГ г. Кронштадта

Биография Старокадомского Л. М.
СТАРОКАДОМСКИЙ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ — годы жизни 1875—1962, видный ученый в области морской гигиены.

Оглавление диссертации Л.М.Старокадомского, 1909 г.
В 1899 году окончил Императорскую Военно-Медицинскую Академию. С 1903 года поступил на службу в Военно-Морской госпиталь в Кронштадте и с 22 сентября 1903 года по 1909 год являлся членом Общества Морских врачей, активно участвовал в работе. На заседаниях Общества за этот период Л.М.Старокадомский много выступал в прениях и с докладами. В протоколах за 1904 год помещена его статья «О сухом молоке Irven». 19 сентября 1905 года напервом очередном заседании Общества Л. М. Старокадомский сообщил о «Случае острого церебро-спинального менингита», показав относящиеся к нему бактериологические препараты. 12 февраля 1907 года на шестом очередном заседании Л.М.Старокадомский сообщил «Об опытах Leduc’a». После доклада, сопровождавшегося демонстрацией опытов, произошел обмен мнений, в котором принимали участие В. П. Аннин, А. Д. Волошин и Г. С. Филиппов. 26 марта 1907 года на девятом очередном заседании, согласно §8 проекта учреждения Обществ Морских врачей в портах были произведены закрытой баллотировкой выборы Председателя, секретаря и казначея Общества. Избранными оказались: Председателем В. И. Исаев, секретарем А.Д.Волошин, библиотекарем и казначеем Л.М.Старокадомский. 24 сентября 1907 года на первом очередном заседании Л.М.Старокадомский прочел доклад «Опыты стерилизации воды озоном». В. И. Исаев и А. А. Бунге высказали свое мнение по поводу доклада.
8 октября 1907 года на втором очередном заседании Л. М. Старокадомский доложил о состоянии библиотеки Госпиталя и Общества. 28 января 1908 года на восьмом очередном заседании Л. М. Старокадомский прочел доклад «Извлечение из трудов комиссии по улучшению быта рабочих военного ведомства». Председатель В. И. Исаев по окончании заметил, что труды комиссии дают неоценимые в этом отношении указания.
В апреле 1903 года Л. М. Старокадомский при вскрытии трупа заразился трупным ядом. Сохраняя жизнь, ему ампутировали выше локтя левую руку. Несмотря на инвалидность, доктор был оставлен на военной службе. В 1909 году защитил диссертацию на тему «К вопросу об экспериментальном артериосклерозе», которая находится на хранении в библиотеке Кронштадтского Военно-Морского госпиталя. В 1905 году после окончания войны с Японией он входил в состав комиссии по медицинскому освидетельствованию в Японии российских военнопленных, которых возвращали на родину.
В 1909—1915 гг. — старший судовой врач ледокола «Таймыр». Участвовал в экспедиции по освоению Северного морского пути. Собрал коллекции морских и наземных животных и растений; вел дневники и опубликовал книги «Экспедиции Северного Ледовитого океана» и «Пять плаваний в Северном Ледовитом океане». Его именем назван небольшой остров в море Лаптевых.
Л. М. Старокадомский в 1918—1920 гг. служил в должности санитарного инспектора Архангельского военно-морского порта, а в 1921 году был назначен главным санитарным инспектором Рабоче-Крестьянского Красного флота.
— Протоколы общества Морских врачей в Кронштадтском Военно-Морском госпитале 1903—1909 годы.
— В. Г. Реданский. «Их имена — на карте Арктики», Североморский отдел Географического общества СССР. Североморск, 1968 г.
Биография
Полилова А. М.
Александр Михайлович Полилов, потомственный дворянин Нижегородской губернии, православного вероисповедания, родился в 1869 г. Среднее образование получил в нижегородском Дворянском Институте Императора Александра III, который окончил в 1889 г. В том же году поступил в С.-Петербургский университет на отделение естественных наук Физико-Математического факультета, в 1893 г. кончил курс естественных наук Петербургского Университета с дипломом 1-й степени и поступил затем в том же году в число студентов 2-го курса Императорской Военно-Медицинской Академии, которую в 1897 г. окончил с отличием (cum eximia laude). Во время нахождения в С.-Петербургском Университете работал по физиологии в 1892—93 г.г. в лаборатории проф. Н. Е. Введенского. В Военно-Медицинской Академии работал: в 1893—94 г.г. в физиологической лаборатории проф. И.Р.Тарханова, а в 1896—97 г.г. в лаборатории Общей и Экспериментальной Патологии проф. П. М. Альбицкого.
По окончании курса медицинских наук в Военно-Медицинской Академии был назначен младшим врачом в 144-й пехотный Каширский полк, а в августе 1898 г. был переведен тем же званием в Брянский местный лазарет. В декабре 1899 г. был переведен на службу врачом в Морское Ведомство с назначением младшим ординатором Николаевского Морского Госпиталя в г. Кронштадте.


В 1900—1901 г.г. сдал экзамены на степень доктора медицины при Императорской Военно-Медицинской Академии. Имеет следующие специальные работы:
1) «Обмен веществ в раннем периоде жизни животного организма», удостоенную конференцией Императорской Военно-Медицинской Академии в 1897 г. премии имени Маторина.
2) К вопросу о лечении дизентерии.
3) Экспедиция Северного Ледовитого Океана и пароход «Пахтусов» — медико-топографический очерк.
4) Влияние белого электрического света на состав крови, температуру и чувствительность кожи у здоровых людей. Последнюю работу представил в качестве диссертации для соискания ученой степени доктора медицины.

Иллюстрация из Атласа Хирургических инструментов,19в.

Медицинское пособие из Атласа библиотеки ВМГ

Иллюстрация из Атласа Хирургических инструментов,19в.
Список членов Общества Архангельских врачей
На 1873 год

I. Почетный Член:
Игнатеьв Никол Павлович Начальник Архангельской губернии.
II. Управление Общества Врачей И Вспомогательной Медицинской Кассы:
Председатель: И. С. Штерн
Секретарь и библиотекарь: Ю. А. Космовский
Кассир: Е. Я. Сериков.
— Действительные Члены:
Горецкий Ц. К., врач заведующий больнициею
приказа общественного призрения.
Затварницкий А. П., помощник врачебного инспектора
Приказа общественного призрения.
Касмовский Ю. А., док. мед. старший врач
Архангельскаго военнаго лазарета
Марки Э. И., фармацевт врачебнаго отделенгия.
Нарбут С. О., Архангельлский городовой врач.
Радкевич Н. М. Архангельский губернский
ветеринар.
Позняк Д. М., Архангельский уездный врач.
Пятунников В. Л., младший врач
Архангельскаго военнаго лазарета.
Штерн И. С., Губернский врачебный
Инспектор.
Севастьянов Н. ПА., младший врач
Архенгельск. флотской роты
Сериков Е. Я., старший врач
Архангелской флотской роты.
IV. Члены корреспонденты
Смирнов П. Д., младший врач 160 -го
Абхазскаго пехотного полка.
Amussat, Alfense в Париже
Milliot, Beniamin, в Иере во Франции
Секретарь Общества Ю. Касмовский
Штамп: Российская национальная библиотека, отдел внешнего обслуживания Санкт-Петербург, Садовая 18.
17 июня 1717 года по указу Петра I в устье реки Невы на острове Котлин основывается «Адмиралтейский Госпиталь». При торжественной закладке Петром I больших укреплений на острове 7 октября 1723 года морская крепость и строящийся город получили имя Кронштадт. Адмиралтейский Госпиталь стал именоваться Кронштадтским.
Многие из врачей госпиталя являлись участниками кругосветных плаваний и больших морских экспедиций на кораблях Русского флота. Ими проведено медико-топографическое описание более 150 портов, побережий и других географических пунктов Европы, Азии, Африки, Америки, Океании и Антарктиды. Именами врачей Кронштадтского морского госпиталя А. Ф. Кибера, А. А. Бунге, А. Е. Фигурина, Л. М. Старокадомского и других названы острова, мысы, и проливы почти во всех частях света.
Наиболее широко научно-исследовательская работа в госпитале развернулась во второй половине XIX века, чему немало способствовало создание в 1859 году при госпитале военно-научного общества морских врачей, регулярная публикация протоколов его заседаний.
В 2017 году широко отмечался 300-летний юбилей госпиталя. На 1 июня 2017 года Кронштадтский Военно-морской госпиталь развернут на 150 коек. В штате 9 военнослужащих и 260 должностей гражданского персонала.
Ежегодно на стационарном обследовании и лечении в госпитале находится около 3500 больных. Активно ведется военно-историческая работа.
После реорганизационных мероприятий постсоветского периода Кронштадтский Военно-морской госпиталь находится на сложном пути восстановления своего былого могущественного статуса — одного из лучших лечебных учреждений Военно-морского флота Российской Федерации.
В очередном выпуске альманаха «Порты мира», посвященном г. Архангельску, приводим несколько публикаций сотрудников Кронштадтского Военно-морского госпиталя.
Из обзора плавания шхуны «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА» за кампанию 1887 года Судового врача П. Ф. ФЕДОРОВА
Материал представлен командованием 35 ВМГ (Кронштадтский военно-морской госпиталь), г. Кронштадт
Шхуна «Полярная Звезда» несла в Архангельске чисто гражданскую службу — доставляла на маяки Белого моря все необходимое по части освещения, продовольствия и ремонта, а потому не имеет никакого вооружения, кроме двух фалконеток тридцатых годов для сигналов и 12 ружей для учебных целей.
В прошлом 1887 году, мы начали кампанию 5-го мая, до 24-го июня простояли в г. Архангельске, в продолжение следующих 96 дней сделали переход от г. Архангельска до Кронштадта, куда прибыли утром 29 сентября, а 4-го октября совсем окончили кампанию, продолжавшуюся, таким образом, 153 дня. Экипаж шхуны состоял из 6 офицеров и 64 матросов.
В силу того, что это старое, деревянное судно, с весьма плохой машиной, с ходом всего 5 узлов в час (и то при благоприятных условиях), мы проходя Белое море, Ледовитый океан и огибая далее Скандинавский полуостров, всюду почти держались близ берегов и были, таким образом, наблюдателями норвежских, финляндских и частью шведских шхер. — Но и при таком, по-видимому, покойном, плавании, не все было благополучно на нашей шхуне: в одном из океанских плесов, пред городом Бергеном, при штормовом ветре, показалась течь и в трюме, и в дымогарных трубках машины. — При таких же условиях, но в больших размерах, течь в трюме повторилась пред г. Христианзандом. В Скагерраке, при переходе от г. Христианзанда к Копенгагену, крен от качки достигал в одну сторону 32⁰ — течь на судне было настолько сильна, что вода поднималась до топок, — все имеющиеся на судне помпы были пущены в дело. Судну грозила большая опасность, если бы мы были вдали от берега. К счастью, шторм дул к берегу, и мы, вместо Копенгагена, попали в шведский город Гетеборг, где шхуна введена была в док для необходимых поправлений.
В Балтийском море, близ острова Эланда, мы несколько суток отстаивались от шторма на двух якорях под парами, испытав пред этим сильную качку в открытом море.
Машина на всем пути, обнаруживая более или менее значительные неисправности, требовала разных поправок.
Мы нередко шли всего по 1\2 узлу в часть, а при сильном противном ветре и совсем не выгребали вперед. Если прибавить к этому малую вместительность угольных ям, то будет понятно, почему переход наш из г. Архангельска в г. Кронштадт продолжался 96 дней, при чем мы должны были побывать в 9 городах и 7 местечках Норвегии, в 2 городах и 5 местечках Швеции, в г. Копенгагене, в Ганге, Гельсинфорсе и 2 местах Аландских шхер. Почти во всех местечках и значительной части городов мы останавливались только для того, чтобы переночевать, так как ночью шхерами идти невозможно, и дать отдых лоцману, который, конечно, не в силах был стоять на верху все 24 часа.
Нижние морские чины размещались на шхуне за эту кампанию так: в жилой палубе 29 человек, в жилом трюме, сильно нагруженном казенными вещами, — 32 человека, 1 спал в машине, 2 — в подшкиперской, тоже заваленной разными судовыми принадлежностями. В жилой палубе на каждого матроса приходилось 25 куб. фут. (0,07 куб. саж.) (Вычисления производились по правилам, изложенным в гигиене проф. Доброславина, часть 1, стр.281. Обстановку матроса я считал равной 1\15 куб. саж., объем тела — 70 куб. футам.) в трюме — 23 куб. фут. (0,06 куб. саж.)
Не знаю, есть ли другие суда в нашем флоте с таким ничтожным объемом воздуха на каждого обитателя. — Если припомнить требования рациональной гигиены, то такая теснота должна бы сильно вредить здоровью команды. Но на самом деле оказывается не так; вследствие известного распределения служебных обязанностей между матросами.
Вся команда была разделена на 2 вахты, каждая вахта — на 2 отделения. Одна половина каждого отделения помещалась в трюме, другая в палубе. На якоре матросы несли службу по отделениям, на ходу — повахтенно. Поэтому получалось такое размещение: в палубе и трюме никогда не бывало более, чем по 22 человека; на ходу же в первой — не более 13, а во втором — 15 человек. Конечно, при таких условиях на долю каждого оставшегося приходился значительно больший объем воздуха. Кроме того на палубе, иначе сказать на открытом воздухе, отличавшемся идеальной чистотой, матросы пили чай, завтракали, обедали, ужинали, молились, снимались с якоря, производили пожарные тревоги и т. д. Словом здесь происходили все их служебные работы, при которых легкие наиболее вентилируются.
Далее, почти все свободные часы, особенно в хорошую погоду, матросы тоже проводили на палубе, вследствие тесноты и недостатка света в жилых помещениях, так что в последних им приходилось главным образом спать.
Наконец, жилые помещения довольно хорошо вентилировались — люки, ведущие в них, никогда не закрывались.
Каждый матрос в продолжение суток выглянет на палубу minimum 10 раз и если в своих выходах он будет ограничиваться только службой, а свободные часы проводить в жилом помещении, то все же на ходу он проведен на палубе не менее 13 часов, а на якоре — не менее 7.
Если все это принять во внимание, то условия относительно воздуха не так уж плохи на нашем маленьком судне, как это может показаться с первого взгляда и, по моему мнению, нисколько не уступают деревне; внутри крестьянских изб, особенно во время сна, вони и порчи воздуха нисколько не менее, чем в матросских помещениях, а во дворе и поле крестьянина воздух едва ли лучше, чем на палубе нашего судна.
Во все 153 дня кампании судно наше находилось постоянно в холодной воде, что, конечно, не могло не влиять на температуру и влажность внутри жилых помещений.
В г. Архангельске (от 5 до 26 июня) температура воды реки Северной Двины колебалась от 5,5⁰ R до 12,7⁰ R.
В Белом море и Ледовитом океане (от 26 июня до 4 июля) — от 3,8⁰ R до 7,0⁰ R.
Поэтому во всю кампанию судно наше отапливалось, за исключением только тех дней, когда в машине производились какие-нибудь починки.
Едва ли можно устроить паровое отопление более негигиенично, чем это было у нас; конечные паровые трубки, выносящие уже негодный, отработанный пар, оканчивались открыто в трюме — в льяла. Пар, конечно, быстро сгущался в теплую воду и как сам пар, так и теплая вода сильно увлажняли жилые помещения.
Кроме того, уже вследствие одной своей старости судно давало за сутки известное накопление воды в трюме, никогда не менее 4 дюймов, а так как судной имело большой дифферент, то вода эта, соединялась с машинной водой и разными продуктами жировых кислот, скоплялась в кормовой части трюма, и хотя каждый день выкачивалась отсюда, но не вся — помпа не забирала воды из льяльных пространств, отчего вода здесь загнивала, разлагалась и давала зловоние, особенно чувствительное во время качки и притом почти исключительно для обитателей кормовой части — т.е. для офицеров.
Для проветривания этой кормовой части трюма, по бортам (внутри офицерских кают), во внутренней обшивке, были устроены металлические решетки — шпации -, но так как через них распространялся сильный запах, то большая часть их была заклеена, — таким образом кормовая часть трюма почти совсем не проветривалась, представляя из себя в истинном смысле гнилое болото.
Вследствие крайней тесноты и парового отопления, в матросских помещениях, особенно ночью, было жарко, душно, сыро. Матросы спали в поту. Не пускать парового отопления было нельзя, становилось холодно и так сыро, что металлические вещи быстро покрывались ржавчиной, а белье и платье делались влажными.
Внизу жар, духота, вверху на палубе — пронизывающий сырой холод — вот весьма частые сочетания, крайне благоприятные для получения различных простудных заболеваний! И без сомнения этому вредному сочетанию и вообще сырости и холоду, мы обязаны тем, что в течение всей кампании 1887 года из всего количества больных матросов — 87 человек — 34 страдали разными формами простудных болезней, между которыми не было впрочем ни одного серьезного случая.
Питание команды, в общем, было весьма удовлетворительно. В Архангельске, на берегу, в скоромные дни пища матросов состояла из свежего мяса, в постные — из рыбы.
Иллюстрация из Атласа Хирургических инструментов,19 в.
Предметы медицинского назначения 19 века из Атласа Хирургических инструментов, собрание библиотеки ВМГ
Относительно питья дело было поставлено хуже. Кампания в Архангельске начиналась тотчас по вскрытии реки Северной Двины, когда вода в реке была весьма мутна, и эта мутная вода или по местному Архангельскому выражению «мутница» в среднем выводе продолжалась около 3 недель.
Ни одна кампания не проходила без того, чтобы в это время не появлялись между матросами больные поносом, очевидно, в зависимости от загрязненной воды, не смотря на предупредительные меры со стороны врача, (воду для питья брали с средины реки, кипятили и настаивали на сухарях.)
С 1-го июля, когда шхуна была уже в первом норвежском городе — Вардэ, питание матросов изменилось: по средам и пятницам варился горох, в остальные дни — на ходу употребляли солонину, а на стоянках, в городах, свежее мясо. Кроме того, в каждом городе мы запасались пресной водой.
Не все матросские желудки хорошо выносили это изменение воды и пищи, и почти четвертая часть всех больных, именно 20 из 87 страдала теми или другими формами расстройств кишечника; между которыми были два серьезных случая.
В общем, здоровье команды улучшилось в продолжение всей кампании, что видно из увеличения веса большинства матросов. Уже одно взвешивание показывает, что жизненный приход матросских организмов превышал расход, что им не были известны тяжелые изнурительные работы. И действительно, во всю кампанию им пришлось тяжело поработать в общей сложности не более 40 часов.
Из 153 дней судно провело на стоянках 123\5 суток, когда вся работа команды ограничивалась приведением судна в чистоту и порядок, нагрузкой угля, иногда парусным, шлюпочным учением и пожарными тревогами. Короче сказать, матросы нередко бывали свободны от занятий, и этими свободными часами я воспользовался для санитарных целей. В видах предупреждения заболеваний, с разрешения командира, я вел беседы с командой и венерических болезнях и пьянстве, обращая главное внимание на последствия этих болезней и предупредительные меры против них. Было бы слишком смело приписывать большое значение этим беседам, но все-таки, мне кажется, есть малая доля их влияния в том отрадном факте, что между нашими матросами не было за границей ни одного сифилитика и только один больной уретритом.
А относительно употребления спиртных напитков — матросы удостоились похвалы даже в заграничных газетах.
Был такой характерный случай. Наш старший офицер отправился к директору сада «Лоренцберг», в г. Гетеборге, с просьбой пустить команду в сад за половинную плату. Директор долго колебался, боясь за поведение матросов. но согласился. Матросы вели себя здесь настолько благонравно и прилично, что обратили общее внимание публики. А когда гулянье кончилось, команда построилась во фронт и в полном порядке вышла из сада, сопровождаемая огромной толпой народа с криками «ура»!
На следующий день местная газета в самых лестных для русского сердца выражениях описывала посещение наших матросов и особенно выражала удивление тому обстоятельству, что между ними не было ни одного пьяного, и ставила их в этом отношении в пример своим солдатам и матросам.
Опять повторяю, что было бы чересчур легкомысленно придавать большое значение моим беседам, но все же, мне кажется, они были по меньшей мере не излишни.
К числу больных, заболевших от условий нашей судовой жизни, относится матросский повар с конъюнктивом глаз от дыма, чада и жара нашего маленького камбуза, и другой матрос — с блефаритом, происшедшим от угольной пыли.
Все остальные заболевания, — бывшие на судне, случайны и не могут быть поставлены в прямую зависимость от судовой жизни.
Вот вкратце главные условия нашего судна и зависящие от них заболевания за кампанию 1887 года!
(«Медицинские прибавления» к Морскому сборнику. Июнь 1888 г. С.-Петербург, стр.413—420)
ФЕДОРОВ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ
Коллежский Асессор; в С. М. Х.А с 1876 года; лекарем с 1881 года в Архангельскую флотскую роту; мл. судовой врач с 1881; к 8 флотскому экипажу (СпБ) на год в 1884 г. Степень Доктора Медицины получил в 1885 году в Военно-Медицинской Академии; с 1887 года в 7 флотском экипаже.
Печатные работы:
1 — О распространении ленточных глист между населением г. Архангельска. Пр. Арх. Вр. 1885, ll, 32.
2 — О влиянии главных условий жизни Соловецкого монастыря на здоровье и заболеваемость его монахов.
Тж. 1892.
3 — Всасывает ли неповрежденная человеческая кожа лекарственные вещества из распыленных водных растворов? — диссертация на степень Доктора Медицины, СпБ. 1885 (эта работа хранится в библиотеке Кронштадтского Военно-Морского Госпиталя)
Эмблема Общества Морских врачей в Кронштадте
Петр Федорович — член «Общества Морских Врачей в Кронштадте».
О цинге и ее лечении Старший судовой врач Г. Ивен
Главные ворота Кронштадтского ВМГ
В одном из заседаний С. Петербургского общества морских врачей за сезон 1861/1862 года доктор Яницкий сравнивал, в количественном и качественном отношениях, действия двух растительных соков, лимонного и клюквенного, при цинге. К сожалению, автор не упоминает в своей статье, употреблял ли он эти соки сами по себе, или одновременно с какими либо ароматическими и острыми противоцинготными средствами. Вот почему считаю нужным сообщить здесь о необходимости вспомогательного употребления ароматических средств при лечении скорбута кислыми растительными соками.
Из многочисленных опытов я убедился, что сок лимона и клюквы, употребляемый при цинге, без пособия других средств, недолго переносится больными; вызывая оскомину, он увеличивает страдание десен и затрудняет жевание; с другой стороны, он производит потерю аппетита, изжогу, развитие газов и поносов, которого в особенности необходимо избегать при этой болезни. Равным образом, от лечения нельзя ожидать вполне удовлетворительных результатов, если упомянутые кислые соки мы будем употреблять в соединении или почти одновременно с другими противоцинготными веществами, содержащими в себе эфирное горчичное масло или способным образом последнее (прим. автора: к средствам, содержащим в себе готовое эфирногорчичное масло, принадлежат, как известно, ложечная трава, редька, чеснок, лук и др., а к веществам, способным образовать это масло впоследствии, относятся семя черной горчицы и хрен). Допускают, что ароматические и острые противоцинготные средства, смешиваясь в желудке с кислыми растительными соками, образуют особые соединения, недействительные против скорбута. (прим. Автора: привожу клинический опыт, произведенный мною в Архангельском морском госпитале в 1833 г. Из огромного числа цинготных больных в этом году я выбрал 20 трудных и 20 легких больных и поместил их в две палаты, так что в каждой находилось по 10 легких и 10 трудных. Одной палате я назначил одновременное употреблений острых и кислых средств, а другой — разновременное. В результате оказалось, что в первой палате выздоровели все легкие и только трое трудных, а во второй тоже все легкие и восемь трудных). Как бы то ни было, но многочисленный опыт убедил меня, что для успешного лечения цинги, хреновые и горчичные средства следует давать больным только за обедом или вскоре после него, и затем уже, спустя, по крайней мере, полчаса, употреблять лимонный или клюквенный соки. Если, при слабой степени цинги одновременное употребление тех и других средств не редко оказывается полезным, то заметить, что в подобных случаях пищеварение больных еще довольно деятельно (они легко переносят лимонный сок); притом в слабой степени цинги едва ли нужно прибегать к употреблению каких либо лекарств, так как она всегда почти излечивается при помощи одних профилактических средств. Вот способ, который я успешно применял в Архангельском морском госпитале, с 1833—43 г., при лечении около 6000 больных. Свежий лимонный сок приправляли обыкновенно кожицею корки плода (flavedo), а при недостатке ее, на унцию сока прибавляли eleosacch, citri эjj, или pulv. rad. Zingiber. эj, или даже piper. nigri pulv. gr. x. Обыкновенно кожицу лимонной корки с соком и небольшим количеством сахара или меда (3ij на каждый лимон) толки в деревянной ступке и полученную кашку (electuarium) давали трудно больным по 3iij три раза в день, чрез два часа после употребления острых средств с пищею. Клюквенный сок я употреблял при недостатке свежего лимонного сока и морошки (baccae rubi chamaemori). Он действует однакож лучше недоброкачественного лимонного сока, обыкновенно покрытого плесенью на поверхности. Клюквенного сока, тоже с сахаром, получали трудно больные по три, а легкие — по две унции в сутки (3v-vj 5 раз в день), а также спустя два часа по принятии пищи. Последняя у легких больных состояла из мяса с хреном или черной горчицей, кислой капусты с луком, черного хлеба и хренового пива; трудно больные получали на обед 2-ую порцию, т.е. мясной суп с картофелем и овощами, жаркое с хреном и белый хлеб, на ужин суп и половинную порцию жаркого, а на завтрак суп с белым хлебом; сверх того, водки 1,5 унции и кружку хмелевого пива. Температура палат была +15 R.; больше, по возможности, пользовались банею и моционом.
Изложив лечение цинги вообще, перехожу к лечению ее осложнений, именно поноса и сывороточных излияний в грудную и брюшную полости. Петехиальная цинга, при самом начале своем, очень легко осложняется упомянутыми явлениями, которые в обыкновенной цинге случаются реже и притом гораздо позже.
Цинготный понос, как известно, отличается водянистыми, мало пахучими и, по большей части, непроизвольными испражнениями, с полосками или комочками серо-зеленоватого или черно-бурого цвета, с незначительным количеством слизи и недоваренными пищевыми веществами. При этом живот больного впал и нечувствителен к давлению; язык покрыт сероватою слизью, а при одновременном существовании сывороточной влаги в грудной или брюшной полостях — холоден, влажен, представляет складки и как бы размочен на краях; жажда незначительна; мутная, серо-зеленоватая моча отделяется в малом количестве, несколько отзывает кишечными испражнениями, дает щелочную реакцию и содержит несовершенно образованную белковину; полнота тела исчезает, при понижении его температуры; пульс медлен и слаб, дыхание едва заметно. Все это, при грязно-зеленоватом цвете кожи и значительном упадке сил, придает больному вид холерного in stadio algido. Картину болезни довершают особенный запах выдыхаемого воздуха, схожий с запахом солонины, испортившейся в рассоле, кровоточивость десен, кровоизлияния под кожу, окреплость клетчатки, головокружение, сонливость и пр.
В подобных случаях я назначал обыкновенно слабую порцию (овсяный суп из 1 фунта мяса с солью, и 1 фунт белого хлеба), для питья dec. hordei cum inf. menth piper., а после обеда и ужина по две унции портвейну. Фармацевтическое лечение состояло в употреблении tinct. nuc. vom. по 7—8 капель три раза в день, в особенности же tinet. canth. gutt. xv. in dto rad. orchid. morion. 3jii, по одной унции три раза в день, ежедневно возвышая прием tinet. canthar. одною каплею (прим. автора: появление позывов к мочеиспусканию у цинготных при употреблении tinet. canthar. Служит верным признаком скорого уничтожения болезни и, вместе с тем, заставляет прекратить дальнейшее употребление этого средства). По прекращению поноса, я оставлял употребление tinet. nue. vom., a tinet. canthar., назначив 2-ю порцию, продолжал употреблять, хотя без дальнейшего увеличения приемов, до совершенного уничтожения цинготного худосочия. Слишком продолжительное употребление этого последнего средства обыкновенно вызывает задержание мочи, в которой тогда появляется вполне образовавшаяся белковина. В подобных случаях я прекращал употребление tinet. canthar. И снова назначал tinet. nue. vom. В прежних приемах и конопляное молоко пополам с отваром салепного корня, по 2 унции три раза в день.
Если же сывороточное излияние при цинге появлялось без поноса (что впрочем случается редко), то лечение также состояло в назначении tinet.canth., лимонной кашицы и 2 порции с водкою. Зимою, когда нельзя было достать лимонов, я заменял эту кашку моченою, несовершенно спелою ягодою морошки с рассолом; это средство очень дешево в Архангельске. Семена морошки ароматно-горьковатого вкуса, обладают мочегонным действием и не скоро производят понос.
Так как обдукция цинготных больных слишком хорошо известны, то привожу здесь только мои патолого-химические исследования сывороточной влаги в грудной полости. Мутная сывороточная жидкость, найденная мною в грудной полости на третий день смерти больного, давала щелочную реакцию. Эту жидкость я разделял на 3 части. Процедив первую часть, я промывал и высушивал осадок, оставшейся на фильтре; процеженную жидкость сбивал палочкою из китового уса, при чем выделялось еще не много грязно-беловатого осадка, который я также промывал и высушивал. Оба полученные осадка свертывались от жару, растворялись в уксусной кислоте, но в воде с примесью небольшого количества соляной кислоты не растворялись; словом представляли все признаки волокнины. К процеженной и уже прозрачной жидкости я прибавлял значительное количество уксусной кислоты, после чего в смеси скоро появлялся обильный клочковатый осадок, который, по высушке, не растворялся в уксусной кислоте; это было слизистое вещество. Оставшуюся жидкость я выпаривал кипением до половины ее объема и затем кипятил ее с водою; по охлаждении, жидкость представлялась мутною и с небольшим клочковатым осадком, а от прибавления алкоголя становилась еще мутнее. Когда этот последний осадок был вымыт, высушен и обработан водою, он потерял 0,9 своего веса и оказался чистою белковиною. Вторую часть грудной влаги и исследовал по способу Berzelius и получил теже результаты. Третья часть была выпарена досуха. Полученный осадок, по обработке алкоголем и водою и после прибавления ac.nitrosi представлял все свойства желчного начала. Моча живых трудно цинготных больных содержит много слизистого вещества, сомнительные следы настоящей белковины, значительное количество несовершенно образовавшейся белковины, желчное начало, следы фосфорнокислых соединений и аммиак.
(Медицинские Прибавления к Морскому Сборнику, издаваемые Морским Медицинским Управлением, выпуск пятый, Санк-Петербург, 1865 г. Стр.584)
Научные работы, хранящиеся в библиотеке ВМГ г. Кронштадта
Биография Старокадомского Л. М.
СТАРОКАДОМСКИЙ ЛЕОНИД МИХАЙЛОВИЧ — годы жизни 1875—1962, видный ученый в области морской гигиены.
Оглавление диссертации Л.М.Старокадомского, 1909 г.
В 1899 году окончил Императорскую Военно-Медицинскую Академию. С 1903 года поступил на службу в Военно-Морской госпиталь в Кронштадте и с 22 сентября 1903 года по 1909 год являлся членом Общества Морских врачей, активно участвовал в работе. На заседаниях Общества за этот период Л.М.Старокадомский много выступал в прениях и с докладами. В протоколах за 1904 год помещена его статья «О сухом молоке Irven». 19 сентября 1905 года напервом очередном заседании Общества Л. М. Старокадомский сообщил о «Случае острого церебро-спинального менингита», показав относящиеся к нему бактериологические препараты. 12 февраля 1907 года на шестом очередном заседании Л.М.Старокадомский сообщил «Об опытах Leduc’a». После доклада, сопровождавшегося демонстрацией опытов, произошел обмен мнений, в котором принимали участие В. П. Аннин, А. Д. Волошин и Г. С. Филиппов. 26 марта 1907 года на девятом очередном заседании, согласно §8 проекта учреждения Обществ Морских врачей в портах были произведены закрытой баллотировкой выборы Председателя, секретаря и казначея Общества. Избранными оказались: Председателем В. И. Исаев, секретарем А.Д.Волошин, библиотекарем и казначеем Л.М.Старокадомский. 24 сентября 1907 года на первом очередном заседании Л.М.Старокадомский прочел доклад «Опыты стерилизации воды озоном». В. И. Исаев и А. А. Бунге высказали свое мнение по поводу доклада.
8 октября 1907 года на втором очередном заседании Л. М. Старокадомский доложил о состоянии библиотеки Госпиталя и Общества. 28 января 1908 года на восьмом очередном заседании Л. М. Старокадомский прочел доклад «Извлечение из трудов комиссии по улучшению быта рабочих военного ведомства». Председатель В. И. Исаев по окончании заметил, что труды комиссии дают неоценимые в этом отношении указания.
В апреле 1903 года Л. М. Старокадомский при вскрытии трупа заразился трупным ядом. Сохраняя жизнь, ему ампутировали выше локтя левую руку. Несмотря на инвалидность, доктор был оставлен на военной службе. В 1909 году защитил диссертацию на тему «К вопросу об экспериментальном артериосклерозе», которая находится на хранении в библиотеке Кронштадтского Военно-Морского госпиталя. В 1905 году после окончания войны с Японией он входил в состав комиссии по медицинскому освидетельствованию в Японии российских военнопленных, которых возвращали на родину.
В 1909—1915 гг. — старший судовой врач ледокола «Таймыр». Участвовал в экспедиции по освоению Северного морского пути. Собрал коллекции морских и наземных животных и растений; вел дневники и опубликовал книги «Экспедиции Северного Ледовитого океана» и «Пять плаваний в Северном Ледовитом океане». Его именем назван небольшой остров в море Лаптевых.
Л. М. Старокадомский в 1918—1920 гг. служил в должности санитарного инспектора Архангельского военно-морского порта, а в 1921 году был назначен главным санитарным инспектором Рабоче-Крестьянского Красного флота.
— Протоколы общества Морских врачей в Кронштадтском Военно-Морском госпитале 1903—1909 годы.
— В. Г. Реданский. «Их имена — на карте Арктики», Североморский отдел Географического общества СССР. Североморск, 1968 г.
Биография
Полилова А. М.
Александр Михайлович Полилов, потомственный дворянин Нижегородской губернии, православного вероисповедания, родился в 1869 г. Среднее образование получил в нижегородском Дворянском Институте Императора Александра III, который окончил в 1889 г. В том же году поступил в С.-Петербургский университет на отделение естественных наук Физико-Математического факультета, в 1893 г. кончил курс естественных наук Петербургского Университета с дипломом 1-й степени и поступил затем в том же году в число студентов 2-го курса Императорской Военно-Медицинской Академии, которую в 1897 г. окончил с отличием (cum eximia laude). Во время нахождения в С.-Петербургском Университете работал по физиологии в 1892—93 г.г. в лаборатории проф. Н. Е. Введенского. В Военно-Медицинской Академии работал: в 1893—94 г.г. в физиологической лаборатории проф. И.Р.Тарханова, а в 1896—97 г.г. в лаборатории Общей и Экспериментальной Патологии проф. П. М. Альбицкого.
По окончании курса медицинских наук в Военно-Медицинской Академии был назначен младшим врачом в 144-й пехотный Каширский полк, а в августе 1898 г. был переведен тем же званием в Брянский местный лазарет. В декабре 1899 г. был переведен на службу врачом в Морское Ведомство с назначением младшим ординатором Николаевского Морского Госпиталя в г. Кронштадте.
В 1900—1901 г.г. сдал экзамены на степень доктора медицины при Императорской Военно-Медицинской Академии. Имеет следующие специальные работы:
1) «Обмен веществ в раннем периоде жизни животного организма», удостоенную конференцией Императорской Военно-Медицинской Академии в 1897 г. премии имени Маторина.
2) К вопросу о лечении дизентерии.
3) Экспедиция Северного Ледовитого Океана и пароход «Пахтусов» — медико-топографический очерк.
4) Влияние белого электрического света на состав крови, температуру и чувствительность кожи у здоровых людей. Последнюю работу представил в качестве диссертации для соискания ученой степени доктора медицины.
Иллюстрация из Атласа Хирургических инструментов,19в.
Медицинское пособие из Атласа библиотеки ВМГ
Иллюстрация из Атласа Хирургических инструментов,19в.
Список членов Общества Архангельских врачей
На 1873 год
I. Почетный Член:
Игнатеьв Никол Павлович Начальник Архангельской губернии.
II. Управление Общества Врачей И Вспомогательной Медицинской Кассы:
Председатель: И. С. Штерн
Секретарь и библиотекарь: Ю. А. Космовский
Кассир: Е. Я. Сериков.
— Действительные Члены:
Горецкий Ц. К., врач заведующий больнициею
приказа общественного призрения.
Затварницкий А. П., помощник врачебного инспектора
Приказа общественного призрения.
Касмовский Ю. А., док. мед. старший врач
Архангельскаго военнаго лазарета
Марки Э. И., фармацевт врачебнаго отделенгия.
Нарбут С. О., Архангельлский городовой врач.
Радкевич Н. М. Архангельский губернский
ветеринар.
Позняк Д. М., Архангельский уездный врач.
Пятунников В. Л., младший врач
Архангельскаго военнаго лазарета.
Штерн И. С., Губернский врачебный
Инспектор.
Севастьянов Н. ПА., младший врач
Архенгельск. флотской роты
Сериков Е. Я., старший врач
Архангелской флотской роты.
IV. Члены корреспонденты
Смирнов П. Д., младший врач 160 -го
Абхазскаго пехотного полка.
Amussat, Alfense в Париже
Milliot, Beniamin, в Иере во Франции
Секретарь Общества Ю. Касмовский
Штамп: Российская национальная библиотека, отдел внешнего обслуживания Санкт-Петербург, Садовая 18.
«Приполярная перепись 1926/27 гг. на Европейском Севере
(Архангельская губерния и автономная область Коми)»
Введение к книге
Для своего времени Приполярная перепись была настоящим ста- тистическим «открытием» северных земель. Ее результаты стали информационной базой советского строительства в хозяйственной, общественной и культурной сферах. Данные Приполярной переписи интересны, прежде всего, тем, что раскрывают перед нами картину жизни северных народов в самом начале ее советских преобразований. Детальность и систематичность полученной информации делают материалы этой переписи важнейшим источником для ретроспективных этнодемографических, этнохозяйственных, этноэкологических и даже чисто этнологических исследований.

Архангельск. Покорение русского Севера. Обелиск
Не секрет, что система сбора и обработки статистической информации во многом определяется политическими принципами властных структур, а результаты статистических обследований неизбежно политизируются. Особый интерес к Приполярной переписи в наши дни связан и с тем, что в период, когда она проводилась, политика государства по отношению к северным народам была близка к тому, что сейчас называют «неотрадиционализмом». Она строилась на разумном и относительно сбалансированном сочетании традиций и новаций, поскольку первой задачей новой власти на Севере было завоевать доверие местного населения. Через несколько лет, с началом коллективизации и «раскулачивания», лояльность в отношении к традициям коренных жителей была забыта, и неотрадиционализм сменился бюрократическим патернализмом. Можно отметить значительное сходство первых лет советской власти с началом постсовет- ского времени, когда идеалы «неотрадиционализма» вновь обрели свою популярность.
В 1920—1930-е годы главной целью национальной политики молодого советского государства на Севере было «подтягивание отсталых народностей к общему уровню хозяйственно-культурного развития страны» (Скачко, 1934). Тогда казалось, что для этого достаточно будет разрешить несколько проблем, которые остались в наследство от дореволюционного прошлого.
Людям, находящимся у власти, коренные народы Севера представлялись в высшей степени пассивной группой населения как в экономической, так и в социальной сферах. Указывали на их «страшную забитость», «пассивность, безответную покорность и полную неспособность сопротивления политическому и экономическому давлению со стороны более развитых и сплоченных народов» (Скачко, 1934).
Например, регистратор Приполярной переписи в Мурманской губернии М. К. Карпун писал, что кольского лопаря насильно «втискивают в общество, от которого он всеми силами старается оторваться». Лопарь живет сам по себе и до сих пор ни в каком государстве не нуждается.
«В самом деле: наиболее важный момент его жизни — лов рыбы — протекает в одинокой избушке среди леса на берегу озера. Его трудовой процесс совершенно обособлен и ничем не связан, не только с государством, но даже со своими односельчанами. Это важное обстоятельство предопределяет всё», — писал Карпун.
О том, «чтобы слить лопаря со всем трудящимся миром» и речи не может быть. Пережив период бурных событий, связанных с белогвардейской интервенцией, лопарь продолжает покорно ждать, что будет дальше.
«С него берут налог, он не понимает зачем. В его пред- ставлении встает недоумевающий вопрос: рыба ведь ничья, зачем же платить за нее?».
В словах лопаря звучит покорность больного человека, которому хочется умереть спокойно. Попытки как-нибудь «вывернуться из-под давящего его государства, проходят красной нитью через все думы его». (Экземпляр доклада М. К. Карпуна — к сожалению, с утратами отдельных кусков текста — хранится в архиве Мурманского областного краеведческого музея (инв. №4178/2).
Эту пассивность можно было бы считать кажущимся явлением, возникающим вследствие особенностей восприятия поведения аборигенов представителями доминирующего общества, ведь среди своего народа коренные жители Севера не выглядели пассивными.
Тем более что эта пассивность была не всеобщей и не повсеместной. В описаниях жизни кочевников Большеземельской тундры пассивность обычно отмечалась только как характерная черта облика самоедов, а в отношении коми-ижемцев, напротив, подчеркивалась их деловитость и предприимчивость.
Однако, как общее правило, пассивность большинства групп коренного населения имела целый ряд социально-экономических последствий, которые приводили и сейчас приводят к постоянному сокращению ареала традиционного северного хозяйства. Укажем здесь только два из них.
1. Сокращение доступа коренного населения к промысловым угодьям. Как до революции переселенческое движение сопровождалось фактической экспроприацией земель туземцев, так и после нее рус- ские оставались экономически наиболее сильной группой, которая продолжала теснить коренных жителей с лучших земель и промысловых угодий. Факты такого вытеснения документально подтверждены Приполярной переписью. Например, П. И. Барский — регистратор переписи в Архангельской губернии — писал в своем отчете:
«В отношении рыбных угодий самоеды очень теснятся русскими. На лучших рыболовных участках (р. Васкина, Великая, Волрига и др.) русские промышленники строят промысловые избушки и нередко лишают самоеда возможности заниматься рыбной ловлей в реках, искони принадлежащих самоедам»*.
Одним из выводов, который сделала советская администрация по итогам Приполярной переписи, была необходимость проведения в северных районах землеводоустройства. В числе его основных задач было предотвращение конфликтов между коренным и некоренным населением в связи с использованием промысловых угодий. Теперь мы знаем, что после первых относительно демократических шагов в области земельной политики советская политическая система привела к переходу всех прав на землю и на природные ресурсы к государству.
При этом интересы коренных жителей так и остались почти не защищенными. Если до революции лучшие рыболовные угодья за бесценок переходили в руки русских капиталистов, то в настоящее время неэквивалентные сделки с семьями коренных жителей, имеющими права на родовые угодья, заключают нефтяные компании.
Поэтому важно, что Приполярная перепись официально засвидетельствовала, что промысловые угодья тайги и тундры не были «ничьей» землей, которая могла быть беспрепятственно занята переселенцами из центральных районов страны. На американском Севере аналогичные документальные свидетельства используются в суде как доказательство прав коренных жителей на земли и их ресурсы (Андерсон, 2005).
В России формальные критерии определения земельных прав коренного населения еще не выработаны. Отсутствует пока и понятие «земельного требования» (land claim) со стороны конкретной группы коренного населения, например, поселковой или кочевой общины, хотя российское законодательство формально предусматривает создание территорий традиционного природопользования по заявлениям коренных жителей. В связи с этим материалы Приполярной переписи могут быть полезны как документы, подтверждающие давность использования земель и биологических ресурсов конкретными группами коренного населения.
* П.К.Барский. Приполярная перепись 1926 года. Занятия и экономическое состояние [Самоедов]. Рукопись. НМФ ГААО, ф. 5, оп. 1, д. 3, л. 33. См.
2. Торговая эксплуатация коренного населения. Эта проблема неизбежно возникает, как только коренное население оказывается в контакте с рыночной экономикой. Приполярная перепись засвиде- тельствовала факт огромной задолженности коренных жителей торго- вым организациям. Выяснение ее размеров было одной из специальных задач переписи. В отчетах регистраторов и других документах подчеркнуто, что кредитная политика торговых организаций была специально направлена на финансовое закабаление промысловиков и оленеводов, расчеты велись недобросовестно, а общая сумма долга, как правило, превышала реальные возможности его выплатить.
Торговой эксплуатацией коренного населения занимались не только торговцы, но и русское промысловое население. А. Скачко писал, что большинство русских промысловых хозяйств без преувеличения можно назвать «контрагентами торгового капитала, эксплуатирующими туземцев». Такая модель поведения была укоре- нившейся: считалось нормой, что «туземцев не обманывает только ленивый» (Скачко, 1934).
Возможно не в такой степени, как в 1920-е годы, но торговая эксплуатация промыслового и оленеводческого населения происходит и сейчас, усиливаясь с развитием рыночных отношений. Так, кочую- щие со стадами семьи оленеводов практически не имеют возможности покупать товары в магазине. Все необходимое им доставляет в тундру администрация оленеводческого предприятия, а оплата покупок производится путем вычетов из заработной платы. При этом цены на товары для них значительно выше, чем в поселковых магазинах, и эта разница превышает необходимые расходы на доставку. Однако более существенной формой торговой эксплуатации являются низкие закупочные цены, по которым местные жители вынуждены продавать добытую ими рыбу, мясо, шкуры и другую промысловую продукцию заготовительным организациям и предпринимателям- перекупщикам.
Во многих районах оленеводческие предприятия из-за финансовых трудностей, которые они постоянно испытывают, снабжают оленеводов необходимыми продуктами и снаряжением в совершенно недостаточном объеме. Поэтому особую важность для оленеводов приобрела меновая торговля — часто единственный источник необ- ходимых им товаров и продуктов в летний, а иногда также и в зимний период. В качестве партнеров в этой торговле выступают либо специально путешествующие по тундре предприниматели-торговцы, как в 1920-е годы, либо — в районах освоения — нефтегазодобытчики, выменивающие у оленеводов мясо и рога оленей на различные товары. Данная торговля практически всегда производится несправедливо для оленеводов, которые и сами осознают несправедливость существующего обмена, где торгующие часто используют склонность коренного населения к алкоголю. Помимо того, что обмен идет на некачественные спиртные напитки, оленеводов иногда, грубо говоря, спаивают, чтобы выменивать товар по более выгодным ценам. Так, несколько лет назад в тундрах Республики Коми тушу оленя можно было приобрести за пять литров самогона (Колегов, 2003). Случаи массового отравления жителей аборигенных поселков не- качественными спиртными напитками известны из периодической печати; правда, они имели место не на Европейском Севере, а на Дальнем Востоке.
Таким образом, торговая эксплуатация коренного населения северных окраин России сохраняется в самых разнообразных экономических условиях и воспринимается обществом как неизбежное явление, сопровождающее товарообмен между хозяйствами различных укладов.
Можно считать закономерными потери, которые несет традиционное хозяйство в результате «столкновения с цивилизацией». Тем не менее, вопрос, почему одни этнические общности активно адаптируются к социально-экономической среде доминирующего общества, а другие выбирают путь изоляции, важен и для теории, и в практическом плане. Дилемма «традиционализм — модернизм», поиски «третьего» пути, попытки «снять» противоречие путем диа- лектического синтеза несовместимых противоположностей всегда приводили и по-прежнему ведут к выстраиванию очередной страте- гии «неотрадиционализма». Неясным остается только, за счет чего будет достигнут этот гармоничный синтез, необходимость которого настолько же легко провозгласить, насколько трудно его выполнить. На наш взгляд, продуктивно было бы посмотреть на хозяйственную жизнь северных территорий как на своеобразный экономический симбиоз традиционных и инновационных форм. Его относительная устойчивость достигается не путем поднятия активности традицион- ного сектора и не за счет изобретения нового уклада, сочетающего в себе лучшие черты традиционности и модернизма. Она исторически складывается как территориальное, а точнее — с учетом сезонных ритмов природопользования — как пространственно-временное со- четание разнородных, нередко противоборствующих, но вместе с тем взаимодополняющих компонентов. Приполярная перепись убедительно показала сложную пространственную структуру и взаимозависимость различных групп населения с разным укладом хозяйства и образа жизни. Среди них были и пассивные, и активные, консервативные и склонные к новациям. Так, в Большеземельской тундре малооленные промысловые хозяйства ненцев едва ли могли бы успешно существовать без богатых коми-оленеводов. Коми-ижемцы не могли бы сбывать продукцию своего товарного оленеводства, не имея постоянного контакта с русскими. А колгуевские ненцы не мог- ли бы вести оленеводческое хозяйство на своем острове, если бы их не «эксплуатировали» русские колонисты (Давыдов, 2006).
Собранные и систематизированные материалы Приполярной переписи дают исследователям возможность выстроить схему и понять механизм этого симбиоза различных групп населения и хозяйственных укладов в пределах каждого региона. Это и может быть содержа- нием дальнейших исследований, продолжающих данную работу.
Андерсон Д. 2005. Туруханская переписная экспедиция 1926—27 гг. на перекрестке двух научных традиций. В кн. Туруханская экспедиция Приполярной переписи: этнография и демография малочисленных народов Севера. Отв. ред. Д. Дж. Андерсон. Красноярск: Поликолор. Сс. 7—33.
Давыдов А. Н. 2006. Этнохабитат на краю ойкумены: ненцы острова Колгуев. В кн. Межэтнические взаимодействия и социокультурная адапта- ция народов Севера России. М.: Стратегия. Сс. 34—60.
Колегов М. Г. 2003. План развития оленеводства в МО «Ижемский рай- он» Республики Коми. Проект Северного Форума. Агентство экономической информ., Сыктывкар.49 с.
Скачко Ан. 1934. Народы Крайнего Севера и реконструкция северного хозяйства. Л.: Издательство Института народов Севера. 74 с.
(Архангельская губерния и автономная область Коми)»
Введение к книге
Для своего времени Приполярная перепись была настоящим ста- тистическим «открытием» северных земель. Ее результаты стали информационной базой советского строительства в хозяйственной, общественной и культурной сферах. Данные Приполярной переписи интересны, прежде всего, тем, что раскрывают перед нами картину жизни северных народов в самом начале ее советских преобразований. Детальность и систематичность полученной информации делают материалы этой переписи важнейшим источником для ретроспективных этнодемографических, этнохозяйственных, этноэкологических и даже чисто этнологических исследований.
Архангельск. Покорение русского Севера. Обелиск
Не секрет, что система сбора и обработки статистической информации во многом определяется политическими принципами властных структур, а результаты статистических обследований неизбежно политизируются. Особый интерес к Приполярной переписи в наши дни связан и с тем, что в период, когда она проводилась, политика государства по отношению к северным народам была близка к тому, что сейчас называют «неотрадиционализмом». Она строилась на разумном и относительно сбалансированном сочетании традиций и новаций, поскольку первой задачей новой власти на Севере было завоевать доверие местного населения. Через несколько лет, с началом коллективизации и «раскулачивания», лояльность в отношении к традициям коренных жителей была забыта, и неотрадиционализм сменился бюрократическим патернализмом. Можно отметить значительное сходство первых лет советской власти с началом постсовет- ского времени, когда идеалы «неотрадиционализма» вновь обрели свою популярность.
В 1920—1930-е годы главной целью национальной политики молодого советского государства на Севере было «подтягивание отсталых народностей к общему уровню хозяйственно-культурного развития страны» (Скачко, 1934). Тогда казалось, что для этого достаточно будет разрешить несколько проблем, которые остались в наследство от дореволюционного прошлого.
Людям, находящимся у власти, коренные народы Севера представлялись в высшей степени пассивной группой населения как в экономической, так и в социальной сферах. Указывали на их «страшную забитость», «пассивность, безответную покорность и полную неспособность сопротивления политическому и экономическому давлению со стороны более развитых и сплоченных народов» (Скачко, 1934).
Например, регистратор Приполярной переписи в Мурманской губернии М. К. Карпун писал, что кольского лопаря насильно «втискивают в общество, от которого он всеми силами старается оторваться». Лопарь живет сам по себе и до сих пор ни в каком государстве не нуждается.
«В самом деле: наиболее важный момент его жизни — лов рыбы — протекает в одинокой избушке среди леса на берегу озера. Его трудовой процесс совершенно обособлен и ничем не связан, не только с государством, но даже со своими односельчанами. Это важное обстоятельство предопределяет всё», — писал Карпун.
О том, «чтобы слить лопаря со всем трудящимся миром» и речи не может быть. Пережив период бурных событий, связанных с белогвардейской интервенцией, лопарь продолжает покорно ждать, что будет дальше.
«С него берут налог, он не понимает зачем. В его пред- ставлении встает недоумевающий вопрос: рыба ведь ничья, зачем же платить за нее?».
В словах лопаря звучит покорность больного человека, которому хочется умереть спокойно. Попытки как-нибудь «вывернуться из-под давящего его государства, проходят красной нитью через все думы его». (Экземпляр доклада М. К. Карпуна — к сожалению, с утратами отдельных кусков текста — хранится в архиве Мурманского областного краеведческого музея (инв. №4178/2).
Эту пассивность можно было бы считать кажущимся явлением, возникающим вследствие особенностей восприятия поведения аборигенов представителями доминирующего общества, ведь среди своего народа коренные жители Севера не выглядели пассивными.
Тем более что эта пассивность была не всеобщей и не повсеместной. В описаниях жизни кочевников Большеземельской тундры пассивность обычно отмечалась только как характерная черта облика самоедов, а в отношении коми-ижемцев, напротив, подчеркивалась их деловитость и предприимчивость.
Однако, как общее правило, пассивность большинства групп коренного населения имела целый ряд социально-экономических последствий, которые приводили и сейчас приводят к постоянному сокращению ареала традиционного северного хозяйства. Укажем здесь только два из них.
1. Сокращение доступа коренного населения к промысловым угодьям. Как до революции переселенческое движение сопровождалось фактической экспроприацией земель туземцев, так и после нее рус- ские оставались экономически наиболее сильной группой, которая продолжала теснить коренных жителей с лучших земель и промысловых угодий. Факты такого вытеснения документально подтверждены Приполярной переписью. Например, П. И. Барский — регистратор переписи в Архангельской губернии — писал в своем отчете:
«В отношении рыбных угодий самоеды очень теснятся русскими. На лучших рыболовных участках (р. Васкина, Великая, Волрига и др.) русские промышленники строят промысловые избушки и нередко лишают самоеда возможности заниматься рыбной ловлей в реках, искони принадлежащих самоедам»*.
Одним из выводов, который сделала советская администрация по итогам Приполярной переписи, была необходимость проведения в северных районах землеводоустройства. В числе его основных задач было предотвращение конфликтов между коренным и некоренным населением в связи с использованием промысловых угодий. Теперь мы знаем, что после первых относительно демократических шагов в области земельной политики советская политическая система привела к переходу всех прав на землю и на природные ресурсы к государству.
При этом интересы коренных жителей так и остались почти не защищенными. Если до революции лучшие рыболовные угодья за бесценок переходили в руки русских капиталистов, то в настоящее время неэквивалентные сделки с семьями коренных жителей, имеющими права на родовые угодья, заключают нефтяные компании.
Поэтому важно, что Приполярная перепись официально засвидетельствовала, что промысловые угодья тайги и тундры не были «ничьей» землей, которая могла быть беспрепятственно занята переселенцами из центральных районов страны. На американском Севере аналогичные документальные свидетельства используются в суде как доказательство прав коренных жителей на земли и их ресурсы (Андерсон, 2005).
В России формальные критерии определения земельных прав коренного населения еще не выработаны. Отсутствует пока и понятие «земельного требования» (land claim) со стороны конкретной группы коренного населения, например, поселковой или кочевой общины, хотя российское законодательство формально предусматривает создание территорий традиционного природопользования по заявлениям коренных жителей. В связи с этим материалы Приполярной переписи могут быть полезны как документы, подтверждающие давность использования земель и биологических ресурсов конкретными группами коренного населения.
* П.К.Барский. Приполярная перепись 1926 года. Занятия и экономическое состояние [Самоедов]. Рукопись. НМФ ГААО, ф. 5, оп. 1, д. 3, л. 33. См.
2. Торговая эксплуатация коренного населения. Эта проблема неизбежно возникает, как только коренное население оказывается в контакте с рыночной экономикой. Приполярная перепись засвиде- тельствовала факт огромной задолженности коренных жителей торго- вым организациям. Выяснение ее размеров было одной из специальных задач переписи. В отчетах регистраторов и других документах подчеркнуто, что кредитная политика торговых организаций была специально направлена на финансовое закабаление промысловиков и оленеводов, расчеты велись недобросовестно, а общая сумма долга, как правило, превышала реальные возможности его выплатить.
Торговой эксплуатацией коренного населения занимались не только торговцы, но и русское промысловое население. А. Скачко писал, что большинство русских промысловых хозяйств без преувеличения можно назвать «контрагентами торгового капитала, эксплуатирующими туземцев». Такая модель поведения была укоре- нившейся: считалось нормой, что «туземцев не обманывает только ленивый» (Скачко, 1934).
Возможно не в такой степени, как в 1920-е годы, но торговая эксплуатация промыслового и оленеводческого населения происходит и сейчас, усиливаясь с развитием рыночных отношений. Так, кочую- щие со стадами семьи оленеводов практически не имеют возможности покупать товары в магазине. Все необходимое им доставляет в тундру администрация оленеводческого предприятия, а оплата покупок производится путем вычетов из заработной платы. При этом цены на товары для них значительно выше, чем в поселковых магазинах, и эта разница превышает необходимые расходы на доставку. Однако более существенной формой торговой эксплуатации являются низкие закупочные цены, по которым местные жители вынуждены продавать добытую ими рыбу, мясо, шкуры и другую промысловую продукцию заготовительным организациям и предпринимателям- перекупщикам.
Во многих районах оленеводческие предприятия из-за финансовых трудностей, которые они постоянно испытывают, снабжают оленеводов необходимыми продуктами и снаряжением в совершенно недостаточном объеме. Поэтому особую важность для оленеводов приобрела меновая торговля — часто единственный источник необ- ходимых им товаров и продуктов в летний, а иногда также и в зимний период. В качестве партнеров в этой торговле выступают либо специально путешествующие по тундре предприниматели-торговцы, как в 1920-е годы, либо — в районах освоения — нефтегазодобытчики, выменивающие у оленеводов мясо и рога оленей на различные товары. Данная торговля практически всегда производится несправедливо для оленеводов, которые и сами осознают несправедливость существующего обмена, где торгующие часто используют склонность коренного населения к алкоголю. Помимо того, что обмен идет на некачественные спиртные напитки, оленеводов иногда, грубо говоря, спаивают, чтобы выменивать товар по более выгодным ценам. Так, несколько лет назад в тундрах Республики Коми тушу оленя можно было приобрести за пять литров самогона (Колегов, 2003). Случаи массового отравления жителей аборигенных поселков не- качественными спиртными напитками известны из периодической печати; правда, они имели место не на Европейском Севере, а на Дальнем Востоке.
Таким образом, торговая эксплуатация коренного населения северных окраин России сохраняется в самых разнообразных экономических условиях и воспринимается обществом как неизбежное явление, сопровождающее товарообмен между хозяйствами различных укладов.
Можно считать закономерными потери, которые несет традиционное хозяйство в результате «столкновения с цивилизацией». Тем не менее, вопрос, почему одни этнические общности активно адаптируются к социально-экономической среде доминирующего общества, а другие выбирают путь изоляции, важен и для теории, и в практическом плане. Дилемма «традиционализм — модернизм», поиски «третьего» пути, попытки «снять» противоречие путем диа- лектического синтеза несовместимых противоположностей всегда приводили и по-прежнему ведут к выстраиванию очередной страте- гии «неотрадиционализма». Неясным остается только, за счет чего будет достигнут этот гармоничный синтез, необходимость которого настолько же легко провозгласить, насколько трудно его выполнить. На наш взгляд, продуктивно было бы посмотреть на хозяйственную жизнь северных территорий как на своеобразный экономический симбиоз традиционных и инновационных форм. Его относительная устойчивость достигается не путем поднятия активности традицион- ного сектора и не за счет изобретения нового уклада, сочетающего в себе лучшие черты традиционности и модернизма. Она исторически складывается как территориальное, а точнее — с учетом сезонных ритмов природопользования — как пространственно-временное со- четание разнородных, нередко противоборствующих, но вместе с тем взаимодополняющих компонентов. Приполярная перепись убедительно показала сложную пространственную структуру и взаимозависимость различных групп населения с разным укладом хозяйства и образа жизни. Среди них были и пассивные, и активные, консервативные и склонные к новациям. Так, в Большеземельской тундре малооленные промысловые хозяйства ненцев едва ли могли бы успешно существовать без богатых коми-оленеводов. Коми-ижемцы не могли бы сбывать продукцию своего товарного оленеводства, не имея постоянного контакта с русскими. А колгуевские ненцы не мог- ли бы вести оленеводческое хозяйство на своем острове, если бы их не «эксплуатировали» русские колонисты (Давыдов, 2006).
Собранные и систематизированные материалы Приполярной переписи дают исследователям возможность выстроить схему и понять механизм этого симбиоза различных групп населения и хозяйственных укладов в пределах каждого региона. Это и может быть содержа- нием дальнейших исследований, продолжающих данную работу.
Андерсон Д. 2005. Туруханская переписная экспедиция 1926—27 гг. на перекрестке двух научных традиций. В кн. Туруханская экспедиция Приполярной переписи: этнография и демография малочисленных народов Севера. Отв. ред. Д. Дж. Андерсон. Красноярск: Поликолор. Сс. 7—33.
Давыдов А. Н. 2006. Этнохабитат на краю ойкумены: ненцы острова Колгуев. В кн. Межэтнические взаимодействия и социокультурная адапта- ция народов Севера России. М.: Стратегия. Сс. 34—60.
Колегов М. Г. 2003. План развития оленеводства в МО «Ижемский рай- он» Республики Коми. Проект Северного Форума. Агентство экономической информ., Сыктывкар.49 с.
Скачко Ан. 1934. Народы Крайнего Севера и реконструкция северного хозяйства. Л.: Издательство Института народов Севера. 74 с.
Северный морской Путь и врач Леонид Михайлович Старокадомский

Вступление к работе
Леонида Леусенко
Северный морской путь — возможно, важнейшая морская магистраль нашей страны. Об этом пути мечтали, начиная с М.В.Ломоносова, многие наши выдающиеся деятели. Путь был востребован в Русско-японскую войну 1904—1905 г., в Великую Отечественную войну. Всегда был нужен как кратчайший путь, сокращающий доставку грузов из Европы в Азию на 10 тысяч км и время пути по сравнению с традиционным через Суэцкий канал — в 13 дней. Открытие и добыча углеводородов на шельфах Баренцева и Карского морей заставляют быть основными разработчиками Северного морского пути нефтегазовые компании, «Норильский никель», Красноярский край, Республику Саха (Якутия), Чукотку и др.
Первой экспедицией, совершившей «Сквозной проход» (от Владивостока до Архангельска северным путём), стали участники ГЭСЛО, на ледоколах «Таймыр и Войгач» в 1915 г., о чём имеется книга капитана ледокола «Вайгач» Б. Вилькицкого и участника экспедиции, морского доктора Леонида Михайловича Старокадомского (1951 г.). Книга Старокадомского переиздавалась в 1953 и 1959 гг.
Личность Л. М. Старокадомского — врача, известного полярного исследователя и писателя (его книга «Пять плаваний в Северном Ледовитом океане» — маршрут ГЭСЛО) привлекла нас со времён создания альманаха №1 «Кронштадт…», посвященного деятельности «Общества Морских Врачей в Кронштадте» (1859—1918 гг.), членом которого он был. В альманахе 70 страниц из четырехсот занимают непосредственно доклады врачей, в том числе вернувшихся из «Плавания к Берегам Америки» с девятимесячным участием в «Войне Севера и Юга» на стороне войск Линкольна. Позже нам стало известно, что Леонид Михайлович около пяти лет занимал в те времена почётную должность казначея и библиотекаря Общества. Общество на собранные деньги издавало доклады по весьма широкому кругу вопросов, от медицинских и ветеринарных случаев до докладов о боевых действиях, описаний плаваний на кораблях, и зоологических коллекций. Доклады эти издавались ежегодно в виде книг и рассылались (в обмен) во все подобные Общества Российской империи и в несколько медицинских и физических европейских Обществ. Были годы, когда связь и обмен книгами осуществлялся с пятнадцатью Обществами. Так работал «Интернет» XIX — начала XX века. После 1918 г. работа Общества прервалась и более не возобновлялась. Из книги, изданной Обществом к его 50-летию одним из казначеев-библиотекарей Общества В. П. Анниным («Указатель докладов и сообщений, сделанных в Обществе Морских Врачей в Кронштадте с 7 февраля 1859 по 7 апреля 1908 г. к 50-летию юбилея Общества»), мы узнаём, что за 50 лет в Обществе было сделано 1084 доклада (в среднем по 18 докладов за одно заседание…), среди которых есть шесть докладов Старокадомского, в том числе доклад «О состоянии библиотеки Кронштадтского морского госпиталя и Общества Морских Врачей» (1907 г.) и другие. В библиотеке кронштадтского ВМГ наряду с 30124 диссертациями, защищёнными за период с 1859 по 1914 г. (в основном в Медико-хирургической академии, позже переименованной в ВМА) хранится и диссертация Л.М.Старокадомского, посвящённая экспериментальному атеросклерозу.
На сайте газеты «Санкт-Петербургские ведомости» за 25 апреля 2017 г. в рубрике «Наследие» опубликована статья «Л.М.Старокодамский».
https://spbvedomosti.ru/news/nasledie/l_m_starokadomskiy/
Автор статьи Леонид Леусенко, 8-й класс
(Вторая гимназия, СПб).
Работа Леонида Леусенко тронула сердце составителя. Мечта о том, что наш альманах «ПОРТЫ МИРА» должен стать «и для юношества тоже» обернулась тем, что «юношество» нам, взрослым, сделало весьма достойный взнос в альманах.

Леонид Михайлович Старокадомский — русский врач полярный исследователь
Работа Леонида с авторским названием «Леонид Михайлович Старокадомский, выпускник Второй Санкт-Петербургской гимназии, участник «Экспедиции века» приводится здесь с разрешения автора и его родителей. Работа была задумана Леонидом Лаусенко по впечатлениям от документального фильма Владимира Непевного «ГЭСЛО. «Исчезнувшая» экспедиция» (2015 г., «Севзапкино» при поддержке Министерства культуры РФ) в кинотеатре «Родина».
«ГЭСЛО» — Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана (1910—1915 гг.) совершила последнее на нашей планете великое географическое открытие — открыла Северную Землю, тем самым увеличив территорию России на 36 700 кв. км, и первая прошла Северным морским путем с востока на запад, из Владивостока в Архангельск, перезимовав у мыса Челюскина. Руаль Амундсен в 1914 году писал: «…В мирное время эта экспедиция возбудила бы восхищение всего цивилизованного мира». Однако это событие не получило в свое время достойной оценки из-за начавшейся Первой мировой войны, революции и Гражданской войны в России.
На пути воссоздания биографии и деятельности Леонида Михайловича Старокадомского, его участия в Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана в 1910—1915 гг. Леонидом Леусенко проделана большая изыскательская работа — найдены и привлечены до настоящего времени разрозненные сведения из ряда источников:
— книга И.Д.Смилевца «Дороги к неизвестным островам» (Мемориальный музей Второй Гимназии) — информация о семье Старокадомского;
— Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга — информация о годах учебы Л.М.Старокадомского в гимназии, о его успеваемости, прошение его отца о приеме в гимназию; адрес проживания семьи Старокадомских в Петербурге, фотографии;
— Российский государственный архив Военно-Морского Флота (РГА ВМФ) — документы о военной службе и учёбе в Медико-хирургической академии;
— Научный архив Русского географического общества — о членстве в Русском географическом обществе и год поступления его в РГО, в том числе заслуги;
— книга Н.И.Евгенова, В.Н.Купецкого «Экспедиция века» и книги Л.М.Старокадомского «Пять плаваний в Северном Ледовитом океане», — маршрут ГЭСЛО;
— книга И.Д.Смилевца «Дороги к неизвестным островам», а также в архивах — сведения о петербургских адресах, связанных со Старокадомским, в том числе и ранее неизвестный адрес: Казанская улица, д. 20, кв. 10, указанный в прошении отца Леонида Старокадомского о приеме сына в гимназию;
— сайт www.citywalls.ru (архитектура Петербурга) — первоначальная информация о находящихся по этим адресам домах;
— Большая топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга, книга «Памятники истории и культуры Санкт-Петербурга, состоящие под государственной охраной», книга В.И.Аксельрода, А.В.Гусевой «Вокруг Финляндского вокзала», «Путеводитель по Выборгской стороне», — уточнения адресов проживания Л.М.Старокадомского;
— статьи В.И.Боярского «Северный морской путь — летопись географических открытий в Арктике. История изучения и освоения Арктики — от прошлого к будущему» и С.А.Лукьянова «Северный морской путь: проблемы и перспективы» — об истории освоения и сегодняшнем состоянии Северного морского пути.
Глава I. Основные этапы жизни и деятельности Л. М. Старокадомского
1.1. О семье и учебе Л. М. Старокадомского во Второй Санкт-Петербургской Гимназии
Леонид Михайлович Старокадомский родился 8 апреля (27 марта) 1875 года в городе Саратове. В Нерукотворно-Спасской (Сергиевской) церкви города в записи отец новорожденного значится как личный дворянин (дворянское звание, которым лицо пользовалось пожизненно, не передавая своему потомству).
Фамилия Кадомский восходит к названию города Кадом Рязанской губернии. В XV веке Старый Кадом был покинут жителями вследствие разрушительных разливов реки Мокши.
Михаил Алексеевич Старокадомский был сыном священнослужителя. По окончании Тамбовской Духовной семинарии поступил на службу в Саратовскую Губернскую Посредническую комиссию, в 1878 году стал Губернским секретарем. В «Табели о рангах» от 24 января 1722 этот чин упоминается как гражданский чин 11 класса. В 1879 году Саратовскую Губернскую Посредническую комиссию закрыли и всех служащих вывели за штат.
Мать Леонида Михайловича Старокадомского, Ольга Федоровна, была дочерью князя Кугушева. В семье Старокадомских было четверо детей. Родители Леонида Старокадомского переехали из Саратова в Санкт-Петербург примерно в 1883 году.
Леонид Михайлович поступил на учебу во Вторую Санкт-Петербургскую гимназию в 1884 году. Прошение от 21 июля 1884 года Михаила Алексеевича Старокадомского, который указывает себя в качестве «отставного коллежского секретаря», о зачислении своего сына Леонида Старокадомского в гимназию в качестве приходящего ученика. В этом прошении указано, что он приготовлялся к поступлению и обучался дома.
Воспитанники Второй Санкт-Петербургской гимназии делились на пансионеров, полупансионеров и приходящих, а также на своекоштных и казенных. Своекоштные и казенные пансионеры жили совершенно отдельно, на разных половинах. Встречались только в классах и во время обеда. Казенные пансионеры резко отличались от своекоштных и в одежде — их одевали хуже и в поведении.
Своекоштные ученики — это ученики, находящиеся на собственном содержании, не пользующиеся казенным коштом.
В Общем списке учеников Второй Санкт-Петербургской гимназии за 1886 год, находящемся в Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга (далее — ЦГИА), указаны следующие категории пансионеров гимназии: пансионеры Государя Императора, пансионеры Святого Митрополита Сестренцевича-Богуша, пансионеры Статс-Секретариата Великого княжества Финляндского, пансионеры Ведомства Учреждений императрицы Марии, пансионеры Кабинета Его Императорского Величества.
В общем списке учеников Второй Санкт-петербургской гимназии в качестве приходящего ученика с августа 1884 года числится воспитанник Леонид Старокадомский. Ему тогда было 9 лет. Также он указан в общем списке учеников Второй Санкт-Петербургский гимназии на 1886 год под №147 в числе приходящих и своекоштных учеников. Таким образом, Леонид Стракадомский в гимназии не жил, приходил только на уроки. Следует отметить, что в вышеуказанном Общем списке учеников содержится запись о том, что от оплаты за обучение Леонид Старокадомский освобожден, при том, что для остальных учеников плата установлена в размере около 30 рублей.
В Общем списке учеников Второй Санкт-Петербургской гимназии на 1887 год в числе приходящих учеников подготовительного класса указан Старокадомский Вячеслав, по-видимому, брат Леонида Михайловича.
Согласно Уставам учебных заведений от 19 ноября 1864 года и от 30 июля 1871 года в России существовали два типа гимназий — классические и реальные. Выпускники реальных школ не могли стать студентами университета. Вторая Санкт-Петербургская гимназия существовала как классическая, в ней преподавались следующие предметы: Закон Божий, русский язык с церковнославянским и словесность, латынь и греческий, математика, физика и космография, история, география, естественная история, немецкий и французский языки, чистописание, рисование и черчение. Необязательными предметами оставались гимнастика, пение, музыка и танцы.
В приготовительные классы, которые теперь должны были быть при каждой гимназии, принимались мальчики от 8 до 10 лет, знавшие «первоначальные молитвы» и умевшие читать и писать по-русски, а также считать до тысячи, складывать и вычитать. В первый класс гимназии можно было поступать в возрасте 10—13 лет, во второй — 11—14, в третий — 12—15 и в четвертый 13—16 лет. Чтобы быть зачисленным в гимназию, будущий первоклассник должен был знать основные молитвы; уметь хорошо читать и иметь некоторый навык в письме; знать два-три стихотворения; желательно уметь читать и списывать с книги немецкие и французские тексты; знать нумерацию до 10000, таблицу умножения, уметь решать в уме задачи на сложение и вычитание двухзначных чисел и письменно в пределах 10000.
Во Вторую гимназию принимались преимущественно дети дворян и чиновников. В 1887 году министром просвещения России был издан доклад «О сокращении гимназического образования», более известный как «Циркуляр о кухаркиных детях» (хотя кухарки там и не упоминались). Министр рекомендовал директорам гимназий и прогимназий при приеме детей в учебные заведения создать условия, чтобы освободить их от поступления «в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих, за исключением разве одаренных гениальными способностями, вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию». Идея состояла в том, чтобы ограничить возможность представителей «неблагородных» слоев населения перемещаться в разночинцы и студенты, которые рассматривались как основная движущая сила революционного движения.
В 1868 году педсовет гимназии выработал «Инструкцию о взысканиях». Проступки учеников делились на две категории: против гимназических правил и являющиеся «следствием испорченной воли и нравственности». Первые считались не слишком тяжкими, к ним относились: опоздания, пропуск уроков, несоблюдение формы и т. п.
А вторые, по мнению преподавателей, требовали серьезных исправительных мер. Это «сопротивление приказаниям, неуважение и оскорбление, нанесение кому-либо вреда, обман, подлог, неуважение к церкви и религии».
В соответствии с Инструкцией взыскания во Второй Санкт-Петербургской гимназии применялись следующие: выговор, внесение проступка в недельное свидетельство, отделение виновного от товарищей, задержание после уроков под надзором дежурного воспитателя на 1 час, заключение в карцер, приглашение в гимназию в праздничные дни на три часа с помещением
в отдельный класс.
Леонид Старокадомский окончил гимназию в 1894 году. В Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга в деле «Об испытаниях зрелости» найдена следующая характеристика на Леонида Старокадомского: «Способный, трудолюбивый юноша, благодаря этим качествам, он достигал удовлетворительных результатов, хотя нужда заставляла его заниматься частными уроками, поглощавшими значительную часть свободного времени. Во все время пребывания своего в Гимназии был отличного поведения. В политическом отношении благонадежен.».
В Списке учеников Гимназии подвергшихся испытаниям зрелости в 1894 году указаны следующие оценки Леонида Старокадомского по предметам: Закон Божий — 5, Русский язык и словесность — 3, Логика — 3, Латинский язык — 3, Греческий язык — 3, Математика — 3, Физика — 3, История — 3, География — 3, Французский язык — 5. Средний бал — 3 и 4/10.
В Аттестате зрелости Л. М. Старокадомского содержится запись о том, что поведение его за 10 лет учебы в Гимназии было отличное, «прилежание постоянное, любознательности особой к какому-либо предмету не обнаружено».
В письме директора Гимназии на имя Попечителя Санкт-Петербургского учебного округа указано, что Леонид Старокадомский изъявил желание поступать в Военно-медицинскую академию. Директором Гимназии во время его учебы в Гимназии был Капитон Иванович Смирнов, тайный советник и кавалер нескольких орденов.
1.2. Учеба в Императорской Военно-медицинской академии
1 июня 1894 года Леонид Старокадомский подал прошение о зачислении его в Военно-медицинскую академию. Военно-медицинская академия — старейшая среди военных и медицинских высших учебных заведений нашей страны.
18 (29) декабря 1798 года Павел I подписал Указ о строительстве особого здания для врачебного училища и учебных театров. На основании данного указа официальное существование Военно-медицинской академии считается с 1798 года.
С 1881 года академия именуется Военно-медицинской. В 1808 году императором Александром I академия возведена в ранг «первых учебных заведений Империи»: она получила права Академии наук, ей разрешено избирать своих академиков и она стала именоваться Императорской.
Необходимый для поступления в Академию образовательный ценз соответствовал курсу средних учебных заведений и семинарий. Поступающие держали проверочное испытание по математике, физике, русскому и латыни. При чем, окончившие гимназию представляли лишь гимназический аттестат, поэтому проверка проводилась лишь в отношении тех, кто не имел никаких аттестатов. Обучающиеся в Академии распределялись на трех отделениях — медицинском, ветеринарном и фармацевтическом и подразделялись на студентов и вольнослушателей. Общее число студентов на первом курсе доходило до 300, а на последнем падало до 100 с лишним. Все учащиеся разделялись на несколько разрядов. Казенные или казеннокоштные жили в академическом здании в номерах, по четыре в каждой комнате. Они получали стол, одежду и книги из казны. Некоторые имели возможность платить за свое обучение и содержание, они тоже жили в казенном здании и назывались пансионерами. Несколько человек получали стипендии различных ведомств и частных лиц и официально носили название стипендиатов. С 1 сентября 1861 года общежитие было закрыто, и находившиеся там студенты перешли на частные квартиры. С этого времени казеннокоштные студенты получали в год 200 рублей, с 1863 года — 300 рублей. Число студентов, получивших звание стипендиатов, сократилось до 50.
В книге Г. Н. Скориченко «Императорская Военно-медицинская академия» (исторический очерк) сказано следующее: «Так как студенты считаются состоящими на государственной службе, то они свидетельствуют в способности к военно-медицинской службе, а затем приносят присягу; время, проведенное в академии, зачисляется в сроки выслуги по службе. Учащиеся находятся в ближайшем ведении штаб-офицеров и их помощников. По окончании курса лекари определяются на службу на срок, по расчету полутора лет за год пользования правами студента».
К числу стипендиатов относился и Леонид Михайлович Старокадомский, который получал стипендию от военного ведомства с 1894 по 1899 год и обязан был отслужить определенный срок на военной службе.
В Российском государственном архиве Военно-морского флота найден Послужной список младшего врача 12 флотского экипажа лекаря Старокадомского, составленный 28 августа 1903 года, из которого следует, что за пользование в Академии стипендией военного ведомства Старокадомский был обязан прослужить четыре года и десять с половиной месяцев в военном ведомстве.
Большинство студентов бедствовало и немало лишений выносил студент, прежде чем заканчивал Академию. Поэтому до конца обучения добиралась едва одна треть поступивших на первый курс.
Занятия в академии шли весь день. Лекции продолжались от 8 до 3 часов дня. С 4 или с 5 часов проходили практические занятия в лабораториях, кабинетах и клиниках. Студентов Академии различали по форме, введенной еще при Николае I. У студентов медицины и фармацеи она была из сукна зеленого цвета, а у ветеринарного — синего.
В 1899 году Леонид Старокадомский получил в Императорской военно-медицинской академии диплом «лекаря с отличием». Выпускникам академии вручали знак для врачей, имеющих степень лекаря, утвержденный 15 февраля 1897 года. Знак этот носили военные врачи, окончившие не Академию, а медицинские факультеты университета. Знак золотой, представляет собой двуглавого орла, обвитого снизу полувенком. Внизу знака — гиппократова чаша и ползущие к ней две змеи. Чаша и змеи покрыты голубой эмалью. Этот знак носили на левой стороне груди.
1.3. Служба
Из Послужного списка младшего врача 12 флотского экипажа лекаря Старокадомского, составленного 28 августа 1903 года, находящегося в Российском государственном архиве Военно-морского флота, удалось узнать, что в 1899 году Старокадомский высочайшим приказом по военному ведомству и чинах гражданских за №50 определен на службу в 7-ой Ревельский пехотный полк младшим врачом.
В этот период Леонид Михайлович Старокадомский уже был женат на Анне Элизе Ивановне Госсъ, домашней учительнице, евангелическо-лютеранского вероисповедания. В браке у них было двое детей — Екатерина (1898 года рождения) и Михаил (1901 года рождения).
В апреле 1900 года прикомандирован для несения службы в Брест-Литовский госпиталь. 1903 года высочайшим приказом по Морскому ведомству и чинам гражданским переведен в морское ведомство и откомандирован в Кронштадтский морской госпиталь. В апреле 1903 года в госпитале с Леонидом Старокадомским произошел роковой случай. Когда понадобилось в полевых условиях вскрывать тело умершего солдата, молодой врач произвел операцию, но трупный яд попал в ранку на его левой руке. Чтобы сохранить жизнь Старокадомскому ампутировали руку по локоть. Старокадомскому было тогда 28 лет. Казалось, с практической медициной было покончено.
Но Леонид Михайлович разработал специальные манипуляции, чтобы оперировать одной рукой и молодой доктор остался на флоте. После подписания Портсмутского мирного договора 23.08.1905 из Японии на Родину возвращались русские военнопленные. Старокадомский участвовал в медицинской комиссии по их освидетельствованию.
В 1909 году Л. М. Старокадомский защитил докторскую диссертацию на тему «К вопросу об экспериментальном артериосклерозе», ему присуждено звание профессора.
В 1910—1915 годах участвовал в качестве старшего врача в Гидрографической экспедиции в Северный Ледовитый океан на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач», возглавлявшийся Б. А. Вилькицким. Был назначен судовым врачом на ледокол «Таймыр».
В период первой мировой войны Л. М. Старокадомский — младший, затем старший врач 1-го Балтийского флотского экипажа; с 1916 года — заведующий санитарной частью управления постройки Мурманской железной дороги и морских баз.
В период гражданской войны, в 1918—1920 годах был санитарным инспектором Архангельского военно-морского порта, в 1921 году — главным санитарным инспектором Рабоче-Крестьянского Красного флота.
С 1922 года — начальник морского санитарного отдела.
В Архиве Русского географического общества обнаружена Анкета переучета членов Государственного географического общества, заполненная собственноручно Леонидом Михайловичем Старокадомским, в которой указано: «в 1930 году плавал в Северном ледовитом море на пароходе „Персей“ в составе комиссии по изучению действия термита на морской лед; в 1932—1933 годах состоял начальником санитарной части Северной Полярной экспедиции Наркомвода; в 1934 году состоял старшим врачом экспедиции дирижаблестроения по оказанию помощи группе Шмидта О. Ю., а затем старшим врачом зимующих судов 2-й Колымской экспедиции Наркомвода……. В 1925 году избран в действительные члены Поялрной комиссии Академиии наук СССР».
С 1936 года работал в Центральной научно-исследовательской лаборатории гигиены и санитарии водного транспорта Минздрава СССР.
Скончался Л. М. Старокадомский 27 января 1962 года в возрасте 87 лет, похоронен на Введенском кладбище в Москве рядом с сыном Михаилом Старокадомским (1901—1954), известным композитором. (Михаил Леонидович Старокадомский автор музыки детской песенки «Мы едем, едем, едем»).
Заслуги Л. М. Старокадомского были отмечены многочисленными наградами.
В Российском государственном архиве Военно-морского флота найден Наградной лист старшего врача Управления строительных работ Морского Министерства в Беломорском и Мурманском районах, коллежского советника Леонида Михайловича Старокадомского, состоящего в чине с февраля 1915 года, он был награжден:
— Орденом Святого Владислава 4 степени, 12.11.1915;
— Орденом Святого Станислава 3 степени в 1906 год;
— Орденом Святой Анны 3 степени в 1912 году;
— Орденом Святого Станислава 2 степени в 1913 году.
Капитаном первого ранга Рощановским и заведующим Гужевой перевозкой Сорока-Кандалакша Шидловским сделаны представления к производству в чин статского советника за отличие во время работ по гужевой перевозке Сорока — Кандалакша зимою 1916, в апреле 1916.
Согласно письма Управления санитарной частью Флота Мосркого Министерства от 30.10.1917 №12203 старший врач Управления базстройки Старокадомский произведен в чин статского советника приказом по Армии и Флоту от 29.09.1917 №661.
За свою научную деятельность Л. М. Старокадомский опубликовал в отечественной литературе около 130 статей, из них более 80 научных работ по морской гигиене и санитарии, гидробиологии полярных морей.
О наградах Л. М. Старокадомского в советское время автор намерен уточнить в дальнейшем.
1.4. Петербургские адреса
Первый адрес Л. М. Старокадомского, который удалось выявить — это Бассейная улица, дом 2. Как известно, эта улица расположена в центральной части Санкт-Петербурга и проходит от Литейного до Греческого проспекта. Улица возникла в первой трети XVIII века и вела к бассейнам, отрытым для подачи воды к фонтанам Летнего сада, отсюда и ее название — Бассейная, которое она носила с 1796 до 1922 года. Современное название улица получила в 1922 году в честь великого русского поэта Николая Алексеевича Некрасова (1821—1878), который жил в этом доме с 1857 по 1877 год и размещались редакции журналов «Современник» и «Отечественные записки». Теперь в этом доме находится мемориальный Музей-квартира Н. А. Некрасова.
Дом на Бассейной ул., 2 (Литейный пр., 36) построен в 1781—1782 годах для П. В. Неклюдова, председателя петербургской палаты гражданского и уголовного суда, затем обер-прокурора Сената. В 1790 году дом приобрел купец Н. Н. Басков, отсюда и название расположенного рядом Баскова переулка. Затем владельцы менялись. С 1864 года владельцем дома стал статский советник и редактор газеты «Голос» Андрей Александрович Краевский (1810—1889).
Фольклорное название дома «Пять Николаев» по числу мемориальных досок на фасаде дома (Николаю Некрасову, Николаю Фигнеру, Николаю Добролюбову, Николаю Чернышевскому, Николаю Пирогову).
Следующий адрес Санкт-Петербурга, связанный с Леонидом Михайловичем Старокадомским, который удалось установить — это Казанская улица, дом 20, квартира 10 (адрес ранее был неизвестен). Именно этот адрес указан в прошении о принятии Леонида Старокадомского во Вторую Санкт-Петербургскую гимназию. В прошлом это был доходный дом. Построен он был в 1800 году в стиле классицизм.
Еще один петербургский адрес, связанный с Л. М. Старокадомским — это Казанская улица, дом 27, — адрес, где располагалась и расположена сейчас Вторая Санкт-Петербургская гимназия, в которой учился Старокадомский (угол Казанской улицы и переулка Гривцова) с 1884 по 1894 год. Только названия улиц были другие: Казанская улица называлась Большой Мещанской, а переулок Гривцова — Демидовым переулком.
Здание старейшей Гимназии Санкт-Петербурга на Казанской улице, дом 27, с фасадом, выполненным по проекту Алоизия Руска и украшенным колонным портиком в стиле ампир, хорошо известно. Гимназия заняла перестроенное здание бывшего губернского управления (ранее дом католического митрополита Богуша — Сестренцевича). Длинное серое здание Гимназии с колоннами было перестроено по проекту архитектора Л. П. Шишко в 1913 году. Здание Гимназии является памятником истории и культуры Санкт-Петербурга, находится под государственной охраной.
После окончания гимназии Леонид Михайлович Старокадомский поступает в Императорскую военно-медицинскую академию, которая располагалась на Нижегородской улице, дом 6 (в настоящее время улица Академика Лебедева, дом 6). Улица Академика Лебедева проходит от Литейного проспекта до Финляндского вокзала. В XVIII — первой половине XIX века ее именовали Морской улицей, так как здесь находился Петербургский морской госпиталь. В 1858 году улица стала Нижегородской. В связи с 75-летием со дня рождения выдающегося советского химика, основоположника промышленного способа получения синтетического каучука, академика Сергея Васильевича Лебедева (1874—1934) Нижегородская улица в октябре 1949 года была переименована в улицу Лебедева. Здесь в доме №10 ученый жил с 1924 по 1934 год.
Здание Военно-медицинской академии было построено по проекту архитектора Антонио Порто, а после его смерти достроено русским архитектором Андреем Никифоровичем Воронихиным в 1798—1809 годах. Постройка здания началась в 1798 году на основании Указа Императора Павла I для размещения Медико-хирургической академии. Император торопил строителей, поэтому приходилось работать очень быстро. Постройку начали зимой. Фундамент клали на мерзлую землю и заливали горячей водой. Однако злые языки обвинили строителей и архитектора воровстве денег, выделенных на строительство. А. Порто,
не жаля смириться с несправедливым обвинением, покончил жизнь самоубийство.
Следующий известный мне адрес Санкт-Петербурга — это город Кронштадт, ул. Восстания, дом 2. По этому адресу располагался Кронштадтский морской госпиталь в настоящее время — Федеральное государственное учреждение здравоохранения «35 военно-морской госпиталь им. Н. А. Семашко», в котором работал врачом Л. М. Старокадомский с 1903 года по 1909 год. Здание госпиталя построено архитектором Эдуардом Христиановичем Анертом в 1833—1840 годах, является памятником архитектуры федерального значения.
Представим себе каким был госпиталь, когда в нем служил Л. М. Старокадомский. Это было каменное здание, состоявшее из трехэтажных корпусов, расположенных в виде буквы «Н». Госпиталь был рассчитан на две тысячи коек. В каждом этаже этих корпусов имелся один центральный коридор, по обе стороны которого расположились палаты. Эти коридоры так высоки и так просторны, что напоминают собою помещения современного метрополитена. В госпитале лечились не только моряки. Долгое время были здесь и женские, и детские отделения, так как в городе других больниц не существовало. Кронштадский госпиталь был последним словом в области госпитального строительства той поры.
Еще один адрес Санкт-Петербурга, связанный с деятельностью Л. М. Старокадомского — это адрес места нахождения Русского географического общества, членом которого является Л. М. Старокадомский. В архиве Русского географического общества обнаружена анкета переучета членов Государственного географического общества за 1932 год, датированная 12 ноября 1934 года, в которой указано, что Л. М. Старокадомский является членом Государственного географического общества с мая 1924 года. Личный адрес Старокадомского указан следующий: Москва, Сытнинский переулок, дом 5/10, кв. 13.
Русское географическое общество располагается по адресу: Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 10. Переулок Гривцова возник в XVIII веке. Первое наименование — Малая Сарская улица, связано с тем, что улица являлась началом дороги в Царское Село. С 1772 года называлась Конный переулок, дано по конным площадкам на Сенной площади (место торговли лошадьми). В 1778 году часть улицы на участке от реки Мойки до канала Грибоедова переименовывается в Демидов переулок, по фамилии владельца домов №1 и 5 коллежского советника А. Г. Демидова. С 16 апреля 1887 года оба переулка были объединены под общим названием Демидов переулок. Современное название переулок Гривцова получил 15 декабря 1952 года, в честь А. И. Гривцова, военного шофера, участника обороны Ленинграда, Героя Советского Союза. Указанное здание РГО, построенное в 1907—1909 годах по проекту архитектора Гавриила Васильевича Барановского, является памятником истории и культуры Санкт-Петербурга. В архиве РГО хранятся научные труды Старокадомского и фотографии, сделанные им во время ГЭСЛО.
Глава II. «Экспедиция века» и Л. М. Старокадомский

2.1. Значение Гидрографической экспедиции в Северный Ледовитый океан (ГЭСЛО) для России в начале XX века
С особой остротой необходимость использования Северного Морского пути возникла в связи с поражением России в Русско-японской войне.
2 апреля 1907 года товарищ морского министра представил Николаю II доклад с обоснованием необходимости продолжения и расширения гидрографических работ на трассе Северного морского пути. Причем, для увеличения вероятности получения положительной резолюции царя составители и докладывавший включили в доклад утверждение о том, что решение проблемы даст « … возможность в каких-либо 9—10 дней перебросить наши боевые силы в Тихий океан». Такая великолепная перспектива царю понравилась и на докладе появилась необходимая резолюция, по которой были отпущены кредиты и вопрос возобновления работ Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана был разрешен.
Л. М. Старокадомский писал: «Северный морской путь — это соединение Атлантического и Тихого океана через северные моря. Вопрос этот тесно связан с изучением сибирского побережья Ледовитого океана, нанесением на карты правильных очертаний береговой линии и определением большого числа глубин моря, так как без этих данных плавание становится чрезвычайно опасным и даже невозможным. Чрезвычайно важно выяснить ….. распределение и движение льдов, морские течения, господствующие ветры и другие атмосферные движения».
В 1908 году Совет Министров России признал необходимым «в возможно скором времени связать устье Лены и Колымы с остальными частями нашего Отечества как для оживления этого обширного района Северной Сибири, отрезанного ныне от центра, так и для противодействия экономическому захвату этого края американцами, ежегодно посылающими туда из Аляски свои шхуны для меновой торговли с прибрежным населением».
О необходимости организации экспедиции пишет и Л. М. Старокадомский: «Особенно тревожным было положение на самом крае русской земли — на Чукотке и Камчатке. Здесь бесконтрольно бесчинствовали иноземные, главным образом, американские торговцы-хищники. Они беспощадно истребляли китов, моржей, котиков, завязывали грабительскую меновую торговлю с чукчами и эскимосами. Не было такой подлости, которую не использовали бы предприимчивые иноземцы, чтобы грабить местное население».
В целях создания проекта экспедиции была организована две комиссия под председательством начальника Гидрографического управления морского ведомства, известного гидрографа А. И. Вилькицкого, который пригласил участвовать в организации проекта экспедиции А. В. Колчака.
Об особенностях мореплавания по Северным морским морям имелось смутное представление. Ни на севере и на северо-востоке не было портов, радиоточек, маяков. О картах и лоциях только мечтали. Северный морской путь был в полной мере «Mare incognitum».

Для Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана предусматривалась постройка специальных гидрографических ледокольных судов, получивших в дальнейшем названия «Таймыр» и «Вайгач». Ледоколы были построены на Невском судостроительном заводе. «Таймыр» был спущен на воду 25.05.1909, а «Вайгач» 24.05.1909.
Наблюдающими за постройкой судов были назначены капитан 2-го ранга Ф.А.Матисен и капитан-лейтенант А. В. Колчак.
Отличительной чертой ГЭСЛО было то, что исследования не замыкались на чисто гидрографических работах (описания берегов, промерах), астрономических и гидрометеорологических наблюдениях. Экспедиция и не оставила без внимания другие разделы естественных наук — гидрологию, метеорологию, геологию, биологию. А. И. Вилькицкий писал: «Гидрографическое обследование морей имеет своей целью не только составление морских карт данного водного пространства, но и собрание материалов для лоций, которые для плавания являются таким же важным пособий, как и карта. Значительная часть лоций состоит из сведений физико-географического характера о данном районе, а именно: ветры, течения, температура и соленость воды, ее цвет, колебания уровня и другие данные. Исследования последних 15 лет показали, что изучение биологического характера вод имеет также немаловажное значение для гидрографических целей, так как жизнь растительная и животная тесно связана с физическими свойствами воды и поэтому при изучении биологических условий попутно получаются ценные указания для гидрографии.
2.2. Основные сведения о ГЭСЛО
ГЭСЛО осуществлена в 1910—1915 годы. Последовательно было совершено пять плаваний.
1 плавание
(в Беринговом и Чукотском морях в 1910 году):
16 июля 1910 года суда прибыли во Владивосток. 30 августа «Таймыр» и «Вайгач», получив разрешение на выход в море, снялись с якоря, вошли в пролив Лаперуза, к вечеру вышли в Охотское море. 4 сентября легли вдоль берега камчатского полуострова. Первая остановка была в Авачинской бухте на Камчатке, Петропавловск. 6 сентября взяли курс на залив Провидения. Остановились в бухте Эмма. 13 сентября, приняв уголь с транспорта «Аргунь» и пополнив запасы пресной воды, суда вышли из залива Провидения и двинулись к мысу Дежнева, вошли в Ледовитый океан и остановились у небольшого эскимосского селения Уэлен. В 30 км от Уэлена встретился сплоченный лед. 3 октября ледоколы «Вайгач» и «Таймыр» отправились в обратный путь во Владивосток, куда прибыли 3 ноября.
Результаты: экспедиция приобрела опыт плавания в Ледовитом океане. На карту были нанесены несколько ранее неизвестных глубин возле Берингова пролива. Были собраны образцы придонных и планктонных животных.
2 плавание (в Чукотском и Восточно-Сибирском морях в 1911 году):
4 августа «Таймыр и «Вайгач» вышли из порта «Золотой рог» во Владивостоке, прошли Сангарским проливом (в настоящее время …..) между японскими островами Хокайду и Хонсю и легли на курс к Берингову проливу. 14 августа шли вдоль берегов Камчатки. 17 августа подошли к берегам Чукотки. 20 августа вошли в залив Провидения и в бухту Эмма.
3 августа снялись с якоря и пошли к мысу Дежнева. Обогнули мыс Челюскина и стали на якорь на южном берегу мыса Дежнева. 24 августа вошли в Ледовитый океан, стали возле селения Уэлен. К вечеру 26 августа стали на якорь у Колючинской губы. Подошли к мысу Северный (в настоящее время мыс Отто Шмидта) и простояли до 31 августа. Стали на якорь у берега Чаунской губы. 3 сентября подошли к мысу Медвежьему в устье Колымы. 8 сентября корабли повернули обратно во Владивосток
и вошли в бухту Золотой рог 28 октября.
Результаты: берег от Берингова пролива до Колымы был заново нанесен на карту с указанием глубин. Ледокол «Вайгач» первым обогнул остров Врангеля. Установлено в 11 пунктах астрономически определенных навигационных знаков. Работа экспедиции превратила данный район Северного морского пути в навигационно обеспеченный для регулярных рейсов транспортных судов. Коллекции фауны, собранные Старокадомским и Арнгольдом были отосланы в Академию наук.
3 плавание
(в Чукотском, Восточно-Сибирском морях и в море Лаптевых в 1912 году): 13 июня вышли из Владивостока и направились к Курильским островам, в стали на стоянку у устья реки Камчатки у небольшого селения Усть-Камчатск, откуда начинали свое плавание Беринг и Чириков. 1 июля двинулись к мысу Африка, трое суток простояли у мыса Говен и направились к мысу Олюторскому. 15 июля зашли в мыс Провидения, в бухту Эмма. 21 июля вышли в Северный Ледовитый океан, направились к мысу Чукочьему, затем взяли курс на самый восточный из Медвежьих островов — остров Четырехстолбовой. «Таймыр» задержался у острова Большого Ляховского затем пришел в бухту Тикси. 17 августа подошел к мысу Святой Нос между устьями Колымы и Лены. 26 августа — в бухте Тикси. Направился к мысу Челюскин, 9 сентября у берега Таймырского полуострова. 23 октября прибыли во Владивосток.
Результаты: измерено 9600 глубин, определено 11 астрономических и 7 магнитных пунктов. Плавание 1912 года первые проложило морскую дорогу от Берингова пролива к устью Лены, в бухту Тикси.
4 плавание 1913 года:
9 июля покинули Владивосток, вошли в залив Провидения, бухту Эмма, пролив Лаперуза, Охотское море, стоянка в Петропавловске-Камчатском, Анадырьский лиман, Чаунская бухта, остров Котельный и Фаддеевский, на север к островам Новосибирского архипелага, остров Вилькицкого (вновь открытый), остров Беннета, остров Преображения, бухта Марии Прончищевой, мыс Харитона Лаптева, путь к мысу Челюскин, чтобы обогнуть его. В полдень 2 сентября открытие нового острова- Северная Земля, остров Малый Таймыр и острова Старокадомского, 25 ноября возвращение во Владивосток.
Результаты: крупное географическое открытие — неизвестной суши. Которая носит в настоящее время название — «Архипелаг Северная Земля». Также были открыты: остров Вилькицкого, остров Старокадомского, остров Цесаревича Алексея (в настоящее время Малый Таймыр), губа марии Прончищевой, пролив Бориса Вилькицкого.
5 плавание (в 1914—1915 года):
7 июля вышли из Владивостока, Сангарский пролив, Японское море. 20 июля встали на стоянку в Петропавовске-Камачатском, бухта Провидения. 3 августа «Таймыр» направился на Аляску и встали на стоянку в Номе. 9 августа «Таймыр» вошел в устье реки Анадарь, 12 августа направился в Берингов пролив. Миновал Новосибирские острова.
18 сентября 1914 года корабли встали на зимовку у мыса Челюскин. «Таймыр» находился на 76 градусов 40 минут северной широты и 10 градусов 30 минут восточной долготы, «Вайгач» в 16 милях от него. Зимовка продолжалась до середины августа 1915 года.
В полдень 16 сентября 1915 года «Таймыр» подходил к городской пристани Архангельска. 16 октября 1915 года Гидрогафическая экспедиция Северного Ледовитого океана была расформирована по условиям военного времени.
Безусловно, самым важный результат ГЭСЛО состоит в том, что экспедиция подробно обследовала всю трассу северного морского пути с востока на запад и сделала последнее на нашей планете великое географическое открытие- открытие в Северном ледовитом океане архипелага островов, названного впоследствии Северной Землей. Это увеличило территории России на 36 700 квадратных километров и прирастило вокруг этого огромные пространства континентального шельфа, таящего несметные богатства нефтегазовых и других месторождений.
Продвигаясь на север от мыса Челюскин, вблизи края тянувшегося вдоль острова ледяного края, была обнаружена неизвестная часть суши, которая названа была Землей Николая II.
Старокадомский в своей статье «Северный морской путь и вновь открытые земли в Ледовитом океане, опубликованной в «Новом журнале» за 1914 год пишет:
«Само собой напрашивается вопрос, какое же изменение произошло в положении вопроса о Серном морском пути, раз стало известно, что к северу от мыса Челюскин не открытое море, а острова. Несомненно открытие этих островов ухудшает положение вопроса, так как вместо предполагавшегося обширного водного пространства, на котором, да еще и при большой глубине моря, свободно носятся обломки ледяных полей, разламываемых ветрами волнами перед идущим северным морским путем пароходом, оказываются лищь узкие проливы. Пролив между мысом Челюскин и островом Цесаревича Алексея шириной 20—25 морских миль глубок; второй пролив — между этим островом и Землей Николая II, шириной в 25—30 морских миль, не обследовался вовсе. Только этими проливами и может пройти пароход, потому что сама мысль огибать Землю Николая II кажется нелепой, ибо пришлось бы подниматься за 81 градус северной широты — в область вечного полярного льда».
Оценивая результаты этой экспедиции выдающийся норвежский исследователь Х.У.Свердуп заявил:
«Мы имели возможность убедиться, что повсюду, где русская экспедиция считала свои работы законченными, там можно было на них вполне полагаться…. Работа, выполненные обоими ледоколами, поистине заслуживает удивления».
2.3. Участие
Л. М. Старокадомского в ГЭСЛО
Как пишет Старокадомский в своей книге «Пять плаваний в Северный Ледовитый океан» Северный морской путь не пользовался популярностью среди моряков. Этим он объясняет то, что состав матросов на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» подобрался случайный. Этим же он объясняет, что судовым врачом на «Таймыре» предложили стать именно ему, «хотя с военной точки зрения, я не был вполне полноценным работником — у меня ампутирована выше локтя левая рука».
Судовым врачом на ледокол «Таймыр» был назначен Леонид Михайлович Старокадомский.
В первом плавании ГЭСЛО врачи экспедиции Л. М. Старокадомский и судовой врач «Вайгача» Э. Е. Арнгольд при съездах на берег собирали биологические и зоологические коллекции. Согласно письму Старокадомского, написанному в марте 1958 года, им в 1910 году были взяты 84 зоологические береговые и морские станции. Материалы, собранные врачами в плавании 1910 года оказались настолько ценными, что Главное гидрографическое управление получило в мае 1911 года за эти сборы специальную благодарность от имени Российской академии наук.
Во время стоянок ледоколов судовыми врачами Старокадомским и Арнгольдом была собрана интересная коллекция для зоологического музея Академии наук в виде различных представителей фауны. За годы плавания Старокадомским и Арнгольдом собраны обширные коллекции морских и наземных растений, планктона, образцов горных пород. «Всего взято свыше 400 проб планктона, собрано свыше 3000 насекомых, 500 экземпляров птиц и 25 млекопитающих».
Леонидом Михайловичем Сарокадомским открыт остров, названный впоследствии его именем (78 градусов северной широты,106 градусов восточной долготы).
Об открытии острова Старокадомского в архиве ЦГА ВМФ найдено письмо командира эскадронного эсминца «Летунъ» Бориса Вилькицкого его высокородию Леониду Львовичу Рейтфусу от 13 июня 1916 года №388/Э, в котором он пишет, что в числе прочих островов, открытых ГЭ СЛО, есть один, обнаруженным доктором Старокадомским во время его пешеходной экскурсии на остров Цесаревича Алексея в 1913 году. «В том году остров был пунктиром нанесен на карту по указанию доктора, а затем в 1914 году при описи «Вайгачем» южного берега Земли Императора Николая II и западной части острова цесаревича Алексея и этот остров был описан. Среди членов экспедиции он известен как «остров Старокадомского», это название я и предлагаю ему присвоить, рассчитывая в числе прочих мелких названий островов, и представил на утверждение начальнику гидрографического управления одновременно с представлением отчетных карт. Но отчетные карты запоздали. Недостаток средств и людей в связи с расформированием экспедиции не дал мне возможность их закончить зимой, потому я бы был Вам признателен, если бы Вы испросили утверждения начальника Гидрологического управления на наименование острова «островом Старокадомского» и нанести это название на свои карты. Остров лежит в проливе между Землей Императора Николая II и островом цесаревича Алексея.
2.4. Северный морской путь, характеристика и перспективы его развития
Северный морской путь — главная судоходная магистраль России, в Арктике и является основой развития арктической транспортной системы. Северный морской путь проходит по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево море, Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское море, Чукотское море, Берингово море, Охотское море, Японское море) соединяет европейские и дальневосточные порты. Протяженность Северного морского пути составляет 5600 км. Северный морской путь до начала XX века назывался Северо-восточный проход.
Выделяют четыре основных маршрута:
1) Традиционный (прибрежный) — примерно 3 500 миль.
2) Центральный — 3029 миль (от Карских ворот до Берингова пролива — 2512 миль).
3) Высокоширотный (севернее Новой Земли, Северной Земли, Новосибирских островов и острова Врангеля) — 2 890 миль.
4) Околюполюсной — 2 700 миль.
Основные порты Северного морского пути: Дудинка, Диксон, Игарка, Певек, Тикси, бухта Провидения.
Северный морской путь начинается в водах Баренцева моря, а в бухте Провидения заканчивается. Следует отметить, что все моря этой судоходной магистрали отличаются суровым климатом. В середине июля температура воздуха на побережье Баренцева моря не превышает +7° C, а зимой опускается до -20° C. Это море характеризуется частыми штормовыми ветрами. Высота волн достигает 7 метров.
На побережье Карского моря летняя температура воздуха не повышается более +6° C, а зимняя достигает -28° C. В летнее время отмечаются северные ветры, которые, как правило, сопровождаются туманами. Зимой они более сильные и частые, нередко переходящие в ураганы.
Еще более суровым климатом отличается море Лаптевых. В северной части его побережья температура в июле +1° C, зимой она опускается до -34° C. Ветры слабые. Все моря Северного морского пути отличаются небольшими плюсовыми температурами в летнее время. Восточно-Сибирское море характеризуется среднемесячной летней температурой +7° C, а зимней — до -33° C. Моря Северного пути имеют область шельфа, глубины которых — менее двухсот метров. Их дно является подводным продолжением платформенных структур суши. Переходная зона — материковый склон, имеющий глубины от ста восьмидесяти до трех тысяч метров. Характерные особенности этой судоходной магистрали — наличие льдов на всем пути следования транспорта и суровый климат.
В соответствии со статьей 5.1 Кодекса торгового мореплавания под акваторией Северного морского пути понимается водное пространство, прилегающее к северному побережью Российской Федерации, охватывающее внутренние морские воды, территориальное море, прилежащую зону и исключительную экономическую зону Российской Федерации и ограниченное с востока линией разграничения морских пространств с Соединенными Штатами Америки и параллелью мыса Дежнева
в Беринговом проливе, с запада меридианом мыса Желания до архипелага Новая Земля, восточной береговой линией архипелага Новая Земля и западными границами проливов Маточкин Шар, Карские Ворота, Югорский Шар.
Как отмечает профессор В. В. Гаврилов,
«столь широкое определение границ акватории СМП объясняется тем, что этот путь не имеет единой и фиксированной трассы. Сохраняя свою общую направленность, СМП год от года, а нередко и в течение одной навигации перемещается на значительные расстояния в широтном направлении».
Систематическая эксплуатация Северного морского пути началась в 1935 году. В последующие предвоенные годы успешно решалась задача превращения его в нормально действующую водную магистраль, обеспечивающую планомерную связь с Дальним Востоком. Эту задачу выполняли северные пароходства, ледокольный флот, полярная авиация, речной транспорт, арктические порты и полярные станции. В 1935—1940 гг. по Северному морскому пути было провезено 2,5 млн. т грузов — больше, чем за всю историю арктических плаваний!
С началом Великой Отечественной войны в условиях временной утраты наших западных и южных морских коммуникаций стратегическое значение Северного морского пути еще более возросло. Врагу, несмотря на все попытки, так и не удалось блокировать или прервать эту полярную артерию жизни. Действуя в боевых условиях, морской флот Севера в течение войны доставил на фронт и в тыловые районы Арктики 4,2 млн. т военных и хозяйственных грузов, сотни тысяч воинов, эвакуированных и пассажиров.
В послевоенные годы ежегодный грузооборот Северного морского пути увеличился в несколько раз. Арктический флот пополнился мощными дизельными ледоколами, а затем и атомоходами, способными проводить суда через многолетние льды.
Благодаря вводу в строй атомных ледоколов типа «Арктика», навигация по Северному морскому пути была продлена на 2—2,5 месяца, а в западном секторе стала круглогодичной.
Общий объем ежегодных перевозок по Северному морскому пути в 1980 г. приблизился к 5 млн. т, а в 1987г. — в год максимальных перевозок — достиг 6,5 млн. т. Северный морской путь стал главной жизненной артерией Приполярья, неразрывной частью его экономики, культуры, быта.
Как следует из статьи профессора Е. Ножина «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном… (Северный морской путь (состояние, проблемы, перспективы)» ОБОЗРЕВАТЕЛЬ — OBSERVER №1—2 (84—85) 1997, с. 15, после развала СССР состояние Севморпути резко ухудшилось.
Резко упали объемы перевозок, сломаны сложившиеся в течение многих десятилетий деловые и человеческие отношения арктического флота. Разрушалась береговая инфраструктура, обслуживающая Северный морской путь. Положение Гидрографической и гидрометеорологической служб, находящиеся на прямом бюджетном финансировании, было катастрофическим. Прекратились промеры глубин со дна. Из-за отсутствия горючего и нехватки экипажей вертолетов прекратились полеты на ледовую разведку в западном секторе Северного морского пути. Стояли на мертвом приколе ледоколы и полярные суда. За невозможностью дальнейшего их содержания, многие проданы на металлолом. Морские порты на трассе Северного морского пути нуждаются в модернизации, значительная часть причалов требует срочного ремонта и реконструкции.
Россия сегодня продолжает освоение и использование Северного морского пути. Основными пользователями Северного морского пути в России сегодня являются «Норильский никель», «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Росшельф», Красноярский край, Саха — Якутия, Чукотка.
Проанализировав некоторые источники, следует сделать вывод о выгодах использования Северного морского пути для транзитных перевозок:
1. В среднем через Суэцкий канал время доставки грузов составляет сорок восемь дней, а путь через арктические моря занимает тридцать пять дней. Следовательно, ощутимо сокращаются сроки доставки, экономится топливо, и сокращаются транспортные издержки.
2. Отсутствуют очереди и плата за проход судов (в отличие
от Суэцкого канала), имеется только ледокольный сбор.
3. Отсутствие противоправных действий. Сомалийские и другие пираты у берегов Африки совершают нападения на суда.
4. Нет ограничений на размер судов и тоннаж. (Суэцкий канал допускает продвижение судов не более 20,1 м).
Роль Северного морского пути неизбежно возрастет уже в ближайшие годы, в первую очередь в связи с интенсивным освоением Ямальских месторождений энергетического сырья, а также гигантских запасов углеводородов на шельфах Баренцева и Карского морей.
Заключение
В своей работе я изложил результаты изучения биографии и деятельности Леонида Михайловича Старокадомского, его участия в Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана в 1910—1915 годах, значения открытого экспедицией Северного морского пути для России в настоящее время. /…/.

Вступление к работе
Леонида Леусенко
Северный морской путь — возможно, важнейшая морская магистраль нашей страны. Об этом пути мечтали, начиная с М.В.Ломоносова, многие наши выдающиеся деятели. Путь был востребован в Русско-японскую войну 1904—1905 г., в Великую Отечественную войну. Всегда был нужен как кратчайший путь, сокращающий доставку грузов из Европы в Азию на 10 тысяч км и время пути по сравнению с традиционным через Суэцкий канал — в 13 дней. Открытие и добыча углеводородов на шельфах Баренцева и Карского морей заставляют быть основными разработчиками Северного морского пути нефтегазовые компании, «Норильский никель», Красноярский край, Республику Саха (Якутия), Чукотку и др.
Первой экспедицией, совершившей «Сквозной проход» (от Владивостока до Архангельска северным путём), стали участники ГЭСЛО, на ледоколах «Таймыр и Войгач» в 1915 г., о чём имеется книга капитана ледокола «Вайгач» Б. Вилькицкого и участника экспедиции, морского доктора Леонида Михайловича Старокадомского (1951 г.). Книга Старокадомского переиздавалась в 1953 и 1959 гг.
Личность Л. М. Старокадомского — врача, известного полярного исследователя и писателя (его книга «Пять плаваний в Северном Ледовитом океане» — маршрут ГЭСЛО) привлекла нас со времён создания альманаха №1 «Кронштадт…», посвященного деятельности «Общества Морских Врачей в Кронштадте» (1859—1918 гг.), членом которого он был. В альманахе 70 страниц из четырехсот занимают непосредственно доклады врачей, в том числе вернувшихся из «Плавания к Берегам Америки» с девятимесячным участием в «Войне Севера и Юга» на стороне войск Линкольна. Позже нам стало известно, что Леонид Михайлович около пяти лет занимал в те времена почётную должность казначея и библиотекаря Общества. Общество на собранные деньги издавало доклады по весьма широкому кругу вопросов, от медицинских и ветеринарных случаев до докладов о боевых действиях, описаний плаваний на кораблях, и зоологических коллекций. Доклады эти издавались ежегодно в виде книг и рассылались (в обмен) во все подобные Общества Российской империи и в несколько медицинских и физических европейских Обществ. Были годы, когда связь и обмен книгами осуществлялся с пятнадцатью Обществами. Так работал «Интернет» XIX — начала XX века. После 1918 г. работа Общества прервалась и более не возобновлялась. Из книги, изданной Обществом к его 50-летию одним из казначеев-библиотекарей Общества В. П. Анниным («Указатель докладов и сообщений, сделанных в Обществе Морских Врачей в Кронштадте с 7 февраля 1859 по 7 апреля 1908 г. к 50-летию юбилея Общества»), мы узнаём, что за 50 лет в Обществе было сделано 1084 доклада (в среднем по 18 докладов за одно заседание…), среди которых есть шесть докладов Старокадомского, в том числе доклад «О состоянии библиотеки Кронштадтского морского госпиталя и Общества Морских Врачей» (1907 г.) и другие. В библиотеке кронштадтского ВМГ наряду с 30124 диссертациями, защищёнными за период с 1859 по 1914 г. (в основном в Медико-хирургической академии, позже переименованной в ВМА) хранится и диссертация Л.М.Старокадомского, посвящённая экспериментальному атеросклерозу.
На сайте газеты «Санкт-Петербургские ведомости» за 25 апреля 2017 г. в рубрике «Наследие» опубликована статья «Л.М.Старокодамский».
https://spbvedomosti.ru/news/nasledie/l_m_starokadomskiy/
Автор статьи Леонид Леусенко, 8-й класс
(Вторая гимназия, СПб).
Работа Леонида Леусенко тронула сердце составителя. Мечта о том, что наш альманах «ПОРТЫ МИРА» должен стать «и для юношества тоже» обернулась тем, что «юношество» нам, взрослым, сделало весьма достойный взнос в альманах.
Леонид Михайлович Старокадомский — русский врач полярный исследователь
Работа Леонида с авторским названием «Леонид Михайлович Старокадомский, выпускник Второй Санкт-Петербургской гимназии, участник «Экспедиции века» приводится здесь с разрешения автора и его родителей. Работа была задумана Леонидом Лаусенко по впечатлениям от документального фильма Владимира Непевного «ГЭСЛО. «Исчезнувшая» экспедиция» (2015 г., «Севзапкино» при поддержке Министерства культуры РФ) в кинотеатре «Родина».
«ГЭСЛО» — Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана (1910—1915 гг.) совершила последнее на нашей планете великое географическое открытие — открыла Северную Землю, тем самым увеличив территорию России на 36 700 кв. км, и первая прошла Северным морским путем с востока на запад, из Владивостока в Архангельск, перезимовав у мыса Челюскина. Руаль Амундсен в 1914 году писал: «…В мирное время эта экспедиция возбудила бы восхищение всего цивилизованного мира». Однако это событие не получило в свое время достойной оценки из-за начавшейся Первой мировой войны, революции и Гражданской войны в России.
На пути воссоздания биографии и деятельности Леонида Михайловича Старокадомского, его участия в Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана в 1910—1915 гг. Леонидом Леусенко проделана большая изыскательская работа — найдены и привлечены до настоящего времени разрозненные сведения из ряда источников:
— книга И.Д.Смилевца «Дороги к неизвестным островам» (Мемориальный музей Второй Гимназии) — информация о семье Старокадомского;
— Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга — информация о годах учебы Л.М.Старокадомского в гимназии, о его успеваемости, прошение его отца о приеме в гимназию; адрес проживания семьи Старокадомских в Петербурге, фотографии;
— Российский государственный архив Военно-Морского Флота (РГА ВМФ) — документы о военной службе и учёбе в Медико-хирургической академии;
— Научный архив Русского географического общества — о членстве в Русском географическом обществе и год поступления его в РГО, в том числе заслуги;
— книга Н.И.Евгенова, В.Н.Купецкого «Экспедиция века» и книги Л.М.Старокадомского «Пять плаваний в Северном Ледовитом океане», — маршрут ГЭСЛО;
— книга И.Д.Смилевца «Дороги к неизвестным островам», а также в архивах — сведения о петербургских адресах, связанных со Старокадомским, в том числе и ранее неизвестный адрес: Казанская улица, д. 20, кв. 10, указанный в прошении отца Леонида Старокадомского о приеме сына в гимназию;
— сайт www.citywalls.ru (архитектура Петербурга) — первоначальная информация о находящихся по этим адресам домах;
— Большая топонимическая энциклопедия Санкт-Петербурга, книга «Памятники истории и культуры Санкт-Петербурга, состоящие под государственной охраной», книга В.И.Аксельрода, А.В.Гусевой «Вокруг Финляндского вокзала», «Путеводитель по Выборгской стороне», — уточнения адресов проживания Л.М.Старокадомского;
— статьи В.И.Боярского «Северный морской путь — летопись географических открытий в Арктике. История изучения и освоения Арктики — от прошлого к будущему» и С.А.Лукьянова «Северный морской путь: проблемы и перспективы» — об истории освоения и сегодняшнем состоянии Северного морского пути.
Глава I. Основные этапы жизни и деятельности Л. М. Старокадомского
1.1. О семье и учебе Л. М. Старокадомского во Второй Санкт-Петербургской Гимназии
Леонид Михайлович Старокадомский родился 8 апреля (27 марта) 1875 года в городе Саратове. В Нерукотворно-Спасской (Сергиевской) церкви города в записи отец новорожденного значится как личный дворянин (дворянское звание, которым лицо пользовалось пожизненно, не передавая своему потомству).
Фамилия Кадомский восходит к названию города Кадом Рязанской губернии. В XV веке Старый Кадом был покинут жителями вследствие разрушительных разливов реки Мокши.
Михаил Алексеевич Старокадомский был сыном священнослужителя. По окончании Тамбовской Духовной семинарии поступил на службу в Саратовскую Губернскую Посредническую комиссию, в 1878 году стал Губернским секретарем. В «Табели о рангах» от 24 января 1722 этот чин упоминается как гражданский чин 11 класса. В 1879 году Саратовскую Губернскую Посредническую комиссию закрыли и всех служащих вывели за штат.
Мать Леонида Михайловича Старокадомского, Ольга Федоровна, была дочерью князя Кугушева. В семье Старокадомских было четверо детей. Родители Леонида Старокадомского переехали из Саратова в Санкт-Петербург примерно в 1883 году.
Леонид Михайлович поступил на учебу во Вторую Санкт-Петербургскую гимназию в 1884 году. Прошение от 21 июля 1884 года Михаила Алексеевича Старокадомского, который указывает себя в качестве «отставного коллежского секретаря», о зачислении своего сына Леонида Старокадомского в гимназию в качестве приходящего ученика. В этом прошении указано, что он приготовлялся к поступлению и обучался дома.
Воспитанники Второй Санкт-Петербургской гимназии делились на пансионеров, полупансионеров и приходящих, а также на своекоштных и казенных. Своекоштные и казенные пансионеры жили совершенно отдельно, на разных половинах. Встречались только в классах и во время обеда. Казенные пансионеры резко отличались от своекоштных и в одежде — их одевали хуже и в поведении.
Своекоштные ученики — это ученики, находящиеся на собственном содержании, не пользующиеся казенным коштом.
В Общем списке учеников Второй Санкт-Петербургской гимназии за 1886 год, находящемся в Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга (далее — ЦГИА), указаны следующие категории пансионеров гимназии: пансионеры Государя Императора, пансионеры Святого Митрополита Сестренцевича-Богуша, пансионеры Статс-Секретариата Великого княжества Финляндского, пансионеры Ведомства Учреждений императрицы Марии, пансионеры Кабинета Его Императорского Величества.
В общем списке учеников Второй Санкт-петербургской гимназии в качестве приходящего ученика с августа 1884 года числится воспитанник Леонид Старокадомский. Ему тогда было 9 лет. Также он указан в общем списке учеников Второй Санкт-Петербургский гимназии на 1886 год под №147 в числе приходящих и своекоштных учеников. Таким образом, Леонид Стракадомский в гимназии не жил, приходил только на уроки. Следует отметить, что в вышеуказанном Общем списке учеников содержится запись о том, что от оплаты за обучение Леонид Старокадомский освобожден, при том, что для остальных учеников плата установлена в размере около 30 рублей.
В Общем списке учеников Второй Санкт-Петербургской гимназии на 1887 год в числе приходящих учеников подготовительного класса указан Старокадомский Вячеслав, по-видимому, брат Леонида Михайловича.
Согласно Уставам учебных заведений от 19 ноября 1864 года и от 30 июля 1871 года в России существовали два типа гимназий — классические и реальные. Выпускники реальных школ не могли стать студентами университета. Вторая Санкт-Петербургская гимназия существовала как классическая, в ней преподавались следующие предметы: Закон Божий, русский язык с церковнославянским и словесность, латынь и греческий, математика, физика и космография, история, география, естественная история, немецкий и французский языки, чистописание, рисование и черчение. Необязательными предметами оставались гимнастика, пение, музыка и танцы.
В приготовительные классы, которые теперь должны были быть при каждой гимназии, принимались мальчики от 8 до 10 лет, знавшие «первоначальные молитвы» и умевшие читать и писать по-русски, а также считать до тысячи, складывать и вычитать. В первый класс гимназии можно было поступать в возрасте 10—13 лет, во второй — 11—14, в третий — 12—15 и в четвертый 13—16 лет. Чтобы быть зачисленным в гимназию, будущий первоклассник должен был знать основные молитвы; уметь хорошо читать и иметь некоторый навык в письме; знать два-три стихотворения; желательно уметь читать и списывать с книги немецкие и французские тексты; знать нумерацию до 10000, таблицу умножения, уметь решать в уме задачи на сложение и вычитание двухзначных чисел и письменно в пределах 10000.
Во Вторую гимназию принимались преимущественно дети дворян и чиновников. В 1887 году министром просвещения России был издан доклад «О сокращении гимназического образования», более известный как «Циркуляр о кухаркиных детях» (хотя кухарки там и не упоминались). Министр рекомендовал директорам гимназий и прогимназий при приеме детей в учебные заведения создать условия, чтобы освободить их от поступления «в них детей кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей, детям коих, за исключением разве одаренных гениальными способностями, вовсе не следует стремиться к среднему и высшему образованию». Идея состояла в том, чтобы ограничить возможность представителей «неблагородных» слоев населения перемещаться в разночинцы и студенты, которые рассматривались как основная движущая сила революционного движения.
В 1868 году педсовет гимназии выработал «Инструкцию о взысканиях». Проступки учеников делились на две категории: против гимназических правил и являющиеся «следствием испорченной воли и нравственности». Первые считались не слишком тяжкими, к ним относились: опоздания, пропуск уроков, несоблюдение формы и т. п.
А вторые, по мнению преподавателей, требовали серьезных исправительных мер. Это «сопротивление приказаниям, неуважение и оскорбление, нанесение кому-либо вреда, обман, подлог, неуважение к церкви и религии».
В соответствии с Инструкцией взыскания во Второй Санкт-Петербургской гимназии применялись следующие: выговор, внесение проступка в недельное свидетельство, отделение виновного от товарищей, задержание после уроков под надзором дежурного воспитателя на 1 час, заключение в карцер, приглашение в гимназию в праздничные дни на три часа с помещением
в отдельный класс.
Леонид Старокадомский окончил гимназию в 1894 году. В Центральном государственном историческом архиве Санкт-Петербурга в деле «Об испытаниях зрелости» найдена следующая характеристика на Леонида Старокадомского: «Способный, трудолюбивый юноша, благодаря этим качествам, он достигал удовлетворительных результатов, хотя нужда заставляла его заниматься частными уроками, поглощавшими значительную часть свободного времени. Во все время пребывания своего в Гимназии был отличного поведения. В политическом отношении благонадежен.».
В Списке учеников Гимназии подвергшихся испытаниям зрелости в 1894 году указаны следующие оценки Леонида Старокадомского по предметам: Закон Божий — 5, Русский язык и словесность — 3, Логика — 3, Латинский язык — 3, Греческий язык — 3, Математика — 3, Физика — 3, История — 3, География — 3, Французский язык — 5. Средний бал — 3 и 4/10.
В Аттестате зрелости Л. М. Старокадомского содержится запись о том, что поведение его за 10 лет учебы в Гимназии было отличное, «прилежание постоянное, любознательности особой к какому-либо предмету не обнаружено».
В письме директора Гимназии на имя Попечителя Санкт-Петербургского учебного округа указано, что Леонид Старокадомский изъявил желание поступать в Военно-медицинскую академию. Директором Гимназии во время его учебы в Гимназии был Капитон Иванович Смирнов, тайный советник и кавалер нескольких орденов.
1.2. Учеба в Императорской Военно-медицинской академии
1 июня 1894 года Леонид Старокадомский подал прошение о зачислении его в Военно-медицинскую академию. Военно-медицинская академия — старейшая среди военных и медицинских высших учебных заведений нашей страны.
18 (29) декабря 1798 года Павел I подписал Указ о строительстве особого здания для врачебного училища и учебных театров. На основании данного указа официальное существование Военно-медицинской академии считается с 1798 года.
С 1881 года академия именуется Военно-медицинской. В 1808 году императором Александром I академия возведена в ранг «первых учебных заведений Империи»: она получила права Академии наук, ей разрешено избирать своих академиков и она стала именоваться Императорской.
Необходимый для поступления в Академию образовательный ценз соответствовал курсу средних учебных заведений и семинарий. Поступающие держали проверочное испытание по математике, физике, русскому и латыни. При чем, окончившие гимназию представляли лишь гимназический аттестат, поэтому проверка проводилась лишь в отношении тех, кто не имел никаких аттестатов. Обучающиеся в Академии распределялись на трех отделениях — медицинском, ветеринарном и фармацевтическом и подразделялись на студентов и вольнослушателей. Общее число студентов на первом курсе доходило до 300, а на последнем падало до 100 с лишним. Все учащиеся разделялись на несколько разрядов. Казенные или казеннокоштные жили в академическом здании в номерах, по четыре в каждой комнате. Они получали стол, одежду и книги из казны. Некоторые имели возможность платить за свое обучение и содержание, они тоже жили в казенном здании и назывались пансионерами. Несколько человек получали стипендии различных ведомств и частных лиц и официально носили название стипендиатов. С 1 сентября 1861 года общежитие было закрыто, и находившиеся там студенты перешли на частные квартиры. С этого времени казеннокоштные студенты получали в год 200 рублей, с 1863 года — 300 рублей. Число студентов, получивших звание стипендиатов, сократилось до 50.
В книге Г. Н. Скориченко «Императорская Военно-медицинская академия» (исторический очерк) сказано следующее: «Так как студенты считаются состоящими на государственной службе, то они свидетельствуют в способности к военно-медицинской службе, а затем приносят присягу; время, проведенное в академии, зачисляется в сроки выслуги по службе. Учащиеся находятся в ближайшем ведении штаб-офицеров и их помощников. По окончании курса лекари определяются на службу на срок, по расчету полутора лет за год пользования правами студента».
К числу стипендиатов относился и Леонид Михайлович Старокадомский, который получал стипендию от военного ведомства с 1894 по 1899 год и обязан был отслужить определенный срок на военной службе.
В Российском государственном архиве Военно-морского флота найден Послужной список младшего врача 12 флотского экипажа лекаря Старокадомского, составленный 28 августа 1903 года, из которого следует, что за пользование в Академии стипендией военного ведомства Старокадомский был обязан прослужить четыре года и десять с половиной месяцев в военном ведомстве.
Большинство студентов бедствовало и немало лишений выносил студент, прежде чем заканчивал Академию. Поэтому до конца обучения добиралась едва одна треть поступивших на первый курс.
Занятия в академии шли весь день. Лекции продолжались от 8 до 3 часов дня. С 4 или с 5 часов проходили практические занятия в лабораториях, кабинетах и клиниках. Студентов Академии различали по форме, введенной еще при Николае I. У студентов медицины и фармацеи она была из сукна зеленого цвета, а у ветеринарного — синего.
В 1899 году Леонид Старокадомский получил в Императорской военно-медицинской академии диплом «лекаря с отличием». Выпускникам академии вручали знак для врачей, имеющих степень лекаря, утвержденный 15 февраля 1897 года. Знак этот носили военные врачи, окончившие не Академию, а медицинские факультеты университета. Знак золотой, представляет собой двуглавого орла, обвитого снизу полувенком. Внизу знака — гиппократова чаша и ползущие к ней две змеи. Чаша и змеи покрыты голубой эмалью. Этот знак носили на левой стороне груди.
1.3. Служба
Из Послужного списка младшего врача 12 флотского экипажа лекаря Старокадомского, составленного 28 августа 1903 года, находящегося в Российском государственном архиве Военно-морского флота, удалось узнать, что в 1899 году Старокадомский высочайшим приказом по военному ведомству и чинах гражданских за №50 определен на службу в 7-ой Ревельский пехотный полк младшим врачом.
В этот период Леонид Михайлович Старокадомский уже был женат на Анне Элизе Ивановне Госсъ, домашней учительнице, евангелическо-лютеранского вероисповедания. В браке у них было двое детей — Екатерина (1898 года рождения) и Михаил (1901 года рождения).
В апреле 1900 года прикомандирован для несения службы в Брест-Литовский госпиталь. 1903 года высочайшим приказом по Морскому ведомству и чинам гражданским переведен в морское ведомство и откомандирован в Кронштадтский морской госпиталь. В апреле 1903 года в госпитале с Леонидом Старокадомским произошел роковой случай. Когда понадобилось в полевых условиях вскрывать тело умершего солдата, молодой врач произвел операцию, но трупный яд попал в ранку на его левой руке. Чтобы сохранить жизнь Старокадомскому ампутировали руку по локоть. Старокадомскому было тогда 28 лет. Казалось, с практической медициной было покончено.
Но Леонид Михайлович разработал специальные манипуляции, чтобы оперировать одной рукой и молодой доктор остался на флоте. После подписания Портсмутского мирного договора 23.08.1905 из Японии на Родину возвращались русские военнопленные. Старокадомский участвовал в медицинской комиссии по их освидетельствованию.
В 1909 году Л. М. Старокадомский защитил докторскую диссертацию на тему «К вопросу об экспериментальном артериосклерозе», ему присуждено звание профессора.
В 1910—1915 годах участвовал в качестве старшего врача в Гидрографической экспедиции в Северный Ледовитый океан на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач», возглавлявшийся Б. А. Вилькицким. Был назначен судовым врачом на ледокол «Таймыр».
В период первой мировой войны Л. М. Старокадомский — младший, затем старший врач 1-го Балтийского флотского экипажа; с 1916 года — заведующий санитарной частью управления постройки Мурманской железной дороги и морских баз.
В период гражданской войны, в 1918—1920 годах был санитарным инспектором Архангельского военно-морского порта, в 1921 году — главным санитарным инспектором Рабоче-Крестьянского Красного флота.
С 1922 года — начальник морского санитарного отдела.
В Архиве Русского географического общества обнаружена Анкета переучета членов Государственного географического общества, заполненная собственноручно Леонидом Михайловичем Старокадомским, в которой указано: «в 1930 году плавал в Северном ледовитом море на пароходе „Персей“ в составе комиссии по изучению действия термита на морской лед; в 1932—1933 годах состоял начальником санитарной части Северной Полярной экспедиции Наркомвода; в 1934 году состоял старшим врачом экспедиции дирижаблестроения по оказанию помощи группе Шмидта О. Ю., а затем старшим врачом зимующих судов 2-й Колымской экспедиции Наркомвода……. В 1925 году избран в действительные члены Поялрной комиссии Академиии наук СССР».
С 1936 года работал в Центральной научно-исследовательской лаборатории гигиены и санитарии водного транспорта Минздрава СССР.
Скончался Л. М. Старокадомский 27 января 1962 года в возрасте 87 лет, похоронен на Введенском кладбище в Москве рядом с сыном Михаилом Старокадомским (1901—1954), известным композитором. (Михаил Леонидович Старокадомский автор музыки детской песенки «Мы едем, едем, едем»).
Заслуги Л. М. Старокадомского были отмечены многочисленными наградами.
В Российском государственном архиве Военно-морского флота найден Наградной лист старшего врача Управления строительных работ Морского Министерства в Беломорском и Мурманском районах, коллежского советника Леонида Михайловича Старокадомского, состоящего в чине с февраля 1915 года, он был награжден:
— Орденом Святого Владислава 4 степени, 12.11.1915;
— Орденом Святого Станислава 3 степени в 1906 год;
— Орденом Святой Анны 3 степени в 1912 году;
— Орденом Святого Станислава 2 степени в 1913 году.
Капитаном первого ранга Рощановским и заведующим Гужевой перевозкой Сорока-Кандалакша Шидловским сделаны представления к производству в чин статского советника за отличие во время работ по гужевой перевозке Сорока — Кандалакша зимою 1916, в апреле 1916.
Согласно письма Управления санитарной частью Флота Мосркого Министерства от 30.10.1917 №12203 старший врач Управления базстройки Старокадомский произведен в чин статского советника приказом по Армии и Флоту от 29.09.1917 №661.
За свою научную деятельность Л. М. Старокадомский опубликовал в отечественной литературе около 130 статей, из них более 80 научных работ по морской гигиене и санитарии, гидробиологии полярных морей.
О наградах Л. М. Старокадомского в советское время автор намерен уточнить в дальнейшем.
1.4. Петербургские адреса
Первый адрес Л. М. Старокадомского, который удалось выявить — это Бассейная улица, дом 2. Как известно, эта улица расположена в центральной части Санкт-Петербурга и проходит от Литейного до Греческого проспекта. Улица возникла в первой трети XVIII века и вела к бассейнам, отрытым для подачи воды к фонтанам Летнего сада, отсюда и ее название — Бассейная, которое она носила с 1796 до 1922 года. Современное название улица получила в 1922 году в честь великого русского поэта Николая Алексеевича Некрасова (1821—1878), который жил в этом доме с 1857 по 1877 год и размещались редакции журналов «Современник» и «Отечественные записки». Теперь в этом доме находится мемориальный Музей-квартира Н. А. Некрасова.
Дом на Бассейной ул., 2 (Литейный пр., 36) построен в 1781—1782 годах для П. В. Неклюдова, председателя петербургской палаты гражданского и уголовного суда, затем обер-прокурора Сената. В 1790 году дом приобрел купец Н. Н. Басков, отсюда и название расположенного рядом Баскова переулка. Затем владельцы менялись. С 1864 года владельцем дома стал статский советник и редактор газеты «Голос» Андрей Александрович Краевский (1810—1889).
Фольклорное название дома «Пять Николаев» по числу мемориальных досок на фасаде дома (Николаю Некрасову, Николаю Фигнеру, Николаю Добролюбову, Николаю Чернышевскому, Николаю Пирогову).
Следующий адрес Санкт-Петербурга, связанный с Леонидом Михайловичем Старокадомским, который удалось установить — это Казанская улица, дом 20, квартира 10 (адрес ранее был неизвестен). Именно этот адрес указан в прошении о принятии Леонида Старокадомского во Вторую Санкт-Петербургскую гимназию. В прошлом это был доходный дом. Построен он был в 1800 году в стиле классицизм.
Еще один петербургский адрес, связанный с Л. М. Старокадомским — это Казанская улица, дом 27, — адрес, где располагалась и расположена сейчас Вторая Санкт-Петербургская гимназия, в которой учился Старокадомский (угол Казанской улицы и переулка Гривцова) с 1884 по 1894 год. Только названия улиц были другие: Казанская улица называлась Большой Мещанской, а переулок Гривцова — Демидовым переулком.
Здание старейшей Гимназии Санкт-Петербурга на Казанской улице, дом 27, с фасадом, выполненным по проекту Алоизия Руска и украшенным колонным портиком в стиле ампир, хорошо известно. Гимназия заняла перестроенное здание бывшего губернского управления (ранее дом католического митрополита Богуша — Сестренцевича). Длинное серое здание Гимназии с колоннами было перестроено по проекту архитектора Л. П. Шишко в 1913 году. Здание Гимназии является памятником истории и культуры Санкт-Петербурга, находится под государственной охраной.
После окончания гимназии Леонид Михайлович Старокадомский поступает в Императорскую военно-медицинскую академию, которая располагалась на Нижегородской улице, дом 6 (в настоящее время улица Академика Лебедева, дом 6). Улица Академика Лебедева проходит от Литейного проспекта до Финляндского вокзала. В XVIII — первой половине XIX века ее именовали Морской улицей, так как здесь находился Петербургский морской госпиталь. В 1858 году улица стала Нижегородской. В связи с 75-летием со дня рождения выдающегося советского химика, основоположника промышленного способа получения синтетического каучука, академика Сергея Васильевича Лебедева (1874—1934) Нижегородская улица в октябре 1949 года была переименована в улицу Лебедева. Здесь в доме №10 ученый жил с 1924 по 1934 год.
Здание Военно-медицинской академии было построено по проекту архитектора Антонио Порто, а после его смерти достроено русским архитектором Андреем Никифоровичем Воронихиным в 1798—1809 годах. Постройка здания началась в 1798 году на основании Указа Императора Павла I для размещения Медико-хирургической академии. Император торопил строителей, поэтому приходилось работать очень быстро. Постройку начали зимой. Фундамент клали на мерзлую землю и заливали горячей водой. Однако злые языки обвинили строителей и архитектора воровстве денег, выделенных на строительство. А. Порто,
не жаля смириться с несправедливым обвинением, покончил жизнь самоубийство.
Следующий известный мне адрес Санкт-Петербурга — это город Кронштадт, ул. Восстания, дом 2. По этому адресу располагался Кронштадтский морской госпиталь в настоящее время — Федеральное государственное учреждение здравоохранения «35 военно-морской госпиталь им. Н. А. Семашко», в котором работал врачом Л. М. Старокадомский с 1903 года по 1909 год. Здание госпиталя построено архитектором Эдуардом Христиановичем Анертом в 1833—1840 годах, является памятником архитектуры федерального значения.
Представим себе каким был госпиталь, когда в нем служил Л. М. Старокадомский. Это было каменное здание, состоявшее из трехэтажных корпусов, расположенных в виде буквы «Н». Госпиталь был рассчитан на две тысячи коек. В каждом этаже этих корпусов имелся один центральный коридор, по обе стороны которого расположились палаты. Эти коридоры так высоки и так просторны, что напоминают собою помещения современного метрополитена. В госпитале лечились не только моряки. Долгое время были здесь и женские, и детские отделения, так как в городе других больниц не существовало. Кронштадский госпиталь был последним словом в области госпитального строительства той поры.
Еще один адрес Санкт-Петербурга, связанный с деятельностью Л. М. Старокадомского — это адрес места нахождения Русского географического общества, членом которого является Л. М. Старокадомский. В архиве Русского географического общества обнаружена анкета переучета членов Государственного географического общества за 1932 год, датированная 12 ноября 1934 года, в которой указано, что Л. М. Старокадомский является членом Государственного географического общества с мая 1924 года. Личный адрес Старокадомского указан следующий: Москва, Сытнинский переулок, дом 5/10, кв. 13.
Русское географическое общество располагается по адресу: Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 10. Переулок Гривцова возник в XVIII веке. Первое наименование — Малая Сарская улица, связано с тем, что улица являлась началом дороги в Царское Село. С 1772 года называлась Конный переулок, дано по конным площадкам на Сенной площади (место торговли лошадьми). В 1778 году часть улицы на участке от реки Мойки до канала Грибоедова переименовывается в Демидов переулок, по фамилии владельца домов №1 и 5 коллежского советника А. Г. Демидова. С 16 апреля 1887 года оба переулка были объединены под общим названием Демидов переулок. Современное название переулок Гривцова получил 15 декабря 1952 года, в честь А. И. Гривцова, военного шофера, участника обороны Ленинграда, Героя Советского Союза. Указанное здание РГО, построенное в 1907—1909 годах по проекту архитектора Гавриила Васильевича Барановского, является памятником истории и культуры Санкт-Петербурга. В архиве РГО хранятся научные труды Старокадомского и фотографии, сделанные им во время ГЭСЛО.
Глава II. «Экспедиция века» и Л. М. Старокадомский
2.1. Значение Гидрографической экспедиции в Северный Ледовитый океан (ГЭСЛО) для России в начале XX века
С особой остротой необходимость использования Северного Морского пути возникла в связи с поражением России в Русско-японской войне.
2 апреля 1907 года товарищ морского министра представил Николаю II доклад с обоснованием необходимости продолжения и расширения гидрографических работ на трассе Северного морского пути. Причем, для увеличения вероятности получения положительной резолюции царя составители и докладывавший включили в доклад утверждение о том, что решение проблемы даст « … возможность в каких-либо 9—10 дней перебросить наши боевые силы в Тихий океан». Такая великолепная перспектива царю понравилась и на докладе появилась необходимая резолюция, по которой были отпущены кредиты и вопрос возобновления работ Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана был разрешен.
Л. М. Старокадомский писал: «Северный морской путь — это соединение Атлантического и Тихого океана через северные моря. Вопрос этот тесно связан с изучением сибирского побережья Ледовитого океана, нанесением на карты правильных очертаний береговой линии и определением большого числа глубин моря, так как без этих данных плавание становится чрезвычайно опасным и даже невозможным. Чрезвычайно важно выяснить ….. распределение и движение льдов, морские течения, господствующие ветры и другие атмосферные движения».
В 1908 году Совет Министров России признал необходимым «в возможно скором времени связать устье Лены и Колымы с остальными частями нашего Отечества как для оживления этого обширного района Северной Сибири, отрезанного ныне от центра, так и для противодействия экономическому захвату этого края американцами, ежегодно посылающими туда из Аляски свои шхуны для меновой торговли с прибрежным населением».
О необходимости организации экспедиции пишет и Л. М. Старокадомский: «Особенно тревожным было положение на самом крае русской земли — на Чукотке и Камчатке. Здесь бесконтрольно бесчинствовали иноземные, главным образом, американские торговцы-хищники. Они беспощадно истребляли китов, моржей, котиков, завязывали грабительскую меновую торговлю с чукчами и эскимосами. Не было такой подлости, которую не использовали бы предприимчивые иноземцы, чтобы грабить местное население».
В целях создания проекта экспедиции была организована две комиссия под председательством начальника Гидрографического управления морского ведомства, известного гидрографа А. И. Вилькицкого, который пригласил участвовать в организации проекта экспедиции А. В. Колчака.
Об особенностях мореплавания по Северным морским морям имелось смутное представление. Ни на севере и на северо-востоке не было портов, радиоточек, маяков. О картах и лоциях только мечтали. Северный морской путь был в полной мере «Mare incognitum».
Для Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана предусматривалась постройка специальных гидрографических ледокольных судов, получивших в дальнейшем названия «Таймыр» и «Вайгач». Ледоколы были построены на Невском судостроительном заводе. «Таймыр» был спущен на воду 25.05.1909, а «Вайгач» 24.05.1909.
Наблюдающими за постройкой судов были назначены капитан 2-го ранга Ф.А.Матисен и капитан-лейтенант А. В. Колчак.
Отличительной чертой ГЭСЛО было то, что исследования не замыкались на чисто гидрографических работах (описания берегов, промерах), астрономических и гидрометеорологических наблюдениях. Экспедиция и не оставила без внимания другие разделы естественных наук — гидрологию, метеорологию, геологию, биологию. А. И. Вилькицкий писал: «Гидрографическое обследование морей имеет своей целью не только составление морских карт данного водного пространства, но и собрание материалов для лоций, которые для плавания являются таким же важным пособий, как и карта. Значительная часть лоций состоит из сведений физико-географического характера о данном районе, а именно: ветры, течения, температура и соленость воды, ее цвет, колебания уровня и другие данные. Исследования последних 15 лет показали, что изучение биологического характера вод имеет также немаловажное значение для гидрографических целей, так как жизнь растительная и животная тесно связана с физическими свойствами воды и поэтому при изучении биологических условий попутно получаются ценные указания для гидрографии.
2.2. Основные сведения о ГЭСЛО
ГЭСЛО осуществлена в 1910—1915 годы. Последовательно было совершено пять плаваний.
1 плавание
(в Беринговом и Чукотском морях в 1910 году):
16 июля 1910 года суда прибыли во Владивосток. 30 августа «Таймыр» и «Вайгач», получив разрешение на выход в море, снялись с якоря, вошли в пролив Лаперуза, к вечеру вышли в Охотское море. 4 сентября легли вдоль берега камчатского полуострова. Первая остановка была в Авачинской бухте на Камчатке, Петропавловск. 6 сентября взяли курс на залив Провидения. Остановились в бухте Эмма. 13 сентября, приняв уголь с транспорта «Аргунь» и пополнив запасы пресной воды, суда вышли из залива Провидения и двинулись к мысу Дежнева, вошли в Ледовитый океан и остановились у небольшого эскимосского селения Уэлен. В 30 км от Уэлена встретился сплоченный лед. 3 октября ледоколы «Вайгач» и «Таймыр» отправились в обратный путь во Владивосток, куда прибыли 3 ноября.
Результаты: экспедиция приобрела опыт плавания в Ледовитом океане. На карту были нанесены несколько ранее неизвестных глубин возле Берингова пролива. Были собраны образцы придонных и планктонных животных.
2 плавание (в Чукотском и Восточно-Сибирском морях в 1911 году):
4 августа «Таймыр и «Вайгач» вышли из порта «Золотой рог» во Владивостоке, прошли Сангарским проливом (в настоящее время …..) между японскими островами Хокайду и Хонсю и легли на курс к Берингову проливу. 14 августа шли вдоль берегов Камчатки. 17 августа подошли к берегам Чукотки. 20 августа вошли в залив Провидения и в бухту Эмма.
3 августа снялись с якоря и пошли к мысу Дежнева. Обогнули мыс Челюскина и стали на якорь на южном берегу мыса Дежнева. 24 августа вошли в Ледовитый океан, стали возле селения Уэлен. К вечеру 26 августа стали на якорь у Колючинской губы. Подошли к мысу Северный (в настоящее время мыс Отто Шмидта) и простояли до 31 августа. Стали на якорь у берега Чаунской губы. 3 сентября подошли к мысу Медвежьему в устье Колымы. 8 сентября корабли повернули обратно во Владивосток
и вошли в бухту Золотой рог 28 октября.
Результаты: берег от Берингова пролива до Колымы был заново нанесен на карту с указанием глубин. Ледокол «Вайгач» первым обогнул остров Врангеля. Установлено в 11 пунктах астрономически определенных навигационных знаков. Работа экспедиции превратила данный район Северного морского пути в навигационно обеспеченный для регулярных рейсов транспортных судов. Коллекции фауны, собранные Старокадомским и Арнгольдом были отосланы в Академию наук.
3 плавание
(в Чукотском, Восточно-Сибирском морях и в море Лаптевых в 1912 году): 13 июня вышли из Владивостока и направились к Курильским островам, в стали на стоянку у устья реки Камчатки у небольшого селения Усть-Камчатск, откуда начинали свое плавание Беринг и Чириков. 1 июля двинулись к мысу Африка, трое суток простояли у мыса Говен и направились к мысу Олюторскому. 15 июля зашли в мыс Провидения, в бухту Эмма. 21 июля вышли в Северный Ледовитый океан, направились к мысу Чукочьему, затем взяли курс на самый восточный из Медвежьих островов — остров Четырехстолбовой. «Таймыр» задержался у острова Большого Ляховского затем пришел в бухту Тикси. 17 августа подошел к мысу Святой Нос между устьями Колымы и Лены. 26 августа — в бухте Тикси. Направился к мысу Челюскин, 9 сентября у берега Таймырского полуострова. 23 октября прибыли во Владивосток.
Результаты: измерено 9600 глубин, определено 11 астрономических и 7 магнитных пунктов. Плавание 1912 года первые проложило морскую дорогу от Берингова пролива к устью Лены, в бухту Тикси.
4 плавание 1913 года:
9 июля покинули Владивосток, вошли в залив Провидения, бухту Эмма, пролив Лаперуза, Охотское море, стоянка в Петропавловске-Камчатском, Анадырьский лиман, Чаунская бухта, остров Котельный и Фаддеевский, на север к островам Новосибирского архипелага, остров Вилькицкого (вновь открытый), остров Беннета, остров Преображения, бухта Марии Прончищевой, мыс Харитона Лаптева, путь к мысу Челюскин, чтобы обогнуть его. В полдень 2 сентября открытие нового острова- Северная Земля, остров Малый Таймыр и острова Старокадомского, 25 ноября возвращение во Владивосток.
Результаты: крупное географическое открытие — неизвестной суши. Которая носит в настоящее время название — «Архипелаг Северная Земля». Также были открыты: остров Вилькицкого, остров Старокадомского, остров Цесаревича Алексея (в настоящее время Малый Таймыр), губа марии Прончищевой, пролив Бориса Вилькицкого.
5 плавание (в 1914—1915 года):
7 июля вышли из Владивостока, Сангарский пролив, Японское море. 20 июля встали на стоянку в Петропавовске-Камачатском, бухта Провидения. 3 августа «Таймыр» направился на Аляску и встали на стоянку в Номе. 9 августа «Таймыр» вошел в устье реки Анадарь, 12 августа направился в Берингов пролив. Миновал Новосибирские острова.
18 сентября 1914 года корабли встали на зимовку у мыса Челюскин. «Таймыр» находился на 76 градусов 40 минут северной широты и 10 градусов 30 минут восточной долготы, «Вайгач» в 16 милях от него. Зимовка продолжалась до середины августа 1915 года.
В полдень 16 сентября 1915 года «Таймыр» подходил к городской пристани Архангельска. 16 октября 1915 года Гидрогафическая экспедиция Северного Ледовитого океана была расформирована по условиям военного времени.
Безусловно, самым важный результат ГЭСЛО состоит в том, что экспедиция подробно обследовала всю трассу северного морского пути с востока на запад и сделала последнее на нашей планете великое географическое открытие- открытие в Северном ледовитом океане архипелага островов, названного впоследствии Северной Землей. Это увеличило территории России на 36 700 квадратных километров и прирастило вокруг этого огромные пространства континентального шельфа, таящего несметные богатства нефтегазовых и других месторождений.
Продвигаясь на север от мыса Челюскин, вблизи края тянувшегося вдоль острова ледяного края, была обнаружена неизвестная часть суши, которая названа была Землей Николая II.
Старокадомский в своей статье «Северный морской путь и вновь открытые земли в Ледовитом океане, опубликованной в «Новом журнале» за 1914 год пишет:
«Само собой напрашивается вопрос, какое же изменение произошло в положении вопроса о Серном морском пути, раз стало известно, что к северу от мыса Челюскин не открытое море, а острова. Несомненно открытие этих островов ухудшает положение вопроса, так как вместо предполагавшегося обширного водного пространства, на котором, да еще и при большой глубине моря, свободно носятся обломки ледяных полей, разламываемых ветрами волнами перед идущим северным морским путем пароходом, оказываются лищь узкие проливы. Пролив между мысом Челюскин и островом Цесаревича Алексея шириной 20—25 морских миль глубок; второй пролив — между этим островом и Землей Николая II, шириной в 25—30 морских миль, не обследовался вовсе. Только этими проливами и может пройти пароход, потому что сама мысль огибать Землю Николая II кажется нелепой, ибо пришлось бы подниматься за 81 градус северной широты — в область вечного полярного льда».
Оценивая результаты этой экспедиции выдающийся норвежский исследователь Х.У.Свердуп заявил:
«Мы имели возможность убедиться, что повсюду, где русская экспедиция считала свои работы законченными, там можно было на них вполне полагаться…. Работа, выполненные обоими ледоколами, поистине заслуживает удивления».
2.3. Участие
Л. М. Старокадомского в ГЭСЛО
Как пишет Старокадомский в своей книге «Пять плаваний в Северный Ледовитый океан» Северный морской путь не пользовался популярностью среди моряков. Этим он объясняет то, что состав матросов на ледоколах «Таймыр» и «Вайгач» подобрался случайный. Этим же он объясняет, что судовым врачом на «Таймыре» предложили стать именно ему, «хотя с военной точки зрения, я не был вполне полноценным работником — у меня ампутирована выше локтя левая рука».
Судовым врачом на ледокол «Таймыр» был назначен Леонид Михайлович Старокадомский.
В первом плавании ГЭСЛО врачи экспедиции Л. М. Старокадомский и судовой врач «Вайгача» Э. Е. Арнгольд при съездах на берег собирали биологические и зоологические коллекции. Согласно письму Старокадомского, написанному в марте 1958 года, им в 1910 году были взяты 84 зоологические береговые и морские станции. Материалы, собранные врачами в плавании 1910 года оказались настолько ценными, что Главное гидрографическое управление получило в мае 1911 года за эти сборы специальную благодарность от имени Российской академии наук.
Во время стоянок ледоколов судовыми врачами Старокадомским и Арнгольдом была собрана интересная коллекция для зоологического музея Академии наук в виде различных представителей фауны. За годы плавания Старокадомским и Арнгольдом собраны обширные коллекции морских и наземных растений, планктона, образцов горных пород. «Всего взято свыше 400 проб планктона, собрано свыше 3000 насекомых, 500 экземпляров птиц и 25 млекопитающих».
Леонидом Михайловичем Сарокадомским открыт остров, названный впоследствии его именем (78 градусов северной широты,106 градусов восточной долготы).
Об открытии острова Старокадомского в архиве ЦГА ВМФ найдено письмо командира эскадронного эсминца «Летунъ» Бориса Вилькицкого его высокородию Леониду Львовичу Рейтфусу от 13 июня 1916 года №388/Э, в котором он пишет, что в числе прочих островов, открытых ГЭ СЛО, есть один, обнаруженным доктором Старокадомским во время его пешеходной экскурсии на остров Цесаревича Алексея в 1913 году. «В том году остров был пунктиром нанесен на карту по указанию доктора, а затем в 1914 году при описи «Вайгачем» южного берега Земли Императора Николая II и западной части острова цесаревича Алексея и этот остров был описан. Среди членов экспедиции он известен как «остров Старокадомского», это название я и предлагаю ему присвоить, рассчитывая в числе прочих мелких названий островов, и представил на утверждение начальнику гидрографического управления одновременно с представлением отчетных карт. Но отчетные карты запоздали. Недостаток средств и людей в связи с расформированием экспедиции не дал мне возможность их закончить зимой, потому я бы был Вам признателен, если бы Вы испросили утверждения начальника Гидрологического управления на наименование острова «островом Старокадомского» и нанести это название на свои карты. Остров лежит в проливе между Землей Императора Николая II и островом цесаревича Алексея.
2.4. Северный морской путь, характеристика и перспективы его развития
Северный морской путь — главная судоходная магистраль России, в Арктике и является основой развития арктической транспортной системы. Северный морской путь проходит по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево море, Карское море, море Лаптевых, Восточно-Сибирское море, Чукотское море, Берингово море, Охотское море, Японское море) соединяет европейские и дальневосточные порты. Протяженность Северного морского пути составляет 5600 км. Северный морской путь до начала XX века назывался Северо-восточный проход.
Выделяют четыре основных маршрута:
1) Традиционный (прибрежный) — примерно 3 500 миль.
2) Центральный — 3029 миль (от Карских ворот до Берингова пролива — 2512 миль).
3) Высокоширотный (севернее Новой Земли, Северной Земли, Новосибирских островов и острова Врангеля) — 2 890 миль.
4) Околюполюсной — 2 700 миль.
Основные порты Северного морского пути: Дудинка, Диксон, Игарка, Певек, Тикси, бухта Провидения.
Северный морской путь начинается в водах Баренцева моря, а в бухте Провидения заканчивается. Следует отметить, что все моря этой судоходной магистрали отличаются суровым климатом. В середине июля температура воздуха на побережье Баренцева моря не превышает +7° C, а зимой опускается до -20° C. Это море характеризуется частыми штормовыми ветрами. Высота волн достигает 7 метров.
На побережье Карского моря летняя температура воздуха не повышается более +6° C, а зимняя достигает -28° C. В летнее время отмечаются северные ветры, которые, как правило, сопровождаются туманами. Зимой они более сильные и частые, нередко переходящие в ураганы.
Еще более суровым климатом отличается море Лаптевых. В северной части его побережья температура в июле +1° C, зимой она опускается до -34° C. Ветры слабые. Все моря Северного морского пути отличаются небольшими плюсовыми температурами в летнее время. Восточно-Сибирское море характеризуется среднемесячной летней температурой +7° C, а зимней — до -33° C. Моря Северного пути имеют область шельфа, глубины которых — менее двухсот метров. Их дно является подводным продолжением платформенных структур суши. Переходная зона — материковый склон, имеющий глубины от ста восьмидесяти до трех тысяч метров. Характерные особенности этой судоходной магистрали — наличие льдов на всем пути следования транспорта и суровый климат.
В соответствии со статьей 5.1 Кодекса торгового мореплавания под акваторией Северного морского пути понимается водное пространство, прилегающее к северному побережью Российской Федерации, охватывающее внутренние морские воды, территориальное море, прилежащую зону и исключительную экономическую зону Российской Федерации и ограниченное с востока линией разграничения морских пространств с Соединенными Штатами Америки и параллелью мыса Дежнева
в Беринговом проливе, с запада меридианом мыса Желания до архипелага Новая Земля, восточной береговой линией архипелага Новая Земля и западными границами проливов Маточкин Шар, Карские Ворота, Югорский Шар.
Как отмечает профессор В. В. Гаврилов,
«столь широкое определение границ акватории СМП объясняется тем, что этот путь не имеет единой и фиксированной трассы. Сохраняя свою общую направленность, СМП год от года, а нередко и в течение одной навигации перемещается на значительные расстояния в широтном направлении».
Систематическая эксплуатация Северного морского пути началась в 1935 году. В последующие предвоенные годы успешно решалась задача превращения его в нормально действующую водную магистраль, обеспечивающую планомерную связь с Дальним Востоком. Эту задачу выполняли северные пароходства, ледокольный флот, полярная авиация, речной транспорт, арктические порты и полярные станции. В 1935—1940 гг. по Северному морскому пути было провезено 2,5 млн. т грузов — больше, чем за всю историю арктических плаваний!
С началом Великой Отечественной войны в условиях временной утраты наших западных и южных морских коммуникаций стратегическое значение Северного морского пути еще более возросло. Врагу, несмотря на все попытки, так и не удалось блокировать или прервать эту полярную артерию жизни. Действуя в боевых условиях, морской флот Севера в течение войны доставил на фронт и в тыловые районы Арктики 4,2 млн. т военных и хозяйственных грузов, сотни тысяч воинов, эвакуированных и пассажиров.
В послевоенные годы ежегодный грузооборот Северного морского пути увеличился в несколько раз. Арктический флот пополнился мощными дизельными ледоколами, а затем и атомоходами, способными проводить суда через многолетние льды.
Благодаря вводу в строй атомных ледоколов типа «Арктика», навигация по Северному морскому пути была продлена на 2—2,5 месяца, а в западном секторе стала круглогодичной.
Общий объем ежегодных перевозок по Северному морскому пути в 1980 г. приблизился к 5 млн. т, а в 1987г. — в год максимальных перевозок — достиг 6,5 млн. т. Северный морской путь стал главной жизненной артерией Приполярья, неразрывной частью его экономики, культуры, быта.
Как следует из статьи профессора Е. Ножина «Российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном… (Северный морской путь (состояние, проблемы, перспективы)» ОБОЗРЕВАТЕЛЬ — OBSERVER №1—2 (84—85) 1997, с. 15, после развала СССР состояние Севморпути резко ухудшилось.
Резко упали объемы перевозок, сломаны сложившиеся в течение многих десятилетий деловые и человеческие отношения арктического флота. Разрушалась береговая инфраструктура, обслуживающая Северный морской путь. Положение Гидрографической и гидрометеорологической служб, находящиеся на прямом бюджетном финансировании, было катастрофическим. Прекратились промеры глубин со дна. Из-за отсутствия горючего и нехватки экипажей вертолетов прекратились полеты на ледовую разведку в западном секторе Северного морского пути. Стояли на мертвом приколе ледоколы и полярные суда. За невозможностью дальнейшего их содержания, многие проданы на металлолом. Морские порты на трассе Северного морского пути нуждаются в модернизации, значительная часть причалов требует срочного ремонта и реконструкции.
Россия сегодня продолжает освоение и использование Северного морского пути. Основными пользователями Северного морского пути в России сегодня являются «Норильский никель», «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Росшельф», Красноярский край, Саха — Якутия, Чукотка.
Проанализировав некоторые источники, следует сделать вывод о выгодах использования Северного морского пути для транзитных перевозок:
1. В среднем через Суэцкий канал время доставки грузов составляет сорок восемь дней, а путь через арктические моря занимает тридцать пять дней. Следовательно, ощутимо сокращаются сроки доставки, экономится топливо, и сокращаются транспортные издержки.
2. Отсутствуют очереди и плата за проход судов (в отличие
от Суэцкого канала), имеется только ледокольный сбор.
3. Отсутствие противоправных действий. Сомалийские и другие пираты у берегов Африки совершают нападения на суда.
4. Нет ограничений на размер судов и тоннаж. (Суэцкий канал допускает продвижение судов не более 20,1 м).
Роль Северного морского пути неизбежно возрастет уже в ближайшие годы, в первую очередь в связи с интенсивным освоением Ямальских месторождений энергетического сырья, а также гигантских запасов углеводородов на шельфах Баренцева и Карского морей.
Заключение
В своей работе я изложил результаты изучения биографии и деятельности Леонида Михайловича Старокадомского, его участия в Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана в 1910—1915 годах, значения открытого экспедицией Северного морского пути для России в настоящее время. /…/.
О вкладе Михаила Ломоносова в развитие военного дела
«Нетщетен подвиг мой и твой,
Чтоб Россов целой свет страшился…»
М.В.Ломоносов
«Нетщетен подвиг мой и твой,
Чтоб Россов целой свет страшился…»
М.В.Ломоносов
Главные открытия великого российского учёного и просветителя Михаила Васильевича Ломоносова касаются химии, физики и астрономии. А еще он занимался географией, геологией, металлургией. И, конечно же, историей, литературой, философией. Он брался за разные дела. Эта разносторонность может быть объяснена неукротимой энергией, бурлившей в нем. Ему до всего было дело, и коль внимание его коснулось какого-либо предмета, нужно обязательно вникнуть в суть, разобраться во всех связях и вскрыть противоречия. Его пытливый ум не знал праздности, он порицал эту саму праздность, говоря:
«Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит».
Дань уважения и гордости — памятник Михаилу Васильевичу Ломоносову в Архангельске
Достижения и результаты многолетнего творческого поиска самого Ломоносова, его педагогическая и организаторская деятельность показывают, что он не терпел застоя. И все же есть идея, которая объединяет все сделанное им. И эта идея называется любовь к Отечеству. «Только в бодром горячем порыве, в страстной любви к своей родной стране, смелости и энергии родится победа. И не только и не столько в отдельном порыве, сколько в упорной мобилизации всех сил, в том постоянном горении, которое медленно и неуклонно сдвигает горы, открывает неведомые глубины и выводит их на солнечную ясность».
Вероятно, в сказанном выше читатель не обнаружит новизны — о патриотизме Ломоносова речено было многими и неоднократно. Однако, заметьте, во все времена в России, да и не только в ней одной, все лучшие умы привлекались к делам ратным, занимались укреплением военной мощи государства. Был ли Ломоносов исключением сему правилу? В своих исследованиях специалисты, как правило, упускают из виду этот аспект его многогранной деятельности. Попробуем восполнить этот пробел, оценим искания Ломоносова с точки зрения пользы их для военного дела.
Известно, что Ломоносов некоторое время служил в армии. Только не в русской, а в прусской. Случилось это так. В1739 году он с успехом заканчивает Марбургский университет и продолжает обучение в Фрейберге. В учебе и в наставнике он достаточно быстро разочаровывается и заявляет, что знает больше его. Проучившись год, Ломоносов тайно, не испросив разрешения Петербургской академии наук, решил возвращаться в Россию. По дороге он выдавал себя за немецкого студента. Недалеко от Дюссельдорфа на постоялом дворе он столкнулся с вербовщиками в армию прусского короля Фридриха-Вильгельма I. Во время ужина они напоили Ломоносова и завербовали его в прусскую кавалерию. На другой день Ломоносов вместе с другими рекрутами был отправлен в крепость Везель.
Службу несли в течении многих лет, сбежать с нее было практически невозможно. К тому же воинская часть, в которой оказался новобранец, была окружена наблюдательными вышками. Ломоносов стал всячески проявлять активность в службе и показывать, что она ему очень нравится. Усыпив бдительность, он рано утром, когда все спали, перелез через валы и частокол крепости, переплыл через ров и прямо в мокрой одежде пробежал еще километров десять — до государственной границы. Едва Ломоносов одолел 2 версты, как услышал выстрел, означавший, что его побег обнаружен. Погоня едва не настигла его, но он успел перейти границу. Прусская армия лишилась одного новобранца, а Петербургская академия наук пополнилась адъюнктом по физике, вернувшимся в 1741 году в столицу.
Военного из бывшего студента не получилось, однако еще в 1739 году Ломоносовым была написана «Ода на взятие Хотина», которая принесла ему широкую известность. Оду представили императрице и двор принял ее с восхищением. Удивительным показались плавный и спокойный размеру стихов, приятная и неизвестная дотоле в России гармония звуков. Многие нашли в русском наречии «новый язык, новые слова, новые звуки; чувствовали, что они их родные, и не постигали, почему прежде их не знали».
«Крепит отечества любовь
Сынов российских дух и руку;
Желает всяк пролить всю кровь,
От грозного бодрится звуку…»
Весьма примечательно, что первое широко известное поэтическое произведение Ломоносова возвеличивало русскую военную силу. И в грядущем деятельность Ломоносова направлена на возвеличивание России, на укрепление ее мощи, в том числе и военного могущества. Когда Ломоносов обратился к мозаичному искусству, он вновь в военной тематике — создает знаменитое панно, посвященное битве под Полтавой.
Энциклопедический ум Ломоносова занят многими проблемами, в том числе и вопросами военной науки. Об этом свидетельствует его письмо П.И Шувалову 1 ноября 1761 года. Ломоносов пишет:
«Разбирая свои сочинения, нашел я старые записки моих мыслей, простирающихся к приращении общей пользы».
Всего этих записок было восемь, в них предлагались реформы в наиболее важных, по мнению автора, областях жизни тогдашней России.
Памятник М. В. Ломоносову в Архангельске, 19 век
Со своим покровителем Ломоносов делится своими творческими планами. Одна из тем, над которой работал ученый, называет «О сохранении военного искусства во время долговременного мира». Завершена ли была эта работа, что в ней содержалось, осталось неизвестно. Ведь архив и библиотека Ломоносова немедленно конфисковали сразу после его смерти по приказу Екатерины II и бесследно пропали. Сохранился только трактат «О размножении и сохранении российского народа». Эта тема для России того времени была чрезвычайно актуальной (да и для нашего тоже), поскольку печальным итогом преобразовательной деятельности Петра стало сокращение населения России на 25 процентов. Михаил Васильевич предложил ряд законодательных и общественных мероприятий, направленных на увеличение народонаселения России путём повышения рождаемости, сохранения родившихся и привлечения иностранцев в русское подданство. Но разве вопросы демографии и здоровья нации не являются частью военных проблем? От правильного решения их зависит пополнение армии новобранцами, создание резерва для армии на случай войны. Таким образом, даже тот предмет его изысканий, который напрямую не был связан с военным делом, был направлен на усиление именно военного могущества.
Причастность Ломоносова к военной науке можно проследить в связи с деятельностью военного и государственного деятеля графа Ивана Ивановича Шувалова. Исправляя должность генерал-фельцейхмейстера (начальника артиллерии и инженеров), граф Шувалов в 1753 году представил императрице Елизавете доклад о слиянии артиллерийской и инженерной школ в один кадетский корпус и об организации при нем «класса военной науки» — офицерского класса с двухгодичным сроком обучения. Это был проект создания, по сути, военной академии, в которой должен был завершить военную подготовку офицер. Шувалов утверждал, что в России очень мало лиц, которые бы трактовали военную науку, — а последняя нужна русской армии «как разумная душа телу». «Нам не достает теории… Вместо профессоров искусных и довольно знающих важное дело, военнослужащих определить, которым лекции давать, диссертации делать, экзаменировать и пр.». Шувалов предлагал использовать военную академию для развития военных наук.
В программу будущего кадетского корпуса Шувалов внес элементы широкого научного образования. Кадеты должны были изучать не только военные дисциплины — военную экзерцицию (обучение войск), артиллерию, фортификацию, фейерверочное искусство. Французский и немецкий языки, история, география, гидравлика, аэрометрия, архитектура, математическая география, химия, основы экспериментальной физики, натуральная (естественная) история, арифметика, алгебра, геометрия, рисование…
В классе военной науки офицеры должны были получать углубленные знания и обучаться не только ратному делу. Обширная программа подготовки разносторонне образованного, с широким политическим кругозором офицера, должна была дать офицера, способного «рассуждать о настоящих политических делах в Европе и о военных силах других держав».
Проект создания военной академии (офицерского класса при кадетском корпусе) не осуществился, но мысли графа Шувалова легли в основание устройства Артиллерийского и Инженерного шляхетского корпуса (впоследствии 2-го кадетского), основанного в 1762—1763 годах. Пояснительные записки, приложенные к программе и к проекту создания высшей военной школы, историкам дали основание считать, что Ломоносов принял непосредственное участие в их составлении. Об этом авторы «Исторического очерка 2-го кадетского корпуса» прямо заявили при подготовке своего исследования в 1912 году. В программе, представленной графом Шуваловым, к примеру, приводилась мысль о необходимости изучать гражданские и военные подвиги героев древней Греции и Рима, что буквально повторяет мнение Ломоносова, высказанные им в его сочинении «О пользе книг церковных в российском языке». Да и программа общеобразовательных наук отражала стремления ученого к внедрению просвещения.
Впрочем, Ломоносову приходилось и лично участвовать в обучении будущих офицеров, поскольку учащиеся артиллерийской школы регулярно посещали лекции Ломоносова в Академии наук.
В 1755 году под влиянием Ломоносова открывается Московский университет. Университет, а также гимназия при нем стали одним из центров военной науки. В учебный курс в качестве обязательных дисциплин входили военные дисциплины. Это объяснялось, прежде всего, состоянием самой системы образования. Военные предметы еще не выделились в специальные дисциплины. Так артиллерия и фортификация рассматривались как составная часть математики. Даже тактика наряду с астрономией и мореплаванием относилась к прикладной математике по классификации, существовавшей до начала XIX века.
Включение военных наук в университетскую программу диктовалось «классическим» характером преподавания того времени, в соответствии с которым военное обучение с древних времен занимало почетное и более высокое место среди прочих учебных дисциплин. К тому же, получение дворянам высшего образования, должно было обеспечить им быстрый переход из гражданского состояния в офицерский корпус. Поэтому в университете и гимназии не только давались теоретические знания, но и проводилось военное обучение, а в летний период делались смотры университетскому батальону. Студентам из дворян учеба в университете засчитывалась в прохождение военной службы с выслугой чинов.
На вопрос Ломоносову противников образования: «куда-де столько студентов и гимназистов?», он перечисляет, отрасли, где, по его мнению, нужны в России ученые люди. В этом списке первыми названы «Сибирь пространна» и Северный морской путь — «ход Севером». В числе прочих — горное дело, фабрики, торговля, сельское хозяйство, военное дело.
Но не только в качестве педагога и организатора науки проявил Ломоносов себя на военном поприще. Многие приборы, созданные Ломоносовым, находили применение в армии и на флоте. К примеру, им было построено более десятка принципиально новых оптических приборов. Одним из важных изобретений стала «ночезрительная труба», позволявшая в сумерки более отчетливо различать предметы. Он изобретает «катоптрико-диоптрический зажигательный инструмент» — своеобразную солнечную печь, при помощи которой можно было достигать недосягаемых тогда иным способом высоких температур.
В 1759 год ученый пишет «Рассуждения о большой точности морского пути». В этих «Рассуждениях…» ученый описывает ряд новых, изобретенных им приборов для определения долготы и широты. В этой же работе Ломоносов предложил (первым из современников) организовать международную Мореплавательную академию.
Все, чем занимался Ломоносов, так или иначе связано с укреплением военного и военно-морского могущества России. Не углубляясь в детали, перечислим интересовавшие Ломоносова направления в науке и в прикладных исследованиях.
Металлургия. Ломоносов издает первое систематизированное руководство по горному делу на русском языке «Первые основания металлургии или рудных дел», в котором подробно рассмотрел как свойства различных металлов, так и практически применяемые способы их получения. Книга была выпущена огромным для того времени тиражом (1225 экз.) и сыграла большую роль в дальнейшем становлении русского металлургического производства. Развитие русского металлургического производства, в XVIII веке ставшего передовым в мире — это, прежде всего, развитие вооружения: артиллерии, огнестрельного и холодного оружия.
Русский язык. Было время, когда немецкий язык был, чуть ли, не официальным языком русской армии. Марш, авангард, гауптвахта, плац — в военной терминологии и сегодня большое количество заимствований из немецкого. Впоследствии обиходным для русской аристократии стал французский. Во время войны 1812 года в русской армии погибло от рук собственных солдат немало офицеров, которых из-за незнания русского языка принимали за офицеров армии Наполеона. Ломоносов начал борьбу за возвращение русского слова в государственную службу, в том числе армейский обиход. Он понимает необходимость научного осмысления правил родного языка, введения норм его употребления. И Ломоносов создает к 1755 году «Российскую грамматику» — научную и практическую. Процесс создания русского литературного языка завершил Пушкин.
География. Назначенный главой Географического департамента Академии наук, Ломоносов начинает работу по составлению нового «Российского атласа» и добивается рассылки во все губернии, географических анкет, сведения из которых могли бы помочь в создании различных карт, статистических описаний, столь необходимых военным. Работая над «Рассуждением о большей точности морского пути», он предложил ряд новых навигационных приборов и инструментов. Им было написано «Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию», а затем «прибавление» к этой работе «О северном мореплавании на Восток по Сибирскому океану». В них Ломоносов утверждал, что «России могущество будет прирастать Сибирью». «Прибавление» дополнялось «примерной» инструкцией «морским командующим офицерам».
Химия для Ломоносова тоже не была отвлеченной наукой. Двор ждал от него фейерверков, каждый из которых был уникален. И обер-фейерверкер, так называлась одна из официальных должностей Ломоносова, устраивал грандиозные иллюминации. Напомним, его покровитель граф Шувалов служил в русской армии генерал-фельцейхмейстером — был начальником артиллерии и инженеров. Ломоносову приходилось при этом вникать и в дела артиллерии ее усовешенствования. Он изучал, к примеру, свойства дымного пороха, производил эксперименты и оставил после себя теоретические выкладки. Его наработки позднее использовали французские ученые, которые получили наиболее оптимальный состав смеси калиевой селитры, серы и древесного угля.
Метеорология. Нужно ли говорить о важности исследований в этой области для российского военного флота? Само движение парусного флота того времени зависело от капризов погоды.
История. Обращая свое внимание в прошлое, Ломоносов особое внимание уделял реформаторской деятельности Петра I, в том числе созданию профессиональной армии. Говоря о войске, Ломоносов подчеркивал: «оное никогда не распускать, ниже во время безмятежного мира, как то при бывших прежде Государях не редко к немалому упадку могущества и славы Отечества происходило, но и содержать всегда в исправной готовности».
Техника. О некоторых приборах, изобретенных Ломоносовым, уже говорилось в этой статье. Уместно напомнить еще и о воздухобежной машине, изобретенной им. Она предназначалась для подъема термометра и метеорологические приборы в воздух и представляла из себя прототип вертолета…
Упускать из виду военные аспекты в деятельности Ломоносова, изучая его биографию и обширное научное наследие, конечно же, неправомерно. В то же время важно понимать его отношение к вопросам войны и мира. Ответ на этот вопрос Михаил Васильевич дал в своих одах, стихотворениях, научных трудах. Он прославляет блестящие победы русского оружия, но, тем не менее, постоянно утверждает о превосходстве мира, как условия благоденствия народов, распространения просвещения и наук:
Великая Елизавет
И силу кажет и державу,
Но в сердце держит сей завет
Размножить миром нашу славу
И выше, чем военной звук,
Поставить красоту Наук.
В многогранной деятельности Ломоносова можно найти немало подтверждений того, что главной заботой всей недолгой жизни его было укрепление могущества России. А оно немыслимо без надежного военного потенциала. Будет сильная армия — будет сохраняться мир, значит, откроются путь к прогрессу.
Именно поэтому от решения вопросов укрепления ратной силы России Михаил Васильевич Ломоносов не мог оставаться в стороне.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ