Часть 1. Эсхатологический оптимизм
Эсхатологический оптимизм: истоки, развитие, основные направления[1]
Эсхатологический оптимизм как идея и жизненная установка
Эсхатологический оптимизм как философская интерпретация и жизненная стратегия
Сегодня я бы хотела прочитать лекцию, в каком-то смысле, интерактивную, потому что все те тезисы и гипотезы, которые я буду высказывать, представляются для меня самой еще довольно туманными. Это, скорее, контуры мысли, наброски проекта, начала осмысления истории философии как процесса. Поэтому я приветствую вопросы во время лекции.
Тема эсхатологического оптимизма — довольно опасная и сложная. Опасная потому, что она никогда не разрабатывалась до настоящего момента и таит в себе множество капканов и неожиданных виражей. При подготовке к сегодняшней лекции, я поняла, что несмотря на то, что гипотеза «эсхатологического оптимизма» может объяснить многие историко-философские процессы, придать им дополнительные измерения, открыть новые контексты и определенную глубину, тем не менее остается множество белых пятен. Моя подготовка строилась в постоянном вопрошании себя, в поиске открытых проблем и в выявлении несходимостей. И все же я подумала, что имею полное право вынести эту гипотезу на ваше обсуждение, потому что доктрины, где все сходится, всегда несовершенны, и хуже того — скучны.
Ж. Бодрийяр писал о том, что, уходя из этого мира, покидая его, нужно хотя бы оставить его не менее сложным, чем он был. Поэтому, я думаю, что наличие некоторых противоречий и несоответствий, — например, различное прочтение эсхатологии в Античности и в христианском контексте, с одной стороны, усложнит исследование эсхатологического оптимизма, а с другой — сохранит живое начало в процессе мышления в ходе нашего открытого исследования данной темы.
Для начала я бы хотела отметить, что эсхатологический оптимизм можно увидеть с двух сторон. Во-первых, его можно интерпретировать как гипотезу для ознакомления с историко-философским процессом, в рамках которой мы будем рассматривать некоторых мыслителей как эсхатологических оптимистов и выделять в их творчестве две основные тенденции — признание катастрофической конечности и эфемерности данного нам мира (условно назовем это «конечностью иллюзии»), и в то же время своеобразное принятие этого мира как чего-то обманчиво-иллюзорного, но с положительно-волевым отношением к этой иллюзии.
Можно сказать, что эсхатологический оптимизм — это не просто осознание близкого конца, возможной смерти, но и принятие этой смерти в свою жизнь, вместе с волевым решением противостоять ей, то есть жить. Это и принятие стороны чистой трансценденции, радикального «нет», сказанного этому миру, но одновременно и радикальное «да» миру, который находится по эту сторону иллюзии.
Иными словами, мы предлагаем интерпретировать эсхатологический оптимизм как некий способ прочтения философского текста, который в разных мыслителях выявляет парадоксальное сочетание проживания мира как конечности и иллюзии, как симулякра, но вместе с тем и положительное, волевое отношение к концу иллюзии. Можно прочитать таким образом тексты многих философов, но я буду останавливаться сегодня специальным образом на платонизме, неоплатонизме, гегелевской системе, ницшеанстве, и особенно на трудах румынского мыслителя Эмиля Чорана. Одно это перечисление уже внушает страх, так как такой корпус текстов, такой объем философской традиции, где каждый из философов и целых направлений заслуживает как минимум отдельной лекции или даже целого курса, кажется неподъемным. Но мы попытаемся сегодня все же за отведенное для лекции время хотя бы немного приблизиться к этому предмету.
И второе. Эсхатологический оптимизм можно понимать не только как интерпретационную сетку, не только как код для дешифровки того или иного текста, но и как жизненную философскую стратегию. По сути дела, все мыслители, о которых я сегодня уже упоминала и которых я только что поместила в фокус нашего внимания, являлись эсхатологическими оптимистами, на мой взгляд, и они именно принимали конечность мира вместе с этой волей к жизни. Если помните, одна из книг Генона «Царство количества и знаки времени»[2] заканчивается формулой: «La fin d’un monde n’est jamais et ne peut jamais être autre chose que la fin d’une illusion»[3], что означает: «Конец мира никогда не является и не может являться ничем иным, кроме как концом иллюзии».
Таким образом, эсхатологический оптимизм помимо того, что он является кодом к некоторым философским течениям, о которых мы сегодня поговорим, может также быть отдельной жизненной философской стратегией. Мы живем с вами уже, вероятно, в эпоху конца света — это видно и по пандемии, и по разным участившимся стихийным бедствиям, и по фундаментальным сдвигам в политике, геополитике, философии. Чего только стоят такие вещи, как детерриторизованное мышление Постмодерна или объектно-ориентированная онтология! Это настоящий конец философии — как минимум, человеческой философии. В таких условиях жизненная стратегия эсхатологического оптимизма нам очень нужна. Как жить, когда ты понимаешь, что вокруг, как вирус, ризоматически расплывается некая мифическая сущность под названием «коронавирус»? Собственно, сейчас я нахожусь из-за этого не вполне ясного феномена в самоизоляции. Эсхатологический оптимизм в подобных обстоятельствах может быть отправной точкой для того, чтобы жить, для того, чтобы понимать смысл происходящего, искать стратегии и мотивации бытия. Он дает основание жить с ориентировкой на нечто иное, нежели данность и иллюзорность окружающего распадающегося на фрагменты мира.
Философское несчастье
Я хочу начать с платонизма и осмыслить два философских события: опыт разрыва с горизонтом имманентности и опыт политического возвращения философа, ранее поднявшегося к созерцанию чистых идей, назад в пещеру (имеется в виду «платоновская пещера», в которой люди ведут механическое существование слепцов, фиксирующих лишь смутные тени и лишенных возможности созерцать истинные вещи — идеи). В произведениях Платона, в том числе в «Государстве»[4], меня поразила тематика «философского несчастья», несчастья необходимости пребывания в иллюзорной реальности. Если вы помните четвертую книгу «Государства» Платона, то там в начале есть цепочка рассуждений, подводящая к тому, что правящее сословие стражей-философов должно искать прежде всего счастье для целого, а не для себя. Один из участников диалога — Адимант — указывает Сократу на то, что такое бескорыстное служение сделает самих стражей несчастными. Он говорит:
«Не слишком-то счастливыми делаешь ты этих людей [философов-стражей — Д.П.], и притом они сами будут в этом виноваты: ведь, говоря по правде, государство — в их руках, но они не воспользуются ничем из предоставляемых государством благ, между тем как другие приобретут себе пахотные поля, выстроят большие, прекрасные дома, обставят их подобающим образом, будут совершать богам свои особые жертвоприношения, гостеприимно встречать чужеземцев, владеть тем, о чем ты только что говорил, — золотом и серебром и вообще всем, что считается нужным для счастливой жизни».[5]
И далее Сократ задается вопросом:
«Нужно решить, ставим ли мы стражей, имея в виду наивысшее благополучие их самих, или же нам надо заботиться о государстве в целом и его процветании».[6]
И приходит к выводу: пусть философ не будет счастлив, и даже пусть он будет несчастен, но при этом он должен оберегать весь полис, являясь гарантом счастья всех остальных сословий. Философ-правитель будет иметь счастье не для себя, не для своей касты созерцателей. Ведь ему куда приятней остаться в чистом созерцании Высшего. Но он предан справедливости, и она заставляет его думать не о себе, а о других — о гражданах вверенного ему государства. В таком случае непосредственно его счастье будет заключаться в том, что он лично будет несчастен, но при этом весь полис будет гармоничным, в нем будет соблюден баланс, необходимый именно для того, чтобы вокруг царила справедливость.
Соответственно, это должно было бы нас насторожить. Как же так, философ-правитель будет несчастен? Это несколько неожиданно. Да, он будет несчастен, но это объясняется тем, что счастье более низких сословий, те ценности, которыми они живут — все это относится к сфере иллюзии. Это иллюзорное счастье. Более того, всякое счастье иллюзорно. Все иллюзорно, кроме высшей справедливости. И философ-правитель выбирает «несчастье» в обычном смысле, чтобы достичь истины. И только самопожертвование личным ради всеобщего делает мыслителя по-настоящему счастливым.
Справедливость превыше всего
Второй момент, который крайне важен для анализа роли философа-правителя в платоновском «Государстве» — это знаменитый «миф о пещере» из седьмой книги. Я думаю, миф я подробно пересказывать не буду, надеюсь, моя аудитория достаточно разбирается в платонизме. Напомню, основные моменты этого мифа очень кратко.
Философ — тот, кто не довольствуется, как остальные узники, прикованные цепями ко дну пещеры, созерцанием теней на стене, — освобождается от оков и направляется к выходу из пещеры в поисках источника истинного света. Он поднимается на верхнюю дорогу, где видит религиозную процессию людей, несущих статуи — от них-то и падают на стену пещеры тени, которые узники принимают за реальность, хотя это лишь иллюзия. Далее философ идет еще выше к огню, горящему у входа, и наконец, выходит на свет. Он видит истинный мир — небо, землю, звезды, солнце. Здесь с ним происходит мистический опыт: ему открывается то, что на самом деле подлинно есть. Теперь он сможет всегда отличать истинное бытие от симулякров, подделок, теней. Это опыт радикального разрыва с той реальностью, точнее, с тем, что он ранее — вплоть до выхода из пещеры — принимал за реальность. Та реальность, которую он покинул, оказывается иллюзорной. Здесь философ уже счастлив, но он не справедлив. Справедливость состоит в том, что после созерцания истинного мира, чистого Блага, идеей, он обязан вернуться.
Личное счастье мыслителя входит в противоречие с требованием справедливости.
Вот как это представлено у Платона. Сократ поясняет: «Раз мы — основатели государства, нашим делом будет заставлять лучшие натуры учиться тому познанию, которое мы раньше назвали самым высоким, то есть умению видеть благо и совершать к нему восхождение; но когда, высоко поднявшись, они в достаточной мере его узрят, мы не позволим им того, что в наше время им разрешается».[7]
И далее он раскрывает в диалоге с Главконом свою мысль:
«— Мы же позволим им оставаться там, на вершине, из нежелания спуститься снова к тем узникам, и, худо ли, бедно ли, они должны будут разделить с ними труды их и почести.
— Выходит, мы будем несправедливы к этим выдающимся людям, и из-за нас они будут жить хуже, чем могли бы.
— Ты опять забыл, мой друг, что закон ставит своей целью не благоденствие одного какого-нибудь слоя населения, но благо всего государства. То убеждением, то силой обеспечивает он сплоченность всех граждан, делая так, чтобы они были друг другу взаимно полезны в той мере, в какой они вообще могут быть полезны для всего общества. Выдающихся людей он включает в государство не для того, чтобы предоставить им возможность уклоняться куда кто хочет, но чтобы самому пользоваться ими для укрепления государства.
— Правда, я позабыл об этом.
— Заметь, Главкон, что мы не будем несправедливы к тем, кто становится у нас философами, напротив, мы предъявим к ним лишь справедливое требование, заставляя их заботиться о других и стоять на страже их интересов. Мы скажем им так: «Во всех других государствах люди, обратившиеся к философии, вправе не принимать участия в государственных делах, потому что люди сделались такими сами собой, вопреки государственному строю, а то, что вырастает само собой, никому не обязано своим питанием и не должно стремиться возместить расходы. А вас родили мы для вас же самих и для остальных граждан, подобно тому как у пчел среди их роя бывают вожди и цари. Вы воспитаны лучше и совершеннее, чем те философы, и более их способны заниматься и тем и другим. Поэтому вы должны, каждый в свой черед, спускаться в обитель прочих людей и привыкать созерцать темные стороны жизни. Привыкнув, вы в тысячу раз лучше, чем живущие там, разглядите и распознаете, что представляет собой каждая тень и образ чего она есть, так как вы уже раньше лицезрели правду относительно всего прекрасного, справедливого и доброго. Тогда государство будет у нас с вами устроено уже наяву, а не во сне, как это происходит сейчас в большинстве государств, где идут междоусобные войны и призрачные сражения за власть, — будто это какое-то великое благо. По правде же дело обстоит вот как: где всего менее стремятся к власти те, кому предстоит править, там государство управляется лучше всего, и распри отсутствуют полностью; совсем иначе бывает в государстве, где правящие настроены противоположным образом.
— Безусловно.
— А ты не думаешь, что наши питомцы, слыша это, выйдут из нашего повиновения и не пожелают трудиться, каждый в свой черед, вместе с гражданами, а предпочтут все время пребывать друг с другом в области чистого [бытия]?
— Этого не может быть, потому что мы обращаемся к людям справедливым с нашим справедливым требованием. Но во всяком случае каждый из них пойдет управлять только потому, что это необходимо, — в полную противоположность современным правителям в любом государстве».[8]
Здесь описано возвращения в иллюзию, в сон, того, кто познал настоящую реальность и пробудился. И это возвращение происходит не для того, чтобы в этой иллюзии сотворить счастье для себя, но для того, чтобы сделать счастливыми других — вот это и есть момент эсхатологического оптимизма. То есть, зная, что пространство на дне пещеры есть пространство иллюзии, область сна, надо все равно возвращаться туда и пытаться открыть веки, снять оковы пленникам. Именно это я называю «эсхатологическим оптимизмом».
Могут заметить, что концепция эсхатологического оптимизма носит своего рода мифопоэтический характер. Я не утверждаю, что это строго философская концепция. Я согласна, что это, скорее, метафорический образ, который, вместе с тем, позволят понять, какие парадигмальные точки присутствуют в фундаментальной философии. Речь идет о философском мифе. Эсхатологический оптимизм — это формула, которая как раз описывает грустное и даже несчастное нисхождение пробужденного философа в мир темных иллюзий и тяжелых ночных кошмаров.
Возвращение к апофатике
Перейдем к другой, не менее интересной, теме — еще более острой, еще более мистической: катафатическое и апофатическое богословие в платонизме. Апофатика утверждает, что Бог или Единое платоников является принципиально невыразимым, непознаваемым. Позитивно созерцать мы можем только область данного, явленного, катафатического, и соответственно, только об этом мы можем полноценно рассуждать.
Катафатику и апофатику я рассматриваю сквозь призму неоплатонической традиции — прежде всего, через Прокла и его анализ, изложенный в «Комментарии на диалог «Парменид» Платона»[9] (шестая книга), где он как раз разбирает катафатическое и апофатическое богословие. Прокл замечает, что катафатическое — это то богословие, которое говорит о предикатах Единого, возводя каждый предикат в высшую степень — например, «самое прекрасное», «самое красивое», «самое умное». Апофатическое же богословие говорит о Едином как о том, что находится по ту сторону всего (ἐπέκεινα τῆς οὐσίας) — по ту сторону нашего мира, по ту сторону пещеры, сна, иллюзорности, языка и всех возможных описаний. Единое не может быть передано никакими словами. Оно является абсолютно трансцендентным.
Когда мы рассматриваем момент возвращения философа в пещеру с сохранением внутреннего ориентира на чисто Единое, то получаем одновременно катафатически — апофатическое богословие. Такое сочетание связано с погружением во вторичное с сохранением внутреннего опыта трансцендентного и являет собой суть эсхатологического оптимизма. Оптимизм в этом случае будет проявляться через признание возможности сообщения о Едином, то есть, через катафатику. Мы допускаем, что Единое может быть чем-то позитивным — каким-то свойством в его наилучшей превосходной степени. Например, Благо — это самое красивое, самое умное, самое высокое, самое честное. Но при этом мы сохраняем и апофатическую ось, которая подтверждает нам то, что при всех своих превосходных атрибутах Благо непознаваемо. В этом намечается некоторая эсхатология. Мы подходим к пределу, к концу (ἔσχατος). Область катафатического конечна. И понять Единое, Благо, мы способны лишь до определенной степени. Далее наш разум бесполезен. Единое и понимается, и не понимается. Пока понимается, мир есть, когда мы подходим к границе, он оканчивается. Мы вступаем в область великого незнания.
Три фазы платонизма
Неоплатонизм в истории философии представляет собой эпоху эпистрофе´, опыт возвращения. У Ю. Шичалина, историка античной философии, был пример деления античной философии на три этапа, которые соответствуют трем фазам неоплатонической философии — триаде: «постоянство» (μονή), «исхождение» (πρόοδος) и «возвращение» (ὲπιστροφή): μονή — это пребывание Единого в самом себе: πρόοδος — исхождение Единого в мир, то есть творение мира. Божественная чаша, чаша Единого, переполняется и из нее вовне вытекает ее содержание. Так происходит творение мира. Из Единого сначала появляется Ум, потом из Ума — Душа, а из нее — телесный космос. И это проявление развертывается, пока не достигнет предела. Тут начинается ὲπιστροφή — процесс возвращения. Душа, отталкиваясь от материи, возвращается к своим истокам, становится на путь обратного восхождения.
Эту неоплатоническую триаду Юрий Шичалин применяет к процессу истории философии. Сам Платон — это область μονή, в которой одновременно содержится все: все толкования платонической доктрины, все возможные исходы мысли, все возможные прочтения. И если мы читаем Платона, то можем заметить, что в его текстах подчас заложены тезисы, которые могут порой противоречить друг другу. Можно найти, например, и признание Единого, и его отрицание, как в «Пармениде». Из Платона выводимо фактически все — как роскошный неоплатонизм, так и противоположные ему во всем объектно-ориентированные онтологии. Если мы будем внимательно смотреть на вторую часть диалога «Парменид», где Единое отрицается и есть только многое, мы легко можем опознать в этом и атомизм, и материализм Нового времени, и постмодернизм, и даже спекулятивный реализм. Девятая гипотеза, рассматривающая такое многое, которое вообще не соотносится с другим многим, это уже отказ от корреляционизма[10], на котором сходятся современные спекулятивные реалисты Квентин Мейясу[11] и Грэм Харман[12].
Соответственно, сам Платон представляет собой огромную философскую площадь, базовую платформу, содержащую в себе синхронно множество имплицитных течений.
Исхождение, πρόοδος, по Ю. Шичалину, в историко-философском процессе интерпретируется как дробление платонизма, то есть изъятие из его корпуса отдельных новых дисциплин, каких-то концепций, связанных с риторикой, логикой, этикой и т. д. Здесь можно найти и нечто созвучное скептицизму Пиррона и т. д. В целом — это дробление. Оно доходит до среднего платонизма — у Нумения или Филона Александрийского уже заметны элементы ὲπιστροφή.
И соответственно, третий этап развития истории философии, по Шичалину — это именно полноценное ὲπιστροφή неоплатоников. Неоплатоники в такой схеме играют особую роль. На них заканчивается дробление, они поворачиваются в обратную сторону и пытаются в рамках мистического опыта вновь вернуться к истокам, направляя свои взоры в высь и стремясь вернуться к Единому. Соответственно, неоплатонизм — это высшая фаза развития платоновской традиции. В отличие от Платона, она имеет более четкую иерархизацию, структурность. Когда мы сталкиваемся с работами Прокла Диадоха, мы видим довольно строгое аналитическое мышление. Здесь все начинается с высшего чисто трансцендентного апофатического Начала — Единого, Блага, и Оно помещается по ту сторону всего (ἐπέκεινα τῆς οὐσίας). И далее, шаг за шагом, вполне рационально развертывается гигантская систематическая модель космоса, ноэтического и физического, нисходящая по ступеням, ведущим от трансцендентного к имманентному.
Опыт прочтения Прокла — захватывающий, крайне интересный эксперимент. Попробуйте прочитать, например, сначала Л. Витгенштейна, а от него перейти к Проклу, и вы увидите, что, на самом деле, структура их аналитического мышления довольно близка. Только у Витгенштейна доминирует тезис: «то, о чем не следует говорить, о том следует молчать», а аналогичный у Прокла «о чем не следует говорить, о том следует молчать» выступает в контексте апофатического богословия. О Едином ничего сказать нельзя. Но молчание о Едином у Прокла не пустое, как у Витгенштейна, а самое содержательное, что только можно себе вообразить. Хайдеггер называл это «зигетикой», «философией молчания».
Возвращение
Так вот, неоплатоники являются мастерами систематизации платоновского дискурса. И здесь крайне важен опыт странного — в чем-то парадоксального — принятия имманентного мира. Плотин, когда говорил со своими учениками, высказал мысль, что он очень стыдится своего тела. Для него сам факт обладания телом являлся крайне болезненным, причинял острую боль. Но при этом Плотин, если внимательно анализировать его работы, не отвергает проявления в телесном мире, он считает, что оно необходимо — прежде всего, чтобы начать восхождение. В какой-то мере Плотин и представляет собой эсхатологического оптимиста. «Я» проявлено здесь, и это «здесь», конечно, разрушительно, тленно, имеет свойство погибать, имеет тенденцию тянуть вниз, клонить долу и уничтожать. И это «здесь» является временным. Путем ὲπιστροφή, возврата, восхождения по лестнице добродетелей, по лестнице наук, по лестнице обрядов и молитвенных приношений богам, по уровням бытия[13] «Я» возвращается к своим истокам, к миру, которому оно органично и изначально принадлежит.
Последовательная вера Плотина в восхождение — это и есть эсхатологический оптимизм. Мы заброшены в мир, но также мы эту заброшенность можем использовать как шанс. Необходимо освобождение, необходим опыт мистического выхода из контуров собственной конечности — опыт теургии, опыт разрыва с индивидуальным, опыт перехода в потустороннюю область. Мы находимся внизу, чтобы двинуться отсюда вверх.
В неоплатонической философии существовали различные школы — как более рационалистические, так и более мистические. Например, Пергамская школа, которой принадлежал император Юлиан, была связана с регулярным мистериальным опытом, который вдохновлялся и произведениями восточных теургов, «Халдейскими оракулами», и Гермесом Трисмегистом, и соответственно, герметическими работами. В любом случае, опыт мистериального разрыва, столкновения самого себя как конечности с чем-то неизвестным, которое является бесконечным, крайне важен для неоплатонизма.
Фигура Господина у Гегеля
В качестве следующей важной фазы в исследовании эсхатологического оптимизма я бы хотела выделить Гегеля. Мы не будем рассматривать сегодня весь комплекс влияния неоплатонизма на последующую историю философии. Не будем также уделять специального внимания апофатическому богословию в христианском учении Дионисия Ареопагита. В принципе, такие проблемы, как христианский мистицизм, я думаю, требуют отдельной лекции. Я перейду сразу к Гегелю и покажу тот момент, который я в гегелевской системе выявляю как эсхатологический оптимизм.
В центре моего рассмотрения стоит знаменитая диалектика Раба и Господина[14] и формула Гегеля: «жизнь есть способ выносить смерть»[15]. По Гегелю, существует два типа сознания — сознание Раба и сознание Господина. Господин отличается от Раба тем, что он принимает на себя риск столкновения со смертью, в то время как Раб отдает свою свободу Господину за то, что Господин берет на себя эту встречу со смертью. Эсхатологический оптимизм у Гегеля связан непосредственно с понятием смерти и отношением к ней. Раб не эсхатологический оптимист. Он его противоположность. Помните, была такая интересная формула у Мартина Хайдеггера, которая звучала приблизительно так: «отсутствие эсхатологического мышления есть чистая форма нигилизма». И вот, у Раба, которого описывает Гегель, такого эсхатологического мышления нет. То есть он не верит в конечность, он отказывается соприкасаться с этой конечностью, он отказывается пересекаться со смертью. Он передает свою свободу Господину, чтобы он вместо него сошелся со смертью. Это напоминает современного человека, который, по сути дела, начинает всецело доверять медиапространству, раскрывается этому медиапространству для того, чтобы оно конституировало его: «Если медиа утверждают, что от коронавируса умирают, то я тогда тоже могу умереть». Все как скажут СМИ: «Если считается, что от него не умирают — значит и я не умру». Процесс такого делегирования отношения к смерти кому-то вовне, условному «Господину», можно проследить как в медиапространстве, так и в области современной философии. Пассивное принятие стихии материальности, материи, путь подчинения ей, есть тоже один из способов отвернуться от смерти. Объектно-ориентированная онтология неразрывно сопряжена с рабским сознанием. Это не провозглашение обреченной воли перед лицом неизбежной, везде и всегда присутствующей смерти, но стремление любой ценой ускользнуть от нее, уклониться. Пусть материя сама столкнется со смертью, избавив сознание от прямого опыта конечности. Или иначе: гегелевская формула «жизнь, как способ выносить смерть» обосновывает позицию эсхатологического оптимизма, и в системе Гегеля выливается в фигуру Господина. Господин и есть эсхатологический оптимист.
Ницше
Перейдем к ницшеанской философии, к вскрытому Ницше нигилизму и его пониманию человека — как «стрелы тоски, брошенной на тот берег». В ницшеанстве, мне кажется, наиболее явно и наиболее отчаянно проявляется последний крик иллюзии, крик последнего человека как того, кто категорически не готов сталкиваться со смертью.
После вдохновенной речи Заратустры об исчерпанности человека и необходимости его преодоления толпа кричит:
«Мы слышали уже довольно о канатном плясуне; пусть нам покажут его».[16]
Далее Ницше описывает последних людей еще более язвительно:
«Его род неистребим как земляная блоха; последний человек живет дольше всех.
«Счастье найдено нами», говорят последние люди и моргают.»[17]
Снова это — гегелевский Раб, антитеза эсхатологического оптимиста.
И напротив, сверхчеловек Ницше — это тот волевой акт, который, отталкиваясь от берега иллюзорности, направляет свою духовную силу, свою интенцию в сторону иного берега, берега, о котором он ничего не знает. По сути дела, в этом волевом решении, в этом выделении Ницше волевой необходимости преодоления человеческого, заложен апофатический оптимизм: куда эта стрела пущена, куда она несется, куда она смотрит — в этом нет никакой определенности, никакой гарантии. Это — отчаянный бросок, жест, обращенный к ничто, направленный туда, где нет полюсов. У Евгения Головина одна из песен начинается словами:
«Где нет параллелей и нет полюсов…»
Соответственно, у Ницше эсхатологический оптимизм — в принятии иллюзорности окружающего мира, в холодной констатации совершенной ничтожности последнего человека, который моргает и хлопает глазами, и одновременно, в кажущемся, абсолютно безосновательном, ни на чем не основанном акте призыва к уходу — в броске стрелы на противоположный берег. А что там за «противоположный берег», никто не знает, поэтому это лишь свободный волевой акт преодоления конечности любой иллюзии. В этом ницшеанская апофатика. Ничтожность нигилизма преодолевается только волей к предбытийной Единице.
Чоран: оптимистичные судороги умирающего
Далее я бы хотела перейти к одному прекрасному румынскому философу, которого я очень ценю — это Эмиль Чоран. Он был близок и к Эжену Ионеско, и к Мирче Элиаде, и к Лучиану Благе — позднее и к Полю Целлану, Самуэлю Беккету, Анри Мишо. Когда я сегодня читала про него справку, обратила внимание на то, что он, оказывается, находился под сильным влиянием культуры европейского пессимизма. Так назвали в одной из каких-то философских энциклопедий среду Шопенгауэра, Ницше и Клагеса. Мне очень понравилось выражение «культур-пессимизм». Соответственно, работы Эмиля Чорана отличаются предельной безысходностью.
Я познакомилась с трудами Чорана во Франции, в России некоторое время назад не так много его работ было переведено[18]. Эмиль Чоран — последовательный румынский нигилист, предельно болезненный. Большинство его работ составлено в форме афоризмов. Все они довольно грустные. Сейчас я вам прочту буквально одну цитату, которая была использована в анонсе моей лекции. «На загнивающей планете следовало бы воздержаться от того, чтобы строить планы, но мы все равно их строим, поскольку оптимизм, как известно — это судорога умирающего»[19].
У Чорана была довольно интересная жизнь. Он получил воспитание в религиозной среде, и первое время занимался религиоведением. Потом жизнь повернулась иным образом, он оказался под влиянием Шопенгауэра, Ницше, Клагеса. Постепенно он стал становиться, своего рода, «нигилистом». Тяжело пережил Первую мировую войну. Из-под его пера появляются такие работы, как «Краткая история разложения», «Силлогизм и горечь», «Несчастье родиться», «Признание и проклятие», «Злой демиург» и т. д. Все это написано в афористическом стиле — это отрывки, тяжелые и болезненные, немножко похожие на темные фрагменты Василия Розанова.
В эсхатологическом оптимизме Чорана есть две составляющие. С одной стороны, это принятие иллюзорности этого мира, принятие его конечности, его абсолютной непроходимой замкнутости при отсутствии какого бы то ни было выхода из него. Чоран пишет о том, что он находится в мире, который приговорен, что мы все заведомо осуждены, прокляты и являемся жертвами этого осуждения. У нас нет выхода отсюда: никакого и во всех направлениях: нет выхода вверх и нет выхода вниз, потому что «мы — приговоренные и распятые на кресте толкования», как писал Чоран. Или в ином месте: «Мы уже рождаемся распятыми». Или еще: «Душа — это уже распятие».
При этом Чоран говорит о том, что «оптимизм — это судорога умирающего». Но и она необходима для того, чтобы каким-то образом поддерживать статус этой Вселенной: ведь именно оптимизм (путь и как судорога умирающего) конституирует мир. Как ни странно, это здоровая реакция на бессмысленность того мира, в который мы заброшены. Несмотря на то, что у Чорана нет какой-то религиозной составляющей и никакой спасительной доктрины, которая могла бы изменить судьбу человека, открыть в ней призыв покинуть эту Вселенную, сделать волевой бросок в сторону Абсолюта, то есть нет позитивной трансцендентности, он тем не менее точно фиксирует важнейшее состояние мира — его иллюзорность, его абсолютную бессмысленность, пронизывающую его усталость. И это, становясь стартовой чертой человеческой экзистенции, составляет основу оптимизма как судорог умирающего.
Поэтому Чоран, на мой взгляд, крайне важен для понимания эсхатологического оптимизма. По сути дела, понятие «эсхатологический оптимизм» и пришло мне в голову после того, как я впервые прочла Чорана. Это было в 2013 или 2012 году. Дальше эти безысходность имманентного мира, трагическое переживание его конечности и, несмотря ни на что, осознание необходимости оптимистичного волевого отношения к этому концу я начала находить уже в других произведениях, у других авторов и в других школах.
Юнгер: превращение корабля в лес
Важный автор, которого я тоже недавно обнаружила как носителя эсхатологического оптимизма — это Эрнст Юнгер. У Юнгера было много этапов в жизни и творчестве, но я имею в виду прежде всего его работу «Уход в лес»[20]. Она недавно вышла в Ad Marginem с блестящими комментариями Александра Михайловского. В этом тексте 1955 года Юнгер говорит о тематике «ухода в лес». В какой-то момент приходит время, когда человек должен разрывать с такой данностью, как безысходность окружающего мира. Юнгер призывает к сопротивлению, к вступлению в борьбу с миром, к возвышению над той иллюзорной реальностью, которую мы свидетельствуем своим отторжением. У него встречаем интересную формулу, которую я процитирую:
«Надо принять решение, оказать сопротивление и вступить в борьбу, скорее всего, безнадежную»[21].
Он говорит о том, что современный человек заброшен в пространство, в котором техника и материя, по сути дела, уничтожают его и он теряет свою ось восстания и суверенитета перед лицом материальности и иллюзорности, и что необходимо совершить восстание против современного мира, оседлать реальность, подчинить ее, уйти в лес. И что при этом он понимает под «лесом» — очень важно. Юнгер говорит, это не значит уход в лес физический, это не партизанская битва против системы, а также не ускользание в то пространство, где больше нет иллюзий, так как иллюзия есть везде. Она есть и в самом себе. Лес — нечто иное, нечто отличное. Речь идет о том, чтобы в центре иллюзорности, в центре обманчивой конечной реальности, которая поглощает человека через технику, через Machenschaft, как это названо Мартином Хайдеггером, человек должен взрастить в себе вертикальную ось, которая будет абсолютно не тождественна окружающей его иллюзии, всему миру. Это ось восстания, она-то и понимается под «уходом в лес».
Юнгер выбирает для ушедшего в лес образ Корабля. Очевидно, это отсылка к Дионису. Когда Дионис сталкивается со своими врагами на корабле, по сути дела, это столкновение двух стихий — лесной, древесной, корабельной, и водной, неукротимый бог заставляет Корабль покрыться буйной растительностью. Палуба и мачты, борта и снасти — все зарастает диким плющом. Корабль превращается в лес. И таким образом — с помощью чуда — Дионис побеждает врагов. Эта метафора служит для Юнгера образом необходимости оставаться в той реальности, в которой он оказался, в которой он проявлен, в которой он рожден, но при этом конституировать внутри нее, в имманентном, некоторое трансцендентное волевое начало, которое будет прорезать эту иллюзию, прорывать и разрушать ее.
Эвола: дифференцированный человек разрывает уровень
Схожие концепции мы встречаем и у традиционалистов. Это, в первую очередь, Юлиус Эвола и его концепции «оседлать тигра» и «дифференцированного человека»[22]. Это та же идея. Согласно Эволе, современный человек находится под разрушительным влиянием материи, под клише общества потребления, под распластывающим давлением техники, которая подавляет его, диктует ему необходимость следования ее собственным инвазивным, отчуждающим алгоритмам. Большинство сдается, опускает руки, сплавляется с Модерном и его законами.
Но вопреки всему отдельные люди — «дифференцированные люди» — делают нечеловеческое усилие, чтобы разбить эту иллюзорность, подчинить ее своей воле, преодолеть, подвергнуть акту радикального трансцендирования. Дифференцированный человек продолжает оставаться в этом мире, но при этом важнейшей установкой его в восприятии этого мира является пронзительное осознание его конечности, его иллюзорности, стойкая уверенность в отсутствия у этой иллюзии онтологического статуса. Такое волевое напряжение выливается в жест резкого разрыва, в опыт разрыва. У Эволы это называется la rottura del livello — «разрыв уровня», пробой, осуществленный в отношении этой иллюзии.
Резюме
Таким образом в трудах тех философов, о которых я сегодня говорила, можно встретить указания на опыт эсхатологического оптимизма. Я бы хотела обобщить, что я подразумеваю под эсхатологическим оптимизмом. Мы рассмотрели различные концепции от Платона до Юлиуса Эволы. Каждому из этих элементов требуется, конечно, отдельная лекция. Попробуем выделить базовые критерии, которые можно проследить во всех этих доктринах.
Во-первых, эсхатологический оптимизм связан с осознанием и принятием мира материального, мира данного, который мы принимаем сейчас как чистую реальность, за иллюзорность, за иллюзию, которая вот-вот рассеется, кончится. И мы предельно остро осознаем его конечность. Но в то же время в отношении этой конечности мы проявляем определенный оптимизм; мы не смиряемся с ней, мы говорим о необходимости ее преодоления. В различных учениях эта конечность может быть преодолена по-разному.
В теологическом платонизме — через путь обращения к Единому, которое находится ἐπέκεινα τῆς οὐσίας, — по ту сторону сущности, — через апофатически-мистериальный путь.
Этот оптимизм может быть проявлен и в политическом платонизме, когда философ возвращается в конечный мир, но не для того, чтобы служить конечному, а для того, чтобы служить бесконечному.
В неоплатонизме опыт эсхатологического оптимизма означает постепенное восхождение по иерархии добродетелей и по лестнице начал души, через самосовершенствование души от низших добродетелей до высших. Когда высшие ступени достигнуты, путь неоплатоника ведет еще выше, и он старается вообще выйти из этой конечности мира, через теургический, мистический акт. В политической философии неоплатонизма, которая, кстати, имплицитно присутствует у поздних платоников, а более эксплицитно — у ранних неоплатоников (например, у Плотина), восхождение связывается и с политическими добродетелями.
Вообще, в платонизме трудно отделить метафизику от политики. Взять хотя бы проект Платонополиса у Плотина. Он невероятно интересен: несмотря на то, что Плотина, вроде бы, отталкивает земной мир, он не отказывается от попыток построить идеальное царство философов. И совсем отвлеченный от материального мира Прокл также участвует в политической жизни родного города — Афин, за что его, кстати, на некоторое время изгоняют. Таким образом, в неоплатонизме эсхатологический оптимизм может проявляться и через политические усилия, через опыт политического служения.
В гегелевской системе опыт эсхатологического оптимизма воплощен в отношениях к смерти Господина и Раба. Господином является как раз эсхатологический оптимист, который становится им тогда, когда говорит смерти радикальное «нет», берет на себя бремя битвы со смертью лицом к лицу. Сознание Раба есть противоположный подход: он абсолютизирует телесную жизнь и жертвует всем, чтобы увернуться от смерти. Отсутствие эсхатологического оптимизма и делает Раба Рабом. Эту позицию можно назвать «неэсхатологическим пессимизмом». Это противоположность эсхатологическому оптимизму. Формула духовного рабства.
У Ницше эсхатологический оптимизм проявляется волевым экстазом, выходом из себя, из иллюзорной реальности.
У Чорана эсхатологический оптимизм безнадежен, но при этом все же он есть, хотя и как «судорога умирающего». Это самая пессимистическая версия, но все же в контексте оптимизма, — парадоксального (во многом гностического, отсюда отсылки Чорана к «злому демиургу») оптимизма отчаяния.
В эволаистской доктрине «эсхатологический оптимизм» проявляется через опыт разрыва уровня, подчинения материи собственной воле, через «cavalcare la tigre», «оседлание тигра». Имманентная конечность починяется субъекту с опорой на чисто волевой акт.
Собственно говоря, Эрнест Юнгер в «Уходе в лес» тоже говорит о подчинении «здесь и сейчас», то есть о нахождении в мире, но не уходе от него. Лес не отменяет Корабля, он по-дионисийски преобразовывает Корабль в лес.
Закончить свою лекцию я бы хотела повторением цитаты Генона: «La fin d’un monde n’est jamais et ne peut jamais être autre chose que la fin d’une illusion» — «Конец мира никогда не является и не может являться ни чем иным, кроме как концом иллюзии».
Эсхатологический оптимизм в вопросах и ответах
Полис
Вопрос: В каком смысле мы используете слово «полис»?
Дарья Дугина: Полис (πόλις) — это греческое название государства или, точнее, города-государства. В более обобщенном смысле используется термин πολιτεία, который мы и переводим как «Государство» в названии диалога Платона.
Вопрос: Есть ли возможность непосредственного политического прочтения эсхатологического оптимизма?
Дарья Дугина: Да, безусловно, есть. Пример такого эсхатологического оптимиста у власти — это Юлиан Отступник, который, по сути дела, совершенно не стремился к власти: ведь он даже сетовал, что ему приходится занять трон. После того, как он стал Императором, он все ночи проводил за тем, что писал философские произведения и очень негодовал, когда ему приходилось заниматься какими-то политическими делами. Юлиан как представитель неоплатонизма был эсхатологическим оптимистом. Эсхатологический оптимизм — это также жест признания того, что все выборы или какие-то иные политические ритуалы есть фальсификации, но при этом утверждение необходимости участия в самой политической системе. Иными словами, вы понимаете, что не получится повлиять на результаты голосования, но вы при этом все равно идете голосовать, все равно высказываете свою позицию. Это, своего рода, героизм отчаяния. Сейчас я говорю в большей степени про американские выборы. Вообще, американская система выборов с выборщиками довольно безумна и весьма архаична. Но эсхатологический оптимизм — это когда вы понимаете, что ваше решение не сильно повлияет на исход выборов, на иллюзию, но вы все равно из признания необходимости взращивания в самих себе политических добродетелей идете на это. Вы понимаете, что, может быть, это бесполезно, но все равно продолжаете. Вы, даже зная, что у вашего дела нет завтрашнего дня, все равно сохраняете ему верность — до конца. Но, безусловно, такое дело — пусть политическое — должно быть мотивировано высшими ориентирами, трансцендентным горизонтом.
Режимы воображения
Вопрос: Можно ли говорить об эсхатологическом оптимизме в терминах Жильбера Дюрана [23] ? Не есть ли эсхатологический оптимизм проявление радикального диурна в условиях тотальности и необратимости смерти? И, следовательно, эсхатологический пессимизм — позиция мистического ноктюрна.
Дарья Дугина: Очень точное определение. Да, действительно. Именно это я и имею ввиду. Тут было замечено, что Радикальный Субъект и эсхатологический оптимизм очень близки. Если мы вспомним концепцию Радикального Субъекта, то в этом безусловно есть момент радикального диурна. Эсхатологический оптимизм — это именно радикальный диурн. И именно те модели, которые я сегодня называла, за исключением, возможно, Чорана — относятся к режиму радикального диурна. Это платоническое восстание, аполлонизм в отношении к данности, это неоплатоническое восхождение диурнического толка как опыт разрыва. Это Гегель с его принятием господского столкновения со смертью. Это ницшеанство как аполлоническая стрела, брошенная по ту сторону. Это Эвола, который является защитником Аполлона, апологетом радикального солнечного трансцендентного диурна. И это Эрнст Юнгер, который тоже стоит в героической позиции. По крайней мере, книга «Уход в лес» мне показалась именно таким манифестом несгибаемого диурна.
Христианин и смерть
Вопрос: Будет ли христианское отношение к смерти проявлением рабского менталитета?
Дарья Дугина: Нет, конечно же, нет. Христианство неразрывно связано с неоплатонической доктриной, и опыт апофатического богословия как раз развит полностью в неоплатоническом изводе. Дионисий Ареопагит в «Трактате о мистическом богословии»[24] пишет о необходимости выхода за пределы позитивных (катафатических) характеристик Бога и о необходимости перехода к апофатическому созерцанию. Конечно, христианство может быть тоже проинтерпретировано по-разному. Но, на самом деле, христианское отношение к смерти никак не может быть примером рабского менталитета. Христианство в целом, в какой-то степени, и есть эсхатологический оптимизм. Здесь мы видим некоторое принятие конца света, признание того, что все, что есть, есть нечто неподлинное, а подлинный — духовный — мир, рай, мы забыли, мы изгнаны из него. При этом утверждается необходимость положительного волевого отношения к концу иллюзии, то есть к смерти.
Мне кажется, идеальная формула — это формула Афонских монахов. Силуан Афонский говорил: «Держи ум твой в Аде и не отчаивайся». Это такое состояние: ты осознаешь и смерть, и ад, и ужас материального мира, и его обреченность, тленность, конечность, но ты все равно не отчаиваешься. И в этом акте «неотчаивания» человек пытается спасти свою душу, пытается ее отмолить. Это значит, что он не смиряется со смертью, не перекладывает ни на кого решение о своей смерти. Это значит, что он принимает эту смерть вовнутрь, держит свой ум в аде и не отчаивается.
Прыжок и страх
Вопрос: Разрыв с иллюзией мира и прыжок в неизвестность не сопровождается ли скорее страхом и отчаянием, нежели оптимизмом?
Дарья Дугина: Да, сопровождается. Именно в этом тоже состоит особенность эсхатологического оптимизма. Он, с одной стороны, отчаянный, с другой — он все-таки сохраняет некоторую надежду на спасение. По сути дела, прыжок — это решение о прыжке с надеждой, что там что-то есть, но при этом с осознанием, что там этого может и не быть, или что ты вполне можешь оказаться не достойным. Наиболее точно прыжок в неизвестность, сопровождающийся страхом и отчаянием, описан у Чорана. У платоников, у неоплатоников, у Гегеля, этот прыжок, скорее, сопровождается не страхом, а оптимизмом. Но это и есть разные изводы эсхатологического оптимизма.
Русские символисты: чертовы качели
Вопрос: Как вы считаете, присущ ли эсхатологический оптимизм русским поэтам-символистам? Вы сказали о понимании Юнгером власти техники над человеком. У Федора Сологуба же «чертовы качели», вся жизнь находится «в тени косматой ели». [25]
В тени косматой ели,
Над шумною рекой
Качает черт качели
Мохнатою рукой.
Качает и смеется,
Вперед, назад,
Вперед, назад,
Доска скрипит и гнется,
О сук дубовый трется
Натянутый канат.
Снует с протяжным скрипом
Шатучая доска,
И черт хохочет с хрипом
Хватаясь за бока.
Держусь, томлюсь, качаюсь,
Вперед, назад,
Вперед, назад,
Хватаюсь и мотаюсь,
И отвести стараюсь
От черта томный взгляд.
Над верхом темной ели
Хохочет голубой:
— Попался на качели,
Качайся, черт с тобой. —
В тени косматой ели
Визжат, кружась гурьбой:
— Попался на качели,
Качайся, черт с тобой. —
Я знаю, черт не бросит
Стремительной доски,
Пока меня не скосит
Грозящий взмах руки.
Пока не перетрется,
Крутяся, конопля,
Пока не подвернется
Ко мне моя земля.
Взлечу я выше ели,
И лбом о землю трах.
Качай же, черт, качели,
Все выше, выше… ах!
Дарья Дугина: Мне кажется, что у русских поэтов-символистов это есть. Однажды, в одном выступлении, я говорила о влиянии на русских символистов неоплатонической доктрины. Там я упоминала о том, что русские авторы Серебряного века пронизаны ощущением потери подлинной реальности, высшей реальности, и что они грезят об этом. Знаете, я почему-то сейчас Андрея Белого вспомнила. У него тоже были элементы эсхатологического оптимизма. С одной стороны, он был заброшен в мир, а с другой стороны, он питал надежду на то, что из этого мира можно выйти, что с этим миром нужно бороться и его можно даже победить. Но он, мне кажется, так и не победил. В его романе «Петербург»[26] побеждает все-таки отчаяние — темное, мистическое, кибеллическое, пронзенное матриархатом пространство города-симулякра.
Мережковский, Бердяев, Шестов
Вопрос: В романе «Юлиан отступник» [27] Мережковский точно передавал образ Императора как эсхатологического оптимиста?
Дарья Дугина: Мне кажется, да. Это образ эсхатологического оптимиста. Отчаянного, несчастного, того, кто, по сути дела, становится жертвой, жертвой нового мира, который придет на смену прекрасному миру Античности, уже увядающему.
Вопрос: Бердяев эсхатологический оптимист? Вот цитата из его книги: «Мир сей не есть космос, он есть некосмическое состояние разобщенности и вражды, атомизация и распад живых монад космической иерархии. Истинный путь есть путь духовного освобождения от мира, освобождение духа человеческого из плена необходимости. Этот призрачный мир есть порождение нашего греха»[28].
Дарья Дугина: В какой-то степени да, его тоже можно назвать эсхатологическим оптимистом.
Вопрос: Лев Шестов — эсхатологический оптимист?
Дарья Дугина: Льва Шестова я плохо знаю, но то, что помню… Нет, не могу так сразу сказать. Мне кажется эсхатологический оптимист — это очень тонкое определение. То есть у кого-то есть элементы эсхатологического оптимизма, но это не значит, что он эсхатологический оптимист. Как Чоран, у него есть элементы эсхатологического оптимизма, но при этом его иногда эсхатологическим оптимистом назвать и нельзя. И следует назвать эсхатологическим пессимистом.
Второй мир
Вопрос: Я так понимаю, эсхатологический оптимизм подразумевает необходимое наличие реальности, которое существует параллельно материальному миру, а возможен ли эсхатологический оптимизм вне системы Платона и Гегеля, например с отказом от Бога и трактовки реальности как иллюзии? Ось «ухода в лес» у Юнгера подразумевает, что человек сам взращивает так называемый «второй мир». Каким должен был бы быть оптимизм для атеиста?
Дарья Дугина: Про Юнгера я до конца не уверена. В «Уходе в лес» он пишет о том, что религия может претендовать на создание человеку другой реальности. Для меня эсхатологический оптимизм невозможен при отказе от Бога или Единого или некоторого потустороннего начала, от трансцендентного Абсолюта. Хотя это апофатическое начало может быть в разных контекстах названо по-разному. С моей точки зрения, любая система, которая теряет Абсолют, теряет трансцендентную сущность, рушится и превращается не в эсхатологический оптимизм, а в нигилизм, в «неэсхатологический пессимизм», я бы так сказала. То есть для эсхатологического оптимизма должна существовать другая реальность — потусторонняя, которая связана с Богом, с апофатическим Единым, с Иным, с каким-то высшим другим началом. Юнгер это, кстати, не отметает.
Взгляд внутрь
Вопрос: Подскажите, пожалуйста, где еще в жизни, в том, что окружает, нас мы можем встретить эсхатологический оптимизм?
Дарья Дугина: В нас самих. Когда мы живем среди пандемии, мы понимаем, что можем в каждый момент умереть, но при этом мы выстраиваем внутреннюю экзистенциальную оборону в отношении этой пандемии. Я отношусь к сторонникам тех, кто верит в ковид, кто принимает ковид как то, что есть. Я его трактую даже с точки зрения экзистенциального вызова, призыва к изменению, как шанс для пробуждения человечества. Мне кажется, что, если мы правильно прочтем те работы, о которых я сегодня говорила, если мы правильно помыслим нашу конечность, если мы правильно осознаем смерть, если мы в себе самих взрастим ощущение конечности, иллюзорности нашего тела и будем думать о том, что находится по ту сторону, то мы обнаружим эсхатологический оптимизм в нас самих.
Вопрос: Дарья Александровна, эсхатологический оптимизм для Вас, в первую очередь — столкновение с сакральным или же с профанным? То есть нацелена ли эта поэтико-философская доктрина на преодоление материального и встречу с абсолютным?
Дарья Дугина: Для меня эсхатологический оптимизм — это некоторое отталкивание от профанного в сторону сакрального, которое не обязательно предполагает столкновение с самим сакральным. То есть вы можете сделать волевой прыжок по ту сторону, но не стать носителем подлинного мистического опыта. Вы можете так и не выйти за свою границу, но при этом вы должны сделать все, чтобы за нее выйти. Эсхатологический оптимист неизбежно находится в профанном, он находится в данности и в иллюзии, но он ориентирован на сакральность. И сможет ли он достичь сакральности или нет — это неизвестно. Он идет по ту сторону, принимает решение о выходе по ту сторону, не зная о том, добьется ли он успеха или нет. В этом особенность эсхатологического оптимизма, в этом его близость к понятию Радикального Субъекта. Да, это сложное состояние: я нахожусь здесь, я нахожусь в этой реальности, она профанна, и я иду от нее к тому, что может меня и не принять. Все делается на мой страх и риск. Но это куда более интересно, чем быть «неэсхатологическим пессимистом».
Вопрос: Так, обязательно ли эсхатологическому оптимисту ждать зова снаружи?
Дарья Дугина: Нет, нет. Эсхатологический оптимист никогда не ждет зова снаружи. Он начинает свой путь, исходя из зова изнутри. То, что называлось у Хайдеггера «зовом бытия» или «зовом сознания» (Der Ruf des Gewissens). Либо это может быть экзистенциальный зов при столкновении человека со смертью, с конечностью. Это может быть зов изнутри, когда человек сталкивается с трагедией, с пандемией, с коронавирусом. На примере близких, которые умирают. Либо когда он сталкивается с острым осознанием конечности окружающего. Это острый зов. Зов должен произрастать изнутри. Снаружи его никогда не будет, а если и будет, то вы услышите его только тогда, когда у вас уже будет зов изнутри. Это как пророчество. Вы сможете его расшифровать только тогда, когда вы изнутри будете готовы к расшифровке. Иначе для вас это останется невразумительной абстракцией. Для меня до сих пор, кстати, загадка, как в платоновском «Государстве» вообще возможны законы, потому что в четвертой книге Платон пишет, что эти законы будут законами Аполлона, а законы Аполлона — это законы Пифии, то есть это некие коанические высказывания, которые еще нужно расшифровывать. Для меня всегда это было загадкой. Если у вас есть зов изнутри, если вы его в себе взрастите, тогда вы услышите зов снаружи. Но нельзя в этом смысле быть пассивным. Вы должны пытаться вызвать этот зов разными практиками — религиозными, экзистенциальными, через опыт внимания к миру. Если у вас нет такого зова, просто читайте книги, читайте всех, кого я сегодня перечислила — платоников, неоплатоников, Гегеля, Ницше, Чорана, Хайдеггера, Эволу. Через эти книги к вам этот зов и явится. Даже если он совершенно мимолетен, он может и задержаться в вас. Если он задержится, то тогда это будет замечательно. Тогда все и начнется.
Элиаде и Ницше
Вопрос: Можно ли назвать эсхатологическим оптимизмом систему, изложенную Элиаде в «Мифе о вечном возвращении»[29]?
Дарья Дугина: Я думаю, вполне.
Вопрос: Как слова из Ницше «Так говорил Заратустра» вписываются в концепцию эсхатологического оптимизма?
«Есть проповедники смерти; и земля полна теми, кому нужно проповедовать отвращение к жизни.
Земля полна лишними, жизнь испорчена чрезмерным множеством людей. О, если б можно было «вечной жизнью» сманить их из этой жизни!.. (…)
Вот они ужасные, что носят в себе хищного зверя и не имеют другого выбора, кроме как вожделение или самоумерщвление (…)
Они еще не стали людьми, эти ужасные; пусть же проповедуют они отвращение к жизни и сами уходят!
Вот — чахоточные душою: едва родились они, как уже начинают умирать и жаждут учений усталости и отречения»[30].
Дарья Дугина: Когда я говорила об эсхатологическом оптимизме, я упоминала о двух типах людей — о тех, которые просят показать им канатного плясуна, и о тех, которые принимают путь преодоления иллюзии через прыжок. Ницше следует читать драматически. У него могут быть и внутренние противоречия, и это хорошо, это значит, что его мысль жива.
Вопрос: У Ницше идея «вечного возвращения», как это совместимо с эсхатологией?
Дарья Дугина: А я бы хотела этот вопрос раскрыть подробнее, потому что он у меня сегодня возникал в голове, когда я готовилась к лекции. Эсхатология понимается мной не как темпоральная конечность мира, а как его конечность, ограниченность принципиальная, как его непреодолимая иллюзорность. Мир, который нам дан, не является вечным, а значит, он уже кончился. Вечным является мир Единого, мир Блага, мир Божественный, мир иной. К нему направлена моя воля. А конечность здесь понимается не как конечность мира как такового, а как конечность мира профанного, как конец иллюзии.
Шопенгауэр и Dasein Хайдеггера
Вопрос: Идея «мировой воли» Артура Шопенгауэра связана с эсхатологическим оптимизмом? Если да, то каким образом?
Дарья Дугина: Сегодня как раз перед нашим семинаром читала Шопенгауэра. У Шопенгауэра есть признание того, что все окружающее есть бессмысленность, и что исключительно волевой акт конституирует пространство. По сути дела, Шопенгауэр, особенно в трактате «О ничтожестве и горести в жизни»[31], приходит к выводу об абсолютном отсутствии смысла в окружающей нас реальности, о невозможности речи об иной реальности, отказе от описания ее, но при этом о жесткой концентрации на воле. Да, это вполне позиция эсхатологического оптимизма.
Вопрос: Как Dasein коррелируется с эсхатологическим оптимизмом?
Дарья Дугина: Сложный вопрос. Когда Dasein экзистирует аутентично, он находится в позиции эсхатологического оптимизма. Перед ним раскрывается смерть (Sein-zum-Tode). Так он сталкивается с самим бытием. Он осознает конечность мира. В этот момент Dasein, экзистирующий аутентично, и становится эсхатологическим оптимизмом. Осознание профанности мира вокруг (как поля das Man) и стремление к трансцендентному выхода из нее — это и составляет сущность аутентичного экзистирования Dasein’а.
По и Бодлер
Вопрос: Эдгар По — эсхатологический оптимист? Его последняя книга «Эврика» о нашей трагической вселенной, финальность которой тождественна раскрытию, заключенному в несчастье.
Дарья Дугина: Благодарю Вас, Валентин. Я об этом не думала. Обязательно перечитаю в этом контексте.
Вопрос: Что можете сказать о творчестве Бодлера в аспекте «Цветов зла»[32]?
Дарья Дугина: Для меня Бодлер тоже своего рода эсхатологический оптимист. У меня на полке на самом виду стоит томик Бодлера, подаренный Аленом де Бенуа — «Мое обнаженное сердце»[33]. Мне кажется, во французской декаданс-среде эсхатологический оптимизм очень чувствуется. Поэтому, да, как раз Бодлер — и именно Бодлер — вполне может считаться представителем эсхатологического оптимизма.
Радикальный Субъект
Вопрос: Какое место в концепции эсхатологического оптимизма занимает Радикальный Субъект[34]?
Дарья Дугина: По сути дела, Радикальный Субъект — это и есть носитель эсхатологического оптимизма, как и «дифференцированный человек» Эволы. Радикальный Субъект — это именно тот человек, который в отсутствии Традиции становится носителем этой Традиции, кто в то время, когда на небе нет звезд, говорит вопреки всему: «Восстань душа», «Auf! O Seele!», если цитировать барочного поэта Христиана Хоффмана фон Хоффмансвальдау. Поэтому, Елена, у Вас очень точное понимание. Именно эсхатологический оптимизм связан с концепцией Радикального Субъекта. Именно про это я хотела сказать, но воздержалась, а Вы догадались.
На стороне зла
Вопрос: Как вы относитесь к эсхатологическим пессимистам, которые служат фанатично силам зла, самой тьме, через грязные подлые дела на земле? Они ваши враги или, может быть, Вы философски к ним относитесь?
Дарья Дугина: Я отношусь к ним с уважением, потому что, если человек выбирает волевую стратегию, если он признает конечность этой иллюзии, даже если он осознанно идет на разрушение этой иллюзии, то я воспринимаю это как волевой акт, и, безусловно, для меня это ценно. Но, другое дело, конечно, что я предпочитаю находиться в пространстве эсхатологического оптимизма, осуществляя положительное волевое решение — попытку выйти из этой иллюзии в направлении неизреченного Верха, непознаваемой бездны вверху. Меня эта концепция гораздо больше привлекает. Зло легко найти и легко увидеть. Для того чтобы увидеть зло, нужно идти вверх, а не вниз. Зло и то, что, на самом деле, страшно, то, что пугает, может быть достижимо наверху. Я говорю это с точки зрения христианского мистицизма. Вспомните: больше всего бесов приходит именно к монахам, к священнослужителям. Именно они испытывают самые страшные муки, когда осознают силу своего греха и глубину своего грехопадения. Они-то и призваны держать свой ум в аду. Представьте, святые люди, которые мучаются, терзаются бесами, они и познают настоящее зло. А не какие-то мелкие пакостники. Потому что, когда вы идете вверх, движетесь в направлении Абсолюта, только тогда вы начинаете понимать, насколько там впереди страшно. А сколько в этом движении может обнаружиться несовершенств внутри вас самих… Зла не надо искать специально. Его, во-первых, достаточно, а во-вторых, истинный объем зла открывается только при приближении к чистому Благу.
Гностики
Вопрос: Гностические системы — это скорее эсхатологический пессимизм или оптимизм?
Дарья Дугина: Вот с гностиками — сложно. Изначально я хотела про них говорить, но потом поняла, что я просто не смогу все объять. Гностические системы бывают разными. Мне кажется, что гностики все же — это эсхатологические пессимисты, но при этом они все равно тоже могут иметь какое-то эсхатологически-оптимистическое измерение. Здесь нужно смотреть, кого именно вы имеете в виду. Сейчас мне только гностик Валентин приходит в голову. Хотя есть и другие намного более пессимистичные системы и авторы. Мне кажется, что Валентин был вполне себе гностическим эсхатологическим оптимистом. Но гностицизм, безусловно, требует отдельного исследования. В этой лекции я в большей степени фокусировалась на платонизме. Поэтому я думаю, что, если я буду разрабатывать доктрину эсхатологического оптимизма дальше, то я, конечно, уделю особое внимание и гностицизму.
Фэнтэзи
Вопрос: Ваше отношение к философии фэнтези. Стоит ли искать глубинные смыслы в работе Warhammer и «Игре престолов»?
Дарья Дугина: Ой, про эсхатологический оптимизм в «Игре престолов» я совсем не задумывалась. Хотя, глубинный смысл надо искать везде и всегда, во всем, что нас окружает. Даже в кинематографе. То, что вы видите на экране и что якобы сделано на потребу непросвещенной недалекой публики, есть ни что иное как результат работы трехсот лет истории философии, если не четырехсот. Та реальность, которую мы принимаем за подлинную, на самом деле — работа конструирования Нового времени. Если бы античные философы видели любой элемент нашей реальности, они бы совершенно иначе его воспринимали, нежели мы. Они бы воспринимали то, что мы называем «реальность», лишь как доксу, мнение, но не как то, что есть на самом деле. Поэтому, я думаю, во всем нужно искать глубокое измерение. В фэнтези, в том числе и в «Игре престолов», в частности. В «Игре престолов» я больше люблю прослеживать проблемы геополитического противостояния, Севера и Юга, двух цивилизационных моделей — культурологической цивилизации Кибелы и цивилизации Аполлона. Warhammer я не знаю, я никогда не играла в компьютерные игры.
Эсхатологический пессимизм
Вопрос: Такой вопрос еще, расскажите, пожалуйста, чуть подробнее про эсхатологический пессимизм, полностью ли он противоположен оптимизму?
Дарья Дугина: Нет, он не полностью противоположен, потому что он тоже эсхатологический. Он подразумевает мир как нечто конечное, тленное и профанное, но при этом он считает, что необходимо воздержаться от каких-либо действий, поскольку все бесполезно. Такой эсхатологический пессимизм — это нигилизм в его худшем проявлении. Фактически, он ведет к пассивному принятию этого профанного мира. Это, по сути, как остывание тела. Это грустная и пассивная позиция, основанная на понимании того, что все конечно и все кончено. Чоран, кстати, мечется между этими эсхатологическим пессимизмом и эсхатологическим оптимизмом. У него в некоторых работах есть прямой призыв к восстанию. Он как будто говорит: «Все бессмысленно, поэтому я должен в себе взрастить противостояние этому бессмысленному. Зачем? Я сам не знаю. Да, это будет так же бессмысленно, но все равно я должен взрастить в себе это начало, я должен взрастить в себе противостояние». Его бросает из глубокого эсхатологического пессимизма в эсхатологический оптимизм.
Вопрос: Получается, что в условиях последних времен две противоположные позиции — эсхатологический оптимизм, как радикальное непринятие смерти и тьмы, и эсхатологический пессимизм, как пассивное принятие смерти и согласие с растворением в ничто — каким-то образом сочетаются и имеют схожие пропорции. При первом рассмотрении их сложно отличить, это напоминает проблематику Радикального Субъекта и его дубля [35] . Что Вы думаете по этому поводу?
Дарья Дугина: Гениальный вопрос! Очень, очень тонкий. Да, это, действительно, похоже на Радикальный Субъект и его дубль. То есть, вроде бы, одновременное принятие профанности мира, его конечности. Но в одном случае — это принятие на себя волевого решения по его преодоления, с другой стороны — это отказ от каких-либо действий. Да, это очень интересная тема.
Вопрос: «Миф о Сизифе» [36] Камю свидетельство эсхатологического пессимизма?
Дарья Дугина: Да, это именно тот момент, когда мы имеем дело с настоящим эсхатологическим пессимизмом.
Вопрос: Значит ли, что на пике достижения определенного духовного состояния как восхождения и преодоления себя, как человека, стирается грань между эсхатологическими оптимистами и пессимистами, где оба в конечности и перед бесконечным сливаются с ничто?
Дарья Дугина: Я бы так не сказала. Состояние выхода, трансгрессии, в принципе, может быть довольно схожим, но при этом опыт выхода эсхатологического оптимиста будет все же представлять некоторое единение с Божественным, с потусторонним миром, с Абсолютом. В то время как опыт эсхатологического пессимиста будет опытом столкновения с ничто. И, на мой взгляд, здесь идет речь о разных ничто — о ничто сверху и ничто снизу. Мне несколько неудобно рассуждать про такие вопросы, потому что мы уже вышли в горизонты мистики — ничто сверху, ничто снизу. Но я бы ответила Вам именно этими словами: у эсхатологического оптимиста есть цель выхода к бездне сверху, а у эсхатологического пессимиста есть только перспектива падения в бездну снизу.
Камю и Батай
Вопрос: Можно ли «прыжок веры» Кьеркегора считать признаком эсхатологического оптимизма?
Дарья Дугина: Да, возможно: у Кьеркегора довольно много элементов эсхатологического оптимизма. То отчаяние Авраама, которое сопровождает жертвоприношение Исаака… Вот это осознание необходимости столкновения со смертью, возможно, также является признаком эсхатологического оптимизма.
Вопрос: Жорж Батай оптимист или пессимист?
Дарья Дугина: Я думаю, что он — эсхатологический пессимист, раз он обращает свой взгляд на нижнее ничто, движется в бездну снизу. Я очень люблю Батая, особенно его работы «по внутреннему опыту»[37], где он разбирает мистику, трансгрессию, и его прозу тоже. Но все же он — эсхатологический пессимист.
Акселерационизм
Вопрос: Являются ли акселерационисты эсхатологическими оптимистами?
Дарья Дугина: Мне кажется, нет. Они не ассоциируют с материей конечность, тленность. Они принимают эту материю, они живут по ее законам, стараются следовать за ней, подражать ей. Они принимают неизбежность движения этой профанической материи, принимают ее в себя целиком.
Вопрос: Как отличить ничто верхнее от нижнего в условиях абсолютного конца: не есть ли, в конечном счете, эти две бездны — одно?
Дарья Дугина: Мне кажется, этот вопрос риторический. Мне страшно брать на себя функцию ответить на него. Сказать: «Ну что Вы, верхнее ничто принципиально отличается от нижнего. Верхнее следует определять по таким признакам, а нижнее — по таким». Так можно было бы поступить, но это — ложный путь. Вопрос, как отличить бездну сверху от бездны снизу — это вопрос, который, мне кажется, тревожил очень многих глубоких мыслителей, философов, писателей. И я думаю, что далеко не все из них — даже гении — нашли ответ на этот вопрос. Так что давайте оставим этот вопрос открытым.
Ведущий: Спасибо большое, Вам, Дарья, за то, что согласились выступать на нашем лекториуме, это была потрясающая лекция.
Эсхатологический оптимизм и метафизика войны[38]
Вкусившему от горнего, легко пренебречь дольним; не вкусивший от горнего подобен скоту, дольним наслаждающемуся.
Несчастье быть. Пессимизм по-румынски
Введение концепта. Ключевые авторы
Здравствуйте, друзья и коллеги! Сегодня я хотела бы поговорить о теме эсхатологического оптимизма. Тема звучит броско, ярко и красиво, но то, что сегодня я собираюсь вам озвучить — это всего лишь гипотеза, набросок философского подхода. Когда я работала с текстами Чорана, Эволы, Юнгера и других мыслителей, мне хотелось объединить их учения в одну группу, обозначить одним именем. Долгое время я не могла найти для них обобщающего понятия. Было очевидно, что это должно было быть как-то связано и с резким апокалиптическим чувством приближающегося конца, но при этом и с волевой ориентаций на участия в битве, на восстание. Слово «традиционализм» подходило для ряда авторов: в меньшей степени — для Чорана и Юнгера, в большей — для Эволы, но тем не менее не описывало в достаточной мере суть того, что меня в их теориях привлекало.
Сегодня попробуем разобрать три основные концепции:
• философию Эмиля Чорана в более широком контексте румынской метафизики ХХ века;
• концепции Юлиуса Эволы, прежде всего — его воззрения, касающиеся темы войны, типов героизма, восстания против современного мира, тезиса «оседлать тигра»;
• творчество Эрнста Юнгера — прежде всего, на основе его довольно известного манифеста «Уход в лес», революционного и яркого, с которым здесь многие должны быть знакомы.
Эсхатологический оптимизм — это не готовая и законченная концепция, не общепризнанная категория в философско-исторической традиции, это лишь гипотеза, предложение по прочтению, по интерпретации текстов. Это комплекс воззрений, которые базируются на признании материального мира своего рода иллюзией, но с одновременным принятием решения о волевом сопротивлении этой иллюзии.
Тут есть две установки, которые нужно зафиксировать.
Первая: тот мир, который нас окружает, непосредственная данность — это иллюзия. Помните, у Рене Генона были важные слова: «La fin d’un monde n’est jamais et ne peut jamais être autre chose que la fin d’une illusion»[39]. («Конец мира никогда не является и не может являться ничем иным, кроме как концом иллюзии»).
Вторая: окружающий мир совершенно бессмысленен, он потерял смыслы, он является жертвой регресса, «он истлел», по Аполлинеру. Les dentelles s’abolissent — одна из моих любимых фраз. Речь идет об «истлевании кружевов смысла». Это чувство абсолютной потерянности в разных философских контекстах может быть названо «богооставленностью», «отсутствием смыслов» или «Кали-югой». Про Кали-югу мы сегодня еще поговорим. Сразу замечу, что этимология слова «Кали-юга» (kali-yuga) происходит не от имени богини Кали (Kālī — черная), а от имени демона Кali, чье имя означает «смешение», «потрясение», «насилие». Есть еще санскритский термин kāla («время», а также «время смерти»), но это третий семантический узел. Все эти концепции в индуизме строго различаются. Для меня это было интересным откровением, с которым я ознакомилась во время подготовки к этой лекции. В индуистской эсхатологии финальная битва, которая завершит конец времен, будет битвой богини Кали (благой) против демона (асуры) Кали или против самой Кали-юги как эпохи правления асуры Кали. Вместе с тем, Кали — это ипостась Шивы, бога вечности. Можно сказать, что Кали-вечность будет сражаться с Кали-временем и победит его. Тогда придет десятый аватара Калки. Вот сколько смыслов сразу в Кали-юге.
Соответственно, в стратегии сопротивления миру как иллюзии ключевым моментом является война. Это вызов миру, восстание против него, желание его подчинить священной воле, оседлать его как силу, как поток и произвести в нем переворот во имя высших ценностей. Каких ценностей? Здесь мы пока остановимся, потому что следует двигаться последовательно, чтобы не скатиться в банальность.
Для тех авторов, которых мы сегодня рассматриваем, вопрос, ради чего, ради какой цели ведется метафизическая война, не совсем очевиден. Подчас для них самих это большой знак вопроса. Авторы, которых мы разберем, практически всегда говорят о необходимости войны и восстания, но вот для чего эта война, это восстание, эта революция часто не называется напрямую, составляет фигуру умолчания. В этом есть апофатическое — подобно тому, как во времена апостолов в Афинском Ареопаге стоял алтарь «Неведомому богу». Эти авторы опасаются говорить, что там или кто там по ту сторону иллюзии — Бог или не Бог, или что-то Превысшее. Они предпочитают оставлять это место пустым. Мы и не будем его заполнять, это не наша цель. Наша цель — разобраться в том, как, учитывая иллюзорность мира, можно противостоять ему, и зачем это нужно, какова мотивация этого переворота, восстания и этой борьбы.
Принципы эсхатологического оптимизма: опыт разрыва
Зафиксируем основные положения, которые представляются нам наиболее важными в эсхатологическом оптимизме.
Первое. Эсхатологический оптимизм у авторов, которых мы сегодня рассматриваем, и тех, которых мы не рассматриваем, но будем рассматривать в дальнейшем, связан с опытом разрыва. У Юлиуса Эволы опыт разрыва дан в формуле la rottura del livello. Порыв с иллюзорностью и приход к иному, разрыв инертности материи, привязки к этой материи, отделение себя от мира, который есть данность и одновременно есть иллюзия.
Второе. Это — иерархия. Эсхатологический оптимизм считает, что в мире есть высшее и низшее, есть то (иное) и есть это (данное). Это противостояние образует войну. Война, что ведется в рамках эсхатологического оптимизма, это война иллюзорности, т. е. низшей данности, с тем, что находится по ту сторону, что является нас превосходящим наши границы. Это то, что неоплатоники называли ἐπέκεινα τῆς οὐσίας (эпикейна тес оусиас), «по ту сторону сущности». Эту формулу используют, чтобы сказать об апофатическом Едином, о высшем начале.
Несчастье «быть между» и преодоление времени
В эсхатологическом оптимизме одной из самых важных характеристик является несчастность. Человек, который бросает вызов данности, идет на восстание, провозглашает категорическое «нет», выражает тотальное несогласие с тем, что вокруг него — такой человек является несчастным. Ведь он отказывается от состояния, который Ницше обнаружил у последних людей: «Счастье найдено нами», — говорят последние люди и моргают».[40] Он отказывается от зрелищ, развлечений, от созерцания канатного плясуна. Он хочет иного, он бросает вызов данности, и он рискует, так как он бросает вызов и самому себе, направляя свою волю и посылая свой внутренний удар вовне.
Пытаясь выйти за границы себя, эсхатологический оптимист, этот «метафизический пограничник», пребывает в сфере одновременно удержания и данного и броска к не данному, на границе потустороннего и здешнего. Такова структура разрыва — его руки разведены в разные стороны: одна держит небо, а другая попирает землю, пытается от нее оттолкнутся.
В эсхатологическом оптимизме важной характеристикой является необходимость преодоления времени. Время, согласно Платону, это движущееся подобие вечности. Но это подобие в чем-то бракованно. Во имя возврата к вечности оно должно быть преодолено.
Крайне скептическое рассуждение о времени мы встречаем у Чорана — особенно ярко в работах, посвященных истории, где Чоран радикально критикует историю как таковую, говорит о том, что необходимо пробить дно времени и вырваться к вечности. Мы встречаем это и у Юнгера, когда он утверждает, что тот, кто уходит в лес, помещает себя на территорию вечности. Он не работает в плоскости времени, он не подвержен ни прогрессу, ни регрессу. Он меняет свой вид — отныне он больше не состоит из того, из чего состоит время.
Неизбежность существования «между», человеческая фигура, с одной поднятой, а другой опущенной рукой, которую мы можем увидеть на многих традиционных изображениях[41] — вот эта фигура обозначает заброшенность в область, расположенную между тут и там. Сейчас на ум пришли египетские изображения божеств, парящих в промежуточном пространстве, без прикосновения к чему-либо. Они находятся между апофатическим здесь и апофатическим там. Постепенно вырисовывается фигура метафизического пограничника — эсхатологического оптимиста, человека, который существует на разрыве, на грани, между двумя мирами.
Предшественники эсхатологического оптимизма
Когда я взялась разбирать проблему эсхатологического оптимизма и делала первую вводную лекцию на проекте «Сигма», я начинала с Платона. И я тогда сказала, что платонизм — это опыт эсхатологического оптимизма. Потом, через какое-то время работы над темой, я поняла, что это была анахроничная попытка увидеть в Платоне то, что на самом деле проявляется только в нигилистическую эпоху. Поэтому поправкой к моей первой лекции станет видение эсхатологического оптимизма как процесса, который проявляется в конце XIX-го — начале XX-го веков. Предшественниками эсхатологического оптимизма являются эсхатологические пессимисты — те, кто вскрывают нигилистическую сущность Модерна, кто видят в Новом времени и его культуре лишь ничто и сталкиваются с этим ничто, но отчаянно, пассивно.
Фридрих Ницше представляет собой предвестника эсхатологического оптимизма. Какие-то его работы и фрагменты можно прочесть с точки зрения эсхатологического оптимизма — особенно пассажи про преодоление «стадии льва» и «фазы младенца» в превращениях духа, про «играющего бога» Диониса. Но тем не менее, его философия находится в конце старого начала. Это — пограничная область между старым началом и новым. Тут я обращаюсь к характеристике Мартина Хайдеггера. В его анализе формулы Ф. Ницше «Бог мертв»[42] Ницше описан как выразитель последней стадии европейской метафизики, т. е. старого начала.
Лучиан Блага: Великий Аноним, трансцендентальная цензура, онтологические мутанты
Переходим теперь непосредственно к эсхатологическому оптимизму. Здесь начинается самое интересное. Для меня абсолютным примером эсхатологического пессимизма долгое время являлся Эмиль Чоран. Более депрессивного и трагического мыслителя я не встречала. Каждый раз, когда у меня случался приступ меланхолии, я к нему обращалась. Чоран стал для меня эквивалентом «Gloomy Sunday» или музыки Диаманды Галас. Это как вопль отчаяния, крика, безупречное стилистически выражение болезненного восприятия реальности. Я бы, наверное, и считала Чорана таким уникальным и одиноким гением, если бы не познакомилась с трудами Лучиана Благи и не поместила Эмиля Чорана в контекст глубоко трагической румынской философской мысли ХХ века.
Мы начинаем введение в Эмиля Чорана через другую ключевую фигуру румынской философии — через Лучиана Благу (1895–1961). Блага — румынский философ и культуролог. Его самая известная работа — «Трилогия культуры»[43]. Я читала ее на французском, по поводу перевода на русский язык мне ничего не известно. Недавно начала его изучать и тут же поняла, что фигура — великая и сильно недооцененная.
Лучиан Блага — автор невероятной онтологической теории о том, что мир был создан Великим Анонимом (le Grande Anonyme)[44]. Блага гностик, но с очень странным оттенком. Это не прямолинейный гностицизм. В нем есть что-то очень русское, изломанное, дионисийское, смешанное, безумное. Блага говорит, что человек заброшен в мир, созданный Великим Анонимом методом вычитания, а не прибавления.
Кто такой Великий Аноним? По Лучиану Благе, прежде всего существует некий Абсолют. Он могуществен и велик, наделен всеми высшими характеристиками. Но будучи сам Абсолютным, он не может сотворить столь же абсолютный мир. Если бы высший Бог, этот Великий Аноним, прямолинейно сотворил мир таким же абсолютным, каким является он сам, то этот мир стал бы тождественен ему. То есть Он сотворил бы самого себя — такого же совершенного, могущественного, полноценного, как он сам. И вместо одного Абсолюта стало бы два. А это не должно сбыться, потому что, если будет два Абсолюта, то первый Абсолют перестанет быть абсолютным, потеряет свое превосходство, могущество и совершенство.
Тогда Лучиан Блага говорит о том, что Великий Аноним творит ограниченно, используя трансцедентальную цензуру. Это значит, что он специально создает мир, который недостаточно хорош; он специально занижает качество этого мира, для того, чтобы тот никогда не совпал с ним самим и не стал бы тождественен ему как единственному Абсолюту. Поэтому наш мир и мы, люди, заброшенные в этот мир, произведены этим Великим Анонимом несколько несовершенным образом. Это значит, что Вселенная — это сбой, «глитч», продукт намеренной цензуры, результат изъятия определенных онтологических компонентов. И как несовершенен сотворенный мир, так же несовершенны и мы. Это опасная ситуация, потому что мы лишены подлинного знания, от нас надежно сокрыт и сам этот Великий Аноним. Он сделал себя непознаваемым, спрятался, сокрылся от нас. Это напоминает апофатическое богословие, но я бы не спешила, потому что здесь слишком много гностических влияний, гностического стиля мышления.
Человек, который начинает свое великое пробуждение, т. е. философ, стремящийся к знанию, к высшей и последней истине, взбирается по ступеням созерцания, пока не достигнет определенного горизонта. У Благи он называется «мистериальным горизонтом». Геометрически это можно было бы представить в виде трапеции, то есть треугольника со срезанной вершиной. Человек взбирается по иерархическим ступеням и думает, что они приведут его прямо к Единому — туда, где сходятся все лучи. Но тогда абсолютным оказался бы сам мир. Поэтому мир появляется в силу «трансцендентальной цензуры». И поэтому у треугольника срезана (отцензурирована) вершина. Там, где должен быть последний — высший — сегмент треугольника, нет ничего. Плато, плоскость. Человек не может познать, каков Он, Великий Аноним. Он может достичь, двигаясь по ступеням позитивного знания, лишь горизонта тайны, мистериального горизонта. На этом заканчивается попытка человека достичь, увидеть, познать Великого Анонима.
Обреченность человека в таком мире, который описывает Блага, — а это и есть наш мир и он единственный из миров, — состоит в том, что мы всегда ограничены этим мистериальным горизонтом. И это непреодолимо.
При этом все же существует разница между обычными людьми, которые довольствуются своим местом в бытии, и философами, которые движутся вверх — к мистериальному горизонту. Когда человек поворачивает свой взор от низшего, от данности, от иллюзии к высшему, в нем происходит важное изменение — онтологическая мутация, по словам Блага. Меняется структура его сознания. Философ становится онтологическим мутантом. И культура, по мысли Благи — это как раз тот пакт, который заключает человек с Великим Анонимом на уровне достижения мистериального горизонта. Когда пакт заключен, Великий Аноним дает какую-то часть знания онтологическому мутанту, т. е. человеку пробужденному. Но только не напрямую, а обратным — апофатическим образом, через отсутствие. Культура является связкой между Великим Анонимом, между последними высшими абсолютными истинами и человеком. Соответственно, тайна культуры и становится для Благи центральной темой, что подробно разбирается в «Трилогии культуры».
Два типа сознания: люцифирическое и парадизиакальное
Блага говорит о том, что есть два типа людей, два типа сознания. Это люциферическое сознание и парадизиакальное сознание. Чем они различаются? Люциферическое сознание — это сознание пробужденного человека, который обращен на Великого Анонима, или точнее, на мистериальный горизонт, который непознаваем и который только можно предчувствовать, к которому позволено лишь отдаленно подступиться — насколько позволит культура. Одновременно этот люциферический ум является онтологическим мутантом. Плюс ко всему прочему, он несчастен, потому что он не может понять до конца Великого Анонима. Такой люциферический человек чувствует, что обречен, проклят в силу как раз этой отторгнутой у него возможности быть единым с Богом.
Люциферический тип понимает, что его обманывают, он осознает карательную функцию трансцедентальной цензуры, но при этом он предчувствует, понимает, что Великий Аноним есть, его не может не быть. Находясь в этом срединном положении метафизического пограничника, онтологического мутанта, он ведет свою жизнь, растерзанную противоречием между волей к абсолютному знанию и невозможностью его достичь.
Здесь у Лучано Благи появляется позиция, близкая к эсхатологическому оптимизму. Обреченный люциферический человек закинут в этот мир, заброшен в него. Но при этом у него есть возможность мистериального горизонта. Возможность эта мала и зависит от культуры, в которой человек родился. Например, для Благи очень важна румынская культура. Он дает пронзительное описание румынского пейзажа, миоритического[45] пейзажа, наполовину погруженного в смерть и тление. Его яркая черта — распавшиеся заборы дворов румынских крестьян, предметы культуры, помещенные в стихию распада. У нас в России тоже такие заборы присутствуют. Я и в центре Москвы их подчас до сих пор встречаю.
Что такое «разрушенный забор»? Это прямое следствие трансцедентальной цензуры, откуда вытекает отсутствие права повторять божественный порядок. Это пронзительное чувство тщеты, что человек заброшен, что он является онтологическим мутантом и не способен по природе и сущности воспроизвести высший геометрический порядок форм. Поэтому человеческие заборы повалены.
Блага, характеризуя румынское общество, говорит, что это нужно принять — пронзительное чувство тщеты, миоритический пейзаж, пронизанный смертью.
Он так же характеризует разные общества и говорит: смотрите, в английском обществе заборы прямые, но кто из-за них появляется? Из-за них выезжают машины, выходят одетые во фрак джентльмены или, на худой конец, опрятные кухарки.
А в румынском обществе заборы кривые, и кто из-за них выходит? И он отвечает: из-за перекошенных, еле держащихся на петлях калитках, выходят духи. В принципе, и на русских землях, где повалены заборы и перекошены калитки, тоже время от времени выходит духи. Я сама свидетельствую, я их видела. Они очень странные, может, мы их принимаем просто за людей, которые немного выпили. Но я думаю, что все на самом деле серьезней… В них сокрыто что-то более сильное и тревожное, быть может, глубинная онтологическая мутация.
Парадизиакальным (от paradise — рай) сознанием является сознание обычного гражданина, обывателя, который ничего подобного не замечает, которые и не догадывается про мистериальный горизонт. Концы с концами у него сходятся только потому, что он никогда и не пытался их по-настоящему свести.
Чоран: энтузиазм как форма любви
Онтологическая мутация, которой посвящает внимание Блага, является высшей наградой для человека, в отличие от других животных. Блага разделял понятия культуры и цивилизации (как Шпенглер). Высшие типы животных могут организовать цивилизацию, но не могут организовать культуру. Таким образом мы приходим к Эмилю Чорану.
При подготовке к лекции совершенно недавно — и это для меня было откровением — я узнала, что он все же абсолютный онтологический оптимист.
Он родился в 1911 году, умер в 1995 году, в Париже, одинокий, покинутый всеми от болезни Альцгеймера, как вспоминал лечащий враг Элиаде профессор Маринеску. К нему никто не приходил, и умирал он в чудовищной нищете. Приехал во Францию после войны, почти порвал с румынским языком, не писал на румынском, а только на французском. Интересно, что он сын — православного священника, закончил факультет филологии и философии в Бухаресте. Думаю, на его биографии подробно останавливаться не будем.
В работах Чорана мы всегда сталкиваемся с разочарованием в иллюзорности мир. Он постоянно говорит об упадке, о конце человечества. Он убежден, что человеческая цивилизация исчерпала саму себя, погубила себя. Его называли «пророком нигилистической эпохи». В словарях и энциклопедиях его относят к культуре пессимизма. Но это поверхностное знание об Эмиле Чоране.
Чтобы понять, кем он был на самое деле, следует обратиться к его тексту под названием «Энтузиазм как форма любви» из сборника «На вершинах отчаяния»[46]. Это один из его ранних текстов — в 1934 году Чорану было 23 года. Перевод этого текста опубликован на сайте «Центр консервативных исследований»[47], перевод осуществлен Александром Бовдуновым, специалистом по румынской философии и культуре. (Очень рекомендую посмотреть его работы про Благу, про Великого Анонима и другие работы).
Что такое энтузиазм? Чоран говорит, что это решительность, готовность действовать, несмотря ни на что, подчеркивая при этом, что у такого действия может вообще не быть никакого результата. Энтузиазм — отсутствие принятия во внимание всякой дуальности, несовершенства мира. Это попытка преодолеть искусственный дуализм этого и того и выйти на мистериальный горизонт.
Это — стратегия отказа. Важно, что Эмиль Чоран описывает энтузиазм как форму любви. Он говорит, что эта истинная любовь не мыслит себя в дуализме — я/другой, она не является направленной на что-то. Это любовь высшего толка. Это — любовь, затапливающая собой все, любовь не горизонтальная, но абсолютно вертикальная.
Внутренней природе каждого энтузиаста свойственна космическая, вселенская восприимчивость, возможность принять все и от переизбытка импульса изнутри направить себя в любом направлении. И при этом не потерять ничего, участвовать в любом действии с неиссякаемой жизненной силой, которая тратится на наслаждение от реализации, на страсть воплощения, эффективности. Для энтузиаста не существует критериев и перспектив, для него есть только отказ, беспокойство дарения, радость выполнения и экстаз результата. Это и является главным для такого человека, для которого жизнь — это бросок, рвение, в котором ценны только текучесть жизненного процесса, нематериальный порыв, поднимающий жизнь на такую высоту, где деструктивные силы теряют интенсивность и эффект отрицательного воздействия.
Энтузиаст не знает поражения, он не знает целей своей войны, но при этом он восстает. Он восстает, отказываясь от иллюзорности, восстает против банального наслаждения, которое навязывает современная цивилизация. Он уходит от общества потребления. Он — единственный, как говорит Чоран, кто чувствует себя живым, когда все другие мертвы. Энтузиаст чувствует себя вечным.
Чоран описывает энтузиазм как любовь, в которой отсутствует объект любви, как переполняющую все любовь. Причем эта любовь по описанию похожа на то, как описывает ее в диалоге «Федр» Платон: любовь не к объекту, не к науке, и даже не к идее, а любовь сама по себе. Это — высшая форма любви.
У Чорана этот текст — уникальное свидетельство эсхатологического оптимизма. Если вы будете знакомится с Чораном в целом, вам бросится в глаза его глубокий пессимизм, его проклятье бытию. Его текст «Признания и проклятия»[48], действительно, стоит читать под «Gloomy Sinday». Но при всем этом ничего общего с пессимизмом и нигилизмом Чоран не имеет. Он — истинный эсхатологический оптимист.
Энтузиаст преодолевает дуализм, дуализм для энтузиаста — это яд. Он находится по ту сторону дуальности, раскола.
Злой демиург
Теперь давайте посмотрим на гностические воззрения Чорана. У него есть текст «Разлад»[49], где он говорит про две истины. Начинает он изложение со своего понимания истории. С точки зрения Эмиля Чорана, история — это обман. История создана для людей, которые, если прибегать к метафизической картине Лучиана Благи, являются узниками нелюцефирического (парадизиакального) сознания. Это те, кто являются пленниками пещеры, по Платону. Люди-объекты, некритичные восприемники, потребители окружающей их иллюзии. Соответственно, история — это наказание, история — это проклятье.
В тексте «Две истины»[50] Эмиль Чоран прибегает к метафизической модели, где присутствуют три инстанции. Эта модель очень похожа на Лучиана Благу.
Там есть «добрый Бог», именуемый также «спящим богом», который находится по ту сторону всего. Такой Бог добр, благ. Он не может сотворить мир, потому что он не способен на трансцедентальную цензуру. Ему претит совершать акт обмана. Он по-настоящему и всецело добр. В нем нет никакой хитрости. Он всеблагой. Добрый бог не может творить, и поэтому Он находится вне мира. Чоран даже ругает Его, говоря, что Он «слишком мягкотелый бог». У Чорана есть странная метафора в отношении этого персонажа, который качественно иначе толкуется, нежели апофатический Бог полноценной теологии, который просто находится по ту сторону. В благом добром Боге совсем нет иронии, тогда как территория нашего мира глубоко иронична. Та область, где находится спящий бог находится ἐπέκεινα τῆς οὐσία.
При этом наш мир создан иным богом, не таким рафинированным и бездеятельным. Злым богом. У этого злого бога есть авторское право на дефекты. Этот злой бог творит нас, творит мир, вводит трансцедентальную цензуру, вершит ее. Он творит неподлинный, неабсолютный мир. Этот бог на самом деле — злой бог, злой демиург.
Тут мы сталкиваемся с гностической теорией. Здесь в полной мере уместно вспомнить Лучиана Благу и его формулу Великого Анонима. Вот она, центральная топика румынского Логоса! Она проникает в Чорана, в Благу, в других румынских гениев. Они мыслят синхронично — именно злой бог есть источник всех пороков и недостатков Вселенной. Он и есть дьявол. Дьявол же у Чорана описан прекрасно. Он выступает как современный человек, как менеджер. Он — просто управляющий, администратор, на которого повесили функцию вершить историю. Он менеджер мира сего.
Задача человека, по мнению Чорана (в этом и проявляется его эсхатологический оптимизм) — это, во-первых, восстание против дьявола. Отвержение искушения, соблазнов, иллюзорности.
А во-вторых, когда вы взрастили в себе онтологическую мутацию, вы переходите на следующий уровень, вступаете в битву со «злым демиургом». И вот тут возникает проблема: ведь вы находитесь в историческом процессе, в Кали-юге, и люди вокруг вас пребывают в фазе глубокого забвения бытия. Как в такой ситуации, в такой фазе выйти из исторического процесса, за его пределы? И тут Эмиль Чоран говорит о страшном: о том, что нужно пробить, прорвать ткань истории, вышвырнуть себя из истории, убрать себя из нее, а ее из себя, и постучаться в вечность снизу. Это значит, выйти на самое дно, зайти на территорию ада. Такая спецоперация характеризуется им как мистический опыт, основанный на радикальном разрыве с человеческим как таковым. То есть, это опыт отторжения себя как продукта трансцедентальной цензуры. Это абсолютное «нет», сказанное себе как результату трансцендентальной цензуры. Вместе с тем, это абсолютное «да» онтологической мутации. Причем, это «да» — безумное, разрывающее. Когда мы пробиваем историю, выходим из времени, это значит, мы выходим за границу самих себя. Здесь начинается мистический опыт. Эсхатологический оптимизм — это призыв преодолеть, перевернуть, границу, уйти через нее, бросить стрелу на тот берег, решиться на переход. Именно такой онтологический вызов ставит Эмиль Чоран в эсхатологическом оптимизме. Это глубочайший рискованный духовный опыт, и никто не знает, чем он закончится. Это и обреченность: ведь здесь нет обещания, никаких гарантий, что вы, покинув этот исторический процесс, выведя себя из времени, обретете блаженство или созерцательную жизнь. Нет, у эсхатологических оптимистов вы никогда не услышите слов ободрения. Вы сражаетесь, когда нет звезд — как говорил Христиан Хоффман фон Хоффмансвальдау:
Auf, o Seele, du mußt lernen,
Ohne Sternen,
Wenn das Wetter tobt und bricht,
Wenn der Nächte schwarze Decken
Uns erschrecken,
Dir zu sein dein eigen Licht.
Вверх, душа! Ты должна учиться
Без всяких звезд.
Когда непогода бушует и бьется,
Когда черные облака ночи,
Нас пугают,
Быть для самой себя своим собственным Светом!
Жить на пределе
Чоран говорит нам: вы обречены, вы не знаете, насколько ваша онтологическая мутация, насколько ваше решение о разрыве будут удачными. Вполне возможна полная неудача, и вы проделаете бессмысленную работу.
Не правда ли, намного веселее было бы стоять и хлопать глазами, говоря, как последние люди Ницше: «счастье найдено нами»? Но Чоран говорит, что все равно, во что бы то ни было необходимо избавляться от этого мещанского сна. Он испытывает глубокую ненависть и глубокое недоверие к самим базовым условиям человеческого существования, к тому, что дано человеку, к тому, кем он является. Он говорит об абсолютном несчастье, онтологическом обмане. И этот обман ему категорически не нравится.
Если читать Чорана через призму гностицизма, то, с одной стороны, перед нами окажется глубоко несчастный человек, заброшенный в бессмысленный мир, но с другой — у такого человека все же будет надежда, что в самóм жесте энтузиазма, в чистом действии по преодолению своей границы, в акте онтологической мутации, он сможет обрести что-то высшее, что-то более достойное. Хотя может и не обрести. Но этот акт сам по себе и есть счастье — как процесс восстания, а не финал, как сама брошенная на тот берег стрела, а не цель, в которую она попадет (или не попадет).
Поздний Чоран более скептичен, более строг, жесток и депрессивен. Да, он меланхолик. Если вы откроете «Признание и проклятье», то увидите эсхатологического пессимиста. Он провозглашает, что грядет конец света, и что он обязательно сбудется, что все проклято, и что человечество обречено на страшные муки. Но все дело в том, что Чоран не просто констатирует неизбежность, он не совпадает с ней, не довольствуется ею. Он находится «между», балансирует между отчаянием и надеждой — ведь румынской культуре в целом свойственны метания.
Прочитаю некоторые фрагменты из его записных книжек. Это поздние работы — «Записные книжки 1957–1972 годов».
«Не умею жить иначе, только на пределе пустоты или полноты, только крайностями»[51].
Важная метафора. Чоран живет на территории онтологической мутации, всегда находясь на границе.
У Чорана встречается термин «меланхолия», он постоянно повторяет, что одержим меланхолией и ностальгией. Термин «ностальгия» обозначает, по Чорану, воспоминание о мире, который был когда-то и который мы потеряли. Попытку вспомнить то, что мы когда-то имели, но не имеем сейчас и никогда не будем иметь впредь.
Меланхолия, по Чорану — это тоска по иному миру, но при этом автор отмечает, что он никогда не знал, что это за мир. В отличие от человека Традиции, который все помнит вопреки всему и уверен, что «истина в конце концов победит» (как сказал Генон[52]) и истинные пропорции онтологии будут восстановлены — после конца иллюзии.
Эсхатологический оптимизм — это феномен особой нигилистической традиции двадцатого века. В Традиции и в магистральном традиционализме он невозможен, где даже в Кали-югу сохраняется припоминание о том — истинном — мире, который был и будет, и который, даже несмотря на всю плотность иллюзии, есть, есть там. А в эсхатологическом оптимизме мы оказываемся заброшенными в мир, который уже безнадежно истлел.
Партизан: пробить вечность снизу
Далее, мы встречаем у Чорана нечто похожее на «теорию партизана» Эрнста Юнгера. Чоран призывает к упразднению публики, утверждает, что надо учиться обходится без собеседников, ни на кого не рассчитывать, вобрать весь мир в себя одного, принять трагический вызов рока, сжиться с состоянием обреченности. Когда он в своем дневнике разбирает немецкую грамматику, то пишет, что самый ненавистный для него глагол — это besitzen, «обладать», а самое замечательное слово-неологизм — entwerden, т. е. буквально «переставать быть».
Когда вы будете читать Чорана и встретитесь с этими метафизическими капканами, пожалуйста, постарайтесь в них разобраться, привлекая для их корректной интерпретации румынскую культуру и парадоксальную гностическую топику, связанную с эсхатологическим оптимизмом. Тогда вы сможете выстроить всю картину его тревожной, но очень глубокой мысли.
Для меня обращение к румынскому контексту стало откровением. Именно благодарю Лучиану Благе это обнаружилось в полной мере. Для меня Чоран изначально был абсолютно обреченным мыслителем. Я читала его «После конца истории»[53], где он рассуждает про Апокалипсис, и где, в принципе, все довольно понятно, и толковала его ностальгию как черное отчаяние, ужас от совершенной богооставленности и пребывания в аду.
Но важно помнить, что наряду с этой черной онтологией Чоран предлагает все же выйти из времени, пробить вечность — пусть снизу.
Значение Чорана для русской философии
Давайте поговорим о месте Чорана в русской культуре. Почему мы говорим о нем здесь, в России? Зачем нам эти румынские заборы, эта онтологическая мутация? К чему темная поэтика непонятого румынского дионисийства? Но вот сам Чоран говорит о России, что это — страна, пространство, где возможна реализация эсхатологического оптимизма. У него нет формулы эсхатологического оптимизма, но то, что он описывает, соответствует ему.
Прочитаю его пассаж о России:
«Со своими десятью веками ужасов, сумерек и обещаний Россия оказалась более кого бы то ни было способной к гармонии с ночной стороной исторического момента, который мы переживаем. Апокалипсис удивительно ей подходит, она обладает привычкой и склонностью к нему, и, поскольку ритм ее движения изменился, она упражняется в нем сегодня больше, чем когда бы то ни было в прошлом».[54]
Вот такой вывод Чорана о России. Очень схожая нота звучит у Юнгера в «Уходе в лес», где он рассуждает о роли России и о роли Германии. Этому соотношению в контексте метафизики значительное внимание уделял и М. Хайдеггера. В его Четверице, das Geviert, Небо соотносится с Германией, а земля — с Россией.
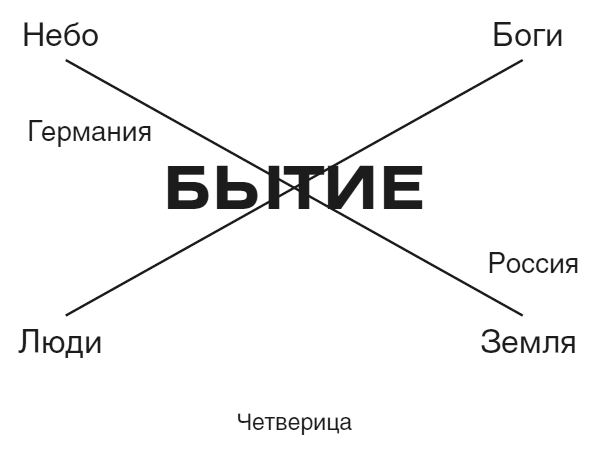
Мы, русские, затронуты чоранизмом, эсхатологическим оптимизмом, и никуда нам не деться. Мы обречены на этот онтологический Differenz[55], на эту онтологическую мутацию. Мы можем за ней последовать, а можем и не последовать. Мы можем отказаться от этой стратегии отчаянной метафизической битвы и стать счастливыми, как последние люди. Но разговор не об этом.
Метафизика войны
Юлиус Эвола, сицилийский барон
Теперь поговорим о Юлиусе Эволе. Здесь мы переходим к более солнечному, диурническому типу. Если брать режимы воображения Жильбера Дюрана[56], то румынский тип сознания соответствует ноктюрническому, т. е. «ночному режиму воображения. Если применить стратегию ноомахического анализа, то румынский Логос[57] — это Логос Диониса, хотя в нем мы можем найти множество вариаций.
Барон Юлиус Эвола родился на Сицилии. По преданию, на Сицилии находились ворота в ад. Там интересная атмосфера. Кто там был, наверное, помнит: палящее солнце, 45 градусов, черная мафия, атмосфера неясной экзистенциальной тревоги… Очень яркие впечатления. Если в основной Италии все заключают браки, творятся вечные свадьбы, то на Сицилии чувствуется присутствие смерти и ада — там все время кого-то отпевают, повсюду смерть, все женщины ходят в черных платках. Я была там на католической службе, зашла посмотреть, и обратила внимание, на то что все были в черных платках.
И вот — сицилийский барон Юлиус Эвола, родившийся в этом пространстве солнечного острова. Его мысль пронизана апориями, оппозициями. Сегодня о нем написано много трудов, опубликовано немало его собственных книг. Для первичного введения в тему я рекомендую ознакомиться со специальной программой «Finis Mundi»[58] — я думаю, что все так или иначе могли ее слышать.
Юлиус Эвола — человек, который находится в самом центре метафизической войны. Он постоянно говорит о том, что только война делает человека человеком. На вопрос, зачем нужно воевать, он отвечает: это конституирует человека. Если же возразить, что нужна не война, а мир, он ответил бы так: мир — это продукт войны, мир без войны невозможен.
Юлиус Эвола является эсхатологическим оптимистом, потому что он признает иллюзорность мира. Он утверждает, что все, что есть вокруг нас — это побочный продукт Кали-юги, результат глубокой деградации человечества, самой космической среды, бытия.
Эвола начинает свою книгу «Восстание против современного мира»[59] с важной формулы: есть два мира — имманентный и трансцендентный, этот и тот. Также есть два порядка: порядок данности, материального, временного бытия, а есть порядок вечного бытия. Это базовая структура метафизического различия, metaphysische Differenz, которую строит Юлиус Эвола.
Когда я разбирала труды Чорана, чтобы найти у него эсхатологический оптимизм, от ранних текстов (большинство из которых до сих пор не переведены), в частности, работы «Энтузиазм» 1931 года, и до поздних, это было не так просто и однозначно. С Юлиусом Эволой дело обстояло иначе. У него все ярко и все сразу видно — вы открываете любую страницу книг «Языческий империализма»[60], «Метафизика войны»,[61] «Люди и руины»[62], и попадаете в ситуацию онтологического раскола, абсолютной войны.
Война профанная и сакральная
Что такое Запад и западная цивилизация, с точки зрения Эволы? Это то, против чего нужно вести внутреннюю войну. Онтологический мутант должен объявить ей восстание. Запад — это не иерархия, а горизонталь, это отсутствие строгого кастового порядка. Но отсутствие кастового порядка для Юлиуса Эволы означает не просто пустоту, но переворачивание истинных пропорций. Это опрокинутая, обратная иерархия. На современном Западе вместо того, чтобы правили аристократы, лучшие во всех смыслах — и в политическом, и в философском, и в экзистенциальном, — правит низшее сословие. При этом Эвола утверждает, что вырождение Запада достигло такой стадии, что правящее торговое сословие, буржуазия — уже даже отдаленно не напоминает купцов античных времен. Это алчные, невежественные, жестокие и тупые вырожденцы, настоящие нелюди. Их кругозор патологически органичен, а воля к материальным благам безмерна.
Запад больше не знает, что такое государство, он не знает, что такое природа. Он кичится тем, что подчинил ее своим меркантильным интересам. На самом деле он осуществляет над природой дикое насилие, пытаясь извлечь из нее потребительским образом все богатства. Современный западный человек истребляет природу, а не понимает ее.
Современный западный человек больше не знает, что такое война. Лживо он взывает к миру, заклинает «лишь бы не было войны», а на практике цинично провоцирует самые страшные и кровавые войны. В этих войнах происходит полное уничтожение человеческой души, потому что, когда человек воюет лишь вынужденно, по принуждению или за деньги, он теряет высший смысл священной войны и становится банальной слепой марионеткой. Он больше не знает, зачем он идет на войну. Он заведомо становится чисто количественной единицей, «неизвестным солдатом». Он идет умирать не пойми за что. Это напоминает то, как идут умирать американские солдаты в Ираке или в Афганистане. Отношение американцев к этим бессмысленным хищническим войнам неплохо показано в сериале «Родина». Не имея внутреннего стержня, не зная духа священной войны, американские военные быстро ломаются. Они и есть все скопом «неизвестные солдаты», погибшие неизвестно за что.
Эвола критикует такое профанное, торгашеское отношение к войне. Он утверждает, что война ведется всегда. Но если она ведется демократическимм режимами, то унижает и уничтожает человека, а не возвышает его. На сакральной войне человек, умирая, попадает в Вальхаллу, а на войне той, которую ведет демократический режим, человек, умирая не получает ничего, и даже семья подчас не получает никакого вознаграждения.
Эвола очень плохо относится к демократическому понимаю войны. Более того, современный Запад не знает ни подлинной войны, ни подлинной смерти, ни подлинной жизни, ни подлинного существования. Он не знает вкуса истинного бытия, он не знает истинной иерархии. Это самое страшное проклятие, которое только может быть. Эвола говорит о том, что иерархия не просто необходима, но выражает в себе сам космический порядок, вселенскую гармонию. Любой порядок иерархичен, он ведет многое к Единому, делает отношения отдельных частей гармоничными и осмысленными.
Эвола призывает любыми путями восстанавливать иерархию. Она необходима и внутри человека. Это своего рода кастовое устройство души, необходимая вертикаль, иерархия начал.
Высшим началом является созерцательное начало, разум. Второе — воинское, третье — плотское, телесное.
Три начала взяты из классической индоевропейской модели организации общества, которые мы встречаем также в платонизме. Платон в «Федре»[63] описывает структуру души как колесницу, состоящую из возничего и двух коней — белого и черного. На этой трехфункциональной системе должна быть основана упорядоченная, воспитанная, дисциплинированная личность, с одной стороны, и политический строй — с другой.
Эти принципы должны действовать как внутри человека, так и в государстве в целом. Эвола говорит, что, если строить иерархию только в себе, но не выстраивать ее в государстве, то это бесполезно. Мы должны воевать с собой и с внешним миром, и в этом проявляется эсхатологический оптимизм. Несмотря на то, что мы видим вокруг выродившуюся демократию, несмотря на Запад, на его бесчувственную, покинутую Богом, высшим Светом, цивилизацию, мы все равно должны идти в этот мир и воевать во имя высшего идеала, во имя того, как должно быть.
У Платона в «Мифе о пещере» подъем со дна к выходу и свету не существует без спуска от света во тьму, чтобы осветить ее самим собой. Многие исследователи этого не замечают или упускают из виду, обращая внимание только на подъем — на то, как освободиться от оков пещеры, как перестать быть узником и т. д. Но у Платона, у Прокла, или на живом примере Юлиана Отступника мы видим необходимость войны и снисхождения в этот нижний мир, чтобы его упорядочить, преобразовать, так как без этого не будет порядка внутри него. В этом и состоит метафизика войны: будучи воином Света, спуститься во тьму, чтобы дать ей бой и победить ее, превратить ее в Свет. Это принципиальный тезис платонизма. Юлиус Эвола разбирает понятие «священной войны». Он рассматривает исламский контекст джихада — «малого» и «большого». В исламе священная война бывает «внешняя» («малый джихад») и «внутренняя» («большой джихад»). И именно внутренняя война гораздо важнее внешней. Но, тем не менее, Эвола настаивает, что они должны сосуществовать, должны быть гармонизированы. Подвиг воина и подвиг интеллектуала неразделимы. Интеллектуал должен быть всегда с ружьем, даже если он его никогда не применит на практике. Готовность выступить, выйти из массы, сказать решительное «нет» современной цивилизации — точка отсчета, которую должен взрастить в себе интеллектуал.
По Эволе, дифференцированный человек — это тот, кто в предельной, сгущенной, темной иллюзии, в экстремальных условиях конца времен, в момент космической полночи принимает решение о восстании против современного мира, о построении внутренней трансцендентной оси. Несмотря ни на что.
Да, он может быть одинок. Но согласно Эволе, даже отчаянное восстание одиночки уже будет осмысленным. По Чорану, такое восстание может и не иметь смысла, но оно ценно само по себе. Да и как иначе? Благородное существо не может смириться с условиями Кали-юги, глобализма, либеральной демократии. Оно в любой ситуации спонтанно, и даже без малейшего шанса на победу, все равно против этого восстанет.
Но для Эволы это обязательно нагружено смыслом. Это работа ради высшего начала, ради высшего абсолютного «Я», а высшее «Я» в его теории и есть божественное начало, скрытое в самой глубине человека. Это героическая работа во имя великой Традиции. Поэтому она никогда не бессмысленна. Иерархия — это долг. Империя — это приказ.
Соответственно, Империя представляет сакральную организацию политики. Но не только. Это больше, чем политика. Это то, что возвышает землю до небес. Это прежде всего духовное понятие. Поэтому необходимо как взращивать Империю у себя внутри, так и прикладывать все усилия, чтобы построить ее снаружи, во внешнем мире.
Теперь перейдем напрямую к моей любимой теме — к метафизике войны. Во время новогодних каникул я болела коронавирусом и обнаружила у себя дома книгу Эволы «Метафизика войны»[64]. В этой книге Эвола описывает различные типы героизма. Мы с вами упомянули, что нет такого мира, где нет войн. Войны ведут как авторитарные режимы, так и демократические. Нельзя представить себе, в какую бы эпоху войны не было вообще. В той или ной форме, но война есть всегда. Во всем, что мы только можем помыслить, уже присутствует оппозиция, разделение, а значит, потенциально вражда, противостояние, конфликт.
Война для Юлиуса Эволы… Тут я уже цитирую из его статьи «Метафизика войны»: «Война предоставляет человеку возможность пробудить героя, спящего внутри него».[65]
Не надо понимать эту войну как вызов, как призыв к какому-то прямому действию — пойти и убить кого-то, с кем-то разобраться. Ни в коем случае. Это должна быть война иного характера. Когда я, вслед за Эволой, произношу слово «война», я имею в виду область глубинного метафизического откровения. Речь идет о войне с черным началом, эта война с Кали-югой, с дьяволом. Эвола не использует термин «дьявол», он предпочитает говорить о восстании против «тигра», которым является современная цивилизация, но смысл один и тот же. Мы, христиане, называем это именно дьяволом и его сатанинским порядком.
Хочу привести еще одну цитату Эволы:
«Чистой воинской традиции неведома ненависть как основа войны». [66]
Это очень важно: истинно воинская традиция не знает ненависти. Воины — подлинные миротворцы, люди, которые исполнены прежде всего любви. Это парадокс, и может показаться, что это совершенно не так, но если внимательно рассмотреть описание метафизики войны Юлиуса Эволы, то эта формула станет для нас намного более понятной.
Три типа войны: духовная, аристократическая, меркантильная
Эвола подчеркивает, что есть разные типы героизма, разные типы войны. Для меня это стало ключом к пониманию различных политических, геополитических, и даже культурных, процессов.
С точки зрения Юлиуса Эволы, война в высшем измерении есть война духа. Это дело самой высшей касты. Смысл такой войны в том, что она есть путь к сверхъестественным свершениям, к достижению героем бессмертия. Это сакральное измерение войны, преодоление имманентного и его законов, «большой джихад».
Другой тип войны свойственен воинской аристократии. Она ведется ради славы и власти. Ее участники покрывают свои имена славой (если сражаются достойно), основывают государства, а их потомки, опираясь на подвиги предков, получают статус благородных родов.
Именно такие духовные и героические войны характерны для традиционной цивилизации.
Но есть и третий тип войны. Здесь вместо мистика, аскета, героя, вместо полноценного духовного человека, мы встречаем простого солдата, то есть гражданина, который сражается ради защиты своего добра или для добра чужого. Это чисто материальная война, лишенная как метафизического, так и героического измерений. Не воин, но солдат воюет по приказу и под воздействием материального принуждения или ради какой-то выгоды. Но иногда он может воевать и просто так. У Юнгера такой архетип проявляется в образе «неизвестного солдата» — заведомо обреченного. Такой солдат уже не понимает, зачем ему эта война, ведь он не ведет внутреннюю войну внутри себя, у него нет героического начала. Полнее всего экзистенциальная драма такого чуждого стихии войны солдата проявляется в образе дезертира — ярче всего, наверное, у Селина в «Путешествии на край ночи»[67].
Есть и четвертый тип— это война рабов. Ее ведут те, кто вообще лишен субъектности и представляет собой фактически автомат, чисто техническое средство.
В соответствии с этими типами войны у Юлиуса Эволы формируются и типы героизма. Высший героизм — это подчинение материи духовным принципам, он ведет человека к сверхжизни, сверхличности. Это царский путь.
Второй героизм — призвание касты кшатриев, воинов. В нем отражается трагичность воина. Герой — это трагедия. Он не видит свет отчетливо, для него высший мир остается далеким и недоступным. Но он борется против «мира сего» несмотря ни на что. Именно это великое отчаяние заставляет его биться.
Третий тип героизма связан с вырождением воинского начала. И хотя призванные на войну солдаты могут вести себя на фронте самым достойным образом — бросаться грудью на амбразуру, спасать товарищей, идти в атаку, — эти важные свойства не выводят героя на новый метафизический уровень. Это добродетели мирной жизни, лишь помещенные в экстремальный контекст.
Наемники
Юлиус Эвола отдельно говорит и про наемников. Я думаю, феномен наемничества — это тема отдельной лекции. Он разнороден и разнообразен. Есть разные точки зрения на то, что понимать под «наемничеством». Исторически классическими ландскнехтами были швейцарцы. И не случайно в предисловии к «Путешествию на край ночи» Селин приводит слова из песни Швейцарской гвардии:
Notre vie est un voyage
dans l’hiver et dans la nuit.
Nous cherchons notre passage
dans le ciel où rien ne luit.
Наша жизнь — это путешествие
В зиме и в ночи.
Мы ищем наш путь
В небе, где ничего не светит.
Есть американские частные военные компании (например, ЧВК «Black Water»). Есть ближневосточные. Есть частная армия Саудовского принца, у которой наверняка существуют своеобразные религиозно-идеологические установки. Есть турецкая ЧВК «SADAT», которая интересна тем, что интерпретирует современные геополитические процессы в эсхатологической религиозной оптике. Ее члены исповедуют особой культ Реджепа Эрдогана, считая его обещанным исламским народам Махди. Захват этой ЧВК территорий на Ближнем Востоке и контроль над ними интерпретируется как эсхатологическая миссия по созданию Великого халифата в борьбе с дьяволом, Дадджалом. Уже появляются и русские ЧВК, что, однако, требует отдельного исследования. Феномен наемничества является неоднозначным — здесь есть разные стили и разные типы, и каждое из этих явлений тоже требует особого внимания.
Истинная война всегда осмысленна
Юлиус Эвола стоит на стороне именно метафизической войны, которая ярче всего присутствует в высших формах героизма — духовного и воинского. В условиях современного мира героизмом будет любое упорное и отчаянное сопротивление ему — бескомпромиссная борьба с либерализмом, глобализмом, сатанизмом.
Чоран за счет своего гностицизма относится скорее к трагическому декадентскому героизму. У Эволы более позитивный настрой. Эвола не говорит о бессмысленности нашего восстания. Он признает, что метафизический воин, восставший против современного мира, скорее всего будет одиноким, обречен на страдание и несчастье. И у Гегеля начало философии коренится как раз в несчастном сознании — ведь счастливое, мирное, уютное сознание самодостаточно и ни к чему не подталкивает, стремясь сохранить то, что есть. В пределе, счастливое сознание — это вообще полное отсутствие сознание и полная гармония с окружающим миром; его мы можем наблюдать у зверьков, трав и минералов. Да, и у Платона философ будет несчастен — ведь его принудительно вытаскивают из того мира, в котором он счастливо наблюдал идеи и Единое, и снова заставляют спускаться в пещеру, чтобы возиться с агрессивными, грубыми и неблагодарными невеждами.
Юлиус Эволса — гораздо более солнечный и бравый, чем ранее описанные нами авторы. Если вы не хотите впасть в состояние меланхолии, начните знакомиться с эсхатологическим оптимизмом с работ Юлиуса Эволы — «Языческий империализм», «Люди и руины», «Оседлать тигра» и т. д.
В отличие от пессимистического героизма, эсхатологический оптимизм — такой, как у Эволы — всегда признает за истинной войной высший смысл. Настоящая война не может быть бессмысленной. И более того, именно настоящая война и придает вещам их глубинный и живой смысл.
Юнгер: море и лес
Перейдем к фигуре Эрнста Юнгера. Здесь я остановлюсь лишь на одной работе «Уход в лес»[68] («Der Waldgang») 1951 года. Это, с моей точки зрения, программный документ эсхатологического оптимизма. Он представляет собой констатацию:
1. Иллюзорности окружающего мира.
2. Конечности его.
3. Обреченности истории.
4. Безысходности мира и одновременно с этим «необходимости противостоять».
Юнгер описывает материальный мир как море, как пространство воды. Интересно, что он работает с геополитическими терминами и опирается на противоставление «власти суши» и «власти моря» — теллурократии и талассократии. Морское начало — это материя, собственно, «житейское море», стихия тяжелого телесного становления. Его противоположностью у Юнгера является лес. Лес — нечто твердое, постоянное, это суша, это почва. Это также лесные дороги (Holzwege Хайдеггера). Это не просто символ рациональности (как трактует образ дерева Делез в «Логике смысла»[69]), это скорее территория оси. У Юнгера лес представлен тем пространством, где осуществляется глубокий мистический опыт. Мистический опыт леса — это опыт прохождения по тем тропам, которые внезапно обрываются. «Plötzlich enden», как говорил Хайдеггер[70]. Тропы, которые не имеют продолжения. Это опыт столкновения с неопознанным, с ускользающим мистическим началом — это мистериальный опыт, философский, и он связан с почвой, с лесом.
Юнгер говорит о том, что катастрофа, в которой мы пребываем — это конечность, иллюзорность. Это — заброшенность в мир, и она неизбежна. Никто не может избежать этой катастрофы, но все же в ней можно обрести свободу.
Будем считать ее испытанием. При этом у Юнгера подход ближе к Юлиусу Эволе, чем к Чорану. В Юнгере преобладает режим диурна[71].
Страшно представить, сколько войн он прошел, пережил. И прожил он до ста лет и даже больше.
Для Юнгера война — это не жест безысходности, а жест радикального преодоления, радикального противопоставления миру и восстановления подлинных основ существования. Юнгер — оптимист, он считает, что этот мир неизлечимо болен, но, тем не менее, у нас нет иного выхода, кроме как любой ценой восстанавливать его истинные пропорции. Делать это можно через «уход в лес», через собственное преображение, через глубокую философскую работу.
Три гештальта Юнгера
У Юнгера есть несколько основных фигур, гештальтов, о которых мы уже сегодня упоминали. Это фигура «неизвестного солдата», фигура «рабочего» и фигура «анарха»..
«Неизвестный солдат» — это тот, кто идет обреченно на войну. «Неизвестный солдат» не имеет в этой войне никакой цели и поэтому не может достичь никакой победы. Он является лишь несчастным субъектом, выброшенным на периферию этого мира, который обречен идти в нечто для него бессодержательное и не имеющее смысла.
«Рабочий» — это более осознанный тип, осознавший необходимость войны с эксплуататорами. Рабочий борется за мировую революцию, но продолжает еще оставаться в рамках системы. Рабочий принимает современный мир, но в полном отрыве от его мещанской обертки, понимая его как холодный трагический вызов. Как рок.
Фигура «анарха» — это пик человеческих возможностей. Анарх подобен трансцендентной оси, пересекающей плоскость, горизонт иллюзии, поле замутненности. Анарх — полет стрелы, обращенный куда-то вверх, в небо.
В «Уходе в лес» Юнгер говорит о том, что человек заброшен в мир, и ему необходимо вырваться из иллюзии. Он должен вести борьбу внутри этой иллюзорности.
Трансцендентная вертикаль
Так что такое «уход в лес»? Очевидно, что это не физический уход в лес, не отшельничество. Это не эскапизм. В отличие от еще одного юнгеровского гештальта — «партизана», это не побег и не организация низовой сети сопротивления с опорой на почву. Это — принятие решения здесь и сейчас о своей нетождественности всему тому, что вас окружает. Уход в лес — это отрицание, решительное «нет» всему тому, что мы видим вокруг нас и о чем свидетельствуем.
И здесь у Юнгера иногда проскальзывают тревожные моменты. Да, может быть, этот уход станет для нас трагедией, обернется несчастьем, но, тем не менее, этот жест необходимо совершить. Надо принять необратимое решение, надо оказать сопротивление и вступить в борьбу, скорее всего, безнадежную, считает Юнгер.
Но, тем не менее, это действие есть уже само по себе активное противостояние, это — война. Уход в лес необходим для того, чтобы человек стал человеком. Юнгер пишет:
«Место свободы — это совсем не то, что простая оппозиция, также и не то, чего кто-то мог бы добиться бегством. Мы назвали это место «лесом». Там есть другие средства, помимо того «нет», которое ставят в предусмотренный для этого кружок или квадратик». [72]
Уход в лес — это пробуждение. Юнгер сообщает нам, что человек в принципе уже имеет шанс на эту онтологическую мутацию, но он не пробужден. Он спит в лесу. Уход в лес — решение о признание своего «онтологического мутирования», если апеллировать к термину Лучиана Благи.
Здесь у Юнгера рождается интересное соображение. Он говорит о том, что уход в лес не подразумевает технического покидания привычного жизненного пространства, в котором мы обитаем, но построение в том же самом пространстве, где мы находимся, трансцендентной вертикали. Каким образом она строится?
Здесь уместна апелляция к мифу о Дионисе, когда он пытался спастись от похитивших его пиратов. Дионис, захваченный глобалистскими моряками, повелел виноградный лозе и плющу оплести весла, борта и вырасти выше мачт. Из этих зарослей выскочил тигр, который и разорвал разбойников. Мы находимся здесь в бушующем житейском море. Мы — на корабле, пребывающем в постоянном движении и давно потерявшем всякую ориентацию — как «Пьяный корабль» Рембо. Корабль создан из древесины (гюле — древесина, и одновременно, в греческом языке, материя). Это телесный мир, телесная оболочка. Но душа наша, наша внутренняя искра, наш внутренний огонь, могут воспламениться. И тогда древесина сможет загореться. Так мы вступаем в восстание, начинаем сопротивление и даем отпор цивилизации житейского моря. У нас есть шанс не угаснуть и не быть потушенными, но это решение нужно принимать осознанно. К нему следует двигаться последовательно. Эсхатологический оптимист скажет превращению кораблю в лес, буйству растительности, и даже выпрыгивающему из зарослей тигру, решительное «да». «Да, я пробуждаюсь! Да, я выхожу из этой иллюзии! Да, я выбираю свободу!»
Спасение мира в руках эсхатологического оптимиста
То, о чем мы сегодня с вами говорили, не является законченным учением. Это не более, чем философская гипотеза, основанная на текстах ряда авторов, так или иначе откликающихся на проблему нигилизма, стремительно растущего в нашем мире. Но это гипотеза может нам в чем-то помочь, дать мотивацию и дальше жить, бороться и побеждать в контексте современной Кали-юги, в условиях последних времен.
И если хотя бы один из нас, включая меня и всех, кто здесь собрался, сможет совершить этот «уход в лес», стать анархом или принять волевое решение о том, что необходимо осуществить разрыв с современным миром, взрастив в себе воина, героя, то, мне кажется, что мир уже будет спасен. Потому что даже один человек может спасти все человечество. Мы об этом знаем. Вот на этом я и хотела закончить лекцию. Спасибо вам большое за внимание.
Ну и теперь время вопросов. Пожалуйста.
Выйти из ада современного мира
Традиция и симулякр
Вопрос: Правильно ли я понимаю, что эсхатологический оптимизм мы можем толковать как попытку вернуть Модерн в лоно традиции, как некоторую симуляцию традиции…
Дарья Дугина: Нет, совсем нет. Эсхатологический оптимизм сегодня надо помещать в структуру Постмодерна, то есть когда Модерн уже преодолен. Ницше называл сверхчеловека «победителем Бога и ничто». Модерн преодолевает Бога, а эсхатологический оптимист должен преодолеть ничто. Что же касается традиционализма, то это отчасти феномен Постмодерна. Он не совпадает с Традицией, но никак не является симуляцией. Рассуждать в терминах Модерн/Традиция применительно к эсхатологическому оптимизму не корректно. Здесь речь идет не о «плоскости», но о своего рода «объеме». У Юлиуса Эволы — и у самого раннего и у самого позднего — есть парадоксы, которые созвучны эсхатологическому оптимизму, хотя он и остается традиционалистом.
Если говорить о симуляции Традиции, то это неоспиритуалисты — такие как Блаватская, Минцлова, Белый (мои любимые фигуры Серебряного века) или более поздние — например, Кастанеда. Кстати, кое-что любопытное можно найти и у Кастанеды. Например, он рассуждает о том, что такое «быть воином». Интересны его практики созерцания своих ладоней во сне.
Юлиус Эвола — это аутентичное восстание в рамках Постмодерна. Еще более фундаментален Генон. Они указывают нам пути, по которым мы можем пойти. Для меня это, безусловно, православие, единоверие. Для кого-то — суфизм или шиизм. Эсхатологический оптимизм — это не религия, это метафизическая установка. В ней нет ничего от симулякров. Скорее, строго наоборот.
Однако, сама постановка вопроса: «не является ли в какой-то степени традиционализм «угрозой» для полноценной традиции и не может ли он превратиться в симулякр», вполне имеет право на существование. Впрочем, сплошь и рядом бездарные или просто средненькие ученики способны исказить мысль любых гениальных учителей вплоть до неузнаваемости. Эволе в этом смысле повезло больше. И в современной Италии достаточно много убежденных и полноценных традиционалистов, на него ориентированных и продолжающих его идеи. Я дружу со многими из них — в частности, с Райнальдо Грациани, отец которого был очень близок к Эволе, хотя и был его значительно младше. Это замечательные люди. Но в России все немного иначе и не в лучшую сторону, увы… Может быть, потому, что европейский традиционализм для нас не очень органичен.
Эсхатологический оптимизм — это опыт мистерии
Вопрос: Насколько я понял, ваша интерпретация эсхатологического оптимизма имеет фундаментальные отличия от собственно эсхатологического пессимизма, которые заключаются в надежде на наличие некой инстанции, что находится за пределами реальности, о которой ничего не известно, но на которую можно надеяться?
Дарья Дугина: Да, совершенно точно. Эта чисто трансцендентная инстанция описывается в разных традициях по-разному. Например, в христианстве, в апофатическом богословии, утверждается, что мы не можем ничего знать о Боге, потому что мы — сотворенные люди, мы в этом мире находимся, мы здесь рождены и ограничены природой тварности. В православной мистике особенно детально разработана апофатическая версия богословия, согласно которой мы можем познать Бога только в мистериальном опыте. Кстати, термин «энтузиазм» (ἐνθουσιασμός), который часто встречается в текстах Чорана, этимологически означает «боговселение», то есть мистериальной опыт. Эсхатологический оптимизм — это опыт мистерии.
Культура современная и традиционная
Вопрос: Дарья, можно задать вопрос относительно культуры? Существует современная и традиционная культура, как к ним лучше всего подходить, взаимодействовать с ними?
Дарья Дугина: Давайте вспомним, как Лучиан Блага трактует культуру. Он говорит о том, что культура — это пакт между «Великим Анонимом», то есть между «злым демиургом», который создал несовершенный мир, и человеком, который прорывается к тому, чтобы прикоснуться к истине. Соответственно, насколько человек рвется узнать истину, настолько и будет совершенной культура. Но есть ли хотя бы один героический жест в современной российской культуре, если понимать под ней наиболее известные произведения, коллективы, площадки, телеканалы? Там же все, как минимум, отмечено пошлостью или сведено к упрощенной политической повестке. Как в этом контексте можно говорить об Эволе или Элиаде? Правда, я однажды приехала в Страсбург для выступления в Европарламенте и начала свою речь с цитаты Генона. На меня довольно странно все посмотрели… Я это к тому, что, хотя никаких точек пересечений между Традицией и «культурой» в современном мире нет и в помине, не стоит опускать руки. Все всегда можно изменить. Любое, пусть самое незначительное смещение окна Овертона, может иметь огромные последствия. Все может решить наш единичный героический жест, если мы полны решимости прорвать блокаду «злого демиурга». Один жест может изменить культуру. Современной культуре, культуре вырождения и пошлости, необходимо противостоять, говорить ей решительное «нет», но при этом не убегать и не отступать, а усердно работать внутри нее. В этом и заключается суть эсхатологического оптимизма.
Вопрос: Уточню вопрос: я имею в виду, можно ли через современную культуру или, скажем, шире через европейскую культуру, например, через культуру Возрождения, установить связь с потусторонним?
Дарья Дугина: Через современную культуру? Какую именно? Через культуру объективно ориентированной онтологии, киборгов и мутантов?
Вопрос: Ну, скажем, в общем через культуру ХХ века. Или через культуру импрессионистов?
Дарья Дугина: Связь с потустороннем можно установить через все, что угодно. Смыслы, и в том числе, высшие смыслы, есть у всего вообще. И проявляются эти высшие смыслы везде, и традицию можно обнаружить во всем. Надо лишь иметь внутри себя высокую и активную концентрацию знания традиции, выверенный традиоционалистский взгляд, традиционалистскую перспективу. Иногда за абсолютным хаосом современной культуры и ее произведений можно прозреть ту традиционную подоплеку, которая находилась в основании человеческой культуры до ее обрушения в Новом времени и в Постмодерне. Современность всегда связана с Традицией, оспаривая ли ее, перевирая, пародируя или полностью отрицая. Американский философ Уайтхэд сказал когда-то, что «вся мировая философия есть ничто иное, как заметки на полях Платона». Можно было бы сказать, что современная культура есть оспаривание принципов, искажение, переворачивание, обращение вспять… но чего? Именно Традиции — как мощнейшего основания всего человечества, обеспечившее его выживание и расцвет в течение тысячелетий. Возвращении к Традиции не так невозможно, как кажется. Надо совершить Поворот, о котором писал Хайдеггер.
Вопрос: Мне интересно еще, как соотносится архаическая культура примитивных племен (например, аборигенов Австралии) и великая классическая культура — возьмем, хотя бы Баха. У архаических обществ она имровизационная, а в высоких культурах — стройная и упорядоченная. Можно ли сказать, что и там, и там есть какое-то свое откровение?
Дарья Дугина: Откровение есть повсюду. Но лучше всего — и это моя тоталитарная рекомендация — искать откровения в той культуре, в которой мы рождены. Мы не случайно рождены теми, кто во вполне определенную эпоху и на вполне определенной территории заключал вполне определенный пакт с «Великим Анонимом». Вот мы и должны жить в нашей культуре, и смыслы нам будут открываться именно в ней и через нее. Но чисто теоретически, да, можно продуктивно интерпретировать и импрессионизм, и Баха, и даже киберфеминизм. И везде найти что-то важное.
Вопрос: Тоже есть какая-то часть, которая все равно остается человеческой даже и в киберфеминизме?
Дарья Дугина: Конечно, живой киборг. Вообще термин «кибернетика» очень интересный. Он образован от κυβερνήτης, что дословно означает «кормчий», тот, кто направляет корабль. У Платона «кормчий» — ум, наблюдатель в душе и подчинитель телесных начал. Может быть, и удастся опознать такого «кормчего» и в киберфеминизме, но тут мы легко можем стать жертвой подобных тенденций, — а именно, стать не кормчими, а жертвами, инструментами, а в пределе — и простыми запчастями. Поэтому лучше опорные точки искать в своей собственной культуре. И те иностранные авторы, о которых мы сегодня говорим, дали нам благословение на поиск смыслов внутри нашей культуры. Они признали, что Россия благословлена на поиск мистического горизонта, на онтологическую мутацию, на уход в «лес». Россия благословлена эсхатологическими оптимистами на великое восстание.
Безумие Ницше: пик духовной реализации?
Вопрос: А разве Ницше не преодолевает рессентимент, эсхатологический пессимизм, историчность, когда сходит с ума под конец жизни? Разве это не есть настоящее «не-вписывание» в систему, не есть настоящее отрицание современных ценностей?
Дарья Дугина: Возможно. Нельзя исключить, что в целиком нигилистическом мире это и есть один из вариантов преодоления законов иллюзии и инертности. Для меня Ницше — это фигура, которая граничит и с эсхатологическим оптимизмом и с эсхатологическим пессимизмом. Так, его гештальт «ребенка» в трех превращениях духа в начале «Так говорил Заратустра», преодоление предшествующих стадий «верблюда» и «льва», воплощает в себе именно эсхатологический оптимизм. Ницшеанский ребенок Дионис и есть сверхчеловек — «победитель бога и ничто». Победитель бога и ничто есть победитель иллюзий. Его смерть, его гибель, его конец — может быть, это и выглядит со стороны как безумие. Но мы не знаем, что было внутренним содержанием этого безумия. Может быть, это был совершенно уникальный и закрытый для нас мистериальный опыт. Мы привыкли все анализировать. Мы видим человека, который говорит странные, запутанные слова, и считаем, что он сумасшедший. Мы видим что-то отклоняющееся от нормы и сразу признаем это патологией или галлюцинацией. Мы не разбираемся в этом. А ведь это может нести в себе высший смысл — как пророческое бормотание юродивого. К юродивым на Руси было особое отношение. Они были особенными людьми, свидетелями какого-то иного мира. Но это сложный вопрос.
ООО — черный пессимизм восставшей материи
Вопрос: Как Вы считаете, Объектно-Ориентированная Онтология и сходные течения, которые в принципе транслируют схожий взгляд на реальность, но при этом они эту реальность, Кали-югу, счастливо, абсолютно принимают и хотят довести до логического конца. Это обратная сторона того же самого или это иной взгляд на реальность?
Дарья Дугина: Я, кстати, думала — кого назвать эсхатологическим пессимистом. Мне пришло в голову, что это Бодрийяр. Но потом я нашла более яркий образец — Ник Лэнд с его идей полного принятия распада, погружения вглубь материи, превращения в монстра, ускоренного уничтожения человека и жизни на Земле. В еще в большей степени здесь показателен Реза Негарестани, который меня зачаровал. Делезианство (или, как принято говорить в определенных кругах, «черный Делез») — это тоже эсхатологический пессимизм. Это соглашение с рассеянием и энтропией, отказ от логоса и его борьбы, но при этом последовательное и бескомпромиссное, в каком-то смысле, «овнутрение» разложения. Вы совершенно правы. ООО — это именно эсхатологический пессимизм, поэтому картина напоминает взгляд эсхатологического оптимиста, но с прямо противоположными знаками. Общий знаменатель — эсхатология, то есть признание, что извращение уже пришло в мир и отныне будет только нагнетаться вплоть до весьма недалекого конца. А вот, как понимать конец, тут наши взгляды расходятся.
Инициация и разрыв уровня
Вопрос: Спасибо вам за великолепную лекцию. Вопрос у меня такой. В начале вы упомянули такой интересный концепт Юлиуса Эволы, как «разрыв уровня». В связи с этим мне интересно, каким образом эсхатологический оптимизм соотносится с инициацией? Является ли инициация целью? Например, если у Эволы тема инициации — это одна из центральных тем, то в отношении Чорана и Юнгера, так прямо сказать нельзя.
Дарья Дугина: Я думаю, что инициация — это ключевой момент в эсхатологическом оптимизме. У Юнгера присутствует некоторый намек на это в «Уходе в лес». Он говорит о том, что есть три основания, три великие силы, которые могут спасти человека, уходящего в лес. Это искусство, теология и философия. Обратите внимание на теологию.
У Юнгера мы неоднократно встречаем обращение к мистическому опыту. Да, это не прямо про инициацию, но близко. Что касается Чорана, то здесь сложнее. Он в моей классификации балансировал на грани между эсхатологическим пессимизмом и эсхатологическим оптимизмом. В свой парижский период он тяготел к первому. У него обращения к инициации нет. Чистый пример эсхатологического оптимизма — Юлиус Эвола, и у него, как Вы верно заметили, инициация играет центральную роль во всей философии. Обращение к иерархии и инициации, вертикальность, активация трансцендентного измерения по отношению к окружающему миру — вот главная ортодоксальная стратегия эсхатологического оптимиста.
Вопрос: Мне всегда было интересно, как именно у Эволы соотносится понятие инициации и разрыва уровня. На ваш взгляд это синонимы, однопорядковые явления? Например, можно ли воспринимать разрыв уровня как авто-инициацию, о которой говорит Эвола, противопоставляя ее регулярной инициации Рене Генона?
Дарья Дугина: Я думаю, да, то есть инициация — это нечто одномоментное, как вспышка в ночи. Когда оба уровня реальности — этот и потусторонний — обнажаются и происходит разрыв, взрыв, своего рода короткое замыкание.
Оседлать тигра не значит признать правоту современности
Вопрос: Говоря о Юлиусе Эволе сегодня, Вы отмечали, по сравнению с тем же Чораном, его подчеркнутый оптимизм и призыв ввести войну против современного мира, начать великое сопротивление. И идти в этом направлении до последнего, до победного конца. Но в своем позднем творчестве, в книге «Оседлать тигра», в частности, разве он не приходит в каком-то смысле к признанию бесполезности этой борьбы и к принятию современной действительности?
Дарья Дугина: Нет, не приходит. Эвола меняет формы и градус своего оптимизма, который он на разных этапах связывал с тем или иным явлением, но он остается эсхатологическим оптимистом всегда — и в раннем дадаизме, и в «Оседлать тигра». Да, у него есть отчаяние. У него есть боль от невозможности полноценной духовной и инициатической реализации. Но при этом, все же, у Эволы главное — его стойкость, то, что он никогда не опускает рук. Именно поэтому именно в нем я вижу ключ к эсхатологическому оптимизму. Естественно, это зависит от моей grille de lecture. Я хочу увидеть в нем и вижу солнечную борьбу, восстание солнечного человека. У каждого автора, о котором мы сегодня говорили, существует, с одной стороны, глубокое отчаяние при соприкосновении с окружающим современным миром, а с другой — решимость ввести с ним — пусть, безнадежную! — но борьбу. С этими мыслителями происходит нечто подобное кораблю в житейском море, который шатают волны. Когда корабль взбирается на волну, идет взлет, и они говорят о том, что нужно бороться, а когда эта волна разбивается, то корабль падает вниз и кажется, что он неизбежно погибнет, и тогда охватывает чувство черной глубокой меланхолии. Поэтому у всех этих мыслителей мы можем обнаружить некоторое метание. Есть отчаяние и у Юнгера, но в то же время есть и воинское мужество, и призыв к восстанию.
Духовная Родина у каждого своя
Вопрос: Вы сказали, что нужно воспринимать человека, который переходит в другую традицию, как некоего урода. Когда мы смотрим на каких-нибудь японских самураев, которые теряют Японское государство и теряют то, чему они служили? Они решаются служить вечности и Богу христианства. Какой у них статус? Они похожи на уродов?
Дарья Дугина: Нет, эти не похожи. Я считаю, что традиция существует в разных изводах, и западный человек вполне может обратиться, например, в суфизм и там найти свою реализацию. У меня есть этому пример — моя хорошая знакомая сицилийская принцесса Виттория Аллиата, крупнейший специалист по суфизму[73] и верная последовательница Рене Генона. Она сама — суфий, прекрасный знаток Ближнего Востока — Сирии, Ливана, Ливии. Она дружила с Муаммаром Каддафи и помогала ему писать «Зеленую Книгу» — в части, касающейся прав женщин. Будучи представительницей старейшего королевского рода, восходящего к лангобардам, она полноценно реализовала себя в суфизме. Однако, если человек встает на путь традиционализма, то ему, может быть, будет легче и естественней идти через свою традицию. Но я не выступаю против того, чтобы человек шел в другую традицию. Я считаю, что каждая традиция может дать смысл. Если человека тянет к себе какая-то иная традиция и у него не получается отыскать в своей традиции требующиеся ответы и пути, то в этом нет ничего плохого. Но при этом все же надо выяснить, а хорошо ли человек искал? Все ли он сделал для того, чтобы понять свои корни, свои истоки, свой народ, свою культуру? Если бы это зависело от меня, я утвердила бы такую стратегию в образовании, согласно которой человек сначала обязан был бы как следует изучить, исследовать и понять свою культуру, и лишь потом обращаться к иным. Уже в школе надо давать полноценное знакомство с русской культурой. И продолжать его в ВУЗе, в Университете. И лишь после этого, когда человек прошел этот непростой путь достаточно далеко, он имеет право на изучение других. А то он так и останется половинчатым: и своей традиции не поймет, и из другой нахватается лишь верхов. Но исключения, конечно, есть всегда.
Вопрос: А можем ли мы вообще говорить о «нашей» или «не нашей» культуре? Не все ли одно?
Дарья Дугина: Нет, не все одно. У каждого есть свое место в мире, своя духовная Родина. И это не чисто физическая величина. Здесь наши корни, здесь истоки нашего языка, нашей души. Есть духовная Родина. И она-то и есть «наша», родная. Для меня это Святая Русь, православие, единоверие, старый обряд. Но в каком-то смысле, может быть, мы — и вправду странники. Это очень сложный вопрос. Безусловно лишь то, что, где бы мы ни находились в современном мире, мы находимся в центре ада. И напрямую сложно усмотреть аутентичность где бы то ни было. Мы прокляты. Но это не повод, чтобы не рваться к спасению.
Афон, женское начало, апофатика и эсхатологический оптимизм[74]
«Женский Афон»: особенности женского сознания
Известно, что женщин не пускают на Святую Гору. В этом есть нечто справедливое. Тут можно вспомнить старца Паисия Святогорца. Я недавно прочла один его текст и нашла цитату, которая точно описывает обычное состояние женского сознания. Если оно не находится в состоянии молитвы, то оно работает так:
«Постоянно переключаются наши настройки на другую частоту. Только лишь подвизающийся готов прийти от чего-то в умиление, он — «щелк!» — переключает ему настройку на что-нибудь. Только он вспоминает что-нибудь духовное — «щелк!» — опять приводит ему на память что-нибудь другое. Так враг то и дело сбивает христианина с толку. Если человек поймет, как работает дьявол, то от многого освободится»[75].
Тут речь идет о бесе, об орудиях дьявола, который старается отвлечь человека, постоянно переключая его сознание. Анализируя свое собственное и, шире, женское сознание, можно сказать, что именно этот щелчок постоянно в нас и происходит. Сам факт недопущения женщин на Святую Гору Афон позволяет предвосхитить уникальный мир мужского ума, мужского чуда. Это и ценно. Это значит способность к концентрации и сосредоточению на главном, то есть на Христе.
Если рассматривать женщину с другой стороны, в ней есть еще одно очень важное измерение, о котором писала Татьяна Михайловна Горичева[76]. Это — естественная восприимчивость женщины к апофатическому богословию и мистическому опыту. Несмотря на отдаление женщины от аналитического мужского ума, от сухого рассудка, который может делить мир диурническим методом на «да-нет», «враг-свой», у женщины есть открытость к апофатическому богословию. И в этом она вынашивает в себе как бы свой собственный «женский Афон». Это ее идеальное пространство. И если ей удается преодолеть режим постоянного искушения и переключения внимания от одного к другому, если она перейдет от этого к величественному мистическом внутреннему миру, если она попытается выйти на другой — более глубокий, но все же еще сущностно женский уровень, она может стать сопричастной апофатическому богословию.
Татьяна Михайловна Горичева говорит, что у женщины глубина проникновения во внутреннее измерение порой может даже превосходить мужские масштабы падения и взлета. Она приводит пример Марии Египетской. Это потрясающий образ великой христианской праведницы, которая доказывает, что женский взлет вверх из бездны падения, из самого низа, невероятно труден, но все же возможен.
Итак, наряду со своей переменчивостью, женщина также может быть необычайно чуткой к апофатическому богословию и мистическому опыту выхода из того мира, который дан, к миру иному. У нее это происходит и через молитву, и через способность к спонтанному видению. Если почитать жития святых, то можно найти примеры явления святым женам самого Божества, божественных энергий, примеры высшего созерцания.
Парадоксы заброшенности
Я бы хотела упомянуть об одной интересной гипотезе, о которой я на протяжении последнего времени думаю, и которой посвятила несколько лекций и выступлений — это гипотеза эсхатологического оптимизма. Как эта гипотеза появилась? Она родилась, когда я впервые познакомилась с седьмой книгой платоновского «Государства», где речь шла о необходимости спуска философа после его выхода из пещеры снова вниз, обратно в пещеру. Я не могла понять здесь один момент — почему, если философ будет в этой пещере глубоко несчастным, он должен в нее возвращаться, снова нисходить после того, как он откроет истинный мир идей за пределами темной, сырой и угрюмой пещеры, наполненной призраками и тенями? Кстати, мало кто из исследователей платонизма обращал достаточно внимания на этот вопрос. Зачем философ спускается? А этот спуск и есть самое принципиальное в платоновском мифе о пещере.
Далее, читая неоплатоников, я отметила их онтологическое расстройство тем фактом, что они заброшены в этот телесный материальный мир, который по сравнению с интеллектуальными мирами идей и подлинного бытия убог и ничтожен, несет в себе лишь тлен и искажения. Но у них же можно встретить и апологию такой заброшенности в этот мир, признание необходимости бытия в теле как части гармоничного плана вселенского Ума. И это можно считать эсхатологическим оптимизмом.
Далее, уже в христианском богословии, когда я знакомилась с трудами святых отцов и великих богословов, я снова обнаружила тему заброшенности человека в этот греховный мир, но при этом и необходимости пребывать, жить в нем, хотя и сопротивляясь ему. Несмотря на все сковывающие условия мира сего, необходимо сопротивляться злу и принимать мир, взращивая в себе добро.
Ну и дальше, когда я читала современных постхристианских философов — таких, как Эмиль Чоран или Фридрих Ницше, я увидела у них ту же проблему: отчаяние в отношении заброшенности в мир материи, но при этом волю к ее преодолению. Так постепенно на ум пришел термин «эсхатологический оптимизм».
Три постулата эсхатологического оптимизма
Я проследила эсхатологический оптимизм от Платона через неоплатоников, христианский неоплатонизм, Гегеля и далее, вплоть до Ницше, Эволы и Чорана. И это явление, на мой взгляд, можно обнаружить и на Афоне. Вершиной этого является формула Силуана Афонского с его максимой «Держи ум свой во аде и не отчаивайся», прекрасную трактовку которой дает старец Софроний (Сахаров).
Каковы основы этого эсхатологического оптимизма?
Первый постулат заключается в следующем — вокруг нас то, что нам дано, все, что мы воспринимаем как непосредственную данность реальности — это иллюзия. Или, словами Силуана Афонского, ад.
Второй аспект этого видения мира: конец мира — это конец иллюзии. Тут можно вспомнить Р. Генона, который писал: «Конец мира никогда не является и не может являться ничем иным, кроме как концом иллюзии».
И третий постулат: зная, что все конечно, что мы заброшены в эту иллюзию, мы отделены от нашего первоистока, что мы пребываем в аду, надо все равно и вопреки всему действовать во имя вечности; находясь здесь, создавать трансцендентную вертикаль противостояния этому миру — миру греховности, иллюзорности, зла. Надо противостоять аду, тому щелчку, по Паисию Святогорцу, который ежедневно, ежеминутно, ежесекундно провоцирует в нас — и особенно в женщинах — дьявол, чтобы мы отвели наш взор от созерцания высшего. А выше по отношению к нам стоит и душа, и Ум, и Единое. Все неоплатонические ипостаси Плотина. Важно не только апофатическое Единое. Для того, чтобы пройти к Единому, нам еще нужно совершить долгое и трудное восхождение, которое требует от нас разрыва уровня, преодоления человеческого горизонта, перехода от тела к душе, и далее к Уму, и еще дальше — за внутренние пределы Ума к прямому созерцанию божественных энергий. И это высший разрыв уровня относится уже к области апофатического богословия.
Эсхатологический оптимизм и христианская апофатика
Когда я стала размышлять о соотношении эсхатологического оптимизма с христианской традицией, то поняла, что именно в апофатическом богословии эсхатологический оптимизм проявляется максимально полно. Здесь присутствует осознание тщеты, онтологической нищеты, конечности мира сего, тленности окружающего нас «данного нам», которое кажется нам естественным. При этом действие апофатика вспыхивает в мире «здесь», но направлена она на мир «там». И это бросок сознания, отчаянный и резкий. Это соответствует третьему постулату эсхатологического оптимизма: зная, что все конечно, что все иллюзорно, действовать во имя вечности. Получается, что базовая установка эсхатологического оптимизма тесно сопряжена с апофатическим богословием. Мистический опыт начинается еще в мире иллюзии, а не за его пределом.
Важное положение: апофатическое богословие нельзя воспринимать как определенную ступень. Существует расхожее мнение в истории философии и в богословии, что сначала мы должны освоить метод катафатического богословия — говорение о Боге через категории мира и возведение их в совершенную степень, и лишь затем мы переходим к апофатическому богословию — как к следующей — более высокой — ступени. Однако в сфере мистического опыта отсутствует линейное время, в контексте которого мы привыкли мыслить в нашем мире, а он, напомню, не более, чем иллюзия. Последовательность: «вначале катафатическое, затем апофатическое» не является временной. Оба подхода синхроничны, одновременны. Это не различные фазы одного и того же процесса, это две изначально различные ориентации.
Человек начинает свое возвращение к истоку, когда он задумывается о том, что он уже дошел до крайней точки материи, и теперь ему необходимо повернуться и начать процесс ὲπιστροφή, то есть восхождения к Единому. Этот поворот начинается в тот же самый момент, когда он понимает, что он погрузился в иллюзию на максимально возможную глубину. Теперь он должен — оттолкнувшись от дна — выходить, подниматься назад, всплывать. Вот тут-то он и совершает разрыв уровня, резко выбирая отсутствующее вместо присутствующего, наличного, данного. И он уже в этом первом жесте ориентирован не на катафатику, но и на апофатику. Вот где начинается апофатическое богословие. Все становится адом, и ничем иным. Но эсхатологический оптимист не отчаивается. Он уповает на Господа нашего Исуса Христа.
В собственно христианском контексте модель восхождения очень сходна с неоплатонической моделью. Подробно и детально путь созерцания, броска в сторону вечности, описан у Иоанна Лествичника, у Симеона Нового Богослова, у Григория Паламы, у авторов «Добротолюбия». Особенно близко к апофатическому богословию и непосредственно с ним сопряжено паламитское учение о нетварных энергиях непознаваемого Бога. Философия Паламы вполне можно считать версией эсхатологического оптимизма — прежде всего, его идею подчинения ума — сердцу, а сердца, в свою очередь, Богу и божественным энергиям.
Это лишь начальные контуры, эскизы того, над чем я сейчас работаю. Возможно, разработаю курс лекций, посвященный этой проблематике. Но я надеюсь, что в общих чертах моя мысль понятна. Это то, чем бы я хотела с вами поделиться.
И еще: я хотела бы поблагодарить всех участников, потому что сегодняшняя конференция заставила меня написать целую тетрадь с конспектами, и в каждом докладе я нашла для себя очень важные тезисы, которые необходимо развивать и дальше.
И последнее: эта конференция отличалась тем, что она была очень близкой и одновременно очень далекой от жизни. Близкой в той степени, в которой мы сопричастны вечности, и далекой в той степени, в которой наш мир, который нас окружает, является иллюзией.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ