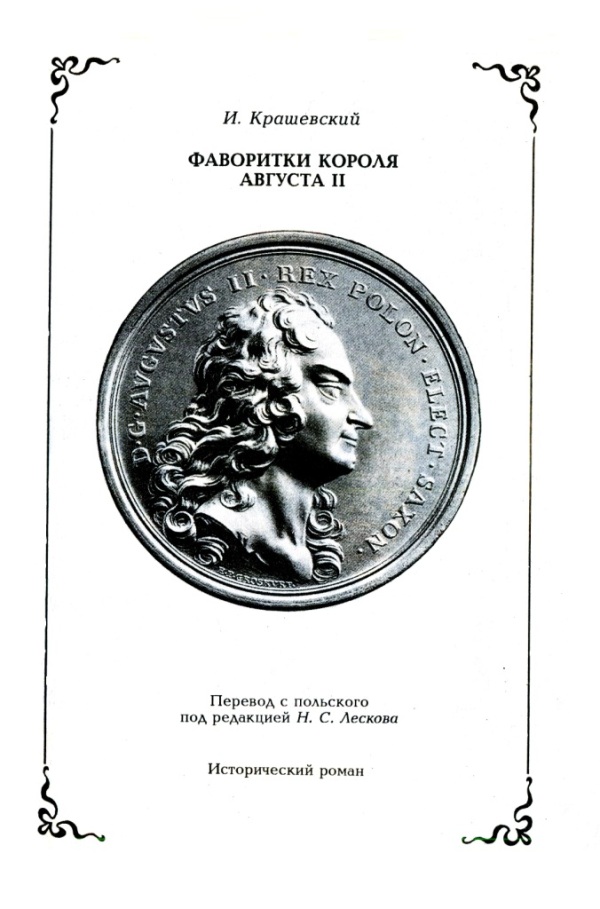 И. Крашевский
ФАВОРИТКИ КОРОЛЯ АВГУСТА II
Перевод с польского под редакцией Н. С. Лескова
Исторический роман
И. Крашевский
ФАВОРИТКИ КОРОЛЯ АВГУСТА II
Перевод с польского под редакцией Н. С. Лескова
Исторический роман

Анна Констанция графиня Козель,
урожденная фон Брокдорф
 Часть первая
Часть первая
I
В королевском замке саксонской столицы все было тихо, грустно и уныло, словно все как бы вымерло. Ночь стояла осенняя, хотя шел только конец августа, когда бывают еще и веселые дни и теплые ясные ночи, холодные ветры дуют еще очень редко, и только кое-где виднеется желтоватый лист на деревьях.
Однако, в тот вечер, с которого начинается наша повесть, дул резкий северный ветер и черные нависшие тучи волоком тянулись одна за другой по небу, на свинцовом своде которого изредка мелькала на мгновение звездочка и сейчас же быстро гасла в густых облаках. На площадке у ворот замка молча расхаживали часовые. Окна королевских покоев, откуда так часто лил свет веселых пиров и слышалась музыка, теперь были темны и закрыты. Это было явление необыкновенное для царствования короля Августа, который имел прозвание «Сильный». Такое прозвание как нельзя более шло королю, который отличался своею силою во всем: он ломал подковы и людей, горе и злосчастье, а его ничто не могло сломить. По всей Германии, да, пожалуй, и по всей Европе славился блистательный королевский двор, перед которым все другие дворы меркли; ни один не превосходил его пышностью, вкусом и тонким разнообразием развлечений; никто не мог сравняться со двором Августа. Но в этом году, однако, Августу было невесело: швед отбил у него на выборах польскую корону. Король, едва не низвергнутый с престола, почти изгнанный из королевства, вернулся в свое курфюрстское гнездо и оплакивал свои потери, бесполезно затраченные миллионы и черную неблагодарность поляков… Саксонцы не могли в толк взять, как можно было не прославлять и не любить такого благородного и милого короля и как можно было отказываться от чести быть убитым для его удовольствия. Сам Август еще меньше добрых саксонцев был способен понять что-нибудь во всей этой истории, но мысль о неблагодарности преследовала каждое его воспоминание о Польше, так что наконец при нем стали избегать всякого разговора и о Польше, и о шведском короле, и о тех неудачах, которые некогда клялся исправить Август Сильный.
По возвращении Августа Дрезден уже начинал веселиться, чтобы рассеять как-нибудь своего государя, и только в этот вечер странная тишина царствовала в замке. Почему — этого никто не знал. Известно было, что король не уезжал ни в один из своих загородных замков; ярмарка в Лейпциге еще не начиналась; в городе и при дворе незадолго перед этим шли толки, что наперекор шведу Август прикажет давать балы, маскарады, карусели с тем будто, чтобы показать счастливому сопернику, что он, Август, совсем не сокрушается о своей минутной неудаче.
Немногие прохожие, которым доводилось в эту пору проходить по прилегавшим к замку улицам, поглядывали на окна и удивлялись, что там так рано наступила тишина. Но если бы кто, миновав большие ворота и первый двор, мог пробраться на внутреннюю площадку, тот увидел бы, что эта тишина была обманчива: замок не спал или, лучше сказать, спал только одним глазом — во внутренних же его покоях шло оживленное веселье.
Стража не впускала в эти апартаменты никого, кроме тех, кого там ждали.
Несмотря на ветер довольно суровой ночи, во всем первом этаже все окна были открыты настежь, из-за занавесей ярко блистал свет бесчисленного количества свечей, отражаемых множеством зеркал. Из дворцовых залов ежеминутно волною вырывался на площадку гомерический смех, который, отражаясь от каменных стен башен, раскатывался продолжительным эхом и пугал стоящую в молчании стражу.
Этому смеху вторил говор, то тихий, то громкий, то возрастающий, то падающий до слабого шепота, то наконец совершенно замолкавший… И снова оживлялись речи, и тогда над шумом разговора раздавались взрывы хохота и рукоплесканий: то был смех царственный, раскатистый, смелый, который не боится, что его кто-нибудь осудит и пересмеет. При каждом таком взрыве часовой, расхаживавший с алебардой на плече под окнами, вздрагивал, поднимал кверху голову, вздыхал и шагал далее.
В этом ночном пире, происходившем под вой ночной бури, среди спящего замка и смиренно замолкавшей столицы, было что-то страшное…
Тут веселился король…
По возвращении из Польши такие ночные пирушки — немноголюдные, в кругу лишь нескольких приближенных, которых назовем, пожалуй, королевскими друзьями, — стали случаться гораздо чаще, чем прежде.
Август, побежденный неказистым Карлом XII, которого тогда в насмешку называли «полуголовым», стыдился показать глаза в многолюдные собрания, а между тем искал забав и развлечений, чтобы забыться, и потому собирал около себя кружок своих любимцев и пировал с ними. Здесь рекой лилось золотистое венгерское, которое ежегодно специально привозилось ко двору Августа из Венгрии, и самые неистовые кутежи шли вплоть до утра, пока наконец все собеседники его величества, перепившись, мало-помалу не сваливались под стол, где и засыпали без особого почета, между тем как самого разгулявшегося короля его верный Гофман отводил в опочивальню и укладывал в постель.
В этот кружок излюбленных жрецов Бахуса допускались очень немногие: тут были только самые преданные и самые любимые люди Августа. Особы, не пользовавшиеся большим его расположением, вероятно, и не захотели бы там быть, потому что после нескольких бокалов король для тех, кого недолюбливал, становился небезопасен: силища у него была геркулесова, гнев олимпийский, а власть неограниченная… В обыкновенные дни, когда он на кого-нибудь гневался, у него по лицу пробегала будто кровавая туча, глаза блистали и дрожали щеки, он отворачивался от того, кто его раздражал, и удерживался от вспышки, но за стаканом вина этого удерживания не было, и тогда… Не один уже вылетал из окна и падал на камни мощеного двора, чтобы более никогда не подниматься!
Гневался Август редко, но зато гнев его был страшнее грозы небесной. В обыденной жизни не было государя, добрее и любезнее Августа. Замечали даже, что чем меньше он кого любил, тем любезнее он тому улыбался, и часто накануне ссылки в Кенигштейн, где его некоторые бывшие фавориты высиживали десятки лет в строгом заключении, Август обнимал обреченного в тюрьму и ласкал его как самого лучшего друга.
Но как бы там ни было, в описываемое время государю необходимо было развлекаться. Что же удивительного, если усердные люди прилагали особые старания?
Среди пирушки приводили двух голодных медведей и стравливали их или подпаивали нарочно завзятых недругов и потом подзадоривали одного против другого. Это было самое любимое развлечение короля, и если пьяные Фицтум, Фризен или Гойм после площадной перепалки на словах схватывались наконец врукопашную, король торжествовал и надрывался от веселого смеха… Это была одна из его невинных забав.
Поссорить своих приближенных между собою королю было очень нетрудно, потому что он всегда знал, кто с кем дружен, кто кого ненавидел, кто сколько захватил у него непозволительным образом денег из казны.
Он знал, что замышлял каждый придворный, а если не знал, то отгадывал… Кто все это ему нашептывал, о том все напрасно ломали себе головы и в конце концов дошли до того, что никто никому ни в чем не верил: брат боялся брата, муж скрывал свои мысли от жены, отец опасался сына… А король Август Сильный, видя все это, лишь потешался над всей своей дворней.
Август не уважал людей и свысока смотрел на житейскую комедию; можно сказать, что презирая других, он даже не уважал и своих ролей в жизни: и Юпитером, и Геркулесом и даже Бахусом он бывал самому себе в тягость.
В этот вечер король чувствовал такую грусть и тоску, что решил собрать всех своих министров, любимцев и придворных, напоить их и хорошенько перессорить, чтобы немного позабавиться.
Среди освещенной залы, одну стену которой занимал сверкающий хрусталем и серебром буфет с серебряной, в золотых обручах бочкой на самом видном месте, стоял длинный стол, за которым сидели товарищи королевских забав.
Тут были вновь прибывшие графы — Тарапель Лагнаско из Рима, Ваккербарт из Вены; затем придворные — Вацдорф по прозванию «мужик из Майнсфельда», Фюрстенберг, Имгоф, Фризен, Фицтум, Гойм и наконец несравненный по своим шуткам, по своему неисчерпаемому остроумию, всегда серьезный и хладнокровный, но способный рассмешить всех и каждого, барон Фридрих Вильгельм Киан.
Король сидел в расстегнутом камзоле и жилете, подпершись локтем, погруженный в грустные думы. Его красивое лицо, обыкновенно ясное и покойное, теперь было омрачено предчувствием какого-то близкого горя. Перед ним стоял только что опорожненный бокал… Несколько пустых бутылок доказывали, что беседа началась уже давно, но на лице короля не было заметно хмеля… Янтарная влага не позлатила его мрачных дум.
Придворные балагурили и шутили, стараясь развлечь государя, но ничто не помогало: Август сидел, задумавшись, и, казалось, не слушал.
Обеспокоенные собутыльники искоса поглядывали на своего приунывшего владыку: веселье не ладилось.
На противоположном конце стола сидел также мрачный, нахмуренный Киан и, как бы подражая королю, тоже оперся на руку, также вытянул ноги и также вздыхал, уставясь глазами в потолок.
Он был грустен до смешного.
— Послушай, — шепнул Фюрстенберг, толкая локтем Ваккербарта (оба они были уже под хмельком), — посмотри, сделай милость, на нашего короля!.. Ведь это прескверно, что его сегодня ничем развеселить нельзя!.. Одиннадцатый час… он должен быть уже в полном кураже, а между тем… Право, это наша вина!
— Ну, я на себя этого не беру! Я здесь гость, — возразил Ваккербарт, — а что до вас, то, зная короля ближе, вы бы действительно, кажется, должны придумать, как помочь.
— Чем тут поможешь? Ясное дело, ему Любомирская надоела, — ввернул слово Тарапель.
— Ну, говоря по правде, я думаю, что и шведов ему тоже не очень легко переварить! — прошептал Ваккербарт.
— Эге! Шведов-то мы скоро забудем, их за нас кто-нибудь другой поколотит; в этом я твердо уверен, и нам тогда придется собирать только плоды… — заговорил, качаясь, Фюрстенберг. — Нет, не шведы его огорчают… а ему действительно надоела Любомирская… Нужно будет ему найти другую женщину.
— Да разве это так трудно? — шепнул, снова пожав плечами, Ваккербарт.
— Ну, вам и надо было опять разыскать в Вене другую Эстерле, — засмеялся Лагнаско.
И придворные начали шептаться между собой так тихо, что уж ничего не было слышно, потому что король, казалось, пробудился от сна и, обведя глазами своих собутыльников, остановил взор на бароне Киане, который продолжал сидеть в своей трагикомической позе. Взглянув на него, государь прыснул гомерическим хохотом.
Ничего более не требовалось всему обществу, чтобы разразиться, подобно эху, веселым смехом, хотя половина собеседников даже и не знали, чему его величество изволил рассмеяться. Один только Киан не шевельнулся и не дрогнул.
— Киан, — заговорил король, — что с тобой? Не изменила ли тебе любовница? Не обеднел ли ты, не обидел ли тебя какой недруг? Ты похож на Прометея, которому сказочный коршун выклевывает печень!
Киан повернулся в сторону короля тихо, как деревянная кукла, и глубоко вздохнул. От этого вздоха стоявший около него канделябр с шестью свечами загас и дым пополз по зале.
— Что с тобой, Киан? — спросил снова король.
— Я скорблю о несчастной участи нашего любезнейшего монарха! — важно отвечал Киан. — Какая печальная доля! Рожденный для счастья, с ангельской красотой, с геркулесовой силой, с возвышенным сердцем, непобедимым мужеством, словом, рожденный для того, чтобы видеть у своих ног целый свет, ты не имеешь ничего.
— Да, это правда! — сказал, насупив брови, Август.
— Конечно, правда. Помилуй, нас тут пятнадцать человек, и ни один из нас не умеет развлечь тебя; любовницы твои тебе изменяют или стареют, вино киснет, деньги у тебя воруют, а когда вечерком ты захочешь отдохнуть в веселом приятельском кругу, твои верноподданные окружают тебя с унылыми, похоронными лицами. Не должно ли все это приводить в отчаяние всякого, кто тебя любит?
Август усмехнулся, дрожащей рукой схватил бокал и ударил им по столу. Из-за буфета выскочили два карлика, как две капли воды похожие один на другого, и встали перед королем.
— Слышь-ка, Трам, — крикнул Август, — вели подать нашей амброзии! Киан будет виночерпием. Это вино, которое мы до сих пор пили, разбавлено водой!
Амброзией называлось королевское венгерское вино, которое приготовлялось специально для Августа из лучших виноградных лоз в Венгрии. Это было всем винам вино, густое, как сироп, сладкое и мягкое, а крепость его была такова, что оно могло свалить с ног любого гиганта.
Трам и его товарищ исчезли, и через минуту явился мавр в восточном костюме; он нес на серебряном подносе громадную флягу венгерского. Все встали и приветствовали ее низким поклоном. Осмотрел ее и король и весело сказал:
— Ну, Киан, хозяйничай!
Киан поднялся… На другом подносе карлики несли рюмки, но эти рюмки не понравились новому подчашему[1]; он шепнул что-то карликам, те побежали своими маленькими шажками за буфет и быстро явились с новой посудой.
С важностью сановника, сознающего значение возложенного на него поручения, Киан принялся расставлять рюмки. Посреди стоял прелестный королевский бокал весьма приличного объема, а вокруг него хотя меньшие, но все-таки довольно объемистые рюмки министров, за которыми выстроились рядком мелкие, с наперсток величиною, рюмочки.
Все с любопытством смотрели на эти приготовления. Киан тихонько поднял флягу, чтобы не взболтать осадка, и стал осторожно наливать. Сначала он наполнил всю мелочь. Невелики были эти рюмочки, но зато их было так много, что вина из фляги почти наполовину убыло. Очередь была за министерскими стаканами; среди всеобщего молчания подчаший их наполнил. Между тем вино во фляге убывало более и более, и когда пришла очередь наполнить наконец королевскую чашу — драгоценной влаги не хватило. Киан сцедил в королевский бокал несколько капель и, взглянув на Августа, остановился.
— Однако, хорош же из вашей милости выходит подчаший! — рассмеялся король. — Я у тебя очутился самый последний. Что ж это должно значить?
Окружающие смеялись.
— Ваше королевское величество, — начал, ставя на стол порожнюю флягу, Киан, который нисколько не смутился и не растерялся, — не знаю, что это вас удивляет. То, что я здесь сделал с вином, ваши министры делают ежедневно с доходами государства. Сначала набивают карман мелкие чиновники, потом то же самое делают те, что повыше, им подражают государственные сановники, а когда дойдет дело до королевского бокала, смотришь, и не осталось ничего.
Король захлопал в ладоши и, окинув насмешливым взглядом присутствующих, сказал:
— За твое здоровье, Киан! Вот так басня, эзоповой стоит! Однако, пусть подадут для меня другую флягу!
Мавр уже нес поднос с амброзией. Все смеялись, потому что смеялся король, но смех у всех выходил неискренний; все искоса поглядывали на Киана, который, взяв самую маленькую рюмку, провозгласил здоровье саксонского Геркулеса. Вся кутящая компания упала на колени, рюмки и бокалы поднялись вверх, и радостный крик потряс воздух.
Король чокнулся с бароном, выпил свой стакан и, ставя его на стол, сказал:
— Будем говорить о чем-нибудь другом.
На эти слова Фюрстенберг встал со своего места и проговорил:
— О ком можно теперь говорить, государь, как не о тех, которые царят и днем и ночью? О ком можно теперь думать, как не о женщинах?
— Что же, и прекрасно! — подтвердил король. — Пусть каждый опишет нам свою милую… Господа, внимание! Фюрстенберг начинает!
При этих словах король ухмыльнулся, а на лице Фюрстенберга выразилось сильное смущение.
— Государь дает мне первенство, — отвечал любимец и наперсник Августа. — Значит, от аргусова ока нашего милостивого монарха ничто не может укрыться. Он меня знает, я ему не стану лгать, и вот он меня на смех поднимает! Ваше величество, — заключил он, складывая подобострастно руки, — я прошу всемилостивейше, увольте меня от этой обязанности!
— Нет, нет! — послышалось со всех сторон. — Ведь называть имен не нужно, портрет пусть будет безымянный, а приказ государя свят и ненарушим. Начинай, Фюрстенберг!
Все присутствующие отлично знали, почему молодой человек так неохотно соглашался приступить к этому описанию. Он ухаживал за сорокалетней вдовой из семьи Кризенов, которая покрывала лицо таким слоем белил и румян, что никто не видел цвета кожи.
Вдова была богата, Фюрстенберг был без гроша; все знали, что он на ней не женится, но тем не менее на всех придворных балах, маскарадах и пикниках он был ее неизменным кавалером.
История была прекурьезная, и потому-то, когда Фюрстенберг медлил ее начать, поднялся такой шум и гам, что король приказал всем замолчать и, снова обратясь к Фюрстенбергу, молвил:
— Не жди напрасно пощады, Фюрстенберг, ты ее не получишь! Соберись с силами и описывай-ка нам свою прелестную красавицу, которой ты так верен.
— Я повинуюсь, — начал молодой забулдыга и, хватив залпом для храбрости стакан вина, смело начал:
— Нет на свете никого прекраснее моей милой! Кто может мне возразить, тот, конечно, знает, что скрывается под той маской, которую она не снимает, тая под ней свои небесные черты от нескромного взора смертных. Она небожительница… ей одной не вредит то, что губит всех других женщин… красота у нее зрелая и такой останется на век. Всеразрушающее время бессильно против ее, как из мрамора выточенных, прелестных форм.
Всеобщий смех прервал его слова.
Рядом с ним сидел министр акцизов Адольф Гойм. Это был мужчина великолепного сложения. Его лицо было хмуро. Маленькие глазки, насквозь пронизывающие своим взором человека, на которого он смотрел, выдавали какую-то тревожную проницательность. Всегда бледный, даже желтый, он немножко зарумянился только после амброзии. Гойм слыл за Дон Жуана, но его интриги уже несколько лет были так скрытны и темны, что многие даже думали, что он давно оставил эти забавы. Ходили слухи, что он женился, но жена его никуда не показывалась, и никто ее нигде не видел… Вероятно, она жила в деревне.
Гойм был слабее других и, не оправясь еще от предыдущих королевских попоек, он теперь был уже заметно в сильном подпитии. Это видно было по его беспрестанному встряхиванию головой, по усилию, с каким он шевелил отяжелевшими руками, по странной косой улыбке, по смыкающимся глазам и наконец по всей его фигуре, которой он был не в силах владеть.
Понятно, что министр акцизов, который не мог шевелить языком, был для короля и его товарищей источником смеха, шуток и веселья…
— Теперь очередь Гойма, — сказал король. — Ты ведь знаешь, Гойм, что у нас тут никаких отговорок не допускается. Всем нам известно, что ты большой знаток и любитель женских прелестей. Знаем мы и то, что ты без женской ласки жить не можешь; из избы у нас сору никто не вынесет, и ничто дальше этой комнаты никуда не пойдет, так опасаться нечего и надо признаваться. Исповедуйся-ка!
Гойм ворочал головой во все стороны и играл пустым стаканом.
— Хе, хе, хе! — засмеялся он.
Киан потихоньку налил ему вина.
Министр машинально поднял стакан ко рту и выпил вино с той бессмысленной жадностью, которая овладевает пьяницами, мучимыми неутолимой жаждой.
Лицо у него стало красно, как кровь.
— Хе, хе, — начал он, заикаясь, — вы хотите знать, какова моя любовница… Да мне, милейшие мои, не нужно любовницы, у меня жена — богиня!
Все дружно засмеялись, один король, посматривая на рассказчика, слушал с любопытством.
— Смейтесь-ка, — говорил Гойм, — смейтесь, а я вам скажу, что кто ее не видел, тот не видел и Венеры! Да-с, нечего, нечего смеяться, я вас уверяю, что сама Венера около нее покажется прачкой. Могу ли я ее описать? В одних ее черных глазах столько чувства, что против них не устоит ни один смертный. Стан поспорит с изваянием Праксителя… Нет слов, чтобы описать улыбку, но богиня эта строга и сурова, и улыбка не часто расцветает на устах.
Многие недоверчиво качали головами. Гойм хотел прервать свой рассказ, но король ударил кулаком по столу и воскликнул:
— Это воздыхания, а не описания! Ты опиши нам ее как должно, получше, чтобы можно было иметь понятие о всей ее красоте!
— Возможно ли описать совершенство? — возразил Гойм и, подняв глаза в потолок, продекламировал:
— «В ней все прелести и ни одного недостатка!»
— Я готов признать ее красавицей, — заговорил Лагнаско, — если этот непостоянный Гойм влюблен в нее три года и ни разу не изменил.
— А я уверен, что это он только спьяна болтает! — прервал Фюрстенберг. — Как? Неужто может быть, чтобы его жена была красивее княгини Гешен?
Гойм пожал плечами и тревожно взглянул на короля, но король спокойно проговорил:
— Правда прежде всего… Что же тут стесняться?.. Гм! Так взаправду твоя жена, Гойм, может быть красивее Любомирской?
— Ваше величество, — с увлечением отвечал Гойм, — княгиня Любомирская красивая женщина, а моя жена — богиня. При дворе, во всем городе, во всей Саксонии, в целой Европе — нет ей не только равной, но даже подобной!
В ответ на эти слова министра акцизов зал взорвался смехом.
— Какой забавный Гойм, когда пьян!
— Потеха просто, как выпьет акцизник!
— Что за человек!
Один король не смеялся, а сам Гойм был, очевидно, под влиянием амброзии и даже, казалось, забыл, где он находится и с кем говорит.
— Ладно! — воскликнул он. — Смейтесь себе, смейтесь! Вы меня знаете, вы сами зовете меня Дон Жуаном; так, по крайней мере, согласитесь, что лучше меня нет знатока в женской красоте. Да и к чему мне лгать?.. Моя жена божество, а не женщина; одного взора ее достаточно, чтобы раздуть пламя любви в самом холодном сердце; ее улыбка…
При этих словах он нечаянно взглянул на короля…
Выражение лица Августа, жадно слушавшего каждое слово, так поразило пьяного министра, что он сразу почти протрезвел. Он был бы рад взять назад свои слова. Гойм вдруг замолчал и побледнел как полотно. Напрасно все старались вызывающим смехом подзадорить его, чтобы он продолжал свое описание. Гойм растерялся, рука его машинально держала бокал, но он опустил глаза и задумался.
По знаку короля Киан налил Гойму вина и чокнулся.
— Пили мы за здоровье нашего Геркулеса, — закричал Фюрстенберг, — теперь выпьем еще за здоровье божественного Аполлона!
Некоторые пили, опустившись на колена, другие стоя; Гойм встал, шатаясь, и должен был опереться на стол. Действие вина, на минуту остановившееся под влиянием испуга, снова началось. Голова министра страшно кружилась, и он выпил вино залпом.
За креслом короля стоял Фюрстенберг, которого государь называл часто в шутку Фюрстхен. Он был всегдашний помощник и товарищ Августа в его любовных похождениях, и теперь король тихо ему прошептал:
— Фюрстхен, а акцизник-то ведь, должно быть, не лжет; он несколько лет запирает и прячет свое сокровище; его надо бы заставить показать нам свою красавицу… Делай все, что хочешь, чего бы это ни стоило, а я хочу ее видеть!
Фюрстенберг улыбнулся: ему и многим было это очень с руки. Царствовавшая ныне королевская любовница княгиня Тешен-Любомирская восстановила против себя всех друзей попавшего из-за нее в опалу государственного канцлера Бейхлингена, после падения которого она присвоила себе дворец на Пирнейской улице… И хотя Фюрстенберг в свое время послужил и Любомирской против других прелестниц, старавшихся завладеть сердцем короля, но королю своему он был готов служить против всех на свете. Теряющая свою красоту Любомирская, ее претензионный тон и обращение начали надоедать королю. Фюрстенберг отгадал все это во взгляде и в разговоре короля и, отойдя от его кресла, подошел к Гойму, фамильярно облокотился на его плечо и громко прокричал ему на ухо:
— Милейший министр! Стыдно мне за тебя, срам так нагло лгать в присутствии светлейшей особы короля! Ты смеялся и над ним и над нами. Я охотно допускаю, что жена такого знатока и любителя красоты, как ты, не может быть какой-нибудь мартышкой, но чтобы равнять ее с богиней Венерой или даже с княгиней Тешен — это дудки!
Вино снова зашумело в голове Гойма.
— Что я говорил, — гневно отвечал он, — все правда! Тысячу громов! Гром и молния!
— А я бьюсь на тысячу дукатов, — вскричал Фюрстенберг, — что твоя жена не красивее других придворных дам!
— Принимаю пари! — сквозь зубы пробормотал совершенно бледный и пьяный Гойм. — Держу!..
— А судьей буду я! — протянув руку, прибавил Август. — И так как суду медлить не для чего, — продолжал он, — то Гойм немедленно привезет жену сюда и представит ее нам на первом же балу у королевы.
— Превосходно! Пиши, Гойм, скорее своей прекрасной жене, а королевский курьер сейчас отвезет это письмо в Лаубегаст! — закричал кто-то из толпы.
— Да, да! Пиши сейчас же! — послышались голоса со всех сторон.
В одну минуту перед министром лежал лист бумаги, Фюрстенберг насильно всунул ему в руку перо, а король взором требовал исполнения. Несчастный Гойм, в котором время от времени пробуждалась тревога мужа при мысли о волокитстве короля, сам не зная как, написал продиктованное ему письмо к жене с приказанием приехать в Дрезден. Письмо это взяли у него из рук… и уже по лестнице послышались шаги: это кто-то бежал вниз, чтобы немедленно отправить курьера в Лаубегаст.
— Фюрстенберг, — шепнул Август, — если Гойм сегодня протрезвеет, он вернет курьера… Позаботься напоить его до бесчувствия, чтобы он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой…
— О, не беспокойтесь, ваше величество: он и так пьян, что я начинаю опасаться за его жизнь!
— Ну, на этот счет я совершенно спокоен, — отвечал король, — мы бы ему устроили отличные похороны, а на земле его службу отправил бы без упущений кто-нибудь другой.
Шутка короля так подействовала, что вокруг Гойма вмиг уже стояла целая батарея рюмок и стаканов; стали придумывать тосты; все его подбивали выпить еще, да еще… в амброзию ему подливали разные другие напитки, и через полчаса Гойм, бледнее мертвеца, со свесившейся головой и страшно разинутым ртом, храпел, полулежа на столе.
Гайдуки подняли его и понесли на кровать, более из осторожности, чем из заботы о его здоровье.
Его положили в один из королевских кабинетов и оставили там на попечении силача Цоянуса, которому было велено никуда не выпускать его, ни под каким предлогом. Гойм, впрочем, не проснулся, и тяжело стеная во сне, пролежал без сознания до самого утра.
Когда его вынесли из залы, там началась при закрытых дверях, в самом тесном кружке, страшная оргия, единственными свидетелями которой были молчаливые зеркала, украшавшие место этой вакханалии.
Король пришел в самое веселое расположение духа, которое тотчас же отразилось на лицах всех его собеседников. Уж почти совсем рассвело, когда два гайдука отнесли наконец в постель последнего из всех пировавших, — это был сам Август.
Фюрстенберг остался один на месте бурной попойки, и он был почти совершенно трезв. Проводив вынесенного в бесчувствии короля, он снял с себя парик, чтобы освежить голову, и, задумавшись, проговорил самому себе:
— Наступает новое царствование… Любомирская слишком мешалась в политику. Она могла завладеть королем… На что ему умная любовница? Лишь бы любила да тешила его! Вот все, что нужно и в чем состоит призвание фаворитки венценосца!.. Теперь посмотрим жену Гойма, так усердно расхваленную своим мужем!..
II
Лаубегаст, где в одиночестве обитала супруга Гойма, лежит на самом берегу Эльбы, часах в двух ходьбы от Дрездена. В этой деревеньке было несколько загородных домиков, принадлежащих самым знатным и богатым лицам всего околотка. Эти домики прятались в густом лесу лип, буков и черных елей и сосен.
Дача Гойма, куда он частенько приезжал украдкой из своего городского дома, чтобы пробыть тут вечер и часть дня, а в отсутствие короля и целые недели, была, как и все строения того века, построена на французский манер, с разными резными и лепными украшениями по стенам и с высокой черепичной крышей. Ее отделывали самым старательным образом нарочно привозимые сюда из столицы мастера.
Хозяин очень заботился об украшении этого жилища. Небольшой дворик был огорожен железной решеткой на каменных столбах, на которых стояли превосходные каменные вазы, а на более высоких столбах около ворот помещались группы купидонов с фонарями в руках. Вход в дом был по каменной галерее, опять украшенной вазами, статуями и роскошными цветами. Дом был барский, но казался пустынным и грустным и походил на монастырь.
Здесь не было ни шума, ни многочисленной прислуги. Изредка около дачи показывались два старых камердинера и несколько человек прислуги, а под вечер выходила иногда с книжкой в руках женщина, которой с удивлением и восхищением любовалось все население Лаубегаста. В самом деле, это было какое-то чудное явление в этом глухом захолустье, потому что единственно достойным ее местом жительства могла быть столица.
Никто никогда не видел в этой деревне ничего подобного и не мог даже представить себе такой красоты. Это была молодая женщина высокого роста и царственной осанки, великолепного цвета лица, с черными живыми, ясными глазами. Когда она шла по улице во всем величии своей красоты и молодости, невольная тревога овладевала всяким, кто на нее даже украдкой взглядывал, столько было в ней повелительного и истинно царственного.
Но несмотря на величественность, в лице ее было что-то грустное, унылое. Никогда не улыбались уста, никогда не светилось в глазах что-нибудь веселое, беззаботное. Она казалась несчастной, а, может быть, просто скучала. Известно было, что она жила здесь взаперти и в одиночестве уже несколько лет, не видя никого, кроме сестры Гойма, фицтумовой жены, но и эту брат не часто допускал к своей жене. Он знал, что сестра его некогда тоже имела счастье удостоиться кратковременных ласк короля и питала надежду когда-нибудь снова вернуть себе утраченное мимолетное счастье.
Не допуская жену ко двору и стараясь удалить ее от всех придворных соблазнов и интриг, министр даже и родную сестру старался от нее отстранить. Госпожа Фицтум понимала это, но ничего не говорила, — ей это было все равно.
Но невестка ее смертельно скучала. Единственным развлечением красавицы были духовные протестантские книги, которыми она часто зачитывалась, да еще прогулки, происходившие, однако, не иначе, как под надзором старика-камердинера.
Тщательно оберегаемая жизнь текла однообразно и тихо, и никакие страстные порывы не нарушали спокойствия. Гойм, впечатлительный и страстный, но непостоянный и ветреный, увлекаясь придворной жизнью, скоро забыл и почти бросил свою жену. Однако, он любил ее по-своему, то есть ревновал и прятал свое сокровище.
Только тогда, когда короля и двора не бывало в Дрездене, графине Гойм позволялось приезжать на короткое время в столицу, но столица в это время была так смертельно скучна, что не могла привлечь к себе молодую женщину.
Многолетнее заключение сделало ее мрачной, желчной, грустной и гордой. В ней развился какой-то странный аскетизм и апатия. Она считала свою жизнь погибшей, отпетой и похороненной. Впереди она видела только одну смерть, а между тем она была хороша, ей еще не было двадцати четырех лет, да и то все видевшие ее не давали ей больше восемнадцати, до такой степени она была моложава.
Эта моложавость невестки приводила в негодование госпожу Фицтум, молодость и свежесть которой сильно пострадали от веселой и разгульной придворной жизни. Ее раздражало и другое в молодой Гойм — ее грусть, ее негодование на все порочное, ее гордость, презрение к интригам и лживости, ее царственное достоинство, с которым она с высоты своего величия глядела на подвижную, веселую и полную фальши и обмана золовку. Не будь госпожа Фицтум родственницей госпоже Гойм, она, может быть, даже постаралась бы довести ее до падения.
Жена Гойма тоже не любила госпожу Фицтум, она чувствовала к ней инстинктивное отвращение. К мужу она относилась холодно, даже почти с презрением, может быть, отчасти за эту самую Фицтум, которая любила потихоньку посплетничать о разных скандальных интрижках; через нее Анна Гойм знала, что муж не был ей верен.
Легко могла она повергнуть его к своим стопам одним нежным взглядом; она знала свою силу и была в ней уверена, но не хотела. Он казался ей слишком ничтожным, чтобы стоило о нем заботиться. Встречала она его холодно, провожала так же. Гойм возмущался, сердился, но когда дело доходило до открытой ссоры с женой, он постыдно сбегал.
Так шли день за днем в Лаубегасте. Анне уже не раз приходила на ум мысль оставить мужа и «соломенной вдовой» возвратиться на родину в Голштинию…
Но отца и матери она лишилась в детстве, а княгиня Брауншвейгская из рода Голштейн-Плен, пожалуй, и не приняла бы ее снова к своему двору. Слишком памятно и известно было пребывание там шестнадцатилетней Анны, которую князь Людовик Рудольф в пылу увлечения ее чудной красотой хотел поцеловать и получил почти публично пощечину.
Некуда было деваться бедной, но прекрасной Анне.
О ней никто не знал в Дрездене, никто не знал при дворе — за исключением одного человека.
Это был молодой поляк, который скорее силой, чем охотой, состоял при дворе Августа: он попал сюда против воли и против воли влачил тут противное его нраву существование.
Когда Август Сильный ехал в первый раз в Польшу и, разговаривая с гордыми панами, выехавшими ему навстречу, стал за обедом в Пекарах крушить в руках серебряные стаканы, гнуть талеры и ломать подковы, епископ Куявский при виде этих подвигов, предчувствуя почему-то зловещую будущность Речи Посполитой, будто невзначай заметил, что ему известен один молодой человек, который может сделать почти то же самое.
Это за живое задело короля, который любил кичиться своей силой: он покраснел от неудовольствия, но, не желая этого выказывать, так как это было на первых порах его пребывания в Польше, удержался и выразил желание видеть такого соперника по силе, так как еще никогда в жизни не встречал себе равного. Епископ обещал королю представить ему в Кракове после коронации этого бедного молодого человека, происходящего, однако, из знатного и некогда очень богатого рода Закликов.
После епископ понял всю неловкость своей выходки и охотно бы ее забыл, если бы сам король не стал упорно настаивать и требовать, чтобы ему показали Раймонда Заклика.
Раймонд в то время только окончил иезуитскую школу и сам не знал, что с собой делать и куда деваться. Рад был бы он поступить на военную службу, но чин купить было не на что, а идти рядовым — не подобало дворянину.
После долгих розысков Заклика нашли наконец в какой-то канцелярии.
У него не оказалось ни порядочного платья, ни сабли, ни пояса. Волей-неволей епископу пришлось снарядить его на свой счет с ног до головы, чтобы самому не осрамиться, и он стал ждать случая показать его Августу.
Чаще всего король любил помериться силой после хорошего обеда, когда бывал особенно в духе. В один из таких дней, принявшись ломать серебряные жбаны и подковы, которые заранее обыкновенно припасались придворными, король вдруг обратился к спокойно сидящему в стороне епископу и снова спросил: «А где же, мой отец, ваш силач?» Когда король стал настаивать, привели Заклика.
Это был рослый, румяный, смирный и здоровый молодец, на вид скромнее красной девицы и совсем не казался Геркулесом. Взглянув на него, Август усмехнулся. Заклик был дворянин, и он получил разрешение поцеловать руку государя. По-французски и по-немецки он не знал в то время еще ни слова, и потому с ним иначе как по-латыни говорить было трудно. К счастью, особенного разговора тут и не требовалось. Перед королем стояли два ровных серебряных бокала; Август взял один, сжал пальцы, и серебро смялось, как бумага, а вино брызнуло из бокала вверх.
Насмешливо улыбаясь, подвинул он другой бокал Заклику и сказал:
— Попробуй, если погнешь бокал, он твой.
Робко подошел юноша к столу, протянул руку и, почувствовав в ней металлическую вещь, оробел: ему казалось, что он ее не осилит…
Кровь бросилась ему в лицо — и бокал разломился на несколько кусочков. На лице короля изобразилось сначала недоумение, но оно быстро перешло в неудовольствие, которое было заметно во взгляде, брошенном на епископа.
Присутствующие поняли неловкость и спешили доказывать, что бокал, сломанный Закликом, вероятно, был или тоньше первого, или просто надломлен раньше.
Король стал ломать подковы, как баранки, Заклик делал то же самое без малейшего усилия.
Тогда Август взял немецкий талер и сломал его между ладонями. Заклику подали талер испанский, который был значительно толще немецкого, но дворянин принатужился и переломил монету.
По лицу короля пробежала туча, и весь двор был недоволен, что дело дошло до такого неблагоприятного исхода. Август велел наградить Заклика, подарил ему оба бокала, а затем, подумав, приказал зачислить его ко двору. Ему дали какую-то маленькую должность, а на другой день шепнули, чтобы он, Боже сохрани, никогда не хвастался своей силой. Неприлично быть сильнее короля.
Бедняк Заклик попал таким образом ко двору.
Ему дали несколько сот талеров содержания без всякой работы — по тому времени это было очень роскошно. У Заклика было много свободы и одна лишь обязанность — ездить безотлучно за королем в его путешествиях. Король никогда не говорил с ним ни слова, но о нем помнил, часто наведывался и приказывал, чтобы он ни в чем не нуждался.
Свободного времени у Заклика было с избытком, и так как среди немецкого общества он ни слова ни с кем не мог сказать, то принялся на досуге учить немецкий и французский. Дело пошло успешно, и через два года он уже довольно свободно объяснялся на обоих языках. От скуки он часто бродил по окрестностям Дрездена, и не было деревеньки или рощицы, в которой бы он не побывал. Любопытный от природы, лазил он часто по самым неприступным горам и по обрывистым берегам Эльбы, взбирался чуть не с опасностью для жизни на такие высоты, что просто дух захватывало…
В одну из таких экскурсий Раймонд Заклик попал на свое несчастье в Лаубегаст и в тени под липой расположился отдохнуть… В это время графиня Анна Гойм вышла на свою одинокую прогулку. Заклик увидел ее и остолбенел от восторга и восхищения. Не верилось, что такое создание может действительно существовать. Долго просидел тут бедняк и все глядел, глядел и не мог наглядеться. Ему казалось, что вот, наконец, и надоест смотреть, но чем больше смотрел, тем все больше хотелось ее видеть. Грустно, скучно стало на душе, и, как околдованный, стал он бегать каждый день в Лаубегаст, совершенно потеряв голову.
Никому он не доверил своей тайны, да и посоветоваться ему было не с кем; некому было сказать, что от этой болезни одно лишь лекарство: не в огонь бросаться, а от огня бежать без оглядки… Юноша затосковал, исхудал, побледнел и даже как будто поглупел.
Служившие у графини Гойм женщины нередко поднимали его на смех, догадываясь, что с ним делается; рассказали они о юноше и своей госпоже. Та рассмеялась и захотела на него посмотреть. Может быть, ей стало его жаль, но она приказала позвать его к себе, пожурила за его постоянные и назойливые прогулки и строго велела больше не появляться в Лаубегасте.
При разговоре этом никто не присутствовал, и Раймонд вдруг набрался смелости. Он ответил, что в том, что он смотрит, нет греха; что ничего больше ему не нужно, лишь бы ее видеть, и прибавил, что хотя бы его тут казнили, он будет сюда приходить.
Графиня Анна сердито топнула ножкой и обещала пожаловаться мужу, но Раймонда это не испугало. Графиня перестала ходить в ту рощу, где ее поджидал Заклик, и начала гулять вдоль Эльбы.
Однажды графиня заметила, что недалеко от берега над поверхностью воды виднеется человеческая голова. Она всмотрелась — по горло в воде стоял Заклик.
Страшно разгневавшись, Анна стала звать своих людей, но Раймонд нырнул и исчез. Он едва не утонул, потому что запутался в водорослях, а намокшая одежда тянула ко дну.
С этого времени Заклик как будто скрылся, на самом же деле он отыскал другую засаду и все глаза просмотрел, глядя целые дни на недоступную красавицу…
Знала об этом Анна или нет, но только в Лаубегасте о Заклике уже больше не говорили.
При дворе им тоже не интересовались: король, может быть, даже был бы и очень доволен, если бы он себе свернул где-нибудь шею.
К королю только раз призвали Заклика: это было, когда Август, будучи сильно разгневан, одним взмахом сабли отрубил голову громадному коню. Мощный владыка хотел доказать, что это подвиг, которого ни за что не сделает славный Заклик. Привели старую, костлявую солдатскую клячу. Заклику посоветовали, чтобы он, если дороги ему свобода и королевская милость, слукавил и не обнаруживал своей силы; но простодушный парень подумал, что если дело идет о том, чтобы помериться силой, то надо не ударить лицом в грязь.
В присутствии короля, всей знати и двора он выбрал добрый палаш и, как бритвой, отхватил голову кляче.
Потом он сам говорил, что рука с неделю болела, да ничего, зажила.
Король не сказал ни слова, только плечами пожал. На Заклика никто и смотреть не хотел, а те из придворных, которые с ним были поближе, советовали ему убираться из Дрездена, пока цел, и предсказывали, что при малейшем удобном случае не миновать ему Кенигштейна.
Раймонд не хотел об этом и слушать.
А король в это время о нем не забывал и вдруг захотел испробовать, сколько Заклик может выпить вина, но Заклик пил лишь воду и изредка только стакан пива или рюмку вина — и больше не мог.
Насильно влили ему в горло стакан венгерского; он тут же свалился с ног, неделю пролежал больной и чуть не схватил горячку. Но придя в себя и выздоровев, он, казалось, стал еще сильнее, снова начал ходить в Лаубегаст, высматривать свою красавицу.
Эта любовь сделала Заклика другим человеком. Он стал серьезнее, принялся за науки, и даже наружность его изменилась.
Графиня Анна, не имевшая тайн от мужа и от его сестры, о Заклике им ни разу не рассказала. Казалось, не видя и не встречая его больше, она и сама о нем забыла.
День в Лаубегасте кончался очень рано: чуть темнело, уж запирали ворота и двери на ключи и на засовы, собак спускали с цепей на двор, слуги ложились все спать, а сама хозяйка если и засиживалась иногда при свечах, коротая скучное время за книжкой, то об этом никто не знал.
В ту самую ночь, когда пировали в замке, по полям бушевал такой страшный осенний ветер, так страшно ломал и крушил ветви и целые деревья, что в Лаубегасте никто и не думал о сне.
Анна разделась и, лежа в постели, читала Библию, в которой любимыми были Апокалипсис и послания апостола Павла… Много она размышляла и нередко плакала над этим благочестивым чтением.
Была поздняя ночь, и в комнате уже догорала вторая восковая свеча, когда около дома послышался страшный стук, потом кто-то стал ломиться в железные ворота. Спущенные цепные собаки начали так ожесточенно метаться и громко лаять, что хозяйка почувствовала тревогу.
Анна начала звонить и подняла на ноги всю дворню; стук у ворот и собачий лай не прекращались.
Люди вышли на всякий случай с оружием.
За воротами шумел и кричал королевский курьер, рядом стояла запряженная шестериком карета с придворными ливрейными лакеями. Собак тотчас посадили на цепь, отворили ворота и приняли от курьера письмо графа.
Когда Анне подали письмо, она подумала, что случилось недоброе… Она побледнела, но, узнав почерк мужа, хотя немного дрожащий и неровный, стала спокойнее. В уме мелькнула судьба канцлера Бейхлинга, который в одну ночь лишился всего, что имел, и из королевских любимцев попал в кенигштейнские узники. Гойм тоже не раз говорил ей наедине, что не будет считать себя в безопасности, пока не переберется за границу со всем имуществом.
Всем было известно, что расположенность Августа не надежна, что чем добрее был король, тем более нужно было его опасаться. И Анна беспокоилась за мужа, потому что все государство ненавидело его за введение акцизных сборов, повсюду у него были враги и недоброжелатели.
Прочитав письмо, она немедленно велела готовиться к отъезду, и не прошло и часа, как ворота тихого домика захлопнулись за каретой, которая навсегда увозила его хозяйку…
Странные мысли приходили Анне на ум, овладевал какой-то страх и тоска…
Все знали уже о возвращении короля после долговременной отлучки. С ним возвращались в Дрезден интриги, козни, происки, при которых все средства становятся хороши и позволительны. Там часто происходили вещи, на первый взгляд, пустые и веселые, а на самом деле трагические.
В то же самое время, когда злополучные жертвы томились в темных казематах или гибли на плахе, бальная музыка возвещала торжество победителей… Не раз Анна издали глядела на синеющую кенигштейнскую скалу, где погребено заживо столько тайн и столько живых мертвецов…
Дорогу освещала придворная прислуга, ехавшая впереди с фонарями, и благодаря этому лошади мчали быстро…
Анна не успела оглянуться, как ее карета уже остановилась перед домом на Пирнейской улице. Хотя прислуга еще дожидалась министра, но люди спали.
В доме, в котором Гойм занимал только первый этаж, Анна даже не имела особых покоев. Было здесь только несколько комнат да спальня мужа, которая внушала ей отвращение. Сверх того тут были еще канцелярия и архив для бумаг. Кабинет министра прилегал к большой, богато убранной, но мрачной и скучной гостиной.
Графиня удивилась, когда не застала мужа дома, но прислуга передала ей, что это была королевская ночь и что после подобных пирушек пребывание гостей в замке обыкновенно продолжалось до утра и даже дольше.
Чувствуя необходимость отдохнуть, Анна прошла в дом.
Она выбрала гостиную, лежащую по ту сторону канцелярии, совсем отдельно от прочих комнат, и приказала устроить себе тут маленькую походную постель, потом, отпустив служанку, постаралась хоть немножко уснуть. Но сон не приходил, она только дремала, просыпалась и вскакивала при малейшем шорохе.
Уже было совсем светло, когда она уснула, но тотчас же ее разбудили шум отворяющейся двери и шаги в кабинете. Полагая, что это был муж, она вскочила и стала при помощи горничной как можно скорее одеваться.
Туалет был утренний, довольно небрежный и шел ей необыкновенно. Усталость после дороги и беспокойство придавали еще больше блеска ее царственной, беспримерной красоте. Она нетерпеливо дернула дверь, отделяющую ее от кабинета, отворила ее и остановилась на пороге.
Перед ней вместо мужа стоял совершенно незнакомый человек, осанка и лицо которого произвели на нее самое странное впечатление.
Это был пожилой человек в длинном черном костюме протестантского пастора, с плешивой, лоснящейся головой, на которой торчали лишь несколько клочков седых волос. Пожелтевшая кожа так крепко обтягивала его череп, что все жилы обрисовывались самым явственным образом. Серые впалые глаза, горькая улыбка, какое-то важное и вместе с тем презрительное спокойствие — все это придавало некрасивому лицу что-то такое, от чего нельзя было оторваться.
Анна молча смотрела на него, а он, по-видимому, был не менее поражен ею и стоял неподвижно, выпучив глаза, в которых невольно изобразилось восхищение при виде этого совершеннейшего создания.
С минуту они стояли, глядя друг на друга, и наконец он невольно отступил, взглянув на нее, спросил:
— Кто ты такая?
III
— Я имею больше прав спросить вас, кто вы и для чего вы здесь в моем доме?
— В вашем доме? — повторил с удивлением старик. — Не должно ли это значить, что я имею честь видеть перед собой супругу господина министра?
Анна кивнула молча головой. Пастор взглянул на нее взором жалости, и его слабая, неказистая фигурка, казалось, вдруг ожила, облагородилась и выросла, стала так почтенна и величественна, что графиня почувствовала себя при этом человеке несмелой, робкой, покорной и послушной, как малый ребенок. Между тем старик заговорил:
— Зачем ты, которую Всевышний создал для своего прославления как чудное, полное веры и света созданье, зачем ты, существо, достойное сообщества ангелов, не отряхнешь от своих ног прах, приставший к ним от этого нечистого Вавилона и не убежишь отсюда? Зачем стоишь ты здесь, не боясь, а может быть, и не подозревая опасности? Давно ли ты тут?
Анну ошеломили эти слова, но голос старика производил на нее такое хорошее впечатление, что она была готова ему отвечать, но он прервал ее и продолжал:
— Знаешь ли, где ты? Знаешь ли ты, что земля под твоими ногами колеблется? Что эти стены разверзаются по одному слову, что здесь жизнь человека ничего не стоит… И все это ради минутной прихоти?
— Что за страшные картины рисуете вы мне, мой отец, — прервала его графиня Гойм, — и зачем вы хотите меня запугать?
— Все это я делаю потому, что по светлым твоим глазам и челу твоему, дитя мое, я вижу, как ты невинна и не сведуща, и не подозреваешь ничего того, что угрожает тебе. Ты, верно, недавно здесь?
— Всего несколько часов, — улыбнувшись, отвечала графиня.
— И не правда ли, ты не здесь провела свое детство?
— Да, я приехала из Голштинии… Вот уже несколько лет, как я замужем за Гоймом, но он держит меня в деревне, в уединении, я видела Дрезден только издали.
— И, верно, ничего не слышала об этом Вавилоне? — прибавил старик. — Все, что ты мне теперь говоришь, я уже прочел в твоих глазах. Бог иногда позволяет мне проникать в глубь человеческой души Безмерная жалость к тебе овладела мной, как только я взглянул на тебя, прекрасная графиня; мне показалось, что я смотрю на белую лилию, которая расцвела в стороне от всего света и которую вот-вот сейчас растопчет бешено несущееся стадо. Цвести бы тебе там, где ты выросла, и мирно благоухать в тихом уединении!
Он умолк, а Анна, сделав к нему несколько шагов, спросила:
— Скажите мне, мой отец, кто вы?
Старик поднял голову и отвечал:
— Кто я такой? Я грешное, самоуверенное существо, над которым все смеются и на которого никто не смотрит. Я глас вопиющего в пустыне… Я тот, который проповедует необходимость покаяться, предрекает дни скорби и отчаяния. Кто я? Я послушное орудие Божьей воли, чрез которое иногда исходит горний глас с небеси, но над которым люди лишь смеются или, еще чаще, совсем его не слушают. Я тот, за которым бегает по улицам толпа уличных мальчишек и бросает грязью и каменьями; тот, пророчества которого никто не слушает; я нищий среди богачей… Но я богат милосердием Бога и служу одной его правде.
Чудный случай, подумала графиня. После нескольких лет спокойной, мирной жизни в деревне, куда едва долетал шум столичной жизни, внезапно приехать сюда по вызову мужа, и на самом пороге встретить будто бы предостережение… Не перст ли Божий это? Она невольно вздрогнула, и по телу забегали мурашки.
— Осторожно! — воскликнул старик. — Беда тем, которые не обращают внимания на предостережения, даваемые Божьим милосердием. Ты хотела знать, кто я? Я просто бедный пастор, который имел неосторожность сказать слишком резкую проповедь. Я задел сильных мира сего, и они теперь меня преследуют… Зовут меня Шрамм… Граф Гойм знавал меня, и я пришел просить его замолвить словечко в мою пользу… Мне грозят Бог знает чем! Вот кто я и зачем я здесь! Но что вас сюда привело, и кто вам позволил здесь оставаться?
— Меня вызвал муж, — сказала Анна.
— Просите скорее своего мужа, чтобы он отпустил вас назад! Да, скорее его об этом просите, — шепнул ей, тревожно оглядываясь, старик. — Я видел всех прелестниц этого двора, потому что ими здесь все хвастаются, как игрушками, и… Я скажу тебе: ты красивее их всех, а это горе, горе, горе! Горе тебе, если ты здесь останешься!.. Тебя опутают сетью интриг, оговорят ядовитыми речами, усыпят и опоят, закружат тебя в вихре удовольствий, очаруют тебя приветливостью, убаюкают твое сердце сладкими речами, приучат твои глаза ко всему постыдному, развратят тебя с позором и срамом и потом столкнут тебя в пропасть.
Анна Гойм насупила брови.
— Нет, мой отец! — воскликнула она. — Я совсем не так слаба, как вы думаете, и совсем не так неопытна и не ищу удовольствий. Нет, свет не увлечет меня!
— Ах, ведь ты его не видела таким, каков он есть во всей силе соблазна, — возразил Шрамм, — не доверяй себе и лучше беги из этого ада…
— Куда же мне бежать? — вдруг с жаром заговорила Анна. — Судьба моя связана с судьбой другого человека, оторваться от которого я не вправе. Я верю в судьбы Божии, и чему со мной суждено быть, того не миновать… Мною никто не сможет овладеть, скорее я буду всем управлять и над всем царствовать.
Шрамм посмотрел на нее тревожно: она стояла задумчивая, но полная силы и смелости, с насмешливой улыбкой на устах.
В эту минуту отворилась дверь, и в кабинет вошел неверными шагами, еще заметно пошатываясь, граф Адольф Магнус Гойм; он казался смущенным и немножко сконфуженным.
Если вчера вечером за попойкой вид графа был не особенно привлекателен, то сегодня при дневном свете он казался еще хуже… Огромного роста, широкоплечий, сильный, но неуклюжий, он не выглядел благородно; лицо его было самое обыкновенное, хотя, впрочем, довольно подвижное, и на этот раз по нему пробегали самые разнообразные выражения. Серые глаза то совсем исчезали в веках, то вдруг вытаращивались с каким-то зловещим блеском; рот кривился, лоб то морщился, то снова прояснялся, как будто какая-то тайная, внутренняя сила управляла всеми этими быстро сменявшимися декорациями.
Увидев жену, он улыбнулся, но тут же снова насупился и, казалось, был готов немедленно разразиться страшным гневом… Для начала граф сурово нахмурил брови на Шрамма…
— Шальной фанатик, противный комедиант! — закричал он, почти не поздоровавшись с женой. — Ты опять намолол там какого-то вздора и снова приходишь ко мне, чтобы я спас тебя от погибели?… Я все знаю, ты потерял свой приход… И прекрасно! В деревню тебя, в пустыню, в горы, к простому народу!..
И сделав сердитый жест рукой, он закончил:
— Что до меня, то я прошу тебя знать, что я и не хочу и не думаю за тебя заступаться! Благодари Бога, если тебя под конвоем еще отправят в какое-нибудь захолустье; здесь с тобой может случиться что-нибудь похуже…
— Вы все ведь что думаете? — закричал снова министр, подступая к Шрамму в таком гневе, что, казалось, сейчас схватит его за горло. — Вы думаете, что вам во имя Божие здесь при дворе все можно делать! Вы думаете, что вам позволено подсовывать горечь называемого вами слова Божия таким устам, которым оно не по вкусу! Вы возомнили себе, что здесь можно разыгрывать роль вдохновенных апостолов, обращающих на путь истинный грешников… Шрамм, сотни раз я твердил тебе, что мне тебя не отстоять!.. Ты сам себя губишь…
Пастор стоял, нисколько не смутившись, и спокойно смотрел на министра.
— Да ведь я служитель Бога, — сказал он. — Я присягал говорить лишь одну правду, и если меня за нее хотят мучить… Да будет воля Божья!..
— Мучить! Ах, вот что! Ты желаешь быть мучеником! — рассмеялся Гойм. — Нет, любезный, это было бы слишком много чести, а тебе просто дадут кулаком в спину и выгонят оплеванным!..
— И я пойду, — отозвался Шрамм. — Но пока я здесь, я не замолкну…
— Кричи, кто станет тебя слушать? — с усмешкой ответил министр, пожимая плечами. — Но довольно об этом, делай, что сам знаешь… Спасти тебя и не могу и не хочу; тут каждому едва под силу о себе самом думать… Я не раз повторял тебе, Шрамм: молчать нужно вовремя, нужно подделываться, а не то умрешь затоптанным в грязь… Что делать, наступают времена Содома и Гоморры!.. Будь здоров, а теперь нет больше времени!
Шрамм молча поклонился и, взглянув с сожалением на Анну, направился к дверям. Гойм крикнул:
— Жаль мне тебя! Ступай, я сделаю, что могу, но заройся в Библии и держи язык за зубами, в последний раз прошу!
Шрамм вышел.

Прием турецкой миссии в Варшаве
Тронный зал Августа II в Дрезденском дворце
Супруги остались в комнате одни.
— Скажите, граф, для чего вы так внезапно призвали меня сюда? — спросила Анна.
— Зачем я призвал вас? — быстро ответил Гойм и заходил взад и вперед по кабинету. — Зачем? Затем, что я с ума сошел! Потому что эти негодяи меня напоили, потому что я сам не знал, что делал! Потому что я идиот! Несчастный сумасшедший! Да, сумасшедший!
— Значит, это была… пустая выходка, и я могу вернуться назад? — спросила Анна.
— Из ада никогда назад не возвращаются! — отвечал Гойм. — А по моей милости вы попали в ад, потому что если есть где ад, то он здесь, настоящий ад!
Он разорвал на груди душившую его рубашку и, упав на стул, воскликнул:
— Да, мне приходится окончательно сойти с ума, у меня нет более сил бороться с королем!
— Как, король? Причем здесь король?
— Король, Фюрстенберг, все, все! Даже Фицтум! А кто знает, может быть, и моя родная сестра, все против меня… Что вы удивляетесь? Здесь проведали, что вы красавица, а я дурак, и приказали мне показать вас всем!
— Кто ж рассказал им обо мне? — спокойно спросила графиня.
Министр был не в силах сознаться, что он сам был во всем виноват. Он затопал ногами и вскочил со стула… Но вдруг злость его перешла в совершенно противоположное состояние, и он стал насмешлив.
— Довольно, — заговорил он, понижая голос. — Будем говорить разумно. Того, что случилось, исправить уже нельзя… Я вызвал вас, потому что был принужден к этому волей короля, а Юпитер громит тех, кто дерзает его ослушаться… Все должно служить для его удовольствия… Королевские стопы могут топтать чужие сокровища и бросать их всем на поругание и посмешище.
Граф умолк и принялся ходить по комнате.
— Я побился об заклад с князем Фюрстенбергом, что вы красивее всех женщин, которые играют здесь роль красавиц. Не правда ли, что я был глуп? Я позволяю вам мне это повторять тысячи раз… Государь будет сам судьей спора… И я выиграю тысячу червонцев.
Анна бросила на мужа взгляд, полный презрения, и отвернулась.
— Какое вы ничтожество! — гневно воскликнула она через минуту. — Как? Вы, который держали меня взаперти, как невольницу, оскорбляя своей ревностью, теперь сами выводите меня, как актрису, на сцену, чтобы я блеском своих глаз и улыбками выигрывала заклады… Какая беспримерная подлость!
— Говорите, что хотите, не щадите меня, — горестно отвечал Гойм. — Я это заслужил… Нет наказания, достойного меня! У меня было чудное, прекраснейшее на всем свете существо, которое жило и цвело для меня одного; я им гордился и был счастлив… Дьявол потопил мой рассудок в стакане вина.
Он с отчаянием ломал руки. Анна взглянула на него и решительно сказала:
— Я поеду домой, здесь мне стыдно самой себя… Лошадей, экипаж!
— Лошадей! Экипаж!.. — повторил Гойм. — Да вы, верно, не знаете, где вы и что вас окружает? Вы уже теперь невольница, вы не можете шагу сделать отсюда; я не поручусь за то, что в эту минуту у дверей не стоит стража. Если бы вы посмели бежать, вас настигли бы с жандармами и силой привезли бы назад… Да никто и не согласится везти… Никто не дерзнет вас спасти!.. Вы еще не знаете, куда вы попали…
Чувство ужаса вспыхнуло на лице графини. Гойм смотрел на нее с невыразимой, мучительной ревностью, а на губах его играла беспокойная, горькая усмешка.
— Нет! — сказал он, дотрагиваясь слегка до ее руки. — Послушайте меня, графиня, может быть, дело еще не так дурно, может быть, я все преувеличиваю. Будем рассуждать хладнокровно и разумно… Гибнут здесь лишь те, которые хотят погибнуть… Если вы захотите, вы можете быть не такой красивой; вы можете сделаться странной, суровой, отталкивающей, вы можете, чтобы спасти и себя и меня, притвориться такой суровой…
Он понизил голос.
— Знаете ли вы историю нашего всемилостивейшего государя и короля Августа? Это, бесспорно, самый могущественный и щедрый из государей… Он сыплет золотом, которое я, граф Гойм, по его поручению вырываю у бедняков посредством акциза и других налогов… Нет такого другого великодушного монарха, который бы так постоянно и упорно нуждался в самых дорогих и разнообразных удовольствиях. Шутя ломает он подковы и шутя играет он женщинами. И то и другое он скоро бросает, канцлеров, которых вчера обнимал, завтра он сажает в Кенигштейн… Добрый и ласковый государь, он улыбается вам до последней минуты, чтобы облегчить вашу горькую участь… Сердце у него доброе, милостивое, только не нужно ему противиться…
Граф говорил все тише и тише.
— Знаете ли вы его историю? А ведь она очень любопытна, — продолжал он почти шепотом. — Он любит разнообразие в женщинах, ему нужно всегда свежих. Как мифическому дракону, который питался девичьим мясом, ему тоже нужно все новых и новых… Кто перечтет его жертвы? Вы, может быть, слышали их имена, но не забудьте, что кроме тех, которые стали известными через свое бесславие, втрое больше таких, которые за свое падение не получили даже этой позорной награды и навсегда остаются неизвестными. У короля странные вкусы и прихоти, два — три дня любит он роскошь и знать, а надоедят они ему, и он готов бегать за лохмотницами… Весь свет знает трех официальных любовниц, побочных королев, я же насчитал бы их двадцать… Кенигсмарк еще очень хороша, Шпигель еще не очень стара, княгиня Тешен теперь в милости, но уже все они ему надоели… Он ищет теперь себе новую фаворитку!..
— О, мой добрый, о, мой хороший государь! — продолжил, смеясь, граф Гойм. — Ведь нужно же ему позабавиться, ведь для этого он на свет родился, чтобы все служило его прихотям. Красив, как Аполлон, силен, как Геркулес, любезен, как Сатир, и грозен, как Юпитер.
— К чему вы мне все это рассказываете? — перебила мужа возмущенная Анна. — Неужели вы думаете, что улыбка государя может сбить меня с пути, который я себе начертала и который считаю честным?
Гойм смотрел на нее с состраданием.
— Я знаю вас, Анна, — отвечал он. — Но я знаю и двор, знаю и государя и всех его окружающих. Если бы вы любили меня… тогда… я, может быть, был бы еще спокоен… но…
— Позвольте! Я не знаю, с какой стати нам говорить о любви… Мне кажется, без этого мы можем обойтись, но я клялась вам в верности и думаю, что этого должно быть вполне довольно для вашего спокойствия! — гордо отвечала жена. — Если вы потеряли мое сердце, то у вас еще осталось мое слово. Такие женщины, как я, своих клятв не нарушают!
— Ах, не говорите, графиня, и не такие неприступные были, и они также потом прельщались блеском коронованной главы. Княгиня Тешен так же, как вы, знатна и так же горда, а между тем…
Анна сделала нетерпеливый презрительный жест.
— Граф! — воскликнула она. — Мне нет никакого дела ни до гордости, ни до унижений княгини Тешен, но о себе я хорошо знаю, что я не умею носить стыда, и уверяю вас, что королевской любовницей не буду!
— Стыд! — возразил Гойм. — Поверьте, графиня, что он мучит только одну минуту, рана, им наносимая, только гноится, но не болит, и лишь одно пятно и остается навеки.
— Вы мне противны! — гневно прервала его Анна. Лицо ее было взволнованно. Гойм подошел к ней и заговорил мягче:
— Простите меня, графиня! Я потерял голову и не знаю, что говорю и что делаю… Может быть, все это только самые неосновательные догадки и опасения. Завтра бал во дворце. Король приказал, чтобы вы непременно были на этом балу, там вас представят королеве. Мне кажется, — продолжал он почти шепотом и, опустив глаза, — что все, что вы не захотите, вы все можете, вы можете даже не быть красивой… И я охотно проиграл бы это пари. Вам легко выставить себя неловкой, смешной. Для короля много значат ловкость, изящество манер, живость и остроумие… Вам нетрудно выказаться смущенной, неловкой, робкой, даже молчаливой и смешной! Черты лица еще ничего не значат… В Дрездене весь город полон красивыми кухарками. Август знаток утонченный, он прихотлив, ему от женщины много нужно… Вы понимаете меня, графиня?
Анна отвернулась и отошла к окну.
— Вы приказываете мне разыгрывать комедию для того, чтобы спасти вашу честь! — воскликнула она с иронической улыбкой. — Но вам не мешает знать, граф, что я не переношу никакой фальши. Вашей чести ничто не угрожает. Анна Констанция Брокдорф не из таких женщин, которые поддаются на королевские ласки, и мою любовь нельзя купить ни за горсть, ни за гору бриллиантов. Вам нечего бояться. Я не поеду на этот бал.
Гойм побледнел.
— Нет, это опять невозможно, графиня! Вы должны быть на этом балу! — заговорил он испуганным голосом. — Тут речь идет о моей голове, о моем будущем… Король приказал…
— А я не хочу! — возразила Анна.
— Вы хотите ослушаться воли короля?
— А почему же и нет? Король хоть глава государства, но он не властен в семейных делах своих подданных, это дело одного Бога. Король в этом надо мной не властен.
— Да, он с вами ничего не сделает! — с волнением заговорил министр. — Он слишком любезен с красивыми женщинами, но зато я попаду в Кенигштейн, наше состояние конфискуют, и нам останется одно разорение и смерть!
— Вы не знаете короля! — продолжал он. — Август никогда не прощал тем, которые не подчинялись его воле. Вы должны быть на этом балу, или я погиб.
Анна нетерпеливо вздернула голову.
Гойм окончательно струсил.
— Заклинаю вас именем Бога! — просил он. — Уважьте мою просьбу!
При этих словах послышался стук в дверь, и вошедший слуга, остановись на пороге, доложил:
— Графини Рейс и Фицтум.
Удержав едва не сорвавшееся проклятие гостям, Гойм поспешно повернулся к лакею, чтобы приказать ему отказать, но на пороге уже стояла сама графиня Рейс, а за ней виднелись разбегающиеся глаза сестры графа, которая смотрела на брата с вызывающим любопытством.
Гойм думал, что в городе еще не знали о его ночном приключении и о приезде жены, но посещение этих двух дам заставляло подозревать противное; было ясно, что его бессмысленная пьяная проделка, в которой он так горячо раскаивался, уже известна всем. Иначе графиня Рейс не навестила бы одинокий дом министра, где он жил на холостую ногу.
Смущенный до крайности, он встретил дам, и величественная, одетая в черное бархатное платье графиня Рейс переступила порог кабинета. Белая, свежая, румяная, немного полная, но недурно сложенная, графиня входила с очаровательной улыбкой.
Сестра Гойма, госпожа Фицтум, сопровождавшая графиню Рейс, сразу увидела по глазам брата, что он встревожен. Но обе женщины сделали вид, что они ничего не заметили, и приветливо улыбались.
— Я могла бы сердиться на вас, граф! — начала своим мелодичным голосом графиня Рейс. — Возможно ли, ваша жена приезжает сюда, а я ничего не знаю, и только вот совсем случайно мне это сообщила Юльхен.
— Как! — воскликнул министр, не будучи в силах удерживать более свое нетерпение. — И Юльхен уж об этом знает?
— Еще бы! — отвечала графиня. — И она и все, весь свет об этом только и говорит, что наконец-то вы взялись за ум и больше не будете держать свою бедную жену взаперти, под замком.
И говоря это, она подошла к Анне.
— Как вы поживаете, дорогая графиня? — приветствовала она красавицу, протягивая ей обе свои руки. — Я очень рада, что наконец встречаю вас здесь, где ваше настоящее место. Я прихожу первая к вам, но поверьте, что меня приводит сюда не пустое любопытство, а желание быть вам полезной. Завтра вы, наша прелестная пустынница, будете первый раз на балу у королевы… Сегодня вы только лишь приехали; Дрездена вы не знаете, как же не спешить к вам на помощь? Мы должны были о вас позаботиться, наша бедненькая, всполошенная пташка…
Во время этой речи, та, которую графиня Рейс называла всполошенной пташкой, стояла спокойно и гордо, как бы сознавая свою силу.
— Я очень вам благодарна, графиня! — спокойно отвечала она. — Муж мне только что сообщил эту новость, но я думаю, что в моем появлении на балу совсем нет никакой необходимости. Надеюсь, что я сохраняю еще за собой право заболеть… положим, хоть от радости, что вдруг получила такое неожиданное приглашение.
— О, я не советовала бы вам прибегать к этому средству, — отвечала графиня Рейс. — Никто, взглянув на вас, не поверит вашей болезни, от вас так и пышет здоровьем, свежестью и силой. Скажу более, никто не поверит и тому, что вы перетрусили, потому что вы, как я вижу, не из робкого десятка.
Между тем госпожа Фицтум взяла под руку Анну и, пользуясь тем, что брат повел графиню Рейс из кабинета в гостиную, шепнула на ухо:
— Что вы делаете, милая Анна! Для чего вам отговариваться? Посудите, наконец-то вы вырветесь из неволи, которую я, право, очень часто оплакивала из любви к вам. Вы увидете двор, короля, наш придворный блеск, которому нет равного во всей Европе. Я первая поздравляю и приветствую вас, потому что уверена, что вам предстоит самая блестящая и самая счастливая будущность.
— Я так привыкла к тишине и спокойствию в своем укромном уголке, — тихо отвечала Анна, — что у меня нет даже никакого влечения к другой, шумной и рассеянной, жизни.
— Ничего, пускай-ка мой братец помучится от ревности! — и госпожа Фицтум весело рассмеялась.
Три дамы в сопровождении смущенного министра еще стояли посреди салона, когда слуга отозвал Гойма и дверь кабинета за ним затворилась. Графиня Рейс села первая, обратившись к прекрасной хозяйке.
— Моя милая графиня, — начала она, — я очень рада, что прежде других могу приветствовать ваше вступление в большой свет… Поверьте мне, что я могу вам когда-нибудь пригодиться… Совершенно не желая и сам того не подозревая, Гойм так обставил ваше вступление в общество, что обеспечил за вами самый верный и блестящий успех… Вы прекрасны, как ангел!
Анна минутку помолчала и затем ответила:
— Вы, милая графиня, кажется, думаете, что я честолюбива?.. Уверяю вас, что во мне этого нет, я слишком долго жила в одиночестве, довольно долго размышляла над собой и светом и теперь только и думаю, как бы вернуться домой, к моей тихой жизни и к моей Библии.
Графиня Рейс засмеялась.
— О, как эти вкусы скоро переменятся! — воскликнула она. — Но не будем теперь об этом спорить, а подумаем лучше о вашем завтрашнем туалете. Посоветуемся-ка, милая Фицтум, как бы нам ее приодеть, потому что сама она, пожалуй, не обратит на это должного внимания. Ведь это должно особенно вас касаться, тут дело в том, чтобы поддержать честь вашего брата.
— Как Анна ни оденется, — возразила графиня Фицтум, — она будет самой красивой на балу. Даже княгиня Тешен не может с ней равняться. Да, Тешен отцвела, и у нас при дворе теперь нет ни одной женщины, которая могла бы соперничать с Анной. Мне кажется, что ей лучше всего пойдет самый скромный костюм, пусть другие бьют на эффект, который производят цветы, белила, румяна и мушки, а Анна будет лучше всех и в простеньком уборе.
Разговор стал все больше и больше оживляться и скоро сделался весьма жарким. Графиня Анна сначала в него не вмешивалась и только слушала обеих приятельниц, которые были ею так озабочены, но скоро и сама увлеклась тем очарованием, которое всегда представляют для женщин наряды, и вставила словечко. Начался общий дружеский и поминутно прерываемый взрывами веселого хохота спор.
Графиня Рейс с необыкновенным вниманием слушала каждое слово Анны Гойм и поглядывала на нее с напряженным любопытством и беспокойством; казалось, что она на свои вопросы ждала от Анны других, более подробных и откровенных ответов. Но постепенно Анна успокоилась, начала острить, смеяться. Она выражалась так метко и остроумно, что графиня Рейс несколько раз порывалась ее обнять — в такое восхищение приводила ее живость молодого, чистого характера, сохранившего в глуши и уединении невинную свежесть.
— О, наша чудная, наша несравненная, очаровательная Анна! — восклицала Рейс. — Завтра вечером весь двор падет ниц к вашим ногам. Гойм должен вперед приготовить свои пистолеты. Княгиня Тешен непременно заболеет и упадет в обморок, она это очень любит и немало на это рассчитывает…
Госпожа Фицтум смеялась, а Рейс стала рассказывать молодой хозяйке, как княгиня Любомирская победила сердце короля, упав в обморок, оттого что Август упал с лошади. Они оба разом лишились чувств, король, оттого что ушиб ногу, княгиня, оттого что страстно захотела видеть его у своих ног, и зато пробуждение из обморока действительно было великолепно: когда она открыла глаза, влюбленный Август был перед нею на коленях…
— Но увы и ах! — прибавила Рейс. — Все это было тогда, а теперь, если бы с ней и действительно сделалось дурно, король скорее бы испугался, чем обрадовался обмороку. Пора страсти миновала и более не возвратится. На лейпцигской ярмарке наш всемилостивейший государь закусил удила и выкидывал такие штуки с французскими актрисами, что княгине Тешен нечего ждать!.. А что хуже всего, так это, говорят, что он, как сумасшедший, влюбился в принцессу Ангальт Дессау… И вообразите себе, говорят, он, наш победоносный Август, не видит от нее ничего, кроме самого холодного, даже дерзкого и оскорбительного равнодушия! Недавно он говорил Фюрстенбергу, что сердце его свободно и что он готов поднести его какой-нибудь красавице.
— Но, однако, я надеюсь, милая графиня, что вы не считаете меня достойной соперницей французских актрис, если есть княгини, которые могут желать этой чести… На мой взгляд, королевское сердце совсем незавидная находка, и во всяком случае, я считаю свое сердце стоющим чего-нибудь лучшего, чем остатки после княгини Тешен.
Лицо графини Рейс зарделось ярким румянцем.
— Тише, тише! Какое вы дитя!.. Кто вам об этом говорит! Я болтаю обо всем, что придет в голову… и больше ничего. Из-за чего же горячиться?
— Мы с госпожой Фицтум пришлем вам наших портных. Если вы не захватили с собой ваших бриллиантов или у вас их недостает, Мейер даст вам, под самым строжайшим секретом, каких вы только захотите, еще не виданных при дворе. Он очень услужлив и любезен…
Говоря это, обе гостьи встали и стали обнимать и целовать Анну, которая молча проводила их до дверей гостиной… Гойм более не выходил: его кабинет уже заполнился чиновниками финансового ведомства.
У подъезда стояла карета графини Рейс, в которую обе дамы и сели.
Несколько времени они ехали молча и задумавшись. Фицтум первая прервала эти размышления:
— Ну, что же вы обо всем этом думаете? — спросила она.
— Это дело решенное, — отвечала графиня, — тут не может быть и сомненья. С нынешнего дня Гойм может считать себя вдовцом. Анна горда… Она будет противиться этому счастью, но короля ничто так не подзадоривает, как упорство, с которым ему приходится выдерживать долгую борьбу. Она прекрасна, как ангел, весела, жива и остроумна… Это такие качества, которые не только привлекают, но приковывают человека к их обладательнице. Будем с ней, моя милая, теперь как можно лучше. Да, с нею надо дружить, потому что когда она захватит власть в свои руки, тогда будет уж слишком поздно искать ее расположения. Давайте помогать друг другу. Через нее мы будем влиять на короля, на министров, на все… Тешен погибла, это меня радует; никогда не могла я сойтись с этой скучной, претензионной княгиней. Да и довольно с нее; сын ее признан, она стала княгиней и страшно богата. Слишком долго уж она царствовала. Она сходит со сцены, король соскучился с ней, а теперь, после его политических неудач, ему больше чем когда-нибудь необходимо развлечение. Фюрстенберг и мы с вами сможем как-нибудь уломать эту Анну. Нужно только вести интригу умно и осторожно и, главное, не спешить: Анну нельзя будет взять приступом, она слишком горда.
— Бедный Гойм! — усмехнулась Фицтум. — Если у него хватит ума…
— Он много выиграет через это, а не все ли ему равно: он ведь давно уж не любит жену, — перебила графиня Рейс. — И хоть вы и сестра ему, но я могу говорить с вами об этом откровенно. Сам же ведь он приготовил эту драму, жертвой которой сам и падет.
— Я виню больше Фюрстенберга!
Графиня окинула свою собеседницу мимолетным взглядом, и в глазах ее промелькнуло что-то вроде усмешки; она пожала плечами.
— А есть же ведь люди предопределенные! — сказала она с иронией и вдруг громко засмеялась. — Знаете ли, она должна надеть оранжевое платье с кораллами. Волосы у нее, как вороново крыло, цвет лица чудный, это ей будет удивительно идти. Вы заметили, сколько блеска в ее глазах?
— И сколько гордости! — прибавила Фицтум.
— Ах, это все так, но пусть только она увидит короля, пусть только Август постарается ей понравиться, и я ручаюсь, что она потеряет и свою голову и свою гордость…
IV
На Пирнейской улице, в те времена одной из самых модных маленького, окруженного стенами, Дрездена, возвышался дворец Бейхлингена, некогда канцлера, а ныне государственного преступника, содержащегося под строгим караулом в Кенигштейне. Сам дворец Бейхлингена был конфискован и подарен королем княгине Урсуле Любомирской, литвинке родом, разведенной с мужем по желанию короля Августа II, который после рождения ему княгинею сына, знаменитого впоследствии кавалера де Сакс, сделал ее княгиней Тешенской и отдал ей дворец Бейхлингена. Награда, впрочем, пришлась ей более за участие, которое фаворитка принимала в низвержении Бейхлингена. Все свободное время, которое у княгини оставалось от поездок в дарованные ей имения Гойерсферда и от разведения садов в Фридрихштадте, она проводила в этом роскошном дворце. Здесь пролетело первое время жаркой страсти и рыцарской любви, когда король дня не мог прожить, не увидев своей прекрасной Урсулы; отсюда выезжала княгиня верхом на коне, одетая в саксонские национальные цвета, встречать своего венчанного, но, увы, непостоянного обожателя. Но это счастливое время уже прошло безвозвратно.
Это стало ясно фаворитке тотчас после одного бала в Лейпциге, когда немилосердная королева прусская София Шарлотта, стараясь укорить в ветрености Августа, обратившего в то время свои милостивые взоры на находившуюся в ее свите принцессу Ангальт Дессау, собрала трех его отставных фавориток: Аврору Кенигсмарк, графиню Эстерле и госпожу Хаугвиц. Этой коварной засадой королева София поставила в самое неловкое положение и непостоянного Дон Жуана и его новую фаворитку княгиню Тешен Любомирскую. С тех пор бедная Урсула стала мучиться самыми мрачными предчувствиями, которых не могли успокоить никакие уверения короля в верности и постоянстве.
У Любомирской уже не выходило из головы, что и ей изменит ее ветреный Августинок (так иногда звали его друзья и собутыльники, напевавшие ему иногда народную песенку «Ach, mein lieber Augustin»…). Король, правда, несмотря на бесчисленные свои мелкие интрижки, все еще оказывал княгине Тешен видимую привязанность, но Урсула чувствовала, что вожжи, на которых она держала короля, все слабеют и вот-вот Август, того и гляди, совсем с них сорвется и пропадет для нее безвозвратно…
Зеркало говорило княгине, что она еще молода и прекрасна; но что же в этом? Все это утратило интерес новизны для короля, и он скучал с ней и искал нового, свежего развлечения.
Правда, и теперь еще Август иногда заезжал к ней часа на два, на три, но Урсула знала, что к этому его побуждала уже не любовь, а приличие. Княгиня понимала свое положение: теперь она не посмела бы ответить королеве, как отвечала некогда на ее вопрос, скоро ли она покинет Дрезден. Тогда надменная Урсула отвечала, что она сюда приехала с королем и только с ним же отсюда уедет. Теперь было не то, теперь ее прекрасные голубые глаза нередко плакали, и ею с каждым днем все больше и больше овладевала тревога: княгиня боялась, что вскоре она получит приказ покинуть Дрезден и никогда не встречаться с королем. А такой исход никогда не входил в планы княгини, мечтавшей проложить себе дорогу к трону.
Теперь все эти мечты рассеялись, как дым, и ей стало ясно, что ее должна была постичь общая судьба всех прежних королевских фавориток. Разочарованная и грустная, Урсула только изредка становилась снова веселой, чтобы снова понравиться королю, но все попытки были тщетны, и она запиралась дома и потихоньку питала мысль об отмщении… Все чаще и чаще писала она письма к примасу Польши Радзейявскому… Король, конечно, знал, что для него было невыгодно навлекать на себя гнев племянницы первого польского сановника, и старался не раздражать ее.
А между тем за княгиней тщательно следили и наблюдали…
Не дремала, в свою очередь, и княгиня; ежеминутно ожидая окончательного разрыва, бедная женщина все скучала и плакала, — чем все более и более надоедала Августу, — но она и зорко следила за ним через своих шпионов.
Через них Урсула знала о ночной попойке и о вырванном у Гойма рассказе о жене, а также о споре и пари последнего с Фюрстенбергом. Княгиня знала, что в Лаубегаст к прекрасной Анне послано письмо и что она с минуты на минуту ожидается в Дрезден и будет на балу у королевы. Обеспокоенная и сердитая, ходила Урсула по комнате, размышляя, ехать ли ей на бал к королеве, принять ли ей этот вызов или оставить неподнятой дерзко брошенную ей перчатку.
Не было еще одиннадцати часов, когда княгине доложили о приезде в город графини Гойм. Анну никто не видел и никто не мог описать Урсуле наружности соперницы. Все соглашались только в одном, что она очень красива и по летам ровесница Любомирской.
О ее красоте по городу ходили самые разнообразные толки, которые, впрочем, немилосердный Киан остроумно мирил, говоря:
— Не все ли равно, на кого она похожа? Тут все дело в том, чтобы она не была похожа на последнюю.
Княгиня сознавала, что злоязычный Киан говорит правду.
В этот день утренний прием у княгини был малочисленнее обыкновенного, все бегали по городу, то разнося, то собирая вести.
Говорили, что король особенно заботился о пышности и блеске предстоящего бала, что он сам старательно просмотрел программу и с нетерпением ожидал решения спора между Гоймом и Фюрстенбергом.
Говорили также, что графиня Рейс и госпожа Юльхен заботливо интриговали, чтобы завлечь графиню Гойм в свои сети с целью заручиться ее дружбой и расположением.
Госпожа Фицтум громко твердила, что невестка ее всех затмит своей красотой…
Урсула видела, что теперь для нее настала решительная минута… И вдруг ей пришла на ум самая неожиданная и странная мысль… Она взглянула на часы… Дом Гойма был не очень далеко от ее дворца… Княгиня шепнула что-то горничной, набросила на свое покрасневшее и опухшее от слез лицо густую черную вуаль и быстро сбежала вниз по лестнице, внизу которой стояли двое носильщиков. Горничная отдала приказание носильщикам, и те пошли к дому Гойма не по улице, а в обход. Через несколько минут они остановились у сада, калитка которого тотчас же отворилась, и Урсула вбежала на гору, где стоял занимаемый Гоймом дом. Тут нашу таинственную и смелую путешественницу встретил молодой человек, очевидно, ее ожидавший, и указал лестницу.
Любомирская, под черной вуалью, быстро поднялась по лестнице, пробежала по темному коридору и постучалась в дверь.
Ей пришлось ждать довольно долго, прежде чем слуга, приотворив осторожно дверь, решился взглянуть на неожиданного посетителя, которого он, впрочем, совсем не желал впустить. Княгиня сунула ему в руку несколько дукатов и, отстранив его с порога, проскользнула в дверь.
В это время Анна Гойм одна прохаживалась по комнате и была поражена, когда на пороге появилась незнакомка, закрытая густой вуалью…
Анна нахмурила брови и отступила, а Любомирская, отбросив густую вуаль, закрывавшую ее лицо, остановилась, всматриваясь в Анну. Она не проговорила ни слова, губы сжались, лицо покрылось мертвенной бледностью… И она упала без чувств на диван.
Анна бросилась к ней и, позвав на помощь служанку, старалась привести княгиню в чувство.
Обморок продолжался несколько мгновений, после чего Любомирская вскочила, снова вперила острый взгляд в лицо Анны и сделала служанке знак удалиться.
Дамы остались вдвоем.
Любомирская протянула Анне свою дрожащую, холодную руку.
— Простите меня! — начала она слабым, неровным голосом. — Я хотела видеть и предостеречь вас. Меня привел сюда голос моей совести, сознание моего долга…
Анна молчала.
— Посмотрите на меня, — продолжала Любомирская. — Вы начинаете сегодня ту жизнь, которую я кончаю. Я была когда-то чиста и невинна, как вы, я была счастлива, спокойна, я жила в мире и с людьми, и с совестью, и с Богом. Да, все это было… У меня был княжеский титул мужа и, что еще дороже, у меня было свое, незапятнанное, чистое имя, но… Ко мне подкрался змей в короне, обольстил меня ласковой речью и улыбкой и отнял все… Как было не верить? Он клал скипетр и корону к моим ногам, он отдавал мне свое сердце, а я женщина… Я ему поверила… Я пошла за ним, и взгляните на меня… Что теперь у меня осталось? Имя подаренное, ложное, сердце разбитое, счастье потерянное, позор на лице, буря в душе и страшная, грустная будущность, постоянно отравляемая заботой о судьбе ребенка! Нет на свете у меня никого больше!.. Родные от меня отказались, все, сегодня пресмыкающиеся у моих ног, завтра повернутся ко мне спиной и не захотят меня знать. А он? Он оттолкнет меня как чужую!
Анна слушала и краснела.
— Я вас не понимаю, — сказала она. — Где вы видите для меня какую-то опасность, я желаю знать, кто вы?
— Вчера я была королевой, а сегодня и сама не знаю кто я, — отвечала Тешен. — Вам так все заранее пророчат корону, что хочется показать вам шипы этого золотого венца.
— Это напрасно, — спокойно отвечала графиня Гойм, — я никогда не прельщусь короной на тех условиях, на которых ее мне пророчат, я слишком горда для этого. Если бы я когда-нибудь почувствовала прикосновение короны к моей голове, то эта корона сошла бы со мной в гроб. Нет, успокойтесь, пожалуйста… это не моя доля.
Княгиня Тешен села на диван, опустила голову и зарыдала. Эти слезы тронули Анну, и она участливо молвила:
— Что за удивительные встречи и свидания меня здесь преследуют с самого утра!.. Поверьте мне, что я ничего так искренно не желаю, как убежать поскорее отсюда, и скажите, ради Бога, ваше имя?
— Я Урсула Тешен, — тихо отвечала княгиня. — Вы, конечно, обо мне слышали… Догадываетесь ли вы теперь, зачем вас сюда призвали?.. О, догадайтесь, прошу вас, догадайтесь, что нашему соскучившемуся королю нужна новая забава… и ее ему хотят доставить…
— Какие негодяи! Они здесь распоряжаются женщинами как невольницами! — воскликнула возмущенная Анна. — И, кажется, уверены, что мы должны быть…
— Их жертвами, да, они в этом уверены.
— Ну, так ошибутся: я не хочу быть и не буду ничьей жертвой! — перебила ее графиня Гойм.
Княгиня взглянула на нее и, вздохнув, проговорила:
— Не вы, так другая, все равно; во всяком случае, это буду уже не я: мой час пробил… Но поскольку вы единственная женщина, в которой, на мой взгляд, есть живая сила, то я заклинаю вас — отомстите ему за нас всех, за нашу слабость, бессилие и… оттолкните его с гордостью, с презрением! Мы все будем за тебя молиться, а ты за нас… отомсти!
С этими словами княгиня Тешей снова набросила на лицо вуаль, протянула Анне руку и, сказав: «Вы предупреждены теперь!» — быстро направилась к двери. Графиня не успела вымолвить слово, как Тешен уже не было.
На лестнице ее ожидал прежний проводник, в сопровождении которого она быстро спустилась к носилкам и, едва сев в них, стала опускать занавески, как вдруг увидела молодого человека в военной форме, всматривавшегося в нее с беспокойством и даже с тревогой.
Лицо молодого офицера было красиво и мужественно, но в эту минуту на нем выражались удивление и досада… Казалось, он не верил своим глазам, что видит перед собой Урсулу, и в то время, когда гайдуки поднимали носилки, он не выдержал и подбежал к окну.
— Княгиня Урсула! — вскричал он. — Верить или не верить мне своим глазам?.. Это ни на что не похоже: вы выбегаете украдкой из дому! Куда это? Вероятно, на какое-нибудь свидание?.. Говорите, заклинаю вас, говорите всю правду, чтобы я сейчас же мог вскочить на лошадь и никогда более сюда не возвращаться!.. Княгиня! Бога ради!.. Вы видите: я схожу с ума от любви к вам…
Он закрыл рукой глаза.
— Вы сходите с ума, это правда! — с жаром возразила княгиня. — И этого мало; вы, верно, просто ослепли от любви, если даже не видите, что я выхожу от Гойма, в которого, мне кажется, я не могу влюбиться.
И она взяла молодого человека за руку и добавила:
— Пойдемте со мной; я не отпущу вас, князь, пока не объясню вам, в чем дело. Я не хочу, чтобы вы покинули меня в эту минуту!.. Это было бы уж слишком! Этого я не переживу!..
Прекрасные заплаканные глаза княгини, которые она подняла на молодого человека, были так красноречивы в эту минуту, что он забыл свою мимолетную скорбь и лицо его просияло. Он последовал за носилками до самого дворца, помог княгине выйти и, предложив ей руку, ввел по лестнице в ее роскошный будуар. Усталая и разбитая физически и нравственно, княгиня Урсула почти упала на кушетку, а своему спутнику указала место около себя.
— Вы видите меня, князь, в большом негодовании! — начала она. — Я возвращаюсь от той… которую мои злые враги притащили сюда для того, чтобы привлечь к ней внимание короля, а меня выгнать отсюда. Слышали вы о графине Гойм?
— Нет, я ничего не слышал о ней, — отвечал молодой князь (это был Людовик Виртембергский). — Я слышал только какие-то насмешки над бедным Гоймом, которого, говорят, напоили, чтобы заставить его призвать сюда жену и показать ее при дворе…
— Да, однако, этой глупой интригой отлично успели возбудить любопытство Августа! — возразила с возрастающим оживлением княгиня. — Я сейчас видела эту женщину; она так хороша, но вместе с тем так неосторожна, что может на несколько дней сделаться королевой…

Вид площади Старого рынка в Дрездене
Аврора графиня Кёнигсмарк, слева от нее графиня Левенсхаупт
— А, тем лучше, тем лучше! — вскочив со своего места, воскликнул князь Людовик. — Наконец вы будете свободны…
Княгиня Тешен бросила на влюбленного такой выразительный взгляд, что молодой человек покраснел и замолчал… Тогда она молча подала ему руку, которую тот схватил и стал с жаром целовать.
В эту минуту из соседней комнаты появилась маленькая фигурка, немного похожая на княгиню, но далеко не так красивая, как Урсула. Вошедшая казалась очень неприятной особой и, вступая в комнату, смеялась сухим, злым смехом и хлопала в ладоши.
По лицу этой женщины трудно было определить ее годы: ей могло быть лет двадцать, могло быть и десятью годами больше. Это было одно из таких лиц, которые никогда не бывают свежи и молоды, но зато долго не стареют… Ее серые злые глазки постоянно бегали во все стороны; рот ее улыбался, но улыбка была едкая и насмешливая; каждая черта лица изобличала лихорадочную подвижность и хлопотливость; это была баронесса Глазенапп — известнейшая сплетница в Дрездене. Туалет баронессы был пестроват, но очень тщательно обдуман и не скрывал от взоров ничего, что было в ней красивого: хорошенькую перетянутую талию, маленькую ножку и стройную осанку. Она быстро обернулась на одной ножке к князю и захлопала в ладоши в ту минуту, когда сконфуженный князь Виртембергский оторвал свои губы от руки княгини Тешен.
— Продолжайте, продолжайте, я вам не мешаю, я не мешаю, — затараторила своим резким голосом баронесса Глазенапп. — Со мной нечего церемониться! Милая сестра, ты умница, ты очень искусно прикрываешь свое отступление военной силой… Хвалю, хвалю, хвалю, это как нельзя более благоразумно, потому что близка минута, когда тебе придется благородно ретироваться из сердца короля и от двора! Хороший полководец всегда должен обеспечить себе отступление…
Маленькая несносная женщина, которую мы теперь вводим, была всеми ненавидима за ее постоянные сплетни. Она происходила тоже из литовского рода Бокунов и приходилась сестрой княгине Любомирской; в браке она была за бароном Глазенапп, но брак этот был скорее фикция, чем настоящий союз: баронесса находилась в интимных отношениях с известным Шуленбургом.
— А давненько мы не виделись с тобой, сестрица! — быстро заговорила она. — Но я ведь, как всегда, являюсь к тебе в минуту опасности; вот почему я и теперь здесь!.. Слышала ли ты, княгиня, что сюда привезли Анну Гойм? Я ее видела однажды здесь, еще до приезда сюда короля и двора, и тогда же сказала, что это когда-нибудь будет вторая Елена троянская и многим принесет несчастье. Она хороша, как ангел, и что для тебя самое опасное, это то, что она брюнетка; вы, блондинки, всегда теряете при сравнении с брюнетками. Она находчива, остроумна и притом горда… Настоящая королева! Я боюсь, сестра, что твоему царствованию пришел конец!
И баронесса снова засмеялась и продолжала, не давая никому вставить слово:
— А впрочем, какое тебе счастье! Ты вечно, кажется, будешь княгиней, тогда как я, бедная, только едва могла поймать плохонького барона! А ты? Сначала ты была Любомирская, потом Тешен, а теперь, кажется, хочешь сделаться Виртембергской.
Молодой человек сконфузился и покраснел, а княгиня Тешен опустила глаза и тихо проговорила сквозь зубы:
— Я могла бы найти и четвертого, если бы захотела.
— Верю, и даже шепну тебе его имя, — закричала баронесса, и, шумно соскочив со своего места, она побежала к сестре и прошептала ей на ухо:
— Князь Александр Собесский! Что? Я права? Только смотри: тот не женится, меж тем как этот Людвичек на все готов, и ты его не упускай!
Княгиня Урсула досадливо отстранилась от сестры, но та этого словно не замечала и уже бегала по комнате, вертясь перед каждым зеркалом, и в то же время следила глазами за гостем и хозяйкой.
— А я вот что хотела тебе сказать, продолжала она, — если у тебя, Урсула, хватит ума, ты еще можешь выйти из этой борьбы успехом. Право, так! Простенькая графиня Гойм, положим, и произведет на короля сильное впечатление своей красотой, ну и что? Все это только на короткое время, а потом, верь мне, она скоро оттолкнет его своей гордостью, и тогда… гм… гм… тогда королю вспомнится прежняя любовь, и его княгиня покажется ему в тысячу раз милее и добрее… Конечно, не совсем приятно это перенести, но что делать? Стерпится — слюбится, коронованным любовникам нужно прощать их прихоти! Эти люди могут иметь большие преимущества над другими, потому что у них и забот и дел больше, чем у нас, простых смертных. Одно только меня сердит, — продолжала она, ни на минуту не останавливаясь, — это то, что все точат на тебя зубы, что и графиня Рейс и Юльхен уже возжигают фимиамы перед новым идолом. Вообрази себе, что Фюрстенберг и даже Фицтум, несмотря на то, что они Гойму сродни, и они изо всех сил стараются поставить акцизному министру золоченые рога. Бедный Гойм! Если его покинет жена, право, не будь я замужем, я бы вышла за него, чтобы как-нибудь облегчить его суровое вдовство. Впрочем, что об этом говорить! Старый развратник после своей красивой женушки, не захочет, пожалуй, ни меня, да и никакой другой.
На этом месте нескончаемой болтовни баронессы Глазенапп князь Людовик встал и простился с княгиней. Пожатие руки, которым отвечала ему княгиня Урсула, не ускользнуло от внимания ее зоркой сестрицы, и та даже подмигнула издали князю.
Сестры остались вдвоем, с глазу на глаз, и баронесса снова начала свою болтовню.
— Без шуток, — заговорила она. — По-моему, тебе совсем нечего так убиваться. Все это давно нужно было предвидеть… Королю наскучила блондинка… что же с этим делать? Но ты имеешь титул и состояние, а к тому же… ты еще молода и очень красива… А тут при тебе князь Людовик, который готов на тебе хоть сейчас жениться… Я с удовольствием поменялась бы с тобой положением и отдала бы в придачу даже самого Шуленбурга.
— Да, но ведь я его любила! — со слезами на глазах перебила ее княгиня.
— Так, но ведь это уже давно прошло!.. — возразила баронесса Глазенапп. — Вы любили друг друга, по крайней мере, с полгода, и в это время потихоньку изменили друг другу не менее как раз по десяти!
— Сестра! — с негодованием воскликнула Урсула.
— Ну, пожалуй, ни разу! А только как это ты сумела припасти себе про запас, на всякий случай, этого князя Виртембергского, который и теперь готов к твоим услугам? Признаюсь, хотя меня все называют и лукавой и притворщицей, а, однако, я ни за что не сумела бы обделать так ловко свои делишки. Я подыскала себе Шуленбурга уже после моей ссоры с Глазенаппом. Да мне, впрочем, ничего не удается, все меня терпеть не могут, и я им плачу тем же, даже с лихвой.
И она опять засмеялась, а потом продолжала:
— Послушай, шутки в сторону, я приехала к тебе с добрым советом. Король при расставании имеет обыкновение требовать обратно все подаренные им бриллианты. Будь благоразумна, и пока есть время, распорядись припрятать свои драгоценности в безопасное место.
Она посмотрела на сестру, которая, казалось, ее не слушала.
— Ты будешь сегодня на балу?
Слово «бал» как будто пробудило Любомирскую от глубокого сна; она подумала и задумчиво произнесла:
— На балу?.. Что такое? Ах, да! Нужно ведь быть на балу!.. Да, я поеду на бал, но я буду вся в черном и без всяких украшений. Это оригинально и скорее бросится в глаза. Как твое мнение, Тереза, к лицу или нет мне траур?
Баронесса улыбнулась.
— Без сомнения, траур всем к лицу, — отвечала она. — Но только если ты думаешь этим тронуть Августа и двор, то твой расчет не верен; это всех скорее рассмешит, чем растрогает. При дворах не любят трагедий.
— Да уж это как будет, пусть так и будет, а я поеду в трауре и встану перед ним, как немой укор, как привидение!
— Да, ты будешь немой укор, а Анна Гойм в это самое время будет живая радость — свежая, румяная и веселая… Не одобряю твой траур, ты в нем стушуешься перед Анной и останешься никем не замеченной… Только всего и будет, — с этим она посмотрела на часы.
— Ах, как уже поздно! Прощай! До свидания на балу! Я тоже буду там, но только зрительницею, чтобы рукоплескать актерам… Будь здорова!..
V
Дамы входили попарно, под руку с мужьями или с родственниками. По необыкновенной роскоши нарядов трудно было предположить, что в это время половина Европы страдала от самой страшной и разорительной войны и что государственные финансы были в самом жалком положении. Весь костюм короля был убран бриллиантами; каждая пуговичка была в своем роде драгоценность; эфес шпаги был весь всплошную усыпан дорогими каменьями; даже пряжки башмаков блестели самыми яркими цветами. Величественный Август был еще так моложав и весел, что скорее походил на торжествующего победителя, чем на короля побежденного, разбитого и лишенного части своих владений.
Платья дам были великолепны и тоже сияли множеством бриллиантов. Королева, впрочем, вышла в довольно скромном туалете; Август встретил супругу с почтительной любезностью; музыка грянула марш, но главных виновниц пира еще не было.
Государь начинал уже хмурить брови и поглядывал на Фюрстенберга слишком знакомым последнему сердитым взглядом, но в эту минуту у входных дверей, несмотря на королевское присутствие, послышался сдержанный говор и смятение… Толпа расступилась; все головы повернулись в одну сторону, и Фюрстенберг проговорил: «Идут»!
В дверях показалось бледно-желтое, грустное лицо графа Гойма, который вел под руку свою жену.
Никогда еще при этом дворе, присмотревшемся к самым красивым женщинам, не появлялось более обольстительное создание! С царственным величием, спокойно, смело и гордо шла графиня Гойм. Король не спускал с нее глаз, но она на него не смотрела. Муж должен был представить ее королеве, и они направились прямо к ней, не обращая почти ни малейшего внимания ни на пышный придворный блеск, ни на величественную красоту короля, который нарочно встал так, чтобы произвести на вновь прибывшую самое приятное впечатление. На лице его выражалось нетерпение.
Королева была очень милостива к новой гостье: она ласково подняла глаза на Анну и улыбнулась ей с каким-то состраданием, как будто бы соболезновала об участи, ожидавшей красавицу.
Лишь только окончились формальности представления, музыка грянула польский и король под руку с королевой открыл бал…
Все придворные дамы были здесь — даже больная Юльхен притащилась сюда, чтобы удовлетворить свое любопытство, — не было лишь одной княгини Тешен. Но вот первый танец кончился; в дверях снова послышался легкий шум, и среди расступившейся толпы появилась Тешен. Король повернул голову и увидел ее в самых дверях, где она стояла, как будто колеблясь, войти ей или нет.
Она была одета в глубокий траур…
Август сразу заметил это и рассердился, но, однако, пошел ей навстречу.
— Что это? — спросил он. — Уж не лишились ли вы кого-нибудь из близких?
И по лицу Августа пробежала насмешливая улыбка.
— Я лишилась тебя, государь! — тихо отвечала Урсула.
Внимание придворных, на минуту отвлеченное появлением княгини, снова обратилось к графине Гойм. Она была до того прекрасна, что даже женщины единогласно признали, что Анна затмила всех своей красотой. Ее черные глаза строго окидывали бальную залу; все другие красавицы при ней гасли, как звезды перед солнцем.
Август ею любовался, и в ту минуту, когда госпожа Фицтум отозвала Анну от мужа, он приблизился к Гойму, дружелюбно похлопал его по плечу и, подозвав к себе Фюрстенберга, сказал:
— Милейший граф, ваш спор с князем разрешен. Ты выиграл тысячу червонцев. Фюрстенберг должен заплатить их тебе завтра же, а я поздравляю тебя и с выигрышем и с такой женой!.. Графиня Гойм, бесспорно, первая красавица при моем дворе, и я уверен, что глас народа согласен с моим мнением! Ты счастливый смертный, Гойм!
Смотря, однако, на Гойма, принимавшего эти поздравления с поникшей головой и с какой-то отчаянной покорностью, нельзя было усомниться в том, что он не особенно счастлив. Он казался, скорее, покорным, искупающим свой собственный грех человеком, который не смеет вскрикнуть от боли и удерживается почти через силу.
Фюрстенберг молча поклонился и лукаво взглянул на короля.
— Да, ваше величество, — сказал он чуть слышным голосом. — Кажется, мне приходится платить за ваши прихоти и желания…
Август оборотился к нему и, дав ему поцеловать свою руку, отвечал:
— Не жалуйся, Фюрстенберг, заплати одну тысячу и возьми десять из нашей казны! Ты стоишь награды за то, что доставил мне случай видеть прелестнейшее существо в мире!
Княгиня Тешен сидела одиноко; ее уже все покинули. Август это заметил и, следуя своему обычаю как-нибудь золотить пилюлю, направился в ее сторону. Кто не был хорошо знаком с обычаями этого двора, того это могло удивить, но более опытный глаз графини Рейс не обманулся.
— Княгиня Тешен пала! — шепнула она своей соседке. — Король к ней подошел…
Между тем Август любезничал с удаляемой им фавориткой.
— Знаете ли, — говорил он ей, — что вы сегодня, несмотря на этот печальный туалет, так обольстительно хороши, что невольно напоминаете мне тот… тот вечно памятный мне варшавский турнир, когда я напугал вас своей неловкостью и вы упали в о́бморок. Какое сладкое воспоминание!
— Быть может, государь, но ведь графиня Гойм гораздо красивее меня, и мысль о ней, вероятно, приятнее старого воспоминания о турнире и обо всем, что после него было! — возразила княгиня.
— Графиня Гойм красива и она, может быть, даже и еще красивее! — отвечал Август. — Но есть нечто, что прекраснее самой красоты, это преданное нам доброе сердце, и этим сокровищем вполне обладает одна моя дорогая Урсула. Милая княгиня, поезжайте домой, наденьте свое милое голубое платье, в котором вы так прелестны и… и ожидайте меня к себе, после вечера, на ужин!
По бледному лицу княгини Урсулы пробежал яркий румянец.
— Государь! — воскликнула она с увлечением. — Вы не шутите? Неужто ты останешься по-прежнему моим прежним Августом?..
— Я тебя прошу никогда во мне не сомневаться! — серьезно проговорил король. — Я не имею никаких причин тебя обманывать.
И действительно, король на этот раз не лгал; красота Анны, правда, произвела на него большое впечатление, но гордый характер, проглядывавший в каждом движении, взгляде и жесте этой женщины ему не понравились, и он поспешил обрадовать княгиню, потому что в это время он действительно не хотел окончательно с ней расстаться.
Когда утешенная Любомирская незаметно оставила королевский бал и уехала к себе ожидать дорогого гостя, Август подошел к стулу графини Гойм. Анна заметила его и встала, но он попросил ее сесть, и та повиновалась, не возражая.
Тогда при дворе был такой обычай, что когда король желал с кем-нибудь говорить, то все другие отходили, чтобы не быть свидетелями этого разговора; то же самое случилось и теперь; все отступили, и Анна осталась вдвоем с Августом.
— Вы, графиня, в первый раз при дворе, — начал, любезно наклонившись, король, — но ваше появление здесь — уже полный триумф, и я горжусь новой звездой на моем придворном небосклоне.
Анна подняла голову.
— Среди ночного мрака, государь, — отвечала она, — нередко и огонек кажется звездой, но одно мгновение, и он гаснет… Я высоко ценю милость вашего королевского величества, но слова ваши приписываю одной лишь любезности.
— Я повторяю только всеобщее мнение, — возразил Август.
— Ах, ваше величество, — отвечала с улыбкой Анна, — люди часто судят ошибочно, особенно о том, что они видят в первый раз. Новинка интересует и занимает, а именно прекрасно лишь то, что и после многих лет нравится вам столько же, сколько нравилось при первой встрече.
Королю показалось, что красавица намекала ему на княгиню Тешен.
— Вы слишком скромны, графиня, — сказал он.
— О, нет, ваше величество, — с живостью возразила Анна, — быть истинно скромной очень трудно, а я только не приписываю излишнего значения красоте.
— Но красота лица не свидетельствует ли о красоте души? — сказал Август.
Анна потупила глаза и промолчала. Король продолжал:
— После такого долгого и строгого уединения, в котором держал вас жестокосердый Гойм, скрывая от нас свое сокровище, двор, наверное, кажется вам очень странным?
— Не могу этого сказать, государь. Придворная жизнь для меня не совсем незнакома; я всю мою молодость провела тоже при дворе, правда, не при таком блестящем и многочисленном, как ваш, но все же при дворе, который, хотя и в миниатюре, мог дать мне понятие о том, что такое придворная жизнь. Если я не ошибаюсь, то в этом случае все дворы между собой схожи и напоминают одно и то же…
— Что же именно они вам напоминают? — спросил король.
— Театр, в котором разыгрывают комедию, — отвечала графиня.
— Вот как! Но в таком случае, какую же роль я играю в этом театре?
Анна взглянула с улыбкой на Августа и отвечала:
— Ваше величество здесь директор труппы, и вас как директора тут, вероятно, немножко обманывают.
Август улыбнулся.
— Неужели вы думаете, что здесь все только одно притворство?
— Сомневаюсь, государь, чтобы могло быть что-нибудь другое, — со вздохом ответила Анна, — короли так несчастливы, что они никогда не слышат правды.
— Может быть, — возразил Август. — Оттого-то они часто и ищут такие уста и такое сердце, которые могли бы дать им хоть каплю этого благодетельного нектара.
— Да, ищут, но находят все-таки таких, которые искуснее других умеют их обманывать.
— Ну, — любезно заметил король, — теперь я вижу, что вы очень не любите двор, большой свет и его рассеянную, беспокойную жизнь, и, признаюсь вам, это меня огорчает. Я надеялся, что вы нас не покинете и лучезарным блеском своих глаз осветите хотя бы немного наши скучные дни.
— Государь, — с живостью возразила Анна, — поверьте, что я тут непременно звучала бы, как фальшивая нота: я не сумею спеться со здешним хором.
Чтобы переменить разговор, король начал делать веселые замечания о присутствующих, и Анна увидела, что Август довольно хорошо знал характеры, наклонности и даже тайны своих приближенных.
— Видите ли, — сказал в заключение король, — моя придворная сцена совсем для меня не тайна, и мне доставляет немало удовольствия, что мои актеры думают, будто они меня обманывают, будто они мной руководят и могут отвести мне глаза.
— Так боги смотрят на землю, — ответила Анна Гойм.
Король остался доволен последним сравнением, и когда Анна выговорила эти слова, взор Августа выражал уже страстное восхищение. Затем король еще поговорил с ней и отошел. Тогда наблюдавшие его издали стали к нему подвигаться. Первый подошел Фюрстенберг.
— Теперь, государь, я могу спросить — самая красивая не есть ли в то же время и самая…
— Умная? Да, — отвечал король, — ты отгадал; надо сказать Гойму, чтобы он и не думал увозить жену из Дрездена. Она очень и очень мила, правда, она еще немножко дика, ну, да это со временем пройдет.
Гойм смотрел на всю эту историю беспокойными глазами. Он старался отгадать мысли Анны, к которой этим временем уже быстро подбежали графини Рейс, Фицтум и панна Юльхен и обступили ее кругом.
Король взглянул на это и только пожал плечами.
— Уже началось поклонение восходящему солнцу, — заметил он чуть слышным голосом Фюрстенбергу, — но боюсь, однако, что эти интриганки на этот раз напрасно трудятся.
Любимец посмотрел на короля недоумевающим взглядом.
— Да, и ты, и он и все вы ошибаетесь, — спокойно продолжал Август. — Графиня Гойм прелестна, об этом ни слова, это классическая статуя, сошедшая с пьедестала, но она слишком смела, энергична и властолюбива. Иметь с ней маленькую интрижку на несколько веселых дней я бы не прочь, но ничего более серьезного не хочу. Красота ее очень привлекательна, но я никак не могу сказать того же самого о характере.
— По-вашему, она для этого не годится, государь?
— Положительно не годится.
И король, оставив Фюрстенберга, пошел далее.
Пока все это происходило, никто, разумеется, не обращал ни малейшего внимания на высокого, сильного молодого человека, который молча стоял в дверях, а между тем его глаза с беспокойством глядели на Анну и следили за каждым ее движением, и каждый раз, когда к ней подходил король, они светились каким-то зловещим светом. Несколько раз графиня оглядывала всю залу, но, однако, до сих пор и она ни разу не заметила этого несчастного, прятавшегося в толпе. Только когда от нее отошел король, и она, вздохнув, обвела еще раз взглядом придворную публику, Заклик бросился ей в глаза и она его сейчас же узнала.
Она смутилась.
Не могло быть никакого сомненья, что это молчаливый обожатель из Лаубегаста. Но как он пробрался за нею и сюда, на королевский бал? Почему лицо этого бедняка ее так заинтересовало, она сама не могла понять; но она чувствовала, что между ней и этим незнакомцем была какая-то внутренняя, таинственная связь, что они должны где-то встретиться.
Она была занята этими мыслями, когда сердитый и желчный Гойм предложил ей руку, чтобы ехать домой. Они прошли через те двери, у которых стоял Заклик, и Анна заметила, что, когда она проходила мимо него, этот молодой человек быстро нагнулся, поцеловал край ее платья и исчез.
Перед ними стояла графиня Рейс и приглашала их к себе ужинать. Просьба была так любезна и убедительна, что министр не мог отказаться.
Фюрстенберг стоял за ними. Они поехали все с бала прямо к графине, где обыкновенно собирались в самый интимный кружок знатнейшие придворные и проводили за столом в оживленной беседе час-другой после бала. Тут царила знаменитая Эгерия Юльхен — девица уже зрелых лет, с которой, впрочем, сам король очень любил разговаривать; здесь бывали все, кто искал власти или хотел удержать ее за собой. Король смеялся над этим тесным кружком, но тем не менее это был кружок с влиянием.
Графиня Рейс, рожденная Фризен, принадлежала к числу самых важных и влиятельных особ при дворе Августа II. В ее доме происходили совещания, касающиеся низложения одних и возвышения других государевых фаворитов; тут затевались и разрешались самые запутанные интриги и тут же были предсказаны все милости, которые должны были встретить молодую графиню Гойм. Здесь даже с точностью заранее была определена минута, когда непостоянный король должен был направить свои чувства по новому пути.
Гойм очень хорошо знал, что графиня Рейс ухаживает за ним недаром: это был маневр, к которому она прибегала каждый раз, когда предчувствовала возвышение новой фаворитки; она тотчас искала ее расположения и брала ее на свою сторону. Понятно, что это не могло быть особенно приятно для сердца Гойма, но графиня Рейс была с большими связями; пренебрегать ею было нельзя, и Гойм сделал вид, что он ничего не понимает.
В гостиной собралось довольно большое общество и шел самый веселый, оживленный разговор; но в соседнем кабинете, где были хозяйка дома, ее приятельница Фюрстенберг и другие доверенные лица, шептались о делах.
В обществе, сидевшем в гостиной, болтали о нарядах, уборах и сплетнях — словом, о вещах всем известных и обыкновенных. По всеобщему мнению, нежность, высказанная королем княгине Тешен, предвещала скорую с ней разлуку. Но многие утверждали, что Август будет щадить Любомирскую. Всем были известны ее отношения к Собесскому, ее родство с Радзейявским и то влияние, которое она имела на многих знатных лиц в Польше, которыми король не мог не дорожить.
В кабинете графиня Рейс расспрашивала своего приятеля Фюрстенберга о его разговоре с королем и о впечатлении, которое произвела на Августа графиня Анна.
— Мне кажется, я хорошо знаю Августа, — отвечал Фюрстенберг, — по крайней мере, я близко знаю его по отношению к женщинам. Графиня Гойм сразу отлично себя с ним поставила: она зарекомендовала себя гордой и резкой, и это его на минуту от нее оттолкнуло, но это только сначала так, потом пойдет другое: ее красота не даст покоя его страсти, а страсть в нем всегда, рано или поздно, одерживает верх над рассудком. Теперь он боится ее, но зато тем неодолимее он захочет ею обладать… А что он хочет, то он будет иметь. Она, кажется, не легко сдастся, но зато если они сблизятся, то она захватит в руки такую большую силу, какой никто еще не имел над Августом.
— Вы думаете, что это может случиться?
— Да, насколько я знаю короля, я не считаю этого невозможным.
— А каков, по-вашему, ее характер?
— Его пока еще довольно трудно определить, мне кажется, что ее не знают ни муж, ни ее родственники, да, пожалуй, даже и она сама еще не знает, что родится, когда обстоятельства ее возвысят. Теперь это женщина гордая, благородная, с решительным характером и очень смелым умом.
— Ну, а можно будет на нее как-нибудь влиять?
Князь задумался и отвечал:
— Право, не знаю, но, во всяком случае, я все-таки предпочитаю иметь дело с людьми умными, чем с такими, которые сами не знают, чего хотят и что делают…
Гость и хозяйка расстались, а через несколько минут в этом же самом кабинете шла интимная беседа между графиней Рейс и Анной Гойм.
— Моя милая графиня Анна, — серьезно и важно начала Рейс, положив свои руки на колени Анны, — если у вас хватит терпенья и охоты выслушать меня до конца, то сидите, не перебивайте меня и позвольте мне говорить с вами совершенно откровенно.
— Я к вашим услугам, — отвечала Анна.
— Прекрасно! Мы здесь одни, совершенно одни, нас никто не слышит, и я хочу дать вам по дружбе добрый совет, который вам, быть может, пригодится.
— Я вас слушаю.
— Извольте, я начинаю. Вы, конечно, хорошо знаете и двор, и наше время и наконец себя, чтобы не догадаться, что тут недаром хлопотали о вашем приезде в Дрезден.
— Я догадываюсь.
— И вы не ошибаетесь. Королю надоела Тешен, а натура его такова, что он непременно должен кого-нибудь любить… Будем снисходительны, мой друг, к этому великому и доброму государю. Если весь свет прощает ему его слабости, то не нам строго судить о нем: хорошо это или дурно, но это так и иначе быть не может. Нам, его приближенным, остается лишь одно: из этого зла извлекать как можно больше добра и пользы. Теперь более нет уже никакого сомнения, что вы призваны занять самое близкое положение при короле… Но чтобы извлечь из этого пользу для себя и для других, прежде всего надо знать, что делать.
— Милейшая графиня, — отвечала спокойно Анна, — я нисколько не тщеславна и даже не честолюбива; богатства я не ищу; у меня есть муж, и я постараюсь остаться честной женщиной, это мое единственное желание.
— Я ничего не имела бы вам на это возразить, — с улыбкой отвечала Рейс, — но позвольте мне вам заметить одно, что я, право, не понимаю, за что вы должны сделаться добровольной мученицей.
— Мученицей? — удивилась Анна.
— Да, именно мученицей. Я продолжаю быть откровенной: Гойма вы не любите и не можете любить… Он стар и развратен, так что, несмотря на все ваши совершенства, он даже не верен вам; любить его невозможно: рано или поздно, а сердце отзовется.
— Графиня!..
— Я вас просила о терпении.
— Извольте продолжать.
— Вы его не любите и имеете на то причины… Наконец сердце рано или поздно возвысит свой голос…
— Я заглушу его голос.
— Да, вы заглушите этот голос раз или два, но придут годы тоски и скуки, и вы броситесь с отчаянья в объятия первого встречного, и в этом не будет счастья. Знаю я свет: это наш обыкновенный путь! Меж тем король наш мил и хорош, и жизнь с ним будет настоящим блаженством.
— Но король наш вместе с тем ветрен и непостоянен, а такая любовь не по мне!
— Поверьте мне, милая Анна, что связи с самыми ветреными людьми могут быть очень продолжительны и крепки, это все зависит от женщины, и женщины сами виноваты, если они позволяют с собой расстаться. Не все ли равно: если вы сами не сумеете его удержать, то чем вы его свяжете? Ничем, и уж, разумеется, всего менее браком. Мужа или любовника нужно суметь удержать у своих ног и привязать его к себе, это наше дело.
Графиня Гойм пожала плечами.
— Плохая это любовь, если ее нужно вечно держать на привязи; такой любви я не хочу! За вашу откровенность, милая графиня, — продолжала Анна, понизив немного голос, — я заплачу вам тоже полной откровенностью. Ничем тем, о чем вы говорите, нельзя тронуть мое сердце. Я живой человек и, конечно, не могу за себя поручиться, и хотя я всегда буду стараться оставаться верной моему мужу, но кто может знать, что с кем случится. Ручаюсь же вам лишь только за одно, что любовью можно будет меня победить, а не происками, и когда я полюблю… Если это когда-нибудь случится, я не стану обманывать моего мужа, а в ту же минуту скажу ему об этом, уйду от него и приду к тому, кто будет мне мил; но только тот, кто будет меня любить, должен будет стать моим мужем.
— Но ведь тот, кто вас теперь любит… ведь он король! Король!
— А что же такого, что он король? Мне это все равно! — воскликнула Анна.
— Но вы же ведь, конечно, знаете, что король женат, хотя и не любит свою жену?
— Если бы мы полюбили друг друга, он должен был бы развестись с женой и жениться на мне, — заключила Анна. — А такой ролью, как Эстерле, Кенигсмарк или Тешен, я не удовлетворюсь!..
При этих словах она встала. Графиня Рейс сделала недоумевающий жест и произнесла:
— Поступайте, как знаете! Как добрая приятельница ваша я считала своим долгом дать вам добрый совет, а затем останемся друзьями и не будем больше об этом говорить. Но скажу только еще одно: положение, которым вы так пренебрегаете, и к которому вы относитесь с таким холодным равнодушием, совсем не так ничтожно и маловажно, как вы думаете. Вам будут кланяться короли, вы будете управлять всей страной и можете исправить много зла, спасти много людей и сделать многих счастливыми… Это ведь тоже чего-нибудь да стоит.
— Ничего нельзя покупать ценою своей чести! — отвечала Анна Гойм.
— Делайте, как знаете!
— Я так и сделаю, и не будем больше об этом никогда говорить!
Графиня Рейс молча пожала ей руку, и они вышли из кабинета.
В это время под окнами мелькнули фонари, которыми всегда освещался путь при проезде короля. Фюрстенберг высунулся из окна; король узнал его и сделал ему знак, выражающий, что его величеству ужасно скучно… Ему, очевидно, хотелось бы держать свой путь совсем не к княгине Тешен.
VI
Граф Адольф Магнус Гойм, занимавший в то время место, соответствовавшее нынешней должности министра финансов, не имел друзей ни при дворе, ни в обществе. Его особенно ненавидели в стране за введение акцизных сборов, сильно увеличивших сумму и без того самых тяжелых податей и налогов: новые акцизные сборы казались обременительнее всех прежних поборов. Саксонцы отбивались и противились этому, насколько могли и умели: они жаловались даже королю, но король, которому нужно было много денег на его несметные расходы, только сердился на это и плохо скрывал гнев, в который его приводили эти жалобы. Ему даже советовали лишить дворянство, которое оказывало самое упорное сопротивление, остатка его сословных привилегий и окружить себя иностранцами, которые не имели бы никаких отношений ни к дворянам, ни к стране.
Август II отчасти уже и следовал этому совету, и большая часть его министров и любимцев были из чужеземцев. Итальянцы, французы, немцы из других государств играли при дворе главную роль.
Гойм, человек холодный, неумолимый и искусный в приискивании новых статей дохода для короля, который тратил миллионы на Польшу, на содержание войска, на придворные пиры и на любовниц, был у него за свою ловкость в большой милости. Но этим ласкам Гойм не доверял, пример Бейхлинга и некоторых других делал его осторожным… Он выжидал только минуты, когда, нагрузив хорошенько карманы, он мог бы унести из саксонского государства свою голову и свое состояние. Гойма мало кто разгадывал: знали только, что он человек смелый, изворотливый, довольно рассудительный и свободный от всякого бремени сильных привязанностей. Лучше всех, может быть, понимала его сестра, графиня Фицтум, которая с большим искусством и осторожностью умела заставлять его делать то, что ей было нужно.
Кроме Бейхлинга, теперь сидевшего в Кенигштейне, у Гойма не было друзей: маршал Пфлуг его ненавидел, другие не терпели, Фюрстенберг был с ним тоже не в ладу. Когда после спора и пари Гойму было приказано привезти жену и показать ее при дворе, его никто не пожалел, все даже над ним издевались.
На другой день после бала Гойм должен был явиться к королю с докладом. В провинциях введение акциза встретило сопротивление. Особенно громко восставало против этой меры дворянство в Лужицах… Это бесило Августа, который терпеть не мог никакого противодействия, а потому, выслушав доклад министра, он нахмурил брови и сказал Гойму:
— Сегодня же и немедленно отправляйся туда сам: разыщи зачинщиков и моим именем водвори порядок. Поезжай сейчас и без всяких отговорок!
Гойм хотел было возразить, что его личное присутствие в Лужицах далеко не так необходимо, как в Дрездене, где у него были более серьезные дела, но Август был непреклонен:
— Нет, — возразил он. — Поверь мне, что нет ничего важнее, как сломить сопротивление этих наглецов, которые думают, что они могут вступать со мной в сделки. Поезжай сейчас же и возьми с собой драгунов! Если эти дерзкие осмелятся собираться — разгонять их!.. Пусть не берут примера с Польши, потому что я не перенесу этого у моих подданных; да дай срок, мы и в Польше скоро собьем их дворянскую спесь…
Гойм хотел объясниться, но Август не захотел слушать и назначил ему двухчасовой срок на выезд в Лужицы.
Разговаривать с королем Августом можно было только тогда, когда он был пьян, тогда он был очень доступен, во всякое же другое время противоречить ему было нельзя, и Гойм более не возражал.
Бедный министр, конечно, отлично понимал, что спешное отправление его в Лужицы, на другой же день после бала, придумано нарочно. Но чем он мог в этом себе помочь? Ничем. Поручить наблюдение сестре было все равно, что дать пьянице ключ от погреба; друзей у него не было, он был совершенно безоружен и чувствовал, что все были в заговоре против него. Придя домой, он бросил на стол бумаги и, потеребив несколько времени в молчании свой парик, вошел в покои жены.
Анна была одна и спокойно глядела, как ее расстроенный муж, не зная, с чего начать, тревожно осматривал разные безделушки ее меблировки. Анна, привыкшая уже к подобного рода сценам, не обращала на это никакого внимания, и Гойм должен был заговорить первым.
— Радуйтесь, — начал он, — я был так глуп, что привез вас сюда, и теперь со мной делают все, что хотят… Я мешаю интриговать вокруг вас, и вот король отсылает меня прочь, через час я должен уехать, и вы останетесь одна…
— Ну, и что из этого? — гордо отвечала Анна. — Неужто вы думаете, что я нуждаюсь в вашем карауле, чтобы сберечь свою честь?
— Ну, однако, я думаю, что и я мог бы тут пригодиться.
— На что же именно? — с саркастической улыбкой спросила Анна.
— А хотя бы на то, чтобы сдерживать их бесстыдное нахальство! — крикнул Гойм, ударив кулаком по столу. — Поверьте, что меня не выслали бы отсюда, если бы я не мешал. Во всем этом я узнаю дело рук милейшего Фюрстенберга, который сегодня с коварной усмешкой заплатил мне тысячу червонцев, вместо которых король подарил ему десять тысяч. Это вознаграждение за одну прекрасную мысль — привезти вас сюда. Судите же сами, как должны быть оплачены более существенные услуги…
— Гойм! — воскликнула, вскочив со своего места, Анна, и глаза ее засверкали. — Довольно с меня, слишком довольно! Уходите, уезжайте… вообще делайте, что хотите, но только оставьте меня в покое! Я сама сумею отстоять себя, а ваших оскорбительных намеков я более не хочу слушать! Довольно, я говорю вам, довольно этого!..
Гойм замолчал, а часы напомнили ему приближение минуты его отъезда.
— Конечно, — сказал он. — Мне нечего предостерегать вас, вы совершеннолетняя и сами знаете, что вас может ожидать… О себе же скажу только одно, что я бесчестья не перенесу! Пусть Фицтум и другие делятся с его величеством своими женами, на то их добрая воля, но во мне нет такого верноподданнического добродушия!
— Зато ведь и я, господин Гойм, тоже не пала так низко, как эти барыни, — перебила Анна, — поверьте, что я вам не изменю, и знаете, почему? Потому что я себя бы этим унизила! Но если вы сделаете мне жизнь с вами еще более невыносимой, я брошу вас и совсем не стану делать из этого секрета.
Гойм ничего на это не ответил. На пороге он, казалось, хотел что-то сказать, но кончил тем, что схватился с отчаянием за голову и вышел в двери, за которыми его уже ожидал посланец короля, обязанный напомнить министру о скорейшем отъезде.
В замке не только подкарауливали Гойма, когда он переезжал через мост, но даже послали следить за ним, чтобы он не попытался тайком возвратиться в Дрезден… Было задумано, что графиня Рейс пригласит к себе Анну, а король приедет туда как будто неожиданно и инкогнито…
Графиня Фицтум явилась передать Анне это приглашение, но та отказалась. Напрасно золовка уверяла ее, что об этом не будет знать никто на свете. Анна ясно видела, что ей устраивают свидание с королем, и прямо высказала это сестре своего мужа.
— Вы слишком догадливы и осторожны! — со смехом отвечала графиня Фицтум. — И я не стану вам лгать; действительно могло бы случиться, что заехал бы и король… Что же с этим делать: он вами очень заинтересован и ищет случая с вами сблизиться. А что вы сделаете, если, раздраженный, он приедет сюда, прямо к вам в дом? Обдумайте это… Вы знаете этикет: короля нельзя не принять, перед ним отворяются все двери. Будет ли это для вас лучше, будет ли это приличнее и благопристойнее, если он пробудет с вами наедине несколько часов? Как вы думаете, что тогда заговорят и чем вы кого-нибудь разуверите в том, что не удостоились принять всю полноту ласк своего августейшего гостя?
Анна побледнела.
— Однако, — сказала она, — король не может быть таким… (она не могла подобрать выражения) — король не может быть таким наглецом; он, вероятно, пощадит мою репутацию! Иначе это не может быть!
— А я вам говорю, что все может быть… Что король скучает и не понимает никакого сопротивления или отказа в исполнении его прихотей. Наши дамы своей уступчивостью не приучили его сдерживаться, и если вас не будет у графини Рейс, я вам ручаюсь, что он к вам приедет.
— Значит, вам это уж наверно известно? — спросила Анна.
— Мне ничего не известно, но я только очень хорошо знаю короля Августа, — отвечала, расхохотавшись, графиня Фицтум. — Я, моя милая, сама очень хорошо помню один вечер… — и она не договорила и вздохнула.
Анна заломила себе руки.
— Так вот как! — проговорила она. — Значит, здесь надо быть, как среди разбойников на большой дороге; нужно быть вооруженной от головы до ног!.. Хорошо, что же делать, я найду кинжал и пистолеты… Я не боюсь ни огня, ни железа.
Графиня Фицтум приняла эти слова в их прямом смысле и старалась успокоить Анну и обратить все в шутку.
— Вы должны знать, — сказала она, — что Август никогда в жизни не запятнал себя насилием, это совсем не в его характере. Твердый и настойчивый, но любезный и предупредительный, он слишком красив и мил, чтобы ему когда-нибудь приходилось прибегать к таким грубым средствам…
После этого начался продолжительный разговор, который окончился тем, что графиня Фицтум сумела наконец убедить свою невестку ехать вместе с ней на вечер к графине Рейс. С этой радостной вестью Фицтум сейчас же полетела к своей приятельнице, а Фюрстенберг перенес это радостное известие в замок.
Король распорядился так, что он поедет вечером на минутку к княгине Тешен, а на обратном пути отошлет экипаж с сопровождающими его людьми в замок, сам же сядет в заранее приготовленные Фюрстенбергом носилки и прикажет отнести себя к Рейсам.
Теперь, прежде чем продолжать, заглянем во внутренний мир нашей героини графини Анны и проследим ее затаенные планы.
Анна была круглой сиротой с детства и замуж вышла не только не по любви, но даже и не по своей воле, а по принуждению… Жизнь с мужем скоро стала ей невыносимой, молодость проходила самым печальным образом. На ее месте всякая другая, конечно, была бы очень рада воспользоваться представившимся случаем королевского внимания, которое, по меньшей мере, могло бы дать ей обеспеченное и не зависимое от мужа положение, а может быть, даже второе хорошее замужество, которое прикрыло бы унизительное состояние отставной фаворитки, но Анна была воспитана в тех строгих правилах и убеждениях старого времени, которые с этим не согласовывались и заставляли ее только удивляться легкомысленному поведению женщин, соглашавшихся служить минутной забавой соскучившемуся государю. Она понимала и допускала возможность развода с противным ей Гоймом, к которому она питала лишь ненависть и отвращение, но допускала все это не иначе, как лишь вследствие искренней любви к королю и под условием законного с ним брака.
Разумеется, если бы Анна высказала кому-нибудь свои мысли, она вызвала бы только смех. Намерение надеть вечные оковы на такого человека, как Август, всякому показалось бы несбыточным, но Анна, зная, что король давно не любит свою жену, считала это возможным.
К тому же король был красив и старался ей нравиться, а Гойма она не любила; блеск, власть и корона придавали Августу еще более прелести, и потому неудивительно, что Анна о нем думала и даже почувствовала к нему какую-то симпатию… Она мечтала о счастье с ним, но не иначе, как под условием брака.
Анна все обсудила, все взвесила и сформулировала себе такое решение:
— Я могу ему принадлежать, но при этом я должна быть королевой.
Ее сопротивление убеждениям графини Фицтум скорее было рассчитанным маневром, чем действительным негодованием или испугом. Она не хотела сделаться игрушкой придворной интриги и чувствовала себя гораздо сильнее всех этих интриганов: в глазах короля она прочла, какое произвела на него впечатление, и решила этим воспользоваться…
— Я никогда не сделаю низости, — сказала она сама себе, — и скорее останусь несчастной женой Гойма, но любовницей Августа я не буду; я буду или его женой, или мы совсем будем чужды друг другу!
А между тем из всех, кто хлопотал услужить ею королю, никто и не предполагал, что у графини Гойм есть свои планы, не совсем идущие вразрез с исканиями Августа.
Молодая женщина мечтала.
Порою, краснея сама перед собой, она уже начинала сознавать, что краткое пребывание при дворе оказало на нее свое тлетворное влияние: в ней понемногу пробуждалось желание власти.
Когда наступил вечер и приблизился час отправляться к графине Рейс, Анна оделась самым тщательным образом, с большим вкусом и элегантностью, хотя и без особенной роскоши. Тогдашняя мода позволяла ей обнажить до плеч свои чудной красоты руки, красивую шею и открыть прелестный, будто из мрамора выточенный бюст. Анна всем этим воспользовалась.
Ее свежий цвет лица не нуждался ни в белилах, ни в румянах, а черные, как вороново крыло, косы еще более возвышали блеск ее прозрачной и, как атлас, нежной кожи. Но все это было ничто в сравнении с ее полными огня и самой обворожительной прелести глазами, в которых была неопределенная, беспокоющая и томная прелесть.
Посмотревшись в зеркало, Анна сама показалась себе такой красивой, что даже улыбнулась своему отражению… Она была одета в черное платье с отделкой из пунцовых лент, которые придавали этому наряду несколько фантастический характер.
Графиня Фицтум, которая должна была за ней заехать, чтобы вместе отправиться к Рейсам, увидев ее, остановилась на пороге комнаты и, всплеснув руками, вскрикнула:
— И вы говорите, что хотите всю жизнь промучиться с моим братом… И между тем, так наряжаетесь для короля!
— Что же из этого? — холодно отвечала Анна. — Никакая женщина не станет стараться быть с виду хуже, чем она есть.
— Но как вы одеты!.. Вы, я вижу, такая мастерица, что в туалетных делах никаких советов не требуете. Однако же, нам пора, едем!..
Точно такие же восклицания и радостный шепот встретили Анну у графини Рейс.
Этому успеху Анны никто так не радовался, как сама Рейс, которая имела на нее свои виды и расчеты. Фюрстенберг, опередивший короля на несколько минут, увидев Анну Гойм, пришел от нее в такой же восторг, как и все прочие.
— Я знаю короля, — сказал он. — Эта женщина сделает с ним все, что захочет, если только сумеет устоять.
Анна руководствовалась врожденным инстинктом, и учить ее было совсем не нужно.
Минуту спустя тихо отворились двери кабинета и вошел король. Увидев Анну, он, кажется, забыл обо всех и подошел поздороваться с Гойм. На лице Августа уже не было заметно и следов огорчения от невзгод в делах со шведами, от неблагодарности поляков, от миллионных потерь, от измен и всяких других неудач.
Анна отвечала на приветствия короля холодно и церемонно, как предписывал этикет. Однако, ее старательный туалет сам за себя говорил. Очевидно было, что она хотела ему нравиться и была почти уверена в своем успехе.
Несмотря на сильное влечение к графине Гойм, король, однако, не хотел нарушать условия вежливости к другим дамам, и хотя он терпеть не мог графиню Рейс, однако же, присел на минуту около нее и очень любезно поговорил с ней, потом сказал несколько слов Юльхен, улыбнулся пани Фицтум и каждую даму без исключения одарил любезным взглядом, словом или улыбкой. В то время, пока происходил обход, графиня Фицтум взяла невестку под руку и под предлогом какого-то сообщения прошла с ней в кабинет. Это был военный маневр с целью устроить королю приятный tete-a-tete с Анной. Все, как по команде, поняли это и стали отступать, оставив Анну и Августа с глазу на глаз.
Правда, двери были открыты, и поднятая портьера позволяла всем гулявшим по зале дамам лицезреть особу государя, но никто не мог бы расслышать оттуда их разговора.
— Вы, графиня, точно преобразились, — обратился к Анне Август. — Вы сегодня еще красивее, чем были вчера, и между тем вы совсем не та, какой были вчера. Вы не волшебница ли? — добавил он шутя.
Анна слегка поклонилась.
— Ваше величество славитесь своей любезностью и милой снисходительностью к нашему полу, а потому лестным похвалам вашим надо верить очень осторожно, — отвечала Анна.
— Не требуете ли вы от меня клятвы? Но я готов клясться всеми богами Олимпа, что во всю жизнь мою я не встречал такой прекрасной женщины, как вы, и думайте что хотите о моих словах, а я только дивлюсь непостижимой игре судьбы, которая отдала такое совершенство моему акцизнику.
Анна улыбнулась, и улыбка придала ей обольстительное выражение.
Король взглянул на ее руки; он особенно любил целовать красивые руки и едва удержался, чтобы не прильнуть к ним губами, но стерпел и продолжал:
— Знаете ли, графиня, если бы я был тиран, я ничего не сделал бы с таким удовольствием, как запретил бы Гойму возвратиться сюда обратно… И если вы захотите знать, почему, я вам прямо отвечу, что ревную вас к этому Вулкану!
— Вулкан и сам ревнив, — возразила Анна.
— Пусть так, но ведь Венера все равно не может любить Вулкана?
Анна хотела отмолчаться, но король упорно ждал ответа, и Анна тихо молвила:
— Кроме любви, ваше величество, есть и другие цепи, которые могут связывать так же крепко: это долг и клятва.
Король улыбнулся и спросил:
— Клятвы в любви?
— Нет, государь, клятвы в супружеской верности.
— Ах, полноте, пожалуйста! Есть браки совершенно святотатственные, и такими я считаю все те браки, которыми красота соединяется с уродством… Боги сами разрешали нарушение подобных клятв.
— Но что разрешали языческие боги, того часто не разрешает женщине простое желание сохранить свое достоинство.
— Вы, однако, слишком суровы!
— Даже, может быть, более, нежели это кажется вашему величеству.
— Вы меня пугаете, графиня!..
— Вас, государь? — отвечала с улыбкой Анна. — Поверьте, что я и не думала, чтобы это могло каким-нибудь образом касаться вашего величества…
— Это касается меня более, чем вы можете предполагать, — подхватил король.
— Простите меня, государь, я этого не понимаю! — тихо прошептала Анна.

Триумфальная арка для въезда Августа в Данциг
— Как, значит, вы не хотите видеть, что я уже вчера был побежден вашим первым взглядом?
— Ах, государь, хотя бы и так, но я слишком уверена, что эта победа, вероятно, не будет долговечнее утренней зари… Подобно богам олимпийским ваше королевское величество умеете легко любить и еще легче разлюбливать.
— Нет! — с чувством воскликнул король. — Поверьте мне, что это клевета!.. Чем же я виноват, что никогда не мог встретить такое сердце, ум и красоту, которые бы сумели привязать меня к себе? Не я бываю неверен… а мне изменяют! С каждым днем эти богини сходят со своего пьедестала, блеск их тускнеет и исчезает, чудо становится обыденным явлением, ангел теряет свои крылья… и в их сердцах вместо любви я нахожу лишь одно кокетство… В чем же я виноват?..
— Поверьте мне, — продолжал он, увлекаясь все более и более, — я ищу глубокой, сердечной привязанности! Я хочу принадлежать всю жизнь одной женщине; я стремлюсь остаться ей на веки верным, и… если бы я нашел такое сердце, такую женщину… О, если бы я нашел ее, я бы отдался ей весь и на всю мою жизнь!
— Этому трудно поверить, — прошептала Анна, — а еще труднее допустить, чтобы могло существовать на свете такое совершенство, которое бы соответствовало всем вашим требованиям.
— Такое существо вы! — перебил ее Август.
— Милости вашего величества не могут вскружить мне голову, потому что я чувствую, как я их недостойна!
— Вы восхитительны! — воскликнул Август, хватая ее за руку и припадая к ней устами.
Анна хотела отодвинуться, но это воспрещалось придворным этикетом; король, овладев ее рукой, целовал ее так жарко и так долго, что Анна, несмотря на все свое уважение к особе его величества, должна была наконец отнять у него свою руку.
Август встал и проговорил в волнении.
— Я не могу от вас оторваться! И, вероятно, мне, при безнадежности на ваше сочувствие, придется прибегнуть к моей королевской власти! Вы, графиня, не пытайтесь уехать из города, я вас арестую!.. Что же касается Гойма, то только ваше слово может облегчить его участь, иначе я сегодня же охотно бы…
Он не кончил, но Анна не торопилась со своим заступничеством…
В это время графиня Рейс вошла пригласить короля к столу, где были расставлены всевозможные сладости, вино и фрукты. Это был десерт, который тогда только что входил в моду, по примеру Италии. Король подал руку графине Гойм, подвел ее к столу и выпил первый бокал за ее здоровье. Фюрстенберг глядел на государя с большим вниманием…
— Княгиня Тешен пропала! — проговорил он на ухо пани Фицтум.
— И мой брат тоже! — шепотом отвечала графиня. — Теперь лишь бы у невестки хватило ума…
— А я думаю, еще лучше, если бы его у нее было поменьше! — заметил Фюрстенберг. — Посмотрите, как она непритворно холодна к нему и как прекрасно владеет собой! О, бедный Август, он даже не успел ей слегка вскружить голову, а сам влюбился без памяти!
После десерта, из-за которого каждый вставал, когда хотел, дамы снова возвратились в гостиную, а Август снова удержал здесь Анну своим разговором.
Она осталась, не выразив ни малейшего неудовольствия, была весела, развязна, но по-прежнему не подавала королю никаких надежд.
Первый раз в жизни Августу довелось встретить женщину, которая казалась такой равнодушной к нему.
Это задевало за живое его самолюбие и вместе с тем раздувало пламя овладевшей им страсти.
Сначала он думал завязать с Анной только коротенькую, мимолетную любовную интрижку, которая продолжилась бы несколько дней и не вытеснила бы окончательно из его сердца княгиню Тешен, но теперь он видел, что сладить с Анной было гораздо труднее.
— Ваше величество, позвольте мне надеяться, что вы извините меня за откровенность, к которой вы сами же меня вынуждаете. Я одно из тех слабых, несчастных существ, у которых нет ничего, кроме уважения к собственному достоинству, и ежели вы, государь, полагаете, что под влиянием увлечения я могу забыть долг и дойти до унижения в собственных глазах, то вы жестоко ошибаетесь; Анна Гойм никогда не будет ничьей любовницей, даже королевской!.. Я или отдам свое сердце навеки, или вовсе не отдам его!
С этими словами она быстро встала, и разговор их более не продолжался. Впрочем, король с Фюрстенбергом тут же скоро и уехали.
Графиня Рейс проводила его до самой лестницы, где Август, прощаясь, сказал ей:
— Милая графиня, употребите же, пожалуйста, ваше влияние смягчить эту неприступную.
Графиня Рейс ничего не успела ответить, как король уже стал спускаться по лестнице.
С наперсником своим Фюрстенбергом Август повел разговор в другом тоне.
— Знаешь, — сказал он, — это восхитительная женщина, но только она чертовски холодна!
— Время нужно, ваше величество, — отвечал Фюрстенберг. — Женщины, как вам известно, не все одинаковы: одна податлива, другая защищается.
— Защищается! Нет, она, любезный друг, мне наотрез объявила, что может любить только того, кто будет ее мужем: брак и вечная любовь, вот ее условия.
— Всякая любовь вначале собирается быть вечной, это можно обещать каждой.
— Нет, с ней дело вести трудновато, княгиня Тешен была куда сговорчивее.
— Но между ними, ваше величество, нет и сравнения…
— Да, к сожалению, это правда… Княгиня не может с ней равняться. Однако, чтобы не забыть: распорядись дать знать Гойму, чтобы он и не думал о возвращении.
— А что же он будет там делать? — спросил, улыбнувшись, Фюрстенберг.
— А черт с ним!.. Пусть делает, что хочет, — отвечал король, — а главное, пусть собирает побольше денег; у меня есть предчувствие, что моя новая любовь обойдется очень дорого. Такой бриллиант должен быть оправлен в золото.
— Как, государь, уже и любовь?
— Да еще какая страстная!.. Фюрстхен, слушай, делай, что хочешь, но эта Анна должна быть моей…
— А Урсула?..
— Женись на ней!
— Благодарю покорно…
— Ну, жени на ней кого хочешь… Сделай с ней, что вздумаешь… Она для меня более не существует.
— Уже!?
— Не говори мне о ней более, у меня теперь иные заботы, и чтобы они удались, я… Гойма озолочу, тебя… тоже…
— Было бы только откуда брать золото, государь.
— Это дело Гойма, — отвечал король, — напиши ему, чтобы он собирал акциз, откуда знает и как знает, лишь бы только не возвращался.
— До тех пор, пока ему и совсем уже незачем будет возвращаться, — проговорил князь, — слушаю, ваше величество, и исполню.
Король вздохнул… Они вошли во дворец, и Август, грустный и задумчивый, отправился прямо в свою опочивальню. Казалось, что эти любовные затруднения с Анной Гойм раздражали его гораздо более, чем все неудачи последней кампании.
VII
Таким образом, при дворе Августа II началось царствование женщины, которая должна была господствовать здесь гораздо долее всех других своих предшественниц.
Весь двор и даже весь город с любопытством следили за ходом этой истории, исход которой разгадать было весьма нетрудно.
Однако, он совершился далеко не так быстро и не так легко, как все ожидали, судя по предыдущим случаям. Курьеры поминутно скакали к Гойму с тем, чтобы оттянуть время и воспрепятствовать его возвращению.
Каждый день графини Рейс и Фицтум совещались с князем Фюрстенбергом и придумывали сообща всевозможные предлоги для того, чтобы как можно чаще устраивать королю новые свидания с прекрасной Анной; с каждым днем графиня Гойм становилась с Августом все смелее и фамильярнее, но король по-прежнему не мог похвалиться успехами: с описанного нами вечера у графини Рейс Август не сделал ни одного шага вперед, и это уже наконец стало пугать услужливую камарилью; опасались, что королю это надоест и он вдруг совсем от Анны отступится. Другие же замышляли уже воспользоваться этой неудачей и обратить взоры своего владыки на другую, более податливую красавицу; но и хлопотуны, строившие свои планы на Анне, изо всех сил уговаривали графиню Гойм быть хоть немножко поуступчивее, только она не поддавалась и твердила одно и то же, что может быть женой, но не хочет быть любовницей. Весь успех этих дней заключался в том, что Анна теперь уже не требовала немедленного брака, препятствием к которому была королева Эбергардина, но заменила это требованием торжественного, клятвенного обязательства, что в случае смерти королевы Эбергардины король непременно на ней женится.
Подобное курьезное условие во всякое другое время и при всяком другом дворе, среди людей менее испорченных и развращенных, конечно, показалось бы безумным и невозможным, но Август, узнав о нем, только задумался и потом, насупив брови, отвечал Фюрстенбергу:
— Мне дьявольски опротивели все эти переговоры, и я решил с ними кончить.
— Не должно ли это значить, что вам угодно ее оставить? — спросил князь.
— Это мое дело! — коротко отвечал король.
Более ничего не мог добиться от него поверенный его тайн.
В тот же день король Август приказал принести к себе в кабинет из казны сто тысяч талеров золотом. Мешок был тяжелый, и его с трудом притащили два здоровенных, широкоплечих гайдука, но король взял его за оба края и поднял без всякого усилия… Фюрстенберг не смел расспрашивать, что затевает его повелитель, потому что Август был не в духе… Накануне он виделся с Анной на прогулке, долго ходил и говорил с ней и, по обыкновению, после этого рвал и метал, гневаясь на неуступчивость.
С досады он даже навестил княгиню Тешен, которая обливалась слезами, слушая все, что ей передавали об Анне, и отерла их только, чтобы встретить своего милого Августа.
Такая неопределенность в положении дел всем наскучила: никто не знал, кому кланяться, на кого сплетничать и от кого ждать милостей. Наконец произошла перемена: вдруг Гойму было не только позволено, но даже приказано возвращаться как можно скорее.
Это случилось в тот самый день, когда король, взяв в карету принесенные ему сто тысяч золотом, поехал на Пирнейскую улицу с этим кладом к Анне.
Время было под вечер, день был осенний, пасмурный. Графиня Гойм ходила задумчиво и одиноко по своей довольно скромной гостиной. Она никого не принимала, кроме дам, и потому была очень удивлена, услышав на лестнице мужские шаги и голоса. Еще более она была изумлена, когда двери распахнулись и к ней без всякого доклада вошел король.
Пораженная этим неожиданным появлением, которое не предвещало ничего мирного, Анна отступила на несколько шагов и, взяв со стола маленький карманный пистолетик, спрятала его в платье. Как ни быстро было это движение, но оно не ускользнуло от взора короля, который тотчас же сказал:
— Вы напрасно это делаете, вам ничто не угрожает, и не нужно никакой защиты.
Анна молча смотрела ему в глаза и не могла вымолвить ни слова, а Август бросил на пол мешок с червонцами с такой силой, что мешок разорвался и блестящие червонцы раскатились по всем углам комнаты.
— Глядите, — сказал он, — это золото, и им я могу вас озолотить, а вот это железо…
И он вынул из кармана две железные подковы и, разломав их на несколько кусков, бросил на груду золота и докончил:
— Вот так же могу исковеркать всю вашу жизнь! Предоставляю вам выбирать: или это золото и с ним мою любовь и почести, или мою ненависть!
Стоя над грудой золота и кусками изломанного железа, Анна заговорила:
— Ваше величество, я не боюсь смерти и не ищу богатства. Вы действительно можете сокрушить меня, как это железо, но смею вас уверить, вы никогда не сломаете моей воли. Золотом меня нельзя подкупить, как нельзя запугать железом. О, мой государь! Зачем вы с собой не принесли того, что одно могло бы победить меня — верное сердце?..
— Мое сердце давно принадлежит вам! — воскликнул Август.
— Я этого не вижу, государь, по вашим действиям; любящее сердце не может желать бесчестья предмету своей любви, я не скрою от тебя, король, я люблю тебя! Я не могла воспротивиться этой любви, но я никогда не запятнаю ни себя, ни любви моей…
Король быстро подошел к ней и опустился на колено.
— Но выслушайте меня, государь, — продолжала Анна.
— Приказывайте!
— Я не могу принадлежать вам до тех пор, пока это сопряжено с моим унижением.
— Ага! Вы опять ставите какие-то условия?
— Государь, я дорожу моей честью.
— Хорошо, хорошо, я вас слушаю. Что же это за условия?
— Если вы хотите, государь, чтобы я, разделяя вашу любовь, разделяла и вашу страсть, то…
— Скорее, скорее! Что для этого нужно?
— Ваше клятвенное обещание на мне жениться!
Август нахмурил брови и проговорил:
— Но это невозможно, я женат!
— Да, государь, я это знаю, вы женаты, и пока королева здравствует, это невозможно, и я этого не добиваюсь, но… наша жизнь в Божьей воле, и ее величество может…
— Скончаться?
— Все возможно, государь, и тогда мое положение станет слишком тягостно, если вы не захотите меня из него вывести. Я ставлю условием всего, чтобы вы мне теперь это обещали.
— Анна, — отвечал Август, — поверьте мне, что вы сами не знаете, чего хотите: клянусь тебе, что это условие для тебя самой будет небезопасным.
— Ну, что бы там ни было, а я ни за что от него не отступлюсь. Этого требует моя честь, и пока я не буду иметь надежды быть твоей женой, ты ко мне не прикоснешься или я убью себя!
Король пожал плечами и отвечал:
— Хорошо! Пусть по-твоему, если ты этого непременно хочешь, пусть это будет, я даю тебе это обещание!..
Анна от радости вскрикнула.
— При этом все остальное уже ничто, — проговорила она голосом, в котором звучало счастье. — Но прежде всего, разумеется, я должна получить развод с Гоймом.
— Разумеется, и он завтра же будет подписан в консистории. Чего же ты еще хочешь?
Но Анна только склонилась перед ним на колени и прошептала:
— Больше мне ничего не нужно!
— Ага! Ну, так теперь зато мне этого мало, — воскликнул король, заключая ее в объятия, но Анна, однако, успела из них высвободиться.
— Ваше величество! — воскликнула она. — Прошу у вас еще немножко терпения: я верю вашему королевскому слову, но прежде чем я забуду себя для вас, я должна быть свободна от всех клятв в верности другому, которые меня связывают. В эту минуту я еще жена Гойма; клялась ему в верности и должна соблюсти эту клятву до конца, пока мой развод с ним не будет объявлен, а ты, мой король, скрепишь подписью обещание, которое дал твоей бедной Анне.
Август улыбнулся, но, поцеловов молча ее руку, сказал ей:
— Пусть и это будет по-твоему. Делай все, что только может тебя успокоить и… Я твой раб — ты моя владычица! Гойм нынче же приедет; объяснись с ним и расстанься с ним немедленно же; завтра я прикажу приготовить тебе дом, у тебя будет сто тысяч талеров годового дохода, и у твоих ног оба моих королевства, а с ними и я сам…
С этими словами он действительно стал перед Анной на колени, а та слегка поцеловала его в лоб и отступила, шепнув ему:
— До завтра!
— Как! Неужто еще и теперь я должен уйти? — спросил нетерпеливо Август.
— До завтра, только до завтра! — коротко повторила ему Анна и подала на прощанье руку.
Король встал, молча поцеловал протянутую руку и вышел. Проходя через зал, он еще раз увидел на полу насыпанную им груду червонцев, которая так и осталась нетронутой.
В эту самую ночь вернулся домой граф Гойм и немедленно хотел видеть жену, но двери ее спальни были заперты. Слуги доложили графу, что графиня почивает и приказала себя не будить, потому что чувствовала себя не совсем здоровой.
Во все время своей отлучки Гойм не переставал беспокоиться о поведении жены и пользовался обильными сообщениями своих шпионов. Впрочем, известное ему таким образом поведение Анны не представляло никаких новых тревог, и Гойм, отойдя от запертой двери жениной спальни, лег спать довольно спокойно.
На следующее утро, прежде чем к нему собрались все множество его акцизных чиновников, его потребовали к королю. Гойм должен был отправиться в замок, опять не повидавшись с женой.
Август был к нему крайне милостив: он дружески укорял его в продолжительном отсутствии и между прочим сказал:
— У тебя, мне кажется, при дворе есть много врагов, тебя хотели от меня отстранить. Но ты не бойся этого. Ты имеешь во мне более могущественного друга, чем все твои недоброжелатели. — Король, похлопав его по плечу, добавил: — Поверь, что я никому тебя в обиду не дам.
Гойм не знал, как благодарить его величество за все милости, и стал находить их разгадку только тогда, когда в дальнейшем разговоре о состоянии государственных финансов Август начал жаловаться на недостаток денег и сказал:
— Милейший Гойм, мне нужны деньги, и я надеюсь, что ты об этом позаботишься.
Так они и расстались.
Время было около полудня, когда Гойм возвратился домой с этой аудиенции, и едва он вошел в свой кабинет, как в другие двери вступила Анна. Она была одета очень скромно, в простое черное платье. Лицо ее было серьезно.
Войдя, она заперла за собой дверь на ключ и отстранила от себя спокойным движением руки Гойма, бросившегося было к ней с приветствиями.
— Я ждала вас, граф, — начала она спокойным голосом. — Я пришла сюда за тем, чтобы поблагодарить вас за все, что вы сделали мне доброго. Поверьте, что я этого не забуду. Но теперь я должна сказать вам нечто такое, что вас, может быть, немного расстроит… Что делать, я совсем не хотела бы вас огорчать, но я принуждена сообщить вам, что наша супружеская жизнь должна считаться оконченной. Не будем грустить об этом! Мы не видели в нашем браке никакого счастья, между нами даже не было симпатии, без которой жизнь не жизнь, а мука. Немало времени прошло, как мы так тяготим друг друга, без всякой надежды на что-нибудь лучшее, и… нам, граф, пора проститься! Вам, граф, известна моя откровенная натура: я всегда люблю действовать прямо и так поступаю и теперь. Его величество сделал мне честь, заверив меня в своей дружбе и защите, а он в моих глазах достоин того, чтобы я на него положилась. Я его люблю и решилась ему повиноваться. Но обманывать вас я не могу и не желаю: мы, граф, должны расстаться, и чтобы сохранить вашу честь, я вам предлагаю развод. Иначе я поступить не могу. Если вы согласитесь, чтобы брак наш был расторгнут, вы можете быть уверены в моем всегдашнем к вам расположении. Всегда и во всем вы будете иметь во мне самую искреннюю помощницу; но если вы будете так неблагоразумны, что не дадите вашего согласия, то знайте, что, во-первых, это нимало не изменит моего решения, а во-вторых… это только заставит меня решительнее забыть всякую вам признательность и помнить лишь одно, что вы становитесь препятствием к моему счастью.
Гойм выслушал все это в мертвой неподвижности, как пораженный громом, — он никак не предполагал, что дело уже приняло такие размеры.
По его бледному лицу только разлилась какая-то синевато-багровая краска. Бедного министра не столько возмущала самая суть дела, как то страшное хладнокровие, с которым Анна ему все это излагала.
— Так вот что! — произнес, весь побагровев, Гойм. — Так вот какова ваша благодарность мне за то, что я вывел вас из вашей трущобы на свет Божий! О, я вижу, что я отогрел змею на своей груди, и вот она меня жалит!
И Гойм, сжав кулак, вдруг поднял его над головой и, кинувшись к жене, закричал неистово:
— Как вы могли решиться оставить мужа и сделаться игрушкой минутной прихоти самого легкомысленнейшего человека?
Анна смерила его взглядом и спокойно отвечала:
— Граф, не в этом тоне продолжайте!.. Я знала, что вы мне будете говорить именно это; но поверьте мне, что в ваших предостережениях я нимало не нуждаюсь и знаю, что я делаю. Предоставьте мне самой заботиться о моей судьбе и не пробуйте поколебать мою решимость, она неизменна. Я прошу вас быть благоразумнее и выбирать, пока есть время для какого-нибудь выбора: предпочитаете вы, чтобы я получила развод с вами с вашего согласия или чтобы вашего согласия не спрашивали? В первом случае мы расстанемся друзьями, во втором, конечно, о дружелюбии не может быть речи. Вот весь вопрос, который вы можете решить, как вам угодно!
Гойм никак не ожидал от жены такой твердости в таком деле, и им овладели и удивление и гнев, а при них заклокотала и ревность: под влиянием всех этих мучительных чувств он поддался неистовому раздражению и заметался по комнате, бешено толкая и расшвыривая вещи.
Анна, давно привыкшая к взрывам его ярости, не придавала особенного значения этому и ждала конца, чтобы, не выходя отсюда добиться — да или нет. Наконец, заметив, что припадок утихает, она проговорила самым спокойным тоном:
— К сожалению, я вижу, что вам гораздо труднее решиться, чем я думала; в таком случае я дам вам время обсудить мое предложение. Имейте только в виду, что теперь вражда со мной есть в то же самое время и вражда с королем, а это может быть для вас небезопасно: от этого зависит или ваше возвышение или опала.
С этими словами она вышла, не ожидая ответа.
Гойм продолжал метаться по комнате: его отчаяние, вероятно, продолжалось бы очень долго, если бы оно не было прервано приходом графа Фицтума.
— Что с тобой, Гойм? — воскликнул Фицтум. — Отчего это ты так печален?
— Что со мной? Вот, право, хорош вопрос! — отвечал Гойм. — Да вы, мои голубчики, наверно все это лучше меня знаете. Ведь это вы же, мои милые друзья, приготовили мне такую приятную новость… Моя жена, моя Анна меня бросает! Она понадобилась королю; ему все нужны! Что же с этим делать? Но зачем же она шла за меня замуж? Чтобы потом изменить мне, осрамить перед всем светом и выставить меня всем на посмешище? Неужто все это такие приятные вещи, что мне нечего печалиться, а надо радоваться и улыбаться?
Фицтум дал ему волю высказаться и потом начал:
— Послушай, Гойм! Что тебе жаль расстаться с прекрасной Анной, это очень понятно, но ведь она тебя никогда не любила, да и ты слишком уж ветрен, чтобы я поверил, что ты ее так сильно обожаешь. Честь же твоя не пострадает нисколько, потому что не ты оставляешь жену, а все знают, что она тебя покидает. Будем лучше рассуждать основательно, я пришел с поручением короля.
Гойм насупил брови.
— Что же мне приказывает его величество? — пробормотал он с иронией в голосе.
— Король желает твоего согласия на развод с женой и за это обещает тебе свою милость и признательность. А в противном случае… Я, право, не знаю, что тут тебе рассказывать! В противном случае, мой милый Гойм, ты, разумеется, накличешь на себя большие беды. С королем бороться нельзя, значит, выбирай что хочешь, но помни, что с этих пор малейшая обида графине будет считаться оскорблением его величества.
— Превосходно! Но только зачем королю нужно мое согласие на это? — закричал Гойм. — Не все ли равно, согласен я или не согласен? Король без всякого моего согласия может сделать все, что ему угодно: консистория не мне, а ему послушна; но я не могу благодарить его величество за то, что он лишает меня моей жены!
Фицтум его перебил:
— Постой, король тебя просит о согласии, это, разумеется, только доказывает в известной степени его желание быть с тобой деликатным; если же ты это ни во что не ценишь, то, конечно, обойдутся и без твоего согласия, но тогда тебе неловко будет оставаться при дворе, а король, очевидно, хочет оставить тебя при твоей должности.
— Да, он хочет меня при ней оставить, потому что я ему на ней нужен! — пробормотал Гойм.
Фицтум на это ничего не отвечал. Он встал, прошелся несколько раз по комнате и, снова сев на диван, сказал:
— Однако, время идет, мой милый граф, и я должен ехать, чтобы передать твой ответ; решись же и скажи его! Если я уйду от тебя без ответа, дело будет уже непоправимо.
— Ну, и что же это будет? — продолжал он после минутной паузы. — Я еще раз, и притом последний, повторяю: граф Гойм, король Август ждет от вас ответа! Скажете вы мне или нет, что я должен передать его величеству?
— Да разве тут есть что выбирать? — воскликнул министр. — Что вы ко мне, в самом деле, пристаете? Ведь это одна насмешка: стали у человека с ножом у горла, прося позволения взять у него жену, которую уже ранее решили отнять… Что тут выбирать? Поезжайте, мой любезный зять, по вашему приятному поручению к его величеству и доложите ему, что я крайне ему благодарен за то, что он отбирает у меня жену, что я на это совершенно согласен, очень этому рад, счастлив и в упоении моего счастья лобызаю его руку. Довольно ли вам моей верноподданнической покорности? А если мало, то можешь добавить, что я сожалею, что подношу его величеству не целый фрукт, которого не касались уста, а плод… который я уже достаточно отведал. Прошу его извинения в этом, ха, ха, ха…
— Ну, это, знаешь, кажется, будет лишнее!
— Отчего же?
— Нет, право, лишнее. Прощай теперь: я иду и буду знать, что сказать и о чем умолчать; а ты, выпей-ка, брат, стакан холодной воды, да вспомни многих, которые позавидовали бы тебе.
Фицтуму, наверное, вспомнилась и его собственная доля, в то время когда его жена, сестра Гойма, была ненадолго фавориткой Августа.
Пока происходили эти переговоры, король нетерпеливо ждал в замке ответа Гойма и наконец, не дождавшись, сам поехал в дом своего злополучного министра и прямо прошел в покои его жены.
Фицтум не знал этого и, простясь с Гоймом, хотел ехать в королевский замок, но получив известие, что Август ожидает его здесь, направился на половину графини.
Август по одной походке и по лицу Фицтума сразу увидел, что Гойм не сопротивляется, и был спокоен, но прекрасная Анна, вся в тревоге, бросилась навстречу роковому послу.
— Ну, что, граф, были ли вы счастливее меня? — вскричала она.
— Графиня, никто не может быть вас счастливее! — отвечал с поклоном и улыбкой Фицтум. — Но я был только терпеливее вас. Я дал вашему мужу волю излиться в словах и за то приношу вам самую желанную весть: Гойм на все согласен!
В черных глазах Анны вспыхнула радость, и она чуть не кинулась на шею Фицтуму.
— О, если бы вы знали, какую вы мне дорогую принесли весть! Чем вас благодарить? — воскликнула она и, кинувшись к столу, на котором стояла золотая шкатулка, схватила ее и подала Фицтуму.
Король подбежал взглянуть на подарок и тотчас же вырвал его из рук Фицтума.
В шкатулку был вправлен миниатюрный портрет Анны, который был сделан несколько лет тому назад.
— Нет, извините, — воскликнул король, — это уже слишком много для тебя, Фицтум!.. Я конфискую это моей королевской властью и взамен дарю двадцать тысяч талеров, а этот портрет никто не может и не будет иметь, кроме меня!
Анна бросилась королю на шею.
На другой день граф и графиня Гойм подали прошение о разводе через своих уполномоченных, королевский указ ускорил дело, и через три дня решение консистории было объявлено для всеобщего сведения и по желанию Анны было прибито на всех площадях, общественных зданиях и местах.
В тот же самый день Анна переехала от мужа в новый дом, который для нее приготовили. Он был недалеко от замка, а для большего удобства его на скорую руку в несколько часов соединили с замком крытой галереей.
Известие о разводе, как громом, поразило весь город. Графиня Гойм оставила фамилию мужа и стала называться по имени своей родни в Голштинии госпожей Ко́зель. Август клятвенно обещал выхлопотать ей у императора Иосифа графский титул и, вместо временно занятого ею дома, обещал через несколько месяцев выстроить ей дворец лучше сказочных хором из «тысячи и одной ночи».
Давно уже ни одна любовница короля не овладевала так сильно всеми его помыслами, сердцем и чувствами. Он проводил с Анной целые дни, забывая все остальное на свете. Его почти нигде нельзя было увидеть без Анны.
Княгиня Тешен не имела более никаких надежд возвратить себе внимание короля. Август ее совсем оставил. Впрочем, все богатство, полученное ею во время фавора, осталось при ней, и она была свободна располагать собою, как ей угодно.
Август должен был щадить ее ради кардинала Радзейявского, на которого она имела большое влияние, а Радзейявский мог сильно повредить намерениям короля… Но что же думала и замышляла ревнивая и мстительная Тешен? Несмотря на множество шпионов, которыми Фицтум окружил ее по приказанию короля, о намерениях ее нельзя было ничего узнать. Пробовали было выпытать у нее тайну через баронессу Глазенапп, которая ненавидела сестру, но княгиня была слишком осторожна: она только молчала да плакала. Никто не знал даже, останется ли она в Дрездене или поселится в Гойерсверде, или же наконец вернется в Польшу. В доме не было заметно ни приготовлений к отъезду, ни других перемен, только слишком многочисленная дворня теперь значительно сократилась. Но тех, кто остались верными княгине, все подозревали в шпионстве. Общество вокруг нее группировалось невеселое; дни ее шли уныло, прежние друзья отставали; но зато князь Людовик Виртембергский приходил все чаще.
Придворные интриги, некоторое время направлявшиеся исключительно на низложение княгини Тешен и возвышение Анны Ко́зель, теперь, после победы последней, приняли другое направление.
Фюрстенберг, которого король вначале избрал посредником в этом деле, теперь должен был уступить свое место Фицтуму, оказавшему такую ловкость при устройстве развода.
При дворе Августа II начали образовываться две враждебные партии, и этот распад становился с каждым днем все заметнее и очевиднее.
Добрый король не любил, чтобы вокруг него люди жили в мире и согласии, и с особенным усердием заботился, чтобы этого при дворе никогда не бывало. Он боялся единодушия и всеми силами всегда способствовал всяким ссорам и раздорам.
Фицтум, который был таким счастливым посредником в деле Анны Ко́зель, принадлежал к старому роду, вышедшему некогда из Тюрингии и уже с давних пор находившемуся на саксонской службе.
Великому сокольничему графу Фридриху Фицтуму фон Экштадт было в то время лет около тридцати. Он был при дворе еще пажем и с малолетства был дружен с Августом. Вместе с ним он совершил и путешествие по Европе, из которого они привезли столько любопытных новинок. После падения государственного канцлера Бейхлинга в 1703 году он был назначен великим сокольничим на место брата канцлера, который тоже не миновал Кенигштейна.
Король любил Фицтума больше, чем других, потому что его он не опасался; это был человек спокойный, любезный, предупредительный, крайне вежливый и отлично воспитанный, как настоящий придворный, и ко всему этому был красавец.
Фицтум особенно отличался в любимых королем рыцарских забавах: он великолепно ездил верхом, стрелял, охотился и был такой страстный игрок, что, если бы только это было возможно, он играл бы целые дни без отдыха. Характер у него был веселый, и он отличался своим мягким, безобидным юмором. Мы уже говорили, что саксонское дворянство во всем, что касалось его привилегий, старалось осторожно, но упорно сопротивляться королю, и Фицтум был самым верным и ловким, хотя почти незаметным, сторонником этого дворянского дела. Его интимность с королем, которая особенно выказывалась на пирах и кутежах, позволяла ему иногда, при случае, ввернуть словечко в пользу своих убеждений, которое часто, под видом шутки, для многих было горькой правдой.
Исключая это сочувствие дворянским делам, Фицтум не вмешивался ни во что более, отстранялся от всяких интриг, не был совсем честолюбив и служил королю как другу.
Около Фицтума состояла его жена, сестра Гойма, первейшая из интриганок этого двора, при котором женщины всегда имели равное, если не большее значение, чем мужчины.
Графиня в то время была еще очень свежа и хороша… Высокого роста, как большая часть саксонских аристократок, с большими блестящими глазами, прекрасным бюстом, слегка вздернутым носиком, она была одна из первых придворных красавиц. Все узнавали ее по вечно веселому, детскому, пискливому смеху, который очень часто вырывался с хорошеньких губ. Графиня Фицтум играла всем двором, вечно интриговала из одной любви к искусству, подслушивала, сплетничала, устраивала западни, ловила и играла людьми, возбуждала ссоры и ненависть, судила и мирила и, кроме того, отлично вела весь дом, и мужа, и хозяйство, и дела, и не будь ее — Фицтум сидел бы часто без гроша. Мужем же своим она руководила во всем, сгорая за него честолюбием, которого у того часто недоставало.
Эта дама любила карты не меньше, чем ее муж, но она играла гораздо осторожнее его и с большим счастьем.
Все другие дела тоже держались ею, а не мужем, который, будучи предоставлен самому себе, никогда бы ничего не добился.
Фицтумы, впрочем, не были особенно влиятельны при дворе Августа: их ставили гораздо ниже Флемминга, Фюрстенберга, Пфлуга и других, но графиня Фицтум умела наверстывать этот недостаток прямого влияния ловким интриганством, которого побаивались особы, несравненно лучше ее поставленные.
При описываемых нами событиях госпожа Фицтум с первых же успешных шагов Анны Ко́зель стала на ее сторону и повела за собой мужа, который, зная способности жены, никогда ей не противоречил.
Анна в обществе преуспевала: несколько дней спустя после того, как она переехала в подаренный ей королем дом около замка, весь двор почувствовал, что новая фаворитка поведет дела не так, как слезливая графиня Тешен. У этой все пошло иначе — она становилась в самый центр дворцовой жизни и уже смело называла себя второй королевской женой.
Влюбленный Август ничему не перечил до времени, а у красавицы, которая тянулась к трону, закружилась голова.
Чем это должно было окончиться, покажет развитие нашей истории; но пока об этом еще никто не задумывался, и все ждали только веселья и празднеств от своего утешенного владыки.
VIII
При дворе Августа II в это время не было недостатка в людях, специальное назначение которых было служить для королевской потехи и отгонять от него всякие черные мысли, когда таковые невзначай забирались в его голову.
Каждый день поутру из так называемого Старого Города (который теперь носит название Нового) проезжал верхом во дворец королевский шут и фигляр Иозеф Фрёлих. Этого придворного артиста знал весь город, от первого министра до последнего уличного мальчишки. Как-то раз, будучи в хорошем расположении духа, Август приказал даже выбить в честь его медаль с подписью: «Semper Fröhlich nunquam Traurig»[2]. Фрёлих так привык к своей смехотворной обязанности, что с утра до вечера и сам хохотал и других смешил до упаду.
Один его вид и костюм, в котором он выезжал из своего дома, уже возбуждали улыбку. Построенный у моста дом Фрёлиха был известен под названием Дурацкого дома.
Фрёлих был маленький, толстенький человечек, с вечно веселым, румяным лицом. Обыкновенный его костюм был куцый цветной фрак, и таких фраков у него по милости короля было ровно девяносто девять. Он носил на голове огромную шляпу с султаном из разноцветных перьев, а сзади на пуговице громадный серебряный ключ в шестьдесят унций. Ключ имел форму камергерского ключа, но был устроен так, что мог служить кубком, который Фрёлих и обязан был осушать, когда участвовал в королевских оргиях.
Противоположность этому человеку являл барон Шмидель, которого держали для того, чтобы он мог подзадоривать Фрёлиха и разнообразить шутовские выходки. Шмидель с неподражаемым искусством изображал из себя меланхолика и пессимиста, и когда тот хохотал, этот хныкал. Это были своего рода Гераклит и Демокрит.
Когда оба эти паяца изнемогали от усталости, истощая весь свой запас веселости и остроумия, к ним на помощь являлись другие, подставные, в которых недостатка не было. Это никто не считал для себя унизительным, и остроумный Киан шутствовал так же охотно, как Шмидель с Фрёлихом.
Фрёлих, однако, несмотря на свою шутовскую должность, был человек очень неглупый и недурной. Он сколачивал понемногу денежку на черный день, жил скромно, исподтишка смеялся над всеми теми, которые потешались над ним громко, и с необыкновенной ловкостью умел вывертываться и выходил целым и невредимым из всех придворных интриг и передряг.
Семейная жизнь Фрёлиха шла самым тихим и едва ли кому-нибудь известным порядком: поутру он облекался в свою пеструю форму и ехал в замок, а вечером, иногда довольно поздно, возвращался домой к своей экономке. Вот все, что было известно о его домашней жизни. В «Дурацкий дом» почти никто не хаживал, да и не к кому было сюда ходить, потому что и сам хозяин-то здесь только ночевал или бывал гостем, и потому экономка Фрёлиха, старая Лота, имела полное основание прийти в тревогу, когда однажды на рассвете в дверь дурацкого дома раздался сильный стук и некто, совсем не знакомый госпоже Лоте, спросил Фрёлиха.
Придворный шут насторожил ухо, он еще не был одет и по необыкновенно раннему часу соображал, что бы это за особый каприз мог прийти с пьяных глаз королю звать его в такую раннюю пору? Лота, выглянув в дверное окошечко, увидела на пороге стройного молодого человека в придворной ливрее.
Окинув его с головы до ног быстрым взглядом, Лота спросила, что ему угодно.
— Я хотел бы переговорить с господином Фрёлихом, — отвечал незнакомец.
— Вы от короля? — осведомилась Лота, но незнакомец оставил этот вопрос без объяснения, и Лота на том не настаивала. Она знала, что к Фрёлиху ходят иногда послы секретные, и потому пропустила незнакомца наверх, где ее хозяин в это время уже одевался перед зеркалом в свой костюм. Фрёлих также не знал, кто к нему явился: гость или посланец. Он раскланивался с ним, кривляясь с униженными поклонами и величая пришедшего превосходительством, хотя гость, по правде сказать, всего менее казался достойным такого титула. Это был застенчивый молодой человек, который нерешительно остановился в дверях и мял в руках свою шляпу.
— Чем могу служить вашему превосходительству? — обратился к нему в полусогбенном положении шут.
— Ах, господин Фрёлих, — отвечал тихо пришедший, — не смейтесь над несчастьем!.. Какое там я превосходительство? Поверьте, что точнее будет, если я стану величать вас превосходительством.
— Ба-ба-ба! Я — ваше превосходительство! Да вы от короля или нет?
— Нет, я сам от себя. Я прошу у вас одной минуты, чтобы поговорить с вами с глазу на глаз.
— То есть вы просите у меня аудиенции? — воскликнул с комичной важностью Фрёлих. — Да не сделался ли я сам, того не ведая, во время моего сна каким-нибудь министром? Что же, при нашем дворе… тсс!.. при нашем дворе все может случиться! Министры так грызутся, что скоро съедят друг друга, а тогда почему бы и нам с вашей милостью не стать министрами? А? Что вы думаете? Только я, на всякий случай, вперед выговариваю себе у вас министерство казны и акциза.
Гостю, однако, было не до шуток. Фрёлих это понял и заговорил в другом тоне.
— Да, так вам нужна одна минута разговора со мной и непременно еще с глазу на глаз? Что же, я согласен… эта минута к услугам вашим! Теперь в целом доме нет никого, кроме нас двоих и старой Лоты, которая занята на кухне, да дворника, который чистит лошадь на конюшне. Итак, я занимаю мое место, и аудиенция начинается!
И проговорив это, Фрёлих с важностью сел в кресло, изображая из себя сановника, принимающего просителя.
— Господин Фрёлих, — начал незнакомец, — вы, конечно, будете очень удивлены, когда узнаете, что я пришел к вам по чрезвычайно важному делу.
— Да нет, ничего; только вы смотрите, приятель, вы того… вы не ошиблись ли дверями?
— Нет, я не ошибся дверями, — возразил незнакомец. — Я пришел туда, куда нужно. Видя вас ежедневно при дворе, я вычитал в лице вашем, что вы добрый человек… что у вас великодушное сердце…
— Мой милый! Без всякого сомнения, вы хотите занять у меня денег! — прервал его, замахав руками, Фрёлих. — Но я предупреждаю вас, что из этого ничего не выйдет! Всем располагайте: моим советом, моим смехом, моими поклонами, спиной — словом, всем, чем хотите; но только не деньгами — денег нет у меня, мой милейший! Да и откуда их взять, когда сам наш великолепный, наш августейший король — гол как сокол! Как же вы хотите, чтобы у меня были деньги?
— Нет, мне даже не снилось просить у вас денег.
— А! Это другое дело, — произнес успокоенный шут. — Однако, чего же в таком случае вы можете желать от меня? Не хотите ли вы, чтобы я научил вас какому-нибудь фокусу? Например, как из одного яйца вытащить сто пятьдесят аршин лент?
— И этого я не хочу.
— Так что же, вы, может быть, просто ищете моей протекции на всякий случай?
— Да, вот это, пожалуй, что и так, — с печалью в голосе отвечал незнакомец, — когда нет никакой другой…
— Когда нет никакой другой протекции, так вы к дураку идете! — засмеялся старик. — Что же, это довольно забавно, только в этом отношении даже Шмидель как барон и камер-курьер мог бы лучше вам пригодиться. По ливрее вашей я вижу, что вы принадлежите к дворцовой службе. Однако, выговор у вас иностранный. А, впрочем, в этом ничего нет удивительного, потому что скоро саксонца при саксонском дворе надо будет искать днем с фонарем. Но кто же вы?
— Я поляк. Зовут меня Раймонд Заклик.
— Поляк! Стало быть, дворянин? Ну, так садитесь же, высокопочтенное дворянство… а я как мещанин встану и буду говорить с вами стоя…
— Полноте шутить, господин Фрёлих.
— Помилуйте, я не смею с вами шутить. Подавился бы собственным языком, если бы шутил. Но времени у нас немного и оно дорого. Говорите же, глубокоуважаемый поляк, что вам угодно?
С минуту Заклик не мог заговорить, насмешливый тон Фрёлиха, очевидно, смущал его.
— В саксонский двор попал я случайно… Вероятно, вы слышали обо мне… На мое несчастье, я очень силен: я могу сломать подкову, смять кубок и отрубить сразу голову лошади… Этим я обратил на себя внимание его величества, и ему угодно было взять меня ко двору…
— Знаю, знаю… Припоминаю, — засмеялся Фрёлих. — Не завидую вам, милейший господин… как вас?
— Заклик.
— Не завидую, господин Унглюк. Но кто же был так простодушен, чтобы советовать вам меряться силой с королем?.. Надо быть очень… очень остроумным, чтобы взять на себя такую печальную роль!
— С тех пор, как я поступил во двор… мне просто опротивела жизнь!.. Нет у меня друзей… нет покровителей… никого.
— А, так вы хотите избрать меня другом и покровителем? Это такая же счастливая мысль, как ломать подковы!.. Человече! Если бы вы могли ломать даже наковальню, то со страху, боясь возбудить зависть, не должны были сокрушать и соломинки… Нечего сказать, славно вы себя устроили!
— Так вышло, — сказал Заклик. — И никого у меня нет… Никого.
— А вдобавок еще вы поляк, когда теперь даже имя поляка выговаривать не годится… Не хотелось бы мне быть в вашей шкуре!
— Верю, и мне нехорошо в ней… Думалось, что хоть вы, господин Фрёлих, пожалеете меня.
Старый шут вытаращил на него глаза. Морщинистое лицо его сделалось вдруг серьезно и печально. Он сложил на груди свои руки, затем подошел к Заклику, взял его руку и с видом доктора стал щупать у него пульс.
— Боюсь, милейший мой, что у вас в голове того… пометалось? — тихо спросил он.
— Это могло бы случиться, — усмехнувшись, отозвался Заклик.
Лицо Фрёлиха разгладилось и снова приняло обычное выражение.
— О чем же идет дело? — спросил он.
— О том, чтобы его величество соблаговолил уволить меня от придворной службы.
— Да что же может быть легче этого? — тихо сказал Фрёлих. — Сделайте какую-нибудь глупость — тотчас же поставят на Новом рынке виселицу и вы непременно будете болтаться на ней… Это самый короткий, легкий и прямой способ уйти от короля Августа.
— На это еще, надеюсь, у меня есть время? — спросил Заклик.
— Но что же вы станете делать, если вас, положим, уволят? Потащитесь на свою родину, чтобы там с медведями рычать?
— Нет, я останусь здесь.
— Так, вероятно, одна из дрезденских красавиц пленила ваш взор?
Заклик сильно покраснел.
— Нет, — отвечал он, — я могу давать уроки фехтования; я могу учить верховой езде… Наконец могу записаться в какое-нибудь войско…
— Разве вы умираете с голоду при дворе?
— Нет, у меня всего вдоволь.
— Так, может быть, вам не выплачивают жалованье?
— Напротив, я его получаю сполна.
— Но что же наконец вы находите у нас дурного?
Заклик смешался.
— Нечего мне делать… Здесь я не нужен…
— А, господин Унглюк, я вас понимаю! Вы желаете совершить что-нибудь особенное?.. Вот ведь, кажется, имеете и хлеб и спокойствие, а ищете беды.
— Быть может, — коротко отвечал Заклик. — Но знаете, ведь все может надоесть.
— Ага, надоесть? Разумеется, может, особенно тому, кому хорошо живется и нечего делать, — докончил Фрёлих. — Однако, во всем этом я еще не вижу, чем же, собственно, я здесь могу быть вам полезен?
— Вот чем, господин Фрёлих: я стою у дверей в покоях его величества… а вы какой-нибудь выдумкой могли бы обратить на меня его внимание. Право, это для вас не было бы особенно трудно, а королю… видите, ему в добрую минуту иногда приходят разные фантазии.
— Как же, как же, приходят и именно разные, и вот как ему придет один раз такая фантазия, чтобы приказать вас повесить? Будете ли вы этим довольны?
— Нет, я этакой его фантазией нимало не буду доволен и надеюсь, что вы меня от нее защитите.
Фрёлих поглядел на него молча и потом надел на голову свою остроконечную шляпу с пером, заложил руки в карманы и, пройдясь по комнате, воскликнул:
— Вы открыли мне глаза: я, ей-ей, до сих пор сам не догадывался, какая я здесь сила! Поверьте мне, господин Унглюк, что ради одной вашей благодарности я охотно сделал бы для вас что-нибудь… Кто знает, говорят, что Киан будет комендантом в Кенигштейне… Стало быть, и я, по крайней мере, могу быть придворным казначеем или советником в консистории. Я начинаю набираться амбиции!..
С сожалением взглянув затем на Заклика, Фрёлих упал в кресло и захохотал.
— Свет перекувырнулся!.. Польский дворянин просит протекции у шута, а шведские селедочники бьют саксонцев!..
Он хлопнул в ладоши. На этот зов явилась Лота с тарелкой в руках.
Фрёлих сделал комический жест и кивнул Заклику головой, как министр, дающий понять, что аудиенция закончена. Печальный Заклик поклонился и сошел с лестницы.
Конечно, мысль идти искать покровительства у забавлявшего всех шута была довольно странна; но отчаяние заставило Заклика решиться на это. Бедному молодому человеку смертельно надоела его бездеятельность при дворе. Ему пришло в голову, что будь он свободен, он мог бы играть здесь другую, гораздо лучшую роль, чем стоять в ливрее. История с графиней Гойм, которая вдруг превратилась в госпожу Ко́зель, перенесла его прогулки из Лаубегаста в город. Заклик мечтал, что ничем не связанный он как дворянин мог быть принят в дом… той, смотреть в черные очи которой было для него величайшим счастьем.
Любовь Заклика была совершенно особенного рода. Раймонд жаждал лишь одного — смотреть на боготворимое им существо. Ему хотелось быть ее верным, неусыпным стражем, невидимым охранителем. Он догадывался, что она должна иметь врагов, и страшась за нее, Заклик стремился снискать ее доверие и готов был с радостью пожертвовать за нее своей жизнью. Вообще молодой человек отличался довольно странным характером. Внешне мешковатый, он был, однако, полон упрямства и непреклонной воли. Он сам смеялся над своей любовью к той, которая называлась «королевой», но задушить в себе это чувство не мог.
Счастливое время в Лаубегасте, где он мог смотреть на нее из какой-нибудь засады и отгадывать ее мысли, представлялось ему теперь утраченным раем. В Дрездене Заклик редко имел счастье видеть лицо «прекрасной королевы» — да и то на самую короткую минуту. Видел он ее, когда она каталась в сопровождении короля верхом, когда садилась или выходила из экипажа, и наконец в театре, если ему удавалось замешаться между придворными. Но всего этого было ему слишком мало: Заклику грезилось когда-нибудь попасть в ее дом; это составляло для него верх счастья, было единственным и последним его желанием. И для достижения такого блаженства он готов был не только поклониться шуту, но даже не остановился бы и перед гораздо большим унижением.
Впрочем, и такая любовь со стороны молодого человека не представляла ничего необыкновенного. Удивительно было то, что сама госпожа Ко́зель, видевшая его лишь несколько раз издалека, со всей своей гордостью, со своей новой любовью к прекрасному королю, вся упоенная счастьем, тоже не один раз задавала себе вопрос: «Что сделалось с этим чудаком из Лаубегаста?» И не раз глаза ее отыскивали Заклика в придворной толпе. Без сомнения, это было только сострадание, но и оно в такие блаженные минуты счастья было не совсем обыкновенно…
Ко́зель не была слишком чувствительна. Страстная, энергичная, смелая, она, однако, нелегко поддавалась на сострадание. Но ей невольно припоминался кроткий безумец, погружавшийся по шею в воду для того, чтобы посмотреть на нее. Это льстило ее женскому самолюбию. Она не без удовольствия вспоминала о всех этих происшествиях, о которых, разумеется, никогда никому не говорила.
_____
Крепко ошибся бы тот, кто предположил бы, что влюбленный Август II ради прекрасной Ко́зель отказался от своих ночных оргий с приближенными. Оргии были ему необходимы, они вошли в привычку. Часто между подпившими царедворцами королевское слово сеяло раздор, составлявший один из способов его государственного управления. От пьяных придворных легко было добывать признания, каких они в трезвом состоянии ни за что бы не сделали.
Как легко удалось королю вызвать Гойма на откровенное описание жены, так он узнавал от других не об одном их секрете.
Однажды вечером в замке шла пирушка. Король был в хорошем расположении духа и думал о том, как бы окружить обожаемую им красавицу роскошью, олимпийским великолепием и удовольствиями. Часть дня была им посвящена важнейшим делам, а вечер — попойке.
Гойм, оставшийся при акцизе, при министерстве и при пятидесяти тысячах талеров, которыми король отер его слезы по утраченной супруге, также был тут, в числе ночных собеседников. Гойм был нужный человек, так как на все и везде требовались деньги и деньги, и только он один умел добывать их.
Он был гениален в придумывании мер к усилению доходов. Он употреблял всевозможные средства для извлечения их из обедневшего края. Обложено было податью то, с чего прежде ничего не платилось. У страны вытягивались последние гроши, которые король щедро расточал на фавориток и любимцев.
Но и гениальнейшие измышления имеют конец, особенно если они должны беспрестанно повторяться. Теперь оставалось только прибегать к мерам чрезвычайным и насильственным. Дело доходило до того, что, например, падение бывшего канцлера в значительной степени объяснялось желанием поживиться накопленными им будто бы несметными богатствами, которые, впрочем, оказались далеко меньшими, чем о них говорили. Все ограничилось дворцом, который был отдан княгине Тешен, несколькими деревушками да полумиллионом талеров, которые у него когда-то занял король и которые после всей этой передряги, разумеется, уже не предстояло надобности возвращать. Остальное достояние канцлера, заключавшееся в полутора миллионе талеров, разделили между собой Фюрстенберг, Пфлуг, а может быть, и Флемминг. Таким образом, король, рассчитывавший получить много, собственно говоря, не получил ничего.
Август питал еще особого рода надежду приобрести нужные ему баснословные суммы с помощью искусственного воспроизведения золота. Это, как известно, составляло в то время манию многих, и Август, как и некоторые другие государи, был помешан на алхимии. Тогда не сомневались в существовании чудесного раствора, превращающего всякий металл в золото, а настоящее золото — в пепел и дым.
Канцлер Бейхлинг, убежденный, как и все подобные ему мечтатели, в совершенной возможности приготовить золото в реторте, укреплял в Августе II надежду, что он отыщет ему наконец такого человека, который сумеет наделать этим способом столь необходимые для счастья его величества миллионы.
По временам всем двором овладевало особенно сильное увлечение алхимией, и тогда только и было разговоров, что о золотом эликсире.
У канцлера была своя лаборатория, у Фюрстенберга — другая; последнюю посещал и сам король. Имели лаборатории и прочие из любителей «великого дела».
Ходили слухи о некоторых счастливых мудрецах, будто бы уже открывших искомую драгоценную тайну. Это порождало в Августе подозрительность.
Нет сомнения, что Бейхлинг, умевший доставать королю деньги, не попал бы в опалу, если бы Фюрстенберг не шепнул его величеству, что у него есть уже мастер, который может добыть золота несравненно больше и легче, чем может достать канцлер посредством новых вымогательств из разоренного края.
Мудрец, на которого так рассчитывал Фюрстенберг, был простой аптекарь Беттигер из Берлина. Прошлое этого человека было самое темное, а в настоящем ясно было только то, что он не мог сделать золото, но умел его расходовать с большим удовольствием.
Несколько лет тому назад этот Ян Фридрих Беттигер родом из Шлезвига забавлялся в аптеке фабрикацией золотого эликсира или, как говорили другие, имел случай достать его у одного бродяги, называвшегося Ласкарисом… Фридрих I прусский рад был захватить себе этого золотоделателя и, разумеется, запер его в клетку, предпочитая одному обладать такой драгоценной и великой тайной… Беттигеру удалось бежать в Саксонию. Пруссаки добивались выдачи его, но король Август и сам нуждался в деньгах. Поэтому приказано было доставить дорогого человека в Дрезден.
Фюрстенберг вместе с Беттигером работал в лаборатории, и король твердо уповал, что не нынче, так завтра из их плавильной печи польется золото.
Беттигера отлично поили и кормили, осыпали милостями и ласками, но держали взаперти, под стражей. А между тем в надежде на золотой эликсир Беттигера проходили годы, и разорение государства усиливалось. Привозили из Варшавы ртуть, сочиняли особые молитвы, король исповедовался и с набожными мыслями садился к плавильной печи… А золото все-таки не являлось. К счастью, ящик с ртутью, присланный Беттигером из Варшавы, разбился, и на этот раз безуспешность работы, по крайней мере, могла быть приписана несчастью. Беттигер продолжал сидеть в заточении, сначала в замке Фюрстенберга, после в Кенигштейнской крепости, а затем снова у Фюрстенберга.
Этот заточенный алхимик, эти реторты и колбы, в которых надеялись выплавить золото для войн и маскарадов, этот исповедующийся король, занятый вместе с Фюрстенбергом изготовлением чудесного эликсира, а затем отдыхающий у фавориток — все это составляло характерные черты того времени…
Алхимик давал в своей тюрьме обеды, балы и в течение трех лет стоил королю сорок тысяч талеров…
Когда госпожа Ко́зель попала на место княгини Тешен, знаменитый алхимик содержался в замке, в тюремной башне, окруженной садом, и занимался окончательным вычислением формулы, производящей золото… Ожидания и надежды были огромные. Никто уже не сомневался, что Беттигер наконец откроет свою великую тайну. Впрочем, алхимик предупреждал, что работа его увенчается успехом только в том случае, если имеющее получиться золото не будет обращено на излишества, на безумную расточительность, на бесполезные и опасные войны и тому подобные дурные дела. Он объяснял, что такая чудесная и великая тайна не может служить государю порочному, явному грешнику, нарушающему супружескую верность или напрасно проливающему кровь.
Очевидно, аптекарь этими условиями обеспечивал свою личную безопасность на случай неудачи.
_____
Вечером того же дня, когда Заклик искал покровительства Фрёлиха, придворный шут находился в замке.
Должно сказать, что он желал услужить молодому человеку, который возложил на него такие надежды. Усердно ломал он себе над этим голову, однако, тут уже он был не в своей роли… Для себя он всегда бы нашелся, но о других ему еще никогда не приходилось хлопотать.
Король принимал у графини Ко́зель. Были Фюрстенберг, Фицтум и несколько других из его обычных ночных собутыльников. Госпожи Рейс, Фицтум и Юльхен составляли двор новой королевы.
После ужина Фрёлих начал показывать фокусы, над которыми смеялись. Он представил алхимика, который вместо золота увидел в своей реторте много сору.
Впрочем, это уже не рассмешило короля, напротив, лицо его сделалось даже пасмурно. Графиня Ко́зель слышала кое-что о Беттигере и поэтому обратилась к королю с вопросами о нем. Король неохотно признался ей в своей слабости к алхимии, хотя склонность эту разделяли самые ученые люди его времени.
— Фрёлиху, — шепнул ей король, — позволяется смеяться даже надо мной… и над этим великим делом… Тот, кто точно знает, как делать золото, до сих пор еще не открыл эту тайну… И однажды едва не ушел из наших рук. Однако, теперь он понял наконец, что должен быть послушным… Мы держим его под строгим надзором.
— Ваше величество, — сказал Фрёлих, расслышавший последние слова короля, — пока при этом мастере нет такого сильного человека, который мог бы каждую минуту схватить его за шиворот, такого богатыря, которого он должен бы был бояться, нельзя быть уверенным, что он не убежит. Лучшим стражем его были бы ваше величество… так как только вы одни обладаете силой Геркулеса… Но другого такого человека не было и нет на свете…
— Ошибаешься, Фрёлих — возразил Август, — был и есть. При моем же дворе есть человек, который мне равен по силе.
— Никогда не слышал о нем! — отозвался Фрёлих.
Таким образом Август припомнил Заклика, которого в последнее время упустил из виду.
Наутро он приказал сыскать его и представить ему.
Бедный Раймонд поспешил воспользоваться этим случаем, чтобы просить увольнения от придворной службы. Август отрицательно качнул головой.
— Нет, я тебя не уволю, — сказал он, — потому что теперь ты мне и нужен. Есть у меня сокровище, которое я хочу доверить твоей силе и чести… Отправляйся к госпоже Ко́зель, ты будешь состоять при ней, твой долг будет заботиться о ее безопасности, ходить и ездить за ней и вообще смотреть, чтобы с ее головы не упал ни один волос, хотя бы для этого пришлось тебе пожертвовать своей жизнью…
Заклик не верил своим ушам. Покраснев, он молча поклонился и вышел. Судьба помогла ему лучше Фрёлиха…
Ко́зель изумилась и вспыхнула, увидев Заклика среди своих придворных. Сначала это разгневало ее, но узнав, что он прислан королем, она смолчала.
В тот же вечер король объяснил, для чего послал ей Заклика. На устах прекрасной Ко́зель был уже готов рассказ о лаубегастских похождениях молодого человека, но она, однако, его не передала королю, и Заклик остался на своем новом месте.
_____
Несколько дней спустя Фрёлих, встретив Заклика, начал извиняться перед ним, что все еще не мог устроить дело об увольнении его от придворной службы.
— Ради Бога, господин Фрёлих! — воскликнул Заклик. — Нет, уже вы оставьте теперь ваши обо мне заботы!.. Я доволен теперь своим местом и не желаю его переменять.
IX
Кто же мог бы догадаться, что среди всех этих увеселений и интриг разыгрывалась драма, в которой на долю Августа II выпадала довольно жалкая роль? А между тем это были годы нашествия шведов на Польшу, годы побед Карла XII. После проигранных сражений саксонский король на своем расшатавшемся троне утешался любовными интрижками… Черные глаза графини Ко́зель (она тогда уже получила титул от Иосифа I) вознаграждали несчастного Августа за военные неудачи, и он сыпал золотом на постройку дворца для своей новой любовницы в то именно время, когда ему не на что было содержать столь нужное ему войско.
Среди безумств и пиров рушилось королевство… Развалины не могли, однако, согнуть геркулесовых плеч короля, не могли даже испортить настроение… Саксония истощалась на содержание Польши, в то время когда отпадения последней следовало ожидать с каждой минутой, когда оно было неизбежно.
Между битвами задавались балы и маскарады — возвращаясь в Дрезден, король искал в них забвения от потерь.
Под бальную музыку давались инструкции тайным послам, шпионам и всяким интриганам, тщетно старавшимся приискать Августу II политических союзников.
Огромная сила саксонского геркулеса проявлялась не в одном только закручивании железных полос или ломаньи подков, а более всего в том, что он мог противостоять сыпавшимся на него несчастьям, противостоять интригам, пирам, своим легкомысленным увлечениям и всему царившему вокруг него беспорядку… С поля битвы он возвращался к своей Ко́зель; от нее забегал в кабинет, где читал секретные депеши; вечер проводил на балу; ночь — в попойке. Чтобы при такой жизни, без минутного успокоения, не состариться преждевременно и телом и духом, требовались, без сомнения, исключительные силы, какими и обладал Август II.
С ясным, спокойным лицом показывался он удивленной толпе… Самые тяжелые неудачи не вызывали до сих пор на его лбу ни одной морщинки.
Царствование прекрасной графини Ко́зель, которое, как это предполагали многие, должно было быть непродолжительно, затянулось, однако, на долгие годы. Получив от короля письменное обещание жениться на ней, графиня считала или, может быть, только хотела считать себя хотя и за вторую, но все-таки жену короля Августа II. Этому соответствовало и ее поведение. Ни на одну минуту она не оставляла короля; являлась с ним всюду и всегда; готова была следовать за ним и в дорогу и на войну. Ее не останавливала никакая опасность.
Она хорошо узнала характер Августа и разгадала все нити придворных интриг. Со спокойным умом, с невозмутимой веселостью она развлекала и забавляла короля, управляла им, и с каждым днем власть ее все более усиливалась.
Скоро поняли все, что с Ко́зель теперь никакая вражда несвоевременна. Если легкомысленный король на минуту забывал о ней или, будучи в отдалении, остывал к ней, то Ко́зель умела ускорить свидание с ним и в несколько часов возвращала все свое прежнее влияние.
К счастью, красота ее казалась неувядаемой. Напрасно глаза завистливых женщин ревниво высматривали в ее лице какие-либо следы всеразрушающего времени: графиня Ко́зель точно была одарена вечной молодостью и даже чем далее, тем становилась прекраснее.
В следующем же году король приказал выстроить для нее дворец рядом со своим замком.
Это было в своем роде чудо зодческого искусства. Называли его «дворцом четырех времен года». Для каждого из этих времен были особые комнаты. Прохладные — на лето и теплые, веселые и солнечные — на зиму. Первые были отделаны мрамором, другие устланы коврами. Стены и мебель сияли позолотой, китайским лаком, шелком, кружевами и всем, что только было прекрасного и дорогого в то время в Европе.
Войско не получало жалованье, но дворец был чудесный!..
Двери его открылись блестящим балом, и графиня Ко́зель, вся осыпанная бриллиантами, с победным взором в чудных глазах, прекрасная, как богиня, протянула в знак признательности свою белую руку тому, кого называла уже мужем. Легкомысленный Август хотя и теперь продолжал позволять себе иногда некоторые грешки, однако, в Ко́зель был влюблен, как ни в кого прежде. И она того стоила, она была полна очарования, и все иностранцы, видевшие графиню Ко́зель на высоте ее счастья и величия, говорили о ней с величайшим восхищением.
С невероятным искусством она распространяла свою власть, находила друзей, завязывала отношения; но, конечно, при всем этом не могла избавиться от неприязни, зависти и опасения тех, которые страшились ее возникающего могущества. Но час враждебных действий против той, которая была возведена к трону на место боязливой, спокойной и кроткой княгини Тешен, еще не пробил…
Каждый день был для графини Ко́зель новым триумфом. Напрасно духовенство, огорченное явной привязанностью к ней короля, следуя также тайным подстрекательствам некоторых из придворных, гремело со своих кафедр против «обольстительной Вирсавии». Случилось даже, что Гербер, знаменитый проповедник того времени, так прозрачно обрисовал графиню Ко́зель, что в церкви поднялся шепот, в котором ясно слышалось ее имя.
Целый тот день в городе только и говорили о Ко́зель-Вирсавии. Вечером донесли об этом любовнице короля. Август, пришедший к ней веселый, застал ее в слезах.
— Что с тобой, мое несравненное божество? — воскликнул он, схватив ее руку.
— Прошу о справедливости, государь! — начала она. — Ты говоришь, что любишь меня… Если бы это было так… если бы на самом деле принадлежало мне твое сердце… ты бы защищал меня, несчастную… Меня публично поносят.
— Но что же случилось? — спросил обеспокоенный король.
— Требую наказания Герберу!.. Надо в его лице дать пример для дерзких, которые не умеют уважать твои сердечные чувства!
Она опустилась перед королем на колени.
— Гербер в своей проповеди выставил меня Вирсавией!
Король усмехнулся.
— Но я не такая… и не хочу быть такой… Я законная жена тебе… Мой государь!.. Накажи Гербера!.. Покажи пример… — умоляла, обнимая короля, Анна.
Однако, на этот раз Август не принял к сердцу обиды графини Ко́зель.
— У священника, — отвечал он, — только один час в неделе, когда он может говорить все, что ему вздумается. Против этого я решительно ничего не могу сделать… Вот если бы он шепнул хотя бы одно лишь словечко, сойдя с амвона, другое дело… Тогда он получил бы, что следует. Но там, где его защищает алтарь, я ничего не могу сделать.
Гербер остался без наказания, но зато и история о Вирсавии более уже не повторялась.
_____
Любовь короля Августа II к графине Ко́зель выросла одновременно со страшными боевыми поражениями, которыми отмечены в истории Саксонии эти годы… Дикий Карл XII, с коротко остриженными волосами, в огромных, выше колен, сапогах, не знавший сострадания солдат, по каким-то несправедливостям судеб утеснял прекрасного короля, щеголявшего в бархате и кружевах и выезжавшего гарцевать против него в отделанных золотом военных доспехах…
Рассказывали о баснословных делах шведского героя. Август слушал и молчал. Саксонцы, насильно согнанные в полки, давали себя бить и разбегались. В Польше, минуя Флеммингов, Пшебендовских и Дембских, тоже слабело очарование великолепнейшим из европейских монархов, который с замкнутыми устами помышлял только о том, как бы унести целыми из опасной игры свои собственные кости.
Прежняя любовница Августа II графиня Кенигсмарк была отправлена к шведскому королю с секретным поручением, но Карл XII не захотел даже говорить ни с ней, ни с кем-либо другим… Счастье с каждым днем все более оставляло Августа II. Беттигер золота не вываривал; Гойм затруднялся доставать его; а между тем для графини требовались миллионы… Народ, не желая идти на войну, уходил в горы. Герберы с амвонов кричали о грабеже и насилии… Наконец дворянство, самое покорное на всем белом свете, тоже не желало, однако, позволять драть с себя шкуру.
Часто бедный король приходил в самое худое расположение духа… Но это продолжалось недолго. Ко́зель ему улыбалась, и он был утешен… По вечерам обыкновенно четыре части света танцевали кадриль во «дворце четырех времен года»: Август с графиней Ко́зель представляли в этой кадрили Азию…
Прежние приятельницы графини скоро стали ей подозрительны, а затем и ненавистны. Графини Рейс, Юльхен и даже ловкая Фицтум получили отставки. Ко́зель не хотела союзниц, она не нуждалась в них. Она считала себя достаточно сильной, могущественнее всех.
Двор представлял собою что-то суматошное: все интриговали, ссорились, рыли друг другу ямы. Только один Фицтум продолжал пользоваться милостивым расположением государя и государыни. Он не занимался политикой, не добивался никаких высоких назначений и любил короля, как брата.
_____
Судьба, перемены которой ожидали ежеминутно, надеясь, что она должна была наконец утомиться в преследовании великолепнейшего из монархов, не менялась и не давала ему ни минуты отдыха… Швед разбивал войска Августа и грозил уже сбросить самого его с престола; Август, как мог, оборонялся и в то же время забавлялся, и как ни в чем не бывало, заводил то тут, то там маленькие интрижки.
Но вот вдруг все охоты, пирушки, маскарады, балы и театры разом оборвала ужасная весть о быстром приближении шведов к самой Саксонии. Карл XII гнал неприятеля в самое гнездо его… Поднялась страшная тревога.
После поражения при Фроденштадте в Саксонии появились бродячие толпы рассыпавшихся беглецов; их хватали, вешали и расстреливали за неисполнение воинского долга. Всюду царила полная неурядица. 1 сентября шведы показались в самой Саксонии. Август издал повеление своим подданным укрыться со всем их достоянием в горах, но это было уже поздно: Карл XII во главе двадцатитысячного войска вторгся в страну и шел вперед, обещая всем безопасность жизни и имущества. Обороняться не было никакой возможности, шведы разлились по всему краю…
Остатки разбитых войск Августа II, горсть саксонцев уходили все далее к Вюрцбургу. Дрезден, где начальствовал Синцендорф, и крепости Кенигштейн и Зонненштейн, имевшие еще саксонские гарнизоны, надеялись удержаться, но и эта надежда представляла мало ручательства.
Вместе с Карлом XII прибыл и новый король Польши — Станислав Лещинский.
Из Дрездена бежало почти все его население… Королева уехала на свою родину; ее мать вместе с внуком — в Магдебург, а оттуда в Данию. Из Липска, нынешнего Лейпцига, страх грабежа выгнал также почти все население, но благодаря ручательствам Карла XII, ярмарка, однако, кое-как состоялась.
Карл созвал в Липске саксонский сеймик, чтобы вытребовать через него контрибуцию. Дворянство, желая избавиться от этого налога, представило шведскому королю, что оно, исключая обязанности выезжать на коне, во время войны никаких других повинностей не знавало.
— Прекрасно! — отвечал Карл. — Но где же вы сидели на своих рыцарских конях? Я вас не видел в поле. Если бы вы как дворянство исполняли свою обязанность встречать опасности на коне, то ведь меня теперь здесь не было бы. Нет, я кое-что знаю, когда на дворе шли балы да пиры, все вы, господа дворяне, были там… А когда явилась необходимость защищать родину, вы сели по домам. Это, господа, худо, и за то я с вас именно и требую контрибуцию. Я хочу, чтобы другие были от нее свободны, и надеюсь, что вы, благородное дворянство, позаботитесь, чтобы это было так, как я хочу, по указанию справедливости.
Альтранштадтский трактат об отречении Августа от польской короны в пользу Станислава Лещинского был подписан в 1706 году; а между тем в Польше еще продолжалась война: Август II отказывался признать то, что сам подписал… Он объяснял, что посланные для заключения мирного договора Имгоф и Пфлуген превысили данные им полномочия… Чтобы все это имело вид правды, король Август II засадил своих послов в тюрьму. Но все это уже не помогало, и Август ради сохранения остатков своего земного величия все-таки должен был подписать трактат. После он опять отрекался от него, но Это уже вызвало к нему только справедливое презрение всего света… Падение его было самое глубокое; особенно низко роняла его выдача Паткуля. Август и сам чувствовал и сознавал, что ему трудно подняться.
Шведы, несмотря на обещание оставить Саксонию тотчас по заключении мира, оставались там еще целый год. Карл XII как торжествующий победитель принимал здесь послов от всех немецких государей и короля английского. Август, разбитый в Польше, выиграв сражение под Калишем, немного оживился надеждой и снова призывал под свои знамена дворянство; но скоро, однако, принужден был оставить Варшаву и Краков и вернуться в Саксонию…
Во все время этих военных неудач Августа графиня Ко́зель сопровождала короля повсюду и была с ним на войне; она испытывала все неудобства походной и боевой жизни и прежде его возвратилась в смущенный и недовольный Дрезден. Такова была воля короля. Ко́зель даже хотела лично сражаться и умоляла позволить ей стать в ряды в мужском платье, но Август отклонил это, ответив, что из двух лучших его драгоценностей, короны и Ко́зель, он желает сохранить и видеть в безопасности хотя бы одну.
Заклику, ни на шаг не отстававшему от своей повелительницы, король поручил отвезти ее в Дрезден, что и было исполнено совершенно благополучно. Графиня возвратилась в столицу весьма расстроенная, что, однако, не помешало ей тотчас по приезде в Дрезден захватить всю власть в свои руки: она вдруг стала распоряжаться всем, как настоящая королева. Все это, разумеется, не нравилось ни Фюрстенбергу, который оставался здесь наместником, ни всем другим, кому король вверил какую-либо часть государственного управления; но делать было нечего, и слабые государственные люди не перечили смелой фаворитке, а только втайне увеличивали собою число ее врагов.
Среди всех войн и сопровождавших их тяжелых неудач Август нимало не изменился: он терял королевства, но покорял сердца, и это ему еще не наскучило.
Сильная страсть к Ко́зель жила еще в сердце короля, но однако, как только он отдалялся от графини, старые привычки брали свое: злосчастный, униженный и побежденный, он теперь более чем когда-нибудь нуждался в забавах… А придворные, которым Ко́зель была страшна, всячески старались способствовать всему, что могло охладить к ней Августа. Анне доносили об этом, но она, слишком полагаясь на свое обещание, всем этим пренебрегала. Узел, который связывал ее с королем, окреп еще появлением на свет двух дочерей… Гордая Анна была убеждена, что другой, ей подобной, Август никогда не найдет.
А между тем, во время пребывания ее в Варшаве, сердце недаром говорило ей, что она была обманута… Король украдкой от нее завязал отношения с дочерью одной француженки-купчихи, лавку которой часто посещали офицеры. Узнав об этом, Анна грозила Августу пустить ему из пистолета пулю в лоб, но король над этим только посмеялся и, целуя ее ручки, скоро сумел ее успокоить.
По возвращении своем в Дрезден графиня Ко́зель, неспокойная за короля, находила утешение в кругу своих обожателей, которых у нее никогда не убывало, хотя она ни одного из них не удостаивала особым вниманием.
Подписав, при громе орудий, мирный договор, или лучше сказать, позор свой, Август II возвратился в столицу и, как вышел из экипажа на дворцовой площади, прямо отправился к графине Ко́зель.
У дверей ее апартаментов король застал верного Заклика, — опираясь на ручки кресла, молодой человек сидел, погруженный в глубокую задумчивость. Увидев короля, Заклик сорвался с места и заступил ему дорогу.
— Ваше величество, графиня больна… Доктор с минуты на минуту ожидает… появления на свет…
Слегка оттолкнув его, король прошел в комнаты графини. Здесь царила глубокая тишина… У самых дверей Август услышал детский крик.
Анна, бледная, как мрамор, измученная страданиями, от слабости не в силах вымолвить слова, протянула руку, указывая на дитя, которое держала тут же старушка. Король взял ребенка… назвал его своим и поцеловал… Потом он подошел к кровати больной, сел и закрыл лицо руками…
— Анна, — заговорил он, — дела так изменились, что свет отвернулся от меня и меня презирает… И ты перестанешь любить меня… Счастье меня совсем оставило… Я ограблен, разбит и лишен всего…
— Мой милый Август, — отозвалась тихо Анна, — мой бедный, несчастный Август! Будь покоен… Если бы на тебя даже надели кандалы, то я и тогда все-таки буду любить тебя… Даже, может быть, еще более…
— Ах, я так нуждаюсь в этом утешении! — с грустью говорил король. — Неприятель и здесь теснит меня… Этому ничтожному моему победителю поклоняется весь свет. Право, я самый несчастный из монархов!..
В таких жалобах прошел первый час пребывания короля в Дрездене. Больная требовала спокойствия; а королю не могли дать его сбегавшиеся со всех сторон военные начальники и чиновники. В коридорах, которые вели из замка во дворец, Август застал Флемминга, наместника Фюрстенберга, Пфлуга, Гойма и целую толпу других придворных. Все, пораженные ниспавшими на Саксонию несчастиями, искали в лице короля какого-либо знака глубокой печали, тяжелых внутренних страданий… Но он казался лишь несколько утомленным…
15 декабря 1706 года Август вернулся в Дрезден, а день спустя уже выехал верхом в сопровождении Пфлуга и одного слуги в Липск. Затем, еще день спустя, он сам отправился к Карлу XII, уверенный, что, благодаря своей собственной великолепной и величественной наружности, он выговорит у победителя наилучшие условия мира.
Карл XII, узнав, что к нему едет саксонский король, пожелал быть любезным и выехал навстречу, но в дороге два короля разъехались. Август, прибыв в Гюнтердорф, где находился граф Пипер, узнал, что в Альманштадте, в расстоянии получаса езды, шведского короля нет.
Военный стан и двор сурового, остриженного Карла XII не могли не показаться странными щеголеватому Августу II.
Монархи встретились на лестнице. Вероятно, никогда два столь противоположных характера не отражались с такой ясностью в их внешнем виде. Карл XII выглядел пуританином, саксонец — придворным Людовика XIV.
Заклятые враги приветствовали друг друга весьма любезно. У порога дверей они церемонно заспорили, кому войти первому: оба долго кланялись, и Карл XII все-таки пропустил побежденного вперед. Тут начались самые трогательные поцелуи и пожатия рук, а затем последовал разговор, продолжавшийся около часа. Никто не слышал его, но Август вышел бледный и нравственно истерзанный.
День, проведенный им у Карла XII, был одним из тяжелых дней его жизни.
Утром молчаливый Август возвратился в Липск, где вскоре, как этого требовал этикет, Карл XII отдал ему визит. Но все это закончилось ничем: в условиях мирного договора не произошло никаких изменений.
Наступающий новый год тяжело начался для Августа II. Его мучило присутствие шведов в Саксонии. Он хотел избавиться от них хотя бы ценою огромных жертв.
Между Альманштадтом, Морицбургом и Липском в хлопотах о подписании трактата Август пережил дни страшного унижения.
Саксонский король в богато вышитом золотом платье, в тщательно завитом парике, осыпанный драгоценностями, а рядом Карл XII, с коротко остриженной головой, в синем суконном мундире со стальными пуговицами, в сапогах выше колен и в лосиных штанах, — представляли назидательное зрелище… Встречаясь, они обменивались взаимными любезностями, но Карл XII не допускал разговора о политике, о делах, — о них ведали у него Пипер и Цедергольм. Между прочим, Карл XII уверял саксонского короля, что он уже лет шесть не снимал своих длинных сапог, все времени не хватало… Август усмехался.
Карл XII ни разу не принял приглашения к обеду в Липск. Что касается Августа, то хотя ему не приходилась по вкусу спартанская похлебка шведа, однако, он обедал у Карла. За столом шведа никто не произносил ни слова: ели в полном молчании.
По подписании трактата короли несколько месяцев не виделись. Карл XII все еще не думал оставлять Саксонию. Чтобы забыть свои беды, Август охотился, предавался обаянию любви и путался в придворных интригах.
Его двор по-прежнему был блестящий. Карл XII неустанно производил своим войскам смотры — Август II задавал балы. Его спокойствие и роскошные сны отравлял только Фюрстенберг, тогдашний наместник его в Дрездене.
Об этом последнем, сделавшемся врагом Анны Ко́зель, следует сказать несколько слов. При дворе Августа II, состоявшем более всего из иностранцев или немцев из разных соседних государств, что имело целью устранить влияние саксонского дворянства, Фюрстенберг действительно выделялся довольно резко. Прибыл он из Австрии. Ревностный католик, он не отличался ни великим характером, ни особенными способностями, но был смел и весел. Он обладал громким голосом, остроумием и даром рассказывать королю самые неприличные истории. Фюрстенберг разыгрывал роль магната и аристократа, а более всего был занят скрытой борьбой со своими врагами и плетением все новых и новых интриг. Верный графине Рейс, он был ее орудием. И таким образом князь, предназначенный к тому, чтобы угнетать саксонское дворянство, сам того не заметив, попал в полное распоряжение последнего.
Сменив княгиню Тешен, Ко́зель весьма скоро освободилась от всяких пут госпожи Фицтум и Рейс, вместе с кружком последней. Она находила, что не может особенно нуждаться в них, и не захотела им служить. Охлаждение и прекращение отношений было сигналом для начала войны.
В отсутствие Августа шпионили за каждым шагом Анны; передавалось каждое ее слово и пересуживалось каждое ее распоряжение — для того, чтобы позднее восстановить против нее короля. Но час нападения еще не настал, и возвращение Августа в Дрезден было полным торжеством для графини Ко́зель.
_____
Однажды утром король сидел у графини. Она не встала еще с постели и требовала, чтобы Август находился постоянно около нее. Доложили, что из Варшавы получены важные депеши, там Август имел еще приверженцев. Король хотел было выйти, но графиня пожелала, чтобы пришедший с депешами министр Бозе был принят в ее спальне. В этом не было ничего необыкновенного; деспотическим желаниям графини, которые она высказывала всегда весьма горячо и неожиданно, король уступал.
Явился Бозе.
Из трех сановников того же имени, служивших при дворе Августа, Бозе, вошедший теперь в спальню графини, был старший и, как говорили, «умнейший из Бозе».
Сначала он засвидетельствовал свое глубокое почтение его величеству, изогнувшись при этом настолько, что Август мог обозревать один его парик, который, к слову, не принадлежал к числу самых красивых. Таким же поклоном приветствовал он прекрасную больную. Окутанная пуховыми и кружевными покрывалами, Анна походила на белую розу на снегу.
В руках у Бозе были бумаги.
— Весьма нужные, из Варшавы! — тихонько шепнул он королю.
Август отошел с ним к окну. Ко́зель не спускала с них глаз. Она пытливо смотрела в лицо короля, стараясь прочитать на нем, что заключалось в бумагах… Двумя тонкими, костлявыми пальцами, выглядывавшими из накрахмаленных манжет, почтительно подавал Бозе королю конверт за конвертом. Сначала все шло как следует: это были солидные, объемистые пакеты с большими печатями; но вот Бозе, шепнув что-то королю, подал ему небольшой конвертик, вскрыв который, Август усмехнулся и, покраснев, невольно покосился на Ко́зель.
Анна это заметила и, приподнявшись, села на кровати.
— Что это за письмо? — спросила она.
— Это письмо?.. Так себе, простое письмо о делах в крае, — отвечал Август.
— Покажите мне это письмо!
— Это совершенно лишнее, милая Анна, — отозвался король, продолжая читать.
Лицо Ко́зель вспыхнуло, и она, забыв о присутствии почтенного старичка Бозе, в одной рубашке соскочила с кровати и вырвала письмо из рук Августа.
Бозе только отскочил и зажмурился.
Король смешался и взглянул на Бозе, который стоял, точно он ничего не видит и не разумеет, между тем как графиня Ко́зель, прочитав письмо, в ужасном гневе разорвала его на мелкие клочки. Письмо было от Генриетты Дюваль, с которой Август, обманывая Ко́зель, завел в Варшаве связишку. Письмо это заключало в себе уведомление о рождении Генриеттой дочери, впоследствии знаменитой графини Оржельской. Бедная мать спрашивала своего обожателя, что ей делать с этим ребенком.
— Пускай бросит ее в воду! Пускай утопит ее! — крикнула Ко́зель. — Так же, как я утопила бы ее саму, если бы только могла.
Король засмеялся. Анна начала плакать… Бозе понял, что пришел совсем не вовремя, с низкими поклонами отступил к дверям.
— Анна! Ради Бога, успокойся! — просил король, подходя к кровати.
— Как!.. Ты, кому я отдала все… посвятила всю жизнь… которому я жена… да, жена… кого я так люблю… смеешь изменять мне… обманывать?..
Это был не первый взрыв ревности Анны, он повторялся после каждого волокитства Августа, и Ко́зель не давала ему покоя, пока король не выпрашивал у ног ее прощения, обещая исправиться.
На этот раз умиротворить графиню Ко́зель было трудно. Напрасно целовал Август ее ручки.
— Но чего же наконец ты хочешь от меня? — воскликнул он.
— Если ты хоть одним словом ответишь этой негодной, если дашь ей хоть малейший знак внимания, — крикнула Ко́зель с возрастающим гневом, — то, клянусь тебе, я немедленно возьму почтовых лошадей, поеду в Варшаву и убью… и мать и дочь…
Король должен был обещать честным словом, что не будет отвечать Дюваль, забудет о ней и предоставит эту жертву его легкомысленных склонностей ее собственной судьбе.
Так окончилась эта сцена, о которой Бозе никому не упомянул ни словом, потому что никто более его не боялся прогневить всемогущую «государыню». Его политика заключалась в том, чтобы продвигаться вперед тихо и такими дорогами, где никто не мог ни выследить, ни подстеречь его. Многие считали его за простодушного старичка, потому что он говорил мало и показывал, что ничего не знает.
X
Об утренней сцене, вероятно, никто бы не узнал, если бы этого не рассказал сам король. Он сам, сидя вечером в небольшой компании, собравшейся у него в малой придворной столовой «запивать шведа», после нескольких бокалов сказал, шутя, Фюрстенбергу:
— Ужасно жаль, что сегодня утром не ты вместо старого Бозе пришел с бумагами из Польши! Уж надеюсь, ты бы помирился с Ко́зель, если б увидел ее в том наряде, в каком она представлялась сегодня старику.
— Что ж это было? — спросил Фюрстенберг. — Ведь графиня не встает еще с кровати?
— Вот потому-то она и соскочила с нее как лежала, в одной рубашке, и устроила мне страшную сцену за бедную Генриетту. Я думаю, на свете нет женщины ревнивее. Право, я не удивлюсь, если она когда-нибудь в припадке ревности исполнит свою угрозу застрелить меня. Она не расстается с пистолетом.
Фюрстенберг потихоньку обвел глазами всех присутствовавших и, удостоверясь, что между ними нет ни одного из тайных друзей Ко́зель, а напротив, все ее недруги, отвечал:
— Что графиня так ревнует ваше величество, это, конечно, никого не удивляет, но мне кажется, при этом графиня Ко́зель и сама должна бы, по крайней мере, не давать повода ни к каким подозрениям и ревности.
Король медленно поднял голову и, сдвинув брови, холодно произнес:
— Мой любезный Фюрстенберг, кто говорит что-нибудь подобное, тот, конечно, должен заранее хорошенько взвесить свои слова и пораздумать о последствиях… Ты, конечно, сам понимаешь, что на том, что тобой сейчас сказано, останавливаться нельзя. Прошу тебя объяснить мне, как должно понимать твои намеки?
Князь снова оглянул собеседников и отвечал:
— Это в порядке вещей, государь: уж если у меня вырвалось это слово, то я не могу оставить недомолвки… Впрочем, ведь не я один, а все мы здесь смотрели на поведение графини в отсутствие вашего величества. Спросите кого угодно о том, как веселилась здесь графиня… Дворец ее всегда был полон гостей, между которыми было множество обожателей, из которых не у всех было равное счастье. Старший граф Лехерен, например, пользовался, конечно, некоторой особенной благосклонностью графини: он почти никогда не оставлял ее и частенько уходил от нее около полуночи, иногда вместе со своим братом, а иногда и совсем один.
Эти два графа Лехерен несколько месяцев назад приехали в Дрезден искать счастья при саксонском дворе. Старший был очень красив собой, с чисто королевской осанкой, человек недюжинного ума и образования. Младший, мало в чем уступавший своему брату, был мальтийский кавалер и предназначал себя к духовному сану. Двор уже видел в них опасных карьеристов, так как король весьма охотно окружал себя иностранцами, и поэтому Фюрстенберг захотел сделать их подозрительными в глазах короля, чтобы этим сразу повредить и Ко́зель и выжить из Дрездена старшего Лехерена, выдающиеся способности которого могли открыть ему дорогу.
Август выслушал все это совершенно равнодушно, но и Фюрстенберг и все присутствовавшие, зная, как король умел не выдавать своих впечатлений, все-таки видели, что пущенная Фюрстенбергом стрела попала в цель и нанесла рану.
— Все ты это вздор говоришь! — проговорил Август. — Это тебе просто-напросто диктует твоя злоба к Ко́зель. Ты знаешь, что она тебя не жалует, так вот и ты ей платишь тем же. Что же такого, что она принимала гостей? Неужто, по-твоему, она должна была без меня мучить себя тоской в четырех стенах? Ей было нужно развлечение, а Лехерен приятен и остроумен, вот и все.
— Государь! — возразил простодушно наместник. — Во всяком случае, то, что я сболтнул, сорвалось у меня совершенно невольно. Я ведь не донос делаю… Я пользуюсь милостивым расположением вашего королевского величества, и благосклонность графини для меня уже менее драгоценна; но как преданный ваш слуга я, конечно, скорблю, видя с вашей стороны такую преданность и сильную любовь, а с другой — такую неблагодарность.
Август нахмурился и, не тронув стоявшего перед ним бокала, встал с места.
По впечатлению, произведенному всем этим на короля, Фюрстенберг понял, что его затея проиграна.
Когда Август желал избавиться от какой-нибудь из своих фавориток, он бывал рад предлогу приревновать и даже сам подсылал к ним своих придворных, чтобы спровоцировать и обвинить в неверности, но сейчас его волнение показывало, что к Анне Ко́зель он еще неравнодушен.
В этот же день графиня совсем встала на ноги.
Не желая более продолжать вечерний пир, Август кивком головы распрощался со своими гостями и вышел в кабинет.
Фюрстенберг и придворные расстались с королем в изрядной тревоге за то, как все это разыграется.
Случилось, однако, что весь этот застольный разговор был подслушан самым преданным Анне Ко́зель человеком, именно Закликом, которого графиня послала к королю с запиской. Не смея прерывать пирушку, Заклик, имевший свободный к королю доступ, выжидал за большим буфетом удобной минуты, когда ему можно будет передать королю конвертик. Тут он и услышал, что Фюрстенберг рассказывал о Лехерене.
Опасность, угрожавшая Анне, придала Заклику находчивости и смелости. Он решил, что ему теперь отнюдь не должно показываться его величеству, и потому, не отдавая ему записку, осторожно выбрался из столовой и, побежав назад, домой, постучался в спальню графини.
Ко́зель хорошо знала преданность Заклика. Поэтому, когда он вошел к ней с бледным лицом, она тотчас же поняла, что случилось что-то необыкновенное, и, вскочив с места, воскликнула:
— Что такое? Говори скорее, что случилось с королем?
— С королем ничего не случилось, — отвечал Заклик, — и я, быть может, виноват, что позволил себе вернуться… Но то, чему я был свидетелем, то, что я слышал… мне кажется, я должен был все это сейчас же сказать вам…
И вслед за тем он торопливо, дрожащим голосом передал Анне, слово в слово, весь разговор Фюрстенберга с королем. Графиня Ко́зель выслушала его с пылающим лицом; это ее оскорбило и взволновало. Она взяла из рук Заклика свою записку и отослала его. Сама не зная для чего, она оставила спальню; Анна прошла в огромную залу. Хотя в тот вечер не было никакого приема, однако, зала была освещена, как обычно. Стены ее были увешаны портретами Августа II и картинами, представлявшими разные сцены из его жизни. На одной из них была представлена его коронация.
Графиня Ко́зель остановилась на минуту перед этой картиной, как вдруг до ее слуха долетели знакомые шаги. Это шел Август. Он был, очевидно, очень взволнован и, увидев графиню, заговорил с иронией:
— Вот чего я никак не ожидал: графиня Анна Ко́зель смотрит на мое изображение!
— Что же тут удивительного, государь? — ответила спокойно графиня. — Мне кажется, гораздо удивительнее было бы, если бы Анна Ко́зель смотрела на чье-нибудь иное изображение.
— Да, да, — перебил ее дрожащим, нервным голосом король, — до сих пор я этому верил! Я думал… я полагал… Но наружность бывает обманчива, а причуды женщин непонятны…
Голос короля и очевидный гнев его обрадовали Анну. Она видела, что им овладела ревность, доказывавшая, что в его сердце жила любовь к ней. Однако, графиня прикинулась оскорбленной.
— Я не понимаю вас, государь! — с достоинством сказала она. — Что значат эти темные слова? Не думаю, чтобы я могла дать какой-нибудь повод к ним! Не будете ли вы милостивы говорить яснее? Тогда я, по крайней мере, буду знать, в чем мне оправдываться или чем доказывать свою невинность.
— Оправдываться? Доказывать свою невинность? — резко прервал король. — Нет, есть дела, в которых нет оправдания! Вот такие-то дела вы и надеялись от меня скрыть?! А между тем я имею доказательства…
— Доказательства?! Против меня?! Что такое? Во сне или наяву я это слышу? Мой Август, будь добр, рассей эти грезы! Говори скорее, давай сюда твои доказательства!
И с этим она подошла к нему и обняла его шею. Август хотел отстранить ее, но она в это время зарыдала. Это произвело свое действие, и Август начал смягчаться. Анна усадила его рядом с собой и заворковала:
— Мой Август, объясни же, что тебя так рассердило? Что вызвало твой гнев и подозрения? Ты видишь, что со мною делается… Я с ума схожу!.. Скажи мне!.. Открой!.. Или я стану думать, что ты вовсе уже не любишь меня, а ищешь только предлога, чтобы избавиться от меня!
— Хорошо, — сказал Август, — если ты непременно все хочешь знать, изволь, я скажу тебе все… Я сейчас из замка, где разговаривал с Фюрстенбергом…
— А! С Фюрстенбергом!.. В таком случае, я ничему не удивляюсь, это мой враг!
— Да, но Фюрстенберг сказал мне, что весь город знает о ваших отношениях с Лехереном.
— С Лехереном! — воскликнула, смеясь, Ко́зель.
— Да, да, именно с Лехереном! Говорят, что он даже не давал себе труда скрывать свое чувство к вам! Говорят, что в мое отсутствие вы принимали своего возлюбленного каждый день и что он просиживал у вас целые вечера! Даже некоторые видели, как он…
Лицо Ко́зель приняло холодное, гордое выражение оскорбленной женщины.
— Довольно! — сказала она. — Довольно! Все это правда, Лехерен действительно влюблен в меня, но я смеялась над этим и смеюсь. Он забавлял меня и только… Слушая его, я потешалась над ним… Не думаю, чтоб это была очень большая вина. Или ваше величество полагаете, что достаточно полюбить меня, чтобы быть любимым мною?.. Но, впрочем, все это вздор, а вот что ужасно, — продолжала она, заплакав. — Ужасно, что Фюрстенбергу довольно было бросить в меня одно злое слово, и оно уничтожило в вас всякое ко мне доверие!
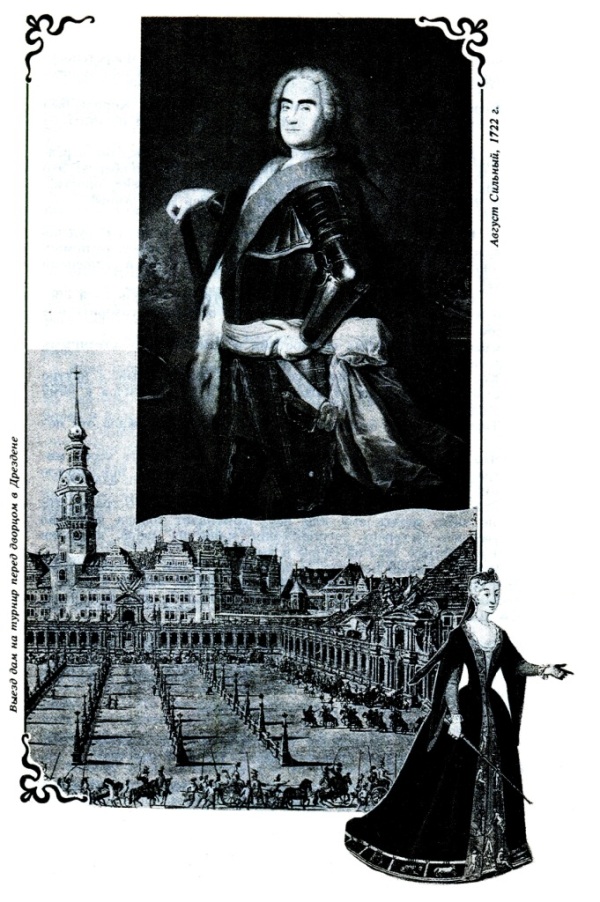
Выезд дам на турнир перед дворцом в Дрездене
Август Сильный, 1722 г.
Ко́зель упала на софу и закрыла глаза руками. Король был уже укрощен. Он стал перед ней на колени и начал целовать ее руки.
— Анна, прости меня! — воскликнул он. — Не был бы я ревнив, если бы не любил тебя! Знаю я этого Фюрстенберга! Это правда, что он ядовитейшая змея. Но прости же меня, прости!.. Я не хотел, чтобы даже подозрения касались моей Анны!
Но графиня все-таки не переставала плакать.
— Король, — говорила она, всхлипывая, — если ты будешь потворствовать клеветникам… и приближать их к трону, то помни, что они не кончат мною… Язык их не пощадит и твоей священной особы!
— Будь спокойна, будь спокойна! — отвечал король. — Я обещаю тебе, что с этих пор никто более не осмелится говорить мне о тебе.
Сцена эта кончилась нежностями и самыми торжественными уверениями в любви с обеих сторон.
Король вернулся в замок совершенно успокоенный, а наутро заметно отворачивался от Фюрстенберга и не обратился к нему ни с одним словом.
Таким образом, благодаря Заклику, Ко́зель одержала эту победу.
Что же касается графа Лехерена, то ему Август через министра своего двора приказал немедленно оставить придворную службу и выехать из Дрездена.
Это распоряжение настолько ошеломило молодого графа, что он не знал, верить ему или нет. Комендант города приказал подтвердить Лехерену распоряжение министра двора, назначив двадцать четыре часа на сборы и выезд.
Встревоженный Лехерен, не зная ничего о том, что произошло, поспешил во дворец к графине Ко́зель. Заклик явился к Анне с докладом о графе. Ее это несколько смутило, и она, покраснев, отвечала Заклику:
— Передайте графу, что я не могу принимать тех, кому запрещено показываться королю. — И затем, понизив голос, добавила: — Скажите тоже, впрочем, что я сердечно сожалею о его отъезде и…
Она сняла с пальца перстень, который незадолго перед тем подарил ей король:
— Отдайте графу от меня этот перстень!
Заклик побледнел.
— Графиня! — осмелился он отозваться сдержанным голосом. — Соблаговолите простить меня!.. Но этот перстень от короля…
Ко́зель, не терпевшая никаких противоречий, повернулась к нему с гневным лицом и, топнув ногой, сказала:
— Без замечаний! Делайте, что вам приказано!
Заклик вышел, но тотчас за дверями остановился и что-то соображал… Незадолго перед этим при саксонском дворе гостил богатый чешский граф и подарил Заклику дорогой перстень. Этот подарок был как нельзя больше похож на тот перстень, который Заклик теперь нес от Ко́зель графу Лехерену. Особенное предчувствие, что из-за этого перстня может выйти история, подсказало Заклику мысль подменить перстень, отдать свой и сберечь подарок Ко́зель, на всякий случай, себе. Он так и сделал: свой перстень отдал Лехерену, а перстень Ко́зель спрятал у сердца.
_____
После этого прошло четыре дня, и на пятый король вздумал посетить графиню: он вошел к Ко́зель в ее будуар, когда она одевалась, и, ревниво оглядев ее руки, сразу заметил, что на них не достает перстня, с которым Анна до сих пор обычно никогда не расставалась.
— Где мой перстень с изумрудом? — спросил запальчиво король.
Анна с большим присутствием духа, начала беспокойно искать кольцо в своем рабочем столике, на паркете и по всей комнате, но перстня, разумеется, не было. Между тем лицо короля все более и более покрывалось краской.
— Однако, что же это значит?
— Что такое?
— Куда мог деться этот изумруд?
Ко́зель пожала плечами и обратилась к служанке, но та отвечала, что она уже четыре дня не видит этого кольца на руке графини.
— Четыре дня!.. Как раз четыре!..
Август рассчитал, что это точно совпадало с отъездом графа Лехерена, а о том, что изгнанный красавец приходил прощаться с Ко́зель, Август, конечно, отлично знал.
— Гм!.. Да… так его уже четыре дня нет! Ну так и не ищите его более напрасно! — сказал насмешливо король. — Я, может быть, мог бы вам и сказать где он, но… не нужно!
Ко́зель немного смешалась, король рассердился. Графиня готова была упасть в обморок, как вдруг кто-то постучался в двери, и прежде чем Анна обернулась, на пороге показался Заклик.
— Прошу милостиво простить мне, что я прихожу сюда! — начал он. — Но мне сказали, что ваше сиятельство изволите искать ваш перстень. Вот он! Час тому назад я нашел его возле вашего рабочего столика и ждал удобной минуты, чтобы подать вам.
— Подай! — воскликнул король и взял перстень.
Ко́зель даже не взглянула и не уронила ни одного слова, но когда Август передал ей перстень, она молча надела его на палец и, взглянув негодующим взглядом на короля, вышла в другую комнату.
Для успокоения Августа ничего другого не требовалось, теперь он готов был умолять графиню о прощении и, получив его не без некоторого труда, провел потом весь день безвыходно у своей возлюбленной.
Случай этот укрепил доверие Августа к Анне и усилил ее власть над ним. Враги должны были притихнуть.
После полуночи король прошел переходами в свой кабинет для совещания с ожидавшими его там министрами. Карл XII тяготил своим присутствием несчастных саксонцев и не скрывал своего неуважения к Августу. Молодой завоеватель, которому было тогда всего с небольшим двадцать лет, представлялся всем чем-то вроде Аттилы, святотатственно посягающего на просвещенную жизнь культурного края.
Между тем, чуть король удалился заниматься делами, сияющий на пальце у графини изумруд напомнил ей о Заклике.
Она позвонила и велела явившемуся на зов карлику тотчас же позвать к ней Заклика.
Раймонд явился; он знал, что дело не обойдется без бури, и не только был взволнован, но даже дрожал.
Графиня нетерпеливо ходила по комнате и при появлении Заклика нахмурила брови и грозно спросила:
— Кто вам позволил изменять мои приказания? Что это за дерзость?
Заклик едва смел поднять глаза и, стоя с опущенной головой, отвечал:
— Я виноват, графиня, но… я хотел сберечь вас…
— Я не нуждаюсь ни в чьей опеке!.. Я в своих слугах желаю видеть одно послушание и ничего более: их ума мне не надо… А их чувства, какие бы они ни были, я презираю.
Заклик стоял молча.
— Что же, — заговорил он после паузы, — вам, графиня, стоит сказать одно слово, и меня завтра же посадят в Кенигштейн или повесят на рынке. Но я сделал свое дело: я поступил, как мне велела моя к вам преданность, и буду рад умереть.
— Умереть! — повторила, немного смягчая свою суровость, графиня. — Что мне до этого? Но почему вы знаете, что вы мне оказали всем этим услугу? Может быть, вы, избавив меня от минутной неприятности, огорчили гораздо более тем, что не исполнили в точности моего приказания?
— Позвольте мне оправдаться…
— Чем вы можете оправдываться?
— Тот… кому вы изволили приказать отдать этот перстень…
— Ну!
— Он получил перстень!
— Что вы такое лепечете, я вас не понимаю.
— У меня был перстень, как две капли воды, похожий на ваш… Мне дал его один магнат из Богемии, Штернберг.
— Ага, я догадываюсь! Вы отдали Лехерену перстень, который подарил вам Штернберг?
— Виноват, графиня, я это сделал.
Ко́зель посмотрела на него с изумлением и, совсем изменив тон, проговорила:
— Вы хороший человек, Раймонд, и заслужили награду!
— Я желаю получить только одно прощение, — возразил Заклик, — награды я никакой не приму, графиня.
И с этим он поспешно отступил.
Графиня молча подошла к своему верному слуге и молча подала ему перстень, предназначавшийся Лехерену, но Заклик, вздрогнув и упав на колени, воскликнул со слезами:
— Нет, воля ваша, графиня, не платите мне, не оскорбляйте меня, когда я так счастлив!
— Так счастлив, — прошептала графиня, и ее белая ручка тихо поднялась к губам стоявшего перед нею слуги.
Раймонд благоговейно поцеловал эту руку и, выйдя за двери, заплакал слезами, в которых были и радость, и горе, и счастье, и мука. Графиня осталась одна; ей вспомнился давний Лаубегаст и этот влюбленный в нее детина, она прищурила свои очаровательные глазки и, вздохнув, промолвила:
— Бедняки умеют любить! — И отправилась в свою опочивальню.
_____
Карл XII не давал ничем уломать себя. К великолепному Августу он относился почти презрительно. Получая приглашения на королевские охоты, он посылал вместо себя кого-нибудь из придворных, а сам занимался военной муштрой новобранцев. Мир был заключен и подписан, и несчастный Паткуль был выдан, а Карл XII все еще сидел в Саксонии, и никто не мог сказать, когда он уйдет восвояси.
Такое унижение и тяжелое бремя не могли не пересилить всякое терпение, и это случилось. Смелость шведа, разъезжавшего по завоеванному краю в сопровождении каких-нибудь двадцати — тридцати всадников, породила довольно небезопасные для него замыслы.
Однажды утром во время приема министров королю доложили о старом графе Шуленбурге. Ветеран тотчас же был принят, и так как он просил аудиенции, то все другие удалились, а Шуленбург остался с королем с глазу на глаз.
— Что скажешь, генерал? — спросил Август. — Быть может, принес радостную весть, что шведы уходят?
Граф Шуленбург болезненно усмехнулся.
— Нет, государь, — отвечал он, — швед-то не уходит, а его надо выпроводить.
— Каким же способом?
— Способ бы нашелся.
— Я, признаюсь, его не вижу, разве господь Бог ниспошлет под твою команду свое войско с Михаилом архангелом во главе.
— Чудеса в этом роде редки, государь, и ждать их напрасно! — отвечал Шуленбург. — А мне кажется, что при небольшой решимости мы могли, может быть, справиться со шведом и своими средствами, без архангелов.
— Я, право, не понимаю, на что ты намекаешь?..
— Намек мой прост и ясен, ваше величество: шведов, разбросанных по всей Саксонии, всего каких-нибудь двадцать тысяч. Это ничтожно, а сильным эту горсть делает только один смельчак. Если бы не было его, то все остальное ничего бы не стоило.
— Но ведь он есть!
— Да, в том-то и дело, что он есть, то есть до сих пор он есть, но его может не стать.
— Как же это сделать?
— Как, государь?.. Мало ли как это делают! Я полагаю, что если, например, его захватить, то ведь остальные нам не будут страшны.
— Конечно, они не будут страшны, но…
— Что такое, государь?
— Да ты подумай, что ты предлагаешь?
— Я еще ничего вам пока не предлагаю, а просто говорю…
— Что же ты говоришь «захватить»?..
— Да, именно, если его захватить, что тогда будет?
— Захватить? Во время мира! Захватить человека, нам верящего и не остерегающегося нас!
— Да, это только и делает возможным привести над ним в исполнение справедливую месть! — отвечал Шуленбург. — С офицерами нашей конницы, расположенной на границе Турингии, я произвел недавно рекогносцировку главной квартиры шведа: она укреплена совсем слабо. Ночью я могу напасть на нее, захватить короля и привезти его в Кенигштейн… Пускай меня потом там осаждают, я не сдамся! Голова их короля будет служить мне добрым обеспечением. И он, сидя у меня в гостях, подпишет такой трактат, какой мы захотим, а не какой ему угодно.
Август выслушал это с большим вниманием и не возражал, а напротив, только спросил:
— Ну, а если тебе эта попытка не удастся?
— Если она не удастся, так эта неудача припишется мне, а не вам, государь. Что делать, так или иначе, а край должен быть спасен!
— Господин генерал, — резко сказал король, — мне кажется, что вы бредите!
— Нет, я не брежу, государь!
— Ну, все равно! Во всяком случае, то, что вы предлагаете, невозможно!
— Право, не вижу, почему ваше величество считаете это невозможным? В моих глазах мой план и прост и верен.
— Да, он, может быть, и прост и верен, но я слишком уважаю рыцарские правила и ни за что не позволю напасть на врага таким низким, коварным, изменническим образом! Нет, нет, генерал, я никогда этого не позволю! Я ненавижу Карла и охотно бы задушил его своими руками, но схватить его предательски, ночью, пользуясь его доверием ко мне… Нет, и тысячу раз нет! Никогда я этого не сделаю!.. Генерал, это недостойно Августа!
Шуленбург посмотрел на короля угрюмо и спросил:
— А он? Он, позвольте узнать, всегда ли обходился с вами по-рыцарски?
— Что мне за дело? Пусть такие грубые мужики, как этот молокосос, поступают, как хотят, а я буду поступать, как мне угодно!.. Карл непросвещенный варвар, а я, Август, монарх, которого народ зовет Сильным, а монархи, соседи мои, именуют Великодушным. Я не позволю себе такого коварного поступка!
Генерал встал и, покручивая свои усы, начал откланиваться, но тут ему пришел в голову еще один вопрос.
— А что, если бы это позволил себе непослушный солдат? — спросил он.
— Тогда я сам был бы обязан защитить своего врага и освободить его! — отвечал Август. — В этом для меня нет и не может быть никакого сомнения!
— Не смею спорить, сомнения нет, это… чрезвычайно благородно! — проговорил Шуленбург с едва заметной, легкой иронией в голосе.
Король услышал эту ноту и взял его за руку.
— Любезный генерал, — сказал он, — прошу тебя, оставь эту мысль и никому не говори о ней! Я не хочу таких побед!
Шуленбург молча поднял пристальный взгляд на короля и как бы спрашивал его:
— А выдача Паткуля или заточение Имгофа и Пфлугена разве дела менее гнусные и бесчестные?
Король понял этот немой упрек, и лицо его покрылось густой краской.
Шуленбург, конечно, это заметил и, не уходя, проговорил:
— Ваше величество, но что нам делать? Нам нельзя не доходить до отчаяния. Что же будет далее?
Август схватился за это слово и, пройдясь с усмешкой на губах по кабинету, молвил:
— Вот в том-то и дело, что что-то «будет далее»? Смотрите, пожалуйста, вперед или, как ты говоришь «далее»: а далее вот что виднеется: отуманенный удачами, самонадеянный молокосос непременно все будет забираться «далее», и там его конец и погибель. Я замечаю, что он и теперь уже рассчитывает плохо и начинает действовать опрометчиво. Поверьте, он на этом не остановится и подрываться под него предательством и изменой значит только упреждать события, Неизбежные и без всякой с нашей стороны низости. Терпение, господа, прошу вас о терпении! Карлу кланяется вся Европа, поклонение приличествует Богу, но человеку оно вредит; оно его туманит и рождает в нем пустую спесь. Не мешайте же ей раздуться, и, поверьте, она одолеет Карла лучше всех его врагов и завистников.
— Но пока это случится, государь, что станет с бедной Саксонией?
— Э, полноте, пожалуйста, ничего с ней особенно худого не станет. Народ все вытерпит, народ, что трава, где ее скот плотнее вытопчет, там она на другое лето сильнее растет.
— Да, но ведь они люди, государь, ведь их жаль! — сказал Шуленбург.
— Не «люди», а народ! — поправил его король и, оглянув старика выразительным взглядом, добавил: — Я решительно не понимаю, что за фантазия приписывать черни то, что ей ни в каком случае принадлежать не может.
После этого генерал умолк и откланялся, но когда он был уже за дверями, король остановил его и воротил к себе снова:
— Говорил ты об этом с кем-нибудь? — спросил его Август.
— Я не говорил, но самую эту мысль мне подали офицеры, и потому я не могу считать это единственной моей тайной, — отвечал Шуленбург.
— Это значит, что почти все уже знают?
— От меня никто! — с достоинством отвечал генерал. — Но от других, я не ручаюсь, очень может быть, что и знают.
— В таком случае прикажи всем молчать!.. Ради Бога молчите, и пускай мне об этом никто и не говорит!
С этим они расстались. Шуленбург вышел, а Август остался со своим «рыцарским» чувством, которое не ладило с ним после выдачи Паткуля.
XI
Смелые разъезды Карла XII по Саксонии поддерживали высказанную выше мысль о его задержании не в одном графе Шуленбурге. Эту же мысль таили Флемминг и смелая Ко́зель. Ее приближенные даже были связаны клятвой и деятельно хлопотали о проведении своего умысла в исполнение. Ко́зель и подала эту мысль графу Шуленбургу через офицеров, секретно высмотревших главную квартиру шведа. Королю графиня не упоминала об этом только потому, что не надеялась на его согласие с ее планом, не ограничивавшимся тем, чтобы арестовать Карла. Ко́зель шла далее, чем другие, — она настаивала, чтобы захваченный в плен Карл XII был немедленно убит. Мысль эта не оставляла ее ни на минуту и не давала ей покоя.
Флемминг, отложив всю свою враждебность к Ко́зель, соединился с ней для совместных действий. Шуленбург отдавал в их распоряжение свою конницу.
Ко́зель полагала, что в случае удачи их замысла король, может быть, на них и рассердится, но, однако, не откажется воспользоваться событием. А в Европе едва ли кто-нибудь захотел бы вступиться за удалого шведа.
Когда все было решено и условлено, графу Шуленбургу было поручено доложить об этом королю. Результат их разговора нам известен.
По выходе Шуленбурга из кабинета короля нетрудно было догадаться, что проект Августом отвергнут. Весть эта быстро облетела заговорщиков, но Ко́зель от этого не пришла в уныние.
В тот же вечер Август сам передал Ко́зель весь свой разговор с Шуленбургом.
Графиня, выслушав его, порывисто встала со своего места и сказала:
— Как? И ты от этого отказался? Ты не хочешь даже попытаться возвратить свои ужасные потери?
— Найдется другой, кто отомстит ему за меня, — отвечал Август, — я в этом глубоко уверен, и не будем больше об этом говорить.
Ко́зель видела, что еще не настала пора спешить с замыслом, и надо было ждать. Она, скреп я сердце, заговорила о другом и начала занимать Августа придворными сплетнями.
_____
Ко́зель давно уже добивалась, чтобы король свел ее в лабораторию алхимика, содержавшегося в угловой башне замка, откуда был прекрасный вид на Эльбу и отдаленные лесистые берега. Несчастный Беттигер, просидевший в тюрьме долгие годы, окружен был, однако, всякими житейскими удобствами, какие, конечно, и надлежало иметь тому, от кого ожидались несметные богатства.
Фюрстенберг продолжал уверять короля, что великая тайна почти уже достигнута. Сам он работал вместе с узником то в своей собственной лаборатории, то в башне, где Беттигер имел великолепное помещение с садом, полным цветов. К столу Беттигер приглашал много гостей. Для развлечения ему разрешалось прогуливаться по всем коридорам и длинной галерее, которая шла вокруг всего замка с крепостью и служила королю для его секретных похождений. Привыкнув к своей участи и убедившись, что ему не удастся бежать, Беттигер предавался увеселениям, морочил Фюрстенберга и, Бог весть, может быть, и сам верил еще в свои средства открыть философский камень. Он исчерпал все формулы, прочел все книги, испробовал все рецепты — должно же было все это к чему-нибудь привести его, и оно, как ниже увидим, привело.
Зная о могуществе Ко́зель и желая приобрести ее благосклонность, узник ежедневно посылал ей букет из лучших цветов своего сада и тем постоянно напоминал о себе.
Графиня тоже любопытствовала взглянуть на Беттигера; но король то вовсе отговаривал ее от этого, то откладывал посещение. Но в тот день, до которого дошел наш рассказ, Ко́зель была так настойчива и вместе с тем так прекрасна, что Август не решился ей более отказывать.
— Хорошо, — сказал он, — мы сегодня идем к Беттигеру!
По случаю, рядом не оказалось никого, кого можно было послать уведомить алхимика о посещении, и король, выглянув в окно, увидел Фрёлиха, отгонявшего от себя подступавших к нему придворных.
— Вот как раз есть и посол! — произнес Август и, кликнув шута, сказал ему:
— Сегодня, до вечера, я назначаю тебя своим камергером, чтобы ты не говорил, будто напрасно таскаешь за собой такой тяжелый ключ. Ступай сейчас к Беттигеру и скажи ему, чтобы был готов принять богиню Диану, которая навестит его вместе со мной!
— С Марсом, с Аполлоном, с Геркулесом! — добавила обрадованная Ко́зель.
— Да! Одним словом, идет целый Олимп! — воскликнул, низко кланяясь, Фрёлих. И расчищая себе палкой дорогу, с великой важностью в лице отправился главной галереей к наружной башне.
За столом алхимика в это время сидело веселое общество. Опустошались бокалы, сыпались остроты. В числе гостей были: князь Фюрстенберг, большой приятель Беттигера, Чирнгаузен, знаменитый любитель алхимии, и Немин, секретарь и страж Беттигера. Круглая комната в башне, занимавшая весь этаж, служила узнику для приема гостей. Комната эта была убрана со вкусом и даже с роскошью: ее толстые стены были обиты персидской шелковой материей и увешаны зеркалами. Мебель была лакированная и раззолоченная. Столы и шкафы изукрашены бронзой. Отсюда же, из этой комнаты, небольшая узенькая лестница за потайной дверцей вела вниз в лабораторию; другая вела наверх, где была спальня алхимика.
Беттигер между всеми своими гостями отличался прекрасной осанкой и веселым лицом, в котором проглядывали быстрая сообразительность и свободное, веселое остроумие. Одетый чрезвычайно изысканно, он скорее был похож на богатого дворянина, приехавшего в гости, чем на строго содержимого узника, обязанного корпеть над котлом с целью открыть великие тайны алхимии.
Гости только что осушили бокалы в честь хозяина, и бывший аптекарь собирался возгласить новый тост, когда в дверях показался королевский посол в остроконечной шляпе и в пунцовом фраке.
— А! Фрёлих! Фрёлих! — воскликнули гости Беттигера. — Что это значит, как и зачем ты попал сюда?
— Прошу извинить меня, — начал Фрёлих. — Сегодня я не просто Фрёлих, как это вам, господа, может быть, кажется. Его королевскому величеству сегодня благоугодно было назначить меня на двадцать четыре часа своим камергером и в этом звании послать меня сюда с уведомлением, что богиня Диана вместе с Геркулесом сейчас осчастливят Беттигера своим прибытием. — И Фрёлих с комической важностью стукнул палкой о пол.
Все вскочили из-за стола. Беттигер с Немином и позванным слугой начали прибирать комнату. Отворили окна. Хозяин послал за букетом. Чирнгаузен, отлично знакомый с тюремными апартаментами алхимика, отворил потайные дверцы и спустился в лабораторию, чтобы скрыться от взоров короля. Остальные гости разошлись боковыми коридорами, чтобы не встретиться с королем, который должен был идти главной галереей. В зале Беттигера остались только Немин и князь.
Они с чрезвычайной поспешностью расставили всю мебель, усыпали паркет цветами и стали ждать олимпийских гостей. Беттигер стоял у порога с букетом из цветущих померанцевых ветвей в руке.
Олимп не замедлил.
При входе графини Ко́зель Беттигер опустился на колени.
— Богоподобных встречают на коленях, — сказал он, подавая графине букет, — и чествуют их фимиамом и цветами!
Слуги в эту же минуту внесли в комнату зажженные канделябры, и все оживилось. Ко́зель с улыбкой приняла букет и благодарила Беттигера, а в то же время с любопытством оглядывала комнату и, по-видимому, недоумевала, что не видит здесь никаких признаков «великого дела». Вошедший вместе с графиней король тотчас же объяснил ей, что они теперь, собственно, в гостиной алхимика, и все препараты «великого дела» находятся в лаборатории.
— Но я желала быть именно там, где в поте лица, с молитвой на устах доискиваются великой тайны.
— Графиня, — отозвался Беттигер, — это такое мрачное, полное тяжелых испарений место, что божеству незачем сходить туда.
— Но где не нужно быть божеству, туда стремится любопытство женщины! — отшутилась Ко́зель и, взглянув в упор в глаза Беттигера, добавила:
— Боги повелевают смертным вести их в темные склепы Аида, и смертные, конечно, должны повиноваться. Не так ли? Указывайте же дорогу, любезный Беттигер!
Алхимику не оставалось ничего, как повиноваться, и он открыл потайной ход и со свечой в руке пошел вперед. Графиня последовала за ним. Август следовал за графиней.
Они спустились вниз по узкой и неудобной лесенке, замыкавшейся железной дверью, которую Беттигер отворил, и ввел гостей в просторное помещение с закоптелыми сводами. Около широких столбов было несколько печей; на них стояли остывшие реторты и тигли. Разная утварь самого странного вида и множество склянок стояли на полках, покрывавших стены. На столах были навалены книги в тяжелых переплетах с медными застежками, пергаментные свертки, листы, исписанные формулами и вычислениями.
Все это производило впечатление таинственное и угрюмое, и графиня Ко́зель как женщина своего суеверного века почувствовала некоторый страх и прижалась к плечу короля.
Беттигер стоял среди комнаты, высоко держа над головой свечу.
Король между тем обходил лабораторию и, остановись около одного из столов, взял стоявшую на нем чашку и, начав ее внимательно рассматривать, воскликнул:
— Ба! Беттигер, откуда ты это взял?
И при этом он заметил еще несколько таких же чашечек яшмового цвета. Август был большой знаток и любитель фарфора и не раз менял людей на японские вазы. Найденные им чашки остановили на себе его внимание, потому что представляли собою нечто особенное: это был фарфор, ничем не уступающий японскому, но форма была иная.
— Откуда же ты взял эту редкость? — повторил Август.
— О, государь, — отвечал, низко кланяясь, Беттигер, — это такие пустяки. Это я забавлялся, пробовал, что можно сделать из привезенной мне глины, и вот вышло что-то вроде фарфора.
И он подал еще одну, более тщательно отделанную, вазу.
Король схватил поданный ему сосуд прекрасного нежного цвета и, взглянув сквозь него на свет, воскликнул:
— Как, ты утверждаешь, что это ты сам сделал?
— Да, я сам, государь, — отвечал Беттигер и, наклонясь, поднял разбитые черепки точно такого же материала, из которого был сделан сосуд; затем он достал из-за вороха бумаг еще несколько чашек и тихо поднес их графине и королю.
— Да ведь это… что же это такое? Да ты знаешь ли, что это лучший фарфор, какой есть на свете? — воскликнул Август.
— Быть может, но я этого не знал, — отвечал Беттигер.
— Не знал! Так знай же, ты сделал величайшее открытие, ты разгадал огромную тайну! И… золото для Саксонии тобою добыто!
Беттигер молчал.
— Ты знаешь ли, — продолжал король, — что за один такой сервиз с моими гербами я заплатил в Китае пятьдесят тысяч талеров… Пруссак за большую вазу содрал с меня целую роту отличных солдат… А между тем вот ты, Беттигер, ты сам у меня дома можешь мне делать эти драгоценности! О, какое открытие! Какое важное открытие! Да, золото теперь в Саксонии! Слушай, Беттигер…
— Слушаю, ваше величество.
— Брось все другое и сделай как можно скорее первый такой сервиз для моей Дианы.
— Воля ваша, государь, будет исполнена.
Забрав с собой первые фарфоровые экземпляры Беттигера и отдав их графине Ко́зель, король выразил свое полное удовольствие изобретателю и собрался уходить. Чтобы избавить своих высоких гостей от неудобной лестницы, алхимик отворил двери, выводившие прямо в его сад, и король, предшествуемый ожидавшими его здесь придворными, возвратился главной галереей в замок.
День этот памятен в истории Саксонии. Она нашла золотые прииски в случайном открытии Беттигера. Способ приготовления фарфора было велено держать в строжайшей тайне, нарушение которой ограждалось страхом смертной казни.
_____
Несколько дней спустя Дрезден был взволнован событием иного характера.
Хотя граф Шуленбург после своего разговора с королем совершенно отказался от мысли задержать Карла XII, но Ко́зель и Флемминг не оставляли этой мысли, к исполнению которой, благодаря смелости Карла, представлялись чуть не ежедневные способы.
А между тем самонадеянный и слепо верящий в свое счастье и силу своей отваги Карл XII как будто знал обо всех этих замыслах. Он точно насмехался над заговорщиками. Он как будто еще увеличил свою беспечность и разъезжал по неприятельской стране, как по окрестностям своей скандинавской столицы.
Однажды он забрел в Дрезден. Такая безумная выходка, конечно, могла решить все: она неминуемо должна была вызвать в исстрадавшемся народе взрыв негодования, но Карл не остановился и перед этим.
1 сентября, в тот самый день, когда был подписан трактат с императором о свободе протестантов в Шлезвиге, Карл XII выступил из Альтранштадта. Он следовал за своими войсками, которые под начальством Ренскиольда уже 15 августа начали стягиваться по направлению к Шлезвигу, к Польше и далее на север. Значительная часть шведской армии оставила уже наконец Саксонию; было еще несколько полков под Липском. 6 сентября главная квартира Карла XII находилась вблизи Мессень, в Оберау.
В один из прекрасных осенних дней Карл XII вздумал сделать верхом небольшую прогулку и незаметно очутился под Дрезденом.
Карл постоял здесь, погруженный в раздумье, и наконец, обратясь к своей маленькой свите, сказал:
— А право, мы так близко от короля Августа, что мне следует заехать к нему повидаться.
И он, не ожидая ответа, пустил поводья и поехал вперед крупной рысью.
Был четвертый час пополудни, когда этот неожиданный гость остановился перед дрезденскими воротами. Крепостные ворота оказались запертыми. Карл XII сказался караульному офицеру посланцем от шведского короля, и его тотчас же провели на главную гауптвахту. Флемминг, проходивший в это время мимо, узнал шведа и изумился: зверь сам пришел в засаду.
Это была такая неожиданность, что Флемминг даже растерялся, но, однако, тотчас же овладел собой и на вопрос шведа о короле вызвался проводить его к Августу.
Август в это время, по своему обыкновению, был в арсенале. В присутствии не отпускавшей его от себя графини Ко́зель он ломал здесь железо в своих мощных руках, которые точно и сделаны были только для этих забав.
Под сводами арсенала раздавался его веселый хохот, когда в двери вдруг послышался неожиданный стук.
— Кто там? — крикнул король. — Войдите!
И он вместе с графиней обернулись к дверям и остолбенели: перед ними был Карл XII.
Следовавший за шведом Флемминг смотрел на графиню, ожидая одного легкого мановения, чтобы кликнуть людей и схватить неосторожного, незваного гостя, но этого мановения не было, а между тем швед поспешно обнял Августа и сказал:
— Здравствуйте, брат мой!
Август приветливо ответил на приветствие.
Ко́зель не могла сдержать себя: лицо ее вспыхнуло, и она крепко дернула Августа за платье и шепнула:
— Роковой час!.. Если он выйдет отсюда… то только ты будешь виноват в этом!
Можно было предполагать, что Карл XII даже слышал эти слова, потому что лицо его приняло суровое и подозрительное выражение, но Август, полуоборотясь к графине, резко заметил ей:
— Оставь нас!
Графиня со свойственной ее характеру нетерпеливой раздражительностью должна была выйти, бросая на Карла гневные взгляды.
А смелый швед между тем с величайшим спокойствием рассматривал арсенал. Ко́зель, проходя мимо Флемминга, сделала ему выразительный знак; Флемминг, у которого искрились глаза, только пожал плечами.
Между тем Карл, обойдя арсенал, сказал Августу:
— Любезный брат, в свете так много говорят о вашей необыкновенной силе. Я не думаю, чтобы тут было все преувеличено, хотя эти рассказы порою бывают неимоверны.
— Гм! Вас это удивляет? — сказал Август.
— Признаюсь, то, что я слышал…
— То, что вы слышали, не превзойдет того, что вы можете видеть, — отвечал Август, и с этими словами он поднял с полу лежавший перед ними железный прут и сказал, улыбаясь, Карлу:
— Позвольте мне, любезный брат, вашу руку. Вы не бойтесь, я не поврежу ее, — добавил он с усмешкой.
— Я ничего не боюсь, — ответил швед и смело вытянул вперед обе руки.
Август погнул прут и обвел его кольцом сначала вокруг одной руки Карла, потом точно так же обогнул им другую. Железный прут в руках Августа вился, как шелковый шнур, и руки Карла были им связаны, как в кандалах.
Карл смотрел на эту работу бестрепетно, с одним холодным удивлением к силе Августа; а Август, завязав прут узлом, посмотрел в глаза Карлу и тотчас же, снова разогнув прут, снял кольца с рук шведа, а прут бросил на пол.
Короли взглянули друг другу в глаза…
— Да, очень большая сила! — сказал Карл и, переведя глаза на стены арсенала, добавил:
— И сколько у вас здесь и оружия и железа!
— Да, как видите, немало, — отвечал Август.
Карл покачал головой и проговорил:
— Только людей, значит, недостает! — И затем он попросил короля позволить ему сделать визит королеве и другим членам королевского дома, которые в это время были уже в Дрездене.
Оба короля направились в замок.
Между тем слух о приезде Карла XII успел распространиться по всему городу.
Это, конечно, возбудило всеобщее самое напряженное внимание. Особенно Карлом теперь интересовались протестанты, недавно только услышавшие о том, что швед сделал для их единоверцев в Шлезвиге. Эти люди уже теснились около замка, чтобы взглянуть на молодого человека, который тогда приковывал к себе внимание целой Европы.
Флемминг и с ним весь двор были возмущены приездом Карла и видели в этом неслыханную дерзость; швед, будто насмехаясь над побежденным, не боялся его даже безоружный.
Флемминг и Ко́зель ни за что не хотели спустить этой выходки. Первый приказал собрать как можно секретнее часть гарнизона, чтобы захватить Карла даже против воли Августа, а графиня просто взяла в карман пистолет и решилась выстрелить в шведа, как только он покажется на улице.
Волнение было заметно повсюду, но король сохранял невозмутимое спокойствие. Швед тоже был спокоен. Повидавшись с королевой, он просил, чтобы ему позволили обнять молодого курфюрста, но от вечеринки отказался.
А пока венценосцы были в замке, Флемминг успел собрать людей и расставить их, где следовало. На случай же, если бы Август не согласился задержать Карла XII в Дрездене, Флемминг под своей личной ответственностью выслал на дорогу в Мессен отряд конницы с приказанием подстеречь и схватить шведа на его обратном пути.
Во время пребывания Карла XII у королевы Флеммингу удалось вызвать короля и переговорить с ним.
— Государь, — сказал Флемминг, — нам дана редкая, единственная минута, когда вы можете отомстить за все наши несчастья… Карл в ваших руках!..
— Да, в моих руках, но он полагается на мою честь! — возразил Август. — А этого слишком довольно, чтобы с головы его не упал ни один волос.
— Но, государь, не смешно ли теперь увлекаться великодушными чувствами к человеку, который поступил с нами так бессовестно? Нет, я захвачу его, хотя бы за это должен был потерять свою голову!
— Дело вовсе не о твоей голове, а о гораздо большем, о моей королевской чести, — спокойно отвечал Август, — и ты не смей думать коснуться Карла.
— Не вы, а я, лично я, государь, буду за все это в ответе!
— Вздор, — возразил резко Август, — там, где есть моя ответственность, ничьей другой нет и быть не может!
— В таком случае мне остается только просить вас приказать взять у меня мою шпагу, которая не может более служить вашему величеству.
Говоря это, генерал хотел уже вынуть из ножен свою шпагу, но король остановил его.
— Флемминг, не забывай, что перед тобой я, что дело тут идет обо мне и что никто не может приказывать здесь, кроме меня!
И затем он грозно посмотрел на своего генерала, но кипевший гневом Флемминг не выдержал и ответил:
— Слушаю, государь, но не смею смолчать, что, поступая таким образом, вы рискуете потерять еще и другую корону!
И сказав это, Флемминг вышел, а король спокойно вернулся к королеве, с которой оставил гостя. Карл XII даже не взглянул на возвратившегося хозяина, хотя он, конечно, мог догадываться, что за дверями разговор был о нем.
Между тем графиня Ко́зель готовилась уже выйти из дому, чтобы, став в удобном месте, выстрелить в Карла, когда он будет проезжать мимо. Заклик, видевший эти сборы, представлял графине всю необдуманность ее намерения, которое имело против себя еще и то, что в собравшихся толпах народа было много протестантов, которые видели в Карле друга протестантской религиозной свободы и могли взять его сторону и даже вступиться за него.
А настроение значительной доли умов действительно было таково, как представлял Заклик, и Август понимал это. Держась во что бы то ни стало своего слова обеспечить безопасность Карла, он захотел сам проводить его за город и приказал подать себе коня. Оба монарха рядом проехали по улицам, переполненным народом. Тишина была мертвая: казалось, что народ удерживал самое дыхание свое, чтобы услышать хотя бы одно слово из разговора королей. Глаза всех впивались в лицо Карла XII, который был совершенно спокоен и не обнаруживал ни малейшего волнения.
Проехав по улицам среди тесной толпы, короли свернули к воротам, выходившим на дорогу в Мессен. Август послал приказ, чтобы в честь Карла троекратно салютовали из пушек, и с крепостного вала раздался громкий салют. После первых выстрелов Карл обратился к Августу и поблагодарил его за честь. Август равнодушно приложил руку к шляпе. Залп повторился, и в минуту выезда Карла из ворот раздался третий салют.
Карл XII остановился и хотел проститься со своим хозяином, но Август не доверял послушанию Флемминга, он подозревал, не устроена ли шведу по дороге засада, и видел одно средство спасти его: проводить Карла XII до того места, где он будет уже вне всякой опасности. И потому он выразил желание сопутствовать Карлу еще далее и проводил его до самого Нейдорфа. За Нейдорфом они расстались, обменявшись рукопожатиями.
Карл XII пустил свою лошадь крупной рысью далее, а Август II с минуту постоял на месте, задумчиво глядя вслед удалявшемуся гостю. Он как будто взвешивал теперь, хорошо или дурно поступил, следуя голосу чести.
В эти минуты, как он стоял на середине шоссе, пролегавшего здесь через лесные заросли, которые оставались от истребленных вокруг Нейдорфа лесов, к нему подскакал верхом сильно взволнованный Флемминг и, не помня себя от гнева, сказал:
— Ваше величество! Если вы полагаете, что Европа будет удивляться вашему великодушию, или если вы думаете, что, не захватив Карла, вы расквитались с общественным мнением за выдачу Паткуля, то смею вас уверить, вы сильно ошибаетесь!
— Молчать! — грозно крикнул Август и, повернув коня, молча поехал один в город.
У ворот дворца «четырех времен года» он слез с лошади и пошел к Ко́зель, которая ждала его еще в большем бешенстве, чем Флемминг.
— Не подходи ко мне! — кричала она, рыдая. — Не подходи! Ты пренебрег моим советом и сделал никогда, никогда не поправимую ошибку! Как, ни потеря двадцати миллионов казны, ни гибель многих тысяч людей, ни смерть твоих офицеров, ни весь твой стыд — словом, ничто, за что ты мог и должен был отомстить, не могло тебя к этому подвинуть! Что, ты не умел этого сделать, не хотел или боялся?.. О, Боже! Всякая слабая женщина не снесла бы этого и не упустила бы такого случая отомстить за свой позор!
— Да, что могла бы сделать всякая женщина, того не может сделать король, — отвечал Август и спокойно опустился на софу, предоставляя Ко́зель изливаться в своем гневе.
Но на следующий день он собрал военный совет, в котором снова выслушал несколько порицаний за то, что выпустил Карла, и снова отмолчался.
Говорили, что обо всем высказанном на этом совете узнал шведский посол в Вене и с презрением сказал:
— Это так и должно было быть: я уверен, что совет на другой день решит то, что следовало сделать накануне.
XII
Август, вероятно, сильно чувствовал свое унижение и всячески старался забыть его: еще шведский король не успел освободить Саксонию от своего присутствия, как Август II предался своему обычному разгулу и начал устраивать самые разнообразные увеселения. Неразлучная с ним графиня Ко́зель сопровождала его всюду.
Вскоре по отъезде Карла XII вслед за балами и маскарадами, которые привлекли в саксонскую столицу множество иностранцев, послов и странствующих рыцарей с целого света, Август устроил великолепную охоту. Ко́зель и здесь была всегда рядом с королем, и общество любовалось статной амазонкой в золотых доспехах на белом коне.
Лорд Петерсбург, присутствовавший на всех этих торжествах, не находил слов, чтобы выразить свое восхищение от этой неувядаемой красавицы. Ловкая наездница, Анна отлично владела и ружьем и так царила на этих охотах, что была истой королевой, а Август казался при ней не более, как ее первым придворным. Все это до такой степени туманило ее во всех других случаях довольно ясный ум, что никакие дружеские предостережения не могли уберечь ее от опасных в ее положении увлечений. И если преданный ей Гакстгаузен или смиренный Заклик иногда позволяли себе сделать ей какой-нибудь легкий намек на непрочность королевского фавора, то она гневалась и нетерпеливо отвечала:
— Все это, может быть, верно для фавориток, но я его жена, и притом король очень хорошо знает, как шутить со мной: я убью и его и себя без рассуждений.
Накутившись вдоволь дома, Август задумал перекочевать в тех же целях на воскресную ярмарку в Липск, где ему всегда очень нравилось, потому что здесь он, толкаясь с трубкой в зубах по всевозможным закоулкам, проводил время с кем попало. В нынешней поездке ему сопутствовала туда и Анна Ко́зель.
Двор останавливался тогда в «Гостинице под яблоком». Король как приехал, так и потонул в удовольствиях: он пил, играл и волочился за наехавшими сюда французскими танцовщицами и актрисами.
Ко́зель не могла совсем удержать его от такой жизни, но наблюдала только, чтобы все это не хлынуло через край и не зашло слишком далеко.
12 мая в Дрездене праздновались именины короля; к этому торжеству собрались немало гостей, и, между прочим, прибыли князь Эбергард Людовик Виртембергский и Гогенцоллерн. Опять шли пиры, чудовищные мертвые попойки и охоты, из которых об одной надо здесь кое-что заметить, так как она имела для Анны нечто роковое.
_____
На давней оседлости лужицких славян, в Нежице, есть старое селение, раскинутое у подножья горы, которую называли когда-то Столбами. Название это дано горе потому, что прихотью природы здесь выдвинуты из недр земли мрачные базальтовые столбы. Не разгадать, откуда и как они здесь стали: точно волшебные руки духов взяли их, принесли сюда и поставили. Века назад на этих скалах построен такой же, как и они, мрачный замок, из которого очень далеко видно во все стороны: на юг — до лесистых вершин Саксонских и Богемских гор, а на запад — до гребня Рудных гор Саксонии. Ближе видны были голые пирамидальные скалы, на которых стояли замки Зонненштейн и Детерзбах. На восток шли сплошные леса и горы Гохвальда, за которыми начинались разбросанные чешские поселки.
Старый Столпянский замок прежде был резиденцией мессенских епископов, которые и позаботились украсить и укрепить его. Он имел вид довольно величественный, но, как выше сказано, и весьма мрачный. Замок был окружен стенами с бойницами и высокими островерхими башнями, в которые нередко ударяла молния.
При замке был и полный дичи зверинец, который нетрудно было поддерживать, так как в окрестных лесах было много зверя.
Однажды при ночной пирушке один из собеседников короля как-то заговорил об этом замке, где Август до сих пор не бывал, и ему тотчас же пришло желание посмотреть завтра эту дикую местность и поохотиться в зверинце.
За решением немедленно последовало и исполнение: рано утром, когда еще роса покрывала траву и деревья, у порога королевской двери уже стояли оседланные кони. Все было готово к отъезду, и Август вышел в сопровождении свиты. Ко́зель, ничего не знавшая об этих сборах, очень удивилась такому неожиданному отъезду и послала Заклика спросить короля, куда ему угодно так рано ехать.
— Скажи твоей графине, — отвечал, садясь на лошадь, Август, — что я еду смотреть Столпянский замок. Если она желает, тоже может ехать, но только пускай меня догоняет: я боюсь жары и ждать не стану, а ее сборы долги.
Этот ответ не понравился и без того уже недовольной графине, и она захотела показать королю, что ей не надо много наряжаться, чтобы быть прелестной. Она велела, чтобы тотчас были готовы ее верховая лошадь и несколько молодых людей, составлявших ее импровизированный конвой. Анна надеялась догнать короля ранее, чем он доедет до Столпянского замка.
Через полчаса все приглашенные сопутствовать графине были уже на лошадях около ее дворца и ее белый арабский конь с длинной гривой, с седлом, окованным золотом и обитым пунцовым бархатом, нетерпеливо ржал в ожидании своей всадницы.
Ко́зель оделась наскоро, но прекрасно: она была в длинном, отделанном золотом белом платье и в голубой шляпе с белыми перьями и голубым, украшенным золотом, током.
— Господа! — воскликнула она, подойдя к лошади и подняв вверх свою прелестную ручку с хлыстом, рукоятка которого сверкала дорогими каменьями. — Его величество король вызвал меня на состязание; полчаса тому назад он уехал со своей свитой в Столпянский замок. Я хочу догнать его, прежде чем он туда приедет. Время дорого, не будем терять ни минуты, и кто мне добрый товарищ, тот от меня не отстанет!
Сказав это, она быстро вспрыгнула на лошадь и, махнув хлыстом, сразу понеслась вскачь. Сопровождавшие ее в числе прочих Заклик и конюший мчались за ней.
Арабский скакун несся стрелою. Дорога за городом шла через лес, это была старая песчаная дорога, очень мягкая, но и очень утомительная, и кони, несмотря на раннее прохладное время, скоро запотели и взмылились.
В то время край этот был еще очень слабо заселен и казался пустыней. Изредка только кое-где встречались маленькие вендские деревеньки с их бедными хатами под высокими крышами, торчавшими из-за окружавших их вишневых садов.
Дорогой никого не встречалось, кроме крестьян, которые робко снимали шапки и не умели ничего рассказать, как далеко они встретили короля. Да при торопливой погоне некогда было с ними долго разговаривать и терять время в бесполезных расспросах.
После часа такой бешеной скачки конюший пристал к графине с просьбой хотя бы немного приостановиться и дать перевести дух лошади. Ко́зель сначала не хотела его слушать, но наконец поехала немножко тише и, поравнявшись с воротами одной старой хаты, совсем осадила своего коня. Все остальные сделали то же и сошли с седел, чтобы облегчить лошадей, напиться и поправиться.
Неподалеку у ворот домика гости заметили завернутую в рваное покрывало изможденную старуху, которая стояла, опираясь на палку. Она, в свою очередь, смотрела на пышную кавалькаду с глубоким равнодушием. Кто-то спросил ее, давно ли проехал король, но она отвечала:
— Какой король? Я не знаю, кто ваш король, а мои короли умерли.
Она говорила это медленно, бесстрастным голосом и ломаным языком с акцентом; а между тем из хаты вышел длинноволосый, средних лет мужчина в синем сюртуке с большими пуговицами и, сняв шапку, сказал гостям на чистом саксонском наречии, что король проехал не более, как три четверти часа тому назад, но что он ехал очень скоро и догнать его едва ли возможно. Ко́зель спросила, нет ли какой-нибудь кратчайшей дороги к Столпянскому замку, но такой дороги не было. Надежда догнать короля исчезла, и спешить без отдыха было ни к чему.
Графиня решилась дать своим спутникам и их лошадям маленький роздых: сойдя с седла, она сделала несколько шагов и вдруг стала всматриваться в нищую старуху.
— Что это за женщина? — спросила она немца.
Тот пожал плечами и отвечал:
— Это славянка… вендка!
— Что она здесь делает?
— Гм! Как вам сказать? Она не в своем уме: она уверяет, что этот двор когда-то принадлежал ее отцу, и не хочет уйти отсюда. Так и живет здесь неподалеку в землянке, вон под той горой… таскается по полям да, кто ее знает, что-то бормочет. Может быть, какие-нибудь бесовские заклятия!
— Заклятия? — невольно повторила Ко́зель.
— А что же вы думаете? Никто не сомневается, что она колдунья… Я ей деньги предлагал, чтобы она только ушла куда-нибудь отсюда подальше, так не хочет…
— Отчего же?
— Да вот говорит, что это земля ее отцов и что она здесь должна сложить кости…
— Вот странная!
— Да, она странная, да порою довольно страшная.
— Что же в ней страшного?
— Да знаете, здесь место дикое, глухое, тут все как-то… жутко, а она часто, ночью, когда на дворе воет буря, бродит, не то хнычет, не то поет, слова не разберешь, просто мороз по коже ходит, а выгнать ее…
— Что же?
— Тоже небезопасно.
— Что же она может сделать?
— Мало ли что? Она знает заклятия на нечистую силу… Черти ей, говорят, повинуются.
Видя, что рассказ этот интересует пышную даму, немец понизил голос и добавил:
— Она и будущее знает.
— Знает?
— Ага, да еще как!
— И может предсказывать что-нибудь? — спросила Ко́зель, оглядывая с любопытством старуху.
— И как еще… Не всегда, разумеется, а когда захочет.
— И что же, сбываются ее предсказания?
— Ох! Чтобы ей пусто совсем было, госпожа: все, что она скажет кому-нибудь, то все сбывается.
— А как ее зовут?
Немец беспокойно оглянулся и тихо прошептал:
— Млава.
— Млава?
— Тсс! Да, ее зовут Млава.
Хотя и немец и графиня говорили очень тихо, но старуха, вероятно, услышала свое имя. Встряхнув своими длинными седыми волосами, она гордо подняла голову и воззрилась проницательными черными глазами в лицо графини.
Анна это заметила и подошла к ней еще ближе. С минуту обе женщины молча смотрели в глаза друг другу, и наконец Анна спросила:
— Кто ты, старушка?
— На что тебе знать, кто я?
— Мне жаль твоих седых волос! Смотри-ка, как они пожелтели от ветра и пыли. Что тебя, бедную, довело до такого убожества?..
— Я не убога, — отвечала, покачав головой, Млава.
— Что же у тебя есть?
— Воспоминания о прекрасных днях.
— Но ведь воспоминания везде могут быть с тобою.
— Везде.
— Так зачем тебе жить тут?
— А зачем мне идти отсюда? Здесь мое место, здесь мое наследство.
— О каком наследстве ты говоришь, бедняжка?
— О наследстве моего рода.
— Твоего рода?
— Да, моего рода.
— Но что за род твой?
— Мой род?.. Королевский.
— Королевский!.. Твой род королевский! Но ты?
— Я королева.
— Королева?!
— Да, я королева! Я должна была быть королевой! Во мне кровь коренных королей этой земли…
Ко́зель улыбнулась. Млава это сейчас же заметила и продолжала, вперив в нее свои темные очи.
— Ты удивилась… смешно тебе стало, не смейся, зачем нам смеяться, ты сама королева, а не знаешь, чем станешь.
— А чем я стану? Ты ведь умеешь угадывать?
— Это как когда и как кому, — отвечала бесстрастно Млава.
— А мне, например, ты могла бы теперь что-нибудь сказать, что со мной будет?
— Чему с тобой быть? — отвечала Млава. — Кто высоко забрался, тот только низко упасть может, больше ничего.
Ко́зель побледнела, и у нее задрожали губы, но она сделала над собою усилие и, улыбнувшись, молвила:
— Ничего, ничего, говори, я не робка и не труслива, смотрела в глаза счастью, не зажмурюсь и от беды, пожила на солнышке, посижу и впотьмах.
— Не равны потьмы, — заговорила тихо Млава. — О-о, как долга бывает иная ночь!
— Что долго, то все-таки невечно.
— Кто знает, кто знает! Это надо смотреть, — пробормотала Млава и, вытянув вперед свою руку, сказала:
— Покажи мне свою ладонь.
Графиню немножко покоробило, и она брезгливо отдернула свою руку.
— Не бойся, красавица, — спокойно сказала Млава, — я твоих белых пальчиков не запачкаю… Покажи ручку, я только посмотрю.
Ко́зель сняла перчатку и протянула руку.
— Гм! — произнесла, взглянув, Млава. — Прелестная ручка, прелестная; вполне стоит того, чтобы ее только королю целовать; а не все, не все в ней подобру…
— Что ты сочиняешь, старуха!
— Нет, нет, не сочиняю, вот черта и вот черточка, маленькая, маленькая… ручки не портит, а жизнь губит… да…
— Ты, старая, лжешь.
— Ага, лгу! Нет, я не лгу. Ничего, ничего, от себя не уйдешь. Длинная, длинная была полоса счастья, другая будет длиннее. Тебя, красавица, ожидает большое и долгое горе. Говорить что ли все?
— Говори! — резко ответила покрасневшая от волнения Анна.
— Тебя ждут тяжелые дни; ждут бессонные ночи. Слушай! Слушай! Слезы, как море… все слезы… Что это!.. С детьми ты будешь бездетна; у тебя есть будто муж, и он не умрет, а ты будешь вдова… К короне близка, а еще ближе к неволе… Будешь освобождена, но откажешься от свободы… Будешь… ой… ой… не хочу, не хочу говорить… о, не спрашивай меня, не спрашивай более…
И некому было и спрашивать: бледная, как мрамор, Ко́зель только могла прошептать:
— Недобрая женщина, чем я провинилась перед тобой, за что ты меня так пугаешь? Я не так зла, как ты, вот возьми себе это.
И Ко́зель подала Млаве золотой, но та отвернулась и сказала:
— Побереги, мне не надо золота.
И Млава, завернувшись в свои лохмотья, заковыляла в сторону.
_____
Из спутников графини никто этого разговора не слышал, и он для всех них остался тайною; они, конечно, могли заметить, что Анна была взволнована и бледна, но не более. Остальной путь был совершен без всяких приключений и в глубоком молчании.
Через полчаса езды показались верхи Столпянских башен, а еще через полчаса, поезд достиг самого подножья горы. Король и его свита были уже внутри замковой ограды, и веселый Август приветствовал фаворитку.
— Ну, вот и не догнала! — шутил он. — А я уже долгонько жду. Где ты это задержалась?
— Да я все ехала и только полчаса потеряла у корчмы.
— Что же ты там делала? Отдыхала?
— Да, но, впрочем, менее отдыхала, чем заговорилась.
— Заговорилась? Моя Анна заговорилась с кем-то у дорожной корчмы! С кем же это?
— С нищей старухой.
— Вот как! Что за старуха и что в ней необыкновенного?
— Много необыкновенного.
— Пожалуй, ведьма, гадалка, пророчица? Ну, что же она тебе наворожила?
Но Анна вместо ответа взглянула на короля, и из глаз ее брызнули слезы.
— Что это значит? — воскликнул удивленный Август, но он напрасно старался узнать, что тревожило его фаворитку и, махнув на это рукой, попытался отвлечь ее внимание.
— Ну, как нравится тебе этот старый епископский замок? — заговорил он беспечно.
— Он мне вовсе не нравится, — отвечала Анна.
— За что так? Нет, ты посмотри на него хорошенько.
— Смотрю и вижу. Отвратительный! Страшный! Ужасный! Не понимаю, что за фантазия была у вас ехать сюда искать развлечений? Здесь, кажется, гораздо удобнее предаваться воспоминаниям о пытках. Ужасно, мрачно!
— Да, но твои глаза, моя прелесть, могут осветить его, — перебил Август и подал Анне руку.
Они обошли весь угрюмый замок вокруг и остановились у порога. Графиня была молчалива, но король очень доволен. Он, быть может, соображал, как ему обратить этот замок в тюрьму, когда станет тесно в Зонненштейне и Кенигштейне. Оставив графиню, которая не хотела идти далее, Август отправился с ключником взглянуть на места заключений.
Осмотрев башни Доната и мрачные камеры, служившие для пыток, он зашел в башню св. Яна, построенную епископом Иоанном VI, потом спустился в застенок, где наказывали монахов, отсюда ключник ввел его в тюрьму и ее темную яму, куда людей опускали по приставной лестнице. Все эти тюрьмы были пусты, но совершенно исправны, и Август осматривал их с большим любопытством. В конце сделанного им обхода он бросил сверху башни общий взгляд на крепостные стены замка и вернулся к графине, которую нашел там же, где ее оставил.
— А ты все еще грустна? — спросил он.
— Да, эта поездка совсем не веселит меня, — отвечала Анна. — Замок производит на меня самое неприятное впечатление. Мне чудится, будто я слышу здесь стоны тех, которые тут, должно быть, так ужасно страдали.
Король улыбнулся.
— Кто здесь страдал, тот, конечно, этого заслужил, — отвечал он. — А кто заслужил наказание, тот и должен его нести. Но что это значит, моя прелестная графиня, откуда приходят вам сегодня в голову такие черные мысли? Впрочем, если замок вам так не нравится, мы отвернемся от него и отправимся в зверинец. Там веселее: я приказал приготовить там стол, и мы хорошенько закусим; а между тем облава нагонит нам зверя, ты отличишься в стрельбе, и мы, как всегда, будем рукоплескать твоей ловкости.
— Хорошо, — отвечала рассеянно Анна.
В зверинце уже все было готово, как приказал король На ближайшей у входа поляне был раскинут великолепный турецкий шатер, напоминавший королю венский поход; стол был богато сервирован, и графиня Анна заняла за ним свое первое место.
День был жаркий; солнце стояло высоко и горячо пекло; в воздухе было душно и пахло грозою. Веселье не клеилось, а Август не любил около себя молчания и поэтому сам был не в духе и старался поскорее окончить закуску. Столы были убраны, и ловчие подали ружья, с которыми вся компания отправилась в глубину зверинца.
Хмурое настроение кое-как рассеялось, и под вечер общество, застрелив несколько серн и кабанов, тронулось в обратный путь. Но едва они обогнули замок, как увидели, что навстречу им по небу надвигается темная туча. Ехать навстречу ей было бы безрассудно, тем более что гром уже погромыхивал и вскоре упало несколько капель дождя. А потому решено было возвратиться в замок и переждать бурю. Так и сделали; но пока успели вернуться, туча разразилась и проливной дождь хлынул потоком.
Свита короля разместилась, где попало, а сам Август и его подруга вошли в одну из камор, где были стол и простые деревянные лавки. Лучшего помещения не было, и это производило дурное впечатление на расстроенную всем сегодняшним днем Анну.
— Здесь ужасно, — говорила она.
— Да, но что же делать, я не мог этого предвидеть, и другого помещения нет, — отвечал Август.
Анна покорилась необходимости, но вся дрожала. Тьма надвигалась все гуще и гуще, дождь лил и гулко стучал в свинцовые переплеты оконных рам, молнии реяли в самых разнообразных направлениях и, казалось, старались проникнуть под своды. И вот яркий зигзаг сверкнул над башней Доната, и все старое здание вздрогнуло до основания. Испуганная Ко́зель вскрикнула, но король ее успокоил: удар не причинил никакого вреда, башня не загорелась, и пошел сильный дождь.
Вскоре небо стало проясняться и можно было ехать.
Все снова сели на лошадей и отправились.
Проезжая мимо хаты, где утром была Млава, Ко́зель невольно искала ее глазами; но старухи здесь не было: она стояла подальше у дороги и, узнав Анну, улыбнулась ей, как старой знакомой. Август взглянул на Млаву и отвернулся.
_____
Питая глубокую ненависть к Карлу XII, Август видел в его успехах какое-то роковое преследование судьбы. Но все это было ничто в сравнении с его нерасположением к полякам, которым он приписывал все свои несчастья. Те из поляков, которые оставались верными сторонниками Августа и являлись к нему на поклоны, имели случай убеждаться, как он ненавидел их нацию.
Впрочем, в эту пору Август презирал все и всех; он был занят теперь одной мыслью: как поднять свою втоптанную в грязь репутацию, и, надо признаться, избрал для этого самое странное средство. Униженный дома врагами своей страны, он захотел явить себя героем для дел чужой земли.
Угождая императору, он отправился с небольшой горсткой своих людей во Фландрию, чтобы сражаться против французов. С этой целью он, сохраняя инкогнито, примкнул к войскам принца Евгения Савойского и действительно сражался с такой отвагой, что принц Евгений и Мальборуг считали нужным воздерживать его, чтобы не рисковал своей драгоценной жизнью.
— На войне, — отвечал Август, — надо быть немного кальвинистом и верить в предназначенье.
Этот его ответ пользовался большой известностью и дал повод многим сомневаться в том, был ли король Август «добрым католиком». Сомнение, впрочем, едва ли уместное, так как Август потому, собственно, и принял католичество, что у него не было никакой веры.
«Говорят, что Август переменил религию, — писал один из историков. Я не могу этого допустить, потому что переменить можно только то, что мы уже имели. Август разве принял религию, но не переменил ее».
Но как он ее принял?
Всем было известно, что тотчас же по принятии католичества он начал дерзко и грубо издеваться над обрядами своей новой веры: его шалости в этом случае доходили до того, что он вешал четки на шею своей любимой собаки.
Однако, военные подвиги с Евгением Савойским саксонскому королю тоже скоро наскучили, и он, предвидя, что осада Лиля может продлиться довольно долго, пожелал возвратиться к своей Саксонии и к своей Ко́зель.
Возвращаясь инкогнито, под именем графа Торгау, он заехал по дороге в Брюссель, где ему чрезвычайно понадобилось провести вечерок с танцовщицей Дюпарк. На вечеринке, происходившей в знаменитом тогда ресторане Вернуса, Август вознаграждал себя за суровое воздержание лагерной жизни и так увлекся Дюпарк, что, расставаясь с ней утром, пригласил ее приехать в Дрезден.
Бывшие с ним придворные тотчас же усмотрели в этом признак охлаждения к графине Ко́зель и намотали это себе на ус.
XIII
Между тем в Дрездене в отсутствие короля у Анны Ко́зель с наместником Фюрстенбергом и Флеммингом возникли большие неприятности, и эти два сановника решились во что бы то ни стало разделаться с надокучившей им королевской фавориткой.
Этого же горячо желал и весь двор, где было, конечно, немало интриганов, имевших цели заменить Анну для короля той или другой женщиной, на которую они могли бы иметь свое влияние. Графиня догадывалась об этом. Преданный ей Заклик разведывал и доносил ей все, что против нее строили ее недруги.
Поэтому долетевшие из Брюсселя слухи о Дюпарк были приняты с усиленным интересом, и возвращение короля ожидалось двором нетерпеливо.
Чувствовалась и ожидалась ожесточенная борьба, в которой Анна должна была пасть или стать еще сильнее.
Против нее были общее раздражение ловких и пронырливых интриганов и ее собственная самонадеянность; за нее — красота и сила, если не привязанности, то, по крайней мере, привычки к ней Августа и дети, в которых Анна видела узел, связующий ее с Августом. Его обещание жениться на ней она тоже считала делом серьезным!
Враги Анны, в свою очередь, рассчитывали, во-первых, на то, что она, по их соображениям, уже должна была порядочно надоесть королю своими капризами и безмерными тратами, а во-вторых, они ждали, что она сама поможет им своей несдержанностью. Она легко могла выйти из границ благоразумия.
Во время отсутствия короля ему доносили об обременительных для казны излишествах, и Август велел определить на расходы графини сумму, больше которой она не имела права требовать. Фюрстенберг ухватился за это и решительно отверг несколько раз возобновлявшиеся требования прибавок. Это до того возмутило не привычную к такому порядку Анну, что она поклялась при первой встрече с Фюрстенбергом дать ему публично пощечину. Знакомые с характером Ко́зель были уверены, что она исполнит это обещание.
Но положение Анны было не так еще плохо, как это казалось придворным: Август, возвратясь в Дрезден, прежде чем повидаться с женой, прямо отправился к Ко́зель во дворец «четырех времен года». Он застал графиню в постели, приходившую в себя после довольно серьезной болезни, и более чем когда-нибудь ласково и нежно старался отереть ее слезы.
— Ах, мой государь! — говорила, обнимая его, Анна. — С какой мучительной тоской и нетерпением ожидала я твоего возвращения! Мне так было худо; я столько здесь без тебя вынесла… О, будь милостив, избавь наконец меня от вечных преследований твоих друзей! Если я еще живу в твоем сердце, если ты еще не разлюбил меня, не дай меня в обиду!
— Кому? Кто тебя обижает? — спросил Август.
— О! Спроси лучше, кто не обижает меня? Все твои ближайшие доверенные и приятели в этом превосходят один другого. Этот противный пьяница Флемминг, этот лицемер и ханжа Фюрстенберг! Все они обратили меня в свою злобную игрушку. Я уверена, что они сговорились убить меня горем.
Плача, она была прелестна, и долго не видевший ее Август начал ее успокаивать.
— Ты все преувеличиваешь, — сказал он, — но я Фюрстенбергу и Флеммингу натру уши.
И за этим последовали теплые сцены, после которых король пришел во дворец, настроенный Анною, как ей хотелось.
Он не только холодно выслушал жалобы Фюрстенберга на мотовство фаворитки, но даже велел ему явиться завтра к ней и при нем самом испросить у Анны прощение.
— Да и ты тоже, — добавил он Флеммингу, — оба вы виноваты перед графиней и оба пожалуйте вместе. Вы ведь должны бы знать, что я терпеть не могу никаких ссор. Можете явиться к графине завтра утром, а я до тех пор постараюсь смягчить ее гнев на вас и расположить ее к примирению. Я надеюсь, что она вас простит.
Флемминг, позволявший себе иногда противоречить королю, попытался возразить.
— Ваше величество! Не было бы это слишком большим унижением для людей, которые исполняют порою ваши поручения совсем иного характера?
— Ну, что бы там ни было, а ты должен это сделать и сделаешь, или тебе придется с нами распроститься.
Генерал напрасно кипятился и ворчал, но того, что он должен бы сделать, охраняя свое достоинство, он, разумеется, не сделал, и оказалось, что Август знал этих господ лучше, чем они сами себя знали.
Утром на другой день оба они прибыли во дворец графини Ко́зель, и Август сам ввел их к своей фаворитке. Анна приняла провинившихся перед нею государственных людей с гневом и надменностью, и пока король, предстательствуя за виновных, сочинял им оправдания, враги меряли друг друга глазами; потом государственные люди притворились, что они раскаиваются и просят прощения, а фаворитка притворилась, что она их прощает.

Новый рынок в Дрездене с видом на Женскую церковь
Графиня Козель, любовница Августа и мать трех его детей
Нетрудно было понять, что они заключали между собой не мир, а перемирие, которое должно было окончиться при первом удобном случае. Но тем не менее на этот раз дело было улажено: никакая ссора более не тревожила короля, и достаточно униженные по его прихоти вельможи были допущены к руке его зазнавшейся любовницы и получили от нее дозволение удалиться по домам.
Там они могли спокойнее обсудить свое положение.
Интриганы опять приуныли: выходило, что Анна еще не потеряла своей власти над Августом и что его тайные волокитства выражают только его привычку к разврату, но что он едва ли в состоянии бороться с привязанностью к Анне.
Но вскоре они постарались поссорить ее с королем другим способом.
Приглашая Дюпарк приехать для нескольких представлений в Дрезден, Август не открыл ей своего настоящего имени и положения, он был ей известен под именем графа Торгау. Такого графа в саксонской столице не было, Дюпарк, разумеется, разыскивала Торгау напрасно. Август, конечно, это знал, и это его забавляло.
Дюпарк, имевшая при дрезденском театре тетку, была препровождена ею к директору королевских увеселений камергеру Мурдаху, который тоже, конечно, был обо всем извещен заранее, и тетка Дюпарк удивлялась, как предупредительно камергер принял ее племянницу. Он выразил готовность исполнить все ее желания и назначил ей вскоре же выступить на сцену в балете «Принцесса Елида», который только что был приготовлен к возвращению Августа из Фландрии. Во всем этом, конечно, надо было чувствовать влияние таинственного графа Торгау, и тетка с племянницей всячески доискивались, что за лицо скрывалось под этим именем, и начали подозревать в нем самого короля.
Танцовщица, увидев Августа в театре, тотчас же признала в нем своего брюссельского обожателя и, будучи представлена ему за кулисами, сочла нужным упасть в обморок к его ногам. Король приказал актеру Бельтуру помочь бедной танцорке и привести ее в чувство, а сам ушел в ложу графини Ко́зель, до которой, конечно, уже долетела весть о закулисном происшествии. Такое внимание короля к авантюристке, конечно, не понравилось Анне, и она ему это заметила.
— Мне кажется, — сказала она, — что ваше величество оказываете этой даме слишком много внимания. Стоит ли она этого?
Августу это не понравилось.
— Да, вы отчасти правы, — отвечал он сухо, — я к ней был внимателен. Впрочем, ведь я вообще внимателен к женщинам и знаю, что меня многие за это упрекают и доказывают мне, что не все, кого я отличаю, умеют не злоупотреблять этим. Однако, что делать?.. Я неисправим… К тому же мне кажется, что эта бедная Дюпарк должна быть довольно скромна.
Ко́зель покраснела и, подвинув свое кресло в глубину ложи, процедила сквозь зубы:
— Я, впрочем, никогда не сомневалась, что вкусы вашего величества так разнообразны, что вам могут нравиться даже и уличные потаскушки.
Август взглянул на нее, отвернулся и молча вышел из ложи. Через минуту он появился в ложе королевы, с которой в эту пору был ее брат маркграф Бранденбургский. Графиня оказалась в неприятном положении: наблюдательные глаза придворных видели, что у нее с королем что-то произошло, и она, будучи не в силах сдерживать свое негодование, пожаловалась на нездоровье и, приказав подать носилки, отправилась домой.
Август на этот раз был так рассержен, что не пошел после спектакля к графине и даже не приказал осведомиться о ее здоровье.
Между тем враги Ко́зель зорко за всем следили, и к Анне в самые неурочные для посещения часы пожаловала баронесса Глазенапп.
Она ворвалась к графине с выражением нежнейшего соболезнования и, присев у канапе, на котором лежала расстроенная Анна, зачастила:
— Что это случилось? У меня просто сердце сжимается за твою судьбу! И надо тебе сказать, что ведь ты еще не все знаешь: только ты вышла, король приказал Мурдаху устроить у себя вечеринку и пригласить туда эту отвратительную Дюпарк вместе с тремя другими актрисами. Я знаю из самых верных источников, что он тотчас же после театра пошел туда забавляться с ними…
— Пусть забавляется, — тихо проговорила Анна.
— Да, но он был в самом веселом расположении духа и, представь себе, что он до сих пор еще не выходил оттуда.
— Мне это все равно.
— Ты, верно, думаешь, что я шучу? Совсем нет, я знаю даже то, что он подарил по платью и по сто талеров тем трем актрисам, с которыми пировал, и отпустил их, оставшись с одной Дюпарк… О, моя бедная Анна!
И гостья бросилась участливо обнимать хозяйку.
Анна слегка отстранила от себя эти назойливые объятия и сказала:
— И это меня нимало не удивляет. Не думаете ли все вы, что я так ревнива, что способна даже завидовать дареным тряпкам? Право, как вы все смешны мне!
— Да совсем нет… Я не о том…
— Так о чем же? Я пережила уже очень многое, что было посерьезнее какой-то фигурантки с подмосток, и знаю все…
— Конечно, конечно…
— Я знаю и визиты, деланные по старой памяти княгине Тешен…
— Да, да, и Тешен… Как это все низко!
— Знаю и Генриетту Дюваль, — продолжала, не отвечая, Анна.
— Это ужасно, ужасно!
— Ужасно или неужасно, но этим счетам нет счета; но и все-таки дело не в том; а вы вот чего не понимаете…
— Чего, чего, дружочек Анна? Ты знаешь, что я тебе так предана, что ты со мной можешь говорить все!
— Знаю, но то, что я должна тебе сказать, я могу повторить перед целым светом, и еще лучше, если при этом будет стоять сам король…
— Я слушаю тебя, мое сердце…
— Я плачу, баронесса, не о себе, а о нем, о нашем короле, у которого такой несчастливый характер, что он не в силах не унижать себя самым жалким и недостойным образом.
Сказав это, Анна встала и тем дала почувствовать Глазенапп, что она ее поняла и не позволит ей рассорить себя с Августом.
После кутежа ночью с Дюпарк Август по возвращении в свои апартаменты почувствовал силу привычки и, вспомнив об Анне, захотел загладить свою неверность. Чтобы избежать сцен объяснения, он послал к ней Фицтума с поручением подготовить их свидание.
Фицтум до тех пор не вмешивался ни в какие интриги против Анны и находился с ней в добрых отношениях. Он явился к ней как бы сам по себе осведомиться о здоровье и нашел ее хотя и опечаленной, но довольно спокойной. Графиня держала на коленях свою старшую дочь.
На вопрос Фицтума о здоровье она отвечала:
— Как видите, граф, я здорова. Или, — добавила она с улыбкой, — вы, быть может, видите на моем лице признаки какой-нибудь опасной болезни?
— О, что до вашего лица, то я вижу на нем только одно, что вы всегда прекрасны.
— А вы всегда очень милы, любезный граф, — отвечала Анна и ни словом не подала своему собеседнику повода свернуть разговор ко вчерашним театральным событиям.
Фицтум увидел, что графиня не заговорит первая о короле и Дюпарк, а сам он не был уполномочен начинать такой разговор и потому сократил визит и, откланявшись Анне, вернулся к Августу с докладом, что нашел графиню в состоянии довольно спокойном.
Август целый день боролся с собою, но под вечер не выдержал и отправился во дворец «четырех времен года».
Август чувствовал, что он привык к Анне, и хотя страстная любовь к ней у него давно уже прошла, но ему было необходимо ее видеть.
Со своей стороны, Ко́зель, давно опытом убежденная, что нет на свете красоты, которая могла бы пленить Августа до того, чтобы владеть им без раздела, махнула рукой и решилась снисходительно относиться к его легкомысленным изменам.
— Вы вчера в театре сделали мне очень неприятную сцену, — начал король, — я этого очень не люблю, это почти публичный скандал, что мне как королю, я думаю, сносить непристало.
— Государь, если бы не моя любовь к вам…
— Полноте, пожалуйста, с такой любовью! Если она искренна, то что же мешает ей быть и благоразумной?
— Простите ей бессилие быть благоразумной! Я каюсь, что ищу невозможного, желая, чтобы меня не меняли на каждую встречную.
— Не невозможного, — отвечал Август, — вы ищите, а вы бы лучше избавили меня от своей смешной ревности.
— Не подавайте к ней повода, государь.
Король пожал плечами и проговорил:
— Где поводы? Кто виноват, что вы их видите повсюду?
Ко́зель ничего не ответила: с нее было довольно того, что ей не угрожает дальнейший гнев Августа, и они помирились.
После этого происшествия отношения Анны с королем несколько изменились — они сделались менее сердечными, и в них вкралась постоянная сдержанность. Порывы страсти обнаруживались только во вспышках из-за Дюпарк, от чего ревнивая Анна никак не могла удержаться, несмотря на всю свою твердую решимость.
Дюпарк, впрочем, была не в состоянии долго интересовать пресыщенного Августа. Это была женщина, которая могла понравиться его развратным инстинктам, но она не могла владеть его сердцем, и страсть кончалась тотчас вслед за удовлетворением причуд, которым она сослужила свою мимолетную службу.
Вульгарное обращение Дюпарк и ее театральных приятельниц постоянно пробуждало в короле желание иного общества, и все эти женщины вдруг сразу ему надоели; а вместе с тем Ко́зель возвратила себе прежнее влияние.
_____
Так опять прошел год.
В следующем же году в Дрезден приехал датский король Фредерик IV, который на обратном пути из Италии пожелал навестить свою тетку, королеву саксонскую. Август, пользовавшийся каждым удобным случаем, чтобы праздновать и сорить деньгами, принимал своего августейшего родственника с удивительной роскошью. Он, еще до приезда его, сам лично обдумал весь план разнообразнейших увеселений, которыми непременно желал восхитить повелителя Дании. В числе оригинальностей этого плана было то, что графине Анне Ко́зель как прежней подданной датской короны по рождению (она была из Голштинии), предназначалось быть хозяйкой. Таким образом, она была призвана играть всегда на собраниях и на пирах первую роль.
Как только в Дрездене стал известен день приезда Фредерика IV, король с вечера выслал навстречу ему самую почетную свиту с отрядом отборного войска и музыкантов.
Сам Август, окруженный великолепнейшей свитой придворных, встретил Фредерика IV за две мили от города и сопровождал его в Дрезден, куда кортеж въехал при громе орудий и яркой иллюминации.
Около замка стояла королевская гвардия. На главной лестнице гостя встретили королева и молодой принц.
В парадных апартаментах их ожидали придворные дамы; королева каждую из них представляла своему августейшему племяннику.
Но этот официальный прием продолжался весьма недолго. После короткого разговора Фредерика с теткой и родными Август взял его под руку и провел в предназначенные для датского короля комнаты. Но и тут они не задержались и через несколько минут шли уже крытым ходом, соединявшим королевский замок с дворцом графини Ко́зель.
Парадный ужин, который должен был происходить со всем церемониалом двора Августа, был сервирован в большой зале замка. Все придворные чины — кравчие, подчашии, подкомории и пажи — в богатых, расшитых галунами уборах были на своих местах у стола, как им надлежало быть по этикету.
Датский король сидел между Августом и королевой. Первый провозглашенный за его здоровье тост отсалютовали пушечными выстрелами с крепостных стен. На хорах и в галереях играла музыка. Вся зала, блестевшая огнями и золотом, была убрана также зеленью и цветами. Тут были собраны богатства, какими в то время едва ли мог похвастать какой бы то ни было другой европейский двор.
Но и все это можно было почесть бледным и незанимательным. Вокруг стола стояли красивейшие из дам двора Августа, а среди них самой прелестнейшей была, разумеется, она, Анна Ко́зель. Богатый, усыпанный бриллиантами туалет был превосходен.
Датский король был поражен ее красотой и, вероятно, желая сделать удовольствие Августу, попросил у своих августейших хозяев, чтобы графине разрешено было сесть. Август, разумеется, был очень этому рад и в знак согласия кивнул головой. Анна поклонилась и заняла место, к немалому неудовольствию других дам, которые остались стоять на ногах.
Фредерик гостил в Дрездене сорок дней, и все это время изобретательность саксонского короля не истощалась; одно удовольствие сменялось другим. Король был на это неподражаемый мастер.
На дрезденские карнавальные праздники собирались придворные и дворяне, обязанные наряжаться в дорогие костюмы. Не менее разнообразны были королевские охотничьи развлечения: скачки по лесам за оленями, травля кабанов и зайцев, стрельба куропаток и фазанов. Рыцарские игры, карусели, скачки за перстнем, пешие турниры, стрельба при факелах в специально сделанных для этого стрельбищах на рынке, — все это оживляло и разнообразило удовольствия.
Кроме того, при этих затеях были свои курьезы: при стрельбе, например, пуля, попадая в цель, тотчас зажигала фейерверк и тысячи ракет взвивались к небу. При этих состязаниях раздавались и награды, и часто весьма ценные, а иногда, впрочем, и шуточные, например, лисий хвост.
Если к тому времени, когда было назначено катанье на санях, снег таял и путь пропадал, то в город сгоняли тысячи крестьян, которые привозили снег на телегах.
Маскарады и балы в большой зале замка отличались великолепием. Огромную залу освещали семь огромных жирандолей, из которых в каждом горело до пяти тысяч восковых свечей. Рядом в зале аудиенций накрывались восемнадцать столов для приглашенных гостей. На маскарады допускался всякий, кто был прилично одет.
Иногда развеселившиеся маски, разгуливая по городу, врывались, незваные, в дома мирных граждан и потешались над испугом хозяев. Условия карнавальной свободы требовали, чтобы двери перед ряжеными не запирались. Притом, между масок мог быть сам король.
В Дрездене также были французский театр, итальянская опера и балеты, и все эти затеи стоили Августу ежегодно более восьмидесяти тысяч талеров.
Датскому королю Август желал показать все, чем мог похвалиться, и эти дни были днями наивысших успехов графини Ко́зель. Она была настоящей царицей всех удовольствий: оба короля носили ее цвета; фейерверки горели ее вензелями; ее буквы красовались в цветочных венках и гирляндах, она раздавала награды и была во главе всех дам на стрельбе в перстень.
Из всех празднеств, однако, самым блестящим было так называемое шествие богов и богинь, которое до тех пор было практиковано только однажды, в 1695 году; но теперь повторялось с гораздо большим великолепием и роскошью.
В этом шествии принимал участие и датский король, ему была дана роль Юпитера; Август был Аполлоном, а графиня Ко́зель изображала Диану, окруженную целой свитой прелестных нимф. За ней следовала золотая триумфальная колесница, в которой помещались музыканты. Затем, несмотря на довольно уже большое утомление гостей, назначена была еще дамская скачка за перстнем, эта последняя затея была сочинена, собственно, для Анны и должна была служить финалом ее торжеств.
Этот день настал: оба короля явились, украшенные цветами и вензелями графини, и датский король сам вел ее под руку, а Август и подкоморий шли у них с обеих сторон.
Королева скромно смотрела на весь этот парад из своей ложи.
XIV
День был превосходный, с чистым голубым небом.
Ложи и галереи вокруг двора, на котором происходила скачка, были заполнены многочисленными зрителями, роскошные наряды дам были ослепительны; но опять прелестнее всех была она, эта неустрашимая амазонка. Всегда ловкая и гибкая, Анна, сидя на коне, казалась еще грациознее и имела успех необыкновенный. В ложе королевы ей рукоплескали, а короли приготовили победительнице дорогие подарки. Это, разумеется, во многих поднимало самую черную зависть, но король не обращал никакого внимания ни на злобные взгляды дам, ни на их ехидный шепот за веерами.
В толпе между чиновниками и придворными, не принимавшими в зрелище участия, стоял Заклик: он случайно оказался среди людей, которые не знали и не стеснялись его.
— Да, нечего сказать, она очень хороша! — говорил один человек, с виду иностранец. — Я думаю, что вашему королю лучшей любовницы себе нигде не достать.
— Пожалуй, что и так, — отвечал старый придворный.
— Да, не достать, и уже она, верно, и будет его последний номер.
— Ну, это совсем другой вопрос, — отвечал старый придворный и, усмехнувшись, продолжал: — Глядя на нынешнее, я припоминаю прошлое и думаю, что еще придется увидеть в будущем? Помню я очаровательную Аврору, помню добрую Эстерле, и кажется, еще теперь точно вижу перед собой прекрасную Шпигель и милую Тешен. И из всех одна эта Ко́зель каким-то удивительным образом задержалась всех долее, но чтобы она могла еще долго быть в этой роли или совсем привязать к себе короля, этому не бывать.
— Но ведь говорят, что король обещал на ней жениться? — шепнул иностранец.
— И, милостивый государь, мало ли чего женщинам не обещают в иное время? Все ли то исполняется, да и можно ли все то исполнить, что они требуют? Обещал он то же самое, я думаю, и княгине Тешен, ожидала этого же и прекрасная Аврора, но Бог продолжит дни нашей достойной, доброй королевы, и прелестная рыцарка турнира, на которую мы с вами любуемся, уйдет вслед за другими.
— А если и так, то, должно быть, это случится еще очень нескоро, — засмеялся иностранец.
— А кто за это поручится? — отвечал придворный. — Посмотрите-ка вон туда, на целый ряд этих еще прекрасных, нежных лиц, на которых так и горит зависть. Они ведь все имели свои дни фавора. А там в углу, видите, группа французских танцоров и танцорок? Там стоит Дюпарк, которая и теперь делит с этой амазонкой сердце и ласки государя… Хотя все ее достоинства заключаются разве в том, что она некрасива и распутна. И, государь мой, ни за что нельзя отвечать, что случится.
Сзади Заклика стояли другие придворные, которые тоже не скрывали своего нерасположения к графине.
— Как хорошо все идет, — говорил один из клевретов Фюрстенберга. — Она совсем занеслась, и теперь можно определить час ее падения.
— Да, это так! — отозвался другой. — И притом я теперь еще вот что предсказываю: вы увидите, что король не расстанется с ней так тихо, как расставался со своими прежними фаворитками.
— Почему вы так думаете?
— Да она сама нарвется на какую-нибудь историю. С ней не так легко разделаться, ведь она, говорят, носит при себе заряженный пистолет и подписанное королем обещание на ней жениться. Она себя погубит, но будет все-таки отстаивать свои права.
— Впрочем, мы уже третий год предсказываем ее падение, — сказал первый и, обратясь к стоявшему неподалеку барону Киану, спросил: — Какого вы об этом мнения, барон?
— Я, любезнейший мой, ведь не астролог, я будущего не предсказываю, — отвечал Киан, — и не умею вычислять, когда какая звезда восходит и когда какая заходит. Но я знаю, однако, что есть и неподвижные звезды.
В одной из лож графиня Рейс, Фицтум, госпожа Юльхен и баронесса Глазенапп переговаривались о той же Анне.
— Мы сами виноваты, — замечала Рейс. — Вот уже несколько лет около короля одни и те же лица, надо было давно добыть ко двору что-нибудь новое.
— Да, но что добыть? — прервала Фицтум. — Я терпеть не могу этой женщины, но должна признаться, что против нее трудно что-нибудь отыскать!
Опытная и поседевшая в интригах Рейс на это засмеялась и, прищурив глаза, сказала:
— Я удивляюсь, однако, что все вы, зная характер нашего короля, не знаете, что нужно добыть, чтобы заставить его забыть Ко́зель? Добудьте такую женщину, которая могла бы нравиться и была бы всего менее похожа на Анну. Но я обращаю теперь ваше внимание на датского короля. Смотрите, как он сладко на нее поглядывает!
— Да, в самом деле, но зато она изволит окидывать его олимпийским взглядом.
— Если бы не хотелось плакать, то, право, смеялась бы над этой сумасшедшей авантюристкой, — шепнула Юльхен.
Такие разговоры слышались повсюду.
После ужина, который заключил турнир, Анна возвратилась домой. Она была очень взволнована: лицо горело еще огнем торжества, но силы ослабли от усталости и особого лихорадочного состояния, которое овладело ею под влиянием замечаемых зловещих, завистливых взглядов.
Так, не снимая своего наряда, она сидела в грустном раздумье на софе, пока во дворце утих всякий признак жизни.
Анна не ждала к себе короля, потому что он на следующее утро уезжал вместе со своим гостем в Берлин: это ее тоже тревожило. Но вот в коридоре, из которого была лестница в галерею, соединявшую дворец Анны с королевским замком, послышались шаги. Это, конечно, не мог быть никто другой, как Август. Ко́зель вскочила с софы и подбежала к зеркалу, чтобы оправить на себе платье. Ее роскошные черные волосы, которые она хотела поскорее свернуть, не повиновались ее торопливой руке, и король вошел прежде, чем она успела привести свой туалет в должный порядок.
С первого взгляда на Августа Анна заметила, что он пришел к ней в том возбужденном состоянии, в каком она его редко видела и наименее любила встречать его. Ясно было, что король, прощаясь со своим августейшим родственником, не считал выпитых бокалов. Они пили до тех пор, пока Фредерика пришлось с подобающим его царственной особе уважением отнести на кровать, а Август, стараясь не потерять равновесия, побрел к своей фаворитке. Войдя в комнату, где была Ко́зель, он тотчас же тяжело опустился в кресло и заговорил нетвердым голосом:
— Анна, я пришел проститься с тобой! Гм! Сегодня, кажется, для тебя был такой триумф, какой редко испытывает женщина… Что?.. Поблагодари же меня, по крайней мере, за это!
И он засмеялся.
— Ах, государь, — отвечала графиня, — разве я не всегда вам благодарна? Но если бы ты, мой Август, видел, какими полными зависти глазами все на меня смотрят, если бы ты слышал все злые речи, которые шепчут их сжатые губы, ты бы понял, что мне весь этот триумф приносит меньше счастья, чем досады и печали.
— Пустяки, — отвечал, усмехнувшись, Август. — Зависть — вечная трагикомедия жизни. Без завистников и врагов не проживешь. Я имел моего Карла XII, ты — своего Флемминга, но я весел и ты будь весела.
— Не могу, государь!
— Пустяки, я тебя прошу, будь весела для меня! — сказал Август.
Ко́зель посмотрела пристально на его веселое от вина лицо и в самом деле невольно рассмеялась.
— Вот видишь, — сказала она, — если бы ты был со мною, так я, верно, и опять скоро бы развеселилась; но ты от меня бежишь, бросаешь меня, уезжаешь надолго и… кто знает, каким сюда вернешься.
— Во всяком случае, только не таким пьяным, как теперь, — отвечал Август. — Черт возьми, вино я люблю, но терпеть не могу его власть над собой.
— Да, что же делать, но скажи мне лучше, когда же ты ко мне возвратишься?
— Ну, об этом надо спросить у астрологов. Я, право, ничего об этом не знаю. Мы едем в Берлин, и меня, признаюсь, занимает, как эти скаредные Бранденбурги будут принимать гостей после моих дрезденских праздников. Плоховато, я думаю… Фридришек будет забавлять нас своими солдатами, а еще усерднее морить голодом.
— Ты возвращайся только скорее.
— Возвращусь.
— Скоро и так…
— Как еще?
— Так, чтобы тебе нестыдно было взглянуть в глаза твоей верной Анне!
— Это из Берлина-то! — рассмеялся Август. — О, не беспокойся! Вот уж там-то моему целомудрию не угрожает никакая опасность. Я не знаю ничего скучнее этого бесцветного и скучного двора.
— Ну… там цветет Дессау! — ревниво шепнула Ко́зель.
— Вот это правда, она очень красива; но будь она католичка, ей надо бы сделаться монахиней: в ней ни тени страсти и самая противная претензионность, она обижается за каждое вольное полуслово. Нет, я таких не люблю.
Август попробовал подняться и потер себе лоб так неосторожно, что сдвинул несколько на сторону завитой парик. Ко́зель поправила его, и король, удержав ее ручку, покрыл ее поцелуями.
— Ты знаешь, — сказал он ласково, — у меня ведь есть к тебе просьба.
— Приказывайте, государь.
— Нет, я прошу!
— Что же такое?
— Помирись с Флеммингом… Я откровенно тебе скажу, что ваши постоянные неудовольствия мне просто поперек горла стали, и всякий раз, как мне случается выехать, они мне приходят на мысль и… и ужасно меня раздражают! — заговорил он с заметным нетерпением.
Ко́зель поморщилась.
— Государь, мне кажется, вы лучше бы сделали, если бы соблаговолили внушить все это Флеммингу. Он первый без вас всегда старается оскорблять меня, чтобы дать чувствовать, что я… не жена ваша; между тем как…
— Между тем как вы моя жена! — договорил еще с большим нетерпением Август, и губы его сложились в улыбку, а в глазах сверкнуло негодование.
— Надеюсь, что это так, и как жена короля я вовсе не желаю стоять на одной доске с кем бы то ни было из королевских слуг.
— Ах, как мне эти войны уже надоели!
— Что же, нет ничего легче их прекратить. Вам только следует приказать Флеммингу быть мне покорным, и никаких войн не будет. Неужто вы не можете заставить его уважать мать ваших детей?
Король, выслушав эти слова, встал и, ничего на них не ответив, простился и вышел.
Хотел он помирить Анну с Флеммингом или еще более их поссорить, это было известно одному ему; но, несмотря на довольно поздний час, он тотчас по возвращении в свои апартаменты призвал Флемминга и сказал ему:
— Вот что, старик, Ко́зель мне опять на тебя жаловалась. Ты, право, должен бы ей уступать. Ну, что за счеты с женщиной? Мало ли что там она сболтнет сгоряча, не всякое слово записывай. Ведь пора тебе знать женщин, а то хоть у меня поучись, как я сношу ее капризы.
— Государь, — отозвался Флемминг, — ваше величество совсем другое дело, за ваше терпение графиня может платить вам такой расположенностью, что одно с избытком покрывает другое.
— Может быть, но ведь и я к тебе расположен и могу жалеть, что ты ни во что не ставишь мою расположенность.
Флемминг поклонился и отвечал:
— Ваше величество изволите знать, что я не силен в расчетах и потому мне лучше не прибегать к ним.
— Ну, кончим об этом, будь, по крайней мере, хоть в хороших отношениях с Ко́зель.
— Трудно это, государь.
— И это трудно?!
— Да, государь, трудно: я ни льстить, ни лгать не учился, и старая спина моя уже не гнется… Я ведь совсем не придворный!
Король расхохотался.
— Не придворный, — проговорил он, — а знаешь ли, это правда.
— Правда, государь.
— И вот графиня Ко́зель, которая тебя, конечно, не любит столько же, как и ты ее… она очень наблюдательна!..
— Может быть, государь.
— Я тебя уверяю!
— Да я никак и не смею не верить.
— Она мне много раз говорила, что ты совсем не похож на придворного.
— Очень ей за это благодарен.
— Да, но ты знаешь, на кого ты похож, по ее мнению?
— Не знаю, государь, и… если можно мне об этом не знать…
— Нет, отчего же, — перебил Август, — в этом сравнении для чести твоей нет ничего обидного. Она находит, будто бы ты похож на обезьяну, хотя я, по правде сказать, с нею на этот счет не согласен.
Флемминг поднял голову и, сверкнув глазами, хотел что-то сказать, но только пробурчал что-то глухо и умолк.
Если бы король долго придумывал, как злее поссорить навсегда Флемминга с графиней Ко́зель, то он не мог бы сочинить лучше того, что сделал.
Здесь будет уместно несколько ближе познакомиться с генералом Флеммингом, который играет большую роль в развязке нашей истории.
Граф Яков Генрих Флемминг был довольно могуществен при Августе.
Говорили даже, будто ему была обещана польская корона. Одна из его кузин, дочь фельдмаршала Флемминга, была в Польше замужем за Пшебендовским, а через это у генерала завязались с Польшей отношения.
По своему времени Флемминг был человек образованный и более дипломат, чем воин, хотя избрал военное поприще. Как все дипломаты того времени, он держался известных правил Макиавелли: ему все средства казались прекрасными, если только они вели к желанной цели.
Об убеждениях своих он говаривал так: «По-моему, людей создают обстоятельства. Каждый имеет способности ко всему, только каждому нужен случай, чтобы себя испробовать. Я могу служить в этом случае лучшим примером. Сначала я сознавал себя способным к военному делу и не имел никакого другого желания, как получить полк. И, однако, я дошел до того, что теперь я и фельдмаршал и первый министр, хотя в жизни моей никогда не сидел ни в одной коллегии. Я управляю и Польшей и Саксонией, между тем я не знаю законов ни Саксонии, ни Польши. Чего же вы еще хотите в доказательство моей теории?»
С первого взгляда он казался весьма простодушным, но это было обманчиво: он был вкрадчив, хитер и, где надо, смел.
Он был старше своего короля только на три года; жил он по-княжески, отлично говорил по-французски, по-польски и по-латыни; здоровье имел удивительное: он в состоянии был не спать ночи, много пить и не напиваться, вздремнуть с четверть часа в кресле — и быть готовым к делу.
Наружностью он не взял: Флемминг был очень некрасив и притом он, вопреки тогдашней моде, не носил парик. Он очень любил деньги и не гнушался взяток, но король, узнав однажды, что Флемминг взял с кого-то пятьдесят тысяч талеров, ограничился тем, что сказал ему:
— Послушай, Флемминг, я точно знаю, что ты кое-что хапнул. Мне кажется, что это тебе одному уже слишком много. Доставь-ка, брат, половину мне.
И министр поделился взяткой с королем.
Вот с этим-то человеком стала в отношения непримиримой вражды графиня Анна Ко́зель.
XV
Между тем как король Август забавлялся, Карл XII потерпел страшное поражение на полях Полтавы: эта роковая битва решила его судьбу и изменила положение дел в соседних государствах.
Король Август, возвращаясь с радостью из Берлина, где скромный двор не старался поразить его пышностью приема, был удивлен, когда курьер, высланный к нему из Польши княгиней Тешен, привез ему весть о поражении Карла. В первую минуту Август даже растерялся и продолжал лепетать о своем отказе от польской короны, но в это же время явился Флемминг и внушил ему, что вынужденные оружием договоры ничего не значат и что при нынешних благоприятных обстоятельствах надо вернуть себе Польшу, так как Лещинский — король незаконный. Флемминг уверял, что найдутся тысячи рук для защиты этого дела и что королю стоит теперь только появиться в Польше, чтобы восторжествовать над всеми прежними неудачами.
Польская корона, разумеется, была привлекательна, тем более что вместе с возвращением этой короны воскресала надежда создать там наследственную монархию. А потому Флеммингу не стоило большого труда склонить своего государя изменить его взгляды, установившиеся во время долгих неудач, и взяться опять вести дело к тому, чтобы хотя бы часть Речи Посполитой слилась воедино с Саксонией и образовала бы вместе с нею достаточно обширное государство. А для этого нужно было прежде всего возвратить польскую корону, и, конечно, на тех условиях, чтобы она более уже не подлежала избирательному праву, а обратилась бы в наследственное достояние саксонских королей.
Август согласился на все доводы Флемминга и дал приказ как можно скорее собрать войска и двинуться в Польшу. Флемминг и его польские друзья обещали самое ревностное содействие.
В удаче этой затеи никто не сомневался, расчет казался совершенно верен. Из Польши, по приглашению Денгоф, прибыли в Дрезден маршал сендомирской конфедерации и епископ Куявский-Шенявский. Против побитого шведа у Августа был добрый союзник, племянник Фредерик датский, с которым Август обо всем условился, пока тот гостил в Дрездене. Фридрих Бранденбургский также был согласен на эту комбинацию. Образовалась целая лига, на память о которой впоследствии выбита была медаль, изображавшая три соединенные руки трех Фридрихов.
Теперь, когда закипело такое дело о польской короне, Август не имел времени забавляться любовью. Приехав в Дрезден, он получил более подробное известие о полтавской битве и приказал отпечатать о ней циркуляры для всеобщего сведения, а сам снова полетел в Пруссию, чтобы условиться окончательно.
Во время короткого пребывания в Дрездене он едва успел поздороваться и проститься с Ко́зель.
Флемминг с ней теперь церемонился менее, чем когда-либо: он чувствовал себя в эту пору нужным человеком и мог ее игнорировать. Она обращалась к нему с несколькими просьбами, но он отвечал, что у него есть важные дела, и просьбы ее оставлял без всякого внимания; а одно присланное ею письмо разорвал и притоптал ногами на глазах посланца графини. Мало этого: он приказал последнему сказать Анне, что он ни жалоб, ни угроз ее не боится и знать их не хочет. Это был слишком обидный вызов, чтобы Ко́зель могла стерпеть его без ответа.
На другой или на третий день после этого события судьба свела их на улице: Флемминг был верхом, графиня в карете. Увидев своего врага, она высунулась из экипажа и, грозя ему рукой, крикнула:
— Эй вы! Генерал!.. Помните ли вы, кто вы такой и кто я? Вы слуга короля, обязанный исполнять, что вам приказано, а я здесь хозяйка! Вы хотите войны со мной? Прекрасно, вы ее будете иметь!
Флемминг засмеялся и, приложив с притворной любезностью руку к фуражке, отвечал:
— Успокойтесь, мне некогда вести войны с женщинами, как некогда и потворствовать их капризам.
Графиня хотела крикнуть Флеммингу несколько дерзких слов, но он повернул коня и поехал в другую сторону.
Вдобавок, прислуга их тоже повздорила, и дело чуть не дошло до драки.
Началась открытая война. Своенравная Ко́зель, терзаясь бессильным гневом, ждала короля со страшным нетерпением.
Август успел еще дорогой узнать о происшедшем и, приехав в Дрезден рано утром, с неудовольствием заметил Флеммингу:
— Как это вы, старый солдат и дипломат, не умеете поладить с женщиной?
— Виноват, государь, — отвечал Флемминг, — я лажу довольно со многими женщинами, кроме одной, которая присваивает не принадлежащее ей имя нашей королевы и разоряет страну.
— Но если я люблю эту женщину и требую, чтобы ей оказывали уважение?
— Ее никто не трогает, — отвечал коротко Флемминг.
Король замолчал, и тогда Флемминг продолжал более спокойно и с достоинством:
— Ваше величество, я буду теперь говорить об этой женщине и прошу вас простить мне это. Она съест Польшу и Саксонию, и ей всего этого будет мало. Угодно ли вам позволить ей это? Если ваше величество чувствуете себя слабым освободиться от нее, то мы, окружающие ваш трон, обязаны позаботиться, чтобы освободить вас от ее оков.
Август прекратил разговор и отправился к Ко́зель. Та ожидала его с гневом и упреками, которых Август вообще терпеть не мог. Она начала свои жалобы чуть не с самого порога, бросившись на шею королю, она вопила:
— Защити меня! Со мною обходятся, как с последней из женщин. Флемминг поносит меня публично, он рвет и топчет мои письма, я не могу более сносить этих унижений. Воля твоя, государь, скажи сам, кто тебе дороже: он или я? Кто дороже, того и оставь при себе.
Август хотел отделаться шуткой, он со смехом обнял Анну и заговорил:
— Успокойся, ты все преувеличиваешь и берешь слишком близко к сердцу. Флемминг мне теперь так необходим, что я не могу им не дорожить.
— Ах, он дорог… Так вот что! — воскликнула Ко́зель. — А я не дорога уже?
— Но ведь ты хорошо знаешь, что ты дорога, что без тебя для меня нет жизни, но, однако, если ты меня сколько-нибудь любишь, то и ты ведь должна же чем-нибудь для меня пожертвовать…
— Всем, всем государь, кроме моей чести!
— Чести твоей никто не трогает, а с Флеммингом ты должна жить в мире.
— Никогда!
— Нет, должна! Он извинится перед тобой, и ты должна принять его извинение.
— Я не хочу этого, я желаю быть свободной от всяких встреч с этим гнусным человеком.
Август взял ее за руку и молвил спокойно:
— Послушай, моя дорогая Анна, твоя требовательность не знает границ, сегодня ты настаиваешь на удалении Флемминга, завтра тебе не понравится Фюрстенберг, а когда я выгоню их обоих, ты заведешь счеты с Пфлугом и с Фицтумом. Это ведь твоя слабость, ты ни с кем не можешь ужиться.
— Потому что, кроме тебя, государь, здесь все мне враги.
И она начала горько плакать, а король позвонил и, несмотря на протест хозяйки, приказал немедленно позвать сюда генерала Флемминга.
Флемминг вошел и, не поклонясь графине, обратился к королю с вопросом, что его величеству угодно.
Ко́зель стояла спиной к своему врагу и едва себя сдерживала.
— Мой любезный Флемминг, — обратился король, — ты знаешь, как я не люблю, чтобы около меня происходили ссоры. Если ты сколько-нибудь меня любишь, сделай милость, извинись перед графиней, и протяните друг другу руки.
— Никогда на свете! — вскричала Ко́зель. — Я не подам своей руки ничтожному придворному, который отважился обидеть беззащитную женщину.
— Не беспокойтесь, графиня! — отвечал Флемминг. — Я совсем и не думаю навязывать вам свою солдатскую руку, я не буду просить у вас прощения.
Это взорвало Августа, и он вскочил с места.
— Генерал! — воскликнул он. — Ты это сделаешь для меня! Ты это сделаешь!
— Нет, и для вас, государь, не сделаю. Если вам после этого неприятно меня видеть, я готов оставить мою службу.
— Вы подлый, вы неблагодарный! — закричала Ко́зель, выходя из себя. — Милости государя сделали вас слишком заносчивым! Вы забыли, верно, что от Дрездена недалеко до Кёнигштейна!..
— Графиня! Прошу вас, ради Бога!.. — крикнул король.
— Государь, нет, позвольте наконец мне быть с ним откровенной.
— Графиня, я не скрываю своего отношения к вам, — отвечал Флемминг. — Любовь к государю заставила меня раз объявить вам, что вы грабите страну до того, что нам не на что выставить войско и возвратить королю Августу отнятую у него корону, и я это повторяю вам еще раз.
— Флемминг! Да что же это такое? И ты, в свою очередь, тоже забываешься! — воскликнул Август, который, однако, совсем без гнева слушал эту грубую и резкую перепалку.
— Идите же вон из моего дома! — крикнула Ко́зель, топнув на Флемминга ногой.
— Этот дом не ваш и не будет ваш. Это дворец моего короля, и я не выйду отсюда без королевского приказания.
— О, Боже, — воскликнула, рыдая, Ко́зель. — Ваше величество! Да что же вы? Разве вы сами теперь не слышите, как мне отвечают?
Она заломила руки и упала, рыдая, в кресло. Король подошел к Флеммингу.
— Генерал, — сказал он спокойно и любезно, — пойми меня, пожалуйста, я прошу тебя помириться, потому что вы оба мне дороги и необходимы.
— Ваше величество лучше сделаете, если не изволите ни смотреть на это, ни слушать.
Король только взглянул на дрожавшего от гнева Флемминга и, поняв, что ему не помирить теперь с ним разъяренную графиню, подал генералу руку и, пожав ее, дал ему знак удалиться, а сам начал расхаживать крупными шагами по комнате. Это продолжалось довольно долго, и во все это время Анна, уткнувшись лицом в спинку мягкого канапе, тихо всхлипывала; но ее наконец вывело из терпения, что король не обращает на нее никакого внимания, она быстро откинулась и, сверкнув на него негодующим взглядом, вскрикнула:
— Так что же это, ваше величество!
Август неожиданно вздрогнул и, остановись перед нею, спросил:
— Что такое?
Он, очевидно, был занят совсем не тем, что занимало женское самолюбие графини Анны, и потому его так испугал ее внезапный возглас, прервавший на этот раз нить его соображений, от которых ему, вероятно, не хотелось отрываться.
— Как что такое? Вы разве не видели и не слышали, до чего я низведена в ваших же глазах? И вы еще подали здесь… здесь же, при мне, этому человеку вашу руку!
— Ах, моя дорогая, — отвечал довольно спокойно король, — право, твои слова доказывают, что ты совсем не знаешь или не хочешь знать моего положения. Так пойми, пожалуйста, что Флемминг в эту минуту мне нужен, он моя правая рука, и я не могу с ним ссориться, потому что это мне может стоить ни больше ни меньше, как целой Польши. Прогнать его теперь, ради твоего каприза, значит потерять польскую корону. Пойми ты это, сделай милость. Этого, мне кажется, ты бы не должна требовать от меня, а если и потребуешь от меня как от своего любовника, то я твердо откажу тебе как король.
Трудно ручаться, образумила ли бы Анну сила всех этих доводов дипломатического свойства, но слово «любовник» дало всему иной, неожиданный оборот, сгубивший все дело.
Услышав это слово, Ко́зель страшно побледнела и, как бешеная, бросилась с искаженным лицом к королю:
— Вы мой любовник! Любовник!.. Нет, это ложь, ты муж мой, я имею на это тобою самим данное письменное доказательство.
Август поморщился.
— Ну и прекрасно, — сказал он. — Так тогда тем более ты должна дорожить моими интересами, моей короной и моей честью.
Это немножко смягчило Анну, а Август взглянул на часы и добавил:
— До свиданья, моя дорогая, я теперь не господин своему времени, у меня и здесь гибель дел, и мне надо как можно скорее собираться в Польшу. Пожалуйста, успокойся и только сама себе ничего не порти, а Флемминг тебя не тронет.
Ко́зель ничего не отвечала и молча подала королю руку. Август простился и вышел.
Вскоре же после описанной сцены Август собрался в Польшу, и на этот раз уже без графини, присутствие которой теперь было бы и некстати, да и она недомогала. Эти передряги, происшедшие частью по ее же собственной вине, сильно ее расстроили; к тому же она опасалась за дальнейшее: Август брал с собой Флемминга, а это для Анны было хуже, чем оставаться лицом к лицу с этим своим врагом. Она опасалась, что он употребит все средства, чтобы оттереть ее от короля. Конечно, она не боялась, что Август там встретится с графиней Тешен, нет, восстановление старых связей было не в его обычаях; но мало ли что могло быть предложено к его услугам помимо Тешен. Варшава всегда была местом соблазна и не для таких падких людей, как Август.
Расстались они очень тепло: король до последней минуты разлуки был с нею нежен и говорил, что он приказал своему наместнику Фюрстенбергу всячески ее беречь и покоить. Анну тешило немножко и то, что она отчасти восторжествовала над Флеммингом, который желал назначения великим маршалом Ваккербарта, тогда как Анна поддерживала барона Левендаля, ее родственника, и назначение пало на него, конечно, к крайней досаде Флемминга.
Барон Левендаль, обязанный Ко́зель своим быстрым возвышением, был, однако, не из числа людей, на признательность и благородство которых можно полагаться: он был придворный карьерист, и Анне на него нечего было рассчитывать. Так и последовало: получив место, он тотчас же открыто перешел на сторону Флемминга, который теперь в эту, так сказать, деловую пору царствования Августа был гораздо сильнее шедшей по склону фаворитки.
Притом же Анна сделала еще одну большую ошибку: под влиянием нездоровья и своих грустных предчувствий она утратила весь свой азарт и простилась с Августом как самая кроткая женщина, требующая нежного сострадания. Это в глазах циничного Августа могло делать женщину только смешной: он любил наслаждение, а не прекраснодушие, до которого ему, собственно говоря, не было никакого дела.
Желание расчувствовать его было самым верным средством оттолкнуть его от себя; это и случилось, и когда Анна в час последней разлуки обливала слезами руки своего обожателя, она могла чувствовать, что он едва набирает для нее утешительные фразы, а на самом деле даже рад бежать от нее.
Против такого врага, как охлаждение, противостоять невозможно.
Кроме того, Августа теперь, конечно, сильно занимали его политические интриги, в которые он втянулся с хлопотами о польской короне; но при всем этом он, однако же, помнил об Анне, — по крайней мере, так было в начале разлуки, когда редкий гонец, привозя в Дрезден депеши, привозил и письма Анне; но письма эти самым аккуратным образом распечатывались и просматривались в канцелярии князя Фюрстенберга, где с них снимали копии и сообщали их содержание Флеммингу в Польшу.
Дворец «четырех времен года» опустел, притворные друзья и прихлебатели отхлынули от него, и кроме докучливой ябедницы Глазенапп да сумрачного Гакстгаузена, Анна не видела никого. Из преданных же ей людей при ней был только один, но и этот один был Заклик. Ко́зель знала, что она на него во всем могла положиться, но что он мог сделать? Конечно, он был готов даже убить Флемминга и хладнокровно, без страха пошел бы за это на виселицу… Но что прибыло бы от этого Анне?
В Дрездене с отъездом короля было скучно и глухо, но зато в Варшаве все кипело.
Одни были погружены в водоворот политических интриг, другие бросились устраивать личную жизнь короля. Пани Пшебендовская искала ему в Варшаве новую любовницу, а в Варшаве было из кого выбирать. Старинная, короткая дружба связывала родственницу Флемминга Пшебендовскую с маршалковой Белинской, две дочери которой — жена литовского подкомория Марися и гетманша Поцей — обладали качествами, которые давали возможность поместить их первыми в числе кандидаток на королевский фавор, и Пшебендовская с этим планом отправилась к своей приятельнице. Пани Белинская приняла ее с чрезвычайным радушием: она, конечно, знала влияние Пшебендовской на Флемминга и власть последнего над королем, вследствие чего за Пшебендовской ухаживали все, кто добивался королевских милостей.
— Сердце мое, — заговорила Пшебендовская, — я приехала сюда с большими хлопотами, просто голова кругом идет, если ты мне не поможешь.
— Что ты, что ты, как не помочь, я с удовольствием разделю с тобой всякие хлопоты, — отвечала заинтригованная Белинская.
— Вообразить не можешь, какая у нас беда с королем! — продолжала Пшебендовская. — Влюбился, как мальчик, в женщину, которая вот уже несколько лет вертит им, как хочет, а через него и всеми нами заправляет по своему капризу.
— Кому же ты говоришь? Я знаю эту капризную Ко́зель, — прервала Белинская, — я никогда не могла понять, почему король предпочел ее княгине Тешен?
— Что тут искать причины! Просто предпочел потому, что он ни одной женщине не может быть долго верен, и вот этим-то свойством его характера мы должны воспользоваться. Ты понимаешь, что мы, конечно, должны постараться избавиться теперь и от Ко́зель, которая уж слишком зазналась. Мое мнение такое, что этих фавориток надо почаще менять.
— Да, это, разумеется, так, — отвечала пани маршалкова.
— Вот в том и дело.
— Так что же для этого нужно?
— Прежде всего, разумеется, нужна женщина.
— Надеюсь, что так, что же делается без женщины!
Обе собеседницы улыбнулись.
— Но какая женщина?
— Во-первых, такая, которая бы ему понравилась более Ко́зель.
— Это у нас нетрудно, а во-вторых, что?
— А во-вторых, чтобы она умела продолжать нравиться королю и быть в нашей воле.
— Погоди, подумаем.
Белинская оставила Пшебендовскую у себя обедать и послала за своими дочерьми.
Обе эти молодые дамы были очень красивы. Поцей была маленькая и необыкновенно живая, с огоньком в милых глазках и с заразительной веселостью характера; а сестра ее Денгоф казалась несколько меланхоличной, что, впрочем, не мешало ей быть достаточно ветреной и легкомысленной. Добродетель обеих сестер далеко не славилась недоступностью, и в прошлом у них уже были истории.
Пшебендовская, конечно, понимала, для чего хозяйка поторопилась показать ей своих дочерей, и когда после обеда молодые пани отправились с молодежью прокатиться верхом, гостья прямо дала почувствовать, что время тратить не для чего и пора договориться до дела.
— Погоди, пока ты видела ведь только одних моих дочерей.
— А я думаю, что мне никого другого и видеть после этого не нужно, — перебила Пшебендовская.
Это польстило материнскому самолюбию хозяйки, и по лицу ее разлился легкий румянец.
— Ну, что ты говоришь, — молвила она с притворной скромностью.
— Что же я говорю? Я говорю дело, моя душа, зачем нам искать на стороне, если есть дома. Да перестань тупить глаза, подними их на старую приятельницу и будем откровенны. Ты знаешь, я тебя всегда любила и люблю.
— О, я тебе верю.
— Ну, так чего же еще!
Обе пожилые дамы нежно обняли друг друга и расцеловались.
— Конечно, — заговорила хозяйка, — ты сама видишь, Марися еще свежа, весела, игрива и остроумна, а притом у нее и доброе сердце, и оно… довольно покорно.
— Это имеет для нас большое значение, — отвечала Пшебендовская.
— Другая также не уступит сестре, но эта чисто ртуть. Я бы думала, что лучше указать королю на Марисю.
— Но выйдет ли что из этого, если он обратит на нее внимание?
— Почему же? Денгоф очень скучный муж, она с ним несчастлива. А впрочем, если он не захочет иметь короля соперником, то ведь Марися может и развестись. А я признаюсь тебе, дела наши слишком в дурном положении, чтобы упустить верный случай их поправить.
— Ну так будем хлопотать, а пока…
— Что такое?
— Марисе о нашем плане ни полслова.
— Ну, еще бы!
— Я ей за обедом ввернула в разговоре словцо, что Ко́зель была самолюбива, вспыльчива и ревнива, и этого довольно; а твое дело ей растолковать, что в этих случаях всего успешнее действуют контрасты.
— О, я тебе ручаюсь, что моя Марися будет самый приятный контраст! — воскликнула Белинская, и с этим приятельницы расстались.
Спустя несколько дней после этого разговора приехали в Варшаву король и Флемминг. Последний остановился в одном доме с Пшебендовской, которая в первый же день открыла брату свои замыслы на Марисю Денгоф.
Генерал немного поморщился, ему не нравилось, что об этой даме уже ходили разные истории, но Пшебендовская успокоила его, сказав, что Август на этот счет не привередлив, лишь бы она ему понравилась.
— Ну, действуй! — отвечал генерал. — Но есть ли у тебя союзницы?
— Одна, но зато очень сильная.
— Кто это?
— Мать самой Мариси.
Флемминг улыбнулся и пожелал сам познакомиться с новой избранницей. Пшебендовская все это устроила: она свезла вечером брата к Белинской, где были на ту пору Поцей и Денгоф, и хотя последняя не совсем понравилась Флеммингу, но зато она была удобна, и он согласился с планом сестры.
Флемминг более всего опасался властолюбия в новой фаворитке, а в ветреной пани Марисе его-то и не было. Она была легкомысленна, кокетлива, совсем не ревнива и любила только повеселиться. Мысль разлучить Анну Ко́зель с королем была по сердцу всем, кроме Фицтума, которого попытались было завлечь, но, заметив, что он чуждается этого, обошлись и без него.
На одном из придворных собраний старая Пшебендовская нашла случай заговорить с королем. Она указала ему на грациозных красавиц польской столицы и сказала:
— Не правда ли, какой большой выбор, государь? И надо быть очень жестоким, чтобы ни одной из этих чаровниц не оказать внимания!
— Да, тому, кто не хочет быть верен домашней привязанности, это было бы трудно! — отвечал Август.
— Нет слова, государь, что это так, домашние привязанности довольно серьезная вещь — когда мы дома.
Король посмотрел на почтенную даму, прищурился и улыбнулся.
Та приняла это за добрый знак и усилила свой подход.
— Вы не изволили заметить среди здешних женщин, — заговорила она, — одно необыкновенно очаровательное молодое существо, которое, можно сказать, и по-хорошему мило и по-милу хорошо.
— Я не знаю, о ком вы говорите.
— Ее зовут Денгоф.
— Она немка?
— Нет, полька, она из дома Белинских.
— Ах, так она замужняя?
— Конечно, государь.
— Гм… нет, не знаю, не заметил, да я, кажется, ее и не видел. А ее где можно видеть? Она бывает в театре, не будет ли она там завтра? Что?
Пшебендовская, разумеется, поспешила ответить, что та и бывает и завтра будет.
— Мы даже еще с утра сегодня условились быть с ней завтра вместе.
— О, как вы умны и находчивы, моя дорогая! — отвечал Август и добавил: — Таким образом, ваше присутствие мне будет указывать, где глаза мои должны искать вашу милую Денгоф; а потом… Я уже не сомневаюсь, что вы не откажете мне в удовольствии нас с ней познакомить?
— О, государь… мой долг…
И Пшебендовская склонилась и красноречиво умолкла.
— Только, конечно, вы подождите, — шепнул ей, вставая с места, Август, — подождите… какое она произведет на меня впечатление.
В тот же вечер Пшебендовская была у Белинской, которая немедленно вытребовала к себе дочь, и в дальнем уютном покое, три эти дамы учредили общий совет, на котором две старшие составили программу, что должна была делать младшая, чтобы занять место королевской фаворитки.
То, что предлагалось этой молодой даме, было нисколько не противно ее правилам и привычкам, за что достаточно ручалась и ее репутация. Денгоф и сама бы распорядилась, как разыграть эту игру, если бы дело шло о простом смертном; но получить себе в любовники короля ей не приходило на мысль, и потому неудивительно, что голова ее закружилась. Когда она хотела отдаться кому-нибудь, кто ей нравился, она, конечно, сама, без советников знала, как достичь желаемого, но тут было дело иное. К чести Денгоф должно сказать, что все записанное до сих пор на ее счет скандальной хроникой делалось ею по увлечению. Теперь же ей надо было суметь понравиться из расчета, понравиться с тем, чтобы продать себя видному покупателю и по самой лучшей цене.
Это ей было ново, и потому советы доброй матери и Пшебендовской тут, конечно, не были излишни.
Ветреной Денгоф хотя и нравилась приготовленная ей роль, но когда ее в последующие затем дни начали усиленно готовить, это ей так надоело, что она стала находить это и трудным и страшным, а когда ее представили королю на вечере у Флемминга, она растерялась и была неинтересна.
Король нашел похвалы, сделанные ей Пшебендовской, очень преувеличенными; но тем не менее при новой встрече опять обратил на нее внимание; а встречи эти повторялись именно потому, что Пшебендовская жила в доме брата, а король частенько навещал хлебосольного Флемминга. Силой интриг, равно как и силой привычки, дело это выровнялось: Денгоф привыкла держать себя в присутствии короля проще и беззастенчивее, а он стал находить ее все более и более интересной и наконец однажды, возвращаясь с Фицтумом домой, сказал ему:
— А эта Денгоф интересна!
— Недурна, — отвечал Фицтум.
Король улыбнулся и добавил:
— Скажи мне, пожалуйста, ты ничего не замечаешь?
— А что такое?
— Нас с нею, кажется, хотят сблизить?
— То есть вас, государь?
— Ну, разумеется.
— Что же, у вас две короны, две столицы, почему же не быть и двум дамам сердца?
— Ты шутишь, Фицтум?
— Да, право, не знаю, на мой взгляд, тут ведь нечем и серьезничать.
Король засмеялся.
— Шути себе! — сказал он. — Тебе, брат, хорошо, когда ты спокоен, а мне эти истории уже надоели и с каждым новым гонцом о себе напоминают: Ко́зель из терпения меня выводит своими упреками, а тут со всех сторон шпигуют меня тем, что я исполняю ее прихоти.
— Для чего же вы их исполняете?
Август не ответил и закусил губу: он никогда не хотел говорить, как его тяготит данное Анне письменное обязательство на ней жениться, и как бы рад был он отделаться от этого досадливого лоскута! О, как бы охотно он это теперь сделал, если бы… если бы только у него был какой-нибудь повод уничтожить все с удобным отводом — как будто не по своей вине, а по вине Анны, и притом по такой вине, которая упраздняла бы всякую мысль о праве Ко́зель настаивать на требовании исполнения данных ей обязательств.
И между тем как мысль эта все становилась назойливее, тем приятнее было оторваться от нее к чему-нибудь новому, а услужливая рука постоянно то тут, то там выдвигала перед ним миниатюрную Денгоф, которая этим временем уже совсем осмелела и, занимая Августа своими маленькими салонными способностями в пении и музыке, постоянно будила его чувственные инстинкты. Ему стала нравиться ее маленькая фигурка, тонкие черты лица и миниатюрность чрезвычайно пропорциональных форм маленького стана.
Миньона, сменяя Диану, обещала Геркулесу наслаждения, в которых было что-то новое…
Отчего же Августу было их не изведать, и отчего услужливым людям было не помочь его совести расстаться с прошлым без укоров? Все это было в порядке вещей.
И вот однажды, когда король был взбешен только что полученным ревнивым и полным горечи и укоризны письмом Анны, Флемминг вступился в его спасение и сказал:
— Ручаюсь, государь, что эти милые строки вас несколько расстроили.
— Они мне наконец надоели! — отвечал, нетерпеливо отбрасывая бумагу, Август.
— Зачем же вы себя ими тревожите? Не читайте их, государь, и вы будете спокойны.
— Ты ничего не знаешь! — отвечал, наморщив брови, Август. Флемминг понял, что думы короля опять омрачило воспоминание об обещаниях, которые он надавал Ко́зель, и опытный интриган понял, что теперь время идти смело к цели.
— Нет, вы простите меня, государь, но я знаю более, чем вы полагаете.
Он приостановился на минуту и досказал:
— Я знаю, что обещания даются по надеждам, а исполняются по обстоятельствам.
— Да какие, к черту, обстоятельства могут изменить мои обязательства?
— Мало ли их!
— А например?
— Да их очень много, государь.
— Нет, ты укажи хоть одно, да точно и ясно.
— Ну, например, если то лицо, которому вы дали обязательство, само не соблюло условий.
— Но этого нет!
— Не знаю.
— Так к чему же ты об этом говоришь?
Флемминг рассмеялся.
— Видите, государь, — заговорил он, — позвольте мне напомнить вашему величеству, как это однажды случилось с одним королем и его фавориткой: в его имени нет надобности, а ее звали Аврора.
— Ну, продолжай!
— Аврора надоела королю, и король дал это чувствовать усердному человеку, его звали Бейхлинг, он приволокнулся за Авророй, и об этом сложили роман. Я не знаю, был Бейхлинг счастлив у Авроры или он только хвастал удачей, но королю это было все равно, ему дорог был повод бросить Аврору.
— Притча нехитра, ты хотел бы то же самое испробовать с Ко́зель?
— А почему бы и нет?
— Она не такова.
— Да ведь я не говорил, какова была и Аврора, быть может, и та не была «такова».
— Ну да… К тому ж, скажу тебе, и средство…
— Неблагородно что ли, государь?
— Уж слишком старо, Флемминг!
— И, ваше величество, спросите, кого хотите, есть старые средства, которые всегда отлично действуют, нужно только уметь их употреблять.
— А кто бы у нас был такой мастер?
— Нам надо подумать об этом.
Король прошелся по комнате и, став перед Флеммингом, саркастически усмехнулся и молвил:
— Лжешь, старый приятель, нечего тебе думать, у тебя все уже выдумано. Кто же он?
— Барон Левендаль.
— Левендаль! Но он ей родственник!
— Да, в этом-то и заключается большое удобство, она его принимает, не опасаясь никаких подозрений. И притом… он ей многим обязан.
Август ничего на это прямо не ответил, но только подумал, погрозил вверху пальцем и сказал:
— О, если бы я мог сделать ей этот упрек! — с этим он вышел из комнаты.
Сказанного было слишком довольно: в тот же день в Дрезден пошла инструкция Левендалю во что бы то ни стало скомпрометировать графиню Ко́зель, «чем будет оказана большая услуга особе, признательность которой вне всяких сомнений».
Барон Левендаль волен был выбирать: или сомнительное положение при поддержке, видимо, утратившей силу кузины или право рассчитывать на королевскую признательность за гибель этой бедной кузины.
Что он выберет, мы увидим во второй части этой истории мелких деяний довольно крупных в свое время людей.
КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ
I
В королевском замке саксонской столицы все было тихо, грустно и уныло, словно все как бы вымерло. Ночь стояла осенняя, хотя шел только конец августа, когда бывают еще и веселые дни и теплые ясные ночи, холодные ветры дуют еще очень редко, и только кое-где виднеется желтоватый лист на деревьях.
Однако, в тот вечер, с которого начинается наша повесть, дул резкий северный ветер и черные нависшие тучи волоком тянулись одна за другой по небу, на свинцовом своде которого изредка мелькала на мгновение звездочка и сейчас же быстро гасла в густых облаках. На площадке у ворот замка молча расхаживали часовые. Окна королевских покоев, откуда так часто лил свет веселых пиров и слышалась музыка, теперь были темны и закрыты. Это было явление необыкновенное для царствования короля Августа, который имел прозвание «Сильный». Такое прозвание как нельзя более шло королю, который отличался своею силою во всем: он ломал подковы и людей, горе и злосчастье, а его ничто не могло сломить. По всей Германии, да, пожалуй, и по всей Европе славился блистательный королевский двор, перед которым все другие дворы меркли; ни один не превосходил его пышностью, вкусом и тонким разнообразием развлечений; никто не мог сравняться со двором Августа. Но в этом году, однако, Августу было невесело: швед отбил у него на выборах польскую корону. Король, едва не низвергнутый с престола, почти изгнанный из королевства, вернулся в свое курфюрстское гнездо и оплакивал свои потери, бесполезно затраченные миллионы и черную неблагодарность поляков… Саксонцы не могли в толк взять, как можно было не прославлять и не любить такого благородного и милого короля и как можно было отказываться от чести быть убитым для его удовольствия. Сам Август еще меньше добрых саксонцев был способен понять что-нибудь во всей этой истории, но мысль о неблагодарности преследовала каждое его воспоминание о Польше, так что наконец при нем стали избегать всякого разговора и о Польше, и о шведском короле, и о тех неудачах, которые некогда клялся исправить Август Сильный.
По возвращении Августа Дрезден уже начинал веселиться, чтобы рассеять как-нибудь своего государя, и только в этот вечер странная тишина царствовала в замке. Почему — этого никто не знал. Известно было, что король не уезжал ни в один из своих загородных замков; ярмарка в Лейпциге еще не начиналась; в городе и при дворе незадолго перед этим шли толки, что наперекор шведу Август прикажет давать балы, маскарады, карусели с тем будто, чтобы показать счастливому сопернику, что он, Август, совсем не сокрушается о своей минутной неудаче.
Немногие прохожие, которым доводилось в эту пору проходить по прилегавшим к замку улицам, поглядывали на окна и удивлялись, что там так рано наступила тишина. Но если бы кто, миновав большие ворота и первый двор, мог пробраться на внутреннюю площадку, тот увидел бы, что эта тишина была обманчива: замок не спал или, лучше сказать, спал только одним глазом — во внутренних же его покоях шло оживленное веселье.
Стража не впускала в эти апартаменты никого, кроме тех, кого там ждали.
Несмотря на ветер довольно суровой ночи, во всем первом этаже все окна были открыты настежь, из-за занавесей ярко блистал свет бесчисленного количества свечей, отражаемых множеством зеркал. Из дворцовых залов ежеминутно волною вырывался на площадку гомерический смех, который, отражаясь от каменных стен башен, раскатывался продолжительным эхом и пугал стоящую в молчании стражу.
Этому смеху вторил говор, то тихий, то громкий, то возрастающий, то падающий до слабого шепота, то наконец совершенно замолкавший… И снова оживлялись речи, и тогда над шумом разговора раздавались взрывы хохота и рукоплесканий: то был смех царственный, раскатистый, смелый, который не боится, что его кто-нибудь осудит и пересмеет. При каждом таком взрыве часовой, расхаживавший с алебардой на плече под окнами, вздрагивал, поднимал кверху голову, вздыхал и шагал далее.
В этом ночном пире, происходившем под вой ночной бури, среди спящего замка и смиренно замолкавшей столицы, было что-то страшное…
Тут веселился король…
По возвращении из Польши такие ночные пирушки — немноголюдные, в кругу лишь нескольких приближенных, которых назовем, пожалуй, королевскими друзьями, — стали случаться гораздо чаще, чем прежде.
Август, побежденный неказистым Карлом XII, которого тогда в насмешку называли «полуголовым», стыдился показать глаза в многолюдные собрания, а между тем искал забав и развлечений, чтобы забыться, и потому собирал около себя кружок своих любимцев и пировал с ними. Здесь рекой лилось золотистое венгерское, которое ежегодно специально привозилось ко двору Августа из Венгрии, и самые неистовые кутежи шли вплоть до утра, пока наконец все собеседники его величества, перепившись, мало-помалу не сваливались под стол, где и засыпали без особого почета, между тем как самого разгулявшегося короля его верный Гофман отводил в опочивальню и укладывал в постель.
В этот кружок излюбленных жрецов Бахуса допускались очень немногие: тут были только самые преданные и самые любимые люди Августа. Особы, не пользовавшиеся большим его расположением, вероятно, и не захотели бы там быть, потому что после нескольких бокалов король для тех, кого недолюбливал, становился небезопасен: силища у него была геркулесова, гнев олимпийский, а власть неограниченная… В обыкновенные дни, когда он на кого-нибудь гневался, у него по лицу пробегала будто кровавая туча, глаза блистали и дрожали щеки, он отворачивался от того, кто его раздражал, и удерживался от вспышки, но за стаканом вина этого удерживания не было, и тогда… Не один уже вылетал из окна и падал на камни мощеного двора, чтобы более никогда не подниматься!
Гневался Август редко, но зато гнев его был страшнее грозы небесной. В обыденной жизни не было государя, добрее и любезнее Августа. Замечали даже, что чем меньше он кого любил, тем любезнее он тому улыбался, и часто накануне ссылки в Кенигштейн, где его некоторые бывшие фавориты высиживали десятки лет в строгом заключении, Август обнимал обреченного в тюрьму и ласкал его как самого лучшего друга.
Но как бы там ни было, в описываемое время государю необходимо было развлекаться. Что же удивительного, если усердные люди прилагали особые старания?
Среди пирушки приводили двух голодных медведей и стравливали их или подпаивали нарочно завзятых недругов и потом подзадоривали одного против другого. Это было самое любимое развлечение короля, и если пьяные Фицтум, Фризен или Гойм после площадной перепалки на словах схватывались наконец врукопашную, король торжествовал и надрывался от веселого смеха… Это была одна из его невинных забав.
Поссорить своих приближенных между собою королю было очень нетрудно, потому что он всегда знал, кто с кем дружен, кто кого ненавидел, кто сколько захватил у него непозволительным образом денег из казны.
Он знал, что замышлял каждый придворный, а если не знал, то отгадывал… Кто все это ему нашептывал, о том все напрасно ломали себе головы и в конце концов дошли до того, что никто никому ни в чем не верил: брат боялся брата, муж скрывал свои мысли от жены, отец опасался сына… А король Август Сильный, видя все это, лишь потешался над всей своей дворней.
Август не уважал людей и свысока смотрел на житейскую комедию; можно сказать, что презирая других, он даже не уважал и своих ролей в жизни: и Юпитером, и Геркулесом и даже Бахусом он бывал самому себе в тягость.
В этот вечер король чувствовал такую грусть и тоску, что решил собрать всех своих министров, любимцев и придворных, напоить их и хорошенько перессорить, чтобы немного позабавиться.
Среди освещенной залы, одну стену которой занимал сверкающий хрусталем и серебром буфет с серебряной, в золотых обручах бочкой на самом видном месте, стоял длинный стол, за которым сидели товарищи королевских забав.
Тут были вновь прибывшие графы — Тарапель Лагнаско из Рима, Ваккербарт из Вены; затем придворные — Вацдорф по прозванию «мужик из Майнсфельда», Фюрстенберг, Имгоф, Фризен, Фицтум, Гойм и наконец несравненный по своим шуткам, по своему неисчерпаемому остроумию, всегда серьезный и хладнокровный, но способный рассмешить всех и каждого, барон Фридрих Вильгельм Киан.
Король сидел в расстегнутом камзоле и жилете, подпершись локтем, погруженный в грустные думы. Его красивое лицо, обыкновенно ясное и покойное, теперь было омрачено предчувствием какого-то близкого горя. Перед ним стоял только что опорожненный бокал… Несколько пустых бутылок доказывали, что беседа началась уже давно, но на лице короля не было заметно хмеля… Янтарная влага не позлатила его мрачных дум.
Придворные балагурили и шутили, стараясь развлечь государя, но ничто не помогало: Август сидел, задумавшись, и, казалось, не слушал.
Обеспокоенные собутыльники искоса поглядывали на своего приунывшего владыку: веселье не ладилось.
На противоположном конце стола сидел также мрачный, нахмуренный Киан и, как бы подражая королю, тоже оперся на руку, также вытянул ноги и также вздыхал, уставясь глазами в потолок.
Он был грустен до смешного.
— Послушай, — шепнул Фюрстенберг, толкая локтем Ваккербарта (оба они были уже под хмельком), — посмотри, сделай милость, на нашего короля!.. Ведь это прескверно, что его сегодня ничем развеселить нельзя!.. Одиннадцатый час… он должен быть уже в полном кураже, а между тем… Право, это наша вина!
— Ну, я на себя этого не беру! Я здесь гость, — возразил Ваккербарт, — а что до вас, то, зная короля ближе, вы бы действительно, кажется, должны придумать, как помочь.
— Чем тут поможешь? Ясное дело, ему Любомирская надоела, — ввернул слово Тарапель.
— Ну, говоря по правде, я думаю, что и шведов ему тоже не очень легко переварить! — прошептал Ваккербарт.
— Эге! Шведов-то мы скоро забудем, их за нас кто-нибудь другой поколотит; в этом я твердо уверен, и нам тогда придется собирать только плоды… — заговорил, качаясь, Фюрстенберг. — Нет, не шведы его огорчают… а ему действительно надоела Любомирская… Нужно будет ему найти другую женщину.
— Да разве это так трудно? — шепнул, снова пожав плечами, Ваккербарт.
— Ну, вам и надо было опять разыскать в Вене другую Эстерле, — засмеялся Лагнаско.
И придворные начали шептаться между собой так тихо, что уж ничего не было слышно, потому что король, казалось, пробудился от сна и, обведя глазами своих собутыльников, остановил взор на бароне Киане, который продолжал сидеть в своей трагикомической позе. Взглянув на него, государь прыснул гомерическим хохотом.
Ничего более не требовалось всему обществу, чтобы разразиться, подобно эху, веселым смехом, хотя половина собеседников даже и не знали, чему его величество изволил рассмеяться. Один только Киан не шевельнулся и не дрогнул.
— Киан, — заговорил король, — что с тобой? Не изменила ли тебе любовница? Не обеднел ли ты, не обидел ли тебя какой недруг? Ты похож на Прометея, которому сказочный коршун выклевывает печень!
Киан повернулся в сторону короля тихо, как деревянная кукла, и глубоко вздохнул. От этого вздоха стоявший около него канделябр с шестью свечами загас и дым пополз по зале.
— Что с тобой, Киан? — спросил снова король.
— Я скорблю о несчастной участи нашего любезнейшего монарха! — важно отвечал Киан. — Какая печальная доля! Рожденный для счастья, с ангельской красотой, с геркулесовой силой, с возвышенным сердцем, непобедимым мужеством, словом, рожденный для того, чтобы видеть у своих ног целый свет, ты не имеешь ничего.
— Да, это правда! — сказал, насупив брови, Август.
— Конечно, правда. Помилуй, нас тут пятнадцать человек, и ни один из нас не умеет развлечь тебя; любовницы твои тебе изменяют или стареют, вино киснет, деньги у тебя воруют, а когда вечерком ты захочешь отдохнуть в веселом приятельском кругу, твои верноподданные окружают тебя с унылыми, похоронными лицами. Не должно ли все это приводить в отчаяние всякого, кто тебя любит?
Август усмехнулся, дрожащей рукой схватил бокал и ударил им по столу. Из-за буфета выскочили два карлика, как две капли воды похожие один на другого, и встали перед королем.
— Слышь-ка, Трам, — крикнул Август, — вели подать нашей амброзии! Киан будет виночерпием. Это вино, которое мы до сих пор пили, разбавлено водой!
Амброзией называлось королевское венгерское вино, которое приготовлялось специально для Августа из лучших виноградных лоз в Венгрии. Это было всем винам вино, густое, как сироп, сладкое и мягкое, а крепость его была такова, что оно могло свалить с ног любого гиганта.
Трам и его товарищ исчезли, и через минуту явился мавр в восточном костюме; он нес на серебряном подносе громадную флягу венгерского. Все встали и приветствовали ее низким поклоном. Осмотрел ее и король и весело сказал:
— Ну, Киан, хозяйничай!
Киан поднялся… На другом подносе карлики несли рюмки, но эти рюмки не понравились новому подчашему[1]; он шепнул что-то карликам, те побежали своими маленькими шажками за буфет и быстро явились с новой посудой.
С важностью сановника, сознающего значение возложенного на него поручения, Киан принялся расставлять рюмки. Посреди стоял прелестный королевский бокал весьма приличного объема, а вокруг него хотя меньшие, но все-таки довольно объемистые рюмки министров, за которыми выстроились рядком мелкие, с наперсток величиною, рюмочки.
Все с любопытством смотрели на эти приготовления. Киан тихонько поднял флягу, чтобы не взболтать осадка, и стал осторожно наливать. Сначала он наполнил всю мелочь. Невелики были эти рюмочки, но зато их было так много, что вина из фляги почти наполовину убыло. Очередь была за министерскими стаканами; среди всеобщего молчания подчаший их наполнил. Между тем вино во фляге убывало более и более, и когда пришла очередь наполнить наконец королевскую чашу — драгоценной влаги не хватило. Киан сцедил в королевский бокал несколько капель и, взглянув на Августа, остановился.
— Однако, хорош же из вашей милости выходит подчаший! — рассмеялся король. — Я у тебя очутился самый последний. Что ж это должно значить?
Окружающие смеялись.
— Ваше королевское величество, — начал, ставя на стол порожнюю флягу, Киан, который нисколько не смутился и не растерялся, — не знаю, что это вас удивляет. То, что я здесь сделал с вином, ваши министры делают ежедневно с доходами государства. Сначала набивают карман мелкие чиновники, потом то же самое делают те, что повыше, им подражают государственные сановники, а когда дойдет дело до королевского бокала, смотришь, и не осталось ничего.
Король захлопал в ладоши и, окинув насмешливым взглядом присутствующих, сказал:
— За твое здоровье, Киан! Вот так басня, эзоповой стоит! Однако, пусть подадут для меня другую флягу!
Мавр уже нес поднос с амброзией. Все смеялись, потому что смеялся король, но смех у всех выходил неискренний; все искоса поглядывали на Киана, который, взяв самую маленькую рюмку, провозгласил здоровье саксонского Геркулеса. Вся кутящая компания упала на колени, рюмки и бокалы поднялись вверх, и радостный крик потряс воздух.
Король чокнулся с бароном, выпил свой стакан и, ставя его на стол, сказал:
— Будем говорить о чем-нибудь другом.
На эти слова Фюрстенберг встал со своего места и проговорил:
— О ком можно теперь говорить, государь, как не о тех, которые царят и днем и ночью? О ком можно теперь думать, как не о женщинах?
— Что же, и прекрасно! — подтвердил король. — Пусть каждый опишет нам свою милую… Господа, внимание! Фюрстенберг начинает!
При этих словах король ухмыльнулся, а на лице Фюрстенберга выразилось сильное смущение.
— Государь дает мне первенство, — отвечал любимец и наперсник Августа. — Значит, от аргусова ока нашего милостивого монарха ничто не может укрыться. Он меня знает, я ему не стану лгать, и вот он меня на смех поднимает! Ваше величество, — заключил он, складывая подобострастно руки, — я прошу всемилостивейше, увольте меня от этой обязанности!
— Нет, нет! — послышалось со всех сторон. — Ведь называть имен не нужно, портрет пусть будет безымянный, а приказ государя свят и ненарушим. Начинай, Фюрстенберг!
Все присутствующие отлично знали, почему молодой человек так неохотно соглашался приступить к этому описанию. Он ухаживал за сорокалетней вдовой из семьи Кризенов, которая покрывала лицо таким слоем белил и румян, что никто не видел цвета кожи.
Вдова была богата, Фюрстенберг был без гроша; все знали, что он на ней не женится, но тем не менее на всех придворных балах, маскарадах и пикниках он был ее неизменным кавалером.
История была прекурьезная, и потому-то, когда Фюрстенберг медлил ее начать, поднялся такой шум и гам, что король приказал всем замолчать и, снова обратясь к Фюрстенбергу, молвил:
— Не жди напрасно пощады, Фюрстенберг, ты ее не получишь! Соберись с силами и описывай-ка нам свою прелестную красавицу, которой ты так верен.
— Я повинуюсь, — начал молодой забулдыга и, хватив залпом для храбрости стакан вина, смело начал:
— Нет на свете никого прекраснее моей милой! Кто может мне возразить, тот, конечно, знает, что скрывается под той маской, которую она не снимает, тая под ней свои небесные черты от нескромного взора смертных. Она небожительница… ей одной не вредит то, что губит всех других женщин… красота у нее зрелая и такой останется на век. Всеразрушающее время бессильно против ее, как из мрамора выточенных, прелестных форм.
Всеобщий смех прервал его слова.
Рядом с ним сидел министр акцизов Адольф Гойм. Это был мужчина великолепного сложения. Его лицо было хмуро. Маленькие глазки, насквозь пронизывающие своим взором человека, на которого он смотрел, выдавали какую-то тревожную проницательность. Всегда бледный, даже желтый, он немножко зарумянился только после амброзии. Гойм слыл за Дон Жуана, но его интриги уже несколько лет были так скрытны и темны, что многие даже думали, что он давно оставил эти забавы. Ходили слухи, что он женился, но жена его никуда не показывалась, и никто ее нигде не видел… Вероятно, она жила в деревне.
Гойм был слабее других и, не оправясь еще от предыдущих королевских попоек, он теперь был уже заметно в сильном подпитии. Это видно было по его беспрестанному встряхиванию головой, по усилию, с каким он шевелил отяжелевшими руками, по странной косой улыбке, по смыкающимся глазам и наконец по всей его фигуре, которой он был не в силах владеть.
Понятно, что министр акцизов, который не мог шевелить языком, был для короля и его товарищей источником смеха, шуток и веселья…
— Теперь очередь Гойма, — сказал король. — Ты ведь знаешь, Гойм, что у нас тут никаких отговорок не допускается. Всем нам известно, что ты большой знаток и любитель женских прелестей. Знаем мы и то, что ты без женской ласки жить не можешь; из избы у нас сору никто не вынесет, и ничто дальше этой комнаты никуда не пойдет, так опасаться нечего и надо признаваться. Исповедуйся-ка!
Гойм ворочал головой во все стороны и играл пустым стаканом.
— Хе, хе, хе! — засмеялся он.
Киан потихоньку налил ему вина.
Министр машинально поднял стакан ко рту и выпил вино с той бессмысленной жадностью, которая овладевает пьяницами, мучимыми неутолимой жаждой.
Лицо у него стало красно, как кровь.
— Хе, хе, — начал он, заикаясь, — вы хотите знать, какова моя любовница… Да мне, милейшие мои, не нужно любовницы, у меня жена — богиня!
Все дружно засмеялись, один король, посматривая на рассказчика, слушал с любопытством.
— Смейтесь-ка, — говорил Гойм, — смейтесь, а я вам скажу, что кто ее не видел, тот не видел и Венеры! Да-с, нечего, нечего смеяться, я вас уверяю, что сама Венера около нее покажется прачкой. Могу ли я ее описать? В одних ее черных глазах столько чувства, что против них не устоит ни один смертный. Стан поспорит с изваянием Праксителя… Нет слов, чтобы описать улыбку, но богиня эта строга и сурова, и улыбка не часто расцветает на устах.
Многие недоверчиво качали головами. Гойм хотел прервать свой рассказ, но король ударил кулаком по столу и воскликнул:
— Это воздыхания, а не описания! Ты опиши нам ее как должно, получше, чтобы можно было иметь понятие о всей ее красоте!
— Возможно ли описать совершенство? — возразил Гойм и, подняв глаза в потолок, продекламировал:
— «В ней все прелести и ни одного недостатка!»
— Я готов признать ее красавицей, — заговорил Лагнаско, — если этот непостоянный Гойм влюблен в нее три года и ни разу не изменил.
— А я уверен, что это он только спьяна болтает! — прервал Фюрстенберг. — Как? Неужто может быть, чтобы его жена была красивее княгини Гешен?
Гойм пожал плечами и тревожно взглянул на короля, но король спокойно проговорил:
— Правда прежде всего… Что же тут стесняться?.. Гм! Так взаправду твоя жена, Гойм, может быть красивее Любомирской?
— Ваше величество, — с увлечением отвечал Гойм, — княгиня Любомирская красивая женщина, а моя жена — богиня. При дворе, во всем городе, во всей Саксонии, в целой Европе — нет ей не только равной, но даже подобной!
В ответ на эти слова министра акцизов зал взорвался смехом.
— Какой забавный Гойм, когда пьян!
— Потеха просто, как выпьет акцизник!
— Что за человек!
Один король не смеялся, а сам Гойм был, очевидно, под влиянием амброзии и даже, казалось, забыл, где он находится и с кем говорит.
— Ладно! — воскликнул он. — Смейтесь себе, смейтесь! Вы меня знаете, вы сами зовете меня Дон Жуаном; так, по крайней мере, согласитесь, что лучше меня нет знатока в женской красоте. Да и к чему мне лгать?.. Моя жена божество, а не женщина; одного взора ее достаточно, чтобы раздуть пламя любви в самом холодном сердце; ее улыбка…
При этих словах он нечаянно взглянул на короля…
Выражение лица Августа, жадно слушавшего каждое слово, так поразило пьяного министра, что он сразу почти протрезвел. Он был бы рад взять назад свои слова. Гойм вдруг замолчал и побледнел как полотно. Напрасно все старались вызывающим смехом подзадорить его, чтобы он продолжал свое описание. Гойм растерялся, рука его машинально держала бокал, но он опустил глаза и задумался.
По знаку короля Киан налил Гойму вина и чокнулся.
— Пили мы за здоровье нашего Геркулеса, — закричал Фюрстенберг, — теперь выпьем еще за здоровье божественного Аполлона!
Некоторые пили, опустившись на колена, другие стоя; Гойм встал, шатаясь, и должен был опереться на стол. Действие вина, на минуту остановившееся под влиянием испуга, снова началось. Голова министра страшно кружилась, и он выпил вино залпом.
За креслом короля стоял Фюрстенберг, которого государь называл часто в шутку Фюрстхен. Он был всегдашний помощник и товарищ Августа в его любовных похождениях, и теперь король тихо ему прошептал:
— Фюрстхен, а акцизник-то ведь, должно быть, не лжет; он несколько лет запирает и прячет свое сокровище; его надо бы заставить показать нам свою красавицу… Делай все, что хочешь, чего бы это ни стоило, а я хочу ее видеть!
Фюрстенберг улыбнулся: ему и многим было это очень с руки. Царствовавшая ныне королевская любовница княгиня Тешен-Любомирская восстановила против себя всех друзей попавшего из-за нее в опалу государственного канцлера Бейхлингена, после падения которого она присвоила себе дворец на Пирнейской улице… И хотя Фюрстенберг в свое время послужил и Любомирской против других прелестниц, старавшихся завладеть сердцем короля, но королю своему он был готов служить против всех на свете. Теряющая свою красоту Любомирская, ее претензионный тон и обращение начали надоедать королю. Фюрстенберг отгадал все это во взгляде и в разговоре короля и, отойдя от его кресла, подошел к Гойму, фамильярно облокотился на его плечо и громко прокричал ему на ухо:
— Милейший министр! Стыдно мне за тебя, срам так нагло лгать в присутствии светлейшей особы короля! Ты смеялся и над ним и над нами. Я охотно допускаю, что жена такого знатока и любителя красоты, как ты, не может быть какой-нибудь мартышкой, но чтобы равнять ее с богиней Венерой или даже с княгиней Тешен — это дудки!
Вино снова зашумело в голове Гойма.
— Что я говорил, — гневно отвечал он, — все правда! Тысячу громов! Гром и молния!
— А я бьюсь на тысячу дукатов, — вскричал Фюрстенберг, — что твоя жена не красивее других придворных дам!
— Принимаю пари! — сквозь зубы пробормотал совершенно бледный и пьяный Гойм. — Держу!..
— А судьей буду я! — протянув руку, прибавил Август. — И так как суду медлить не для чего, — продолжал он, — то Гойм немедленно привезет жену сюда и представит ее нам на первом же балу у королевы.
— Превосходно! Пиши, Гойм, скорее своей прекрасной жене, а королевский курьер сейчас отвезет это письмо в Лаубегаст! — закричал кто-то из толпы.
— Да, да! Пиши сейчас же! — послышались голоса со всех сторон.
В одну минуту перед министром лежал лист бумаги, Фюрстенберг насильно всунул ему в руку перо, а король взором требовал исполнения. Несчастный Гойм, в котором время от времени пробуждалась тревога мужа при мысли о волокитстве короля, сам не зная как, написал продиктованное ему письмо к жене с приказанием приехать в Дрезден. Письмо это взяли у него из рук… и уже по лестнице послышались шаги: это кто-то бежал вниз, чтобы немедленно отправить курьера в Лаубегаст.
— Фюрстенберг, — шепнул Август, — если Гойм сегодня протрезвеет, он вернет курьера… Позаботься напоить его до бесчувствия, чтобы он не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой…
— О, не беспокойтесь, ваше величество: он и так пьян, что я начинаю опасаться за его жизнь!
— Ну, на этот счет я совершенно спокоен, — отвечал король, — мы бы ему устроили отличные похороны, а на земле его службу отправил бы без упущений кто-нибудь другой.
Шутка короля так подействовала, что вокруг Гойма вмиг уже стояла целая батарея рюмок и стаканов; стали придумывать тосты; все его подбивали выпить еще, да еще… в амброзию ему подливали разные другие напитки, и через полчаса Гойм, бледнее мертвеца, со свесившейся головой и страшно разинутым ртом, храпел, полулежа на столе.
Гайдуки подняли его и понесли на кровать, более из осторожности, чем из заботы о его здоровье.
Его положили в один из королевских кабинетов и оставили там на попечении силача Цоянуса, которому было велено никуда не выпускать его, ни под каким предлогом. Гойм, впрочем, не проснулся, и тяжело стеная во сне, пролежал без сознания до самого утра.
Когда его вынесли из залы, там началась при закрытых дверях, в самом тесном кружке, страшная оргия, единственными свидетелями которой были молчаливые зеркала, украшавшие место этой вакханалии.
Король пришел в самое веселое расположение духа, которое тотчас же отразилось на лицах всех его собеседников. Уж почти совсем рассвело, когда два гайдука отнесли наконец в постель последнего из всех пировавших, — это был сам Август.
Фюрстенберг остался один на месте бурной попойки, и он был почти совершенно трезв. Проводив вынесенного в бесчувствии короля, он снял с себя парик, чтобы освежить голову, и, задумавшись, проговорил самому себе:
— Наступает новое царствование… Любомирская слишком мешалась в политику. Она могла завладеть королем… На что ему умная любовница? Лишь бы любила да тешила его! Вот все, что нужно и в чем состоит призвание фаворитки венценосца!.. Теперь посмотрим жену Гойма, так усердно расхваленную своим мужем!..
II
Лаубегаст, где в одиночестве обитала супруга Гойма, лежит на самом берегу Эльбы, часах в двух ходьбы от Дрездена. В этой деревеньке было несколько загородных домиков, принадлежащих самым знатным и богатым лицам всего околотка. Эти домики прятались в густом лесу лип, буков и черных елей и сосен.
Дача Гойма, куда он частенько приезжал украдкой из своего городского дома, чтобы пробыть тут вечер и часть дня, а в отсутствие короля и целые недели, была, как и все строения того века, построена на французский манер, с разными резными и лепными украшениями по стенам и с высокой черепичной крышей. Ее отделывали самым старательным образом нарочно привозимые сюда из столицы мастера.
Хозяин очень заботился об украшении этого жилища. Небольшой дворик был огорожен железной решеткой на каменных столбах, на которых стояли превосходные каменные вазы, а на более высоких столбах около ворот помещались группы купидонов с фонарями в руках. Вход в дом был по каменной галерее, опять украшенной вазами, статуями и роскошными цветами. Дом был барский, но казался пустынным и грустным и походил на монастырь.
Здесь не было ни шума, ни многочисленной прислуги. Изредка около дачи показывались два старых камердинера и несколько человек прислуги, а под вечер выходила иногда с книжкой в руках женщина, которой с удивлением и восхищением любовалось все население Лаубегаста. В самом деле, это было какое-то чудное явление в этом глухом захолустье, потому что единственно достойным ее местом жительства могла быть столица.
Никто никогда не видел в этой деревне ничего подобного и не мог даже представить себе такой красоты. Это была молодая женщина высокого роста и царственной осанки, великолепного цвета лица, с черными живыми, ясными глазами. Когда она шла по улице во всем величии своей красоты и молодости, невольная тревога овладевала всяким, кто на нее даже украдкой взглядывал, столько было в ней повелительного и истинно царственного.
Но несмотря на величественность, в лице ее было что-то грустное, унылое. Никогда не улыбались уста, никогда не светилось в глазах что-нибудь веселое, беззаботное. Она казалась несчастной, а, может быть, просто скучала. Известно было, что она жила здесь взаперти и в одиночестве уже несколько лет, не видя никого, кроме сестры Гойма, фицтумовой жены, но и эту брат не часто допускал к своей жене. Он знал, что сестра его некогда тоже имела счастье удостоиться кратковременных ласк короля и питала надежду когда-нибудь снова вернуть себе утраченное мимолетное счастье.
Не допуская жену ко двору и стараясь удалить ее от всех придворных соблазнов и интриг, министр даже и родную сестру старался от нее отстранить. Госпожа Фицтум понимала это, но ничего не говорила, — ей это было все равно.
Но невестка ее смертельно скучала. Единственным развлечением красавицы были духовные протестантские книги, которыми она часто зачитывалась, да еще прогулки, происходившие, однако, не иначе, как под надзором старика-камердинера.
Тщательно оберегаемая жизнь текла однообразно и тихо, и никакие страстные порывы не нарушали спокойствия. Гойм, впечатлительный и страстный, но непостоянный и ветреный, увлекаясь придворной жизнью, скоро забыл и почти бросил свою жену. Однако, он любил ее по-своему, то есть ревновал и прятал свое сокровище.
Только тогда, когда короля и двора не бывало в Дрездене, графине Гойм позволялось приезжать на короткое время в столицу, но столица в это время была так смертельно скучна, что не могла привлечь к себе молодую женщину.
Многолетнее заключение сделало ее мрачной, желчной, грустной и гордой. В ней развился какой-то странный аскетизм и апатия. Она считала свою жизнь погибшей, отпетой и похороненной. Впереди она видела только одну смерть, а между тем она была хороша, ей еще не было двадцати четырех лет, да и то все видевшие ее не давали ей больше восемнадцати, до такой степени она была моложава.
Эта моложавость невестки приводила в негодование госпожу Фицтум, молодость и свежесть которой сильно пострадали от веселой и разгульной придворной жизни. Ее раздражало и другое в молодой Гойм — ее грусть, ее негодование на все порочное, ее гордость, презрение к интригам и лживости, ее царственное достоинство, с которым она с высоты своего величия глядела на подвижную, веселую и полную фальши и обмана золовку. Не будь госпожа Фицтум родственницей госпоже Гойм, она, может быть, даже постаралась бы довести ее до падения.
Жена Гойма тоже не любила госпожу Фицтум, она чувствовала к ней инстинктивное отвращение. К мужу она относилась холодно, даже почти с презрением, может быть, отчасти за эту самую Фицтум, которая любила потихоньку посплетничать о разных скандальных интрижках; через нее Анна Гойм знала, что муж не был ей верен.
Легко могла она повергнуть его к своим стопам одним нежным взглядом; она знала свою силу и была в ней уверена, но не хотела. Он казался ей слишком ничтожным, чтобы стоило о нем заботиться. Встречала она его холодно, провожала так же. Гойм возмущался, сердился, но когда дело доходило до открытой ссоры с женой, он постыдно сбегал.
Так шли день за днем в Лаубегасте. Анне уже не раз приходила на ум мысль оставить мужа и «соломенной вдовой» возвратиться на родину в Голштинию…
Но отца и матери она лишилась в детстве, а княгиня Брауншвейгская из рода Голштейн-Плен, пожалуй, и не приняла бы ее снова к своему двору. Слишком памятно и известно было пребывание там шестнадцатилетней Анны, которую князь Людовик Рудольф в пылу увлечения ее чудной красотой хотел поцеловать и получил почти публично пощечину.
Некуда было деваться бедной, но прекрасной Анне.
О ней никто не знал в Дрездене, никто не знал при дворе — за исключением одного человека.
Это был молодой поляк, который скорее силой, чем охотой, состоял при дворе Августа: он попал сюда против воли и против воли влачил тут противное его нраву существование.
Когда Август Сильный ехал в первый раз в Польшу и, разговаривая с гордыми панами, выехавшими ему навстречу, стал за обедом в Пекарах крушить в руках серебряные стаканы, гнуть талеры и ломать подковы, епископ Куявский при виде этих подвигов, предчувствуя почему-то зловещую будущность Речи Посполитой, будто невзначай заметил, что ему известен один молодой человек, который может сделать почти то же самое.
Это за живое задело короля, который любил кичиться своей силой: он покраснел от неудовольствия, но, не желая этого выказывать, так как это было на первых порах его пребывания в Польше, удержался и выразил желание видеть такого соперника по силе, так как еще никогда в жизни не встречал себе равного. Епископ обещал королю представить ему в Кракове после коронации этого бедного молодого человека, происходящего, однако, из знатного и некогда очень богатого рода Закликов.
После епископ понял всю неловкость своей выходки и охотно бы ее забыл, если бы сам король не стал упорно настаивать и требовать, чтобы ему показали Раймонда Заклика.
Раймонд в то время только окончил иезуитскую школу и сам не знал, что с собой делать и куда деваться. Рад был бы он поступить на военную службу, но чин купить было не на что, а идти рядовым — не подобало дворянину.
После долгих розысков Заклика нашли наконец в какой-то канцелярии.
У него не оказалось ни порядочного платья, ни сабли, ни пояса. Волей-неволей епископу пришлось снарядить его на свой счет с ног до головы, чтобы самому не осрамиться, и он стал ждать случая показать его Августу.
Чаще всего король любил помериться силой после хорошего обеда, когда бывал особенно в духе. В один из таких дней, принявшись ломать серебряные жбаны и подковы, которые заранее обыкновенно припасались придворными, король вдруг обратился к спокойно сидящему в стороне епископу и снова спросил: «А где же, мой отец, ваш силач?» Когда король стал настаивать, привели Заклика.
Это был рослый, румяный, смирный и здоровый молодец, на вид скромнее красной девицы и совсем не казался Геркулесом. Взглянув на него, Август усмехнулся. Заклик был дворянин, и он получил разрешение поцеловать руку государя. По-французски и по-немецки он не знал в то время еще ни слова, и потому с ним иначе как по-латыни говорить было трудно. К счастью, особенного разговора тут и не требовалось. Перед королем стояли два ровных серебряных бокала; Август взял один, сжал пальцы, и серебро смялось, как бумага, а вино брызнуло из бокала вверх.
Насмешливо улыбаясь, подвинул он другой бокал Заклику и сказал:
— Попробуй, если погнешь бокал, он твой.
Робко подошел юноша к столу, протянул руку и, почувствовав в ней металлическую вещь, оробел: ему казалось, что он ее не осилит…
Кровь бросилась ему в лицо — и бокал разломился на несколько кусочков. На лице короля изобразилось сначала недоумение, но оно быстро перешло в неудовольствие, которое было заметно во взгляде, брошенном на епископа.
Присутствующие поняли неловкость и спешили доказывать, что бокал, сломанный Закликом, вероятно, был или тоньше первого, или просто надломлен раньше.
Король стал ломать подковы, как баранки, Заклик делал то же самое без малейшего усилия.
Тогда Август взял немецкий талер и сломал его между ладонями. Заклику подали талер испанский, который был значительно толще немецкого, но дворянин принатужился и переломил монету.
По лицу короля пробежала туча, и весь двор был недоволен, что дело дошло до такого неблагоприятного исхода. Август велел наградить Заклика, подарил ему оба бокала, а затем, подумав, приказал зачислить его ко двору. Ему дали какую-то маленькую должность, а на другой день шепнули, чтобы он, Боже сохрани, никогда не хвастался своей силой. Неприлично быть сильнее короля.
Бедняк Заклик попал таким образом ко двору.
Ему дали несколько сот талеров содержания без всякой работы — по тому времени это было очень роскошно. У Заклика было много свободы и одна лишь обязанность — ездить безотлучно за королем в его путешествиях. Король никогда не говорил с ним ни слова, но о нем помнил, часто наведывался и приказывал, чтобы он ни в чем не нуждался.
Свободного времени у Заклика было с избытком, и так как среди немецкого общества он ни слова ни с кем не мог сказать, то принялся на досуге учить немецкий и французский. Дело пошло успешно, и через два года он уже довольно свободно объяснялся на обоих языках. От скуки он часто бродил по окрестностям Дрездена, и не было деревеньки или рощицы, в которой бы он не побывал. Любопытный от природы, лазил он часто по самым неприступным горам и по обрывистым берегам Эльбы, взбирался чуть не с опасностью для жизни на такие высоты, что просто дух захватывало…
В одну из таких экскурсий Раймонд Заклик попал на свое несчастье в Лаубегаст и в тени под липой расположился отдохнуть… В это время графиня Анна Гойм вышла на свою одинокую прогулку. Заклик увидел ее и остолбенел от восторга и восхищения. Не верилось, что такое создание может действительно существовать. Долго просидел тут бедняк и все глядел, глядел и не мог наглядеться. Ему казалось, что вот, наконец, и надоест смотреть, но чем больше смотрел, тем все больше хотелось ее видеть. Грустно, скучно стало на душе, и, как околдованный, стал он бегать каждый день в Лаубегаст, совершенно потеряв голову.
Никому он не доверил своей тайны, да и посоветоваться ему было не с кем; некому было сказать, что от этой болезни одно лишь лекарство: не в огонь бросаться, а от огня бежать без оглядки… Юноша затосковал, исхудал, побледнел и даже как будто поглупел.
Служившие у графини Гойм женщины нередко поднимали его на смех, догадываясь, что с ним делается; рассказали они о юноше и своей госпоже. Та рассмеялась и захотела на него посмотреть. Может быть, ей стало его жаль, но она приказала позвать его к себе, пожурила за его постоянные и назойливые прогулки и строго велела больше не появляться в Лаубегасте.
При разговоре этом никто не присутствовал, и Раймонд вдруг набрался смелости. Он ответил, что в том, что он смотрит, нет греха; что ничего больше ему не нужно, лишь бы ее видеть, и прибавил, что хотя бы его тут казнили, он будет сюда приходить.
Графиня Анна сердито топнула ножкой и обещала пожаловаться мужу, но Раймонда это не испугало. Графиня перестала ходить в ту рощу, где ее поджидал Заклик, и начала гулять вдоль Эльбы.
Однажды графиня заметила, что недалеко от берега над поверхностью воды виднеется человеческая голова. Она всмотрелась — по горло в воде стоял Заклик.
Страшно разгневавшись, Анна стала звать своих людей, но Раймонд нырнул и исчез. Он едва не утонул, потому что запутался в водорослях, а намокшая одежда тянула ко дну.
С этого времени Заклик как будто скрылся, на самом же деле он отыскал другую засаду и все глаза просмотрел, глядя целые дни на недоступную красавицу…
Знала об этом Анна или нет, но только в Лаубегасте о Заклике уже больше не говорили.
При дворе им тоже не интересовались: король, может быть, даже был бы и очень доволен, если бы он себе свернул где-нибудь шею.
К королю только раз призвали Заклика: это было, когда Август, будучи сильно разгневан, одним взмахом сабли отрубил голову громадному коню. Мощный владыка хотел доказать, что это подвиг, которого ни за что не сделает славный Заклик. Привели старую, костлявую солдатскую клячу. Заклику посоветовали, чтобы он, если дороги ему свобода и королевская милость, слукавил и не обнаруживал своей силы; но простодушный парень подумал, что если дело идет о том, чтобы помериться силой, то надо не ударить лицом в грязь.
В присутствии короля, всей знати и двора он выбрал добрый палаш и, как бритвой, отхватил голову кляче.
Потом он сам говорил, что рука с неделю болела, да ничего, зажила.
Король не сказал ни слова, только плечами пожал. На Заклика никто и смотреть не хотел, а те из придворных, которые с ним были поближе, советовали ему убираться из Дрездена, пока цел, и предсказывали, что при малейшем удобном случае не миновать ему Кенигштейна.
Раймонд не хотел об этом и слушать.
А король в это время о нем не забывал и вдруг захотел испробовать, сколько Заклик может выпить вина, но Заклик пил лишь воду и изредка только стакан пива или рюмку вина — и больше не мог.
Насильно влили ему в горло стакан венгерского; он тут же свалился с ног, неделю пролежал больной и чуть не схватил горячку. Но придя в себя и выздоровев, он, казалось, стал еще сильнее, снова начал ходить в Лаубегаст, высматривать свою красавицу.
Эта любовь сделала Заклика другим человеком. Он стал серьезнее, принялся за науки, и даже наружность его изменилась.
Графиня Анна, не имевшая тайн от мужа и от его сестры, о Заклике им ни разу не рассказала. Казалось, не видя и не встречая его больше, она и сама о нем забыла.
День в Лаубегасте кончался очень рано: чуть темнело, уж запирали ворота и двери на ключи и на засовы, собак спускали с цепей на двор, слуги ложились все спать, а сама хозяйка если и засиживалась иногда при свечах, коротая скучное время за книжкой, то об этом никто не знал.
В ту самую ночь, когда пировали в замке, по полям бушевал такой страшный осенний ветер, так страшно ломал и крушил ветви и целые деревья, что в Лаубегасте никто и не думал о сне.
Анна разделась и, лежа в постели, читала Библию, в которой любимыми были Апокалипсис и послания апостола Павла… Много она размышляла и нередко плакала над этим благочестивым чтением.
Была поздняя ночь, и в комнате уже догорала вторая восковая свеча, когда около дома послышался страшный стук, потом кто-то стал ломиться в железные ворота. Спущенные цепные собаки начали так ожесточенно метаться и громко лаять, что хозяйка почувствовала тревогу.
Анна начала звонить и подняла на ноги всю дворню; стук у ворот и собачий лай не прекращались.
Люди вышли на всякий случай с оружием.
За воротами шумел и кричал королевский курьер, рядом стояла запряженная шестериком карета с придворными ливрейными лакеями. Собак тотчас посадили на цепь, отворили ворота и приняли от курьера письмо графа.
Когда Анне подали письмо, она подумала, что случилось недоброе… Она побледнела, но, узнав почерк мужа, хотя немного дрожащий и неровный, стала спокойнее. В уме мелькнула судьба канцлера Бейхлинга, который в одну ночь лишился всего, что имел, и из королевских любимцев попал в кенигштейнские узники. Гойм тоже не раз говорил ей наедине, что не будет считать себя в безопасности, пока не переберется за границу со всем имуществом.
Всем было известно, что расположенность Августа не надежна, что чем добрее был король, тем более нужно было его опасаться. И Анна беспокоилась за мужа, потому что все государство ненавидело его за введение акцизных сборов, повсюду у него были враги и недоброжелатели.
Прочитав письмо, она немедленно велела готовиться к отъезду, и не прошло и часа, как ворота тихого домика захлопнулись за каретой, которая навсегда увозила его хозяйку…
Странные мысли приходили Анне на ум, овладевал какой-то страх и тоска…
Все знали уже о возвращении короля после долговременной отлучки. С ним возвращались в Дрезден интриги, козни, происки, при которых все средства становятся хороши и позволительны. Там часто происходили вещи, на первый взгляд, пустые и веселые, а на самом деле трагические.
В то же самое время, когда злополучные жертвы томились в темных казематах или гибли на плахе, бальная музыка возвещала торжество победителей… Не раз Анна издали глядела на синеющую кенигштейнскую скалу, где погребено заживо столько тайн и столько живых мертвецов…
Дорогу освещала придворная прислуга, ехавшая впереди с фонарями, и благодаря этому лошади мчали быстро…
Анна не успела оглянуться, как ее карета уже остановилась перед домом на Пирнейской улице. Хотя прислуга еще дожидалась министра, но люди спали.
В доме, в котором Гойм занимал только первый этаж, Анна даже не имела особых покоев. Было здесь только несколько комнат да спальня мужа, которая внушала ей отвращение. Сверх того тут были еще канцелярия и архив для бумаг. Кабинет министра прилегал к большой, богато убранной, но мрачной и скучной гостиной.
Графиня удивилась, когда не застала мужа дома, но прислуга передала ей, что это была королевская ночь и что после подобных пирушек пребывание гостей в замке обыкновенно продолжалось до утра и даже дольше.
Чувствуя необходимость отдохнуть, Анна прошла в дом.
Она выбрала гостиную, лежащую по ту сторону канцелярии, совсем отдельно от прочих комнат, и приказала устроить себе тут маленькую походную постель, потом, отпустив служанку, постаралась хоть немножко уснуть. Но сон не приходил, она только дремала, просыпалась и вскакивала при малейшем шорохе.
Уже было совсем светло, когда она уснула, но тотчас же ее разбудили шум отворяющейся двери и шаги в кабинете. Полагая, что это был муж, она вскочила и стала при помощи горничной как можно скорее одеваться.
Туалет был утренний, довольно небрежный и шел ей необыкновенно. Усталость после дороги и беспокойство придавали еще больше блеска ее царственной, беспримерной красоте. Она нетерпеливо дернула дверь, отделяющую ее от кабинета, отворила ее и остановилась на пороге.
Перед ней вместо мужа стоял совершенно незнакомый человек, осанка и лицо которого произвели на нее самое странное впечатление.
Это был пожилой человек в длинном черном костюме протестантского пастора, с плешивой, лоснящейся головой, на которой торчали лишь несколько клочков седых волос. Пожелтевшая кожа так крепко обтягивала его череп, что все жилы обрисовывались самым явственным образом. Серые впалые глаза, горькая улыбка, какое-то важное и вместе с тем презрительное спокойствие — все это придавало некрасивому лицу что-то такое, от чего нельзя было оторваться.
Анна молча смотрела на него, а он, по-видимому, был не менее поражен ею и стоял неподвижно, выпучив глаза, в которых невольно изобразилось восхищение при виде этого совершеннейшего создания.
С минуту они стояли, глядя друг на друга, и наконец он невольно отступил, взглянув на нее, спросил:
— Кто ты такая?
III
— Я имею больше прав спросить вас, кто вы и для чего вы здесь в моем доме?
— В вашем доме? — повторил с удивлением старик. — Не должно ли это значить, что я имею честь видеть перед собой супругу господина министра?
Анна кивнула молча головой. Пастор взглянул на нее взором жалости, и его слабая, неказистая фигурка, казалось, вдруг ожила, облагородилась и выросла, стала так почтенна и величественна, что графиня почувствовала себя при этом человеке несмелой, робкой, покорной и послушной, как малый ребенок. Между тем старик заговорил:
— Зачем ты, которую Всевышний создал для своего прославления как чудное, полное веры и света созданье, зачем ты, существо, достойное сообщества ангелов, не отряхнешь от своих ног прах, приставший к ним от этого нечистого Вавилона и не убежишь отсюда? Зачем стоишь ты здесь, не боясь, а может быть, и не подозревая опасности? Давно ли ты тут?
Анну ошеломили эти слова, но голос старика производил на нее такое хорошее впечатление, что она была готова ему отвечать, но он прервал ее и продолжал:
— Знаешь ли, где ты? Знаешь ли ты, что земля под твоими ногами колеблется? Что эти стены разверзаются по одному слову, что здесь жизнь человека ничего не стоит… И все это ради минутной прихоти?
— Что за страшные картины рисуете вы мне, мой отец, — прервала его графиня Гойм, — и зачем вы хотите меня запугать?
— Все это я делаю потому, что по светлым твоим глазам и челу твоему, дитя мое, я вижу, как ты невинна и не сведуща, и не подозреваешь ничего того, что угрожает тебе. Ты, верно, недавно здесь?
— Всего несколько часов, — улыбнувшись, отвечала графиня.
— И не правда ли, ты не здесь провела свое детство?
— Да, я приехала из Голштинии… Вот уже несколько лет, как я замужем за Гоймом, но он держит меня в деревне, в уединении, я видела Дрезден только издали.
— И, верно, ничего не слышала об этом Вавилоне? — прибавил старик. — Все, что ты мне теперь говоришь, я уже прочел в твоих глазах. Бог иногда позволяет мне проникать в глубь человеческой души Безмерная жалость к тебе овладела мной, как только я взглянул на тебя, прекрасная графиня; мне показалось, что я смотрю на белую лилию, которая расцвела в стороне от всего света и которую вот-вот сейчас растопчет бешено несущееся стадо. Цвести бы тебе там, где ты выросла, и мирно благоухать в тихом уединении!
Он умолк, а Анна, сделав к нему несколько шагов, спросила:
— Скажите мне, мой отец, кто вы?
Старик поднял голову и отвечал:
— Кто я такой? Я грешное, самоуверенное существо, над которым все смеются и на которого никто не смотрит. Я глас вопиющего в пустыне… Я тот, который проповедует необходимость покаяться, предрекает дни скорби и отчаяния. Кто я? Я послушное орудие Божьей воли, чрез которое иногда исходит горний глас с небеси, но над которым люди лишь смеются или, еще чаще, совсем его не слушают. Я тот, за которым бегает по улицам толпа уличных мальчишек и бросает грязью и каменьями; тот, пророчества которого никто не слушает; я нищий среди богачей… Но я богат милосердием Бога и служу одной его правде.
Чудный случай, подумала графиня. После нескольких лет спокойной, мирной жизни в деревне, куда едва долетал шум столичной жизни, внезапно приехать сюда по вызову мужа, и на самом пороге встретить будто бы предостережение… Не перст ли Божий это? Она невольно вздрогнула, и по телу забегали мурашки.
— Осторожно! — воскликнул старик. — Беда тем, которые не обращают внимания на предостережения, даваемые Божьим милосердием. Ты хотела знать, кто я? Я просто бедный пастор, который имел неосторожность сказать слишком резкую проповедь. Я задел сильных мира сего, и они теперь меня преследуют… Зовут меня Шрамм… Граф Гойм знавал меня, и я пришел просить его замолвить словечко в мою пользу… Мне грозят Бог знает чем! Вот кто я и зачем я здесь! Но что вас сюда привело, и кто вам позволил здесь оставаться?
— Меня вызвал муж, — сказала Анна.
— Просите скорее своего мужа, чтобы он отпустил вас назад! Да, скорее его об этом просите, — шепнул ей, тревожно оглядываясь, старик. — Я видел всех прелестниц этого двора, потому что ими здесь все хвастаются, как игрушками, и… Я скажу тебе: ты красивее их всех, а это горе, горе, горе! Горе тебе, если ты здесь останешься!.. Тебя опутают сетью интриг, оговорят ядовитыми речами, усыпят и опоят, закружат тебя в вихре удовольствий, очаруют тебя приветливостью, убаюкают твое сердце сладкими речами, приучат твои глаза ко всему постыдному, развратят тебя с позором и срамом и потом столкнут тебя в пропасть.
Анна Гойм насупила брови.
— Нет, мой отец! — воскликнула она. — Я совсем не так слаба, как вы думаете, и совсем не так неопытна и не ищу удовольствий. Нет, свет не увлечет меня!
— Ах, ведь ты его не видела таким, каков он есть во всей силе соблазна, — возразил Шрамм, — не доверяй себе и лучше беги из этого ада…
— Куда же мне бежать? — вдруг с жаром заговорила Анна. — Судьба моя связана с судьбой другого человека, оторваться от которого я не вправе. Я верю в судьбы Божии, и чему со мной суждено быть, того не миновать… Мною никто не сможет овладеть, скорее я буду всем управлять и над всем царствовать.
Шрамм посмотрел на нее тревожно: она стояла задумчивая, но полная силы и смелости, с насмешливой улыбкой на устах.
В эту минуту отворилась дверь, и в кабинет вошел неверными шагами, еще заметно пошатываясь, граф Адольф Магнус Гойм; он казался смущенным и немножко сконфуженным.
Если вчера вечером за попойкой вид графа был не особенно привлекателен, то сегодня при дневном свете он казался еще хуже… Огромного роста, широкоплечий, сильный, но неуклюжий, он не выглядел благородно; лицо его было самое обыкновенное, хотя, впрочем, довольно подвижное, и на этот раз по нему пробегали самые разнообразные выражения. Серые глаза то совсем исчезали в веках, то вдруг вытаращивались с каким-то зловещим блеском; рот кривился, лоб то морщился, то снова прояснялся, как будто какая-то тайная, внутренняя сила управляла всеми этими быстро сменявшимися декорациями.
Увидев жену, он улыбнулся, но тут же снова насупился и, казалось, был готов немедленно разразиться страшным гневом… Для начала граф сурово нахмурил брови на Шрамма…
— Шальной фанатик, противный комедиант! — закричал он, почти не поздоровавшись с женой. — Ты опять намолол там какого-то вздора и снова приходишь ко мне, чтобы я спас тебя от погибели?… Я все знаю, ты потерял свой приход… И прекрасно! В деревню тебя, в пустыню, в горы, к простому народу!..
И сделав сердитый жест рукой, он закончил:
— Что до меня, то я прошу тебя знать, что я и не хочу и не думаю за тебя заступаться! Благодари Бога, если тебя под конвоем еще отправят в какое-нибудь захолустье; здесь с тобой может случиться что-нибудь похуже…
— Вы все ведь что думаете? — закричал снова министр, подступая к Шрамму в таком гневе, что, казалось, сейчас схватит его за горло. — Вы думаете, что вам во имя Божие здесь при дворе все можно делать! Вы думаете, что вам позволено подсовывать горечь называемого вами слова Божия таким устам, которым оно не по вкусу! Вы возомнили себе, что здесь можно разыгрывать роль вдохновенных апостолов, обращающих на путь истинный грешников… Шрамм, сотни раз я твердил тебе, что мне тебя не отстоять!.. Ты сам себя губишь…
Пастор стоял, нисколько не смутившись, и спокойно смотрел на министра.
— Да ведь я служитель Бога, — сказал он. — Я присягал говорить лишь одну правду, и если меня за нее хотят мучить… Да будет воля Божья!..
— Мучить! Ах, вот что! Ты желаешь быть мучеником! — рассмеялся Гойм. — Нет, любезный, это было бы слишком много чести, а тебе просто дадут кулаком в спину и выгонят оплеванным!..
— И я пойду, — отозвался Шрамм. — Но пока я здесь, я не замолкну…
— Кричи, кто станет тебя слушать? — с усмешкой ответил министр, пожимая плечами. — Но довольно об этом, делай, что сам знаешь… Спасти тебя и не могу и не хочу; тут каждому едва под силу о себе самом думать… Я не раз повторял тебе, Шрамм: молчать нужно вовремя, нужно подделываться, а не то умрешь затоптанным в грязь… Что делать, наступают времена Содома и Гоморры!.. Будь здоров, а теперь нет больше времени!
Шрамм молча поклонился и, взглянув с сожалением на Анну, направился к дверям. Гойм крикнул:
— Жаль мне тебя! Ступай, я сделаю, что могу, но заройся в Библии и держи язык за зубами, в последний раз прошу!
Шрамм вышел.

Прием турецкой миссии в Варшаве
Тронный зал Августа II в Дрезденском дворце
Супруги остались в комнате одни.
— Скажите, граф, для чего вы так внезапно призвали меня сюда? — спросила Анна.
— Зачем я призвал вас? — быстро ответил Гойм и заходил взад и вперед по кабинету. — Зачем? Затем, что я с ума сошел! Потому что эти негодяи меня напоили, потому что я сам не знал, что делал! Потому что я идиот! Несчастный сумасшедший! Да, сумасшедший!
— Значит, это была… пустая выходка, и я могу вернуться назад? — спросила Анна.
— Из ада никогда назад не возвращаются! — отвечал Гойм. — А по моей милости вы попали в ад, потому что если есть где ад, то он здесь, настоящий ад!
Он разорвал на груди душившую его рубашку и, упав на стул, воскликнул:
— Да, мне приходится окончательно сойти с ума, у меня нет более сил бороться с королем!
— Как, король? Причем здесь король?
— Король, Фюрстенберг, все, все! Даже Фицтум! А кто знает, может быть, и моя родная сестра, все против меня… Что вы удивляетесь? Здесь проведали, что вы красавица, а я дурак, и приказали мне показать вас всем!
— Кто ж рассказал им обо мне? — спокойно спросила графиня.
Министр был не в силах сознаться, что он сам был во всем виноват. Он затопал ногами и вскочил со стула… Но вдруг злость его перешла в совершенно противоположное состояние, и он стал насмешлив.
— Довольно, — заговорил он, понижая голос. — Будем говорить разумно. Того, что случилось, исправить уже нельзя… Я вызвал вас, потому что был принужден к этому волей короля, а Юпитер громит тех, кто дерзает его ослушаться… Все должно служить для его удовольствия… Королевские стопы могут топтать чужие сокровища и бросать их всем на поругание и посмешище.
Граф умолк и принялся ходить по комнате.
— Я побился об заклад с князем Фюрстенбергом, что вы красивее всех женщин, которые играют здесь роль красавиц. Не правда ли, что я был глуп? Я позволяю вам мне это повторять тысячи раз… Государь будет сам судьей спора… И я выиграю тысячу червонцев.
Анна бросила на мужа взгляд, полный презрения, и отвернулась.
— Какое вы ничтожество! — гневно воскликнула она через минуту. — Как? Вы, который держали меня взаперти, как невольницу, оскорбляя своей ревностью, теперь сами выводите меня, как актрису, на сцену, чтобы я блеском своих глаз и улыбками выигрывала заклады… Какая беспримерная подлость!
— Говорите, что хотите, не щадите меня, — горестно отвечал Гойм. — Я это заслужил… Нет наказания, достойного меня! У меня было чудное, прекраснейшее на всем свете существо, которое жило и цвело для меня одного; я им гордился и был счастлив… Дьявол потопил мой рассудок в стакане вина.
Он с отчаянием ломал руки. Анна взглянула на него и решительно сказала:
— Я поеду домой, здесь мне стыдно самой себя… Лошадей, экипаж!
— Лошадей! Экипаж!.. — повторил Гойм. — Да вы, верно, не знаете, где вы и что вас окружает? Вы уже теперь невольница, вы не можете шагу сделать отсюда; я не поручусь за то, что в эту минуту у дверей не стоит стража. Если бы вы посмели бежать, вас настигли бы с жандармами и силой привезли бы назад… Да никто и не согласится везти… Никто не дерзнет вас спасти!.. Вы еще не знаете, куда вы попали…
Чувство ужаса вспыхнуло на лице графини. Гойм смотрел на нее с невыразимой, мучительной ревностью, а на губах его играла беспокойная, горькая усмешка.
— Нет! — сказал он, дотрагиваясь слегка до ее руки. — Послушайте меня, графиня, может быть, дело еще не так дурно, может быть, я все преувеличиваю. Будем рассуждать хладнокровно и разумно… Гибнут здесь лишь те, которые хотят погибнуть… Если вы захотите, вы можете быть не такой красивой; вы можете сделаться странной, суровой, отталкивающей, вы можете, чтобы спасти и себя и меня, притвориться такой суровой…
Он понизил голос.
— Знаете ли вы историю нашего всемилостивейшего государя и короля Августа? Это, бесспорно, самый могущественный и щедрый из государей… Он сыплет золотом, которое я, граф Гойм, по его поручению вырываю у бедняков посредством акциза и других налогов… Нет такого другого великодушного монарха, который бы так постоянно и упорно нуждался в самых дорогих и разнообразных удовольствиях. Шутя ломает он подковы и шутя играет он женщинами. И то и другое он скоро бросает, канцлеров, которых вчера обнимал, завтра он сажает в Кенигштейн… Добрый и ласковый государь, он улыбается вам до последней минуты, чтобы облегчить вашу горькую участь… Сердце у него доброе, милостивое, только не нужно ему противиться…
Граф говорил все тише и тише.
— Знаете ли вы его историю? А ведь она очень любопытна, — продолжал он почти шепотом. — Он любит разнообразие в женщинах, ему нужно всегда свежих. Как мифическому дракону, который питался девичьим мясом, ему тоже нужно все новых и новых… Кто перечтет его жертвы? Вы, может быть, слышали их имена, но не забудьте, что кроме тех, которые стали известными через свое бесславие, втрое больше таких, которые за свое падение не получили даже этой позорной награды и навсегда остаются неизвестными. У короля странные вкусы и прихоти, два — три дня любит он роскошь и знать, а надоедят они ему, и он готов бегать за лохмотницами… Весь свет знает трех официальных любовниц, побочных королев, я же насчитал бы их двадцать… Кенигсмарк еще очень хороша, Шпигель еще не очень стара, княгиня Тешен теперь в милости, но уже все они ему надоели… Он ищет теперь себе новую фаворитку!..
— О, мой добрый, о, мой хороший государь! — продолжил, смеясь, граф Гойм. — Ведь нужно же ему позабавиться, ведь для этого он на свет родился, чтобы все служило его прихотям. Красив, как Аполлон, силен, как Геркулес, любезен, как Сатир, и грозен, как Юпитер.
— К чему вы мне все это рассказываете? — перебила мужа возмущенная Анна. — Неужели вы думаете, что улыбка государя может сбить меня с пути, который я себе начертала и который считаю честным?
Гойм смотрел на нее с состраданием.
— Я знаю вас, Анна, — отвечал он. — Но я знаю и двор, знаю и государя и всех его окружающих. Если бы вы любили меня… тогда… я, может быть, был бы еще спокоен… но…
— Позвольте! Я не знаю, с какой стати нам говорить о любви… Мне кажется, без этого мы можем обойтись, но я клялась вам в верности и думаю, что этого должно быть вполне довольно для вашего спокойствия! — гордо отвечала жена. — Если вы потеряли мое сердце, то у вас еще осталось мое слово. Такие женщины, как я, своих клятв не нарушают!
— Ах, не говорите, графиня, и не такие неприступные были, и они также потом прельщались блеском коронованной главы. Княгиня Тешен так же, как вы, знатна и так же горда, а между тем…
Анна сделала нетерпеливый презрительный жест.
— Граф! — воскликнула она. — Мне нет никакого дела ни до гордости, ни до унижений княгини Тешен, но о себе я хорошо знаю, что я не умею носить стыда, и уверяю вас, что королевской любовницей не буду!
— Стыд! — возразил Гойм. — Поверьте, графиня, что он мучит только одну минуту, рана, им наносимая, только гноится, но не болит, и лишь одно пятно и остается навеки.
— Вы мне противны! — гневно прервала его Анна. Лицо ее было взволнованно. Гойм подошел к ней и заговорил мягче:
— Простите меня, графиня! Я потерял голову и не знаю, что говорю и что делаю… Может быть, все это только самые неосновательные догадки и опасения. Завтра бал во дворце. Король приказал, чтобы вы непременно были на этом балу, там вас представят королеве. Мне кажется, — продолжал он почти шепотом и, опустив глаза, — что все, что вы не захотите, вы все можете, вы можете даже не быть красивой… И я охотно проиграл бы это пари. Вам легко выставить себя неловкой, смешной. Для короля много значат ловкость, изящество манер, живость и остроумие… Вам нетрудно выказаться смущенной, неловкой, робкой, даже молчаливой и смешной! Черты лица еще ничего не значат… В Дрездене весь город полон красивыми кухарками. Август знаток утонченный, он прихотлив, ему от женщины много нужно… Вы понимаете меня, графиня?
Анна отвернулась и отошла к окну.
— Вы приказываете мне разыгрывать комедию для того, чтобы спасти вашу честь! — воскликнула она с иронической улыбкой. — Но вам не мешает знать, граф, что я не переношу никакой фальши. Вашей чести ничто не угрожает. Анна Констанция Брокдорф не из таких женщин, которые поддаются на королевские ласки, и мою любовь нельзя купить ни за горсть, ни за гору бриллиантов. Вам нечего бояться. Я не поеду на этот бал.
Гойм побледнел.
— Нет, это опять невозможно, графиня! Вы должны быть на этом балу! — заговорил он испуганным голосом. — Тут речь идет о моей голове, о моем будущем… Король приказал…
— А я не хочу! — возразила Анна.
— Вы хотите ослушаться воли короля?
— А почему же и нет? Король хоть глава государства, но он не властен в семейных делах своих подданных, это дело одного Бога. Король в этом надо мной не властен.
— Да, он с вами ничего не сделает! — с волнением заговорил министр. — Он слишком любезен с красивыми женщинами, но зато я попаду в Кенигштейн, наше состояние конфискуют, и нам останется одно разорение и смерть!
— Вы не знаете короля! — продолжал он. — Август никогда не прощал тем, которые не подчинялись его воле. Вы должны быть на этом балу, или я погиб.
Анна нетерпеливо вздернула голову.
Гойм окончательно струсил.
— Заклинаю вас именем Бога! — просил он. — Уважьте мою просьбу!
При этих словах послышался стук в дверь, и вошедший слуга, остановись на пороге, доложил:
— Графини Рейс и Фицтум.
Удержав едва не сорвавшееся проклятие гостям, Гойм поспешно повернулся к лакею, чтобы приказать ему отказать, но на пороге уже стояла сама графиня Рейс, а за ней виднелись разбегающиеся глаза сестры графа, которая смотрела на брата с вызывающим любопытством.
Гойм думал, что в городе еще не знали о его ночном приключении и о приезде жены, но посещение этих двух дам заставляло подозревать противное; было ясно, что его бессмысленная пьяная проделка, в которой он так горячо раскаивался, уже известна всем. Иначе графиня Рейс не навестила бы одинокий дом министра, где он жил на холостую ногу.
Смущенный до крайности, он встретил дам, и величественная, одетая в черное бархатное платье графиня Рейс переступила порог кабинета. Белая, свежая, румяная, немного полная, но недурно сложенная, графиня входила с очаровательной улыбкой.
Сестра Гойма, госпожа Фицтум, сопровождавшая графиню Рейс, сразу увидела по глазам брата, что он встревожен. Но обе женщины сделали вид, что они ничего не заметили, и приветливо улыбались.
— Я могла бы сердиться на вас, граф! — начала своим мелодичным голосом графиня Рейс. — Возможно ли, ваша жена приезжает сюда, а я ничего не знаю, и только вот совсем случайно мне это сообщила Юльхен.
— Как! — воскликнул министр, не будучи в силах удерживать более свое нетерпение. — И Юльхен уж об этом знает?
— Еще бы! — отвечала графиня. — И она и все, весь свет об этом только и говорит, что наконец-то вы взялись за ум и больше не будете держать свою бедную жену взаперти, под замком.
И говоря это, она подошла к Анне.
— Как вы поживаете, дорогая графиня? — приветствовала она красавицу, протягивая ей обе свои руки. — Я очень рада, что наконец встречаю вас здесь, где ваше настоящее место. Я прихожу первая к вам, но поверьте, что меня приводит сюда не пустое любопытство, а желание быть вам полезной. Завтра вы, наша прелестная пустынница, будете первый раз на балу у королевы… Сегодня вы только лишь приехали; Дрездена вы не знаете, как же не спешить к вам на помощь? Мы должны были о вас позаботиться, наша бедненькая, всполошенная пташка…
Во время этой речи, та, которую графиня Рейс называла всполошенной пташкой, стояла спокойно и гордо, как бы сознавая свою силу.
— Я очень вам благодарна, графиня! — спокойно отвечала она. — Муж мне только что сообщил эту новость, но я думаю, что в моем появлении на балу совсем нет никакой необходимости. Надеюсь, что я сохраняю еще за собой право заболеть… положим, хоть от радости, что вдруг получила такое неожиданное приглашение.
— О, я не советовала бы вам прибегать к этому средству, — отвечала графиня Рейс. — Никто, взглянув на вас, не поверит вашей болезни, от вас так и пышет здоровьем, свежестью и силой. Скажу более, никто не поверит и тому, что вы перетрусили, потому что вы, как я вижу, не из робкого десятка.
Между тем госпожа Фицтум взяла под руку Анну и, пользуясь тем, что брат повел графиню Рейс из кабинета в гостиную, шепнула на ухо:
— Что вы делаете, милая Анна! Для чего вам отговариваться? Посудите, наконец-то вы вырветесь из неволи, которую я, право, очень часто оплакивала из любви к вам. Вы увидете двор, короля, наш придворный блеск, которому нет равного во всей Европе. Я первая поздравляю и приветствую вас, потому что уверена, что вам предстоит самая блестящая и самая счастливая будущность.
— Я так привыкла к тишине и спокойствию в своем укромном уголке, — тихо отвечала Анна, — что у меня нет даже никакого влечения к другой, шумной и рассеянной, жизни.
— Ничего, пускай-ка мой братец помучится от ревности! — и госпожа Фицтум весело рассмеялась.
Три дамы в сопровождении смущенного министра еще стояли посреди салона, когда слуга отозвал Гойма и дверь кабинета за ним затворилась. Графиня Рейс села первая, обратившись к прекрасной хозяйке.
— Моя милая графиня, — начала она, — я очень рада, что прежде других могу приветствовать ваше вступление в большой свет… Поверьте мне, что я могу вам когда-нибудь пригодиться… Совершенно не желая и сам того не подозревая, Гойм так обставил ваше вступление в общество, что обеспечил за вами самый верный и блестящий успех… Вы прекрасны, как ангел!
Анна минутку помолчала и затем ответила:
— Вы, милая графиня, кажется, думаете, что я честолюбива?.. Уверяю вас, что во мне этого нет, я слишком долго жила в одиночестве, довольно долго размышляла над собой и светом и теперь только и думаю, как бы вернуться домой, к моей тихой жизни и к моей Библии.
Графиня Рейс засмеялась.
— О, как эти вкусы скоро переменятся! — воскликнула она. — Но не будем теперь об этом спорить, а подумаем лучше о вашем завтрашнем туалете. Посоветуемся-ка, милая Фицтум, как бы нам ее приодеть, потому что сама она, пожалуй, не обратит на это должного внимания. Ведь это должно особенно вас касаться, тут дело в том, чтобы поддержать честь вашего брата.
— Как Анна ни оденется, — возразила графиня Фицтум, — она будет самой красивой на балу. Даже княгиня Тешен не может с ней равняться. Да, Тешен отцвела, и у нас при дворе теперь нет ни одной женщины, которая могла бы соперничать с Анной. Мне кажется, что ей лучше всего пойдет самый скромный костюм, пусть другие бьют на эффект, который производят цветы, белила, румяна и мушки, а Анна будет лучше всех и в простеньком уборе.
Разговор стал все больше и больше оживляться и скоро сделался весьма жарким. Графиня Анна сначала в него не вмешивалась и только слушала обеих приятельниц, которые были ею так озабочены, но скоро и сама увлеклась тем очарованием, которое всегда представляют для женщин наряды, и вставила словечко. Начался общий дружеский и поминутно прерываемый взрывами веселого хохота спор.
Графиня Рейс с необыкновенным вниманием слушала каждое слово Анны Гойм и поглядывала на нее с напряженным любопытством и беспокойством; казалось, что она на свои вопросы ждала от Анны других, более подробных и откровенных ответов. Но постепенно Анна успокоилась, начала острить, смеяться. Она выражалась так метко и остроумно, что графиня Рейс несколько раз порывалась ее обнять — в такое восхищение приводила ее живость молодого, чистого характера, сохранившего в глуши и уединении невинную свежесть.
— О, наша чудная, наша несравненная, очаровательная Анна! — восклицала Рейс. — Завтра вечером весь двор падет ниц к вашим ногам. Гойм должен вперед приготовить свои пистолеты. Княгиня Тешен непременно заболеет и упадет в обморок, она это очень любит и немало на это рассчитывает…
Госпожа Фицтум смеялась, а Рейс стала рассказывать молодой хозяйке, как княгиня Любомирская победила сердце короля, упав в обморок, оттого что Август упал с лошади. Они оба разом лишились чувств, король, оттого что ушиб ногу, княгиня, оттого что страстно захотела видеть его у своих ног, и зато пробуждение из обморока действительно было великолепно: когда она открыла глаза, влюбленный Август был перед нею на коленях…
— Но увы и ах! — прибавила Рейс. — Все это было тогда, а теперь, если бы с ней и действительно сделалось дурно, король скорее бы испугался, чем обрадовался обмороку. Пора страсти миновала и более не возвратится. На лейпцигской ярмарке наш всемилостивейший государь закусил удила и выкидывал такие штуки с французскими актрисами, что княгине Тешен нечего ждать!.. А что хуже всего, так это, говорят, что он, как сумасшедший, влюбился в принцессу Ангальт Дессау… И вообразите себе, говорят, он, наш победоносный Август, не видит от нее ничего, кроме самого холодного, даже дерзкого и оскорбительного равнодушия! Недавно он говорил Фюрстенбергу, что сердце его свободно и что он готов поднести его какой-нибудь красавице.
— Но, однако, я надеюсь, милая графиня, что вы не считаете меня достойной соперницей французских актрис, если есть княгини, которые могут желать этой чести… На мой взгляд, королевское сердце совсем незавидная находка, и во всяком случае, я считаю свое сердце стоющим чего-нибудь лучшего, чем остатки после княгини Тешен.
Лицо графини Рейс зарделось ярким румянцем.
— Тише, тише! Какое вы дитя!.. Кто вам об этом говорит! Я болтаю обо всем, что придет в голову… и больше ничего. Из-за чего же горячиться?
— Мы с госпожой Фицтум пришлем вам наших портных. Если вы не захватили с собой ваших бриллиантов или у вас их недостает, Мейер даст вам, под самым строжайшим секретом, каких вы только захотите, еще не виданных при дворе. Он очень услужлив и любезен…
Говоря это, обе гостьи встали и стали обнимать и целовать Анну, которая молча проводила их до дверей гостиной… Гойм более не выходил: его кабинет уже заполнился чиновниками финансового ведомства.
У подъезда стояла карета графини Рейс, в которую обе дамы и сели.
Несколько времени они ехали молча и задумавшись. Фицтум первая прервала эти размышления:
— Ну, что же вы обо всем этом думаете? — спросила она.
— Это дело решенное, — отвечала графиня, — тут не может быть и сомненья. С нынешнего дня Гойм может считать себя вдовцом. Анна горда… Она будет противиться этому счастью, но короля ничто так не подзадоривает, как упорство, с которым ему приходится выдерживать долгую борьбу. Она прекрасна, как ангел, весела, жива и остроумна… Это такие качества, которые не только привлекают, но приковывают человека к их обладательнице. Будем с ней, моя милая, теперь как можно лучше. Да, с нею надо дружить, потому что когда она захватит власть в свои руки, тогда будет уж слишком поздно искать ее расположения. Давайте помогать друг другу. Через нее мы будем влиять на короля, на министров, на все… Тешен погибла, это меня радует; никогда не могла я сойтись с этой скучной, претензионной княгиней. Да и довольно с нее; сын ее признан, она стала княгиней и страшно богата. Слишком долго уж она царствовала. Она сходит со сцены, король соскучился с ней, а теперь, после его политических неудач, ему больше чем когда-нибудь необходимо развлечение. Фюрстенберг и мы с вами сможем как-нибудь уломать эту Анну. Нужно только вести интригу умно и осторожно и, главное, не спешить: Анну нельзя будет взять приступом, она слишком горда.
— Бедный Гойм! — усмехнулась Фицтум. — Если у него хватит ума…
— Он много выиграет через это, а не все ли ему равно: он ведь давно уж не любит жену, — перебила графиня Рейс. — И хоть вы и сестра ему, но я могу говорить с вами об этом откровенно. Сам же ведь он приготовил эту драму, жертвой которой сам и падет.
— Я виню больше Фюрстенберга!
Графиня окинула свою собеседницу мимолетным взглядом, и в глазах ее промелькнуло что-то вроде усмешки; она пожала плечами.
— А есть же ведь люди предопределенные! — сказала она с иронией и вдруг громко засмеялась. — Знаете ли, она должна надеть оранжевое платье с кораллами. Волосы у нее, как вороново крыло, цвет лица чудный, это ей будет удивительно идти. Вы заметили, сколько блеска в ее глазах?
— И сколько гордости! — прибавила Фицтум.
— Ах, это все так, но пусть только она увидит короля, пусть только Август постарается ей понравиться, и я ручаюсь, что она потеряет и свою голову и свою гордость…
IV
На Пирнейской улице, в те времена одной из самых модных маленького, окруженного стенами, Дрездена, возвышался дворец Бейхлингена, некогда канцлера, а ныне государственного преступника, содержащегося под строгим караулом в Кенигштейне. Сам дворец Бейхлингена был конфискован и подарен королем княгине Урсуле Любомирской, литвинке родом, разведенной с мужем по желанию короля Августа II, который после рождения ему княгинею сына, знаменитого впоследствии кавалера де Сакс, сделал ее княгиней Тешенской и отдал ей дворец Бейхлингена. Награда, впрочем, пришлась ей более за участие, которое фаворитка принимала в низвержении Бейхлингена. Все свободное время, которое у княгини оставалось от поездок в дарованные ей имения Гойерсферда и от разведения садов в Фридрихштадте, она проводила в этом роскошном дворце. Здесь пролетело первое время жаркой страсти и рыцарской любви, когда король дня не мог прожить, не увидев своей прекрасной Урсулы; отсюда выезжала княгиня верхом на коне, одетая в саксонские национальные цвета, встречать своего венчанного, но, увы, непостоянного обожателя. Но это счастливое время уже прошло безвозвратно.
Это стало ясно фаворитке тотчас после одного бала в Лейпциге, когда немилосердная королева прусская София Шарлотта, стараясь укорить в ветрености Августа, обратившего в то время свои милостивые взоры на находившуюся в ее свите принцессу Ангальт Дессау, собрала трех его отставных фавориток: Аврору Кенигсмарк, графиню Эстерле и госпожу Хаугвиц. Этой коварной засадой королева София поставила в самое неловкое положение и непостоянного Дон Жуана и его новую фаворитку княгиню Тешен Любомирскую. С тех пор бедная Урсула стала мучиться самыми мрачными предчувствиями, которых не могли успокоить никакие уверения короля в верности и постоянстве.
У Любомирской уже не выходило из головы, что и ей изменит ее ветреный Августинок (так иногда звали его друзья и собутыльники, напевавшие ему иногда народную песенку «Ach, mein lieber Augustin»…). Король, правда, несмотря на бесчисленные свои мелкие интрижки, все еще оказывал княгине Тешен видимую привязанность, но Урсула чувствовала, что вожжи, на которых она держала короля, все слабеют и вот-вот Август, того и гляди, совсем с них сорвется и пропадет для нее безвозвратно…
Зеркало говорило княгине, что она еще молода и прекрасна; но что же в этом? Все это утратило интерес новизны для короля, и он скучал с ней и искал нового, свежего развлечения.
Правда, и теперь еще Август иногда заезжал к ней часа на два, на три, но Урсула знала, что к этому его побуждала уже не любовь, а приличие. Княгиня понимала свое положение: теперь она не посмела бы ответить королеве, как отвечала некогда на ее вопрос, скоро ли она покинет Дрезден. Тогда надменная Урсула отвечала, что она сюда приехала с королем и только с ним же отсюда уедет. Теперь было не то, теперь ее прекрасные голубые глаза нередко плакали, и ею с каждым днем все больше и больше овладевала тревога: княгиня боялась, что вскоре она получит приказ покинуть Дрезден и никогда не встречаться с королем. А такой исход никогда не входил в планы княгини, мечтавшей проложить себе дорогу к трону.
Теперь все эти мечты рассеялись, как дым, и ей стало ясно, что ее должна была постичь общая судьба всех прежних королевских фавориток. Разочарованная и грустная, Урсула только изредка становилась снова веселой, чтобы снова понравиться королю, но все попытки были тщетны, и она запиралась дома и потихоньку питала мысль об отмщении… Все чаще и чаще писала она письма к примасу Польши Радзейявскому… Король, конечно, знал, что для него было невыгодно навлекать на себя гнев племянницы первого польского сановника, и старался не раздражать ее.
А между тем за княгиней тщательно следили и наблюдали…
Не дремала, в свою очередь, и княгиня; ежеминутно ожидая окончательного разрыва, бедная женщина все скучала и плакала, — чем все более и более надоедала Августу, — но она и зорко следила за ним через своих шпионов.
Через них Урсула знала о ночной попойке и о вырванном у Гойма рассказе о жене, а также о споре и пари последнего с Фюрстенбергом. Княгиня знала, что в Лаубегаст к прекрасной Анне послано письмо и что она с минуты на минуту ожидается в Дрезден и будет на балу у королевы. Обеспокоенная и сердитая, ходила Урсула по комнате, размышляя, ехать ли ей на бал к королеве, принять ли ей этот вызов или оставить неподнятой дерзко брошенную ей перчатку.
Не было еще одиннадцати часов, когда княгине доложили о приезде в город графини Гойм. Анну никто не видел и никто не мог описать Урсуле наружности соперницы. Все соглашались только в одном, что она очень красива и по летам ровесница Любомирской.
О ее красоте по городу ходили самые разнообразные толки, которые, впрочем, немилосердный Киан остроумно мирил, говоря:
— Не все ли равно, на кого она похожа? Тут все дело в том, чтобы она не была похожа на последнюю.
Княгиня сознавала, что злоязычный Киан говорит правду.
В этот день утренний прием у княгини был малочисленнее обыкновенного, все бегали по городу, то разнося, то собирая вести.
Говорили, что король особенно заботился о пышности и блеске предстоящего бала, что он сам старательно просмотрел программу и с нетерпением ожидал решения спора между Гоймом и Фюрстенбергом.
Говорили также, что графиня Рейс и госпожа Юльхен заботливо интриговали, чтобы завлечь графиню Гойм в свои сети с целью заручиться ее дружбой и расположением.
Госпожа Фицтум громко твердила, что невестка ее всех затмит своей красотой…
Урсула видела, что теперь для нее настала решительная минута… И вдруг ей пришла на ум самая неожиданная и странная мысль… Она взглянула на часы… Дом Гойма был не очень далеко от ее дворца… Княгиня шепнула что-то горничной, набросила на свое покрасневшее и опухшее от слез лицо густую черную вуаль и быстро сбежала вниз по лестнице, внизу которой стояли двое носильщиков. Горничная отдала приказание носильщикам, и те пошли к дому Гойма не по улице, а в обход. Через несколько минут они остановились у сада, калитка которого тотчас же отворилась, и Урсула вбежала на гору, где стоял занимаемый Гоймом дом. Тут нашу таинственную и смелую путешественницу встретил молодой человек, очевидно, ее ожидавший, и указал лестницу.
Любомирская, под черной вуалью, быстро поднялась по лестнице, пробежала по темному коридору и постучалась в дверь.
Ей пришлось ждать довольно долго, прежде чем слуга, приотворив осторожно дверь, решился взглянуть на неожиданного посетителя, которого он, впрочем, совсем не желал впустить. Княгиня сунула ему в руку несколько дукатов и, отстранив его с порога, проскользнула в дверь.
В это время Анна Гойм одна прохаживалась по комнате и была поражена, когда на пороге появилась незнакомка, закрытая густой вуалью…
Анна нахмурила брови и отступила, а Любомирская, отбросив густую вуаль, закрывавшую ее лицо, остановилась, всматриваясь в Анну. Она не проговорила ни слова, губы сжались, лицо покрылось мертвенной бледностью… И она упала без чувств на диван.
Анна бросилась к ней и, позвав на помощь служанку, старалась привести княгиню в чувство.
Обморок продолжался несколько мгновений, после чего Любомирская вскочила, снова вперила острый взгляд в лицо Анны и сделала служанке знак удалиться.
Дамы остались вдвоем.
Любомирская протянула Анне свою дрожащую, холодную руку.
— Простите меня! — начала она слабым, неровным голосом. — Я хотела видеть и предостеречь вас. Меня привел сюда голос моей совести, сознание моего долга…
Анна молчала.
— Посмотрите на меня, — продолжала Любомирская. — Вы начинаете сегодня ту жизнь, которую я кончаю. Я была когда-то чиста и невинна, как вы, я была счастлива, спокойна, я жила в мире и с людьми, и с совестью, и с Богом. Да, все это было… У меня был княжеский титул мужа и, что еще дороже, у меня было свое, незапятнанное, чистое имя, но… Ко мне подкрался змей в короне, обольстил меня ласковой речью и улыбкой и отнял все… Как было не верить? Он клал скипетр и корону к моим ногам, он отдавал мне свое сердце, а я женщина… Я ему поверила… Я пошла за ним, и взгляните на меня… Что теперь у меня осталось? Имя подаренное, ложное, сердце разбитое, счастье потерянное, позор на лице, буря в душе и страшная, грустная будущность, постоянно отравляемая заботой о судьбе ребенка! Нет на свете у меня никого больше!.. Родные от меня отказались, все, сегодня пресмыкающиеся у моих ног, завтра повернутся ко мне спиной и не захотят меня знать. А он? Он оттолкнет меня как чужую!
Анна слушала и краснела.
— Я вас не понимаю, — сказала она. — Где вы видите для меня какую-то опасность, я желаю знать, кто вы?
— Вчера я была королевой, а сегодня и сама не знаю кто я, — отвечала Тешен. — Вам так все заранее пророчат корону, что хочется показать вам шипы этого золотого венца.
— Это напрасно, — спокойно отвечала графиня Гойм, — я никогда не прельщусь короной на тех условиях, на которых ее мне пророчат, я слишком горда для этого. Если бы я когда-нибудь почувствовала прикосновение короны к моей голове, то эта корона сошла бы со мной в гроб. Нет, успокойтесь, пожалуйста… это не моя доля.
Княгиня Тешен села на диван, опустила голову и зарыдала. Эти слезы тронули Анну, и она участливо молвила:
— Что за удивительные встречи и свидания меня здесь преследуют с самого утра!.. Поверьте мне, что я ничего так искренно не желаю, как убежать поскорее отсюда, и скажите, ради Бога, ваше имя?
— Я Урсула Тешен, — тихо отвечала княгиня. — Вы, конечно, обо мне слышали… Догадываетесь ли вы теперь, зачем вас сюда призвали?.. О, догадайтесь, прошу вас, догадайтесь, что нашему соскучившемуся королю нужна новая забава… и ее ему хотят доставить…
— Какие негодяи! Они здесь распоряжаются женщинами как невольницами! — воскликнула возмущенная Анна. — И, кажется, уверены, что мы должны быть…
— Их жертвами, да, они в этом уверены.
— Ну, так ошибутся: я не хочу быть и не буду ничьей жертвой! — перебила ее графиня Гойм.
Княгиня взглянула на нее и, вздохнув, проговорила:
— Не вы, так другая, все равно; во всяком случае, это буду уже не я: мой час пробил… Но поскольку вы единственная женщина, в которой, на мой взгляд, есть живая сила, то я заклинаю вас — отомстите ему за нас всех, за нашу слабость, бессилие и… оттолкните его с гордостью, с презрением! Мы все будем за тебя молиться, а ты за нас… отомсти!
С этими словами княгиня Тешей снова набросила на лицо вуаль, протянула Анне руку и, сказав: «Вы предупреждены теперь!» — быстро направилась к двери. Графиня не успела вымолвить слово, как Тешен уже не было.
На лестнице ее ожидал прежний проводник, в сопровождении которого она быстро спустилась к носилкам и, едва сев в них, стала опускать занавески, как вдруг увидела молодого человека в военной форме, всматривавшегося в нее с беспокойством и даже с тревогой.
Лицо молодого офицера было красиво и мужественно, но в эту минуту на нем выражались удивление и досада… Казалось, он не верил своим глазам, что видит перед собой Урсулу, и в то время, когда гайдуки поднимали носилки, он не выдержал и подбежал к окну.
— Княгиня Урсула! — вскричал он. — Верить или не верить мне своим глазам?.. Это ни на что не похоже: вы выбегаете украдкой из дому! Куда это? Вероятно, на какое-нибудь свидание?.. Говорите, заклинаю вас, говорите всю правду, чтобы я сейчас же мог вскочить на лошадь и никогда более сюда не возвращаться!.. Княгиня! Бога ради!.. Вы видите: я схожу с ума от любви к вам…
Он закрыл рукой глаза.
— Вы сходите с ума, это правда! — с жаром возразила княгиня. — И этого мало; вы, верно, просто ослепли от любви, если даже не видите, что я выхожу от Гойма, в которого, мне кажется, я не могу влюбиться.
И она взяла молодого человека за руку и добавила:
— Пойдемте со мной; я не отпущу вас, князь, пока не объясню вам, в чем дело. Я не хочу, чтобы вы покинули меня в эту минуту!.. Это было бы уж слишком! Этого я не переживу!..
Прекрасные заплаканные глаза княгини, которые она подняла на молодого человека, были так красноречивы в эту минуту, что он забыл свою мимолетную скорбь и лицо его просияло. Он последовал за носилками до самого дворца, помог княгине выйти и, предложив ей руку, ввел по лестнице в ее роскошный будуар. Усталая и разбитая физически и нравственно, княгиня Урсула почти упала на кушетку, а своему спутнику указала место около себя.
— Вы видите меня, князь, в большом негодовании! — начала она. — Я возвращаюсь от той… которую мои злые враги притащили сюда для того, чтобы привлечь к ней внимание короля, а меня выгнать отсюда. Слышали вы о графине Гойм?
— Нет, я ничего не слышал о ней, — отвечал молодой князь (это был Людовик Виртембергский). — Я слышал только какие-то насмешки над бедным Гоймом, которого, говорят, напоили, чтобы заставить его призвать сюда жену и показать ее при дворе…
— Да, однако, этой глупой интригой отлично успели возбудить любопытство Августа! — возразила с возрастающим оживлением княгиня. — Я сейчас видела эту женщину; она так хороша, но вместе с тем так неосторожна, что может на несколько дней сделаться королевой…

Вид площади Старого рынка в Дрездене
Аврора графиня Кёнигсмарк, слева от нее графиня Левенсхаупт
— А, тем лучше, тем лучше! — вскочив со своего места, воскликнул князь Людовик. — Наконец вы будете свободны…
Княгиня Тешен бросила на влюбленного такой выразительный взгляд, что молодой человек покраснел и замолчал… Тогда она молча подала ему руку, которую тот схватил и стал с жаром целовать.
В эту минуту из соседней комнаты появилась маленькая фигурка, немного похожая на княгиню, но далеко не так красивая, как Урсула. Вошедшая казалась очень неприятной особой и, вступая в комнату, смеялась сухим, злым смехом и хлопала в ладоши.
По лицу этой женщины трудно было определить ее годы: ей могло быть лет двадцать, могло быть и десятью годами больше. Это было одно из таких лиц, которые никогда не бывают свежи и молоды, но зато долго не стареют… Ее серые злые глазки постоянно бегали во все стороны; рот ее улыбался, но улыбка была едкая и насмешливая; каждая черта лица изобличала лихорадочную подвижность и хлопотливость; это была баронесса Глазенапп — известнейшая сплетница в Дрездене. Туалет баронессы был пестроват, но очень тщательно обдуман и не скрывал от взоров ничего, что было в ней красивого: хорошенькую перетянутую талию, маленькую ножку и стройную осанку. Она быстро обернулась на одной ножке к князю и захлопала в ладоши в ту минуту, когда сконфуженный князь Виртембергский оторвал свои губы от руки княгини Тешен.
— Продолжайте, продолжайте, я вам не мешаю, я не мешаю, — затараторила своим резким голосом баронесса Глазенапп. — Со мной нечего церемониться! Милая сестра, ты умница, ты очень искусно прикрываешь свое отступление военной силой… Хвалю, хвалю, хвалю, это как нельзя более благоразумно, потому что близка минута, когда тебе придется благородно ретироваться из сердца короля и от двора! Хороший полководец всегда должен обеспечить себе отступление…
Маленькая несносная женщина, которую мы теперь вводим, была всеми ненавидима за ее постоянные сплетни. Она происходила тоже из литовского рода Бокунов и приходилась сестрой княгине Любомирской; в браке она была за бароном Глазенапп, но брак этот был скорее фикция, чем настоящий союз: баронесса находилась в интимных отношениях с известным Шуленбургом.
— А давненько мы не виделись с тобой, сестрица! — быстро заговорила она. — Но я ведь, как всегда, являюсь к тебе в минуту опасности; вот почему я и теперь здесь!.. Слышала ли ты, княгиня, что сюда привезли Анну Гойм? Я ее видела однажды здесь, еще до приезда сюда короля и двора, и тогда же сказала, что это когда-нибудь будет вторая Елена троянская и многим принесет несчастье. Она хороша, как ангел, и что для тебя самое опасное, это то, что она брюнетка; вы, блондинки, всегда теряете при сравнении с брюнетками. Она находчива, остроумна и притом горда… Настоящая королева! Я боюсь, сестра, что твоему царствованию пришел конец!
И баронесса снова засмеялась и продолжала, не давая никому вставить слово:
— А впрочем, какое тебе счастье! Ты вечно, кажется, будешь княгиней, тогда как я, бедная, только едва могла поймать плохонького барона! А ты? Сначала ты была Любомирская, потом Тешен, а теперь, кажется, хочешь сделаться Виртембергской.
Молодой человек сконфузился и покраснел, а княгиня Тешен опустила глаза и тихо проговорила сквозь зубы:
— Я могла бы найти и четвертого, если бы захотела.
— Верю, и даже шепну тебе его имя, — закричала баронесса, и, шумно соскочив со своего места, она побежала к сестре и прошептала ей на ухо:
— Князь Александр Собесский! Что? Я права? Только смотри: тот не женится, меж тем как этот Людвичек на все готов, и ты его не упускай!
Княгиня Урсула досадливо отстранилась от сестры, но та этого словно не замечала и уже бегала по комнате, вертясь перед каждым зеркалом, и в то же время следила глазами за гостем и хозяйкой.
— А я вот что хотела тебе сказать, продолжала она, — если у тебя, Урсула, хватит ума, ты еще можешь выйти из этой борьбы успехом. Право, так! Простенькая графиня Гойм, положим, и произведет на короля сильное впечатление своей красотой, ну и что? Все это только на короткое время, а потом, верь мне, она скоро оттолкнет его своей гордостью, и тогда… гм… гм… тогда королю вспомнится прежняя любовь, и его княгиня покажется ему в тысячу раз милее и добрее… Конечно, не совсем приятно это перенести, но что делать? Стерпится — слюбится, коронованным любовникам нужно прощать их прихоти! Эти люди могут иметь большие преимущества над другими, потому что у них и забот и дел больше, чем у нас, простых смертных. Одно только меня сердит, — продолжала она, ни на минуту не останавливаясь, — это то, что все точат на тебя зубы, что и графиня Рейс и Юльхен уже возжигают фимиамы перед новым идолом. Вообрази себе, что Фюрстенберг и даже Фицтум, несмотря на то, что они Гойму сродни, и они изо всех сил стараются поставить акцизному министру золоченые рога. Бедный Гойм! Если его покинет жена, право, не будь я замужем, я бы вышла за него, чтобы как-нибудь облегчить его суровое вдовство. Впрочем, что об этом говорить! Старый развратник после своей красивой женушки, не захочет, пожалуй, ни меня, да и никакой другой.
На этом месте нескончаемой болтовни баронессы Глазенапп князь Людовик встал и простился с княгиней. Пожатие руки, которым отвечала ему княгиня Урсула, не ускользнуло от внимания ее зоркой сестрицы, и та даже подмигнула издали князю.
Сестры остались вдвоем, с глазу на глаз, и баронесса снова начала свою болтовню.
— Без шуток, — заговорила она. — По-моему, тебе совсем нечего так убиваться. Все это давно нужно было предвидеть… Королю наскучила блондинка… что же с этим делать? Но ты имеешь титул и состояние, а к тому же… ты еще молода и очень красива… А тут при тебе князь Людовик, который готов на тебе хоть сейчас жениться… Я с удовольствием поменялась бы с тобой положением и отдала бы в придачу даже самого Шуленбурга.
— Да, но ведь я его любила! — со слезами на глазах перебила ее княгиня.
— Так, но ведь это уже давно прошло!.. — возразила баронесса Глазенапп. — Вы любили друг друга, по крайней мере, с полгода, и в это время потихоньку изменили друг другу не менее как раз по десяти!
— Сестра! — с негодованием воскликнула Урсула.
— Ну, пожалуй, ни разу! А только как это ты сумела припасти себе про запас, на всякий случай, этого князя Виртембергского, который и теперь готов к твоим услугам? Признаюсь, хотя меня все называют и лукавой и притворщицей, а, однако, я ни за что не сумела бы обделать так ловко свои делишки. Я подыскала себе Шуленбурга уже после моей ссоры с Глазенаппом. Да мне, впрочем, ничего не удается, все меня терпеть не могут, и я им плачу тем же, даже с лихвой.
И она опять засмеялась, а потом продолжала:
— Послушай, шутки в сторону, я приехала к тебе с добрым советом. Король при расставании имеет обыкновение требовать обратно все подаренные им бриллианты. Будь благоразумна, и пока есть время, распорядись припрятать свои драгоценности в безопасное место.
Она посмотрела на сестру, которая, казалось, ее не слушала.
— Ты будешь сегодня на балу?
Слово «бал» как будто пробудило Любомирскую от глубокого сна; она подумала и задумчиво произнесла:
— На балу?.. Что такое? Ах, да! Нужно ведь быть на балу!.. Да, я поеду на бал, но я буду вся в черном и без всяких украшений. Это оригинально и скорее бросится в глаза. Как твое мнение, Тереза, к лицу или нет мне траур?
Баронесса улыбнулась.
— Без сомнения, траур всем к лицу, — отвечала она. — Но только если ты думаешь этим тронуть Августа и двор, то твой расчет не верен; это всех скорее рассмешит, чем растрогает. При дворах не любят трагедий.
— Да уж это как будет, пусть так и будет, а я поеду в трауре и встану перед ним, как немой укор, как привидение!
— Да, ты будешь немой укор, а Анна Гойм в это самое время будет живая радость — свежая, румяная и веселая… Не одобряю твой траур, ты в нем стушуешься перед Анной и останешься никем не замеченной… Только всего и будет, — с этим она посмотрела на часы.
— Ах, как уже поздно! Прощай! До свидания на балу! Я тоже буду там, но только зрительницею, чтобы рукоплескать актерам… Будь здорова!..
V
Дамы входили попарно, под руку с мужьями или с родственниками. По необыкновенной роскоши нарядов трудно было предположить, что в это время половина Европы страдала от самой страшной и разорительной войны и что государственные финансы были в самом жалком положении. Весь костюм короля был убран бриллиантами; каждая пуговичка была в своем роде драгоценность; эфес шпаги был весь всплошную усыпан дорогими каменьями; даже пряжки башмаков блестели самыми яркими цветами. Величественный Август был еще так моложав и весел, что скорее походил на торжествующего победителя, чем на короля побежденного, разбитого и лишенного части своих владений.
Платья дам были великолепны и тоже сияли множеством бриллиантов. Королева, впрочем, вышла в довольно скромном туалете; Август встретил супругу с почтительной любезностью; музыка грянула марш, но главных виновниц пира еще не было.
Государь начинал уже хмурить брови и поглядывал на Фюрстенберга слишком знакомым последнему сердитым взглядом, но в эту минуту у входных дверей, несмотря на королевское присутствие, послышался сдержанный говор и смятение… Толпа расступилась; все головы повернулись в одну сторону, и Фюрстенберг проговорил: «Идут»!
В дверях показалось бледно-желтое, грустное лицо графа Гойма, который вел под руку свою жену.
Никогда еще при этом дворе, присмотревшемся к самым красивым женщинам, не появлялось более обольстительное создание! С царственным величием, спокойно, смело и гордо шла графиня Гойм. Король не спускал с нее глаз, но она на него не смотрела. Муж должен был представить ее королеве, и они направились прямо к ней, не обращая почти ни малейшего внимания ни на пышный придворный блеск, ни на величественную красоту короля, который нарочно встал так, чтобы произвести на вновь прибывшую самое приятное впечатление. На лице его выражалось нетерпение.
Королева была очень милостива к новой гостье: она ласково подняла глаза на Анну и улыбнулась ей с каким-то состраданием, как будто бы соболезновала об участи, ожидавшей красавицу.
Лишь только окончились формальности представления, музыка грянула польский и король под руку с королевой открыл бал…
Все придворные дамы были здесь — даже больная Юльхен притащилась сюда, чтобы удовлетворить свое любопытство, — не было лишь одной княгини Тешен. Но вот первый танец кончился; в дверях снова послышался легкий шум, и среди расступившейся толпы появилась Тешен. Король повернул голову и увидел ее в самых дверях, где она стояла, как будто колеблясь, войти ей или нет.
Она была одета в глубокий траур…
Август сразу заметил это и рассердился, но, однако, пошел ей навстречу.
— Что это? — спросил он. — Уж не лишились ли вы кого-нибудь из близких?
И по лицу Августа пробежала насмешливая улыбка.
— Я лишилась тебя, государь! — тихо отвечала Урсула.
Внимание придворных, на минуту отвлеченное появлением княгини, снова обратилось к графине Гойм. Она была до того прекрасна, что даже женщины единогласно признали, что Анна затмила всех своей красотой. Ее черные глаза строго окидывали бальную залу; все другие красавицы при ней гасли, как звезды перед солнцем.
Август ею любовался, и в ту минуту, когда госпожа Фицтум отозвала Анну от мужа, он приблизился к Гойму, дружелюбно похлопал его по плечу и, подозвав к себе Фюрстенберга, сказал:
— Милейший граф, ваш спор с князем разрешен. Ты выиграл тысячу червонцев. Фюрстенберг должен заплатить их тебе завтра же, а я поздравляю тебя и с выигрышем и с такой женой!.. Графиня Гойм, бесспорно, первая красавица при моем дворе, и я уверен, что глас народа согласен с моим мнением! Ты счастливый смертный, Гойм!
Смотря, однако, на Гойма, принимавшего эти поздравления с поникшей головой и с какой-то отчаянной покорностью, нельзя было усомниться в том, что он не особенно счастлив. Он казался, скорее, покорным, искупающим свой собственный грех человеком, который не смеет вскрикнуть от боли и удерживается почти через силу.
Фюрстенберг молча поклонился и лукаво взглянул на короля.
— Да, ваше величество, — сказал он чуть слышным голосом. — Кажется, мне приходится платить за ваши прихоти и желания…
Август оборотился к нему и, дав ему поцеловать свою руку, отвечал:
— Не жалуйся, Фюрстенберг, заплати одну тысячу и возьми десять из нашей казны! Ты стоишь награды за то, что доставил мне случай видеть прелестнейшее существо в мире!
Княгиня Тешен сидела одиноко; ее уже все покинули. Август это заметил и, следуя своему обычаю как-нибудь золотить пилюлю, направился в ее сторону. Кто не был хорошо знаком с обычаями этого двора, того это могло удивить, но более опытный глаз графини Рейс не обманулся.
— Княгиня Тешен пала! — шепнула она своей соседке. — Король к ней подошел…
Между тем Август любезничал с удаляемой им фавориткой.
— Знаете ли, — говорил он ей, — что вы сегодня, несмотря на этот печальный туалет, так обольстительно хороши, что невольно напоминаете мне тот… тот вечно памятный мне варшавский турнир, когда я напугал вас своей неловкостью и вы упали в о́бморок. Какое сладкое воспоминание!
— Быть может, государь, но ведь графиня Гойм гораздо красивее меня, и мысль о ней, вероятно, приятнее старого воспоминания о турнире и обо всем, что после него было! — возразила княгиня.
— Графиня Гойм красива и она, может быть, даже и еще красивее! — отвечал Август. — Но есть нечто, что прекраснее самой красоты, это преданное нам доброе сердце, и этим сокровищем вполне обладает одна моя дорогая Урсула. Милая княгиня, поезжайте домой, наденьте свое милое голубое платье, в котором вы так прелестны и… и ожидайте меня к себе, после вечера, на ужин!
По бледному лицу княгини Урсулы пробежал яркий румянец.
— Государь! — воскликнула она с увлечением. — Вы не шутите? Неужто ты останешься по-прежнему моим прежним Августом?..
— Я тебя прошу никогда во мне не сомневаться! — серьезно проговорил король. — Я не имею никаких причин тебя обманывать.
И действительно, король на этот раз не лгал; красота Анны, правда, произвела на него большое впечатление, но гордый характер, проглядывавший в каждом движении, взгляде и жесте этой женщины ему не понравились, и он поспешил обрадовать княгиню, потому что в это время он действительно не хотел окончательно с ней расстаться.
Когда утешенная Любомирская незаметно оставила королевский бал и уехала к себе ожидать дорогого гостя, Август подошел к стулу графини Гойм. Анна заметила его и встала, но он попросил ее сесть, и та повиновалась, не возражая.
Тогда при дворе был такой обычай, что когда король желал с кем-нибудь говорить, то все другие отходили, чтобы не быть свидетелями этого разговора; то же самое случилось и теперь; все отступили, и Анна осталась вдвоем с Августом.
— Вы, графиня, в первый раз при дворе, — начал, любезно наклонившись, король, — но ваше появление здесь — уже полный триумф, и я горжусь новой звездой на моем придворном небосклоне.
Анна подняла голову.
— Среди ночного мрака, государь, — отвечала она, — нередко и огонек кажется звездой, но одно мгновение, и он гаснет… Я высоко ценю милость вашего королевского величества, но слова ваши приписываю одной лишь любезности.
— Я повторяю только всеобщее мнение, — возразил Август.
— Ах, ваше величество, — отвечала с улыбкой Анна, — люди часто судят ошибочно, особенно о том, что они видят в первый раз. Новинка интересует и занимает, а именно прекрасно лишь то, что и после многих лет нравится вам столько же, сколько нравилось при первой встрече.
Королю показалось, что красавица намекала ему на княгиню Тешен.
— Вы слишком скромны, графиня, — сказал он.
— О, нет, ваше величество, — с живостью возразила Анна, — быть истинно скромной очень трудно, а я только не приписываю излишнего значения красоте.
— Но красота лица не свидетельствует ли о красоте души? — сказал Август.
Анна потупила глаза и промолчала. Король продолжал:
— После такого долгого и строгого уединения, в котором держал вас жестокосердый Гойм, скрывая от нас свое сокровище, двор, наверное, кажется вам очень странным?
— Не могу этого сказать, государь. Придворная жизнь для меня не совсем незнакома; я всю мою молодость провела тоже при дворе, правда, не при таком блестящем и многочисленном, как ваш, но все же при дворе, который, хотя и в миниатюре, мог дать мне понятие о том, что такое придворная жизнь. Если я не ошибаюсь, то в этом случае все дворы между собой схожи и напоминают одно и то же…
— Что же именно они вам напоминают? — спросил король.
— Театр, в котором разыгрывают комедию, — отвечала графиня.
— Вот как! Но в таком случае, какую же роль я играю в этом театре?
Анна взглянула с улыбкой на Августа и отвечала:
— Ваше величество здесь директор труппы, и вас как директора тут, вероятно, немножко обманывают.
Август улыбнулся.
— Неужели вы думаете, что здесь все только одно притворство?
— Сомневаюсь, государь, чтобы могло быть что-нибудь другое, — со вздохом ответила Анна, — короли так несчастливы, что они никогда не слышат правды.
— Может быть, — возразил Август. — Оттого-то они часто и ищут такие уста и такое сердце, которые могли бы дать им хоть каплю этого благодетельного нектара.
— Да, ищут, но находят все-таки таких, которые искуснее других умеют их обманывать.
— Ну, — любезно заметил король, — теперь я вижу, что вы очень не любите двор, большой свет и его рассеянную, беспокойную жизнь, и, признаюсь вам, это меня огорчает. Я надеялся, что вы нас не покинете и лучезарным блеском своих глаз осветите хотя бы немного наши скучные дни.
— Государь, — с живостью возразила Анна, — поверьте, что я тут непременно звучала бы, как фальшивая нота: я не сумею спеться со здешним хором.
Чтобы переменить разговор, король начал делать веселые замечания о присутствующих, и Анна увидела, что Август довольно хорошо знал характеры, наклонности и даже тайны своих приближенных.
— Видите ли, — сказал в заключение король, — моя придворная сцена совсем для меня не тайна, и мне доставляет немало удовольствия, что мои актеры думают, будто они меня обманывают, будто они мной руководят и могут отвести мне глаза.
— Так боги смотрят на землю, — ответила Анна Гойм.
Король остался доволен последним сравнением, и когда Анна выговорила эти слова, взор Августа выражал уже страстное восхищение. Затем король еще поговорил с ней и отошел. Тогда наблюдавшие его издали стали к нему подвигаться. Первый подошел Фюрстенберг.
— Теперь, государь, я могу спросить — самая красивая не есть ли в то же время и самая…
— Умная? Да, — отвечал король, — ты отгадал; надо сказать Гойму, чтобы он и не думал увозить жену из Дрездена. Она очень и очень мила, правда, она еще немножко дика, ну, да это со временем пройдет.
Гойм смотрел на всю эту историю беспокойными глазами. Он старался отгадать мысли Анны, к которой этим временем уже быстро подбежали графини Рейс, Фицтум и панна Юльхен и обступили ее кругом.
Король взглянул на это и только пожал плечами.
— Уже началось поклонение восходящему солнцу, — заметил он чуть слышным голосом Фюрстенбергу, — но боюсь, однако, что эти интриганки на этот раз напрасно трудятся.
Любимец посмотрел на короля недоумевающим взглядом.
— Да, и ты, и он и все вы ошибаетесь, — спокойно продолжал Август. — Графиня Гойм прелестна, об этом ни слова, это классическая статуя, сошедшая с пьедестала, но она слишком смела, энергична и властолюбива. Иметь с ней маленькую интрижку на несколько веселых дней я бы не прочь, но ничего более серьезного не хочу. Красота ее очень привлекательна, но я никак не могу сказать того же самого о характере.
— По-вашему, она для этого не годится, государь?
— Положительно не годится.
И король, оставив Фюрстенберга, пошел далее.
Пока все это происходило, никто, разумеется, не обращал ни малейшего внимания на высокого, сильного молодого человека, который молча стоял в дверях, а между тем его глаза с беспокойством глядели на Анну и следили за каждым ее движением, и каждый раз, когда к ней подходил король, они светились каким-то зловещим светом. Несколько раз графиня оглядывала всю залу, но, однако, до сих пор и она ни разу не заметила этого несчастного, прятавшегося в толпе. Только когда от нее отошел король, и она, вздохнув, обвела еще раз взглядом придворную публику, Заклик бросился ей в глаза и она его сейчас же узнала.
Она смутилась.
Не могло быть никакого сомненья, что это молчаливый обожатель из Лаубегаста. Но как он пробрался за нею и сюда, на королевский бал? Почему лицо этого бедняка ее так заинтересовало, она сама не могла понять; но она чувствовала, что между ней и этим незнакомцем была какая-то внутренняя, таинственная связь, что они должны где-то встретиться.
Она была занята этими мыслями, когда сердитый и желчный Гойм предложил ей руку, чтобы ехать домой. Они прошли через те двери, у которых стоял Заклик, и Анна заметила, что, когда она проходила мимо него, этот молодой человек быстро нагнулся, поцеловал край ее платья и исчез.
Перед ними стояла графиня Рейс и приглашала их к себе ужинать. Просьба была так любезна и убедительна, что министр не мог отказаться.
Фюрстенберг стоял за ними. Они поехали все с бала прямо к графине, где обыкновенно собирались в самый интимный кружок знатнейшие придворные и проводили за столом в оживленной беседе час-другой после бала. Тут царила знаменитая Эгерия Юльхен — девица уже зрелых лет, с которой, впрочем, сам король очень любил разговаривать; здесь бывали все, кто искал власти или хотел удержать ее за собой. Король смеялся над этим тесным кружком, но тем не менее это был кружок с влиянием.
Графиня Рейс, рожденная Фризен, принадлежала к числу самых важных и влиятельных особ при дворе Августа II. В ее доме происходили совещания, касающиеся низложения одних и возвышения других государевых фаворитов; тут затевались и разрешались самые запутанные интриги и тут же были предсказаны все милости, которые должны были встретить молодую графиню Гойм. Здесь даже с точностью заранее была определена минута, когда непостоянный король должен был направить свои чувства по новому пути.
Гойм очень хорошо знал, что графиня Рейс ухаживает за ним недаром: это был маневр, к которому она прибегала каждый раз, когда предчувствовала возвышение новой фаворитки; она тотчас искала ее расположения и брала ее на свою сторону. Понятно, что это не могло быть особенно приятно для сердца Гойма, но графиня Рейс была с большими связями; пренебрегать ею было нельзя, и Гойм сделал вид, что он ничего не понимает.
В гостиной собралось довольно большое общество и шел самый веселый, оживленный разговор; но в соседнем кабинете, где были хозяйка дома, ее приятельница Фюрстенберг и другие доверенные лица, шептались о делах.
В обществе, сидевшем в гостиной, болтали о нарядах, уборах и сплетнях — словом, о вещах всем известных и обыкновенных. По всеобщему мнению, нежность, высказанная королем княгине Тешен, предвещала скорую с ней разлуку. Но многие утверждали, что Август будет щадить Любомирскую. Всем были известны ее отношения к Собесскому, ее родство с Радзейявским и то влияние, которое она имела на многих знатных лиц в Польше, которыми король не мог не дорожить.
В кабинете графиня Рейс расспрашивала своего приятеля Фюрстенберга о его разговоре с королем и о впечатлении, которое произвела на Августа графиня Анна.
— Мне кажется, я хорошо знаю Августа, — отвечал Фюрстенберг, — по крайней мере, я близко знаю его по отношению к женщинам. Графиня Гойм сразу отлично себя с ним поставила: она зарекомендовала себя гордой и резкой, и это его на минуту от нее оттолкнуло, но это только сначала так, потом пойдет другое: ее красота не даст покоя его страсти, а страсть в нем всегда, рано или поздно, одерживает верх над рассудком. Теперь он боится ее, но зато тем неодолимее он захочет ею обладать… А что он хочет, то он будет иметь. Она, кажется, не легко сдастся, но зато если они сблизятся, то она захватит в руки такую большую силу, какой никто еще не имел над Августом.
— Вы думаете, что это может случиться?
— Да, насколько я знаю короля, я не считаю этого невозможным.
— А каков, по-вашему, ее характер?
— Его пока еще довольно трудно определить, мне кажется, что ее не знают ни муж, ни ее родственники, да, пожалуй, даже и она сама еще не знает, что родится, когда обстоятельства ее возвысят. Теперь это женщина гордая, благородная, с решительным характером и очень смелым умом.
— Ну, а можно будет на нее как-нибудь влиять?
Князь задумался и отвечал:
— Право, не знаю, но, во всяком случае, я все-таки предпочитаю иметь дело с людьми умными, чем с такими, которые сами не знают, чего хотят и что делают…
Гость и хозяйка расстались, а через несколько минут в этом же самом кабинете шла интимная беседа между графиней Рейс и Анной Гойм.
— Моя милая графиня Анна, — серьезно и важно начала Рейс, положив свои руки на колени Анны, — если у вас хватит терпенья и охоты выслушать меня до конца, то сидите, не перебивайте меня и позвольте мне говорить с вами совершенно откровенно.
— Я к вашим услугам, — отвечала Анна.
— Прекрасно! Мы здесь одни, совершенно одни, нас никто не слышит, и я хочу дать вам по дружбе добрый совет, который вам, быть может, пригодится.
— Я вас слушаю.
— Извольте, я начинаю. Вы, конечно, хорошо знаете и двор, и наше время и наконец себя, чтобы не догадаться, что тут недаром хлопотали о вашем приезде в Дрезден.
— Я догадываюсь.
— И вы не ошибаетесь. Королю надоела Тешен, а натура его такова, что он непременно должен кого-нибудь любить… Будем снисходительны, мой друг, к этому великому и доброму государю. Если весь свет прощает ему его слабости, то не нам строго судить о нем: хорошо это или дурно, но это так и иначе быть не может. Нам, его приближенным, остается лишь одно: из этого зла извлекать как можно больше добра и пользы. Теперь более нет уже никакого сомнения, что вы призваны занять самое близкое положение при короле… Но чтобы извлечь из этого пользу для себя и для других, прежде всего надо знать, что делать.
— Милейшая графиня, — отвечала спокойно Анна, — я нисколько не тщеславна и даже не честолюбива; богатства я не ищу; у меня есть муж, и я постараюсь остаться честной женщиной, это мое единственное желание.
— Я ничего не имела бы вам на это возразить, — с улыбкой отвечала Рейс, — но позвольте мне вам заметить одно, что я, право, не понимаю, за что вы должны сделаться добровольной мученицей.
— Мученицей? — удивилась Анна.
— Да, именно мученицей. Я продолжаю быть откровенной: Гойма вы не любите и не можете любить… Он стар и развратен, так что, несмотря на все ваши совершенства, он даже не верен вам; любить его невозможно: рано или поздно, а сердце отзовется.
— Графиня!..
— Я вас просила о терпении.
— Извольте продолжать.
— Вы его не любите и имеете на то причины… Наконец сердце рано или поздно возвысит свой голос…
— Я заглушу его голос.
— Да, вы заглушите этот голос раз или два, но придут годы тоски и скуки, и вы броситесь с отчаянья в объятия первого встречного, и в этом не будет счастья. Знаю я свет: это наш обыкновенный путь! Меж тем король наш мил и хорош, и жизнь с ним будет настоящим блаженством.
— Но король наш вместе с тем ветрен и непостоянен, а такая любовь не по мне!
— Поверьте мне, милая Анна, что связи с самыми ветреными людьми могут быть очень продолжительны и крепки, это все зависит от женщины, и женщины сами виноваты, если они позволяют с собой расстаться. Не все ли равно: если вы сами не сумеете его удержать, то чем вы его свяжете? Ничем, и уж, разумеется, всего менее браком. Мужа или любовника нужно суметь удержать у своих ног и привязать его к себе, это наше дело.
Графиня Гойм пожала плечами.
— Плохая это любовь, если ее нужно вечно держать на привязи; такой любви я не хочу! За вашу откровенность, милая графиня, — продолжала Анна, понизив немного голос, — я заплачу вам тоже полной откровенностью. Ничем тем, о чем вы говорите, нельзя тронуть мое сердце. Я живой человек и, конечно, не могу за себя поручиться, и хотя я всегда буду стараться оставаться верной моему мужу, но кто может знать, что с кем случится. Ручаюсь же вам лишь только за одно, что любовью можно будет меня победить, а не происками, и когда я полюблю… Если это когда-нибудь случится, я не стану обманывать моего мужа, а в ту же минуту скажу ему об этом, уйду от него и приду к тому, кто будет мне мил; но только тот, кто будет меня любить, должен будет стать моим мужем.
— Но ведь тот, кто вас теперь любит… ведь он король! Король!
— А что же такого, что он король? Мне это все равно! — воскликнула Анна.
— Но вы же ведь, конечно, знаете, что король женат, хотя и не любит свою жену?
— Если бы мы полюбили друг друга, он должен был бы развестись с женой и жениться на мне, — заключила Анна. — А такой ролью, как Эстерле, Кенигсмарк или Тешен, я не удовлетворюсь!..
При этих словах она встала. Графиня Рейс сделала недоумевающий жест и произнесла:
— Поступайте, как знаете! Как добрая приятельница ваша я считала своим долгом дать вам добрый совет, а затем останемся друзьями и не будем больше об этом говорить. Но скажу только еще одно: положение, которым вы так пренебрегаете, и к которому вы относитесь с таким холодным равнодушием, совсем не так ничтожно и маловажно, как вы думаете. Вам будут кланяться короли, вы будете управлять всей страной и можете исправить много зла, спасти много людей и сделать многих счастливыми… Это ведь тоже чего-нибудь да стоит.
— Ничего нельзя покупать ценою своей чести! — отвечала Анна Гойм.
— Делайте, как знаете!
— Я так и сделаю, и не будем больше об этом никогда говорить!
Графиня Рейс молча пожала ей руку, и они вышли из кабинета.
В это время под окнами мелькнули фонари, которыми всегда освещался путь при проезде короля. Фюрстенберг высунулся из окна; король узнал его и сделал ему знак, выражающий, что его величеству ужасно скучно… Ему, очевидно, хотелось бы держать свой путь совсем не к княгине Тешен.
VI
Граф Адольф Магнус Гойм, занимавший в то время место, соответствовавшее нынешней должности министра финансов, не имел друзей ни при дворе, ни в обществе. Его особенно ненавидели в стране за введение акцизных сборов, сильно увеличивших сумму и без того самых тяжелых податей и налогов: новые акцизные сборы казались обременительнее всех прежних поборов. Саксонцы отбивались и противились этому, насколько могли и умели: они жаловались даже королю, но король, которому нужно было много денег на его несметные расходы, только сердился на это и плохо скрывал гнев, в который его приводили эти жалобы. Ему даже советовали лишить дворянство, которое оказывало самое упорное сопротивление, остатка его сословных привилегий и окружить себя иностранцами, которые не имели бы никаких отношений ни к дворянам, ни к стране.
Август II отчасти уже и следовал этому совету, и большая часть его министров и любимцев были из чужеземцев. Итальянцы, французы, немцы из других государств играли при дворе главную роль.
Гойм, человек холодный, неумолимый и искусный в приискивании новых статей дохода для короля, который тратил миллионы на Польшу, на содержание войска, на придворные пиры и на любовниц, был у него за свою ловкость в большой милости. Но этим ласкам Гойм не доверял, пример Бейхлинга и некоторых других делал его осторожным… Он выжидал только минуты, когда, нагрузив хорошенько карманы, он мог бы унести из саксонского государства свою голову и свое состояние. Гойма мало кто разгадывал: знали только, что он человек смелый, изворотливый, довольно рассудительный и свободный от всякого бремени сильных привязанностей. Лучше всех, может быть, понимала его сестра, графиня Фицтум, которая с большим искусством и осторожностью умела заставлять его делать то, что ей было нужно.
Кроме Бейхлинга, теперь сидевшего в Кенигштейне, у Гойма не было друзей: маршал Пфлуг его ненавидел, другие не терпели, Фюрстенберг был с ним тоже не в ладу. Когда после спора и пари Гойму было приказано привезти жену и показать ее при дворе, его никто не пожалел, все даже над ним издевались.
На другой день после бала Гойм должен был явиться к королю с докладом. В провинциях введение акциза встретило сопротивление. Особенно громко восставало против этой меры дворянство в Лужицах… Это бесило Августа, который терпеть не мог никакого противодействия, а потому, выслушав доклад министра, он нахмурил брови и сказал Гойму:
— Сегодня же и немедленно отправляйся туда сам: разыщи зачинщиков и моим именем водвори порядок. Поезжай сейчас и без всяких отговорок!
Гойм хотел было возразить, что его личное присутствие в Лужицах далеко не так необходимо, как в Дрездене, где у него были более серьезные дела, но Август был непреклонен:
— Нет, — возразил он. — Поверь мне, что нет ничего важнее, как сломить сопротивление этих наглецов, которые думают, что они могут вступать со мной в сделки. Поезжай сейчас же и возьми с собой драгунов! Если эти дерзкие осмелятся собираться — разгонять их!.. Пусть не берут примера с Польши, потому что я не перенесу этого у моих подданных; да дай срок, мы и в Польше скоро собьем их дворянскую спесь…
Гойм хотел объясниться, но Август не захотел слушать и назначил ему двухчасовой срок на выезд в Лужицы.
Разговаривать с королем Августом можно было только тогда, когда он был пьян, тогда он был очень доступен, во всякое же другое время противоречить ему было нельзя, и Гойм более не возражал.
Бедный министр, конечно, отлично понимал, что спешное отправление его в Лужицы, на другой же день после бала, придумано нарочно. Но чем он мог в этом себе помочь? Ничем. Поручить наблюдение сестре было все равно, что дать пьянице ключ от погреба; друзей у него не было, он был совершенно безоружен и чувствовал, что все были в заговоре против него. Придя домой, он бросил на стол бумаги и, потеребив несколько времени в молчании свой парик, вошел в покои жены.
Анна была одна и спокойно глядела, как ее расстроенный муж, не зная, с чего начать, тревожно осматривал разные безделушки ее меблировки. Анна, привыкшая уже к подобного рода сценам, не обращала на это никакого внимания, и Гойм должен был заговорить первым.
— Радуйтесь, — начал он, — я был так глуп, что привез вас сюда, и теперь со мной делают все, что хотят… Я мешаю интриговать вокруг вас, и вот король отсылает меня прочь, через час я должен уехать, и вы останетесь одна…
— Ну, и что из этого? — гордо отвечала Анна. — Неужто вы думаете, что я нуждаюсь в вашем карауле, чтобы сберечь свою честь?
— Ну, однако, я думаю, что и я мог бы тут пригодиться.
— На что же именно? — с саркастической улыбкой спросила Анна.
— А хотя бы на то, чтобы сдерживать их бесстыдное нахальство! — крикнул Гойм, ударив кулаком по столу. — Поверьте, что меня не выслали бы отсюда, если бы я не мешал. Во всем этом я узнаю дело рук милейшего Фюрстенберга, который сегодня с коварной усмешкой заплатил мне тысячу червонцев, вместо которых король подарил ему десять тысяч. Это вознаграждение за одну прекрасную мысль — привезти вас сюда. Судите же сами, как должны быть оплачены более существенные услуги…
— Гойм! — воскликнула, вскочив со своего места, Анна, и глаза ее засверкали. — Довольно с меня, слишком довольно! Уходите, уезжайте… вообще делайте, что хотите, но только оставьте меня в покое! Я сама сумею отстоять себя, а ваших оскорбительных намеков я более не хочу слушать! Довольно, я говорю вам, довольно этого!..
Гойм замолчал, а часы напомнили ему приближение минуты его отъезда.
— Конечно, — сказал он. — Мне нечего предостерегать вас, вы совершеннолетняя и сами знаете, что вас может ожидать… О себе же скажу только одно, что я бесчестья не перенесу! Пусть Фицтум и другие делятся с его величеством своими женами, на то их добрая воля, но во мне нет такого верноподданнического добродушия!
— Зато ведь и я, господин Гойм, тоже не пала так низко, как эти барыни, — перебила Анна, — поверьте, что я вам не изменю, и знаете, почему? Потому что я себя бы этим унизила! Но если вы сделаете мне жизнь с вами еще более невыносимой, я брошу вас и совсем не стану делать из этого секрета.
Гойм ничего на это не ответил. На пороге он, казалось, хотел что-то сказать, но кончил тем, что схватился с отчаянием за голову и вышел в двери, за которыми его уже ожидал посланец короля, обязанный напомнить министру о скорейшем отъезде.
В замке не только подкарауливали Гойма, когда он переезжал через мост, но даже послали следить за ним, чтобы он не попытался тайком возвратиться в Дрезден… Было задумано, что графиня Рейс пригласит к себе Анну, а король приедет туда как будто неожиданно и инкогнито…
Графиня Фицтум явилась передать Анне это приглашение, но та отказалась. Напрасно золовка уверяла ее, что об этом не будет знать никто на свете. Анна ясно видела, что ей устраивают свидание с королем, и прямо высказала это сестре своего мужа.
— Вы слишком догадливы и осторожны! — со смехом отвечала графиня Фицтум. — И я не стану вам лгать; действительно могло бы случиться, что заехал бы и король… Что же с этим делать: он вами очень заинтересован и ищет случая с вами сблизиться. А что вы сделаете, если, раздраженный, он приедет сюда, прямо к вам в дом? Обдумайте это… Вы знаете этикет: короля нельзя не принять, перед ним отворяются все двери. Будет ли это для вас лучше, будет ли это приличнее и благопристойнее, если он пробудет с вами наедине несколько часов? Как вы думаете, что тогда заговорят и чем вы кого-нибудь разуверите в том, что не удостоились принять всю полноту ласк своего августейшего гостя?
Анна побледнела.
— Однако, — сказала она, — король не может быть таким… (она не могла подобрать выражения) — король не может быть таким наглецом; он, вероятно, пощадит мою репутацию! Иначе это не может быть!
— А я вам говорю, что все может быть… Что король скучает и не понимает никакого сопротивления или отказа в исполнении его прихотей. Наши дамы своей уступчивостью не приучили его сдерживаться, и если вас не будет у графини Рейс, я вам ручаюсь, что он к вам приедет.
— Значит, вам это уж наверно известно? — спросила Анна.
— Мне ничего не известно, но я только очень хорошо знаю короля Августа, — отвечала, расхохотавшись, графиня Фицтум. — Я, моя милая, сама очень хорошо помню один вечер… — и она не договорила и вздохнула.
Анна заломила себе руки.
— Так вот как! — проговорила она. — Значит, здесь надо быть, как среди разбойников на большой дороге; нужно быть вооруженной от головы до ног!.. Хорошо, что же делать, я найду кинжал и пистолеты… Я не боюсь ни огня, ни железа.
Графиня Фицтум приняла эти слова в их прямом смысле и старалась успокоить Анну и обратить все в шутку.
— Вы должны знать, — сказала она, — что Август никогда в жизни не запятнал себя насилием, это совсем не в его характере. Твердый и настойчивый, но любезный и предупредительный, он слишком красив и мил, чтобы ему когда-нибудь приходилось прибегать к таким грубым средствам…
После этого начался продолжительный разговор, который окончился тем, что графиня Фицтум сумела наконец убедить свою невестку ехать вместе с ней на вечер к графине Рейс. С этой радостной вестью Фицтум сейчас же полетела к своей приятельнице, а Фюрстенберг перенес это радостное известие в замок.
Король распорядился так, что он поедет вечером на минутку к княгине Тешен, а на обратном пути отошлет экипаж с сопровождающими его людьми в замок, сам же сядет в заранее приготовленные Фюрстенбергом носилки и прикажет отнести себя к Рейсам.
Теперь, прежде чем продолжать, заглянем во внутренний мир нашей героини графини Анны и проследим ее затаенные планы.
Анна была круглой сиротой с детства и замуж вышла не только не по любви, но даже и не по своей воле, а по принуждению… Жизнь с мужем скоро стала ей невыносимой, молодость проходила самым печальным образом. На ее месте всякая другая, конечно, была бы очень рада воспользоваться представившимся случаем королевского внимания, которое, по меньшей мере, могло бы дать ей обеспеченное и не зависимое от мужа положение, а может быть, даже второе хорошее замужество, которое прикрыло бы унизительное состояние отставной фаворитки, но Анна была воспитана в тех строгих правилах и убеждениях старого времени, которые с этим не согласовывались и заставляли ее только удивляться легкомысленному поведению женщин, соглашавшихся служить минутной забавой соскучившемуся государю. Она понимала и допускала возможность развода с противным ей Гоймом, к которому она питала лишь ненависть и отвращение, но допускала все это не иначе, как лишь вследствие искренней любви к королю и под условием законного с ним брака.
Разумеется, если бы Анна высказала кому-нибудь свои мысли, она вызвала бы только смех. Намерение надеть вечные оковы на такого человека, как Август, всякому показалось бы несбыточным, но Анна, зная, что король давно не любит свою жену, считала это возможным.
К тому же король был красив и старался ей нравиться, а Гойма она не любила; блеск, власть и корона придавали Августу еще более прелести, и потому неудивительно, что Анна о нем думала и даже почувствовала к нему какую-то симпатию… Она мечтала о счастье с ним, но не иначе, как под условием брака.
Анна все обсудила, все взвесила и сформулировала себе такое решение:
— Я могу ему принадлежать, но при этом я должна быть королевой.
Ее сопротивление убеждениям графини Фицтум скорее было рассчитанным маневром, чем действительным негодованием или испугом. Она не хотела сделаться игрушкой придворной интриги и чувствовала себя гораздо сильнее всех этих интриганов: в глазах короля она прочла, какое произвела на него впечатление, и решила этим воспользоваться…
— Я никогда не сделаю низости, — сказала она сама себе, — и скорее останусь несчастной женой Гойма, но любовницей Августа я не буду; я буду или его женой, или мы совсем будем чужды друг другу!
А между тем из всех, кто хлопотал услужить ею королю, никто и не предполагал, что у графини Гойм есть свои планы, не совсем идущие вразрез с исканиями Августа.
Молодая женщина мечтала.
Порою, краснея сама перед собой, она уже начинала сознавать, что краткое пребывание при дворе оказало на нее свое тлетворное влияние: в ней понемногу пробуждалось желание власти.
Когда наступил вечер и приблизился час отправляться к графине Рейс, Анна оделась самым тщательным образом, с большим вкусом и элегантностью, хотя и без особенной роскоши. Тогдашняя мода позволяла ей обнажить до плеч свои чудной красоты руки, красивую шею и открыть прелестный, будто из мрамора выточенный бюст. Анна всем этим воспользовалась.
Ее свежий цвет лица не нуждался ни в белилах, ни в румянах, а черные, как вороново крыло, косы еще более возвышали блеск ее прозрачной и, как атлас, нежной кожи. Но все это было ничто в сравнении с ее полными огня и самой обворожительной прелести глазами, в которых была неопределенная, беспокоющая и томная прелесть.
Посмотревшись в зеркало, Анна сама показалась себе такой красивой, что даже улыбнулась своему отражению… Она была одета в черное платье с отделкой из пунцовых лент, которые придавали этому наряду несколько фантастический характер.
Графиня Фицтум, которая должна была за ней заехать, чтобы вместе отправиться к Рейсам, увидев ее, остановилась на пороге комнаты и, всплеснув руками, вскрикнула:
— И вы говорите, что хотите всю жизнь промучиться с моим братом… И между тем, так наряжаетесь для короля!
— Что же из этого? — холодно отвечала Анна. — Никакая женщина не станет стараться быть с виду хуже, чем она есть.
— Но как вы одеты!.. Вы, я вижу, такая мастерица, что в туалетных делах никаких советов не требуете. Однако же, нам пора, едем!..
Точно такие же восклицания и радостный шепот встретили Анну у графини Рейс.
Этому успеху Анны никто так не радовался, как сама Рейс, которая имела на нее свои виды и расчеты. Фюрстенберг, опередивший короля на несколько минут, увидев Анну Гойм, пришел от нее в такой же восторг, как и все прочие.
— Я знаю короля, — сказал он. — Эта женщина сделает с ним все, что захочет, если только сумеет устоять.
Анна руководствовалась врожденным инстинктом, и учить ее было совсем не нужно.
Минуту спустя тихо отворились двери кабинета и вошел король. Увидев Анну, он, кажется, забыл обо всех и подошел поздороваться с Гойм. На лице Августа уже не было заметно и следов огорчения от невзгод в делах со шведами, от неблагодарности поляков, от миллионных потерь, от измен и всяких других неудач.
Анна отвечала на приветствия короля холодно и церемонно, как предписывал этикет. Однако, ее старательный туалет сам за себя говорил. Очевидно было, что она хотела ему нравиться и была почти уверена в своем успехе.
Несмотря на сильное влечение к графине Гойм, король, однако, не хотел нарушать условия вежливости к другим дамам, и хотя он терпеть не мог графиню Рейс, однако же, присел на минуту около нее и очень любезно поговорил с ней, потом сказал несколько слов Юльхен, улыбнулся пани Фицтум и каждую даму без исключения одарил любезным взглядом, словом или улыбкой. В то время, пока происходил обход, графиня Фицтум взяла невестку под руку и под предлогом какого-то сообщения прошла с ней в кабинет. Это был военный маневр с целью устроить королю приятный tete-a-tete с Анной. Все, как по команде, поняли это и стали отступать, оставив Анну и Августа с глазу на глаз.
Правда, двери были открыты, и поднятая портьера позволяла всем гулявшим по зале дамам лицезреть особу государя, но никто не мог бы расслышать оттуда их разговора.
— Вы, графиня, точно преобразились, — обратился к Анне Август. — Вы сегодня еще красивее, чем были вчера, и между тем вы совсем не та, какой были вчера. Вы не волшебница ли? — добавил он шутя.
Анна слегка поклонилась.
— Ваше величество славитесь своей любезностью и милой снисходительностью к нашему полу, а потому лестным похвалам вашим надо верить очень осторожно, — отвечала Анна.
— Не требуете ли вы от меня клятвы? Но я готов клясться всеми богами Олимпа, что во всю жизнь мою я не встречал такой прекрасной женщины, как вы, и думайте что хотите о моих словах, а я только дивлюсь непостижимой игре судьбы, которая отдала такое совершенство моему акцизнику.
Анна улыбнулась, и улыбка придала ей обольстительное выражение.
Король взглянул на ее руки; он особенно любил целовать красивые руки и едва удержался, чтобы не прильнуть к ним губами, но стерпел и продолжал:
— Знаете ли, графиня, если бы я был тиран, я ничего не сделал бы с таким удовольствием, как запретил бы Гойму возвратиться сюда обратно… И если вы захотите знать, почему, я вам прямо отвечу, что ревную вас к этому Вулкану!
— Вулкан и сам ревнив, — возразила Анна.
— Пусть так, но ведь Венера все равно не может любить Вулкана?
Анна хотела отмолчаться, но король упорно ждал ответа, и Анна тихо молвила:
— Кроме любви, ваше величество, есть и другие цепи, которые могут связывать так же крепко: это долг и клятва.
Король улыбнулся и спросил:
— Клятвы в любви?
— Нет, государь, клятвы в супружеской верности.
— Ах, полноте, пожалуйста! Есть браки совершенно святотатственные, и такими я считаю все те браки, которыми красота соединяется с уродством… Боги сами разрешали нарушение подобных клятв.
— Но что разрешали языческие боги, того часто не разрешает женщине простое желание сохранить свое достоинство.
— Вы, однако, слишком суровы!
— Даже, может быть, более, нежели это кажется вашему величеству.
— Вы меня пугаете, графиня!..
— Вас, государь? — отвечала с улыбкой Анна. — Поверьте, что я и не думала, чтобы это могло каким-нибудь образом касаться вашего величества…
— Это касается меня более, чем вы можете предполагать, — подхватил король.
— Простите меня, государь, я этого не понимаю! — тихо прошептала Анна.

Триумфальная арка для въезда Августа в Данциг
— Как, значит, вы не хотите видеть, что я уже вчера был побежден вашим первым взглядом?
— Ах, государь, хотя бы и так, но я слишком уверена, что эта победа, вероятно, не будет долговечнее утренней зари… Подобно богам олимпийским ваше королевское величество умеете легко любить и еще легче разлюбливать.
— Нет! — с чувством воскликнул король. — Поверьте мне, что это клевета!.. Чем же я виноват, что никогда не мог встретить такое сердце, ум и красоту, которые бы сумели привязать меня к себе? Не я бываю неверен… а мне изменяют! С каждым днем эти богини сходят со своего пьедестала, блеск их тускнеет и исчезает, чудо становится обыденным явлением, ангел теряет свои крылья… и в их сердцах вместо любви я нахожу лишь одно кокетство… В чем же я виноват?..
— Поверьте мне, — продолжал он, увлекаясь все более и более, — я ищу глубокой, сердечной привязанности! Я хочу принадлежать всю жизнь одной женщине; я стремлюсь остаться ей на веки верным, и… если бы я нашел такое сердце, такую женщину… О, если бы я нашел ее, я бы отдался ей весь и на всю мою жизнь!
— Этому трудно поверить, — прошептала Анна, — а еще труднее допустить, чтобы могло существовать на свете такое совершенство, которое бы соответствовало всем вашим требованиям.
— Такое существо вы! — перебил ее Август.
— Милости вашего величества не могут вскружить мне голову, потому что я чувствую, как я их недостойна!
— Вы восхитительны! — воскликнул Август, хватая ее за руку и припадая к ней устами.
Анна хотела отодвинуться, но это воспрещалось придворным этикетом; король, овладев ее рукой, целовал ее так жарко и так долго, что Анна, несмотря на все свое уважение к особе его величества, должна была наконец отнять у него свою руку.
Август встал и проговорил в волнении.
— Я не могу от вас оторваться! И, вероятно, мне, при безнадежности на ваше сочувствие, придется прибегнуть к моей королевской власти! Вы, графиня, не пытайтесь уехать из города, я вас арестую!.. Что же касается Гойма, то только ваше слово может облегчить его участь, иначе я сегодня же охотно бы…
Он не кончил, но Анна не торопилась со своим заступничеством…
В это время графиня Рейс вошла пригласить короля к столу, где были расставлены всевозможные сладости, вино и фрукты. Это был десерт, который тогда только что входил в моду, по примеру Италии. Король подал руку графине Гойм, подвел ее к столу и выпил первый бокал за ее здоровье. Фюрстенберг глядел на государя с большим вниманием…
— Княгиня Тешен пропала! — проговорил он на ухо пани Фицтум.
— И мой брат тоже! — шепотом отвечала графиня. — Теперь лишь бы у невестки хватило ума…
— А я думаю, еще лучше, если бы его у нее было поменьше! — заметил Фюрстенберг. — Посмотрите, как она непритворно холодна к нему и как прекрасно владеет собой! О, бедный Август, он даже не успел ей слегка вскружить голову, а сам влюбился без памяти!
После десерта, из-за которого каждый вставал, когда хотел, дамы снова возвратились в гостиную, а Август снова удержал здесь Анну своим разговором.
Она осталась, не выразив ни малейшего неудовольствия, была весела, развязна, но по-прежнему не подавала королю никаких надежд.
Первый раз в жизни Августу довелось встретить женщину, которая казалась такой равнодушной к нему.
Это задевало за живое его самолюбие и вместе с тем раздувало пламя овладевшей им страсти.
Сначала он думал завязать с Анной только коротенькую, мимолетную любовную интрижку, которая продолжилась бы несколько дней и не вытеснила бы окончательно из его сердца княгиню Тешен, но теперь он видел, что сладить с Анной было гораздо труднее.
— Ваше величество, позвольте мне надеяться, что вы извините меня за откровенность, к которой вы сами же меня вынуждаете. Я одно из тех слабых, несчастных существ, у которых нет ничего, кроме уважения к собственному достоинству, и ежели вы, государь, полагаете, что под влиянием увлечения я могу забыть долг и дойти до унижения в собственных глазах, то вы жестоко ошибаетесь; Анна Гойм никогда не будет ничьей любовницей, даже королевской!.. Я или отдам свое сердце навеки, или вовсе не отдам его!
С этими словами она быстро встала, и разговор их более не продолжался. Впрочем, король с Фюрстенбергом тут же скоро и уехали.
Графиня Рейс проводила его до самой лестницы, где Август, прощаясь, сказал ей:
— Милая графиня, употребите же, пожалуйста, ваше влияние смягчить эту неприступную.
Графиня Рейс ничего не успела ответить, как король уже стал спускаться по лестнице.
С наперсником своим Фюрстенбергом Август повел разговор в другом тоне.
— Знаешь, — сказал он, — это восхитительная женщина, но только она чертовски холодна!
— Время нужно, ваше величество, — отвечал Фюрстенберг. — Женщины, как вам известно, не все одинаковы: одна податлива, другая защищается.
— Защищается! Нет, она, любезный друг, мне наотрез объявила, что может любить только того, кто будет ее мужем: брак и вечная любовь, вот ее условия.
— Всякая любовь вначале собирается быть вечной, это можно обещать каждой.
— Нет, с ней дело вести трудновато, княгиня Тешен была куда сговорчивее.
— Но между ними, ваше величество, нет и сравнения…
— Да, к сожалению, это правда… Княгиня не может с ней равняться. Однако, чтобы не забыть: распорядись дать знать Гойму, чтобы он и не думал о возвращении.
— А что же он будет там делать? — спросил, улыбнувшись, Фюрстенберг.
— А черт с ним!.. Пусть делает, что хочет, — отвечал король, — а главное, пусть собирает побольше денег; у меня есть предчувствие, что моя новая любовь обойдется очень дорого. Такой бриллиант должен быть оправлен в золото.
— Как, государь, уже и любовь?
— Да еще какая страстная!.. Фюрстхен, слушай, делай, что хочешь, но эта Анна должна быть моей…
— А Урсула?..
— Женись на ней!
— Благодарю покорно…
— Ну, жени на ней кого хочешь… Сделай с ней, что вздумаешь… Она для меня более не существует.
— Уже!?
— Не говори мне о ней более, у меня теперь иные заботы, и чтобы они удались, я… Гойма озолочу, тебя… тоже…
— Было бы только откуда брать золото, государь.
— Это дело Гойма, — отвечал король, — напиши ему, чтобы он собирал акциз, откуда знает и как знает, лишь бы только не возвращался.
— До тех пор, пока ему и совсем уже незачем будет возвращаться, — проговорил князь, — слушаю, ваше величество, и исполню.
Король вздохнул… Они вошли во дворец, и Август, грустный и задумчивый, отправился прямо в свою опочивальню. Казалось, что эти любовные затруднения с Анной Гойм раздражали его гораздо более, чем все неудачи последней кампании.
VII
Таким образом, при дворе Августа II началось царствование женщины, которая должна была господствовать здесь гораздо долее всех других своих предшественниц.
Весь двор и даже весь город с любопытством следили за ходом этой истории, исход которой разгадать было весьма нетрудно.
Однако, он совершился далеко не так быстро и не так легко, как все ожидали, судя по предыдущим случаям. Курьеры поминутно скакали к Гойму с тем, чтобы оттянуть время и воспрепятствовать его возвращению.
Каждый день графини Рейс и Фицтум совещались с князем Фюрстенбергом и придумывали сообща всевозможные предлоги для того, чтобы как можно чаще устраивать королю новые свидания с прекрасной Анной; с каждым днем графиня Гойм становилась с Августом все смелее и фамильярнее, но король по-прежнему не мог похвалиться успехами: с описанного нами вечера у графини Рейс Август не сделал ни одного шага вперед, и это уже наконец стало пугать услужливую камарилью; опасались, что королю это надоест и он вдруг совсем от Анны отступится. Другие же замышляли уже воспользоваться этой неудачей и обратить взоры своего владыки на другую, более податливую красавицу; но и хлопотуны, строившие свои планы на Анне, изо всех сил уговаривали графиню Гойм быть хоть немножко поуступчивее, только она не поддавалась и твердила одно и то же, что может быть женой, но не хочет быть любовницей. Весь успех этих дней заключался в том, что Анна теперь уже не требовала немедленного брака, препятствием к которому была королева Эбергардина, но заменила это требованием торжественного, клятвенного обязательства, что в случае смерти королевы Эбергардины король непременно на ней женится.
Подобное курьезное условие во всякое другое время и при всяком другом дворе, среди людей менее испорченных и развращенных, конечно, показалось бы безумным и невозможным, но Август, узнав о нем, только задумался и потом, насупив брови, отвечал Фюрстенбергу:
— Мне дьявольски опротивели все эти переговоры, и я решил с ними кончить.
— Не должно ли это значить, что вам угодно ее оставить? — спросил князь.
— Это мое дело! — коротко отвечал король.
Более ничего не мог добиться от него поверенный его тайн.
В тот же день король Август приказал принести к себе в кабинет из казны сто тысяч талеров золотом. Мешок был тяжелый, и его с трудом притащили два здоровенных, широкоплечих гайдука, но король взял его за оба края и поднял без всякого усилия… Фюрстенберг не смел расспрашивать, что затевает его повелитель, потому что Август был не в духе… Накануне он виделся с Анной на прогулке, долго ходил и говорил с ней и, по обыкновению, после этого рвал и метал, гневаясь на неуступчивость.
С досады он даже навестил княгиню Тешен, которая обливалась слезами, слушая все, что ей передавали об Анне, и отерла их только, чтобы встретить своего милого Августа.
Такая неопределенность в положении дел всем наскучила: никто не знал, кому кланяться, на кого сплетничать и от кого ждать милостей. Наконец произошла перемена: вдруг Гойму было не только позволено, но даже приказано возвращаться как можно скорее.
Это случилось в тот самый день, когда король, взяв в карету принесенные ему сто тысяч золотом, поехал на Пирнейскую улицу с этим кладом к Анне.
Время было под вечер, день был осенний, пасмурный. Графиня Гойм ходила задумчиво и одиноко по своей довольно скромной гостиной. Она никого не принимала, кроме дам, и потому была очень удивлена, услышав на лестнице мужские шаги и голоса. Еще более она была изумлена, когда двери распахнулись и к ней без всякого доклада вошел король.
Пораженная этим неожиданным появлением, которое не предвещало ничего мирного, Анна отступила на несколько шагов и, взяв со стола маленький карманный пистолетик, спрятала его в платье. Как ни быстро было это движение, но оно не ускользнуло от взора короля, который тотчас же сказал:
— Вы напрасно это делаете, вам ничто не угрожает, и не нужно никакой защиты.
Анна молча смотрела ему в глаза и не могла вымолвить ни слова, а Август бросил на пол мешок с червонцами с такой силой, что мешок разорвался и блестящие червонцы раскатились по всем углам комнаты.
— Глядите, — сказал он, — это золото, и им я могу вас озолотить, а вот это железо…
И он вынул из кармана две железные подковы и, разломав их на несколько кусков, бросил на груду золота и докончил:
— Вот так же могу исковеркать всю вашу жизнь! Предоставляю вам выбирать: или это золото и с ним мою любовь и почести, или мою ненависть!
Стоя над грудой золота и кусками изломанного железа, Анна заговорила:
— Ваше величество, я не боюсь смерти и не ищу богатства. Вы действительно можете сокрушить меня, как это железо, но смею вас уверить, вы никогда не сломаете моей воли. Золотом меня нельзя подкупить, как нельзя запугать железом. О, мой государь! Зачем вы с собой не принесли того, что одно могло бы победить меня — верное сердце?..
— Мое сердце давно принадлежит вам! — воскликнул Август.
— Я этого не вижу, государь, по вашим действиям; любящее сердце не может желать бесчестья предмету своей любви, я не скрою от тебя, король, я люблю тебя! Я не могла воспротивиться этой любви, но я никогда не запятнаю ни себя, ни любви моей…
Король быстро подошел к ней и опустился на колено.
— Но выслушайте меня, государь, — продолжала Анна.
— Приказывайте!
— Я не могу принадлежать вам до тех пор, пока это сопряжено с моим унижением.
— Ага! Вы опять ставите какие-то условия?
— Государь, я дорожу моей честью.
— Хорошо, хорошо, я вас слушаю. Что же это за условия?
— Если вы хотите, государь, чтобы я, разделяя вашу любовь, разделяла и вашу страсть, то…
— Скорее, скорее! Что для этого нужно?
— Ваше клятвенное обещание на мне жениться!
Август нахмурил брови и проговорил:
— Но это невозможно, я женат!
— Да, государь, я это знаю, вы женаты, и пока королева здравствует, это невозможно, и я этого не добиваюсь, но… наша жизнь в Божьей воле, и ее величество может…
— Скончаться?
— Все возможно, государь, и тогда мое положение станет слишком тягостно, если вы не захотите меня из него вывести. Я ставлю условием всего, чтобы вы мне теперь это обещали.
— Анна, — отвечал Август, — поверьте мне, что вы сами не знаете, чего хотите: клянусь тебе, что это условие для тебя самой будет небезопасным.
— Ну, что бы там ни было, а я ни за что от него не отступлюсь. Этого требует моя честь, и пока я не буду иметь надежды быть твоей женой, ты ко мне не прикоснешься или я убью себя!
Король пожал плечами и отвечал:
— Хорошо! Пусть по-твоему, если ты этого непременно хочешь, пусть это будет, я даю тебе это обещание!..
Анна от радости вскрикнула.
— При этом все остальное уже ничто, — проговорила она голосом, в котором звучало счастье. — Но прежде всего, разумеется, я должна получить развод с Гоймом.
— Разумеется, и он завтра же будет подписан в консистории. Чего же ты еще хочешь?
Но Анна только склонилась перед ним на колени и прошептала:
— Больше мне ничего не нужно!
— Ага! Ну, так теперь зато мне этого мало, — воскликнул король, заключая ее в объятия, но Анна, однако, успела из них высвободиться.
— Ваше величество! — воскликнула она. — Прошу у вас еще немножко терпения: я верю вашему королевскому слову, но прежде чем я забуду себя для вас, я должна быть свободна от всех клятв в верности другому, которые меня связывают. В эту минуту я еще жена Гойма; клялась ему в верности и должна соблюсти эту клятву до конца, пока мой развод с ним не будет объявлен, а ты, мой король, скрепишь подписью обещание, которое дал твоей бедной Анне.
Август улыбнулся, но, поцеловов молча ее руку, сказал ей:
— Пусть и это будет по-твоему. Делай все, что только может тебя успокоить и… Я твой раб — ты моя владычица! Гойм нынче же приедет; объяснись с ним и расстанься с ним немедленно же; завтра я прикажу приготовить тебе дом, у тебя будет сто тысяч талеров годового дохода, и у твоих ног оба моих королевства, а с ними и я сам…
С этими словами он действительно стал перед Анной на колени, а та слегка поцеловала его в лоб и отступила, шепнув ему:
— До завтра!
— Как! Неужто еще и теперь я должен уйти? — спросил нетерпеливо Август.
— До завтра, только до завтра! — коротко повторила ему Анна и подала на прощанье руку.
Король встал, молча поцеловал протянутую руку и вышел. Проходя через зал, он еще раз увидел на полу насыпанную им груду червонцев, которая так и осталась нетронутой.
В эту самую ночь вернулся домой граф Гойм и немедленно хотел видеть жену, но двери ее спальни были заперты. Слуги доложили графу, что графиня почивает и приказала себя не будить, потому что чувствовала себя не совсем здоровой.
Во все время своей отлучки Гойм не переставал беспокоиться о поведении жены и пользовался обильными сообщениями своих шпионов. Впрочем, известное ему таким образом поведение Анны не представляло никаких новых тревог, и Гойм, отойдя от запертой двери жениной спальни, лег спать довольно спокойно.
На следующее утро, прежде чем к нему собрались все множество его акцизных чиновников, его потребовали к королю. Гойм должен был отправиться в замок, опять не повидавшись с женой.
Август был к нему крайне милостив: он дружески укорял его в продолжительном отсутствии и между прочим сказал:
— У тебя, мне кажется, при дворе есть много врагов, тебя хотели от меня отстранить. Но ты не бойся этого. Ты имеешь во мне более могущественного друга, чем все твои недоброжелатели. — Король, похлопав его по плечу, добавил: — Поверь, что я никому тебя в обиду не дам.
Гойм не знал, как благодарить его величество за все милости, и стал находить их разгадку только тогда, когда в дальнейшем разговоре о состоянии государственных финансов Август начал жаловаться на недостаток денег и сказал:
— Милейший Гойм, мне нужны деньги, и я надеюсь, что ты об этом позаботишься.
Так они и расстались.
Время было около полудня, когда Гойм возвратился домой с этой аудиенции, и едва он вошел в свой кабинет, как в другие двери вступила Анна. Она была одета очень скромно, в простое черное платье. Лицо ее было серьезно.
Войдя, она заперла за собой дверь на ключ и отстранила от себя спокойным движением руки Гойма, бросившегося было к ней с приветствиями.
— Я ждала вас, граф, — начала она спокойным голосом. — Я пришла сюда за тем, чтобы поблагодарить вас за все, что вы сделали мне доброго. Поверьте, что я этого не забуду. Но теперь я должна сказать вам нечто такое, что вас, может быть, немного расстроит… Что делать, я совсем не хотела бы вас огорчать, но я принуждена сообщить вам, что наша супружеская жизнь должна считаться оконченной. Не будем грустить об этом! Мы не видели в нашем браке никакого счастья, между нами даже не было симпатии, без которой жизнь не жизнь, а мука. Немало времени прошло, как мы так тяготим друг друга, без всякой надежды на что-нибудь лучшее, и… нам, граф, пора проститься! Вам, граф, известна моя откровенная натура: я всегда люблю действовать прямо и так поступаю и теперь. Его величество сделал мне честь, заверив меня в своей дружбе и защите, а он в моих глазах достоин того, чтобы я на него положилась. Я его люблю и решилась ему повиноваться. Но обманывать вас я не могу и не желаю: мы, граф, должны расстаться, и чтобы сохранить вашу честь, я вам предлагаю развод. Иначе я поступить не могу. Если вы согласитесь, чтобы брак наш был расторгнут, вы можете быть уверены в моем всегдашнем к вам расположении. Всегда и во всем вы будете иметь во мне самую искреннюю помощницу; но если вы будете так неблагоразумны, что не дадите вашего согласия, то знайте, что, во-первых, это нимало не изменит моего решения, а во-вторых… это только заставит меня решительнее забыть всякую вам признательность и помнить лишь одно, что вы становитесь препятствием к моему счастью.
Гойм выслушал все это в мертвой неподвижности, как пораженный громом, — он никак не предполагал, что дело уже приняло такие размеры.
По его бледному лицу только разлилась какая-то синевато-багровая краска. Бедного министра не столько возмущала самая суть дела, как то страшное хладнокровие, с которым Анна ему все это излагала.
— Так вот что! — произнес, весь побагровев, Гойм. — Так вот какова ваша благодарность мне за то, что я вывел вас из вашей трущобы на свет Божий! О, я вижу, что я отогрел змею на своей груди, и вот она меня жалит!
И Гойм, сжав кулак, вдруг поднял его над головой и, кинувшись к жене, закричал неистово:
— Как вы могли решиться оставить мужа и сделаться игрушкой минутной прихоти самого легкомысленнейшего человека?
Анна смерила его взглядом и спокойно отвечала:
— Граф, не в этом тоне продолжайте!.. Я знала, что вы мне будете говорить именно это; но поверьте мне, что в ваших предостережениях я нимало не нуждаюсь и знаю, что я делаю. Предоставьте мне самой заботиться о моей судьбе и не пробуйте поколебать мою решимость, она неизменна. Я прошу вас быть благоразумнее и выбирать, пока есть время для какого-нибудь выбора: предпочитаете вы, чтобы я получила развод с вами с вашего согласия или чтобы вашего согласия не спрашивали? В первом случае мы расстанемся друзьями, во втором, конечно, о дружелюбии не может быть речи. Вот весь вопрос, который вы можете решить, как вам угодно!
Гойм никак не ожидал от жены такой твердости в таком деле, и им овладели и удивление и гнев, а при них заклокотала и ревность: под влиянием всех этих мучительных чувств он поддался неистовому раздражению и заметался по комнате, бешено толкая и расшвыривая вещи.
Анна, давно привыкшая к взрывам его ярости, не придавала особенного значения этому и ждала конца, чтобы, не выходя отсюда добиться — да или нет. Наконец, заметив, что припадок утихает, она проговорила самым спокойным тоном:
— К сожалению, я вижу, что вам гораздо труднее решиться, чем я думала; в таком случае я дам вам время обсудить мое предложение. Имейте только в виду, что теперь вражда со мной есть в то же самое время и вражда с королем, а это может быть для вас небезопасно: от этого зависит или ваше возвышение или опала.
С этими словами она вышла, не ожидая ответа.
Гойм продолжал метаться по комнате: его отчаяние, вероятно, продолжалось бы очень долго, если бы оно не было прервано приходом графа Фицтума.
— Что с тобой, Гойм? — воскликнул Фицтум. — Отчего это ты так печален?
— Что со мной? Вот, право, хорош вопрос! — отвечал Гойм. — Да вы, мои голубчики, наверно все это лучше меня знаете. Ведь это вы же, мои милые друзья, приготовили мне такую приятную новость… Моя жена, моя Анна меня бросает! Она понадобилась королю; ему все нужны! Что же с этим делать? Но зачем же она шла за меня замуж? Чтобы потом изменить мне, осрамить перед всем светом и выставить меня всем на посмешище? Неужто все это такие приятные вещи, что мне нечего печалиться, а надо радоваться и улыбаться?
Фицтум дал ему волю высказаться и потом начал:
— Послушай, Гойм! Что тебе жаль расстаться с прекрасной Анной, это очень понятно, но ведь она тебя никогда не любила, да и ты слишком уж ветрен, чтобы я поверил, что ты ее так сильно обожаешь. Честь же твоя не пострадает нисколько, потому что не ты оставляешь жену, а все знают, что она тебя покидает. Будем лучше рассуждать основательно, я пришел с поручением короля.
Гойм насупил брови.
— Что же мне приказывает его величество? — пробормотал он с иронией в голосе.
— Король желает твоего согласия на развод с женой и за это обещает тебе свою милость и признательность. А в противном случае… Я, право, не знаю, что тут тебе рассказывать! В противном случае, мой милый Гойм, ты, разумеется, накличешь на себя большие беды. С королем бороться нельзя, значит, выбирай что хочешь, но помни, что с этих пор малейшая обида графине будет считаться оскорблением его величества.
— Превосходно! Но только зачем королю нужно мое согласие на это? — закричал Гойм. — Не все ли равно, согласен я или не согласен? Король без всякого моего согласия может сделать все, что ему угодно: консистория не мне, а ему послушна; но я не могу благодарить его величество за то, что он лишает меня моей жены!
Фицтум его перебил:
— Постой, король тебя просит о согласии, это, разумеется, только доказывает в известной степени его желание быть с тобой деликатным; если же ты это ни во что не ценишь, то, конечно, обойдутся и без твоего согласия, но тогда тебе неловко будет оставаться при дворе, а король, очевидно, хочет оставить тебя при твоей должности.
— Да, он хочет меня при ней оставить, потому что я ему на ней нужен! — пробормотал Гойм.
Фицтум на это ничего не отвечал. Он встал, прошелся несколько раз по комнате и, снова сев на диван, сказал:
— Однако, время идет, мой милый граф, и я должен ехать, чтобы передать твой ответ; решись же и скажи его! Если я уйду от тебя без ответа, дело будет уже непоправимо.
— Ну, и что же это будет? — продолжал он после минутной паузы. — Я еще раз, и притом последний, повторяю: граф Гойм, король Август ждет от вас ответа! Скажете вы мне или нет, что я должен передать его величеству?
— Да разве тут есть что выбирать? — воскликнул министр. — Что вы ко мне, в самом деле, пристаете? Ведь это одна насмешка: стали у человека с ножом у горла, прося позволения взять у него жену, которую уже ранее решили отнять… Что тут выбирать? Поезжайте, мой любезный зять, по вашему приятному поручению к его величеству и доложите ему, что я крайне ему благодарен за то, что он отбирает у меня жену, что я на это совершенно согласен, очень этому рад, счастлив и в упоении моего счастья лобызаю его руку. Довольно ли вам моей верноподданнической покорности? А если мало, то можешь добавить, что я сожалею, что подношу его величеству не целый фрукт, которого не касались уста, а плод… который я уже достаточно отведал. Прошу его извинения в этом, ха, ха, ха…
— Ну, это, знаешь, кажется, будет лишнее!
— Отчего же?
— Нет, право, лишнее. Прощай теперь: я иду и буду знать, что сказать и о чем умолчать; а ты, выпей-ка, брат, стакан холодной воды, да вспомни многих, которые позавидовали бы тебе.
Фицтуму, наверное, вспомнилась и его собственная доля, в то время когда его жена, сестра Гойма, была ненадолго фавориткой Августа.
Пока происходили эти переговоры, король нетерпеливо ждал в замке ответа Гойма и наконец, не дождавшись, сам поехал в дом своего злополучного министра и прямо прошел в покои его жены.
Фицтум не знал этого и, простясь с Гоймом, хотел ехать в королевский замок, но получив известие, что Август ожидает его здесь, направился на половину графини.
Август по одной походке и по лицу Фицтума сразу увидел, что Гойм не сопротивляется, и был спокоен, но прекрасная Анна, вся в тревоге, бросилась навстречу роковому послу.
— Ну, что, граф, были ли вы счастливее меня? — вскричала она.
— Графиня, никто не может быть вас счастливее! — отвечал с поклоном и улыбкой Фицтум. — Но я был только терпеливее вас. Я дал вашему мужу волю излиться в словах и за то приношу вам самую желанную весть: Гойм на все согласен!
В черных глазах Анны вспыхнула радость, и она чуть не кинулась на шею Фицтуму.
— О, если бы вы знали, какую вы мне дорогую принесли весть! Чем вас благодарить? — воскликнула она и, кинувшись к столу, на котором стояла золотая шкатулка, схватила ее и подала Фицтуму.
Король подбежал взглянуть на подарок и тотчас же вырвал его из рук Фицтума.
В шкатулку был вправлен миниатюрный портрет Анны, который был сделан несколько лет тому назад.
— Нет, извините, — воскликнул король, — это уже слишком много для тебя, Фицтум!.. Я конфискую это моей королевской властью и взамен дарю двадцать тысяч талеров, а этот портрет никто не может и не будет иметь, кроме меня!
Анна бросилась королю на шею.
На другой день граф и графиня Гойм подали прошение о разводе через своих уполномоченных, королевский указ ускорил дело, и через три дня решение консистории было объявлено для всеобщего сведения и по желанию Анны было прибито на всех площадях, общественных зданиях и местах.
В тот же самый день Анна переехала от мужа в новый дом, который для нее приготовили. Он был недалеко от замка, а для большего удобства его на скорую руку в несколько часов соединили с замком крытой галереей.
Известие о разводе, как громом, поразило весь город. Графиня Гойм оставила фамилию мужа и стала называться по имени своей родни в Голштинии госпожей Ко́зель. Август клятвенно обещал выхлопотать ей у императора Иосифа графский титул и, вместо временно занятого ею дома, обещал через несколько месяцев выстроить ей дворец лучше сказочных хором из «тысячи и одной ночи».
Давно уже ни одна любовница короля не овладевала так сильно всеми его помыслами, сердцем и чувствами. Он проводил с Анной целые дни, забывая все остальное на свете. Его почти нигде нельзя было увидеть без Анны.
Княгиня Тешен не имела более никаких надежд возвратить себе внимание короля. Август ее совсем оставил. Впрочем, все богатство, полученное ею во время фавора, осталось при ней, и она была свободна располагать собою, как ей угодно.
Август должен был щадить ее ради кардинала Радзейявского, на которого она имела большое влияние, а Радзейявский мог сильно повредить намерениям короля… Но что же думала и замышляла ревнивая и мстительная Тешен? Несмотря на множество шпионов, которыми Фицтум окружил ее по приказанию короля, о намерениях ее нельзя было ничего узнать. Пробовали было выпытать у нее тайну через баронессу Глазенапп, которая ненавидела сестру, но княгиня была слишком осторожна: она только молчала да плакала. Никто не знал даже, останется ли она в Дрездене или поселится в Гойерсверде, или же наконец вернется в Польшу. В доме не было заметно ни приготовлений к отъезду, ни других перемен, только слишком многочисленная дворня теперь значительно сократилась. Но тех, кто остались верными княгине, все подозревали в шпионстве. Общество вокруг нее группировалось невеселое; дни ее шли уныло, прежние друзья отставали; но зато князь Людовик Виртембергский приходил все чаще.
Придворные интриги, некоторое время направлявшиеся исключительно на низложение княгини Тешен и возвышение Анны Ко́зель, теперь, после победы последней, приняли другое направление.
Фюрстенберг, которого король вначале избрал посредником в этом деле, теперь должен был уступить свое место Фицтуму, оказавшему такую ловкость при устройстве развода.
При дворе Августа II начали образовываться две враждебные партии, и этот распад становился с каждым днем все заметнее и очевиднее.
Добрый король не любил, чтобы вокруг него люди жили в мире и согласии, и с особенным усердием заботился, чтобы этого при дворе никогда не бывало. Он боялся единодушия и всеми силами всегда способствовал всяким ссорам и раздорам.
Фицтум, который был таким счастливым посредником в деле Анны Ко́зель, принадлежал к старому роду, вышедшему некогда из Тюрингии и уже с давних пор находившемуся на саксонской службе.
Великому сокольничему графу Фридриху Фицтуму фон Экштадт было в то время лет около тридцати. Он был при дворе еще пажем и с малолетства был дружен с Августом. Вместе с ним он совершил и путешествие по Европе, из которого они привезли столько любопытных новинок. После падения государственного канцлера Бейхлинга в 1703 году он был назначен великим сокольничим на место брата канцлера, который тоже не миновал Кенигштейна.
Король любил Фицтума больше, чем других, потому что его он не опасался; это был человек спокойный, любезный, предупредительный, крайне вежливый и отлично воспитанный, как настоящий придворный, и ко всему этому был красавец.
Фицтум особенно отличался в любимых королем рыцарских забавах: он великолепно ездил верхом, стрелял, охотился и был такой страстный игрок, что, если бы только это было возможно, он играл бы целые дни без отдыха. Характер у него был веселый, и он отличался своим мягким, безобидным юмором. Мы уже говорили, что саксонское дворянство во всем, что касалось его привилегий, старалось осторожно, но упорно сопротивляться королю, и Фицтум был самым верным и ловким, хотя почти незаметным, сторонником этого дворянского дела. Его интимность с королем, которая особенно выказывалась на пирах и кутежах, позволяла ему иногда, при случае, ввернуть словечко в пользу своих убеждений, которое часто, под видом шутки, для многих было горькой правдой.
Исключая это сочувствие дворянским делам, Фицтум не вмешивался ни во что более, отстранялся от всяких интриг, не был совсем честолюбив и служил королю как другу.
Около Фицтума состояла его жена, сестра Гойма, первейшая из интриганок этого двора, при котором женщины всегда имели равное, если не большее значение, чем мужчины.
Графиня в то время была еще очень свежа и хороша… Высокого роста, как большая часть саксонских аристократок, с большими блестящими глазами, прекрасным бюстом, слегка вздернутым носиком, она была одна из первых придворных красавиц. Все узнавали ее по вечно веселому, детскому, пискливому смеху, который очень часто вырывался с хорошеньких губ. Графиня Фицтум играла всем двором, вечно интриговала из одной любви к искусству, подслушивала, сплетничала, устраивала западни, ловила и играла людьми, возбуждала ссоры и ненависть, судила и мирила и, кроме того, отлично вела весь дом, и мужа, и хозяйство, и дела, и не будь ее — Фицтум сидел бы часто без гроша. Мужем же своим она руководила во всем, сгорая за него честолюбием, которого у того часто недоставало.
Эта дама любила карты не меньше, чем ее муж, но она играла гораздо осторожнее его и с большим счастьем.
Все другие дела тоже держались ею, а не мужем, который, будучи предоставлен самому себе, никогда бы ничего не добился.
Фицтумы, впрочем, не были особенно влиятельны при дворе Августа: их ставили гораздо ниже Флемминга, Фюрстенберга, Пфлуга и других, но графиня Фицтум умела наверстывать этот недостаток прямого влияния ловким интриганством, которого побаивались особы, несравненно лучше ее поставленные.
При описываемых нами событиях госпожа Фицтум с первых же успешных шагов Анны Ко́зель стала на ее сторону и повела за собой мужа, который, зная способности жены, никогда ей не противоречил.
Анна в обществе преуспевала: несколько дней спустя после того, как она переехала в подаренный ей королем дом около замка, весь двор почувствовал, что новая фаворитка поведет дела не так, как слезливая графиня Тешен. У этой все пошло иначе — она становилась в самый центр дворцовой жизни и уже смело называла себя второй королевской женой.
Влюбленный Август ничему не перечил до времени, а у красавицы, которая тянулась к трону, закружилась голова.
Чем это должно было окончиться, покажет развитие нашей истории; но пока об этом еще никто не задумывался, и все ждали только веселья и празднеств от своего утешенного владыки.
VIII
При дворе Августа II в это время не было недостатка в людях, специальное назначение которых было служить для королевской потехи и отгонять от него всякие черные мысли, когда таковые невзначай забирались в его голову.
Каждый день поутру из так называемого Старого Города (который теперь носит название Нового) проезжал верхом во дворец королевский шут и фигляр Иозеф Фрёлих. Этого придворного артиста знал весь город, от первого министра до последнего уличного мальчишки. Как-то раз, будучи в хорошем расположении духа, Август приказал даже выбить в честь его медаль с подписью: «Semper Fröhlich nunquam Traurig»[2]. Фрёлих так привык к своей смехотворной обязанности, что с утра до вечера и сам хохотал и других смешил до упаду.
Один его вид и костюм, в котором он выезжал из своего дома, уже возбуждали улыбку. Построенный у моста дом Фрёлиха был известен под названием Дурацкого дома.
Фрёлих был маленький, толстенький человечек, с вечно веселым, румяным лицом. Обыкновенный его костюм был куцый цветной фрак, и таких фраков у него по милости короля было ровно девяносто девять. Он носил на голове огромную шляпу с султаном из разноцветных перьев, а сзади на пуговице громадный серебряный ключ в шестьдесят унций. Ключ имел форму камергерского ключа, но был устроен так, что мог служить кубком, который Фрёлих и обязан был осушать, когда участвовал в королевских оргиях.
Противоположность этому человеку являл барон Шмидель, которого держали для того, чтобы он мог подзадоривать Фрёлиха и разнообразить шутовские выходки. Шмидель с неподражаемым искусством изображал из себя меланхолика и пессимиста, и когда тот хохотал, этот хныкал. Это были своего рода Гераклит и Демокрит.
Когда оба эти паяца изнемогали от усталости, истощая весь свой запас веселости и остроумия, к ним на помощь являлись другие, подставные, в которых недостатка не было. Это никто не считал для себя унизительным, и остроумный Киан шутствовал так же охотно, как Шмидель с Фрёлихом.
Фрёлих, однако, несмотря на свою шутовскую должность, был человек очень неглупый и недурной. Он сколачивал понемногу денежку на черный день, жил скромно, исподтишка смеялся над всеми теми, которые потешались над ним громко, и с необыкновенной ловкостью умел вывертываться и выходил целым и невредимым из всех придворных интриг и передряг.
Семейная жизнь Фрёлиха шла самым тихим и едва ли кому-нибудь известным порядком: поутру он облекался в свою пеструю форму и ехал в замок, а вечером, иногда довольно поздно, возвращался домой к своей экономке. Вот все, что было известно о его домашней жизни. В «Дурацкий дом» почти никто не хаживал, да и не к кому было сюда ходить, потому что и сам хозяин-то здесь только ночевал или бывал гостем, и потому экономка Фрёлиха, старая Лота, имела полное основание прийти в тревогу, когда однажды на рассвете в дверь дурацкого дома раздался сильный стук и некто, совсем не знакомый госпоже Лоте, спросил Фрёлиха.
Придворный шут насторожил ухо, он еще не был одет и по необыкновенно раннему часу соображал, что бы это за особый каприз мог прийти с пьяных глаз королю звать его в такую раннюю пору? Лота, выглянув в дверное окошечко, увидела на пороге стройного молодого человека в придворной ливрее.
Окинув его с головы до ног быстрым взглядом, Лота спросила, что ему угодно.
— Я хотел бы переговорить с господином Фрёлихом, — отвечал незнакомец.
— Вы от короля? — осведомилась Лота, но незнакомец оставил этот вопрос без объяснения, и Лота на том не настаивала. Она знала, что к Фрёлиху ходят иногда послы секретные, и потому пропустила незнакомца наверх, где ее хозяин в это время уже одевался перед зеркалом в свой костюм. Фрёлих также не знал, кто к нему явился: гость или посланец. Он раскланивался с ним, кривляясь с униженными поклонами и величая пришедшего превосходительством, хотя гость, по правде сказать, всего менее казался достойным такого титула. Это был застенчивый молодой человек, который нерешительно остановился в дверях и мял в руках свою шляпу.
— Чем могу служить вашему превосходительству? — обратился к нему в полусогбенном положении шут.
— Ах, господин Фрёлих, — отвечал тихо пришедший, — не смейтесь над несчастьем!.. Какое там я превосходительство? Поверьте, что точнее будет, если я стану величать вас превосходительством.
— Ба-ба-ба! Я — ваше превосходительство! Да вы от короля или нет?
— Нет, я сам от себя. Я прошу у вас одной минуты, чтобы поговорить с вами с глазу на глаз.
— То есть вы просите у меня аудиенции? — воскликнул с комичной важностью Фрёлих. — Да не сделался ли я сам, того не ведая, во время моего сна каким-нибудь министром? Что же, при нашем дворе… тсс!.. при нашем дворе все может случиться! Министры так грызутся, что скоро съедят друг друга, а тогда почему бы и нам с вашей милостью не стать министрами? А? Что вы думаете? Только я, на всякий случай, вперед выговариваю себе у вас министерство казны и акциза.
Гостю, однако, было не до шуток. Фрёлих это понял и заговорил в другом тоне.
— Да, так вам нужна одна минута разговора со мной и непременно еще с глазу на глаз? Что же, я согласен… эта минута к услугам вашим! Теперь в целом доме нет никого, кроме нас двоих и старой Лоты, которая занята на кухне, да дворника, который чистит лошадь на конюшне. Итак, я занимаю мое место, и аудиенция начинается!
И проговорив это, Фрёлих с важностью сел в кресло, изображая из себя сановника, принимающего просителя.
— Господин Фрёлих, — начал незнакомец, — вы, конечно, будете очень удивлены, когда узнаете, что я пришел к вам по чрезвычайно важному делу.
— Да нет, ничего; только вы смотрите, приятель, вы того… вы не ошиблись ли дверями?
— Нет, я не ошибся дверями, — возразил незнакомец. — Я пришел туда, куда нужно. Видя вас ежедневно при дворе, я вычитал в лице вашем, что вы добрый человек… что у вас великодушное сердце…
— Мой милый! Без всякого сомнения, вы хотите занять у меня денег! — прервал его, замахав руками, Фрёлих. — Но я предупреждаю вас, что из этого ничего не выйдет! Всем располагайте: моим советом, моим смехом, моими поклонами, спиной — словом, всем, чем хотите; но только не деньгами — денег нет у меня, мой милейший! Да и откуда их взять, когда сам наш великолепный, наш августейший король — гол как сокол! Как же вы хотите, чтобы у меня были деньги?
— Нет, мне даже не снилось просить у вас денег.
— А! Это другое дело, — произнес успокоенный шут. — Однако, чего же в таком случае вы можете желать от меня? Не хотите ли вы, чтобы я научил вас какому-нибудь фокусу? Например, как из одного яйца вытащить сто пятьдесят аршин лент?
— И этого я не хочу.
— Так что же, вы, может быть, просто ищете моей протекции на всякий случай?
— Да, вот это, пожалуй, что и так, — с печалью в голосе отвечал незнакомец, — когда нет никакой другой…
— Когда нет никакой другой протекции, так вы к дураку идете! — засмеялся старик. — Что же, это довольно забавно, только в этом отношении даже Шмидель как барон и камер-курьер мог бы лучше вам пригодиться. По ливрее вашей я вижу, что вы принадлежите к дворцовой службе. Однако, выговор у вас иностранный. А, впрочем, в этом ничего нет удивительного, потому что скоро саксонца при саксонском дворе надо будет искать днем с фонарем. Но кто же вы?
— Я поляк. Зовут меня Раймонд Заклик.
— Поляк! Стало быть, дворянин? Ну, так садитесь же, высокопочтенное дворянство… а я как мещанин встану и буду говорить с вами стоя…
— Полноте шутить, господин Фрёлих.
— Помилуйте, я не смею с вами шутить. Подавился бы собственным языком, если бы шутил. Но времени у нас немного и оно дорого. Говорите же, глубокоуважаемый поляк, что вам угодно?
С минуту Заклик не мог заговорить, насмешливый тон Фрёлиха, очевидно, смущал его.
— В саксонский двор попал я случайно… Вероятно, вы слышали обо мне… На мое несчастье, я очень силен: я могу сломать подкову, смять кубок и отрубить сразу голову лошади… Этим я обратил на себя внимание его величества, и ему угодно было взять меня ко двору…
— Знаю, знаю… Припоминаю, — засмеялся Фрёлих. — Не завидую вам, милейший господин… как вас?
— Заклик.
— Не завидую, господин Унглюк. Но кто же был так простодушен, чтобы советовать вам меряться силой с королем?.. Надо быть очень… очень остроумным, чтобы взять на себя такую печальную роль!
— С тех пор, как я поступил во двор… мне просто опротивела жизнь!.. Нет у меня друзей… нет покровителей… никого.
— А, так вы хотите избрать меня другом и покровителем? Это такая же счастливая мысль, как ломать подковы!.. Человече! Если бы вы могли ломать даже наковальню, то со страху, боясь возбудить зависть, не должны были сокрушать и соломинки… Нечего сказать, славно вы себя устроили!
— Так вышло, — сказал Заклик. — И никого у меня нет… Никого.
— А вдобавок еще вы поляк, когда теперь даже имя поляка выговаривать не годится… Не хотелось бы мне быть в вашей шкуре!
— Верю, и мне нехорошо в ней… Думалось, что хоть вы, господин Фрёлих, пожалеете меня.
Старый шут вытаращил на него глаза. Морщинистое лицо его сделалось вдруг серьезно и печально. Он сложил на груди свои руки, затем подошел к Заклику, взял его руку и с видом доктора стал щупать у него пульс.
— Боюсь, милейший мой, что у вас в голове того… пометалось? — тихо спросил он.
— Это могло бы случиться, — усмехнувшись, отозвался Заклик.
Лицо Фрёлиха разгладилось и снова приняло обычное выражение.
— О чем же идет дело? — спросил он.
— О том, чтобы его величество соблаговолил уволить меня от придворной службы.
— Да что же может быть легче этого? — тихо сказал Фрёлих. — Сделайте какую-нибудь глупость — тотчас же поставят на Новом рынке виселицу и вы непременно будете болтаться на ней… Это самый короткий, легкий и прямой способ уйти от короля Августа.
— На это еще, надеюсь, у меня есть время? — спросил Заклик.
— Но что же вы станете делать, если вас, положим, уволят? Потащитесь на свою родину, чтобы там с медведями рычать?
— Нет, я останусь здесь.
— Так, вероятно, одна из дрезденских красавиц пленила ваш взор?
Заклик сильно покраснел.
— Нет, — отвечал он, — я могу давать уроки фехтования; я могу учить верховой езде… Наконец могу записаться в какое-нибудь войско…
— Разве вы умираете с голоду при дворе?
— Нет, у меня всего вдоволь.
— Так, может быть, вам не выплачивают жалованье?
— Напротив, я его получаю сполна.
— Но что же наконец вы находите у нас дурного?
Заклик смешался.
— Нечего мне делать… Здесь я не нужен…
— А, господин Унглюк, я вас понимаю! Вы желаете совершить что-нибудь особенное?.. Вот ведь, кажется, имеете и хлеб и спокойствие, а ищете беды.
— Быть может, — коротко отвечал Заклик. — Но знаете, ведь все может надоесть.
— Ага, надоесть? Разумеется, может, особенно тому, кому хорошо живется и нечего делать, — докончил Фрёлих. — Однако, во всем этом я еще не вижу, чем же, собственно, я здесь могу быть вам полезен?
— Вот чем, господин Фрёлих: я стою у дверей в покоях его величества… а вы какой-нибудь выдумкой могли бы обратить на меня его внимание. Право, это для вас не было бы особенно трудно, а королю… видите, ему в добрую минуту иногда приходят разные фантазии.
— Как же, как же, приходят и именно разные, и вот как ему придет один раз такая фантазия, чтобы приказать вас повесить? Будете ли вы этим довольны?
— Нет, я этакой его фантазией нимало не буду доволен и надеюсь, что вы меня от нее защитите.
Фрёлих поглядел на него молча и потом надел на голову свою остроконечную шляпу с пером, заложил руки в карманы и, пройдясь по комнате, воскликнул:
— Вы открыли мне глаза: я, ей-ей, до сих пор сам не догадывался, какая я здесь сила! Поверьте мне, господин Унглюк, что ради одной вашей благодарности я охотно сделал бы для вас что-нибудь… Кто знает, говорят, что Киан будет комендантом в Кенигштейне… Стало быть, и я, по крайней мере, могу быть придворным казначеем или советником в консистории. Я начинаю набираться амбиции!..
С сожалением взглянув затем на Заклика, Фрёлих упал в кресло и захохотал.
— Свет перекувырнулся!.. Польский дворянин просит протекции у шута, а шведские селедочники бьют саксонцев!..
Он хлопнул в ладоши. На этот зов явилась Лота с тарелкой в руках.
Фрёлих сделал комический жест и кивнул Заклику головой, как министр, дающий понять, что аудиенция закончена. Печальный Заклик поклонился и сошел с лестницы.
Конечно, мысль идти искать покровительства у забавлявшего всех шута была довольно странна; но отчаяние заставило Заклика решиться на это. Бедному молодому человеку смертельно надоела его бездеятельность при дворе. Ему пришло в голову, что будь он свободен, он мог бы играть здесь другую, гораздо лучшую роль, чем стоять в ливрее. История с графиней Гойм, которая вдруг превратилась в госпожу Ко́зель, перенесла его прогулки из Лаубегаста в город. Заклик мечтал, что ничем не связанный он как дворянин мог быть принят в дом… той, смотреть в черные очи которой было для него величайшим счастьем.
Любовь Заклика была совершенно особенного рода. Раймонд жаждал лишь одного — смотреть на боготворимое им существо. Ему хотелось быть ее верным, неусыпным стражем, невидимым охранителем. Он догадывался, что она должна иметь врагов, и страшась за нее, Заклик стремился снискать ее доверие и готов был с радостью пожертвовать за нее своей жизнью. Вообще молодой человек отличался довольно странным характером. Внешне мешковатый, он был, однако, полон упрямства и непреклонной воли. Он сам смеялся над своей любовью к той, которая называлась «королевой», но задушить в себе это чувство не мог.
Счастливое время в Лаубегасте, где он мог смотреть на нее из какой-нибудь засады и отгадывать ее мысли, представлялось ему теперь утраченным раем. В Дрездене Заклик редко имел счастье видеть лицо «прекрасной королевы» — да и то на самую короткую минуту. Видел он ее, когда она каталась в сопровождении короля верхом, когда садилась или выходила из экипажа, и наконец в театре, если ему удавалось замешаться между придворными. Но всего этого было ему слишком мало: Заклику грезилось когда-нибудь попасть в ее дом; это составляло для него верх счастья, было единственным и последним его желанием. И для достижения такого блаженства он готов был не только поклониться шуту, но даже не остановился бы и перед гораздо большим унижением.
Впрочем, и такая любовь со стороны молодого человека не представляла ничего необыкновенного. Удивительно было то, что сама госпожа Ко́зель, видевшая его лишь несколько раз издалека, со всей своей гордостью, со своей новой любовью к прекрасному королю, вся упоенная счастьем, тоже не один раз задавала себе вопрос: «Что сделалось с этим чудаком из Лаубегаста?» И не раз глаза ее отыскивали Заклика в придворной толпе. Без сомнения, это было только сострадание, но и оно в такие блаженные минуты счастья было не совсем обыкновенно…
Ко́зель не была слишком чувствительна. Страстная, энергичная, смелая, она, однако, нелегко поддавалась на сострадание. Но ей невольно припоминался кроткий безумец, погружавшийся по шею в воду для того, чтобы посмотреть на нее. Это льстило ее женскому самолюбию. Она не без удовольствия вспоминала о всех этих происшествиях, о которых, разумеется, никогда никому не говорила.
Крепко ошибся бы тот, кто предположил бы, что влюбленный Август II ради прекрасной Ко́зель отказался от своих ночных оргий с приближенными. Оргии были ему необходимы, они вошли в привычку. Часто между подпившими царедворцами королевское слово сеяло раздор, составлявший один из способов его государственного управления. От пьяных придворных легко было добывать признания, каких они в трезвом состоянии ни за что бы не сделали.
Как легко удалось королю вызвать Гойма на откровенное описание жены, так он узнавал от других не об одном их секрете.
Однажды вечером в замке шла пирушка. Король был в хорошем расположении духа и думал о том, как бы окружить обожаемую им красавицу роскошью, олимпийским великолепием и удовольствиями. Часть дня была им посвящена важнейшим делам, а вечер — попойке.
Гойм, оставшийся при акцизе, при министерстве и при пятидесяти тысячах талеров, которыми король отер его слезы по утраченной супруге, также был тут, в числе ночных собеседников. Гойм был нужный человек, так как на все и везде требовались деньги и деньги, и только он один умел добывать их.
Он был гениален в придумывании мер к усилению доходов. Он употреблял всевозможные средства для извлечения их из обедневшего края. Обложено было податью то, с чего прежде ничего не платилось. У страны вытягивались последние гроши, которые король щедро расточал на фавориток и любимцев.
Но и гениальнейшие измышления имеют конец, особенно если они должны беспрестанно повторяться. Теперь оставалось только прибегать к мерам чрезвычайным и насильственным. Дело доходило до того, что, например, падение бывшего канцлера в значительной степени объяснялось желанием поживиться накопленными им будто бы несметными богатствами, которые, впрочем, оказались далеко меньшими, чем о них говорили. Все ограничилось дворцом, который был отдан княгине Тешен, несколькими деревушками да полумиллионом талеров, которые у него когда-то занял король и которые после всей этой передряги, разумеется, уже не предстояло надобности возвращать. Остальное достояние канцлера, заключавшееся в полутора миллионе талеров, разделили между собой Фюрстенберг, Пфлуг, а может быть, и Флемминг. Таким образом, король, рассчитывавший получить много, собственно говоря, не получил ничего.
Август питал еще особого рода надежду приобрести нужные ему баснословные суммы с помощью искусственного воспроизведения золота. Это, как известно, составляло в то время манию многих, и Август, как и некоторые другие государи, был помешан на алхимии. Тогда не сомневались в существовании чудесного раствора, превращающего всякий металл в золото, а настоящее золото — в пепел и дым.
Канцлер Бейхлинг, убежденный, как и все подобные ему мечтатели, в совершенной возможности приготовить золото в реторте, укреплял в Августе II надежду, что он отыщет ему наконец такого человека, который сумеет наделать этим способом столь необходимые для счастья его величества миллионы.
По временам всем двором овладевало особенно сильное увлечение алхимией, и тогда только и было разговоров, что о золотом эликсире.
У канцлера была своя лаборатория, у Фюрстенберга — другая; последнюю посещал и сам король. Имели лаборатории и прочие из любителей «великого дела».
Ходили слухи о некоторых счастливых мудрецах, будто бы уже открывших искомую драгоценную тайну. Это порождало в Августе подозрительность.
Нет сомнения, что Бейхлинг, умевший доставать королю деньги, не попал бы в опалу, если бы Фюрстенберг не шепнул его величеству, что у него есть уже мастер, который может добыть золота несравненно больше и легче, чем может достать канцлер посредством новых вымогательств из разоренного края.
Мудрец, на которого так рассчитывал Фюрстенберг, был простой аптекарь Беттигер из Берлина. Прошлое этого человека было самое темное, а в настоящем ясно было только то, что он не мог сделать золото, но умел его расходовать с большим удовольствием.
Несколько лет тому назад этот Ян Фридрих Беттигер родом из Шлезвига забавлялся в аптеке фабрикацией золотого эликсира или, как говорили другие, имел случай достать его у одного бродяги, называвшегося Ласкарисом… Фридрих I прусский рад был захватить себе этого золотоделателя и, разумеется, запер его в клетку, предпочитая одному обладать такой драгоценной и великой тайной… Беттигеру удалось бежать в Саксонию. Пруссаки добивались выдачи его, но король Август и сам нуждался в деньгах. Поэтому приказано было доставить дорогого человека в Дрезден.
Фюрстенберг вместе с Беттигером работал в лаборатории, и король твердо уповал, что не нынче, так завтра из их плавильной печи польется золото.
Беттигера отлично поили и кормили, осыпали милостями и ласками, но держали взаперти, под стражей. А между тем в надежде на золотой эликсир Беттигера проходили годы, и разорение государства усиливалось. Привозили из Варшавы ртуть, сочиняли особые молитвы, король исповедовался и с набожными мыслями садился к плавильной печи… А золото все-таки не являлось. К счастью, ящик с ртутью, присланный Беттигером из Варшавы, разбился, и на этот раз безуспешность работы, по крайней мере, могла быть приписана несчастью. Беттигер продолжал сидеть в заточении, сначала в замке Фюрстенберга, после в Кенигштейнской крепости, а затем снова у Фюрстенберга.
Этот заточенный алхимик, эти реторты и колбы, в которых надеялись выплавить золото для войн и маскарадов, этот исповедующийся король, занятый вместе с Фюрстенбергом изготовлением чудесного эликсира, а затем отдыхающий у фавориток — все это составляло характерные черты того времени…
Алхимик давал в своей тюрьме обеды, балы и в течение трех лет стоил королю сорок тысяч талеров…
Когда госпожа Ко́зель попала на место княгини Тешен, знаменитый алхимик содержался в замке, в тюремной башне, окруженной садом, и занимался окончательным вычислением формулы, производящей золото… Ожидания и надежды были огромные. Никто уже не сомневался, что Беттигер наконец откроет свою великую тайну. Впрочем, алхимик предупреждал, что работа его увенчается успехом только в том случае, если имеющее получиться золото не будет обращено на излишества, на безумную расточительность, на бесполезные и опасные войны и тому подобные дурные дела. Он объяснял, что такая чудесная и великая тайна не может служить государю порочному, явному грешнику, нарушающему супружескую верность или напрасно проливающему кровь.
Очевидно, аптекарь этими условиями обеспечивал свою личную безопасность на случай неудачи.
Вечером того же дня, когда Заклик искал покровительства Фрёлиха, придворный шут находился в замке.
Должно сказать, что он желал услужить молодому человеку, который возложил на него такие надежды. Усердно ломал он себе над этим голову, однако, тут уже он был не в своей роли… Для себя он всегда бы нашелся, но о других ему еще никогда не приходилось хлопотать.
Король принимал у графини Ко́зель. Были Фюрстенберг, Фицтум и несколько других из его обычных ночных собутыльников. Госпожи Рейс, Фицтум и Юльхен составляли двор новой королевы.
После ужина Фрёлих начал показывать фокусы, над которыми смеялись. Он представил алхимика, который вместо золота увидел в своей реторте много сору.
Впрочем, это уже не рассмешило короля, напротив, лицо его сделалось даже пасмурно. Графиня Ко́зель слышала кое-что о Беттигере и поэтому обратилась к королю с вопросами о нем. Король неохотно признался ей в своей слабости к алхимии, хотя склонность эту разделяли самые ученые люди его времени.
— Фрёлиху, — шепнул ей король, — позволяется смеяться даже надо мной… и над этим великим делом… Тот, кто точно знает, как делать золото, до сих пор еще не открыл эту тайну… И однажды едва не ушел из наших рук. Однако, теперь он понял наконец, что должен быть послушным… Мы держим его под строгим надзором.
— Ваше величество, — сказал Фрёлих, расслышавший последние слова короля, — пока при этом мастере нет такого сильного человека, который мог бы каждую минуту схватить его за шиворот, такого богатыря, которого он должен бы был бояться, нельзя быть уверенным, что он не убежит. Лучшим стражем его были бы ваше величество… так как только вы одни обладаете силой Геркулеса… Но другого такого человека не было и нет на свете…
— Ошибаешься, Фрёлих — возразил Август, — был и есть. При моем же дворе есть человек, который мне равен по силе.
— Никогда не слышал о нем! — отозвался Фрёлих.
Таким образом Август припомнил Заклика, которого в последнее время упустил из виду.
Наутро он приказал сыскать его и представить ему.
Бедный Раймонд поспешил воспользоваться этим случаем, чтобы просить увольнения от придворной службы. Август отрицательно качнул головой.
— Нет, я тебя не уволю, — сказал он, — потому что теперь ты мне и нужен. Есть у меня сокровище, которое я хочу доверить твоей силе и чести… Отправляйся к госпоже Ко́зель, ты будешь состоять при ней, твой долг будет заботиться о ее безопасности, ходить и ездить за ней и вообще смотреть, чтобы с ее головы не упал ни один волос, хотя бы для этого пришлось тебе пожертвовать своей жизнью…
Заклик не верил своим ушам. Покраснев, он молча поклонился и вышел. Судьба помогла ему лучше Фрёлиха…
Ко́зель изумилась и вспыхнула, увидев Заклика среди своих придворных. Сначала это разгневало ее, но узнав, что он прислан королем, она смолчала.
В тот же вечер король объяснил, для чего послал ей Заклика. На устах прекрасной Ко́зель был уже готов рассказ о лаубегастских похождениях молодого человека, но она, однако, его не передала королю, и Заклик остался на своем новом месте.
Несколько дней спустя Фрёлих, встретив Заклика, начал извиняться перед ним, что все еще не мог устроить дело об увольнении его от придворной службы.
— Ради Бога, господин Фрёлих! — воскликнул Заклик. — Нет, уже вы оставьте теперь ваши обо мне заботы!.. Я доволен теперь своим местом и не желаю его переменять.
IX
Кто же мог бы догадаться, что среди всех этих увеселений и интриг разыгрывалась драма, в которой на долю Августа II выпадала довольно жалкая роль? А между тем это были годы нашествия шведов на Польшу, годы побед Карла XII. После проигранных сражений саксонский король на своем расшатавшемся троне утешался любовными интрижками… Черные глаза графини Ко́зель (она тогда уже получила титул от Иосифа I) вознаграждали несчастного Августа за военные неудачи, и он сыпал золотом на постройку дворца для своей новой любовницы в то именно время, когда ему не на что было содержать столь нужное ему войско.
Среди безумств и пиров рушилось королевство… Развалины не могли, однако, согнуть геркулесовых плеч короля, не могли даже испортить настроение… Саксония истощалась на содержание Польши, в то время когда отпадения последней следовало ожидать с каждой минутой, когда оно было неизбежно.
Между битвами задавались балы и маскарады — возвращаясь в Дрезден, король искал в них забвения от потерь.
Под бальную музыку давались инструкции тайным послам, шпионам и всяким интриганам, тщетно старавшимся приискать Августу II политических союзников.
Огромная сила саксонского геркулеса проявлялась не в одном только закручивании железных полос или ломаньи подков, а более всего в том, что он мог противостоять сыпавшимся на него несчастьям, противостоять интригам, пирам, своим легкомысленным увлечениям и всему царившему вокруг него беспорядку… С поля битвы он возвращался к своей Ко́зель; от нее забегал в кабинет, где читал секретные депеши; вечер проводил на балу; ночь — в попойке. Чтобы при такой жизни, без минутного успокоения, не состариться преждевременно и телом и духом, требовались, без сомнения, исключительные силы, какими и обладал Август II.
С ясным, спокойным лицом показывался он удивленной толпе… Самые тяжелые неудачи не вызывали до сих пор на его лбу ни одной морщинки.
Царствование прекрасной графини Ко́зель, которое, как это предполагали многие, должно было быть непродолжительно, затянулось, однако, на долгие годы. Получив от короля письменное обещание жениться на ней, графиня считала или, может быть, только хотела считать себя хотя и за вторую, но все-таки жену короля Августа II. Этому соответствовало и ее поведение. Ни на одну минуту она не оставляла короля; являлась с ним всюду и всегда; готова была следовать за ним и в дорогу и на войну. Ее не останавливала никакая опасность.
Она хорошо узнала характер Августа и разгадала все нити придворных интриг. Со спокойным умом, с невозмутимой веселостью она развлекала и забавляла короля, управляла им, и с каждым днем власть ее все более усиливалась.
Скоро поняли все, что с Ко́зель теперь никакая вражда несвоевременна. Если легкомысленный король на минуту забывал о ней или, будучи в отдалении, остывал к ней, то Ко́зель умела ускорить свидание с ним и в несколько часов возвращала все свое прежнее влияние.
К счастью, красота ее казалась неувядаемой. Напрасно глаза завистливых женщин ревниво высматривали в ее лице какие-либо следы всеразрушающего времени: графиня Ко́зель точно была одарена вечной молодостью и даже чем далее, тем становилась прекраснее.
В следующем же году король приказал выстроить для нее дворец рядом со своим замком.
Это было в своем роде чудо зодческого искусства. Называли его «дворцом четырех времен года». Для каждого из этих времен были особые комнаты. Прохладные — на лето и теплые, веселые и солнечные — на зиму. Первые были отделаны мрамором, другие устланы коврами. Стены и мебель сияли позолотой, китайским лаком, шелком, кружевами и всем, что только было прекрасного и дорогого в то время в Европе.
Войско не получало жалованье, но дворец был чудесный!..
Двери его открылись блестящим балом, и графиня Ко́зель, вся осыпанная бриллиантами, с победным взором в чудных глазах, прекрасная, как богиня, протянула в знак признательности свою белую руку тому, кого называла уже мужем. Легкомысленный Август хотя и теперь продолжал позволять себе иногда некоторые грешки, однако, в Ко́зель был влюблен, как ни в кого прежде. И она того стоила, она была полна очарования, и все иностранцы, видевшие графиню Ко́зель на высоте ее счастья и величия, говорили о ней с величайшим восхищением.
С невероятным искусством она распространяла свою власть, находила друзей, завязывала отношения; но, конечно, при всем этом не могла избавиться от неприязни, зависти и опасения тех, которые страшились ее возникающего могущества. Но час враждебных действий против той, которая была возведена к трону на место боязливой, спокойной и кроткой княгини Тешен, еще не пробил…
Каждый день был для графини Ко́зель новым триумфом. Напрасно духовенство, огорченное явной привязанностью к ней короля, следуя также тайным подстрекательствам некоторых из придворных, гремело со своих кафедр против «обольстительной Вирсавии». Случилось даже, что Гербер, знаменитый проповедник того времени, так прозрачно обрисовал графиню Ко́зель, что в церкви поднялся шепот, в котором ясно слышалось ее имя.
Целый тот день в городе только и говорили о Ко́зель-Вирсавии. Вечером донесли об этом любовнице короля. Август, пришедший к ней веселый, застал ее в слезах.
— Что с тобой, мое несравненное божество? — воскликнул он, схватив ее руку.
— Прошу о справедливости, государь! — начала она. — Ты говоришь, что любишь меня… Если бы это было так… если бы на самом деле принадлежало мне твое сердце… ты бы защищал меня, несчастную… Меня публично поносят.
— Но что же случилось? — спросил обеспокоенный король.
— Требую наказания Герберу!.. Надо в его лице дать пример для дерзких, которые не умеют уважать твои сердечные чувства!
Она опустилась перед королем на колени.
— Гербер в своей проповеди выставил меня Вирсавией!
Король усмехнулся.
— Но я не такая… и не хочу быть такой… Я законная жена тебе… Мой государь!.. Накажи Гербера!.. Покажи пример… — умоляла, обнимая короля, Анна.
Однако, на этот раз Август не принял к сердцу обиды графини Ко́зель.
— У священника, — отвечал он, — только один час в неделе, когда он может говорить все, что ему вздумается. Против этого я решительно ничего не могу сделать… Вот если бы он шепнул хотя бы одно лишь словечко, сойдя с амвона, другое дело… Тогда он получил бы, что следует. Но там, где его защищает алтарь, я ничего не могу сделать.
Гербер остался без наказания, но зато и история о Вирсавии более уже не повторялась.
Любовь короля Августа II к графине Ко́зель выросла одновременно со страшными боевыми поражениями, которыми отмечены в истории Саксонии эти годы… Дикий Карл XII, с коротко остриженными волосами, в огромных, выше колен, сапогах, не знавший сострадания солдат, по каким-то несправедливостям судеб утеснял прекрасного короля, щеголявшего в бархате и кружевах и выезжавшего гарцевать против него в отделанных золотом военных доспехах…
Рассказывали о баснословных делах шведского героя. Август слушал и молчал. Саксонцы, насильно согнанные в полки, давали себя бить и разбегались. В Польше, минуя Флеммингов, Пшебендовских и Дембских, тоже слабело очарование великолепнейшим из европейских монархов, который с замкнутыми устами помышлял только о том, как бы унести целыми из опасной игры свои собственные кости.
Прежняя любовница Августа II графиня Кенигсмарк была отправлена к шведскому королю с секретным поручением, но Карл XII не захотел даже говорить ни с ней, ни с кем-либо другим… Счастье с каждым днем все более оставляло Августа II. Беттигер золота не вываривал; Гойм затруднялся доставать его; а между тем для графини требовались миллионы… Народ, не желая идти на войну, уходил в горы. Герберы с амвонов кричали о грабеже и насилии… Наконец дворянство, самое покорное на всем белом свете, тоже не желало, однако, позволять драть с себя шкуру.
Часто бедный король приходил в самое худое расположение духа… Но это продолжалось недолго. Ко́зель ему улыбалась, и он был утешен… По вечерам обыкновенно четыре части света танцевали кадриль во «дворце четырех времен года»: Август с графиней Ко́зель представляли в этой кадрили Азию…
Прежние приятельницы графини скоро стали ей подозрительны, а затем и ненавистны. Графини Рейс, Юльхен и даже ловкая Фицтум получили отставки. Ко́зель не хотела союзниц, она не нуждалась в них. Она считала себя достаточно сильной, могущественнее всех.
Двор представлял собою что-то суматошное: все интриговали, ссорились, рыли друг другу ямы. Только один Фицтум продолжал пользоваться милостивым расположением государя и государыни. Он не занимался политикой, не добивался никаких высоких назначений и любил короля, как брата.
Судьба, перемены которой ожидали ежеминутно, надеясь, что она должна была наконец утомиться в преследовании великолепнейшего из монархов, не менялась и не давала ему ни минуты отдыха… Швед разбивал войска Августа и грозил уже сбросить самого его с престола; Август, как мог, оборонялся и в то же время забавлялся, и как ни в чем не бывало, заводил то тут, то там маленькие интрижки.
Но вот вдруг все охоты, пирушки, маскарады, балы и театры разом оборвала ужасная весть о быстром приближении шведов к самой Саксонии. Карл XII гнал неприятеля в самое гнездо его… Поднялась страшная тревога.
После поражения при Фроденштадте в Саксонии появились бродячие толпы рассыпавшихся беглецов; их хватали, вешали и расстреливали за неисполнение воинского долга. Всюду царила полная неурядица. 1 сентября шведы показались в самой Саксонии. Август издал повеление своим подданным укрыться со всем их достоянием в горах, но это было уже поздно: Карл XII во главе двадцатитысячного войска вторгся в страну и шел вперед, обещая всем безопасность жизни и имущества. Обороняться не было никакой возможности, шведы разлились по всему краю…
Остатки разбитых войск Августа II, горсть саксонцев уходили все далее к Вюрцбургу. Дрезден, где начальствовал Синцендорф, и крепости Кенигштейн и Зонненштейн, имевшие еще саксонские гарнизоны, надеялись удержаться, но и эта надежда представляла мало ручательства.
Вместе с Карлом XII прибыл и новый король Польши — Станислав Лещинский.
Из Дрездена бежало почти все его население… Королева уехала на свою родину; ее мать вместе с внуком — в Магдебург, а оттуда в Данию. Из Липска, нынешнего Лейпцига, страх грабежа выгнал также почти все население, но благодаря ручательствам Карла XII, ярмарка, однако, кое-как состоялась.
Карл созвал в Липске саксонский сеймик, чтобы вытребовать через него контрибуцию. Дворянство, желая избавиться от этого налога, представило шведскому королю, что оно, исключая обязанности выезжать на коне, во время войны никаких других повинностей не знавало.
— Прекрасно! — отвечал Карл. — Но где же вы сидели на своих рыцарских конях? Я вас не видел в поле. Если бы вы как дворянство исполняли свою обязанность встречать опасности на коне, то ведь меня теперь здесь не было бы. Нет, я кое-что знаю, когда на дворе шли балы да пиры, все вы, господа дворяне, были там… А когда явилась необходимость защищать родину, вы сели по домам. Это, господа, худо, и за то я с вас именно и требую контрибуцию. Я хочу, чтобы другие были от нее свободны, и надеюсь, что вы, благородное дворянство, позаботитесь, чтобы это было так, как я хочу, по указанию справедливости.
Альтранштадтский трактат об отречении Августа от польской короны в пользу Станислава Лещинского был подписан в 1706 году; а между тем в Польше еще продолжалась война: Август II отказывался признать то, что сам подписал… Он объяснял, что посланные для заключения мирного договора Имгоф и Пфлуген превысили данные им полномочия… Чтобы все это имело вид правды, король Август II засадил своих послов в тюрьму. Но все это уже не помогало, и Август ради сохранения остатков своего земного величия все-таки должен был подписать трактат. После он опять отрекался от него, но Это уже вызвало к нему только справедливое презрение всего света… Падение его было самое глубокое; особенно низко роняла его выдача Паткуля. Август и сам чувствовал и сознавал, что ему трудно подняться.
Шведы, несмотря на обещание оставить Саксонию тотчас по заключении мира, оставались там еще целый год. Карл XII как торжествующий победитель принимал здесь послов от всех немецких государей и короля английского. Август, разбитый в Польше, выиграв сражение под Калишем, немного оживился надеждой и снова призывал под свои знамена дворянство; но скоро, однако, принужден был оставить Варшаву и Краков и вернуться в Саксонию…
Во все время этих военных неудач Августа графиня Ко́зель сопровождала короля повсюду и была с ним на войне; она испытывала все неудобства походной и боевой жизни и прежде его возвратилась в смущенный и недовольный Дрезден. Такова была воля короля. Ко́зель даже хотела лично сражаться и умоляла позволить ей стать в ряды в мужском платье, но Август отклонил это, ответив, что из двух лучших его драгоценностей, короны и Ко́зель, он желает сохранить и видеть в безопасности хотя бы одну.
Заклику, ни на шаг не отстававшему от своей повелительницы, король поручил отвезти ее в Дрезден, что и было исполнено совершенно благополучно. Графиня возвратилась в столицу весьма расстроенная, что, однако, не помешало ей тотчас по приезде в Дрезден захватить всю власть в свои руки: она вдруг стала распоряжаться всем, как настоящая королева. Все это, разумеется, не нравилось ни Фюрстенбергу, который оставался здесь наместником, ни всем другим, кому король вверил какую-либо часть государственного управления; но делать было нечего, и слабые государственные люди не перечили смелой фаворитке, а только втайне увеличивали собою число ее врагов.
Среди всех войн и сопровождавших их тяжелых неудач Август нимало не изменился: он терял королевства, но покорял сердца, и это ему еще не наскучило.
Сильная страсть к Ко́зель жила еще в сердце короля, но однако, как только он отдалялся от графини, старые привычки брали свое: злосчастный, униженный и побежденный, он теперь более чем когда-нибудь нуждался в забавах… А придворные, которым Ко́зель была страшна, всячески старались способствовать всему, что могло охладить к ней Августа. Анне доносили об этом, но она, слишком полагаясь на свое обещание, всем этим пренебрегала. Узел, который связывал ее с королем, окреп еще появлением на свет двух дочерей… Гордая Анна была убеждена, что другой, ей подобной, Август никогда не найдет.
А между тем, во время пребывания ее в Варшаве, сердце недаром говорило ей, что она была обманута… Король украдкой от нее завязал отношения с дочерью одной француженки-купчихи, лавку которой часто посещали офицеры. Узнав об этом, Анна грозила Августу пустить ему из пистолета пулю в лоб, но король над этим только посмеялся и, целуя ее ручки, скоро сумел ее успокоить.
По возвращении своем в Дрезден графиня Ко́зель, неспокойная за короля, находила утешение в кругу своих обожателей, которых у нее никогда не убывало, хотя она ни одного из них не удостаивала особым вниманием.
Подписав, при громе орудий, мирный договор, или лучше сказать, позор свой, Август II возвратился в столицу и, как вышел из экипажа на дворцовой площади, прямо отправился к графине Ко́зель.
У дверей ее апартаментов король застал верного Заклика, — опираясь на ручки кресла, молодой человек сидел, погруженный в глубокую задумчивость. Увидев короля, Заклик сорвался с места и заступил ему дорогу.
— Ваше величество, графиня больна… Доктор с минуты на минуту ожидает… появления на свет…
Слегка оттолкнув его, король прошел в комнаты графини. Здесь царила глубокая тишина… У самых дверей Август услышал детский крик.
Анна, бледная, как мрамор, измученная страданиями, от слабости не в силах вымолвить слова, протянула руку, указывая на дитя, которое держала тут же старушка. Король взял ребенка… назвал его своим и поцеловал… Потом он подошел к кровати больной, сел и закрыл лицо руками…
— Анна, — заговорил он, — дела так изменились, что свет отвернулся от меня и меня презирает… И ты перестанешь любить меня… Счастье меня совсем оставило… Я ограблен, разбит и лишен всего…
— Мой милый Август, — отозвалась тихо Анна, — мой бедный, несчастный Август! Будь покоен… Если бы на тебя даже надели кандалы, то я и тогда все-таки буду любить тебя… Даже, может быть, еще более…
— Ах, я так нуждаюсь в этом утешении! — с грустью говорил король. — Неприятель и здесь теснит меня… Этому ничтожному моему победителю поклоняется весь свет. Право, я самый несчастный из монархов!..
В таких жалобах прошел первый час пребывания короля в Дрездене. Больная требовала спокойствия; а королю не могли дать его сбегавшиеся со всех сторон военные начальники и чиновники. В коридорах, которые вели из замка во дворец, Август застал Флемминга, наместника Фюрстенберга, Пфлуга, Гойма и целую толпу других придворных. Все, пораженные ниспавшими на Саксонию несчастиями, искали в лице короля какого-либо знака глубокой печали, тяжелых внутренних страданий… Но он казался лишь несколько утомленным…
15 декабря 1706 года Август вернулся в Дрезден, а день спустя уже выехал верхом в сопровождении Пфлуга и одного слуги в Липск. Затем, еще день спустя, он сам отправился к Карлу XII, уверенный, что, благодаря своей собственной великолепной и величественной наружности, он выговорит у победителя наилучшие условия мира.
Карл XII, узнав, что к нему едет саксонский король, пожелал быть любезным и выехал навстречу, но в дороге два короля разъехались. Август, прибыв в Гюнтердорф, где находился граф Пипер, узнал, что в Альманштадте, в расстоянии получаса езды, шведского короля нет.
Военный стан и двор сурового, остриженного Карла XII не могли не показаться странными щеголеватому Августу II.
Монархи встретились на лестнице. Вероятно, никогда два столь противоположных характера не отражались с такой ясностью в их внешнем виде. Карл XII выглядел пуританином, саксонец — придворным Людовика XIV.
Заклятые враги приветствовали друг друга весьма любезно. У порога дверей они церемонно заспорили, кому войти первому: оба долго кланялись, и Карл XII все-таки пропустил побежденного вперед. Тут начались самые трогательные поцелуи и пожатия рук, а затем последовал разговор, продолжавшийся около часа. Никто не слышал его, но Август вышел бледный и нравственно истерзанный.
День, проведенный им у Карла XII, был одним из тяжелых дней его жизни.
Утром молчаливый Август возвратился в Липск, где вскоре, как этого требовал этикет, Карл XII отдал ему визит. Но все это закончилось ничем: в условиях мирного договора не произошло никаких изменений.
Наступающий новый год тяжело начался для Августа II. Его мучило присутствие шведов в Саксонии. Он хотел избавиться от них хотя бы ценою огромных жертв.
Между Альманштадтом, Морицбургом и Липском в хлопотах о подписании трактата Август пережил дни страшного унижения.
Саксонский король в богато вышитом золотом платье, в тщательно завитом парике, осыпанный драгоценностями, а рядом Карл XII, с коротко остриженной головой, в синем суконном мундире со стальными пуговицами, в сапогах выше колен и в лосиных штанах, — представляли назидательное зрелище… Встречаясь, они обменивались взаимными любезностями, но Карл XII не допускал разговора о политике, о делах, — о них ведали у него Пипер и Цедергольм. Между прочим, Карл XII уверял саксонского короля, что он уже лет шесть не снимал своих длинных сапог, все времени не хватало… Август усмехался.
Карл XII ни разу не принял приглашения к обеду в Липск. Что касается Августа, то хотя ему не приходилась по вкусу спартанская похлебка шведа, однако, он обедал у Карла. За столом шведа никто не произносил ни слова: ели в полном молчании.
По подписании трактата короли несколько месяцев не виделись. Карл XII все еще не думал оставлять Саксонию. Чтобы забыть свои беды, Август охотился, предавался обаянию любви и путался в придворных интригах.
Его двор по-прежнему был блестящий. Карл XII неустанно производил своим войскам смотры — Август II задавал балы. Его спокойствие и роскошные сны отравлял только Фюрстенберг, тогдашний наместник его в Дрездене.
Об этом последнем, сделавшемся врагом Анны Ко́зель, следует сказать несколько слов. При дворе Августа II, состоявшем более всего из иностранцев или немцев из разных соседних государств, что имело целью устранить влияние саксонского дворянства, Фюрстенберг действительно выделялся довольно резко. Прибыл он из Австрии. Ревностный католик, он не отличался ни великим характером, ни особенными способностями, но был смел и весел. Он обладал громким голосом, остроумием и даром рассказывать королю самые неприличные истории. Фюрстенберг разыгрывал роль магната и аристократа, а более всего был занят скрытой борьбой со своими врагами и плетением все новых и новых интриг. Верный графине Рейс, он был ее орудием. И таким образом князь, предназначенный к тому, чтобы угнетать саксонское дворянство, сам того не заметив, попал в полное распоряжение последнего.
Сменив княгиню Тешен, Ко́зель весьма скоро освободилась от всяких пут госпожи Фицтум и Рейс, вместе с кружком последней. Она находила, что не может особенно нуждаться в них, и не захотела им служить. Охлаждение и прекращение отношений было сигналом для начала войны.
В отсутствие Августа шпионили за каждым шагом Анны; передавалось каждое ее слово и пересуживалось каждое ее распоряжение — для того, чтобы позднее восстановить против нее короля. Но час нападения еще не настал, и возвращение Августа в Дрезден было полным торжеством для графини Ко́зель.
Однажды утром король сидел у графини. Она не встала еще с постели и требовала, чтобы Август находился постоянно около нее. Доложили, что из Варшавы получены важные депеши, там Август имел еще приверженцев. Король хотел было выйти, но графиня пожелала, чтобы пришедший с депешами министр Бозе был принят в ее спальне. В этом не было ничего необыкновенного; деспотическим желаниям графини, которые она высказывала всегда весьма горячо и неожиданно, король уступал.
Явился Бозе.
Из трех сановников того же имени, служивших при дворе Августа, Бозе, вошедший теперь в спальню графини, был старший и, как говорили, «умнейший из Бозе».
Сначала он засвидетельствовал свое глубокое почтение его величеству, изогнувшись при этом настолько, что Август мог обозревать один его парик, который, к слову, не принадлежал к числу самых красивых. Таким же поклоном приветствовал он прекрасную больную. Окутанная пуховыми и кружевными покрывалами, Анна походила на белую розу на снегу.
В руках у Бозе были бумаги.
— Весьма нужные, из Варшавы! — тихонько шепнул он королю.
Август отошел с ним к окну. Ко́зель не спускала с них глаз. Она пытливо смотрела в лицо короля, стараясь прочитать на нем, что заключалось в бумагах… Двумя тонкими, костлявыми пальцами, выглядывавшими из накрахмаленных манжет, почтительно подавал Бозе королю конверт за конвертом. Сначала все шло как следует: это были солидные, объемистые пакеты с большими печатями; но вот Бозе, шепнув что-то королю, подал ему небольшой конвертик, вскрыв который, Август усмехнулся и, покраснев, невольно покосился на Ко́зель.
Анна это заметила и, приподнявшись, села на кровати.
— Что это за письмо? — спросила она.
— Это письмо?.. Так себе, простое письмо о делах в крае, — отвечал Август.
— Покажите мне это письмо!
— Это совершенно лишнее, милая Анна, — отозвался король, продолжая читать.
Лицо Ко́зель вспыхнуло, и она, забыв о присутствии почтенного старичка Бозе, в одной рубашке соскочила с кровати и вырвала письмо из рук Августа.
Бозе только отскочил и зажмурился.
Король смешался и взглянул на Бозе, который стоял, точно он ничего не видит и не разумеет, между тем как графиня Ко́зель, прочитав письмо, в ужасном гневе разорвала его на мелкие клочки. Письмо было от Генриетты Дюваль, с которой Август, обманывая Ко́зель, завел в Варшаве связишку. Письмо это заключало в себе уведомление о рождении Генриеттой дочери, впоследствии знаменитой графини Оржельской. Бедная мать спрашивала своего обожателя, что ей делать с этим ребенком.
— Пускай бросит ее в воду! Пускай утопит ее! — крикнула Ко́зель. — Так же, как я утопила бы ее саму, если бы только могла.
Король засмеялся. Анна начала плакать… Бозе понял, что пришел совсем не вовремя, с низкими поклонами отступил к дверям.
— Анна! Ради Бога, успокойся! — просил король, подходя к кровати.
— Как!.. Ты, кому я отдала все… посвятила всю жизнь… которому я жена… да, жена… кого я так люблю… смеешь изменять мне… обманывать?..
Это был не первый взрыв ревности Анны, он повторялся после каждого волокитства Августа, и Ко́зель не давала ему покоя, пока король не выпрашивал у ног ее прощения, обещая исправиться.
На этот раз умиротворить графиню Ко́зель было трудно. Напрасно целовал Август ее ручки.
— Но чего же наконец ты хочешь от меня? — воскликнул он.
— Если ты хоть одним словом ответишь этой негодной, если дашь ей хоть малейший знак внимания, — крикнула Ко́зель с возрастающим гневом, — то, клянусь тебе, я немедленно возьму почтовых лошадей, поеду в Варшаву и убью… и мать и дочь…
Король должен был обещать честным словом, что не будет отвечать Дюваль, забудет о ней и предоставит эту жертву его легкомысленных склонностей ее собственной судьбе.
Так окончилась эта сцена, о которой Бозе никому не упомянул ни словом, потому что никто более его не боялся прогневить всемогущую «государыню». Его политика заключалась в том, чтобы продвигаться вперед тихо и такими дорогами, где никто не мог ни выследить, ни подстеречь его. Многие считали его за простодушного старичка, потому что он говорил мало и показывал, что ничего не знает.
X
Об утренней сцене, вероятно, никто бы не узнал, если бы этого не рассказал сам король. Он сам, сидя вечером в небольшой компании, собравшейся у него в малой придворной столовой «запивать шведа», после нескольких бокалов сказал, шутя, Фюрстенбергу:
— Ужасно жаль, что сегодня утром не ты вместо старого Бозе пришел с бумагами из Польши! Уж надеюсь, ты бы помирился с Ко́зель, если б увидел ее в том наряде, в каком она представлялась сегодня старику.
— Что ж это было? — спросил Фюрстенберг. — Ведь графиня не встает еще с кровати?
— Вот потому-то она и соскочила с нее как лежала, в одной рубашке, и устроила мне страшную сцену за бедную Генриетту. Я думаю, на свете нет женщины ревнивее. Право, я не удивлюсь, если она когда-нибудь в припадке ревности исполнит свою угрозу застрелить меня. Она не расстается с пистолетом.
Фюрстенберг потихоньку обвел глазами всех присутствовавших и, удостоверясь, что между ними нет ни одного из тайных друзей Ко́зель, а напротив, все ее недруги, отвечал:
— Что графиня так ревнует ваше величество, это, конечно, никого не удивляет, но мне кажется, при этом графиня Ко́зель и сама должна бы, по крайней мере, не давать повода ни к каким подозрениям и ревности.
Король медленно поднял голову и, сдвинув брови, холодно произнес:
— Мой любезный Фюрстенберг, кто говорит что-нибудь подобное, тот, конечно, должен заранее хорошенько взвесить свои слова и пораздумать о последствиях… Ты, конечно, сам понимаешь, что на том, что тобой сейчас сказано, останавливаться нельзя. Прошу тебя объяснить мне, как должно понимать твои намеки?
Князь снова оглянул собеседников и отвечал:
— Это в порядке вещей, государь: уж если у меня вырвалось это слово, то я не могу оставить недомолвки… Впрочем, ведь не я один, а все мы здесь смотрели на поведение графини в отсутствие вашего величества. Спросите кого угодно о том, как веселилась здесь графиня… Дворец ее всегда был полон гостей, между которыми было множество обожателей, из которых не у всех было равное счастье. Старший граф Лехерен, например, пользовался, конечно, некоторой особенной благосклонностью графини: он почти никогда не оставлял ее и частенько уходил от нее около полуночи, иногда вместе со своим братом, а иногда и совсем один.
Эти два графа Лехерен несколько месяцев назад приехали в Дрезден искать счастья при саксонском дворе. Старший был очень красив собой, с чисто королевской осанкой, человек недюжинного ума и образования. Младший, мало в чем уступавший своему брату, был мальтийский кавалер и предназначал себя к духовному сану. Двор уже видел в них опасных карьеристов, так как король весьма охотно окружал себя иностранцами, и поэтому Фюрстенберг захотел сделать их подозрительными в глазах короля, чтобы этим сразу повредить и Ко́зель и выжить из Дрездена старшего Лехерена, выдающиеся способности которого могли открыть ему дорогу.
Август выслушал все это совершенно равнодушно, но и Фюрстенберг и все присутствовавшие, зная, как король умел не выдавать своих впечатлений, все-таки видели, что пущенная Фюрстенбергом стрела попала в цель и нанесла рану.
— Все ты это вздор говоришь! — проговорил Август. — Это тебе просто-напросто диктует твоя злоба к Ко́зель. Ты знаешь, что она тебя не жалует, так вот и ты ей платишь тем же. Что же такого, что она принимала гостей? Неужто, по-твоему, она должна была без меня мучить себя тоской в четырех стенах? Ей было нужно развлечение, а Лехерен приятен и остроумен, вот и все.
— Государь! — возразил простодушно наместник. — Во всяком случае, то, что я сболтнул, сорвалось у меня совершенно невольно. Я ведь не донос делаю… Я пользуюсь милостивым расположением вашего королевского величества, и благосклонность графини для меня уже менее драгоценна; но как преданный ваш слуга я, конечно, скорблю, видя с вашей стороны такую преданность и сильную любовь, а с другой — такую неблагодарность.
Август нахмурился и, не тронув стоявшего перед ним бокала, встал с места.
По впечатлению, произведенному всем этим на короля, Фюрстенберг понял, что его затея проиграна.
Когда Август желал избавиться от какой-нибудь из своих фавориток, он бывал рад предлогу приревновать и даже сам подсылал к ним своих придворных, чтобы спровоцировать и обвинить в неверности, но сейчас его волнение показывало, что к Анне Ко́зель он еще неравнодушен.
В этот же день графиня совсем встала на ноги.
Не желая более продолжать вечерний пир, Август кивком головы распрощался со своими гостями и вышел в кабинет.
Фюрстенберг и придворные расстались с королем в изрядной тревоге за то, как все это разыграется.
Случилось, однако, что весь этот застольный разговор был подслушан самым преданным Анне Ко́зель человеком, именно Закликом, которого графиня послала к королю с запиской. Не смея прерывать пирушку, Заклик, имевший свободный к королю доступ, выжидал за большим буфетом удобной минуты, когда ему можно будет передать королю конвертик. Тут он и услышал, что Фюрстенберг рассказывал о Лехерене.
Опасность, угрожавшая Анне, придала Заклику находчивости и смелости. Он решил, что ему теперь отнюдь не должно показываться его величеству, и потому, не отдавая ему записку, осторожно выбрался из столовой и, побежав назад, домой, постучался в спальню графини.
Ко́зель хорошо знала преданность Заклика. Поэтому, когда он вошел к ней с бледным лицом, она тотчас же поняла, что случилось что-то необыкновенное, и, вскочив с места, воскликнула:
— Что такое? Говори скорее, что случилось с королем?
— С королем ничего не случилось, — отвечал Заклик, — и я, быть может, виноват, что позволил себе вернуться… Но то, чему я был свидетелем, то, что я слышал… мне кажется, я должен был все это сейчас же сказать вам…
И вслед за тем он торопливо, дрожащим голосом передал Анне, слово в слово, весь разговор Фюрстенберга с королем. Графиня Ко́зель выслушала его с пылающим лицом; это ее оскорбило и взволновало. Она взяла из рук Заклика свою записку и отослала его. Сама не зная для чего, она оставила спальню; Анна прошла в огромную залу. Хотя в тот вечер не было никакого приема, однако, зала была освещена, как обычно. Стены ее были увешаны портретами Августа II и картинами, представлявшими разные сцены из его жизни. На одной из них была представлена его коронация.
Графиня Ко́зель остановилась на минуту перед этой картиной, как вдруг до ее слуха долетели знакомые шаги. Это шел Август. Он был, очевидно, очень взволнован и, увидев графиню, заговорил с иронией:
— Вот чего я никак не ожидал: графиня Анна Ко́зель смотрит на мое изображение!
— Что же тут удивительного, государь? — ответила спокойно графиня. — Мне кажется, гораздо удивительнее было бы, если бы Анна Ко́зель смотрела на чье-нибудь иное изображение.
— Да, да, — перебил ее дрожащим, нервным голосом король, — до сих пор я этому верил! Я думал… я полагал… Но наружность бывает обманчива, а причуды женщин непонятны…
Голос короля и очевидный гнев его обрадовали Анну. Она видела, что им овладела ревность, доказывавшая, что в его сердце жила любовь к ней. Однако, графиня прикинулась оскорбленной.
— Я не понимаю вас, государь! — с достоинством сказала она. — Что значат эти темные слова? Не думаю, чтобы я могла дать какой-нибудь повод к ним! Не будете ли вы милостивы говорить яснее? Тогда я, по крайней мере, буду знать, в чем мне оправдываться или чем доказывать свою невинность.
— Оправдываться? Доказывать свою невинность? — резко прервал король. — Нет, есть дела, в которых нет оправдания! Вот такие-то дела вы и надеялись от меня скрыть?! А между тем я имею доказательства…
— Доказательства?! Против меня?! Что такое? Во сне или наяву я это слышу? Мой Август, будь добр, рассей эти грезы! Говори скорее, давай сюда твои доказательства!
И с этим она подошла к нему и обняла его шею. Август хотел отстранить ее, но она в это время зарыдала. Это произвело свое действие, и Август начал смягчаться. Анна усадила его рядом с собой и заворковала:
— Мой Август, объясни же, что тебя так рассердило? Что вызвало твой гнев и подозрения? Ты видишь, что со мною делается… Я с ума схожу!.. Скажи мне!.. Открой!.. Или я стану думать, что ты вовсе уже не любишь меня, а ищешь только предлога, чтобы избавиться от меня!
— Хорошо, — сказал Август, — если ты непременно все хочешь знать, изволь, я скажу тебе все… Я сейчас из замка, где разговаривал с Фюрстенбергом…
— А! С Фюрстенбергом!.. В таком случае, я ничему не удивляюсь, это мой враг!
— Да, но Фюрстенберг сказал мне, что весь город знает о ваших отношениях с Лехереном.
— С Лехереном! — воскликнула, смеясь, Ко́зель.
— Да, да, именно с Лехереном! Говорят, что он даже не давал себе труда скрывать свое чувство к вам! Говорят, что в мое отсутствие вы принимали своего возлюбленного каждый день и что он просиживал у вас целые вечера! Даже некоторые видели, как он…
Лицо Ко́зель приняло холодное, гордое выражение оскорбленной женщины.
— Довольно! — сказала она. — Довольно! Все это правда, Лехерен действительно влюблен в меня, но я смеялась над этим и смеюсь. Он забавлял меня и только… Слушая его, я потешалась над ним… Не думаю, чтоб это была очень большая вина. Или ваше величество полагаете, что достаточно полюбить меня, чтобы быть любимым мною?.. Но, впрочем, все это вздор, а вот что ужасно, — продолжала она, заплакав. — Ужасно, что Фюрстенбергу довольно было бросить в меня одно злое слово, и оно уничтожило в вас всякое ко мне доверие!
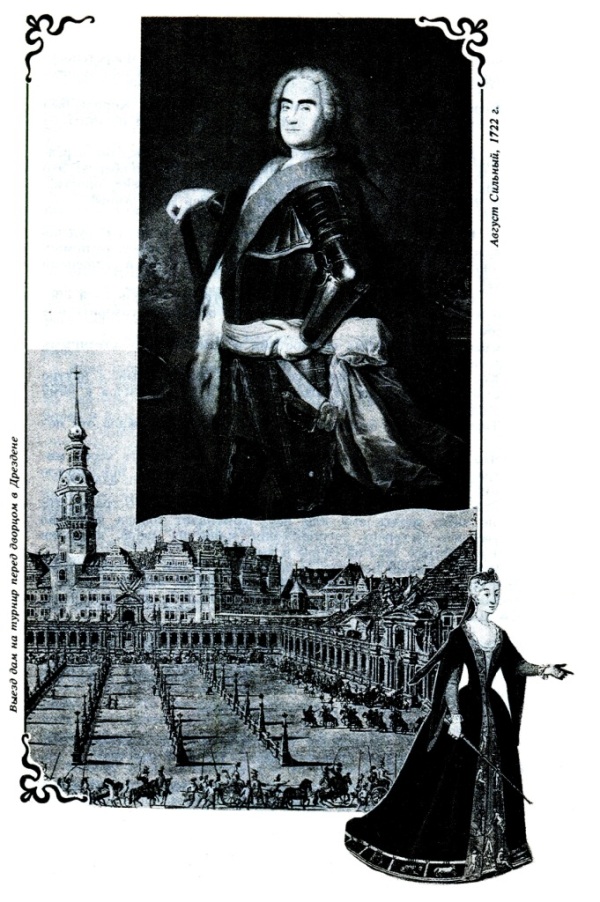
Выезд дам на турнир перед дворцом в Дрездене
Август Сильный, 1722 г.
Ко́зель упала на софу и закрыла глаза руками. Король был уже укрощен. Он стал перед ней на колени и начал целовать ее руки.
— Анна, прости меня! — воскликнул он. — Не был бы я ревнив, если бы не любил тебя! Знаю я этого Фюрстенберга! Это правда, что он ядовитейшая змея. Но прости же меня, прости!.. Я не хотел, чтобы даже подозрения касались моей Анны!
Но графиня все-таки не переставала плакать.
— Король, — говорила она, всхлипывая, — если ты будешь потворствовать клеветникам… и приближать их к трону, то помни, что они не кончат мною… Язык их не пощадит и твоей священной особы!
— Будь спокойна, будь спокойна! — отвечал король. — Я обещаю тебе, что с этих пор никто более не осмелится говорить мне о тебе.
Сцена эта кончилась нежностями и самыми торжественными уверениями в любви с обеих сторон.
Король вернулся в замок совершенно успокоенный, а наутро заметно отворачивался от Фюрстенберга и не обратился к нему ни с одним словом.
Таким образом, благодаря Заклику, Ко́зель одержала эту победу.
Что же касается графа Лехерена, то ему Август через министра своего двора приказал немедленно оставить придворную службу и выехать из Дрездена.
Это распоряжение настолько ошеломило молодого графа, что он не знал, верить ему или нет. Комендант города приказал подтвердить Лехерену распоряжение министра двора, назначив двадцать четыре часа на сборы и выезд.
Встревоженный Лехерен, не зная ничего о том, что произошло, поспешил во дворец к графине Ко́зель. Заклик явился к Анне с докладом о графе. Ее это несколько смутило, и она, покраснев, отвечала Заклику:
— Передайте графу, что я не могу принимать тех, кому запрещено показываться королю. — И затем, понизив голос, добавила: — Скажите тоже, впрочем, что я сердечно сожалею о его отъезде и…
Она сняла с пальца перстень, который незадолго перед тем подарил ей король:
— Отдайте графу от меня этот перстень!
Заклик побледнел.
— Графиня! — осмелился он отозваться сдержанным голосом. — Соблаговолите простить меня!.. Но этот перстень от короля…
Ко́зель, не терпевшая никаких противоречий, повернулась к нему с гневным лицом и, топнув ногой, сказала:
— Без замечаний! Делайте, что вам приказано!
Заклик вышел, но тотчас за дверями остановился и что-то соображал… Незадолго перед этим при саксонском дворе гостил богатый чешский граф и подарил Заклику дорогой перстень. Этот подарок был как нельзя больше похож на тот перстень, который Заклик теперь нес от Ко́зель графу Лехерену. Особенное предчувствие, что из-за этого перстня может выйти история, подсказало Заклику мысль подменить перстень, отдать свой и сберечь подарок Ко́зель, на всякий случай, себе. Он так и сделал: свой перстень отдал Лехерену, а перстень Ко́зель спрятал у сердца.
После этого прошло четыре дня, и на пятый король вздумал посетить графиню: он вошел к Ко́зель в ее будуар, когда она одевалась, и, ревниво оглядев ее руки, сразу заметил, что на них не достает перстня, с которым Анна до сих пор обычно никогда не расставалась.
— Где мой перстень с изумрудом? — спросил запальчиво король.
Анна с большим присутствием духа, начала беспокойно искать кольцо в своем рабочем столике, на паркете и по всей комнате, но перстня, разумеется, не было. Между тем лицо короля все более и более покрывалось краской.
— Однако, что же это значит?
— Что такое?
— Куда мог деться этот изумруд?
Ко́зель пожала плечами и обратилась к служанке, но та отвечала, что она уже четыре дня не видит этого кольца на руке графини.
— Четыре дня!.. Как раз четыре!..
Август рассчитал, что это точно совпадало с отъездом графа Лехерена, а о том, что изгнанный красавец приходил прощаться с Ко́зель, Август, конечно, отлично знал.
— Гм!.. Да… так его уже четыре дня нет! Ну так и не ищите его более напрасно! — сказал насмешливо король. — Я, может быть, мог бы вам и сказать где он, но… не нужно!
Ко́зель немного смешалась, король рассердился. Графиня готова была упасть в обморок, как вдруг кто-то постучался в двери, и прежде чем Анна обернулась, на пороге показался Заклик.
— Прошу милостиво простить мне, что я прихожу сюда! — начал он. — Но мне сказали, что ваше сиятельство изволите искать ваш перстень. Вот он! Час тому назад я нашел его возле вашего рабочего столика и ждал удобной минуты, чтобы подать вам.
— Подай! — воскликнул король и взял перстень.
Ко́зель даже не взглянула и не уронила ни одного слова, но когда Август передал ей перстень, она молча надела его на палец и, взглянув негодующим взглядом на короля, вышла в другую комнату.
Для успокоения Августа ничего другого не требовалось, теперь он готов был умолять графиню о прощении и, получив его не без некоторого труда, провел потом весь день безвыходно у своей возлюбленной.
Случай этот укрепил доверие Августа к Анне и усилил ее власть над ним. Враги должны были притихнуть.
После полуночи король прошел переходами в свой кабинет для совещания с ожидавшими его там министрами. Карл XII тяготил своим присутствием несчастных саксонцев и не скрывал своего неуважения к Августу. Молодой завоеватель, которому было тогда всего с небольшим двадцать лет, представлялся всем чем-то вроде Аттилы, святотатственно посягающего на просвещенную жизнь культурного края.
Между тем, чуть король удалился заниматься делами, сияющий на пальце у графини изумруд напомнил ей о Заклике.
Она позвонила и велела явившемуся на зов карлику тотчас же позвать к ней Заклика.
Раймонд явился; он знал, что дело не обойдется без бури, и не только был взволнован, но даже дрожал.
Графиня нетерпеливо ходила по комнате и при появлении Заклика нахмурила брови и грозно спросила:
— Кто вам позволил изменять мои приказания? Что это за дерзость?
Заклик едва смел поднять глаза и, стоя с опущенной головой, отвечал:
— Я виноват, графиня, но… я хотел сберечь вас…
— Я не нуждаюсь ни в чьей опеке!.. Я в своих слугах желаю видеть одно послушание и ничего более: их ума мне не надо… А их чувства, какие бы они ни были, я презираю.
Заклик стоял молча.
— Что же, — заговорил он после паузы, — вам, графиня, стоит сказать одно слово, и меня завтра же посадят в Кенигштейн или повесят на рынке. Но я сделал свое дело: я поступил, как мне велела моя к вам преданность, и буду рад умереть.
— Умереть! — повторила, немного смягчая свою суровость, графиня. — Что мне до этого? Но почему вы знаете, что вы мне оказали всем этим услугу? Может быть, вы, избавив меня от минутной неприятности, огорчили гораздо более тем, что не исполнили в точности моего приказания?
— Позвольте мне оправдаться…
— Чем вы можете оправдываться?
— Тот… кому вы изволили приказать отдать этот перстень…
— Ну!
— Он получил перстень!
— Что вы такое лепечете, я вас не понимаю.
— У меня был перстень, как две капли воды, похожий на ваш… Мне дал его один магнат из Богемии, Штернберг.
— Ага, я догадываюсь! Вы отдали Лехерену перстень, который подарил вам Штернберг?
— Виноват, графиня, я это сделал.
Ко́зель посмотрела на него с изумлением и, совсем изменив тон, проговорила:
— Вы хороший человек, Раймонд, и заслужили награду!
— Я желаю получить только одно прощение, — возразил Заклик, — награды я никакой не приму, графиня.
И с этим он поспешно отступил.
Графиня молча подошла к своему верному слуге и молча подала ему перстень, предназначавшийся Лехерену, но Заклик, вздрогнув и упав на колени, воскликнул со слезами:
— Нет, воля ваша, графиня, не платите мне, не оскорбляйте меня, когда я так счастлив!
— Так счастлив, — прошептала графиня, и ее белая ручка тихо поднялась к губам стоявшего перед нею слуги.
Раймонд благоговейно поцеловал эту руку и, выйдя за двери, заплакал слезами, в которых были и радость, и горе, и счастье, и мука. Графиня осталась одна; ей вспомнился давний Лаубегаст и этот влюбленный в нее детина, она прищурила свои очаровательные глазки и, вздохнув, промолвила:
— Бедняки умеют любить! — И отправилась в свою опочивальню.
Карл XII не давал ничем уломать себя. К великолепному Августу он относился почти презрительно. Получая приглашения на королевские охоты, он посылал вместо себя кого-нибудь из придворных, а сам занимался военной муштрой новобранцев. Мир был заключен и подписан, и несчастный Паткуль был выдан, а Карл XII все еще сидел в Саксонии, и никто не мог сказать, когда он уйдет восвояси.
Такое унижение и тяжелое бремя не могли не пересилить всякое терпение, и это случилось. Смелость шведа, разъезжавшего по завоеванному краю в сопровождении каких-нибудь двадцати — тридцати всадников, породила довольно небезопасные для него замыслы.
Однажды утром во время приема министров королю доложили о старом графе Шуленбурге. Ветеран тотчас же был принят, и так как он просил аудиенции, то все другие удалились, а Шуленбург остался с королем с глазу на глаз.
— Что скажешь, генерал? — спросил Август. — Быть может, принес радостную весть, что шведы уходят?
Граф Шуленбург болезненно усмехнулся.
— Нет, государь, — отвечал он, — швед-то не уходит, а его надо выпроводить.
— Каким же способом?
— Способ бы нашелся.
— Я, признаюсь, его не вижу, разве господь Бог ниспошлет под твою команду свое войско с Михаилом архангелом во главе.
— Чудеса в этом роде редки, государь, и ждать их напрасно! — отвечал Шуленбург. — А мне кажется, что при небольшой решимости мы могли, может быть, справиться со шведом и своими средствами, без архангелов.
— Я, право, не понимаю, на что ты намекаешь?..
— Намек мой прост и ясен, ваше величество: шведов, разбросанных по всей Саксонии, всего каких-нибудь двадцать тысяч. Это ничтожно, а сильным эту горсть делает только один смельчак. Если бы не было его, то все остальное ничего бы не стоило.
— Но ведь он есть!
— Да, в том-то и дело, что он есть, то есть до сих пор он есть, но его может не стать.
— Как же это сделать?
— Как, государь?.. Мало ли как это делают! Я полагаю, что если, например, его захватить, то ведь остальные нам не будут страшны.
— Конечно, они не будут страшны, но…
— Что такое, государь?
— Да ты подумай, что ты предлагаешь?
— Я еще ничего вам пока не предлагаю, а просто говорю…
— Что же ты говоришь «захватить»?..
— Да, именно, если его захватить, что тогда будет?
— Захватить? Во время мира! Захватить человека, нам верящего и не остерегающегося нас!
— Да, это только и делает возможным привести над ним в исполнение справедливую месть! — отвечал Шуленбург. — С офицерами нашей конницы, расположенной на границе Турингии, я произвел недавно рекогносцировку главной квартиры шведа: она укреплена совсем слабо. Ночью я могу напасть на нее, захватить короля и привезти его в Кенигштейн… Пускай меня потом там осаждают, я не сдамся! Голова их короля будет служить мне добрым обеспечением. И он, сидя у меня в гостях, подпишет такой трактат, какой мы захотим, а не какой ему угодно.
Август выслушал это с большим вниманием и не возражал, а напротив, только спросил:
— Ну, а если тебе эта попытка не удастся?
— Если она не удастся, так эта неудача припишется мне, а не вам, государь. Что делать, так или иначе, а край должен быть спасен!
— Господин генерал, — резко сказал король, — мне кажется, что вы бредите!
— Нет, я не брежу, государь!
— Ну, все равно! Во всяком случае, то, что вы предлагаете, невозможно!
— Право, не вижу, почему ваше величество считаете это невозможным? В моих глазах мой план и прост и верен.
— Да, он, может быть, и прост и верен, но я слишком уважаю рыцарские правила и ни за что не позволю напасть на врага таким низким, коварным, изменническим образом! Нет, нет, генерал, я никогда этого не позволю! Я ненавижу Карла и охотно бы задушил его своими руками, но схватить его предательски, ночью, пользуясь его доверием ко мне… Нет, и тысячу раз нет! Никогда я этого не сделаю!.. Генерал, это недостойно Августа!
Шуленбург посмотрел на короля угрюмо и спросил:
— А он? Он, позвольте узнать, всегда ли обходился с вами по-рыцарски?
— Что мне за дело? Пусть такие грубые мужики, как этот молокосос, поступают, как хотят, а я буду поступать, как мне угодно!.. Карл непросвещенный варвар, а я, Август, монарх, которого народ зовет Сильным, а монархи, соседи мои, именуют Великодушным. Я не позволю себе такого коварного поступка!
Генерал встал и, покручивая свои усы, начал откланиваться, но тут ему пришел в голову еще один вопрос.
— А что, если бы это позволил себе непослушный солдат? — спросил он.
— Тогда я сам был бы обязан защитить своего врага и освободить его! — отвечал Август. — В этом для меня нет и не может быть никакого сомнения!
— Не смею спорить, сомнения нет, это… чрезвычайно благородно! — проговорил Шуленбург с едва заметной, легкой иронией в голосе.
Король услышал эту ноту и взял его за руку.
— Любезный генерал, — сказал он, — прошу тебя, оставь эту мысль и никому не говори о ней! Я не хочу таких побед!
Шуленбург молча поднял пристальный взгляд на короля и как бы спрашивал его:
— А выдача Паткуля или заточение Имгофа и Пфлугена разве дела менее гнусные и бесчестные?
Король понял этот немой упрек, и лицо его покрылось густой краской.
Шуленбург, конечно, это заметил и, не уходя, проговорил:
— Ваше величество, но что нам делать? Нам нельзя не доходить до отчаяния. Что же будет далее?
Август схватился за это слово и, пройдясь с усмешкой на губах по кабинету, молвил:
— Вот в том-то и дело, что что-то «будет далее»? Смотрите, пожалуйста, вперед или, как ты говоришь «далее»: а далее вот что виднеется: отуманенный удачами, самонадеянный молокосос непременно все будет забираться «далее», и там его конец и погибель. Я замечаю, что он и теперь уже рассчитывает плохо и начинает действовать опрометчиво. Поверьте, он на этом не остановится и подрываться под него предательством и изменой значит только упреждать события, Неизбежные и без всякой с нашей стороны низости. Терпение, господа, прошу вас о терпении! Карлу кланяется вся Европа, поклонение приличествует Богу, но человеку оно вредит; оно его туманит и рождает в нем пустую спесь. Не мешайте же ей раздуться, и, поверьте, она одолеет Карла лучше всех его врагов и завистников.
— Но пока это случится, государь, что станет с бедной Саксонией?
— Э, полноте, пожалуйста, ничего с ней особенно худого не станет. Народ все вытерпит, народ, что трава, где ее скот плотнее вытопчет, там она на другое лето сильнее растет.
— Да, но ведь они люди, государь, ведь их жаль! — сказал Шуленбург.
— Не «люди», а народ! — поправил его король и, оглянув старика выразительным взглядом, добавил: — Я решительно не понимаю, что за фантазия приписывать черни то, что ей ни в каком случае принадлежать не может.
После этого генерал умолк и откланялся, но когда он был уже за дверями, король остановил его и воротил к себе снова:
— Говорил ты об этом с кем-нибудь? — спросил его Август.
— Я не говорил, но самую эту мысль мне подали офицеры, и потому я не могу считать это единственной моей тайной, — отвечал Шуленбург.
— Это значит, что почти все уже знают?
— От меня никто! — с достоинством отвечал генерал. — Но от других, я не ручаюсь, очень может быть, что и знают.
— В таком случае прикажи всем молчать!.. Ради Бога молчите, и пускай мне об этом никто и не говорит!
С этим они расстались. Шуленбург вышел, а Август остался со своим «рыцарским» чувством, которое не ладило с ним после выдачи Паткуля.
XI
Смелые разъезды Карла XII по Саксонии поддерживали высказанную выше мысль о его задержании не в одном графе Шуленбурге. Эту же мысль таили Флемминг и смелая Ко́зель. Ее приближенные даже были связаны клятвой и деятельно хлопотали о проведении своего умысла в исполнение. Ко́зель и подала эту мысль графу Шуленбургу через офицеров, секретно высмотревших главную квартиру шведа. Королю графиня не упоминала об этом только потому, что не надеялась на его согласие с ее планом, не ограничивавшимся тем, чтобы арестовать Карла. Ко́зель шла далее, чем другие, — она настаивала, чтобы захваченный в плен Карл XII был немедленно убит. Мысль эта не оставляла ее ни на минуту и не давала ей покоя.
Флемминг, отложив всю свою враждебность к Ко́зель, соединился с ней для совместных действий. Шуленбург отдавал в их распоряжение свою конницу.
Ко́зель полагала, что в случае удачи их замысла король, может быть, на них и рассердится, но, однако, не откажется воспользоваться событием. А в Европе едва ли кто-нибудь захотел бы вступиться за удалого шведа.
Когда все было решено и условлено, графу Шуленбургу было поручено доложить об этом королю. Результат их разговора нам известен.
По выходе Шуленбурга из кабинета короля нетрудно было догадаться, что проект Августом отвергнут. Весть эта быстро облетела заговорщиков, но Ко́зель от этого не пришла в уныние.
В тот же вечер Август сам передал Ко́зель весь свой разговор с Шуленбургом.
Графиня, выслушав его, порывисто встала со своего места и сказала:
— Как? И ты от этого отказался? Ты не хочешь даже попытаться возвратить свои ужасные потери?
— Найдется другой, кто отомстит ему за меня, — отвечал Август, — я в этом глубоко уверен, и не будем больше об этом говорить.
Ко́зель видела, что еще не настала пора спешить с замыслом, и надо было ждать. Она, скреп я сердце, заговорила о другом и начала занимать Августа придворными сплетнями.
Ко́зель давно уже добивалась, чтобы король свел ее в лабораторию алхимика, содержавшегося в угловой башне замка, откуда был прекрасный вид на Эльбу и отдаленные лесистые берега. Несчастный Беттигер, просидевший в тюрьме долгие годы, окружен был, однако, всякими житейскими удобствами, какие, конечно, и надлежало иметь тому, от кого ожидались несметные богатства.
Фюрстенберг продолжал уверять короля, что великая тайна почти уже достигнута. Сам он работал вместе с узником то в своей собственной лаборатории, то в башне, где Беттигер имел великолепное помещение с садом, полным цветов. К столу Беттигер приглашал много гостей. Для развлечения ему разрешалось прогуливаться по всем коридорам и длинной галерее, которая шла вокруг всего замка с крепостью и служила королю для его секретных похождений. Привыкнув к своей участи и убедившись, что ему не удастся бежать, Беттигер предавался увеселениям, морочил Фюрстенберга и, Бог весть, может быть, и сам верил еще в свои средства открыть философский камень. Он исчерпал все формулы, прочел все книги, испробовал все рецепты — должно же было все это к чему-нибудь привести его, и оно, как ниже увидим, привело.
Зная о могуществе Ко́зель и желая приобрести ее благосклонность, узник ежедневно посылал ей букет из лучших цветов своего сада и тем постоянно напоминал о себе.
Графиня тоже любопытствовала взглянуть на Беттигера; но король то вовсе отговаривал ее от этого, то откладывал посещение. Но в тот день, до которого дошел наш рассказ, Ко́зель была так настойчива и вместе с тем так прекрасна, что Август не решился ей более отказывать.
— Хорошо, — сказал он, — мы сегодня идем к Беттигеру!
По случаю, рядом не оказалось никого, кого можно было послать уведомить алхимика о посещении, и король, выглянув в окно, увидел Фрёлиха, отгонявшего от себя подступавших к нему придворных.
— Вот как раз есть и посол! — произнес Август и, кликнув шута, сказал ему:
— Сегодня, до вечера, я назначаю тебя своим камергером, чтобы ты не говорил, будто напрасно таскаешь за собой такой тяжелый ключ. Ступай сейчас к Беттигеру и скажи ему, чтобы был готов принять богиню Диану, которая навестит его вместе со мной!
— С Марсом, с Аполлоном, с Геркулесом! — добавила обрадованная Ко́зель.
— Да! Одним словом, идет целый Олимп! — воскликнул, низко кланяясь, Фрёлих. И расчищая себе палкой дорогу, с великой важностью в лице отправился главной галереей к наружной башне.
За столом алхимика в это время сидело веселое общество. Опустошались бокалы, сыпались остроты. В числе гостей были: князь Фюрстенберг, большой приятель Беттигера, Чирнгаузен, знаменитый любитель алхимии, и Немин, секретарь и страж Беттигера. Круглая комната в башне, занимавшая весь этаж, служила узнику для приема гостей. Комната эта была убрана со вкусом и даже с роскошью: ее толстые стены были обиты персидской шелковой материей и увешаны зеркалами. Мебель была лакированная и раззолоченная. Столы и шкафы изукрашены бронзой. Отсюда же, из этой комнаты, небольшая узенькая лестница за потайной дверцей вела вниз в лабораторию; другая вела наверх, где была спальня алхимика.
Беттигер между всеми своими гостями отличался прекрасной осанкой и веселым лицом, в котором проглядывали быстрая сообразительность и свободное, веселое остроумие. Одетый чрезвычайно изысканно, он скорее был похож на богатого дворянина, приехавшего в гости, чем на строго содержимого узника, обязанного корпеть над котлом с целью открыть великие тайны алхимии.
Гости только что осушили бокалы в честь хозяина, и бывший аптекарь собирался возгласить новый тост, когда в дверях показался королевский посол в остроконечной шляпе и в пунцовом фраке.
— А! Фрёлих! Фрёлих! — воскликнули гости Беттигера. — Что это значит, как и зачем ты попал сюда?
— Прошу извинить меня, — начал Фрёлих. — Сегодня я не просто Фрёлих, как это вам, господа, может быть, кажется. Его королевскому величеству сегодня благоугодно было назначить меня на двадцать четыре часа своим камергером и в этом звании послать меня сюда с уведомлением, что богиня Диана вместе с Геркулесом сейчас осчастливят Беттигера своим прибытием. — И Фрёлих с комической важностью стукнул палкой о пол.
Все вскочили из-за стола. Беттигер с Немином и позванным слугой начали прибирать комнату. Отворили окна. Хозяин послал за букетом. Чирнгаузен, отлично знакомый с тюремными апартаментами алхимика, отворил потайные дверцы и спустился в лабораторию, чтобы скрыться от взоров короля. Остальные гости разошлись боковыми коридорами, чтобы не встретиться с королем, который должен был идти главной галереей. В зале Беттигера остались только Немин и князь.
Они с чрезвычайной поспешностью расставили всю мебель, усыпали паркет цветами и стали ждать олимпийских гостей. Беттигер стоял у порога с букетом из цветущих померанцевых ветвей в руке.
Олимп не замедлил.
При входе графини Ко́зель Беттигер опустился на колени.
— Богоподобных встречают на коленях, — сказал он, подавая графине букет, — и чествуют их фимиамом и цветами!
Слуги в эту же минуту внесли в комнату зажженные канделябры, и все оживилось. Ко́зель с улыбкой приняла букет и благодарила Беттигера, а в то же время с любопытством оглядывала комнату и, по-видимому, недоумевала, что не видит здесь никаких признаков «великого дела». Вошедший вместе с графиней король тотчас же объяснил ей, что они теперь, собственно, в гостиной алхимика, и все препараты «великого дела» находятся в лаборатории.
— Но я желала быть именно там, где в поте лица, с молитвой на устах доискиваются великой тайны.
— Графиня, — отозвался Беттигер, — это такое мрачное, полное тяжелых испарений место, что божеству незачем сходить туда.
— Но где не нужно быть божеству, туда стремится любопытство женщины! — отшутилась Ко́зель и, взглянув в упор в глаза Беттигера, добавила:
— Боги повелевают смертным вести их в темные склепы Аида, и смертные, конечно, должны повиноваться. Не так ли? Указывайте же дорогу, любезный Беттигер!
Алхимику не оставалось ничего, как повиноваться, и он открыл потайной ход и со свечой в руке пошел вперед. Графиня последовала за ним. Август следовал за графиней.
Они спустились вниз по узкой и неудобной лесенке, замыкавшейся железной дверью, которую Беттигер отворил, и ввел гостей в просторное помещение с закоптелыми сводами. Около широких столбов было несколько печей; на них стояли остывшие реторты и тигли. Разная утварь самого странного вида и множество склянок стояли на полках, покрывавших стены. На столах были навалены книги в тяжелых переплетах с медными застежками, пергаментные свертки, листы, исписанные формулами и вычислениями.
Все это производило впечатление таинственное и угрюмое, и графиня Ко́зель как женщина своего суеверного века почувствовала некоторый страх и прижалась к плечу короля.
Беттигер стоял среди комнаты, высоко держа над головой свечу.
Король между тем обходил лабораторию и, остановись около одного из столов, взял стоявшую на нем чашку и, начав ее внимательно рассматривать, воскликнул:
— Ба! Беттигер, откуда ты это взял?
И при этом он заметил еще несколько таких же чашечек яшмового цвета. Август был большой знаток и любитель фарфора и не раз менял людей на японские вазы. Найденные им чашки остановили на себе его внимание, потому что представляли собою нечто особенное: это был фарфор, ничем не уступающий японскому, но форма была иная.
— Откуда же ты взял эту редкость? — повторил Август.
— О, государь, — отвечал, низко кланяясь, Беттигер, — это такие пустяки. Это я забавлялся, пробовал, что можно сделать из привезенной мне глины, и вот вышло что-то вроде фарфора.
И он подал еще одну, более тщательно отделанную, вазу.
Король схватил поданный ему сосуд прекрасного нежного цвета и, взглянув сквозь него на свет, воскликнул:
— Как, ты утверждаешь, что это ты сам сделал?
— Да, я сам, государь, — отвечал Беттигер и, наклонясь, поднял разбитые черепки точно такого же материала, из которого был сделан сосуд; затем он достал из-за вороха бумаг еще несколько чашек и тихо поднес их графине и королю.
— Да ведь это… что же это такое? Да ты знаешь ли, что это лучший фарфор, какой есть на свете? — воскликнул Август.
— Быть может, но я этого не знал, — отвечал Беттигер.
— Не знал! Так знай же, ты сделал величайшее открытие, ты разгадал огромную тайну! И… золото для Саксонии тобою добыто!
Беттигер молчал.
— Ты знаешь ли, — продолжал король, — что за один такой сервиз с моими гербами я заплатил в Китае пятьдесят тысяч талеров… Пруссак за большую вазу содрал с меня целую роту отличных солдат… А между тем вот ты, Беттигер, ты сам у меня дома можешь мне делать эти драгоценности! О, какое открытие! Какое важное открытие! Да, золото теперь в Саксонии! Слушай, Беттигер…
— Слушаю, ваше величество.
— Брось все другое и сделай как можно скорее первый такой сервиз для моей Дианы.
— Воля ваша, государь, будет исполнена.
Забрав с собой первые фарфоровые экземпляры Беттигера и отдав их графине Ко́зель, король выразил свое полное удовольствие изобретателю и собрался уходить. Чтобы избавить своих высоких гостей от неудобной лестницы, алхимик отворил двери, выводившие прямо в его сад, и король, предшествуемый ожидавшими его здесь придворными, возвратился главной галереей в замок.
День этот памятен в истории Саксонии. Она нашла золотые прииски в случайном открытии Беттигера. Способ приготовления фарфора было велено держать в строжайшей тайне, нарушение которой ограждалось страхом смертной казни.
Несколько дней спустя Дрезден был взволнован событием иного характера.
Хотя граф Шуленбург после своего разговора с королем совершенно отказался от мысли задержать Карла XII, но Ко́зель и Флемминг не оставляли этой мысли, к исполнению которой, благодаря смелости Карла, представлялись чуть не ежедневные способы.
А между тем самонадеянный и слепо верящий в свое счастье и силу своей отваги Карл XII как будто знал обо всех этих замыслах. Он точно насмехался над заговорщиками. Он как будто еще увеличил свою беспечность и разъезжал по неприятельской стране, как по окрестностям своей скандинавской столицы.
Однажды он забрел в Дрезден. Такая безумная выходка, конечно, могла решить все: она неминуемо должна была вызвать в исстрадавшемся народе взрыв негодования, но Карл не остановился и перед этим.
1 сентября, в тот самый день, когда был подписан трактат с императором о свободе протестантов в Шлезвиге, Карл XII выступил из Альтранштадта. Он следовал за своими войсками, которые под начальством Ренскиольда уже 15 августа начали стягиваться по направлению к Шлезвигу, к Польше и далее на север. Значительная часть шведской армии оставила уже наконец Саксонию; было еще несколько полков под Липском. 6 сентября главная квартира Карла XII находилась вблизи Мессень, в Оберау.
В один из прекрасных осенних дней Карл XII вздумал сделать верхом небольшую прогулку и незаметно очутился под Дрезденом.
Карл постоял здесь, погруженный в раздумье, и наконец, обратясь к своей маленькой свите, сказал:
— А право, мы так близко от короля Августа, что мне следует заехать к нему повидаться.
И он, не ожидая ответа, пустил поводья и поехал вперед крупной рысью.
Был четвертый час пополудни, когда этот неожиданный гость остановился перед дрезденскими воротами. Крепостные ворота оказались запертыми. Карл XII сказался караульному офицеру посланцем от шведского короля, и его тотчас же провели на главную гауптвахту. Флемминг, проходивший в это время мимо, узнал шведа и изумился: зверь сам пришел в засаду.
Это была такая неожиданность, что Флемминг даже растерялся, но, однако, тотчас же овладел собой и на вопрос шведа о короле вызвался проводить его к Августу.
Август в это время, по своему обыкновению, был в арсенале. В присутствии не отпускавшей его от себя графини Ко́зель он ломал здесь железо в своих мощных руках, которые точно и сделаны были только для этих забав.
Под сводами арсенала раздавался его веселый хохот, когда в двери вдруг послышался неожиданный стук.
— Кто там? — крикнул король. — Войдите!
И он вместе с графиней обернулись к дверям и остолбенели: перед ними был Карл XII.
Следовавший за шведом Флемминг смотрел на графиню, ожидая одного легкого мановения, чтобы кликнуть людей и схватить неосторожного, незваного гостя, но этого мановения не было, а между тем швед поспешно обнял Августа и сказал:
— Здравствуйте, брат мой!
Август приветливо ответил на приветствие.
Ко́зель не могла сдержать себя: лицо ее вспыхнуло, и она крепко дернула Августа за платье и шепнула:
— Роковой час!.. Если он выйдет отсюда… то только ты будешь виноват в этом!
Можно было предполагать, что Карл XII даже слышал эти слова, потому что лицо его приняло суровое и подозрительное выражение, но Август, полуоборотясь к графине, резко заметил ей:
— Оставь нас!
Графиня со свойственной ее характеру нетерпеливой раздражительностью должна была выйти, бросая на Карла гневные взгляды.
А смелый швед между тем с величайшим спокойствием рассматривал арсенал. Ко́зель, проходя мимо Флемминга, сделала ему выразительный знак; Флемминг, у которого искрились глаза, только пожал плечами.
Между тем Карл, обойдя арсенал, сказал Августу:
— Любезный брат, в свете так много говорят о вашей необыкновенной силе. Я не думаю, чтобы тут было все преувеличено, хотя эти рассказы порою бывают неимоверны.
— Гм! Вас это удивляет? — сказал Август.
— Признаюсь, то, что я слышал…
— То, что вы слышали, не превзойдет того, что вы можете видеть, — отвечал Август, и с этими словами он поднял с полу лежавший перед ними железный прут и сказал, улыбаясь, Карлу:
— Позвольте мне, любезный брат, вашу руку. Вы не бойтесь, я не поврежу ее, — добавил он с усмешкой.
— Я ничего не боюсь, — ответил швед и смело вытянул вперед обе руки.
Август погнул прут и обвел его кольцом сначала вокруг одной руки Карла, потом точно так же обогнул им другую. Железный прут в руках Августа вился, как шелковый шнур, и руки Карла были им связаны, как в кандалах.
Карл смотрел на эту работу бестрепетно, с одним холодным удивлением к силе Августа; а Август, завязав прут узлом, посмотрел в глаза Карлу и тотчас же, снова разогнув прут, снял кольца с рук шведа, а прут бросил на пол.
Короли взглянули друг другу в глаза…
— Да, очень большая сила! — сказал Карл и, переведя глаза на стены арсенала, добавил:
— И сколько у вас здесь и оружия и железа!
— Да, как видите, немало, — отвечал Август.
Карл покачал головой и проговорил:
— Только людей, значит, недостает! — И затем он попросил короля позволить ему сделать визит королеве и другим членам королевского дома, которые в это время были уже в Дрездене.
Оба короля направились в замок.
Между тем слух о приезде Карла XII успел распространиться по всему городу.
Это, конечно, возбудило всеобщее самое напряженное внимание. Особенно Карлом теперь интересовались протестанты, недавно только услышавшие о том, что швед сделал для их единоверцев в Шлезвиге. Эти люди уже теснились около замка, чтобы взглянуть на молодого человека, который тогда приковывал к себе внимание целой Европы.
Флемминг и с ним весь двор были возмущены приездом Карла и видели в этом неслыханную дерзость; швед, будто насмехаясь над побежденным, не боялся его даже безоружный.
Флемминг и Ко́зель ни за что не хотели спустить этой выходки. Первый приказал собрать как можно секретнее часть гарнизона, чтобы захватить Карла даже против воли Августа, а графиня просто взяла в карман пистолет и решилась выстрелить в шведа, как только он покажется на улице.
Волнение было заметно повсюду, но король сохранял невозмутимое спокойствие. Швед тоже был спокоен. Повидавшись с королевой, он просил, чтобы ему позволили обнять молодого курфюрста, но от вечеринки отказался.
А пока венценосцы были в замке, Флемминг успел собрать людей и расставить их, где следовало. На случай же, если бы Август не согласился задержать Карла XII в Дрездене, Флемминг под своей личной ответственностью выслал на дорогу в Мессен отряд конницы с приказанием подстеречь и схватить шведа на его обратном пути.
Во время пребывания Карла XII у королевы Флеммингу удалось вызвать короля и переговорить с ним.
— Государь, — сказал Флемминг, — нам дана редкая, единственная минута, когда вы можете отомстить за все наши несчастья… Карл в ваших руках!..
— Да, в моих руках, но он полагается на мою честь! — возразил Август. — А этого слишком довольно, чтобы с головы его не упал ни один волос.
— Но, государь, не смешно ли теперь увлекаться великодушными чувствами к человеку, который поступил с нами так бессовестно? Нет, я захвачу его, хотя бы за это должен был потерять свою голову!
— Дело вовсе не о твоей голове, а о гораздо большем, о моей королевской чести, — спокойно отвечал Август, — и ты не смей думать коснуться Карла.
— Не вы, а я, лично я, государь, буду за все это в ответе!
— Вздор, — возразил резко Август, — там, где есть моя ответственность, ничьей другой нет и быть не может!
— В таком случае мне остается только просить вас приказать взять у меня мою шпагу, которая не может более служить вашему величеству.
Говоря это, генерал хотел уже вынуть из ножен свою шпагу, но король остановил его.
— Флемминг, не забывай, что перед тобой я, что дело тут идет обо мне и что никто не может приказывать здесь, кроме меня!
И затем он грозно посмотрел на своего генерала, но кипевший гневом Флемминг не выдержал и ответил:
— Слушаю, государь, но не смею смолчать, что, поступая таким образом, вы рискуете потерять еще и другую корону!
И сказав это, Флемминг вышел, а король спокойно вернулся к королеве, с которой оставил гостя. Карл XII даже не взглянул на возвратившегося хозяина, хотя он, конечно, мог догадываться, что за дверями разговор был о нем.
Между тем графиня Ко́зель готовилась уже выйти из дому, чтобы, став в удобном месте, выстрелить в Карла, когда он будет проезжать мимо. Заклик, видевший эти сборы, представлял графине всю необдуманность ее намерения, которое имело против себя еще и то, что в собравшихся толпах народа было много протестантов, которые видели в Карле друга протестантской религиозной свободы и могли взять его сторону и даже вступиться за него.
А настроение значительной доли умов действительно было таково, как представлял Заклик, и Август понимал это. Держась во что бы то ни стало своего слова обеспечить безопасность Карла, он захотел сам проводить его за город и приказал подать себе коня. Оба монарха рядом проехали по улицам, переполненным народом. Тишина была мертвая: казалось, что народ удерживал самое дыхание свое, чтобы услышать хотя бы одно слово из разговора королей. Глаза всех впивались в лицо Карла XII, который был совершенно спокоен и не обнаруживал ни малейшего волнения.
Проехав по улицам среди тесной толпы, короли свернули к воротам, выходившим на дорогу в Мессен. Август послал приказ, чтобы в честь Карла троекратно салютовали из пушек, и с крепостного вала раздался громкий салют. После первых выстрелов Карл обратился к Августу и поблагодарил его за честь. Август равнодушно приложил руку к шляпе. Залп повторился, и в минуту выезда Карла из ворот раздался третий салют.
Карл XII остановился и хотел проститься со своим хозяином, но Август не доверял послушанию Флемминга, он подозревал, не устроена ли шведу по дороге засада, и видел одно средство спасти его: проводить Карла XII до того места, где он будет уже вне всякой опасности. И потому он выразил желание сопутствовать Карлу еще далее и проводил его до самого Нейдорфа. За Нейдорфом они расстались, обменявшись рукопожатиями.
Карл XII пустил свою лошадь крупной рысью далее, а Август II с минуту постоял на месте, задумчиво глядя вслед удалявшемуся гостю. Он как будто взвешивал теперь, хорошо или дурно поступил, следуя голосу чести.
В эти минуты, как он стоял на середине шоссе, пролегавшего здесь через лесные заросли, которые оставались от истребленных вокруг Нейдорфа лесов, к нему подскакал верхом сильно взволнованный Флемминг и, не помня себя от гнева, сказал:
— Ваше величество! Если вы полагаете, что Европа будет удивляться вашему великодушию, или если вы думаете, что, не захватив Карла, вы расквитались с общественным мнением за выдачу Паткуля, то смею вас уверить, вы сильно ошибаетесь!
— Молчать! — грозно крикнул Август и, повернув коня, молча поехал один в город.
У ворот дворца «четырех времен года» он слез с лошади и пошел к Ко́зель, которая ждала его еще в большем бешенстве, чем Флемминг.
— Не подходи ко мне! — кричала она, рыдая. — Не подходи! Ты пренебрег моим советом и сделал никогда, никогда не поправимую ошибку! Как, ни потеря двадцати миллионов казны, ни гибель многих тысяч людей, ни смерть твоих офицеров, ни весь твой стыд — словом, ничто, за что ты мог и должен был отомстить, не могло тебя к этому подвинуть! Что, ты не умел этого сделать, не хотел или боялся?.. О, Боже! Всякая слабая женщина не снесла бы этого и не упустила бы такого случая отомстить за свой позор!
— Да, что могла бы сделать всякая женщина, того не может сделать король, — отвечал Август и спокойно опустился на софу, предоставляя Ко́зель изливаться в своем гневе.
Но на следующий день он собрал военный совет, в котором снова выслушал несколько порицаний за то, что выпустил Карла, и снова отмолчался.
Говорили, что обо всем высказанном на этом совете узнал шведский посол в Вене и с презрением сказал:
— Это так и должно было быть: я уверен, что совет на другой день решит то, что следовало сделать накануне.
XII
Август, вероятно, сильно чувствовал свое унижение и всячески старался забыть его: еще шведский король не успел освободить Саксонию от своего присутствия, как Август II предался своему обычному разгулу и начал устраивать самые разнообразные увеселения. Неразлучная с ним графиня Ко́зель сопровождала его всюду.
Вскоре по отъезде Карла XII вслед за балами и маскарадами, которые привлекли в саксонскую столицу множество иностранцев, послов и странствующих рыцарей с целого света, Август устроил великолепную охоту. Ко́зель и здесь была всегда рядом с королем, и общество любовалось статной амазонкой в золотых доспехах на белом коне.
Лорд Петерсбург, присутствовавший на всех этих торжествах, не находил слов, чтобы выразить свое восхищение от этой неувядаемой красавицы. Ловкая наездница, Анна отлично владела и ружьем и так царила на этих охотах, что была истой королевой, а Август казался при ней не более, как ее первым придворным. Все это до такой степени туманило ее во всех других случаях довольно ясный ум, что никакие дружеские предостережения не могли уберечь ее от опасных в ее положении увлечений. И если преданный ей Гакстгаузен или смиренный Заклик иногда позволяли себе сделать ей какой-нибудь легкий намек на непрочность королевского фавора, то она гневалась и нетерпеливо отвечала:
— Все это, может быть, верно для фавориток, но я его жена, и притом король очень хорошо знает, как шутить со мной: я убью и его и себя без рассуждений.
Накутившись вдоволь дома, Август задумал перекочевать в тех же целях на воскресную ярмарку в Липск, где ему всегда очень нравилось, потому что здесь он, толкаясь с трубкой в зубах по всевозможным закоулкам, проводил время с кем попало. В нынешней поездке ему сопутствовала туда и Анна Ко́зель.
Двор останавливался тогда в «Гостинице под яблоком». Король как приехал, так и потонул в удовольствиях: он пил, играл и волочился за наехавшими сюда французскими танцовщицами и актрисами.
Ко́зель не могла совсем удержать его от такой жизни, но наблюдала только, чтобы все это не хлынуло через край и не зашло слишком далеко.
12 мая в Дрездене праздновались именины короля; к этому торжеству собрались немало гостей, и, между прочим, прибыли князь Эбергард Людовик Виртембергский и Гогенцоллерн. Опять шли пиры, чудовищные мертвые попойки и охоты, из которых об одной надо здесь кое-что заметить, так как она имела для Анны нечто роковое.
На давней оседлости лужицких славян, в Нежице, есть старое селение, раскинутое у подножья горы, которую называли когда-то Столбами. Название это дано горе потому, что прихотью природы здесь выдвинуты из недр земли мрачные базальтовые столбы. Не разгадать, откуда и как они здесь стали: точно волшебные руки духов взяли их, принесли сюда и поставили. Века назад на этих скалах построен такой же, как и они, мрачный замок, из которого очень далеко видно во все стороны: на юг — до лесистых вершин Саксонских и Богемских гор, а на запад — до гребня Рудных гор Саксонии. Ближе видны были голые пирамидальные скалы, на которых стояли замки Зонненштейн и Детерзбах. На восток шли сплошные леса и горы Гохвальда, за которыми начинались разбросанные чешские поселки.
Старый Столпянский замок прежде был резиденцией мессенских епископов, которые и позаботились украсить и укрепить его. Он имел вид довольно величественный, но, как выше сказано, и весьма мрачный. Замок был окружен стенами с бойницами и высокими островерхими башнями, в которые нередко ударяла молния.
При замке был и полный дичи зверинец, который нетрудно было поддерживать, так как в окрестных лесах было много зверя.
Однажды при ночной пирушке один из собеседников короля как-то заговорил об этом замке, где Август до сих пор не бывал, и ему тотчас же пришло желание посмотреть завтра эту дикую местность и поохотиться в зверинце.
За решением немедленно последовало и исполнение: рано утром, когда еще роса покрывала траву и деревья, у порога королевской двери уже стояли оседланные кони. Все было готово к отъезду, и Август вышел в сопровождении свиты. Ко́зель, ничего не знавшая об этих сборах, очень удивилась такому неожиданному отъезду и послала Заклика спросить короля, куда ему угодно так рано ехать.
— Скажи твоей графине, — отвечал, садясь на лошадь, Август, — что я еду смотреть Столпянский замок. Если она желает, тоже может ехать, но только пускай меня догоняет: я боюсь жары и ждать не стану, а ее сборы долги.
Этот ответ не понравился и без того уже недовольной графине, и она захотела показать королю, что ей не надо много наряжаться, чтобы быть прелестной. Она велела, чтобы тотчас были готовы ее верховая лошадь и несколько молодых людей, составлявших ее импровизированный конвой. Анна надеялась догнать короля ранее, чем он доедет до Столпянского замка.
Через полчаса все приглашенные сопутствовать графине были уже на лошадях около ее дворца и ее белый арабский конь с длинной гривой, с седлом, окованным золотом и обитым пунцовым бархатом, нетерпеливо ржал в ожидании своей всадницы.
Ко́зель оделась наскоро, но прекрасно: она была в длинном, отделанном золотом белом платье и в голубой шляпе с белыми перьями и голубым, украшенным золотом, током.
— Господа! — воскликнула она, подойдя к лошади и подняв вверх свою прелестную ручку с хлыстом, рукоятка которого сверкала дорогими каменьями. — Его величество король вызвал меня на состязание; полчаса тому назад он уехал со своей свитой в Столпянский замок. Я хочу догнать его, прежде чем он туда приедет. Время дорого, не будем терять ни минуты, и кто мне добрый товарищ, тот от меня не отстанет!
Сказав это, она быстро вспрыгнула на лошадь и, махнув хлыстом, сразу понеслась вскачь. Сопровождавшие ее в числе прочих Заклик и конюший мчались за ней.
Арабский скакун несся стрелою. Дорога за городом шла через лес, это была старая песчаная дорога, очень мягкая, но и очень утомительная, и кони, несмотря на раннее прохладное время, скоро запотели и взмылились.
В то время край этот был еще очень слабо заселен и казался пустыней. Изредка только кое-где встречались маленькие вендские деревеньки с их бедными хатами под высокими крышами, торчавшими из-за окружавших их вишневых садов.
Дорогой никого не встречалось, кроме крестьян, которые робко снимали шапки и не умели ничего рассказать, как далеко они встретили короля. Да при торопливой погоне некогда было с ними долго разговаривать и терять время в бесполезных расспросах.
После часа такой бешеной скачки конюший пристал к графине с просьбой хотя бы немного приостановиться и дать перевести дух лошади. Ко́зель сначала не хотела его слушать, но наконец поехала немножко тише и, поравнявшись с воротами одной старой хаты, совсем осадила своего коня. Все остальные сделали то же и сошли с седел, чтобы облегчить лошадей, напиться и поправиться.
Неподалеку у ворот домика гости заметили завернутую в рваное покрывало изможденную старуху, которая стояла, опираясь на палку. Она, в свою очередь, смотрела на пышную кавалькаду с глубоким равнодушием. Кто-то спросил ее, давно ли проехал король, но она отвечала:
— Какой король? Я не знаю, кто ваш король, а мои короли умерли.
Она говорила это медленно, бесстрастным голосом и ломаным языком с акцентом; а между тем из хаты вышел длинноволосый, средних лет мужчина в синем сюртуке с большими пуговицами и, сняв шапку, сказал гостям на чистом саксонском наречии, что король проехал не более, как три четверти часа тому назад, но что он ехал очень скоро и догнать его едва ли возможно. Ко́зель спросила, нет ли какой-нибудь кратчайшей дороги к Столпянскому замку, но такой дороги не было. Надежда догнать короля исчезла, и спешить без отдыха было ни к чему.
Графиня решилась дать своим спутникам и их лошадям маленький роздых: сойдя с седла, она сделала несколько шагов и вдруг стала всматриваться в нищую старуху.
— Что это за женщина? — спросила она немца.
Тот пожал плечами и отвечал:
— Это славянка… вендка!
— Что она здесь делает?
— Гм! Как вам сказать? Она не в своем уме: она уверяет, что этот двор когда-то принадлежал ее отцу, и не хочет уйти отсюда. Так и живет здесь неподалеку в землянке, вон под той горой… таскается по полям да, кто ее знает, что-то бормочет. Может быть, какие-нибудь бесовские заклятия!
— Заклятия? — невольно повторила Ко́зель.
— А что же вы думаете? Никто не сомневается, что она колдунья… Я ей деньги предлагал, чтобы она только ушла куда-нибудь отсюда подальше, так не хочет…
— Отчего же?
— Да вот говорит, что это земля ее отцов и что она здесь должна сложить кости…
— Вот странная!
— Да, она странная, да порою довольно страшная.
— Что же в ней страшного?
— Да знаете, здесь место дикое, глухое, тут все как-то… жутко, а она часто, ночью, когда на дворе воет буря, бродит, не то хнычет, не то поет, слова не разберешь, просто мороз по коже ходит, а выгнать ее…
— Что же?
— Тоже небезопасно.
— Что же она может сделать?
— Мало ли что? Она знает заклятия на нечистую силу… Черти ей, говорят, повинуются.
Видя, что рассказ этот интересует пышную даму, немец понизил голос и добавил:
— Она и будущее знает.
— Знает?
— Ага, да еще как!
— И может предсказывать что-нибудь? — спросила Ко́зель, оглядывая с любопытством старуху.
— И как еще… Не всегда, разумеется, а когда захочет.
— И что же, сбываются ее предсказания?
— Ох! Чтобы ей пусто совсем было, госпожа: все, что она скажет кому-нибудь, то все сбывается.
— А как ее зовут?
Немец беспокойно оглянулся и тихо прошептал:
— Млава.
— Млава?
— Тсс! Да, ее зовут Млава.
Хотя и немец и графиня говорили очень тихо, но старуха, вероятно, услышала свое имя. Встряхнув своими длинными седыми волосами, она гордо подняла голову и воззрилась проницательными черными глазами в лицо графини.
Анна это заметила и подошла к ней еще ближе. С минуту обе женщины молча смотрели в глаза друг другу, и наконец Анна спросила:
— Кто ты, старушка?
— На что тебе знать, кто я?
— Мне жаль твоих седых волос! Смотри-ка, как они пожелтели от ветра и пыли. Что тебя, бедную, довело до такого убожества?..
— Я не убога, — отвечала, покачав головой, Млава.
— Что же у тебя есть?
— Воспоминания о прекрасных днях.
— Но ведь воспоминания везде могут быть с тобою.
— Везде.
— Так зачем тебе жить тут?
— А зачем мне идти отсюда? Здесь мое место, здесь мое наследство.
— О каком наследстве ты говоришь, бедняжка?
— О наследстве моего рода.
— Твоего рода?
— Да, моего рода.
— Но что за род твой?
— Мой род?.. Королевский.
— Королевский!.. Твой род королевский! Но ты?
— Я королева.
— Королева?!
— Да, я королева! Я должна была быть королевой! Во мне кровь коренных королей этой земли…
Ко́зель улыбнулась. Млава это сейчас же заметила и продолжала, вперив в нее свои темные очи.
— Ты удивилась… смешно тебе стало, не смейся, зачем нам смеяться, ты сама королева, а не знаешь, чем станешь.
— А чем я стану? Ты ведь умеешь угадывать?
— Это как когда и как кому, — отвечала бесстрастно Млава.
— А мне, например, ты могла бы теперь что-нибудь сказать, что со мной будет?
— Чему с тобой быть? — отвечала Млава. — Кто высоко забрался, тот только низко упасть может, больше ничего.
Ко́зель побледнела, и у нее задрожали губы, но она сделала над собою усилие и, улыбнувшись, молвила:
— Ничего, ничего, говори, я не робка и не труслива, смотрела в глаза счастью, не зажмурюсь и от беды, пожила на солнышке, посижу и впотьмах.
— Не равны потьмы, — заговорила тихо Млава. — О-о, как долга бывает иная ночь!
— Что долго, то все-таки невечно.
— Кто знает, кто знает! Это надо смотреть, — пробормотала Млава и, вытянув вперед свою руку, сказала:
— Покажи мне свою ладонь.
Графиню немножко покоробило, и она брезгливо отдернула свою руку.
— Не бойся, красавица, — спокойно сказала Млава, — я твоих белых пальчиков не запачкаю… Покажи ручку, я только посмотрю.
Ко́зель сняла перчатку и протянула руку.
— Гм! — произнесла, взглянув, Млава. — Прелестная ручка, прелестная; вполне стоит того, чтобы ее только королю целовать; а не все, не все в ней подобру…
— Что ты сочиняешь, старуха!
— Нет, нет, не сочиняю, вот черта и вот черточка, маленькая, маленькая… ручки не портит, а жизнь губит… да…
— Ты, старая, лжешь.
— Ага, лгу! Нет, я не лгу. Ничего, ничего, от себя не уйдешь. Длинная, длинная была полоса счастья, другая будет длиннее. Тебя, красавица, ожидает большое и долгое горе. Говорить что ли все?
— Говори! — резко ответила покрасневшая от волнения Анна.
— Тебя ждут тяжелые дни; ждут бессонные ночи. Слушай! Слушай! Слезы, как море… все слезы… Что это!.. С детьми ты будешь бездетна; у тебя есть будто муж, и он не умрет, а ты будешь вдова… К короне близка, а еще ближе к неволе… Будешь освобождена, но откажешься от свободы… Будешь… ой… ой… не хочу, не хочу говорить… о, не спрашивай меня, не спрашивай более…
И некому было и спрашивать: бледная, как мрамор, Ко́зель только могла прошептать:
— Недобрая женщина, чем я провинилась перед тобой, за что ты меня так пугаешь? Я не так зла, как ты, вот возьми себе это.
И Ко́зель подала Млаве золотой, но та отвернулась и сказала:
— Побереги, мне не надо золота.
И Млава, завернувшись в свои лохмотья, заковыляла в сторону.
Из спутников графини никто этого разговора не слышал, и он для всех них остался тайною; они, конечно, могли заметить, что Анна была взволнована и бледна, но не более. Остальной путь был совершен без всяких приключений и в глубоком молчании.
Через полчаса езды показались верхи Столпянских башен, а еще через полчаса, поезд достиг самого подножья горы. Король и его свита были уже внутри замковой ограды, и веселый Август приветствовал фаворитку.
— Ну, вот и не догнала! — шутил он. — А я уже долгонько жду. Где ты это задержалась?
— Да я все ехала и только полчаса потеряла у корчмы.
— Что же ты там делала? Отдыхала?
— Да, но, впрочем, менее отдыхала, чем заговорилась.
— Заговорилась? Моя Анна заговорилась с кем-то у дорожной корчмы! С кем же это?
— С нищей старухой.
— Вот как! Что за старуха и что в ней необыкновенного?
— Много необыкновенного.
— Пожалуй, ведьма, гадалка, пророчица? Ну, что же она тебе наворожила?
Но Анна вместо ответа взглянула на короля, и из глаз ее брызнули слезы.
— Что это значит? — воскликнул удивленный Август, но он напрасно старался узнать, что тревожило его фаворитку и, махнув на это рукой, попытался отвлечь ее внимание.
— Ну, как нравится тебе этот старый епископский замок? — заговорил он беспечно.
— Он мне вовсе не нравится, — отвечала Анна.
— За что так? Нет, ты посмотри на него хорошенько.
— Смотрю и вижу. Отвратительный! Страшный! Ужасный! Не понимаю, что за фантазия была у вас ехать сюда искать развлечений? Здесь, кажется, гораздо удобнее предаваться воспоминаниям о пытках. Ужасно, мрачно!
— Да, но твои глаза, моя прелесть, могут осветить его, — перебил Август и подал Анне руку.
Они обошли весь угрюмый замок вокруг и остановились у порога. Графиня была молчалива, но король очень доволен. Он, быть может, соображал, как ему обратить этот замок в тюрьму, когда станет тесно в Зонненштейне и Кенигштейне. Оставив графиню, которая не хотела идти далее, Август отправился с ключником взглянуть на места заключений.
Осмотрев башни Доната и мрачные камеры, служившие для пыток, он зашел в башню св. Яна, построенную епископом Иоанном VI, потом спустился в застенок, где наказывали монахов, отсюда ключник ввел его в тюрьму и ее темную яму, куда людей опускали по приставной лестнице. Все эти тюрьмы были пусты, но совершенно исправны, и Август осматривал их с большим любопытством. В конце сделанного им обхода он бросил сверху башни общий взгляд на крепостные стены замка и вернулся к графине, которую нашел там же, где ее оставил.
— А ты все еще грустна? — спросил он.
— Да, эта поездка совсем не веселит меня, — отвечала Анна. — Замок производит на меня самое неприятное впечатление. Мне чудится, будто я слышу здесь стоны тех, которые тут, должно быть, так ужасно страдали.
Король улыбнулся.
— Кто здесь страдал, тот, конечно, этого заслужил, — отвечал он. — А кто заслужил наказание, тот и должен его нести. Но что это значит, моя прелестная графиня, откуда приходят вам сегодня в голову такие черные мысли? Впрочем, если замок вам так не нравится, мы отвернемся от него и отправимся в зверинец. Там веселее: я приказал приготовить там стол, и мы хорошенько закусим; а между тем облава нагонит нам зверя, ты отличишься в стрельбе, и мы, как всегда, будем рукоплескать твоей ловкости.
— Хорошо, — отвечала рассеянно Анна.
В зверинце уже все было готово, как приказал король На ближайшей у входа поляне был раскинут великолепный турецкий шатер, напоминавший королю венский поход; стол был богато сервирован, и графиня Анна заняла за ним свое первое место.
День был жаркий; солнце стояло высоко и горячо пекло; в воздухе было душно и пахло грозою. Веселье не клеилось, а Август не любил около себя молчания и поэтому сам был не в духе и старался поскорее окончить закуску. Столы были убраны, и ловчие подали ружья, с которыми вся компания отправилась в глубину зверинца.
Хмурое настроение кое-как рассеялось, и под вечер общество, застрелив несколько серн и кабанов, тронулось в обратный путь. Но едва они обогнули замок, как увидели, что навстречу им по небу надвигается темная туча. Ехать навстречу ей было бы безрассудно, тем более что гром уже погромыхивал и вскоре упало несколько капель дождя. А потому решено было возвратиться в замок и переждать бурю. Так и сделали; но пока успели вернуться, туча разразилась и проливной дождь хлынул потоком.
Свита короля разместилась, где попало, а сам Август и его подруга вошли в одну из камор, где были стол и простые деревянные лавки. Лучшего помещения не было, и это производило дурное впечатление на расстроенную всем сегодняшним днем Анну.
— Здесь ужасно, — говорила она.
— Да, но что же делать, я не мог этого предвидеть, и другого помещения нет, — отвечал Август.
Анна покорилась необходимости, но вся дрожала. Тьма надвигалась все гуще и гуще, дождь лил и гулко стучал в свинцовые переплеты оконных рам, молнии реяли в самых разнообразных направлениях и, казалось, старались проникнуть под своды. И вот яркий зигзаг сверкнул над башней Доната, и все старое здание вздрогнуло до основания. Испуганная Ко́зель вскрикнула, но король ее успокоил: удар не причинил никакого вреда, башня не загорелась, и пошел сильный дождь.
Вскоре небо стало проясняться и можно было ехать.
Все снова сели на лошадей и отправились.
Проезжая мимо хаты, где утром была Млава, Ко́зель невольно искала ее глазами; но старухи здесь не было: она стояла подальше у дороги и, узнав Анну, улыбнулась ей, как старой знакомой. Август взглянул на Млаву и отвернулся.
Питая глубокую ненависть к Карлу XII, Август видел в его успехах какое-то роковое преследование судьбы. Но все это было ничто в сравнении с его нерасположением к полякам, которым он приписывал все свои несчастья. Те из поляков, которые оставались верными сторонниками Августа и являлись к нему на поклоны, имели случай убеждаться, как он ненавидел их нацию.
Впрочем, в эту пору Август презирал все и всех; он был занят теперь одной мыслью: как поднять свою втоптанную в грязь репутацию, и, надо признаться, избрал для этого самое странное средство. Униженный дома врагами своей страны, он захотел явить себя героем для дел чужой земли.
Угождая императору, он отправился с небольшой горсткой своих людей во Фландрию, чтобы сражаться против французов. С этой целью он, сохраняя инкогнито, примкнул к войскам принца Евгения Савойского и действительно сражался с такой отвагой, что принц Евгений и Мальборуг считали нужным воздерживать его, чтобы не рисковал своей драгоценной жизнью.
— На войне, — отвечал Август, — надо быть немного кальвинистом и верить в предназначенье.
Этот его ответ пользовался большой известностью и дал повод многим сомневаться в том, был ли король Август «добрым католиком». Сомнение, впрочем, едва ли уместное, так как Август потому, собственно, и принял католичество, что у него не было никакой веры.
«Говорят, что Август переменил религию, — писал один из историков. Я не могу этого допустить, потому что переменить можно только то, что мы уже имели. Август разве принял религию, но не переменил ее».
Но как он ее принял?
Всем было известно, что тотчас же по принятии католичества он начал дерзко и грубо издеваться над обрядами своей новой веры: его шалости в этом случае доходили до того, что он вешал четки на шею своей любимой собаки.
Однако, военные подвиги с Евгением Савойским саксонскому королю тоже скоро наскучили, и он, предвидя, что осада Лиля может продлиться довольно долго, пожелал возвратиться к своей Саксонии и к своей Ко́зель.
Возвращаясь инкогнито, под именем графа Торгау, он заехал по дороге в Брюссель, где ему чрезвычайно понадобилось провести вечерок с танцовщицей Дюпарк. На вечеринке, происходившей в знаменитом тогда ресторане Вернуса, Август вознаграждал себя за суровое воздержание лагерной жизни и так увлекся Дюпарк, что, расставаясь с ней утром, пригласил ее приехать в Дрезден.
Бывшие с ним придворные тотчас же усмотрели в этом признак охлаждения к графине Ко́зель и намотали это себе на ус.
XIII
Между тем в Дрездене в отсутствие короля у Анны Ко́зель с наместником Фюрстенбергом и Флеммингом возникли большие неприятности, и эти два сановника решились во что бы то ни стало разделаться с надокучившей им королевской фавориткой.
Этого же горячо желал и весь двор, где было, конечно, немало интриганов, имевших цели заменить Анну для короля той или другой женщиной, на которую они могли бы иметь свое влияние. Графиня догадывалась об этом. Преданный ей Заклик разведывал и доносил ей все, что против нее строили ее недруги.
Поэтому долетевшие из Брюсселя слухи о Дюпарк были приняты с усиленным интересом, и возвращение короля ожидалось двором нетерпеливо.
Чувствовалась и ожидалась ожесточенная борьба, в которой Анна должна была пасть или стать еще сильнее.
Против нее были общее раздражение ловких и пронырливых интриганов и ее собственная самонадеянность; за нее — красота и сила, если не привязанности, то, по крайней мере, привычки к ней Августа и дети, в которых Анна видела узел, связующий ее с Августом. Его обещание жениться на ней она тоже считала делом серьезным!
Враги Анны, в свою очередь, рассчитывали, во-первых, на то, что она, по их соображениям, уже должна была порядочно надоесть королю своими капризами и безмерными тратами, а во-вторых, они ждали, что она сама поможет им своей несдержанностью. Она легко могла выйти из границ благоразумия.
Во время отсутствия короля ему доносили об обременительных для казны излишествах, и Август велел определить на расходы графини сумму, больше которой она не имела права требовать. Фюрстенберг ухватился за это и решительно отверг несколько раз возобновлявшиеся требования прибавок. Это до того возмутило не привычную к такому порядку Анну, что она поклялась при первой встрече с Фюрстенбергом дать ему публично пощечину. Знакомые с характером Ко́зель были уверены, что она исполнит это обещание.
Но положение Анны было не так еще плохо, как это казалось придворным: Август, возвратясь в Дрезден, прежде чем повидаться с женой, прямо отправился к Ко́зель во дворец «четырех времен года». Он застал графиню в постели, приходившую в себя после довольно серьезной болезни, и более чем когда-нибудь ласково и нежно старался отереть ее слезы.
— Ах, мой государь! — говорила, обнимая его, Анна. — С какой мучительной тоской и нетерпением ожидала я твоего возвращения! Мне так было худо; я столько здесь без тебя вынесла… О, будь милостив, избавь наконец меня от вечных преследований твоих друзей! Если я еще живу в твоем сердце, если ты еще не разлюбил меня, не дай меня в обиду!
— Кому? Кто тебя обижает? — спросил Август.
— О! Спроси лучше, кто не обижает меня? Все твои ближайшие доверенные и приятели в этом превосходят один другого. Этот противный пьяница Флемминг, этот лицемер и ханжа Фюрстенберг! Все они обратили меня в свою злобную игрушку. Я уверена, что они сговорились убить меня горем.
Плача, она была прелестна, и долго не видевший ее Август начал ее успокаивать.
— Ты все преувеличиваешь, — сказал он, — но я Фюрстенбергу и Флеммингу натру уши.
И за этим последовали теплые сцены, после которых король пришел во дворец, настроенный Анною, как ей хотелось.
Он не только холодно выслушал жалобы Фюрстенберга на мотовство фаворитки, но даже велел ему явиться завтра к ней и при нем самом испросить у Анны прощение.
— Да и ты тоже, — добавил он Флеммингу, — оба вы виноваты перед графиней и оба пожалуйте вместе. Вы ведь должны бы знать, что я терпеть не могу никаких ссор. Можете явиться к графине завтра утром, а я до тех пор постараюсь смягчить ее гнев на вас и расположить ее к примирению. Я надеюсь, что она вас простит.
Флемминг, позволявший себе иногда противоречить королю, попытался возразить.
— Ваше величество! Не было бы это слишком большим унижением для людей, которые исполняют порою ваши поручения совсем иного характера?
— Ну, что бы там ни было, а ты должен это сделать и сделаешь, или тебе придется с нами распроститься.
Генерал напрасно кипятился и ворчал, но того, что он должен бы сделать, охраняя свое достоинство, он, разумеется, не сделал, и оказалось, что Август знал этих господ лучше, чем они сами себя знали.
Утром на другой день оба они прибыли во дворец графини Ко́зель, и Август сам ввел их к своей фаворитке. Анна приняла провинившихся перед нею государственных людей с гневом и надменностью, и пока король, предстательствуя за виновных, сочинял им оправдания, враги меряли друг друга глазами; потом государственные люди притворились, что они раскаиваются и просят прощения, а фаворитка притворилась, что она их прощает.

Новый рынок в Дрездене с видом на Женскую церковь
Графиня Козель, любовница Августа и мать трех его детей
Нетрудно было понять, что они заключали между собой не мир, а перемирие, которое должно было окончиться при первом удобном случае. Но тем не менее на этот раз дело было улажено: никакая ссора более не тревожила короля, и достаточно униженные по его прихоти вельможи были допущены к руке его зазнавшейся любовницы и получили от нее дозволение удалиться по домам.
Там они могли спокойнее обсудить свое положение.
Интриганы опять приуныли: выходило, что Анна еще не потеряла своей власти над Августом и что его тайные волокитства выражают только его привычку к разврату, но что он едва ли в состоянии бороться с привязанностью к Анне.
Но вскоре они постарались поссорить ее с королем другим способом.
Приглашая Дюпарк приехать для нескольких представлений в Дрезден, Август не открыл ей своего настоящего имени и положения, он был ей известен под именем графа Торгау. Такого графа в саксонской столице не было, Дюпарк, разумеется, разыскивала Торгау напрасно. Август, конечно, это знал, и это его забавляло.
Дюпарк, имевшая при дрезденском театре тетку, была препровождена ею к директору королевских увеселений камергеру Мурдаху, который тоже, конечно, был обо всем извещен заранее, и тетка Дюпарк удивлялась, как предупредительно камергер принял ее племянницу. Он выразил готовность исполнить все ее желания и назначил ей вскоре же выступить на сцену в балете «Принцесса Елида», который только что был приготовлен к возвращению Августа из Фландрии. Во всем этом, конечно, надо было чувствовать влияние таинственного графа Торгау, и тетка с племянницей всячески доискивались, что за лицо скрывалось под этим именем, и начали подозревать в нем самого короля.
Танцовщица, увидев Августа в театре, тотчас же признала в нем своего брюссельского обожателя и, будучи представлена ему за кулисами, сочла нужным упасть в обморок к его ногам. Король приказал актеру Бельтуру помочь бедной танцорке и привести ее в чувство, а сам ушел в ложу графини Ко́зель, до которой, конечно, уже долетела весть о закулисном происшествии. Такое внимание короля к авантюристке, конечно, не понравилось Анне, и она ему это заметила.
— Мне кажется, — сказала она, — что ваше величество оказываете этой даме слишком много внимания. Стоит ли она этого?
Августу это не понравилось.
— Да, вы отчасти правы, — отвечал он сухо, — я к ней был внимателен. Впрочем, ведь я вообще внимателен к женщинам и знаю, что меня многие за это упрекают и доказывают мне, что не все, кого я отличаю, умеют не злоупотреблять этим. Однако, что делать?.. Я неисправим… К тому же мне кажется, что эта бедная Дюпарк должна быть довольно скромна.
Ко́зель покраснела и, подвинув свое кресло в глубину ложи, процедила сквозь зубы:
— Я, впрочем, никогда не сомневалась, что вкусы вашего величества так разнообразны, что вам могут нравиться даже и уличные потаскушки.
Август взглянул на нее, отвернулся и молча вышел из ложи. Через минуту он появился в ложе королевы, с которой в эту пору был ее брат маркграф Бранденбургский. Графиня оказалась в неприятном положении: наблюдательные глаза придворных видели, что у нее с королем что-то произошло, и она, будучи не в силах сдерживать свое негодование, пожаловалась на нездоровье и, приказав подать носилки, отправилась домой.
Август на этот раз был так рассержен, что не пошел после спектакля к графине и даже не приказал осведомиться о ее здоровье.
Между тем враги Ко́зель зорко за всем следили, и к Анне в самые неурочные для посещения часы пожаловала баронесса Глазенапп.
Она ворвалась к графине с выражением нежнейшего соболезнования и, присев у канапе, на котором лежала расстроенная Анна, зачастила:
— Что это случилось? У меня просто сердце сжимается за твою судьбу! И надо тебе сказать, что ведь ты еще не все знаешь: только ты вышла, король приказал Мурдаху устроить у себя вечеринку и пригласить туда эту отвратительную Дюпарк вместе с тремя другими актрисами. Я знаю из самых верных источников, что он тотчас же после театра пошел туда забавляться с ними…
— Пусть забавляется, — тихо проговорила Анна.
— Да, но он был в самом веселом расположении духа и, представь себе, что он до сих пор еще не выходил оттуда.
— Мне это все равно.
— Ты, верно, думаешь, что я шучу? Совсем нет, я знаю даже то, что он подарил по платью и по сто талеров тем трем актрисам, с которыми пировал, и отпустил их, оставшись с одной Дюпарк… О, моя бедная Анна!
И гостья бросилась участливо обнимать хозяйку.
Анна слегка отстранила от себя эти назойливые объятия и сказала:
— И это меня нимало не удивляет. Не думаете ли все вы, что я так ревнива, что способна даже завидовать дареным тряпкам? Право, как вы все смешны мне!
— Да совсем нет… Я не о том…
— Так о чем же? Я пережила уже очень многое, что было посерьезнее какой-то фигурантки с подмосток, и знаю все…
— Конечно, конечно…
— Я знаю и визиты, деланные по старой памяти княгине Тешен…
— Да, да, и Тешен… Как это все низко!
— Знаю и Генриетту Дюваль, — продолжала, не отвечая, Анна.
— Это ужасно, ужасно!
— Ужасно или неужасно, но этим счетам нет счета; но и все-таки дело не в том; а вы вот чего не понимаете…
— Чего, чего, дружочек Анна? Ты знаешь, что я тебе так предана, что ты со мной можешь говорить все!
— Знаю, но то, что я должна тебе сказать, я могу повторить перед целым светом, и еще лучше, если при этом будет стоять сам король…
— Я слушаю тебя, мое сердце…
— Я плачу, баронесса, не о себе, а о нем, о нашем короле, у которого такой несчастливый характер, что он не в силах не унижать себя самым жалким и недостойным образом.
Сказав это, Анна встала и тем дала почувствовать Глазенапп, что она ее поняла и не позволит ей рассорить себя с Августом.
После кутежа ночью с Дюпарк Август по возвращении в свои апартаменты почувствовал силу привычки и, вспомнив об Анне, захотел загладить свою неверность. Чтобы избежать сцен объяснения, он послал к ней Фицтума с поручением подготовить их свидание.
Фицтум до тех пор не вмешивался ни в какие интриги против Анны и находился с ней в добрых отношениях. Он явился к ней как бы сам по себе осведомиться о здоровье и нашел ее хотя и опечаленной, но довольно спокойной. Графиня держала на коленях свою старшую дочь.
На вопрос Фицтума о здоровье она отвечала:
— Как видите, граф, я здорова. Или, — добавила она с улыбкой, — вы, быть может, видите на моем лице признаки какой-нибудь опасной болезни?
— О, что до вашего лица, то я вижу на нем только одно, что вы всегда прекрасны.
— А вы всегда очень милы, любезный граф, — отвечала Анна и ни словом не подала своему собеседнику повода свернуть разговор ко вчерашним театральным событиям.
Фицтум увидел, что графиня не заговорит первая о короле и Дюпарк, а сам он не был уполномочен начинать такой разговор и потому сократил визит и, откланявшись Анне, вернулся к Августу с докладом, что нашел графиню в состоянии довольно спокойном.
Август целый день боролся с собою, но под вечер не выдержал и отправился во дворец «четырех времен года».
Август чувствовал, что он привык к Анне, и хотя страстная любовь к ней у него давно уже прошла, но ему было необходимо ее видеть.
Со своей стороны, Ко́зель, давно опытом убежденная, что нет на свете красоты, которая могла бы пленить Августа до того, чтобы владеть им без раздела, махнула рукой и решилась снисходительно относиться к его легкомысленным изменам.
— Вы вчера в театре сделали мне очень неприятную сцену, — начал король, — я этого очень не люблю, это почти публичный скандал, что мне как королю, я думаю, сносить непристало.
— Государь, если бы не моя любовь к вам…
— Полноте, пожалуйста, с такой любовью! Если она искренна, то что же мешает ей быть и благоразумной?
— Простите ей бессилие быть благоразумной! Я каюсь, что ищу невозможного, желая, чтобы меня не меняли на каждую встречную.
— Не невозможного, — отвечал Август, — вы ищите, а вы бы лучше избавили меня от своей смешной ревности.
— Не подавайте к ней повода, государь.
Король пожал плечами и проговорил:
— Где поводы? Кто виноват, что вы их видите повсюду?
Ко́зель ничего не ответила: с нее было довольно того, что ей не угрожает дальнейший гнев Августа, и они помирились.
После этого происшествия отношения Анны с королем несколько изменились — они сделались менее сердечными, и в них вкралась постоянная сдержанность. Порывы страсти обнаруживались только во вспышках из-за Дюпарк, от чего ревнивая Анна никак не могла удержаться, несмотря на всю свою твердую решимость.
Дюпарк, впрочем, была не в состоянии долго интересовать пресыщенного Августа. Это была женщина, которая могла понравиться его развратным инстинктам, но она не могла владеть его сердцем, и страсть кончалась тотчас вслед за удовлетворением причуд, которым она сослужила свою мимолетную службу.
Вульгарное обращение Дюпарк и ее театральных приятельниц постоянно пробуждало в короле желание иного общества, и все эти женщины вдруг сразу ему надоели; а вместе с тем Ко́зель возвратила себе прежнее влияние.
Так опять прошел год.
В следующем же году в Дрезден приехал датский король Фредерик IV, который на обратном пути из Италии пожелал навестить свою тетку, королеву саксонскую. Август, пользовавшийся каждым удобным случаем, чтобы праздновать и сорить деньгами, принимал своего августейшего родственника с удивительной роскошью. Он, еще до приезда его, сам лично обдумал весь план разнообразнейших увеселений, которыми непременно желал восхитить повелителя Дании. В числе оригинальностей этого плана было то, что графине Анне Ко́зель как прежней подданной датской короны по рождению (она была из Голштинии), предназначалось быть хозяйкой. Таким образом, она была призвана играть всегда на собраниях и на пирах первую роль.
Как только в Дрездене стал известен день приезда Фредерика IV, король с вечера выслал навстречу ему самую почетную свиту с отрядом отборного войска и музыкантов.
Сам Август, окруженный великолепнейшей свитой придворных, встретил Фредерика IV за две мили от города и сопровождал его в Дрезден, куда кортеж въехал при громе орудий и яркой иллюминации.
Около замка стояла королевская гвардия. На главной лестнице гостя встретили королева и молодой принц.
В парадных апартаментах их ожидали придворные дамы; королева каждую из них представляла своему августейшему племяннику.
Но этот официальный прием продолжался весьма недолго. После короткого разговора Фредерика с теткой и родными Август взял его под руку и провел в предназначенные для датского короля комнаты. Но и тут они не задержались и через несколько минут шли уже крытым ходом, соединявшим королевский замок с дворцом графини Ко́зель.
Парадный ужин, который должен был происходить со всем церемониалом двора Августа, был сервирован в большой зале замка. Все придворные чины — кравчие, подчашии, подкомории и пажи — в богатых, расшитых галунами уборах были на своих местах у стола, как им надлежало быть по этикету.
Датский король сидел между Августом и королевой. Первый провозглашенный за его здоровье тост отсалютовали пушечными выстрелами с крепостных стен. На хорах и в галереях играла музыка. Вся зала, блестевшая огнями и золотом, была убрана также зеленью и цветами. Тут были собраны богатства, какими в то время едва ли мог похвастать какой бы то ни было другой европейский двор.
Но и все это можно было почесть бледным и незанимательным. Вокруг стола стояли красивейшие из дам двора Августа, а среди них самой прелестнейшей была, разумеется, она, Анна Ко́зель. Богатый, усыпанный бриллиантами туалет был превосходен.
Датский король был поражен ее красотой и, вероятно, желая сделать удовольствие Августу, попросил у своих августейших хозяев, чтобы графине разрешено было сесть. Август, разумеется, был очень этому рад и в знак согласия кивнул головой. Анна поклонилась и заняла место, к немалому неудовольствию других дам, которые остались стоять на ногах.
Фредерик гостил в Дрездене сорок дней, и все это время изобретательность саксонского короля не истощалась; одно удовольствие сменялось другим. Король был на это неподражаемый мастер.
На дрезденские карнавальные праздники собирались придворные и дворяне, обязанные наряжаться в дорогие костюмы. Не менее разнообразны были королевские охотничьи развлечения: скачки по лесам за оленями, травля кабанов и зайцев, стрельба куропаток и фазанов. Рыцарские игры, карусели, скачки за перстнем, пешие турниры, стрельба при факелах в специально сделанных для этого стрельбищах на рынке, — все это оживляло и разнообразило удовольствия.
Кроме того, при этих затеях были свои курьезы: при стрельбе, например, пуля, попадая в цель, тотчас зажигала фейерверк и тысячи ракет взвивались к небу. При этих состязаниях раздавались и награды, и часто весьма ценные, а иногда, впрочем, и шуточные, например, лисий хвост.
Если к тому времени, когда было назначено катанье на санях, снег таял и путь пропадал, то в город сгоняли тысячи крестьян, которые привозили снег на телегах.
Маскарады и балы в большой зале замка отличались великолепием. Огромную залу освещали семь огромных жирандолей, из которых в каждом горело до пяти тысяч восковых свечей. Рядом в зале аудиенций накрывались восемнадцать столов для приглашенных гостей. На маскарады допускался всякий, кто был прилично одет.
Иногда развеселившиеся маски, разгуливая по городу, врывались, незваные, в дома мирных граждан и потешались над испугом хозяев. Условия карнавальной свободы требовали, чтобы двери перед ряжеными не запирались. Притом, между масок мог быть сам король.
В Дрездене также были французский театр, итальянская опера и балеты, и все эти затеи стоили Августу ежегодно более восьмидесяти тысяч талеров.
Датскому королю Август желал показать все, чем мог похвалиться, и эти дни были днями наивысших успехов графини Ко́зель. Она была настоящей царицей всех удовольствий: оба короля носили ее цвета; фейерверки горели ее вензелями; ее буквы красовались в цветочных венках и гирляндах, она раздавала награды и была во главе всех дам на стрельбе в перстень.
Из всех празднеств, однако, самым блестящим было так называемое шествие богов и богинь, которое до тех пор было практиковано только однажды, в 1695 году; но теперь повторялось с гораздо большим великолепием и роскошью.
В этом шествии принимал участие и датский король, ему была дана роль Юпитера; Август был Аполлоном, а графиня Ко́зель изображала Диану, окруженную целой свитой прелестных нимф. За ней следовала золотая триумфальная колесница, в которой помещались музыканты. Затем, несмотря на довольно уже большое утомление гостей, назначена была еще дамская скачка за перстнем, эта последняя затея была сочинена, собственно, для Анны и должна была служить финалом ее торжеств.
Этот день настал: оба короля явились, украшенные цветами и вензелями графини, и датский король сам вел ее под руку, а Август и подкоморий шли у них с обеих сторон.
Королева скромно смотрела на весь этот парад из своей ложи.
XIV
День был превосходный, с чистым голубым небом.
Ложи и галереи вокруг двора, на котором происходила скачка, были заполнены многочисленными зрителями, роскошные наряды дам были ослепительны; но опять прелестнее всех была она, эта неустрашимая амазонка. Всегда ловкая и гибкая, Анна, сидя на коне, казалась еще грациознее и имела успех необыкновенный. В ложе королевы ей рукоплескали, а короли приготовили победительнице дорогие подарки. Это, разумеется, во многих поднимало самую черную зависть, но король не обращал никакого внимания ни на злобные взгляды дам, ни на их ехидный шепот за веерами.
В толпе между чиновниками и придворными, не принимавшими в зрелище участия, стоял Заклик: он случайно оказался среди людей, которые не знали и не стеснялись его.
— Да, нечего сказать, она очень хороша! — говорил один человек, с виду иностранец. — Я думаю, что вашему королю лучшей любовницы себе нигде не достать.
— Пожалуй, что и так, — отвечал старый придворный.
— Да, не достать, и уже она, верно, и будет его последний номер.
— Ну, это совсем другой вопрос, — отвечал старый придворный и, усмехнувшись, продолжал: — Глядя на нынешнее, я припоминаю прошлое и думаю, что еще придется увидеть в будущем? Помню я очаровательную Аврору, помню добрую Эстерле, и кажется, еще теперь точно вижу перед собой прекрасную Шпигель и милую Тешен. И из всех одна эта Ко́зель каким-то удивительным образом задержалась всех долее, но чтобы она могла еще долго быть в этой роли или совсем привязать к себе короля, этому не бывать.
— Но ведь говорят, что король обещал на ней жениться? — шепнул иностранец.
— И, милостивый государь, мало ли чего женщинам не обещают в иное время? Все ли то исполняется, да и можно ли все то исполнить, что они требуют? Обещал он то же самое, я думаю, и княгине Тешен, ожидала этого же и прекрасная Аврора, но Бог продолжит дни нашей достойной, доброй королевы, и прелестная рыцарка турнира, на которую мы с вами любуемся, уйдет вслед за другими.
— А если и так, то, должно быть, это случится еще очень нескоро, — засмеялся иностранец.
— А кто за это поручится? — отвечал придворный. — Посмотрите-ка вон туда, на целый ряд этих еще прекрасных, нежных лиц, на которых так и горит зависть. Они ведь все имели свои дни фавора. А там в углу, видите, группа французских танцоров и танцорок? Там стоит Дюпарк, которая и теперь делит с этой амазонкой сердце и ласки государя… Хотя все ее достоинства заключаются разве в том, что она некрасива и распутна. И, государь мой, ни за что нельзя отвечать, что случится.
Сзади Заклика стояли другие придворные, которые тоже не скрывали своего нерасположения к графине.
— Как хорошо все идет, — говорил один из клевретов Фюрстенберга. — Она совсем занеслась, и теперь можно определить час ее падения.
— Да, это так! — отозвался другой. — И притом я теперь еще вот что предсказываю: вы увидите, что король не расстанется с ней так тихо, как расставался со своими прежними фаворитками.
— Почему вы так думаете?
— Да она сама нарвется на какую-нибудь историю. С ней не так легко разделаться, ведь она, говорят, носит при себе заряженный пистолет и подписанное королем обещание на ней жениться. Она себя погубит, но будет все-таки отстаивать свои права.
— Впрочем, мы уже третий год предсказываем ее падение, — сказал первый и, обратясь к стоявшему неподалеку барону Киану, спросил: — Какого вы об этом мнения, барон?
— Я, любезнейший мой, ведь не астролог, я будущего не предсказываю, — отвечал Киан, — и не умею вычислять, когда какая звезда восходит и когда какая заходит. Но я знаю, однако, что есть и неподвижные звезды.
В одной из лож графиня Рейс, Фицтум, госпожа Юльхен и баронесса Глазенапп переговаривались о той же Анне.
— Мы сами виноваты, — замечала Рейс. — Вот уже несколько лет около короля одни и те же лица, надо было давно добыть ко двору что-нибудь новое.
— Да, но что добыть? — прервала Фицтум. — Я терпеть не могу этой женщины, но должна признаться, что против нее трудно что-нибудь отыскать!
Опытная и поседевшая в интригах Рейс на это засмеялась и, прищурив глаза, сказала:
— Я удивляюсь, однако, что все вы, зная характер нашего короля, не знаете, что нужно добыть, чтобы заставить его забыть Ко́зель? Добудьте такую женщину, которая могла бы нравиться и была бы всего менее похожа на Анну. Но я обращаю теперь ваше внимание на датского короля. Смотрите, как он сладко на нее поглядывает!
— Да, в самом деле, но зато она изволит окидывать его олимпийским взглядом.
— Если бы не хотелось плакать, то, право, смеялась бы над этой сумасшедшей авантюристкой, — шепнула Юльхен.
Такие разговоры слышались повсюду.
После ужина, который заключил турнир, Анна возвратилась домой. Она была очень взволнована: лицо горело еще огнем торжества, но силы ослабли от усталости и особого лихорадочного состояния, которое овладело ею под влиянием замечаемых зловещих, завистливых взглядов.
Так, не снимая своего наряда, она сидела в грустном раздумье на софе, пока во дворце утих всякий признак жизни.
Анна не ждала к себе короля, потому что он на следующее утро уезжал вместе со своим гостем в Берлин: это ее тоже тревожило. Но вот в коридоре, из которого была лестница в галерею, соединявшую дворец Анны с королевским замком, послышались шаги. Это, конечно, не мог быть никто другой, как Август. Ко́зель вскочила с софы и подбежала к зеркалу, чтобы оправить на себе платье. Ее роскошные черные волосы, которые она хотела поскорее свернуть, не повиновались ее торопливой руке, и король вошел прежде, чем она успела привести свой туалет в должный порядок.
С первого взгляда на Августа Анна заметила, что он пришел к ней в том возбужденном состоянии, в каком она его редко видела и наименее любила встречать его. Ясно было, что король, прощаясь со своим августейшим родственником, не считал выпитых бокалов. Они пили до тех пор, пока Фредерика пришлось с подобающим его царственной особе уважением отнести на кровать, а Август, стараясь не потерять равновесия, побрел к своей фаворитке. Войдя в комнату, где была Ко́зель, он тотчас же тяжело опустился в кресло и заговорил нетвердым голосом:
— Анна, я пришел проститься с тобой! Гм! Сегодня, кажется, для тебя был такой триумф, какой редко испытывает женщина… Что?.. Поблагодари же меня, по крайней мере, за это!
И он засмеялся.
— Ах, государь, — отвечала графиня, — разве я не всегда вам благодарна? Но если бы ты, мой Август, видел, какими полными зависти глазами все на меня смотрят, если бы ты слышал все злые речи, которые шепчут их сжатые губы, ты бы понял, что мне весь этот триумф приносит меньше счастья, чем досады и печали.
— Пустяки, — отвечал, усмехнувшись, Август. — Зависть — вечная трагикомедия жизни. Без завистников и врагов не проживешь. Я имел моего Карла XII, ты — своего Флемминга, но я весел и ты будь весела.
— Не могу, государь!
— Пустяки, я тебя прошу, будь весела для меня! — сказал Август.
Ко́зель посмотрела пристально на его веселое от вина лицо и в самом деле невольно рассмеялась.
— Вот видишь, — сказала она, — если бы ты был со мною, так я, верно, и опять скоро бы развеселилась; но ты от меня бежишь, бросаешь меня, уезжаешь надолго и… кто знает, каким сюда вернешься.
— Во всяком случае, только не таким пьяным, как теперь, — отвечал Август. — Черт возьми, вино я люблю, но терпеть не могу его власть над собой.
— Да, что же делать, но скажи мне лучше, когда же ты ко мне возвратишься?
— Ну, об этом надо спросить у астрологов. Я, право, ничего об этом не знаю. Мы едем в Берлин, и меня, признаюсь, занимает, как эти скаредные Бранденбурги будут принимать гостей после моих дрезденских праздников. Плоховато, я думаю… Фридришек будет забавлять нас своими солдатами, а еще усерднее морить голодом.
— Ты возвращайся только скорее.
— Возвращусь.
— Скоро и так…
— Как еще?
— Так, чтобы тебе нестыдно было взглянуть в глаза твоей верной Анне!
— Это из Берлина-то! — рассмеялся Август. — О, не беспокойся! Вот уж там-то моему целомудрию не угрожает никакая опасность. Я не знаю ничего скучнее этого бесцветного и скучного двора.
— Ну… там цветет Дессау! — ревниво шепнула Ко́зель.
— Вот это правда, она очень красива; но будь она католичка, ей надо бы сделаться монахиней: в ней ни тени страсти и самая противная претензионность, она обижается за каждое вольное полуслово. Нет, я таких не люблю.
Август попробовал подняться и потер себе лоб так неосторожно, что сдвинул несколько на сторону завитой парик. Ко́зель поправила его, и король, удержав ее ручку, покрыл ее поцелуями.
— Ты знаешь, — сказал он ласково, — у меня ведь есть к тебе просьба.
— Приказывайте, государь.
— Нет, я прошу!
— Что же такое?
— Помирись с Флеммингом… Я откровенно тебе скажу, что ваши постоянные неудовольствия мне просто поперек горла стали, и всякий раз, как мне случается выехать, они мне приходят на мысль и… и ужасно меня раздражают! — заговорил он с заметным нетерпением.
Ко́зель поморщилась.
— Государь, мне кажется, вы лучше бы сделали, если бы соблаговолили внушить все это Флеммингу. Он первый без вас всегда старается оскорблять меня, чтобы дать чувствовать, что я… не жена ваша; между тем как…
— Между тем как вы моя жена! — договорил еще с большим нетерпением Август, и губы его сложились в улыбку, а в глазах сверкнуло негодование.
— Надеюсь, что это так, и как жена короля я вовсе не желаю стоять на одной доске с кем бы то ни было из королевских слуг.
— Ах, как мне эти войны уже надоели!
— Что же, нет ничего легче их прекратить. Вам только следует приказать Флеммингу быть мне покорным, и никаких войн не будет. Неужто вы не можете заставить его уважать мать ваших детей?
Король, выслушав эти слова, встал и, ничего на них не ответив, простился и вышел.
Хотел он помирить Анну с Флеммингом или еще более их поссорить, это было известно одному ему; но, несмотря на довольно поздний час, он тотчас по возвращении в свои апартаменты призвал Флемминга и сказал ему:
— Вот что, старик, Ко́зель мне опять на тебя жаловалась. Ты, право, должен бы ей уступать. Ну, что за счеты с женщиной? Мало ли что там она сболтнет сгоряча, не всякое слово записывай. Ведь пора тебе знать женщин, а то хоть у меня поучись, как я сношу ее капризы.
— Государь, — отозвался Флемминг, — ваше величество совсем другое дело, за ваше терпение графиня может платить вам такой расположенностью, что одно с избытком покрывает другое.
— Может быть, но ведь и я к тебе расположен и могу жалеть, что ты ни во что не ставишь мою расположенность.
Флемминг поклонился и отвечал:
— Ваше величество изволите знать, что я не силен в расчетах и потому мне лучше не прибегать к ним.
— Ну, кончим об этом, будь, по крайней мере, хоть в хороших отношениях с Ко́зель.
— Трудно это, государь.
— И это трудно?!
— Да, государь, трудно: я ни льстить, ни лгать не учился, и старая спина моя уже не гнется… Я ведь совсем не придворный!
Король расхохотался.
— Не придворный, — проговорил он, — а знаешь ли, это правда.
— Правда, государь.
— И вот графиня Ко́зель, которая тебя, конечно, не любит столько же, как и ты ее… она очень наблюдательна!..
— Может быть, государь.
— Я тебя уверяю!
— Да я никак и не смею не верить.
— Она мне много раз говорила, что ты совсем не похож на придворного.
— Очень ей за это благодарен.
— Да, но ты знаешь, на кого ты похож, по ее мнению?
— Не знаю, государь, и… если можно мне об этом не знать…
— Нет, отчего же, — перебил Август, — в этом сравнении для чести твоей нет ничего обидного. Она находит, будто бы ты похож на обезьяну, хотя я, по правде сказать, с нею на этот счет не согласен.
Флемминг поднял голову и, сверкнув глазами, хотел что-то сказать, но только пробурчал что-то глухо и умолк.
Если бы король долго придумывал, как злее поссорить навсегда Флемминга с графиней Ко́зель, то он не мог бы сочинить лучше того, что сделал.
Здесь будет уместно несколько ближе познакомиться с генералом Флеммингом, который играет большую роль в развязке нашей истории.
Граф Яков Генрих Флемминг был довольно могуществен при Августе.
Говорили даже, будто ему была обещана польская корона. Одна из его кузин, дочь фельдмаршала Флемминга, была в Польше замужем за Пшебендовским, а через это у генерала завязались с Польшей отношения.
По своему времени Флемминг был человек образованный и более дипломат, чем воин, хотя избрал военное поприще. Как все дипломаты того времени, он держался известных правил Макиавелли: ему все средства казались прекрасными, если только они вели к желанной цели.
Об убеждениях своих он говаривал так: «По-моему, людей создают обстоятельства. Каждый имеет способности ко всему, только каждому нужен случай, чтобы себя испробовать. Я могу служить в этом случае лучшим примером. Сначала я сознавал себя способным к военному делу и не имел никакого другого желания, как получить полк. И, однако, я дошел до того, что теперь я и фельдмаршал и первый министр, хотя в жизни моей никогда не сидел ни в одной коллегии. Я управляю и Польшей и Саксонией, между тем я не знаю законов ни Саксонии, ни Польши. Чего же вы еще хотите в доказательство моей теории?»
С первого взгляда он казался весьма простодушным, но это было обманчиво: он был вкрадчив, хитер и, где надо, смел.
Он был старше своего короля только на три года; жил он по-княжески, отлично говорил по-французски, по-польски и по-латыни; здоровье имел удивительное: он в состоянии был не спать ночи, много пить и не напиваться, вздремнуть с четверть часа в кресле — и быть готовым к делу.
Наружностью он не взял: Флемминг был очень некрасив и притом он, вопреки тогдашней моде, не носил парик. Он очень любил деньги и не гнушался взяток, но король, узнав однажды, что Флемминг взял с кого-то пятьдесят тысяч талеров, ограничился тем, что сказал ему:
— Послушай, Флемминг, я точно знаю, что ты кое-что хапнул. Мне кажется, что это тебе одному уже слишком много. Доставь-ка, брат, половину мне.
И министр поделился взяткой с королем.
Вот с этим-то человеком стала в отношения непримиримой вражды графиня Анна Ко́зель.
XV
Между тем как король Август забавлялся, Карл XII потерпел страшное поражение на полях Полтавы: эта роковая битва решила его судьбу и изменила положение дел в соседних государствах.
Король Август, возвращаясь с радостью из Берлина, где скромный двор не старался поразить его пышностью приема, был удивлен, когда курьер, высланный к нему из Польши княгиней Тешен, привез ему весть о поражении Карла. В первую минуту Август даже растерялся и продолжал лепетать о своем отказе от польской короны, но в это же время явился Флемминг и внушил ему, что вынужденные оружием договоры ничего не значат и что при нынешних благоприятных обстоятельствах надо вернуть себе Польшу, так как Лещинский — король незаконный. Флемминг уверял, что найдутся тысячи рук для защиты этого дела и что королю стоит теперь только появиться в Польше, чтобы восторжествовать над всеми прежними неудачами.
Польская корона, разумеется, была привлекательна, тем более что вместе с возвращением этой короны воскресала надежда создать там наследственную монархию. А потому Флеммингу не стоило большого труда склонить своего государя изменить его взгляды, установившиеся во время долгих неудач, и взяться опять вести дело к тому, чтобы хотя бы часть Речи Посполитой слилась воедино с Саксонией и образовала бы вместе с нею достаточно обширное государство. А для этого нужно было прежде всего возвратить польскую корону, и, конечно, на тех условиях, чтобы она более уже не подлежала избирательному праву, а обратилась бы в наследственное достояние саксонских королей.
Август согласился на все доводы Флемминга и дал приказ как можно скорее собрать войска и двинуться в Польшу. Флемминг и его польские друзья обещали самое ревностное содействие.
В удаче этой затеи никто не сомневался, расчет казался совершенно верен. Из Польши, по приглашению Денгоф, прибыли в Дрезден маршал сендомирской конфедерации и епископ Куявский-Шенявский. Против побитого шведа у Августа был добрый союзник, племянник Фредерик датский, с которым Август обо всем условился, пока тот гостил в Дрездене. Фридрих Бранденбургский также был согласен на эту комбинацию. Образовалась целая лига, на память о которой впоследствии выбита была медаль, изображавшая три соединенные руки трех Фридрихов.
Теперь, когда закипело такое дело о польской короне, Август не имел времени забавляться любовью. Приехав в Дрезден, он получил более подробное известие о полтавской битве и приказал отпечатать о ней циркуляры для всеобщего сведения, а сам снова полетел в Пруссию, чтобы условиться окончательно.
Во время короткого пребывания в Дрездене он едва успел поздороваться и проститься с Ко́зель.
Флемминг с ней теперь церемонился менее, чем когда-либо: он чувствовал себя в эту пору нужным человеком и мог ее игнорировать. Она обращалась к нему с несколькими просьбами, но он отвечал, что у него есть важные дела, и просьбы ее оставлял без всякого внимания; а одно присланное ею письмо разорвал и притоптал ногами на глазах посланца графини. Мало этого: он приказал последнему сказать Анне, что он ни жалоб, ни угроз ее не боится и знать их не хочет. Это был слишком обидный вызов, чтобы Ко́зель могла стерпеть его без ответа.
На другой или на третий день после этого события судьба свела их на улице: Флемминг был верхом, графиня в карете. Увидев своего врага, она высунулась из экипажа и, грозя ему рукой, крикнула:
— Эй вы! Генерал!.. Помните ли вы, кто вы такой и кто я? Вы слуга короля, обязанный исполнять, что вам приказано, а я здесь хозяйка! Вы хотите войны со мной? Прекрасно, вы ее будете иметь!
Флемминг засмеялся и, приложив с притворной любезностью руку к фуражке, отвечал:
— Успокойтесь, мне некогда вести войны с женщинами, как некогда и потворствовать их капризам.
Графиня хотела крикнуть Флеммингу несколько дерзких слов, но он повернул коня и поехал в другую сторону.
Вдобавок, прислуга их тоже повздорила, и дело чуть не дошло до драки.
Началась открытая война. Своенравная Ко́зель, терзаясь бессильным гневом, ждала короля со страшным нетерпением.
Август успел еще дорогой узнать о происшедшем и, приехав в Дрезден рано утром, с неудовольствием заметил Флеммингу:
— Как это вы, старый солдат и дипломат, не умеете поладить с женщиной?
— Виноват, государь, — отвечал Флемминг, — я лажу довольно со многими женщинами, кроме одной, которая присваивает не принадлежащее ей имя нашей королевы и разоряет страну.
— Но если я люблю эту женщину и требую, чтобы ей оказывали уважение?
— Ее никто не трогает, — отвечал коротко Флемминг.
Король замолчал, и тогда Флемминг продолжал более спокойно и с достоинством:
— Ваше величество, я буду теперь говорить об этой женщине и прошу вас простить мне это. Она съест Польшу и Саксонию, и ей всего этого будет мало. Угодно ли вам позволить ей это? Если ваше величество чувствуете себя слабым освободиться от нее, то мы, окружающие ваш трон, обязаны позаботиться, чтобы освободить вас от ее оков.
Август прекратил разговор и отправился к Ко́зель. Та ожидала его с гневом и упреками, которых Август вообще терпеть не мог. Она начала свои жалобы чуть не с самого порога, бросившись на шею королю, она вопила:
— Защити меня! Со мною обходятся, как с последней из женщин. Флемминг поносит меня публично, он рвет и топчет мои письма, я не могу более сносить этих унижений. Воля твоя, государь, скажи сам, кто тебе дороже: он или я? Кто дороже, того и оставь при себе.
Август хотел отделаться шуткой, он со смехом обнял Анну и заговорил:
— Успокойся, ты все преувеличиваешь и берешь слишком близко к сердцу. Флемминг мне теперь так необходим, что я не могу им не дорожить.
— Ах, он дорог… Так вот что! — воскликнула Ко́зель. — А я не дорога уже?
— Но ведь ты хорошо знаешь, что ты дорога, что без тебя для меня нет жизни, но, однако, если ты меня сколько-нибудь любишь, то и ты ведь должна же чем-нибудь для меня пожертвовать…
— Всем, всем государь, кроме моей чести!
— Чести твоей никто не трогает, а с Флеммингом ты должна жить в мире.
— Никогда!
— Нет, должна! Он извинится перед тобой, и ты должна принять его извинение.
— Я не хочу этого, я желаю быть свободной от всяких встреч с этим гнусным человеком.
Август взял ее за руку и молвил спокойно:
— Послушай, моя дорогая Анна, твоя требовательность не знает границ, сегодня ты настаиваешь на удалении Флемминга, завтра тебе не понравится Фюрстенберг, а когда я выгоню их обоих, ты заведешь счеты с Пфлугом и с Фицтумом. Это ведь твоя слабость, ты ни с кем не можешь ужиться.
— Потому что, кроме тебя, государь, здесь все мне враги.
И она начала горько плакать, а король позвонил и, несмотря на протест хозяйки, приказал немедленно позвать сюда генерала Флемминга.
Флемминг вошел и, не поклонясь графине, обратился к королю с вопросом, что его величеству угодно.
Ко́зель стояла спиной к своему врагу и едва себя сдерживала.
— Мой любезный Флемминг, — обратился король, — ты знаешь, как я не люблю, чтобы около меня происходили ссоры. Если ты сколько-нибудь меня любишь, сделай милость, извинись перед графиней, и протяните друг другу руки.
— Никогда на свете! — вскричала Ко́зель. — Я не подам своей руки ничтожному придворному, который отважился обидеть беззащитную женщину.
— Не беспокойтесь, графиня! — отвечал Флемминг. — Я совсем и не думаю навязывать вам свою солдатскую руку, я не буду просить у вас прощения.
Это взорвало Августа, и он вскочил с места.
— Генерал! — воскликнул он. — Ты это сделаешь для меня! Ты это сделаешь!
— Нет, и для вас, государь, не сделаю. Если вам после этого неприятно меня видеть, я готов оставить мою службу.
— Вы подлый, вы неблагодарный! — закричала Ко́зель, выходя из себя. — Милости государя сделали вас слишком заносчивым! Вы забыли, верно, что от Дрездена недалеко до Кёнигштейна!..
— Графиня! Прошу вас, ради Бога!.. — крикнул король.
— Государь, нет, позвольте наконец мне быть с ним откровенной.
— Графиня, я не скрываю своего отношения к вам, — отвечал Флемминг. — Любовь к государю заставила меня раз объявить вам, что вы грабите страну до того, что нам не на что выставить войско и возвратить королю Августу отнятую у него корону, и я это повторяю вам еще раз.
— Флемминг! Да что же это такое? И ты, в свою очередь, тоже забываешься! — воскликнул Август, который, однако, совсем без гнева слушал эту грубую и резкую перепалку.
— Идите же вон из моего дома! — крикнула Ко́зель, топнув на Флемминга ногой.
— Этот дом не ваш и не будет ваш. Это дворец моего короля, и я не выйду отсюда без королевского приказания.
— О, Боже, — воскликнула, рыдая, Ко́зель. — Ваше величество! Да что же вы? Разве вы сами теперь не слышите, как мне отвечают?
Она заломила руки и упала, рыдая, в кресло. Король подошел к Флеммингу.
— Генерал, — сказал он спокойно и любезно, — пойми меня, пожалуйста, я прошу тебя помириться, потому что вы оба мне дороги и необходимы.
— Ваше величество лучше сделаете, если не изволите ни смотреть на это, ни слушать.
Король только взглянул на дрожавшего от гнева Флемминга и, поняв, что ему не помирить теперь с ним разъяренную графиню, подал генералу руку и, пожав ее, дал ему знак удалиться, а сам начал расхаживать крупными шагами по комнате. Это продолжалось довольно долго, и во все это время Анна, уткнувшись лицом в спинку мягкого канапе, тихо всхлипывала; но ее наконец вывело из терпения, что король не обращает на нее никакого внимания, она быстро откинулась и, сверкнув на него негодующим взглядом, вскрикнула:
— Так что же это, ваше величество!
Август неожиданно вздрогнул и, остановись перед нею, спросил:
— Что такое?
Он, очевидно, был занят совсем не тем, что занимало женское самолюбие графини Анны, и потому его так испугал ее внезапный возглас, прервавший на этот раз нить его соображений, от которых ему, вероятно, не хотелось отрываться.
— Как что такое? Вы разве не видели и не слышали, до чего я низведена в ваших же глазах? И вы еще подали здесь… здесь же, при мне, этому человеку вашу руку!
— Ах, моя дорогая, — отвечал довольно спокойно король, — право, твои слова доказывают, что ты совсем не знаешь или не хочешь знать моего положения. Так пойми, пожалуйста, что Флемминг в эту минуту мне нужен, он моя правая рука, и я не могу с ним ссориться, потому что это мне может стоить ни больше ни меньше, как целой Польши. Прогнать его теперь, ради твоего каприза, значит потерять польскую корону. Пойми ты это, сделай милость. Этого, мне кажется, ты бы не должна требовать от меня, а если и потребуешь от меня как от своего любовника, то я твердо откажу тебе как король.
Трудно ручаться, образумила ли бы Анну сила всех этих доводов дипломатического свойства, но слово «любовник» дало всему иной, неожиданный оборот, сгубивший все дело.
Услышав это слово, Ко́зель страшно побледнела и, как бешеная, бросилась с искаженным лицом к королю:
— Вы мой любовник! Любовник!.. Нет, это ложь, ты муж мой, я имею на это тобою самим данное письменное доказательство.
Август поморщился.
— Ну и прекрасно, — сказал он. — Так тогда тем более ты должна дорожить моими интересами, моей короной и моей честью.
Это немножко смягчило Анну, а Август взглянул на часы и добавил:
— До свиданья, моя дорогая, я теперь не господин своему времени, у меня и здесь гибель дел, и мне надо как можно скорее собираться в Польшу. Пожалуйста, успокойся и только сама себе ничего не порти, а Флемминг тебя не тронет.
Ко́зель ничего не отвечала и молча подала королю руку. Август простился и вышел.
Вскоре же после описанной сцены Август собрался в Польшу, и на этот раз уже без графини, присутствие которой теперь было бы и некстати, да и она недомогала. Эти передряги, происшедшие частью по ее же собственной вине, сильно ее расстроили; к тому же она опасалась за дальнейшее: Август брал с собой Флемминга, а это для Анны было хуже, чем оставаться лицом к лицу с этим своим врагом. Она опасалась, что он употребит все средства, чтобы оттереть ее от короля. Конечно, она не боялась, что Август там встретится с графиней Тешен, нет, восстановление старых связей было не в его обычаях; но мало ли что могло быть предложено к его услугам помимо Тешен. Варшава всегда была местом соблазна и не для таких падких людей, как Август.
Расстались они очень тепло: король до последней минуты разлуки был с нею нежен и говорил, что он приказал своему наместнику Фюрстенбергу всячески ее беречь и покоить. Анну тешило немножко и то, что она отчасти восторжествовала над Флеммингом, который желал назначения великим маршалом Ваккербарта, тогда как Анна поддерживала барона Левендаля, ее родственника, и назначение пало на него, конечно, к крайней досаде Флемминга.
Барон Левендаль, обязанный Ко́зель своим быстрым возвышением, был, однако, не из числа людей, на признательность и благородство которых можно полагаться: он был придворный карьерист, и Анне на него нечего было рассчитывать. Так и последовало: получив место, он тотчас же открыто перешел на сторону Флемминга, который теперь в эту, так сказать, деловую пору царствования Августа был гораздо сильнее шедшей по склону фаворитки.
Притом же Анна сделала еще одну большую ошибку: под влиянием нездоровья и своих грустных предчувствий она утратила весь свой азарт и простилась с Августом как самая кроткая женщина, требующая нежного сострадания. Это в глазах циничного Августа могло делать женщину только смешной: он любил наслаждение, а не прекраснодушие, до которого ему, собственно говоря, не было никакого дела.
Желание расчувствовать его было самым верным средством оттолкнуть его от себя; это и случилось, и когда Анна в час последней разлуки обливала слезами руки своего обожателя, она могла чувствовать, что он едва набирает для нее утешительные фразы, а на самом деле даже рад бежать от нее.
Против такого врага, как охлаждение, противостоять невозможно.
Кроме того, Августа теперь, конечно, сильно занимали его политические интриги, в которые он втянулся с хлопотами о польской короне; но при всем этом он, однако же, помнил об Анне, — по крайней мере, так было в начале разлуки, когда редкий гонец, привозя в Дрезден депеши, привозил и письма Анне; но письма эти самым аккуратным образом распечатывались и просматривались в канцелярии князя Фюрстенберга, где с них снимали копии и сообщали их содержание Флеммингу в Польшу.
Дворец «четырех времен года» опустел, притворные друзья и прихлебатели отхлынули от него, и кроме докучливой ябедницы Глазенапп да сумрачного Гакстгаузена, Анна не видела никого. Из преданных же ей людей при ней был только один, но и этот один был Заклик. Ко́зель знала, что она на него во всем могла положиться, но что он мог сделать? Конечно, он был готов даже убить Флемминга и хладнокровно, без страха пошел бы за это на виселицу… Но что прибыло бы от этого Анне?
В Дрездене с отъездом короля было скучно и глухо, но зато в Варшаве все кипело.
Одни были погружены в водоворот политических интриг, другие бросились устраивать личную жизнь короля. Пани Пшебендовская искала ему в Варшаве новую любовницу, а в Варшаве было из кого выбирать. Старинная, короткая дружба связывала родственницу Флемминга Пшебендовскую с маршалковой Белинской, две дочери которой — жена литовского подкомория Марися и гетманша Поцей — обладали качествами, которые давали возможность поместить их первыми в числе кандидаток на королевский фавор, и Пшебендовская с этим планом отправилась к своей приятельнице. Пани Белинская приняла ее с чрезвычайным радушием: она, конечно, знала влияние Пшебендовской на Флемминга и власть последнего над королем, вследствие чего за Пшебендовской ухаживали все, кто добивался королевских милостей.
— Сердце мое, — заговорила Пшебендовская, — я приехала сюда с большими хлопотами, просто голова кругом идет, если ты мне не поможешь.
— Что ты, что ты, как не помочь, я с удовольствием разделю с тобой всякие хлопоты, — отвечала заинтригованная Белинская.
— Вообразить не можешь, какая у нас беда с королем! — продолжала Пшебендовская. — Влюбился, как мальчик, в женщину, которая вот уже несколько лет вертит им, как хочет, а через него и всеми нами заправляет по своему капризу.
— Кому же ты говоришь? Я знаю эту капризную Ко́зель, — прервала Белинская, — я никогда не могла понять, почему король предпочел ее княгине Тешен?
— Что тут искать причины! Просто предпочел потому, что он ни одной женщине не может быть долго верен, и вот этим-то свойством его характера мы должны воспользоваться. Ты понимаешь, что мы, конечно, должны постараться избавиться теперь и от Ко́зель, которая уж слишком зазналась. Мое мнение такое, что этих фавориток надо почаще менять.
— Да, это, разумеется, так, — отвечала пани маршалкова.
— Вот в том и дело.
— Так что же для этого нужно?
— Прежде всего, разумеется, нужна женщина.
— Надеюсь, что так, что же делается без женщины!
Обе собеседницы улыбнулись.
— Но какая женщина?
— Во-первых, такая, которая бы ему понравилась более Ко́зель.
— Это у нас нетрудно, а во-вторых, что?
— А во-вторых, чтобы она умела продолжать нравиться королю и быть в нашей воле.
— Погоди, подумаем.
Белинская оставила Пшебендовскую у себя обедать и послала за своими дочерьми.
Обе эти молодые дамы были очень красивы. Поцей была маленькая и необыкновенно живая, с огоньком в милых глазках и с заразительной веселостью характера; а сестра ее Денгоф казалась несколько меланхоличной, что, впрочем, не мешало ей быть достаточно ветреной и легкомысленной. Добродетель обеих сестер далеко не славилась недоступностью, и в прошлом у них уже были истории.
Пшебендовская, конечно, понимала, для чего хозяйка поторопилась показать ей своих дочерей, и когда после обеда молодые пани отправились с молодежью прокатиться верхом, гостья прямо дала почувствовать, что время тратить не для чего и пора договориться до дела.
— Погоди, пока ты видела ведь только одних моих дочерей.
— А я думаю, что мне никого другого и видеть после этого не нужно, — перебила Пшебендовская.
Это польстило материнскому самолюбию хозяйки, и по лицу ее разлился легкий румянец.
— Ну, что ты говоришь, — молвила она с притворной скромностью.
— Что же я говорю? Я говорю дело, моя душа, зачем нам искать на стороне, если есть дома. Да перестань тупить глаза, подними их на старую приятельницу и будем откровенны. Ты знаешь, я тебя всегда любила и люблю.
— О, я тебе верю.
— Ну, так чего же еще!
Обе пожилые дамы нежно обняли друг друга и расцеловались.
— Конечно, — заговорила хозяйка, — ты сама видишь, Марися еще свежа, весела, игрива и остроумна, а притом у нее и доброе сердце, и оно… довольно покорно.
— Это имеет для нас большое значение, — отвечала Пшебендовская.
— Другая также не уступит сестре, но эта чисто ртуть. Я бы думала, что лучше указать королю на Марисю.
— Но выйдет ли что из этого, если он обратит на нее внимание?
— Почему же? Денгоф очень скучный муж, она с ним несчастлива. А впрочем, если он не захочет иметь короля соперником, то ведь Марися может и развестись. А я признаюсь тебе, дела наши слишком в дурном положении, чтобы упустить верный случай их поправить.
— Ну так будем хлопотать, а пока…
— Что такое?
— Марисе о нашем плане ни полслова.
— Ну, еще бы!
— Я ей за обедом ввернула в разговоре словцо, что Ко́зель была самолюбива, вспыльчива и ревнива, и этого довольно; а твое дело ей растолковать, что в этих случаях всего успешнее действуют контрасты.
— О, я тебе ручаюсь, что моя Марися будет самый приятный контраст! — воскликнула Белинская, и с этим приятельницы расстались.
Спустя несколько дней после этого разговора приехали в Варшаву король и Флемминг. Последний остановился в одном доме с Пшебендовской, которая в первый же день открыла брату свои замыслы на Марисю Денгоф.
Генерал немного поморщился, ему не нравилось, что об этой даме уже ходили разные истории, но Пшебендовская успокоила его, сказав, что Август на этот счет не привередлив, лишь бы она ему понравилась.
— Ну, действуй! — отвечал генерал. — Но есть ли у тебя союзницы?
— Одна, но зато очень сильная.
— Кто это?
— Мать самой Мариси.
Флемминг улыбнулся и пожелал сам познакомиться с новой избранницей. Пшебендовская все это устроила: она свезла вечером брата к Белинской, где были на ту пору Поцей и Денгоф, и хотя последняя не совсем понравилась Флеммингу, но зато она была удобна, и он согласился с планом сестры.
Флемминг более всего опасался властолюбия в новой фаворитке, а в ветреной пани Марисе его-то и не было. Она была легкомысленна, кокетлива, совсем не ревнива и любила только повеселиться. Мысль разлучить Анну Ко́зель с королем была по сердцу всем, кроме Фицтума, которого попытались было завлечь, но, заметив, что он чуждается этого, обошлись и без него.
На одном из придворных собраний старая Пшебендовская нашла случай заговорить с королем. Она указала ему на грациозных красавиц польской столицы и сказала:
— Не правда ли, какой большой выбор, государь? И надо быть очень жестоким, чтобы ни одной из этих чаровниц не оказать внимания!
— Да, тому, кто не хочет быть верен домашней привязанности, это было бы трудно! — отвечал Август.
— Нет слова, государь, что это так, домашние привязанности довольно серьезная вещь — когда мы дома.
Король посмотрел на почтенную даму, прищурился и улыбнулся.
Та приняла это за добрый знак и усилила свой подход.
— Вы не изволили заметить среди здешних женщин, — заговорила она, — одно необыкновенно очаровательное молодое существо, которое, можно сказать, и по-хорошему мило и по-милу хорошо.
— Я не знаю, о ком вы говорите.
— Ее зовут Денгоф.
— Она немка?
— Нет, полька, она из дома Белинских.
— Ах, так она замужняя?
— Конечно, государь.
— Гм… нет, не знаю, не заметил, да я, кажется, ее и не видел. А ее где можно видеть? Она бывает в театре, не будет ли она там завтра? Что?
Пшебендовская, разумеется, поспешила ответить, что та и бывает и завтра будет.
— Мы даже еще с утра сегодня условились быть с ней завтра вместе.
— О, как вы умны и находчивы, моя дорогая! — отвечал Август и добавил: — Таким образом, ваше присутствие мне будет указывать, где глаза мои должны искать вашу милую Денгоф; а потом… Я уже не сомневаюсь, что вы не откажете мне в удовольствии нас с ней познакомить?
— О, государь… мой долг…
И Пшебендовская склонилась и красноречиво умолкла.
— Только, конечно, вы подождите, — шепнул ей, вставая с места, Август, — подождите… какое она произведет на меня впечатление.
В тот же вечер Пшебендовская была у Белинской, которая немедленно вытребовала к себе дочь, и в дальнем уютном покое, три эти дамы учредили общий совет, на котором две старшие составили программу, что должна была делать младшая, чтобы занять место королевской фаворитки.
То, что предлагалось этой молодой даме, было нисколько не противно ее правилам и привычкам, за что достаточно ручалась и ее репутация. Денгоф и сама бы распорядилась, как разыграть эту игру, если бы дело шло о простом смертном; но получить себе в любовники короля ей не приходило на мысль, и потому неудивительно, что голова ее закружилась. Когда она хотела отдаться кому-нибудь, кто ей нравился, она, конечно, сама, без советников знала, как достичь желаемого, но тут было дело иное. К чести Денгоф должно сказать, что все записанное до сих пор на ее счет скандальной хроникой делалось ею по увлечению. Теперь же ей надо было суметь понравиться из расчета, понравиться с тем, чтобы продать себя видному покупателю и по самой лучшей цене.
Это ей было ново, и потому советы доброй матери и Пшебендовской тут, конечно, не были излишни.
Ветреной Денгоф хотя и нравилась приготовленная ей роль, но когда ее в последующие затем дни начали усиленно готовить, это ей так надоело, что она стала находить это и трудным и страшным, а когда ее представили королю на вечере у Флемминга, она растерялась и была неинтересна.
Король нашел похвалы, сделанные ей Пшебендовской, очень преувеличенными; но тем не менее при новой встрече опять обратил на нее внимание; а встречи эти повторялись именно потому, что Пшебендовская жила в доме брата, а король частенько навещал хлебосольного Флемминга. Силой интриг, равно как и силой привычки, дело это выровнялось: Денгоф привыкла держать себя в присутствии короля проще и беззастенчивее, а он стал находить ее все более и более интересной и наконец однажды, возвращаясь с Фицтумом домой, сказал ему:
— А эта Денгоф интересна!
— Недурна, — отвечал Фицтум.
Король улыбнулся и добавил:
— Скажи мне, пожалуйста, ты ничего не замечаешь?
— А что такое?
— Нас с нею, кажется, хотят сблизить?
— То есть вас, государь?
— Ну, разумеется.
— Что же, у вас две короны, две столицы, почему же не быть и двум дамам сердца?
— Ты шутишь, Фицтум?
— Да, право, не знаю, на мой взгляд, тут ведь нечем и серьезничать.
Король засмеялся.
— Шути себе! — сказал он. — Тебе, брат, хорошо, когда ты спокоен, а мне эти истории уже надоели и с каждым новым гонцом о себе напоминают: Ко́зель из терпения меня выводит своими упреками, а тут со всех сторон шпигуют меня тем, что я исполняю ее прихоти.
— Для чего же вы их исполняете?
Август не ответил и закусил губу: он никогда не хотел говорить, как его тяготит данное Анне письменное обязательство на ней жениться, и как бы рад был он отделаться от этого досадливого лоскута! О, как бы охотно он это теперь сделал, если бы… если бы только у него был какой-нибудь повод уничтожить все с удобным отводом — как будто не по своей вине, а по вине Анны, и притом по такой вине, которая упраздняла бы всякую мысль о праве Ко́зель настаивать на требовании исполнения данных ей обязательств.
И между тем как мысль эта все становилась назойливее, тем приятнее было оторваться от нее к чему-нибудь новому, а услужливая рука постоянно то тут, то там выдвигала перед ним миниатюрную Денгоф, которая этим временем уже совсем осмелела и, занимая Августа своими маленькими салонными способностями в пении и музыке, постоянно будила его чувственные инстинкты. Ему стала нравиться ее маленькая фигурка, тонкие черты лица и миниатюрность чрезвычайно пропорциональных форм маленького стана.
Миньона, сменяя Диану, обещала Геркулесу наслаждения, в которых было что-то новое…
Отчего же Августу было их не изведать, и отчего услужливым людям было не помочь его совести расстаться с прошлым без укоров? Все это было в порядке вещей.
И вот однажды, когда король был взбешен только что полученным ревнивым и полным горечи и укоризны письмом Анны, Флемминг вступился в его спасение и сказал:
— Ручаюсь, государь, что эти милые строки вас несколько расстроили.
— Они мне наконец надоели! — отвечал, нетерпеливо отбрасывая бумагу, Август.
— Зачем же вы себя ими тревожите? Не читайте их, государь, и вы будете спокойны.
— Ты ничего не знаешь! — отвечал, наморщив брови, Август. Флемминг понял, что думы короля опять омрачило воспоминание об обещаниях, которые он надавал Ко́зель, и опытный интриган понял, что теперь время идти смело к цели.
— Нет, вы простите меня, государь, но я знаю более, чем вы полагаете.
Он приостановился на минуту и досказал:
— Я знаю, что обещания даются по надеждам, а исполняются по обстоятельствам.
— Да какие, к черту, обстоятельства могут изменить мои обязательства?
— Мало ли их!
— А например?
— Да их очень много, государь.
— Нет, ты укажи хоть одно, да точно и ясно.
— Ну, например, если то лицо, которому вы дали обязательство, само не соблюло условий.
— Но этого нет!
— Не знаю.
— Так к чему же ты об этом говоришь?
Флемминг рассмеялся.
— Видите, государь, — заговорил он, — позвольте мне напомнить вашему величеству, как это однажды случилось с одним королем и его фавориткой: в его имени нет надобности, а ее звали Аврора.
— Ну, продолжай!
— Аврора надоела королю, и король дал это чувствовать усердному человеку, его звали Бейхлинг, он приволокнулся за Авророй, и об этом сложили роман. Я не знаю, был Бейхлинг счастлив у Авроры или он только хвастал удачей, но королю это было все равно, ему дорог был повод бросить Аврору.
— Притча нехитра, ты хотел бы то же самое испробовать с Ко́зель?
— А почему бы и нет?
— Она не такова.
— Да ведь я не говорил, какова была и Аврора, быть может, и та не была «такова».
— Ну да… К тому ж, скажу тебе, и средство…
— Неблагородно что ли, государь?
— Уж слишком старо, Флемминг!
— И, ваше величество, спросите, кого хотите, есть старые средства, которые всегда отлично действуют, нужно только уметь их употреблять.
— А кто бы у нас был такой мастер?
— Нам надо подумать об этом.
Король прошелся по комнате и, став перед Флеммингом, саркастически усмехнулся и молвил:
— Лжешь, старый приятель, нечего тебе думать, у тебя все уже выдумано. Кто же он?
— Барон Левендаль.
— Левендаль! Но он ей родственник!
— Да, в этом-то и заключается большое удобство, она его принимает, не опасаясь никаких подозрений. И притом… он ей многим обязан.
Август ничего на это прямо не ответил, но только подумал, погрозил вверху пальцем и сказал:
— О, если бы я мог сделать ей этот упрек! — с этим он вышел из комнаты.
Сказанного было слишком довольно: в тот же день в Дрезден пошла инструкция Левендалю во что бы то ни стало скомпрометировать графиню Ко́зель, «чем будет оказана большая услуга особе, признательность которой вне всяких сомнений».
Барон Левендаль волен был выбирать: или сомнительное положение при поддержке, видимо, утратившей силу кузины или право рассчитывать на королевскую признательность за гибель этой бедной кузины.
Что он выберет, мы увидим во второй части этой истории мелких деяний довольно крупных в свое время людей.
КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ
 Часть вторая
Часть вторая
I
Заботы Пшебендовской увенчались полным успехом. Август постепенно заинтересовался госпожою Денгоф и, идя быстрыми шагами к прямой цели, скоро был осчастливлен ее взаимностью.
Анна об этом знала: о ходе этой истории ей сообщали и ее друзья и люди Флемминга, в планы которого входило досаждать этим Ко́зель и выводить ее из терпения. А так как король довольно серьезно опасался ее ревности, то графиню окружили шпионами, которые были обязаны зорко за нею следить и рапортовать обо всем в Дрезден.
Август, очевидно, был уже очень рад от нее избавиться, для чего, как мы помним, и была дана Левендалю инструкция притвориться влюбленным в Анну и попытаться склонить ее к взаимности; но это, как ниже увидим, не удалось.
Примеры Кенигсмарк, Тешен, Шпигель и Эстерле, которые, потеряв любовь короля, нашли себе других утешителей, были некстати: Ко́зель на это нельзя было поддеть, и Левендаль, попытавшись изъясниться Анне в нежных чувствах, был ею выпровожен самым резким образом; а вдобавок она в тот же день сама рассказала о его наглости Гакстгаузену.
— О, — говорила она, — я уверена, что несколько месяцев тому назад этот негодяй и подумать бы не смел так оскорбить меня; но теперь другое дело.
Поступок Левендаля давал ясно чувствовать графине, что ее час пробил и она для сердца Августа не существует.
— Послушайте, Гакстгаузен, — спрашивала она, — скажите мне откровенно, что такое вокруг меня происходит?.. А?.. Вы молчите, ну, скажите мне, по крайней мере, что вы знаете об этой Денгоф?
— Право, я ничего не знаю, — отвечал Гакстгаузен, — конечно, я что-то слышал, но это может быть одна из миллиона сплетен, не более.
— Нет, Гакстгаузен, это гораздо более. К чему лгать себе, это совсем не сплетня. О, мой Боже! В какое грязное болото они затянули там бедного короля!
_____
Получив уведомление от Левендаля, что его любовное коварство с Анной не удалось, Флемминг решился действовать иначе, гораздо бесцеремоннее, и с этой целью сам отправился назад в Дрезден.
Первым его делом здесь было объяснить Анне через Гакстгаузена, что королю понадобился дворец «четырех времен года» и что для графини по этому случаю приготовлено другое помещение, в частном доме.
Ко́зель снесла этот первый открытый удар от своего венчанного любовника со спокойствием, которое трудно было от нее ожидать.
Выслушав Гакстгаузена, она отвечала ему:
— Дворец этот подарил мне король, он же его может и взять назад, да я и не тужу об этом, мне теперь было бы слишком тяжело здесь оставаться, и я уйду отсюда даже с удовольствием.
Действительно, графиня через несколько дней уже переехала в свое новое жилище.
Но этого было мало. Опальную фаворитку ждали еще большие унижения, вытекавшие, разумеется, из необходимости удалить ее еще далее, что представлялось нужным ввиду тех угроз, которые сама же она имела неосторожность высказать.
Еще в 1705 году, в те дни, когда Август был страстно влюблен в Ко́зель, он подарил ей красивую деревеньку Пильницу, которая была раскинута на живописном берегу Эльбы. Здесь на самом берегу реки были очень хороший дом и усадьба, где Анна проводила иногда жаркое время года.
Местоположение этой усадьбы было очень красиво. Кругом зеленели леса, на севере виднелись горы; внизу плыла тихоструйная Эльба. Прямо перед окнами дома тонул в зелени густо заросший кустарниками остров. От Дрездена эта деревня была в нескольких часах. Вот сюда-то именно и хотелось Августу выпроводить Анну, чтобы, не стесняясь ее присутствием в столице, свободно перевезти сюда из Варшавы свою новую фаворитку.
Надрессированная матерью и Пшебендовской, госпожа Денгоф ни за что иначе не хотела оставить Варшаву. Она настаивала на том, чтобы Ко́зель была удалена из города, и у Августа не дрогнула рука подписать Флеммингу исполнить это новое желание.
Флемминг, которым весь этот план был сочинен и продиктован через Пшебендовскую, немедленно занялся его исполнением. С этой целью он призвал Гакстгаузена и поручил ему объявить королевскую волю графине.
— Будьте добры, передайте ей это щекотливое поручение, — обратился он к Гакстгаузену. — А так как графиня Ко́зель имеет охоту считать меня своим врагом и потому, пожалуй, способна будет заподозрить, что это я ее так упорно выживаю, то вот возьмите и прочтите собственноручное письмо нашего короля, оно даст вам право уверить ее, что все это идет не от меня и что ей не на кого пенять и нечего дожидаться, чтобы я был вынужден перевезти ее в Пильницу против ее желания. Идите, пожалуйста, к ней сейчас же и уговорите ее оставить Дрезден, и притом как можно скорее.
Гакстгаузен отправился и, застав Ко́зель в довольно хорошем расположении духа, начал шутливо:
— Ну, что касается меня, графиня, то я должен вам сказать, что теперь уже решительно не в состоянии спорить с вами, что наш король действительно неразборчив.
— А что такое?
— Говорят, эта Денгоф просто черт знает что… Меня сейчас один тонкий знаток сердечных дел уверял, что это невозможно, чтобы такая женщина, как Денгоф, могла пользоваться прочной привязанностью Августа, и я теперь более чем когда-нибудь уверен, что если вы не будете сами портить свое положение, раздражая Августа, то он снова будет у ваших ног.
Анна догадалась, что за этими словами скрывается что-нибудь недоброе, и, упорно глядя на Гакстгаузена, сказала:
— Вы пришли ко мне, конечно, с каким-то новым поручением… К чему заводить издалека? Говорите прямо, что еще королю угодно от меня потребовать?
Гакстгаузен участливо взглянул на нее и отвечал со вздохом:
— Вы отгадали, я пришел к вам с поручением.
— Так говорите же! В чем дело?
— Я был сейчас у Флемминга…
— Что же дальше?..
— Он показал мне собственноручное письмо короля.
— Что же угодно было его величеству написать в том письме?.. Да говорите же, Гакстгаузен! Ведь это смешно, вы за этим пришли и не решаетесь выговорить! Что требует от меня король Август?
— Он требует, чтобы вы, графиня, немедленно оставили Дрезден и переехали в ваше имение…
— В Пильницу?
— Да, графиня.
Анна молча закрыла белой ручкой свои прелестные глаза и тихо заплакала, а Гакстгаузен в это время успел ей досказать свой совет немедленно исполнить это требование, чтобы дело не дошло до насильственного вмешательства со стороны Флемминга.
— Поверьте, графиня, — заключил он, — что я вам желаю лучшего.
— Я вам верю, — отвечала, открывая лицо, Анна, — но вот только один вопрос…
— Сколько угодно.
— Вы сами видели королевский приказ о моей высылке?
— Я сам читал его, графиня.
На бледных щеках Анны выступил густой пунцовый румянец.
— Так вот это как! — проговорила она, задыхаясь от гнева. — Он меня прогоняет… И все это ради какой-то Денгоф, у которой недостает пальцев, чтобы перечесть всех ее любовников!.. Вот это истинно достойная короля Августа женщина… О, какое ужасное, какое тяжкое унижение!
Ко́зель горько заплакала и снова заговорила:
— Как я могла этого ожидать после того, как он мне клялся? И неужто столько лет самой верной любви для него не значат ничего?.. Ничего… ровно ничего!.. И эти три колыбели моих детей, которых он называл и своими, тоже ничего!.. И я должна доживать жизнь мою одинокой, а мои дети — сиротами… О, у этого человека в самом деле совсем нет сердца! Ему кажется, что все люди созданы только для его забав и развлечений и что каждого из них он может повертеть, изломать и бросить, да еще отшвырнуть ногой…
И с этими словами она снова закрыла руками лицо и, упав в кресло, тихо зарыдала.
Гакстгаузен воспользовался этим моментом.
— Графиня, — сказал он, — я уверен, что никто не стал бы находить ваши теперешние чувства слишком несдержанными, вы не можете не страдать, а, страдая, трудно безмолвствовать. Но как дело идет не о том, чтобы заслужить извинение в чувствах, а о том, чтобы поправить принявшее дурной оборот дело, то я, право, поступил бы не так, как вы поступаете…
— Что же бы вы сделали?
— Я бы прежде всего не плакал…
Анна отерла платком глаза и, через силу улыбнувшись, сказала:
— Ну, я не плачу, а что далее?
— Я бы сообразил все обстоятельства и оценил бы те из них, которые мне могут быть полезны. Прежде всего надо обмануть расчеты ваших врагов…
— Продолжайте, пожалуйста!
— Но кто ваши враги?..
— Весь Дрезден и больше всех Флемминг.
— Ну… тут опять ошибка: Флемминг совсем не так зол, как вы это себе представили; он выиграл свою ставку, и теперь ему с вами спорить не за что, а генерал Флемминг человек умный и из-за пустяков спорить не станет.
— Быть может.
— Поверьте, и если поверите, то это будет с вашей стороны первый практический шаг; я вам советую прежде разрушить ожидания Флемминга на счет возможного с вашей стороны упорства.
— То есть вы мне советуете выехать в Пильницу?
— Да, графиня, как это ни неприятно, но я это вам советую. Это разобьет соображения Флемминга и изменит его к вам отношения, а потом ваша уступчивость может возбудить раскаяние в самом короле, и тогда будет надежда, что дела когда-нибудь могут принять лучший оборот. Я прошу вас вспомнить графиню Кёнигсмарк, она своим смирением положительно выиграла и сумела сохранить добрые отношения с королем; княгиня Тешен сделала то же, и ей не только позволили оставаться в Дрездене, но она продолжала и видеться с королем. Эстерле действовала иначе и за то своим упорством отрезала себе навсегда вход ко двору.
— Но позвольте, — перебила нетерпеливо Анна, — вы, кажется, не замечаете, что все эти дамы мне не пример?! Эстерле, и Кёнигсмарк, и Тешен — это все были любовницы, а я имею такие же права, как его жена.
Гакстгаузен посмотрел на нее и не ответил. Анна переменила тон.
— Но во всяком случае, вы правы, — сказала она, — пусть будет по-вашему, я не хочу спорить с королем и завтра уеду.
Но прежде чем обрадованный таким исходом своих переговоров Гакстгаузен вышел, Ко́зель снова переменила свое намерение, она начала раздражаться, припоминать все измены и клятвы и кончила тем, что объявила нежелание выехать добровольно.
Напрасно убеждал ее Гакстгаузен, она три или четыре раза меняла свои решения и наконец совершенно отказалась повиноваться.
Анна, очевидно, не могла решить, что ей выбрать, а может быть, она еще и не совсем верила, что ее могут выслать насильно.
Но когда Гакстгаузен, истощив все свои доводы, должен был передать отказ графини Флеммингу и генерал пожаловал к ней сам, а в то же время под окнами Ко́зель показался отряд королевских телохранителей, то Анна увидела, что надо повиноваться, и через два дня тихо выехала в закрытом экипаже в Пильницу.
Все это произошло прежде, чем король возвратился из Варшавы в Дрезден, куда теперь была очищена дорога для его новой фаворитки.
Получая о всех этих событиях подробные отчеты в Варшаве, Август был очень рад, что удаление Ко́зель совершилось так благополучно, и даже в знак своего к ней благоволения пожелал вознаградить ее и для того, чтобы узнать, чего она желала, послал к ней в Пильницу некоего Ватцдорфа, довольно грубого человека, которого Август сам называл «мужиком из Майнсфельда».
Этот Ватцдорф имел самое ничтожное значение, но Флемминг ему, однако, покровительствовал, и вот этот «мужик из Майнсфельда» в один прекрасный день явился в Пильницу к отставной королевской фаворитке. Ватцдорф понимал дело по-своему и думал покуражиться над потерявшей силу Ко́зель, к тому же он был пьян и, войдя к графине без доклада, заговорил:
— A-а, милейшая графиня! Здравствуйте, здравствуйте! Я к вам послом от его королевского величества. Да, от его величества, добрый король не забыл вас и вам есть чему порадоваться…
— Что такое вы мне хотите сказать? — спросила недоумевающая Ко́зель, осматривая с головы до ног пьяную фигуру «мужика из Майнсфельда».
— Привожу вам отличные вести, графиня, — отвечал, интимно наклоняясь к ней, Ватцдорф. — Король… вы сами знаете… он ведь теперь мог бы вам ничего не дать, а он так не желает сделать… Он так милостив, что хочет расстаться с вами по-королевски… Хе, хе, хе, то есть, к взаимному удовольствию… слышите?
— Слышу, но ничего не понимаю, — гордо отвечала Ко́зель.
— A-а!.. Однако, какая же вы все-таки еще очаровательная! — воскликнул Ватцдорф и хотел взять ее за руку, но вдруг обнял ее с намерением поцеловать, но в то же самое мгновение перед его глазами мелькнула белая ручка и на щеке прозвучала громкая пощечина.
«Мужик из Майнсфельда» отскочил и воскликнул:
— Так вы вот как?
— Да, так, — отвечала графиня и, показывая на дверь, добавила: — Ступайте вон и скажите вашему милостивому королю, что он должен был знать, что такого невежу, как вы, ко мне посылать не следует.
Но нравы того времени были странные, и Ватцдорф, вместо того чтобы выйти, положил свою шляпу и сказал:
— Ну, вы меня проучили, графиня, теперь забудем об этом, я прошу у вас прощения, а пощечина от такой хорошенькой женщины совсем не бесчестье.
И «мужик из Майнсфельда» остался у Ко́зель откушать. Стараясь исполнить королевское поручение, он даже решился возвратиться опять к делу и снова заговаривал с графиней о том, что король готов ее облагодетельствовать, но Анна не намерена была продолжать разговор.
Ко́зель после этого хотела написать королю жалобу на Ватцдорфа и Левендаля, но раздумала: жалобы Август мог бы оставить без всякого внимания и тем только увеличил бы ее обиду.
Попытки же сблизить с кем-нибудь Анну еще не были оставлены, и на смену Левендалю и «мужику из Майнсфельда» появился некий Ван Тинен. Этот подставной любовник явился к Августу не в пору, когда король был выпивши, и так надоел пространностью доклада, что августейший повелитель прижал его к стене, схватил за шиворот и, бросив на пол, отколотил и руками и ногами чуть не до полусмерти. После такой трепки, разумеется, было не до сватовства и не до ухаживания, и тогда обратились к последнему, универсальному средству — клевете.
Сочинили, что Анна якобы имела когда-то тайную интрижку с братом того Лехерена, который, как, вероятно, помнит читатель, был серьезно приревнован Августом и выслан за границу. К нему послали поторговаться, сколько он возьмет, чтобы очернить невинную Анну, но и это не удалось. Однако, Анна, видя, что ее так дружно атакуют, могла ожидать, что умыслы на этом не остановятся, и чтобы положить всем этим историям конец, выкинула сама такую неожиданную штуку, что всех привела в недоумение и, почти без преувеличения можно сказать, возмутила мир и покой в обоих государствах, короны которых лежали на одном венценосце.
В один, для многих весьма неприятный, день в Дрездене узнали, что в Пильнице случилось большое происшествие — графиня Анна Козель пропала!..
Подозрения прямо падали на то, что она уехала в Варшаву с намерением увидеться с Августом и нажаловаться ему, а может быть, и привести в исполнение одну из своих безумных угроз. О побеге ее тотчас же послано было известие в Варшаву, и вместе с тем приняты все возможные по тогдашнему времени меры, чтобы выследить ее путь и задержать ее.
В Варшаве весть эта произвела страшную тревогу. Прибытие Ко́зель пугало не столько саму новую фаворитку, сколько тех, которые ею орудовали; а потому здесь был составлен совет, на котором Денгоф получила обстоятельную инструкцию, как ей действовать, и когда Август по своему обыкновению посетил ее, она встретила его с притворным волнением и слезами, в чем прекрасная кокетка оказалась довольно искусной. Она притворилась так углубленной в свое горе, что будто даже не заметила королевского прихода, и на вопрос о причине своей грусти как бы нехотя созналась, что она боится Анны Ко́зель.
— Ко́зель едет сюда в Варшаву. Быть может, она уже здесь!.. Она способна убить меня, но это ничто в сравнении с тем, что… Меня, быть может, ждет другая гибель… Государь!.. Что это?.. Мне кажется… быть может, вы пришли теперь ко мне за тем, чтобы объявить мне, что я… что вы… должны меня оставить?
— Ты бредишь! — шутливо перебил ее король. — Напротив, твой милый характер и доброта так меня к тебе привязали, что я и в помыслах не имею с тобой расстаться. Успокойся, тебе Ко́зель не опасна.
— О, благодарю вас, благодарю вас, государь, за эти добрые речи! Но не осудите меня, что я так встревожена и не могу прийти в себя.
— Чего же ты тревожишься? — спросил, лаская молодую женщину, Август.
— Да ведь она все-таки приедет сюда, — шепотом отвечала Денгоф.
— Ну, если бы и так, что же дальше?
— Вы к ней привязаны, государь.
— Был.
— Что было, то может возвратиться.
— Перестаньте говорить такие пустяки!
— Это не пустяки, государь: всем известно, какую власть имела над вами Ко́зель.
Такое напоминание было острым ударом в сердце Августа, который теперь стыдился уже своего потворства прихотям Анны и, перебив Денгоф, резко заметил:
— Я вам говорю, что все это пустяки, вздор, никакой власти она надо мной не имеет… да и не имела и… не будет иметь.
Во время этого разговора мать новой фаворитки стояла за дверями, и чуть только дочь ее при последних словах условно кашлянула, почтенная дама и явилась. Она вошла, как будто не зная о том, что найдет здесь короля, и начала извиняться.
— Помилуйте, я очень рад, что вас вижу, — воскликнул Август. — Помогите мне, пожалуйста, успокоить вашу дочь!
— Что с тобой, мое дитя?.. А?.. Что с ней, государь? Ага, если я отгадала, она немножко ревнует, ну, что делать: маленькая ревность только делает приятнее удовольствия любви.
— Да вы послушайте, из каких все это пустяков…
И он рассказал старухе свой разговор с ее дочерью.
— Вы меня извините, ваше величество, если я буду откровенна? — нахмурилась Белинская.
— Пожалуйста!
— Я не удивляюсь беспокойству моей дочери; неистовый и бешеный нрав графини Ко́зель известен всему свету, равно как и ее угрозы, которые она может привести в действие.
— Да, если ее допустят.
— А кто может ее не допустить, государь? Конечно, одни вы.
— Да, я.
Белинская молча пожала плечами.
— Что же, вы не верите, что ли, этому? — подхватил Август. — Но тогда я для вашего успокоения сейчас же отдам приказ, чтобы Ко́зель вернули с дороги обратно в Дрезден.
— Будто вы это сделаете, государь?
— А отчего же нет?
Белинская сжала руки и воскликнула:
— О, моя дочь, о, моя Марися, в таком случае тебе не о чем плакать! Ты можешь быть названа счастливейшей из женщин. Но я осмелюсь вашему величеству доложить, что Ко́зель слишком избалована вашей снисходительностью: она может не послушаться приказа и не возвратиться. Мне кажется, что для этого дела надо послать человека очень надежного, который сумел бы быть твердым и даже, если нужно, решительным.
— Конечно! — воскликнул король, немного утомленный всей этой сценой. — Кто здесь, по-вашему, такой человек?
Такой человек был наготове, его звали Монтаргон; он был француз, прибывший в Польшу с Полиньяком и много обязанный Белинским, которые вывели его в камергеры. Король тотчас же согласился послать Монтаргона навстречу Анне, и когда услужливый француз явился, король сам приказал ему предупредить приезд Анны в Варшаву и вернуть ее с дороги назад в Пильницу.
— А что я должен делать, государь, если графиня не захочет подчиниться приказанию вашего королевского величества? — спросил Монтаргон.
Король подумал с минуту и отвечал:
— На этот случай я дам вам в помощь подполковника моих кавалергардов Ла-Гайе и шесть человек гвардейцев. Этого, надеюсь, слишком довольно, чтобы приказание мое было исполнено.
Не теряя времени, послали за Ла-Гайе, который получил приказ из уст самого короля, и отряд в ту же ночь выступил по дороге, ведущей из Варшавы к Дрездену.
Анне нелегко было ускользнуть от этих сыщиков и еще труднее им сопротивляться.
II
Решившись во что бы то ни стало увидеть короля и лично защитить перед ним свое дело, графиня Ко́зель пустилась в путь с небольшой свитой из своих людей. Они ехали почти без отдыха, заботясь о том, чтобы весть о ее выезде не опередила ее прибытия в Варшаву.
Заклик сопровождал графиню. Хмурый, сосредоточенный на положении своей госпожи, он в молчании ехал всю дорогу возле кареты. Он теперь был для нее более, чем слуга: он хранил ее тайны.
Перед выездом из Пильницы графиня позвала его к себе и сказала:
— Слушайте, Заклик, меня все оставили, около меня нет ни одного человека, на которого я могла бы положиться.
— Вы на меня можете положиться, — коротко отвечал Заклик.
Она взглянула на него и спросила:
— Вы меня не покинете?
— Никогда! — отвечал он.
— Я вам верю.
Заклик торжественно поднял вверх два пальца и, как бы присягая, твердо проговорил:
— Клянусь!
— Хорошо, я должна доверить вам все, что имею самого дорогого. Обещайте мне, что вы разве только вместе со своей жизнью отдадите то, что я вам вверю.
— Это так будет, — ответил Заклик и снова клятвенно поднял вверх руку.
— Об этом никто не должен знать!
— Никто не будет знать, графиня.
— Но вам я должна открыть, что именно вы будете беречь.
— Разве это нужно, чтобы я знал?
— Да, это нужно.
— В таком случае, как вам угодно, я буду нем, как рыба.
— Слушайте, несколько лет назад, когда король развел меня с мужем, он выдал мне письменное обещание, скрепленное его печатью, что в случае смерти королевы он на мне должен жениться. Понимаете?
— Как нельзя лучше, графиня.
— Я всегда берегла эту бумагу у себя, но теперь… я опасаюсь…
— Вы хорошо делаете, что опасаетесь.
— Они могут ее у меня отнять.
— Могут, графиня.
— Когда они не найдут у меня этой бумаги, они могут ее требовать, могут допытываться, где она, но я им этого не скажу. Они, может быть, прибегнут и к пыткам, но и пытками не заставят меня сказать, куда я ее дела. Но куда же я ее спрячу? Замуровать ее в стену, но меня могут изгнать из Саксонии, и тогда бумага эта для меня навсегда пропала…
— Отдайте ее мне.
— Да, я вам отдам ее.
И выговорив это, Ко́зель вздохнула и, открыв выложенную серебром и слоновой костью шкатулку, вынула оттуда золотую коробочку, а из коробочки кожаный мешочек с печатями и шелковым шнурком.
— Вот, — сказала она, — возьмите и помните, что я вам все мое вверила!
Заклик упал на колени и в глазах его заблестели слезы; он поцеловал руку графини и взял мешочек, спрятал его на груди.
— Теперь едем! — сказала Ко́зель. — Я не знаю, что может с нами случиться дорогой, но на всякий случай нам нужны деньги, вот золото, возьмите его тоже к себе.
И она подала Заклику зеленый мешок с полновесными червонцами.
И у Заклика и у Ко́зель были при себе заряженные пистолеты.
Путешествие их шло благополучно и быстро до самой Видавы, небольшого городка на границе Шлезвига. Здесь они должны были остановиться для отдыха. Утомленная графиня приказала изготовить на скорую руку обед и заняла лучший да, пожалуй, и единственный постоялый двор. На том же дворе стояли с десяток лошадей какого-то отряда драбантов, возвращавшихся, как можно было думать, в Саксонию. Заклик занял свой сторожевой пост вблизи покоя, где расположилась графиня; но только он хотел немножко отдохнуть, как появились Монтаргон и Ла-Гайе и просили его доложить о них графине. Они сказали, что, встретившись с ней в дороге, рады были бы засвидетельствовать ей свое почтение.
Из этих людей одного графиня едва знала, а другой вовсе ей не был известен, и потому она отчасти удивилась их желанию видеться, но, не подозревая никакой опасности, велела их просить.
Она любезно приняла обоих офицеров, и так как ее обед был готов, то пригласила их разделить с ней скромную дорожную трапезу, в конце которой Монтаргон и приступил к исполнению своего поручения.
Поговорив во время обеда о варшавских делах, он сказал:
— Мне кажется, графиня, что вы напрасно предприняли это путешествие, король теперь слишком занят и вы можете быть поставлены в неприятное положение.
Выслушав это, Ко́зель нахмурила брови и проговорила:
— А мне кажется, что я тоже достаточно знаю короля, и не думаю, чтобы мой приезд был такой большой неловкостью, как это почему-то вам кажется.
Монтаргон смешался и сказал:
— В таком случае я, разумеется, должен вас просить простить мне мою неловкость.
— Нет, я вам ее не прощу, — отвечала Ко́зель, — и не прощу именно потому, что это не столько неловкость, сколько невежливость! Я ведь не просила у вас совета?
— Не просили, графиня.
— С какой же стати вы мне его подали?
— Имел к тому очень важную причину, — отвечал, волнуясь, Монтаргон.
— При-ичину?
— Да, графиня, и как я уже смел вам доложить, очень важную!
— Прошу вас мне ее объяснить.
— Извольте, я имею поручение сказать вам это от лица его величества моего короля!
— От вашего короля?
— Точно так, графиня.
— Ну, так вы, значит, исполнили ваше поручение и все, что вам велено было сказать, мне сказали, а теперь…
Она привстала с места и добавила:
— Теперь вы можете ехать своим путем, а я поеду своим.
— О, если бы это было так, графиня! — воскликнул Монтаргон.
Анне показалось, что она ослышалась, и она переспросила:
— Что вы сказали?
— Я сказал: о, если бы это было так; я был бы весьма рад, если бы каждый из нас волен был ехать своей дорогой.
— То есть как это?.. Что вы этим хотите сказать?
— Ничего кроме того, что я был бы очень рад, если бы вы могли продолжать вашу дорогу.
— Отчего же нет?
— Вы этого не можете, графиня.
— Как не могу?
— Не можете.
— Но кто мне смеет помешать?
— Я… если…
— Если что такое?
— Если вам неугодно будет поверить моим словам и возвратиться добровольно в Пильницу.
— Как! — вскрикнула, порываясь с места, Ко́зель. — Так вы даже готовы удержать меня силой?
— Я имею на это положительный приказ короля и должен вернуть вас в Дрезден.
Графиней овладело бешенство, и она, вспомнив, что отец Монтаргона был где-то писарем, закричала:
— Вон с моих глаз, писаришка! — и с этим она выхватила пистолет. — Сейчас же вон отсюда, или я раздроблю тебе череп!
В дверях показался Заклик.
Монтаргон знал, с кем он имеет дело, и, не желая раздражать Ко́зель, поспешно встал и вышел; с графиней с глазу на глаз остался один Ла-Гайе, который, видя неудачу товарища, заговорил еще мягче:
— Напрасно гневаетесь, графиня; есть очень умная пословица, что послов не бранят и не бьют, а жалуют. С послов взыскивать нечего; они, может быть, и сами не рады тому, за чем посланы, но должны исполнять волю пославшего. Наверное, ни один из нас не счел для себя удовольствием огорчать такую особу, как вы, сообщением вам суровых королевских приказов…
— Вы видели короля? — перебила Анна.
— Видел перед самым выездом навстречу вам, куда отправился по личному его приказанию с поручением, смысл которого, мне кажется, вам должен быть ясен.
— Вам приказано не допустить меня в Варшаву?
— Я очень счастлив, что вы сами изволили это выговорить, — отвечал с низким придворным поклоном воспитанный Ла-Гайе.
Ко́зель поникла головою и смирилась. В результате вышло то, что она в Варшаве не была, а возвратилась к себе в Пильницу. Монтаргон об этом немедленно же послал известие в Варшаву, а сам с отрядом издали провожал Ко́зель до места ее почетного заточения.
_____
Между тем госпожа Денгоф в Варшаве все чаще и чаще появлялась при короле. Солидные люди резко осуждали такое соблазнительное поведение замужней дамы высшего общества. Скандал представлялся тем чувствительнее, что во всей этой интриге роль помощниц играли мать фаворитки и другие ее родственники. Старопольские добрые нравы этого не переносили, и друзья отсутствующего Денгофа вызывали его как можно скорее в Варшаву; королевские клевреты старались удержать его в деревне, как некогда они удерживали прежнего мужа Анны, Гойма. Денгоф и не мог приехать, но он зато так настойчиво требовал к себе жену, что Белинская встревожилась этой столь несвоевременной настойчивостью и сама полетела к беспокойному зятю.
Теща и зять, как только свиделись, так тотчас же и объяснились начистоту.
— Я вас прошу, чтобы вы нас с дочерью оставили в покое, — заговорила Белинская. — И с чего вы это, право, выдумали ее к себе требовать? Любезный зятюшка, нам нельзя исполнять таких ваших фантазий: наши дела очень худы и их надо поправить, а в таком положении королями не бросаются. Я не буду делать из пустяков секрета: король влюблен в вашу жену и… вам ревновать ее уже поздно; а притом мы и не пожертвуем счастьем всей семьи для какого бы то ни было предрассудка. Мы, вот что, будем говорить откровенно: мы с Марисею предлагаем вам на выбор: или не мешать Марисе жить, как она хочет и как она уже живет, и за это пользоваться разными монаршими милостями…
— Гм, какими это? — перебил сухо Денгоф.
— Ну, мало ли какими? Я не знаю, чего бы вы хотели и что вам нужно, но все это мы, конечно, могли бы вам добыть у его милости короля; или же соглашайтесь на развод. Папский нунций в угоду его величеству немедленно добудет в Риме развод моей дочери.
— Да, если вы, моя почтеннейшая теща, стали уже так решительны и сильны при его милости короле, то, пожалуйста, позаботьтесь о разводе, — отвечал Денгоф.
— Как! Так вы согласны?
— А еще бы! Неужто вы думали, что делиться женою составляет большое удовольствие? Что до меня, то я, признаюсь, не чувствую к этому никакой охоты.
— Что же, и прекрасно, вы получите развод.
— Очень рад буду расстаться навсегда с вашей Марисею, и чем скорее, тем лучше.
— Нунций сделает это очень скоро.
— Очень ему буду благодарен.
Белинская не ожидала такого исхода; она была удивлена, что Денгоф так мало дорожил ее ветреной Марисей и так охотно и совершенно бескорыстно согласился на развод с нею.
Дело это тут же было решено и вскоре же исполнено почти с невероятной быстротою: папа в угоду Августу дал желанный развод, и нунций поздравил наследницу Анны со свободой от уз брака.
Происшествие это совпало со смертью маршала Белинского, оставившего все свои имущественные дела в таком беспорядке, что дочь его, по советам матери, немедленно принялась для поправления их за королевскую кассу.
Началось это с того, что покойному отцу новой фаворитки были справлены за королевский счет самые пышные похороны, на которые охотно сбежалась глазеть чуть не вся Варшава, а потом чувствительное сердце Августа II было тронуто участью сирот покойника, и с тех пор щедроты его величества рекою полились на осиротевшее семейство. Хроника того времени гласит, что сама госпожа Денгоф была неалчна и не мастерица наживаться, но зато ее мать беспрестанно что-нибудь себе просила и всегда чрезвычайно удачно.
Между тем король Август, несмотря на вкушаемые им удовольствия новой любви, уже тяготился пребыванием в Варшаве, где не было многих его любимых саксонских удовольствий, и он рвался в Дрезден. В известных сферах было решено, что за королем туда же последует Марися Денгоф, а за нею — чада и домочадцы дома Белинских. Лица, заправлявшие вместо легкомысленной Денгоф всей ее судьбою и через нее устраивавшие свои делишки, заботились, чтобы этим переездом добыть как можно более уступок в пользу новой фаворитки. Старая же фаворитка еще казалась некоторым из них опасной. Мало того, что Анна уже была теперь осуждена на безвыездное пребывание в Пильнице; Флемминг представлял королю всю неосторожность данного им Ко́зель письменного обещания на ней жениться и настаивал на необходимости отобрать у Анны этот скандальный документ, способный компрометировать Августа если не перед современниками, то перед судом истории, которым обязаны дорожить венценосцы.
Так как план этот не был в разладе с собственными желаниями Августа, то он охотно согласился с доводами Флемминга и командировал уже известного нам «мужика из Майнсфельда» с предложением вытребовать у графини Ко́зель бумагу, которой та, как мы знаем, дорожила более всего на свете и вверила ее на сохранение Заклику.
И вот Ватцдорф снова явился к графине в Пильницу; он был теперь много опытнее и держался умнее и даже, надо признать, исполнил возложенное на него поручение с некоторой вежливостью, хотя, впрочем, без всякого успеха.
В ответ на вежливые приветствия «мужика из Майнсфельда» графиня стала жаловаться, что с нею поступают слишком жестоко, но на сделку никаких надежд не подавала.
— Я не знаю, — говорила она, — чем я заслужила все то, что переношу: мне приказывают отречься от любви; меня выгоняют из подаренного мне дворца, высылают меня из Дрездена, сажают сюда в Пильницу, не позволяют мне видеть короля и возвращают меня с полпути из Варшавы, и я всему этому покоряюсь, а ненависть не унимается. Я слышу, что там все кричат, что я зла, дерзка и мстительна; все это, конечно, для того, чтобы представить опасным мое мнимое бешенство и подготовить мне еще что-нибудь более худшее… О, я ведь недаром восемь лет прожила между этими людьми: я их понимаю.
— Вот уж что правда, то правда; вы их действительно понимаете, — засмеялся Ватцдорф. — Но только знаете ли вы то, что от вас зависит одним приемом разуверить короля в справедливости всех слухов, распущенных о вашей строптивости?
— Каким это образом?
— У вас есть от короля какая-то бумажка?
Ко́зель догадалась, о чем идет дело, и сдержанно отвечала:
— И, вероятно, не одна, а очень много, любезный Ватцдорф.
— Да, но дело, собственно, об одной.
— О какой же это?
— О той, по которой он обещал на вас жениться.
— Что же, не хотите ли вы, чтобы я ее отдала вам?
— Именно, возвратите ее королю.
Ко́зель только молча на него посмотрела.
— Что вы так смотрите? — переспросил Ватцдорф. — Право, возвратите!
— Я смотрю на вас, потому что думаю: не с ума ли вы сошли?
— Я? Нет. Я все с тем же рассудком, с которым век прожил до сих пор; а вот чему вы в моих словах дивитесь, я этого понять не могу.
— Как не можете?
— Не могу, да и полно.
— Но эта бумага… это обещание…
— Пустяки.
— Она мне дороже всего на свете.
— Право, пустяки.
— Как пустяки! Это все мое оправдание и вся моя защита.
Ватцдорф захохотал во все горло.
— Чего же вы смеетесь? — спросила с обидой в голосе Ко́зель.
— Да как же не смеяться, графиня, что вы все еще повторяете эту старую песню и верите в какие-то несбыточные обещания.
— А почему они несбыточны?
— Почему? Ну, мало ли почему.
— Ну, например?
— Да есть много причин. Во-первых, наша королева жива и здорова; а во-вторых… да во-вторых, впрочем, пока ничего и не надо. Одно только заметьте, что если не исполнены условия Альтранштадтского мира, то что могут значить все другие условия, если король не захочет ими стесняться?
— Но в том-то и дело, что я считаю короля честным человеком, который не мальчик и знает, что он обещает и зачем обещает, я привыкла верить его обещаниям.
Она встала и начала нетерпеливо ходить по комнате.
— А по-моему, вы все не о том говорите, — сказал Ватцдорф. — Совсем не это вам нужно.
— Что же, по вашему мнению, мне нужно?
— Извольте, я вам скажу, но только совершенно откровенно.
— Говорите.
— Король вас очень жалеет… Да, он чувствует к вам признательность. Он рад бы сделать все, что может для вашего счастья… Конечно, нельзя и не должно домогаться чего-нибудь невозможного, но любовным шуткам вроде его обещания не должно придавать такого значения, какого они никогда не имели и иметь не могут. Вы эту королевскую бумажку отдайте, а за нее потребуйте себе что посущественнее.
Ко́зель быстро повернулась к нему и спросила:
— Вы, без шуток, за ней и приехали?
— Без всяких шуток, графиня: за ней.
— Ну, так возвращайтесь назад, — отрезала Ко́зель.
— Что же, не отдадите?
— Нет, пока я жива, я никому ее не отдам! Это защита моей чести, а моя честь мне дороже, чем сама жизнь.
— Ах, Боже мой, да какая это защита? Ведь вы должны же признать, что этот документ ничего не значит!
— В таком случае, зачем же вы хотите его у меня отобрать? Нет, любезный Ватцдорф, он, верно, что-то значит… Не тратьте же попусту время, а возвращайтесь туда, откуда прибыли, и скажите, что я бумагу не отдам.
С этим она холодно повернулась спиной и хотела выйти, но Ватцдорф удержал ее.
— Позвольте, графиня! — сказал он. — Подумали ли вы о всех последствиях, которые может повлечь ваш отказ? Вы ведь, может быть, заставите короля прибегнуть к самым крайним мерам.
— Так что же?
— Он может употребить силу!
— Я в этом и не сомневаюсь.
— И тогда эта в существе своем ничтожная бумага будет взята у вас.
— Пускай же попробуют!
— Чего же вы достигнете?
— Я?
Она подняла голову и с твердым спокойствием проговорила:
— Я хочу, чтобы свет знал, как гнусно была я обманута и какой предательской подлостью я доведена до нынешнего моего положения.
Из ее глаз брызнули слезы, и она добавила:
— Но знаете ли что, я еще должна вам сказать, что я даже не верю, чтобы вы все это требовали по королевской воле.
Посол вместо ответа расстегнул сюртук и, достав из кармана собственноручное письмо короля, подал его Анне.
Она пробежала листок и презрительно его отбросила.
— Что же вы на это скажете, графиня?
— То, что это для меня неубедительно.
— Как! Для вас неубедительно собственноручное письмо короля?
— Как вы, однако, странны; но разве то письмо, за которым вы приехали и которого от меня добиваетесь, тоже писано не самим королем?
— Что же из этого? — спросил растерявшийся Ватцдорф.
— А то, что если король отрекается от своего собственноручного письма, которое он писал мне с клятвой в верности своих слов, то ему не труднее будет отречься от того, которое вы носите в вашем кармане. Не тратьте же больше время и доложите, что просьбы ваши на меня не имели влияния, а угроз я никаких не боюсь и их не послушаю.
С этим она во второй раз встала и спокойно вышла, оставив посреди комнаты одного Ватцдорфа, который думал теперь, как он будет докладывать в Дрезден о своем неудачном посольстве.
III
Есть люди, в которых несчастье других возбуждает не участие и не сожаление, а только одно любопытство. Такова была известная нам по этой повести госпожа Глазенапп.
Опала, постигшая графиню Ко́зель, возбуждала в ней неутолимое любопытство, которому она не в силах была противиться, и в один прекрасный день она явилась к пильницкой затворнице. Баронесса имела немало оснований опасаться, что графиня ее не примет, и потому она стала заглядывать в окна и, заметив в одном из них Анну, постучала:
— Здравствуй, здравствуй, мой дорогой дружок! Моя милая графиня, не прячься, мой ангел, я знаю, что ты не совсем доверяешь моим чувствам; Бог тебе простит это, и я прощаю. А теперь я к тебе и с самыми добрыми намерениями и с самыми интересными новостями, и потому ты должна пустить меня к себе!
После такого натиска некуда было деться, и баронесса была принята. Вертясь перед зеркалом и поправляя свою растрепанную в дороге прическу, докучливая гостья тотчас же затараторила:
— Я хотела доказать тебе, что у меня есть сердце, и хотя я знаю, что мне в этом отказывают, но поверь, что это неправда. Мне так надоели все интриги столицы, что я завидую твоему уединению! Чтобы жить при нашем дворе, надо с ума сойти, а здесь в Пильнице так тихо и мило, что тебе, чай, совсем было бы хорошо, если бы только тебя здесь оставили в покое. Но этого-то, я думаю, и нет: эта мерзкая Денгоф готова бы тебя и отсюда выгнать.
Графиню покоробило.
— Право, — продолжала Глазенапп, — ведь этой скверной бабенке все мерещится, что ты ее подстрелишь. Ей и конвой дали для охраны, как же, подполковник Хатира и шесть кавалергардов оберегают ее от твоих покушений. Ничего, я думаю, что эта гвардия ей не была бы противна даже и в том случае, если бы она ничего не боялась. Ты знаешь, ее пока поместили у Фюрстенберга, а потом построят для нее дворец. Только не запоздала бы постройка окончиться после конца ее царствования.
— Да ведь там есть готовый дворец!
— Какой это?
— В котором жила я.
— О! Тот, мой друг, уже предназначен для курфюрста. Да никакой дворец ей и не понадобится: рассказывают, что на одной из вечеринок, которыми их тешит Фюрстенберг, король, сильно подпивши, уже раз порядочно оттрепал эту свою милую даму и назвал ее таким мерзким именем, которого она и на самом деле заслуживает… Впрочем, она таким обращением не огорчается, она так добра, понимаешь, что ни за чем не постоит.
Глазенапп нагнулась к лицу Анны и, приложив к губам палец, добавила:
— Король ужасно изменяется, в нем совсем не стало прежней веселости; постоянно суров и… зол.
— В отношении меня… это, кажется, так, — проговорила Ко́зель.
— Ну, да в отношении тебя нечего и говорить, но тут это совершенно естественно! Сильная любовь никогда не кончается иначе, как ненавистью, а он и со всеми-то стал страшно жесток и несправедлив. Я думаю, ты слышала, что случилось с Яблоновским?
— Я ни о ком и ни о чем здесь не слышу, — отозвалась Ко́зель.
— Да, но ты ведь все-таки знаешь, однако, как много обязан был Август гетману, а особенно галицкому воеводе, который склонил гетмана на его сторону; а как ты думаешь, что теперь с этим воеводой? Он сидит в Кёнигштейне, в комнате Бейхлинга!
Ко́зель посмотрела на свою гостью с непритворным удивлением, а та продолжала:
— Да, да, его взяли в Варшаве из того самого дома, где он уговаривал отца перейти на нашу сторону, и вдобавок, арест этот пришелся в тот самый день, в который, год тому назад, они выезжали на границу приветствовать курфюрста.
— Это просто невозможно! — воскликнула Ко́зель.
— Да, и я готова была бы говорить, что это невозможно, но тем не менее это уже случилось, — продолжала гостья.
— Что же сделал этот воевода? — спросила Ко́зель.
— Говорят, что в то самое время, когда король упрочивал себе Денгоф, этот прямой человек на съезде этих бритых польских голов заговорил, что король подает дурной пример в семейной жизни и портит нравы в Польше, как испортил их в Саксонии. С их точки зрения, он выходил будто бы государственным преступником… Вообрази себе, король — государственный преступник! — воскликнула Глазенапп. — Как тебе это кажется? О, неоцененный Яблоновский! Говорят, что он таким образом заговорил в пользу Лещинского, который, по крайней мере, не развращал их жен. Августа, разумеется, огорчило более всего то, что ему мешали свободно тешиться с его Денгоф. За Яблоновским установили шпионство, перехватили какое-то его письмо, взяли какого-то писаря, который Бог весть что напутал на допросе, и король нашел достаточную причину без всякой церемонии и без всякого суда посадить Яблоновского в Кёнигштейн.
Ко́зель слушала равнодушно.
— Сообрази же теперь, моя дорогая, — докончила Глазенапп, — если не церемонятся с воеводами, то что же значим мы, бедные женщины, когда мы больше не нужны и от нас хотят избавиться?
Рассказ баронессы Глазенапп произвел на Ко́зель сильное впечатление. Воевода галицкий в Кёнигштейне, и посажен туда без суда и притом за польское дело, а заключен в Саксонии… Все это действительно было тогда как-то необыкновенно и обозначало в самовластии Августа какую-то новую фазу; но Глазенапп переменила тон и перешла к веселым сплетням. Она сообщила, что Денгоф никто не видит на придворных балах, вероятно, потому, что она никак не осмелится быть представленной королеве. Поэтому, продолжала рассказчица, маскарады стали гораздо чаще, чем балы. Короля, впрочем, также нигде почти не видно, потому что он все еще ею занят и сидит с ней. На одном ужине Киан, как я слышала, вместо того чтобы провозгласить тост за здоровье короля, пригласил всех к молебствию, чтобы Господь соблаговолил освободить Августа из польского плена.
На губах Ко́зель скользнула улыбка.
— На другой же день, — прибавила Глазенапп, — кто-то подхватил остроумную выходку Киана и прибил к Георгиевским воротам и к костелу воззвание ко всем христианам о молитвах за Августа. Король, как я слышала, очень над этим смеялся, но, однако, приказал отыскать того, кто это сделал… Но вряд ли, однако, найдут.
Неутомимо сплетничая до самого обеда, баронесса осталась здесь и откушать, а потом пожелала посмотреть сад и старую липовую аллею, где под открытым небом ею снова овладела откровенность.
— Все вы считаете меня злой интриганкой, — заговорила она, — и это отчасти правда, но только отчасти: я действительно люблю отомстить моим врагам, но зато, кто мне сделал какое-нибудь одолжение, я это ценю и помню, а ты была добра ко мне, и я за то открою тебе очень важный секрет…
— Нужно ли это? — спросила, слегка наморщив лоб, Анна.
— Да, это для тебя очень важно. У тебя хотят отнять бумагу…
— Какую бумагу? — с показным спокойствием спросила графиня.
— Ну, перестань притворяться, ты очень хорошо знаешь, в чем дело, потому что за этой бумагой к тебе присылали сюда Ватцдорфа. Так вот знай, что в случае твоего несогласия отдать ее добровольно бумага будет взята насильно.
— Очень благодарна за предупреждение, — отозвалась Ко́зель, — но только все это напрасно, потому что такой бумаги, какой от меня добиваются, у меня нет.
— Где же она?
— Где она? — переспросила, улыбнувшись, Ко́зель.
— Да.
— Тебе хотелось бы это знать?
— Да, то есть, так… разумеется, если ты хочешь мне это сказать.
— Отчего же, я отвечу откровенно. Бумага, о которой вы хлопочете, находится в очень верных руках. Надо признаться, что я ведь этого давно ожидала и приняла свои меры.
Глазенапп посмотрела на графиню долгим, пристальным взглядом, как бы желая прочитать на ее лице, правду ли она говорит; но Ко́зель казалась очень искренней и спокойной. Она, конечно, понимала, что баронесса Глазенапп для того к ней и пожаловала, чтобы, начав с простых сплетен, выпытать кое-что о бумаге. С этим ответом баронесса и уехала назад в Дрезден.
Проводив глазами экипаж баронессы, графиня тотчас же приказала позвать к себе Заклика.
Опасаясь быть подслушанной в своем собственном доме, она вышла с ним в сад, как будто для некоторых хозяйственных распоряжений, и сказала:
— Я подозреваю, что нас здесь окружают шпионы.
— В этом и сомневаться нельзя, графиня, я ни за кого в доме не поручусь, — отвечал Заклик. — А хуже всех Готлиб; я уверен, что он доносит обо всем, что тут делается. Впрочем, он человек недалекий и его ничего не стоит провести.
— Готлиб? Возможно ли, чтобы он за мной шпионил! — воскликнула графиня.
— Это вы потому так думаете, что он более всех лезет к вам со своей преданностью? Не верьте ему, это все притворство, с тем чтобы вкрасться в доверие.
— Скажите мне, Заклик, вас в городе все знают? — тихо спросила графиня.
— Ну, как вам доложить, может быть, многие уже и забыли; да ведь если вам угодно меня послать с каким-нибудь поручением, для которого надо, чтобы меня не узнали, то ведь можно так сделать, что и не узнают.
— Как это?
— Что же, — отвечал, слегка улыбнувшись, Заклик, — можно лицо-то и того… как актеры делают…
— Подрисовать, загримироваться?
— Да, отчего же, я это могу.
— А можете ли вы там достать нам верного языка?
Заклик пожал плечами и отвечал:
— Если нужно, так, разумеется, надо найти.
— Да, мой добрый Заклик, теперь это нужно, — сказала, понизив тон, графиня. — Здесь мне более уже совсем не безопасно и мне теперь одно спасение — бежать; вы должны мне помочь в этом, и я вам одному только верю и на вас на одного надеюсь.
Заклик промолчал.
— Что же вы молчите? — спросила нетерпеливо Анна.
— Трудно это будет сделать, — проворчал Заклик и сейчас же добавил: — Но, разумеется, если необходимо, то… разумеется…
— И это еще не все, — прервала графиня, — я должна спасти драгоценности, потому что они составляют все мое состояние.
Заклик только потер себе лоб и опустил глаза.
— Что вы мне на все это скажете? — спросила графиня.
— Все, что только в человеческих силах, я сделаю, — отвечал Заклик и задумчиво добавил: — Одно жаль, давно бы это следовало сделать. Ну, да что не сделано, о том уже нечего говорить.
— Сегодня ночью, — продолжал он, как бы погруженный в глубокую думу, — я поеду в город. У меня в кустах, у острова, есть лодка, я на ней и поплыву, и все, что можно, разузнаю, соображу, подготовлю и возвращусь.
— Хорошо.
— А вы не требуйте меня к себе, пока я сам не явлюсь к вам, комната моя будет заперта, и люди будут уверены, что я там для чего-нибудь затворился. Пока я больше ничего не могу придумать. Вон Готлиб, это он за нами шпионит.
— Ага, это в самом деле кажется так. Ну и прекрасно, идите и делайте, как вы сказали, а этого шпиона надо одурачить.
— Эй, Готлиб! Готлиб! Подите-ка сюда, — закричала она, отпустив Заклика и, когда немец приблизился, сказала: — Этот сад можно было бы привести в порядок, но этот поляк так бестолков, что ничего не может понять. Сколько я ему ни толковала, он меня только вывел из терпения.
Готлиб укоризненно покачал головой.
— Я вас очень прошу, чтобы вы нашли мне в городе хорошего садовника.
— Слушаю, графиня.
— И приведите его сюда.
— Приведу, графиня.
— Только хорошего.
— Самого лучшего, ваше сиятельство.
— Чтобы был и садовник и цветовод.
— И садовник будет и цветовод.
— Благодарю вас, я знаю, что вы все это отлично устроите.
— О, не беспокойтесь, ваше сиятельство… так устрою, что…
Но видя, что графиня удаляется, он только поклонился ей вслед и, окинув надменным взглядом Заклика, гордо пошел в свое место.
Когда темная ночь спустилась на окрестности, Заклик отвязал тихонько свою лодку, впрыгнул в нее, оттолкнул ее от берега и поплыл вниз по течению, к Дрездену. В ту пору по Эльбе почти не было никакого движения, и надо было хорошо знать реку, чтобы не попасть на бесчисленные мели и каменья. Но Заклик их не боялся: ему они были неопасны, потому что в то время, когда он, еще ничем не занятый, бродил по окрестностям Дрездена, он часто плавал по Эльбе и знал ее, как свои пять пальцев. Поэтому его нимало не пугала темная ночь, и он благополучно спустился к Дрездену. Сначала он увидел огоньки в домах раскинутых по берегам реки предместий, а потом перед ним засветило зарево, стоявшее над ярко иллюминованным замком.
В городе у Заклика, конечно, было много знакомых, но не ко всякому из них он мог теперь прийти, и потому голова его была занята соображениями: где бы ему приютиться и кому довериться?
Из числа людей, с которыми он был более или менее близок, были два еврея, один Леман Берендт, другой Иона Мейер; к ним часто обращались по устройству займов, в которых беспрестанно нуждался роскошный и нерасчетливый двор Августа.
Мейер был еврей европейского пошиба, он был родом из Гамбурга и приехал в Дрезден в 1700 году, в самом начале царствования Августа, и, поселясь в Дрездене, завел здесь первую меняльную лавку и банк. Нуждавшийся в его услугах король дал ему дом, который прежде назывался «старой почтой», а потом стал известен под названием «еврейского дома». Этот Мейер, разбогатев, выстроил дворец, развел при нем сад, а в первом этаже самого дома устроил несколько роскошных зал, в которых нередко задавал своим клиентам не менее роскошные балы и маскарады.
Товарищ его Леман Берендт был совсем другим: он родился в Польше, был блюстителем отчей веры и хранил в себе типические черты, свойственные старожитным надвислянским евреям; он был скромен, расчетлив, тих, обстоятелен и умен. Ко́зель имела с ним дела, и Заклику казалось, что он мог рассчитывать на некоторое доброжелательство этого человека. Он к нему и решился обратиться, если не рассчитывая на его прямое содействие, то, по крайней мере, надеясь получить от него добрый совет.
Оставив лодку у хибары одного знакомого венда, которые в то время еще не исчезли в Дрездене, посол Анны Ко́зель завернулся в плащ и, надвинув шляпу, начал пробираться по улицам города к дому, где жил Леман. Час был уже довольно поздний, но по движению на улицах легко было догадаться, что в замке происходило большое пиршество. Издали блестевшая над садом Гесперид в Звингре иллюминация убеждала в этом еще более: король давал маскарад для своей Денгоф. Маскарад был при факелах, и толпы народа стремились туда густыми потоками.
Пробираясь в тени под стенами, Заклик, никем не узнанный, благополучно достиг знакомыми переулками дома на Пирнейской улице и постучал в двери небольшой квартирки в задней части здания. Ему отворила старая кухарка и, впустив посетителя, кликнула Лемана, который, не увлекаясь любопытством, возбуждаемым королевским пиром, сидел один у себя дома, читая Библию или сводя свои счеты. Выйдя по зову кухарки в сени и узнав неожиданного гостя, он удивился, но ничем не выразил удивления и провел Заклика в кабинет.
Леман был очень красивый пожилой мужчина с проседью в волосах, но с замечательно свежим лицом семитского типа. Черные глаза его смотрели спокойно и рассудительно, но в них были свой внутренний огонь и приятное выражение.
Заметив, что Заклик оглядывается с некоторой особенной осторожностью, он сжал его руку и сказал по-польски:
— Здесь, пан Заклик, вы в безопасности.
— Я так и надеялся, — отвечал Заклик.
— Да, если нужно, то у меня вас никто не увидит.
— Ах, это мне очень нужно, господин Леман.
— Ну и прекрасно, вот кресло, садитесь и рассказывайте, что у вас делается и чем я могу служить.
— У нас все плохо, пан Леман, — отвечал Заклик. — Сначала графиню выгнали из дворца, потом из наемного дома, потом выгнали совсем из Дрездена, а теперь уже идет дело о том, чтобы выгнать нас и из Пильницы, да еще, Бог знает, удовольствуются ли и этим…
— Так, так, — проговорил раздумчиво еврей.
— Да, несчастную графиню преследуют немилосердно.
— Так, так, когда же преследования бывают милосердны?
— Это правда, господин Леман, но утешения в этом мало.
— Немного, пан Заклик, немного.
— Ее надо спасти, пан Леман.
— Гм!
— Я за этим сюда и приехал, пан Леман.
— Так, так, — процедил Леман, поправляя на голове свою черную ермолку, — спасти, да… однако, и себя, конечно, не губить.
— Да, если можно это так уладить… — отозвался Заклик.
— Уладить!.. Так, так, уладить… да!
— Графине остается одно: бежать!
— Так, да, бежать! А куда бежать, пан Заклик? Что? Бежать за море! Тут все цари и короли по-соседски беглых друг другу выдадут.
— Э, пан Леман, да за нами теперь вряд ли отсюда и погонятся!
Леман покачал головой.
— Вот где затруднение, — продолжал верный слуга, — графине нельзя бежать с пустыми руками, она должна спасти от расхищения свое добро.
Банкир потихоньку утвердительно кивнул головою.
— Но опасно взять все с собою!.. Что, если мы попадемся в руки наших врагов?
— Ай, что это будет! — воскликнул, схватившись за голову, еврей.
— Подумайте о нас, пан Леман!
— Ах, что тут думать, что тут думать, сколько ни думай, ничего, пан Заклик, не выдумаешь.
— Однако…
— Поверьте, ничего нельзя выдумать; я люблю графиню и рад бы помочь ей, да ведь… ничего нельзя, ничего нельзя… Не погубить же мне себя и семью свою… И все будет напрасно, все напрасно!
— Ничего не надо губить, пан Леман…
— Да?
Еврей поднял на него глаза и смотрел, ожидая окончания мысли.
— Мы не просим от вас никакого риска…
— Так, так, это вы хорошо говорите, пан Заклик. Чем же я могу служить вашей доброй графине?
— Одной вашей честностью.
— Честностью? Я вас не выдам, пан Заклик, не выдам, и тайны вашей не выдам!
— А если я привезу и сдам на ваши руки драгоценности графини?
— Все, что вы вверите мне, я сберегу и пришлю вам туда, куда вы мне укажете.
— Это все, что нам от вас нужно! Ну, так и дело кончено! Давайте вашу руку, пан Леман!
— Вот вам моя рука! А теперь дайте-ка мне достать вот тут в шкафу бутылку вина, да разопьем ее за добрый успех вашей затеи. Стакан вина вам с дороги теперь, я думаю, не помешает?
Леман достал из шкафа бутылку, налил в стаканы, и оба собеседника чокнулись и снова сели.
— Ну, теперь скажите мне, что же здесь нового? — спросил Заклик.
— У нас здесь что было, то и есть, здесь всегда одни порядки, — отвечал осторожно Леман.
— Ну, однако же, говорят, король влюблен?
— Влюблен? — как бы удивился Леман. — В кого влюблен?
— А в Денгоф!
— Ах! Да, Денгоф! — воскликнул Леман. — Ну, что про бедняжку говорить! Пусть собирает себе, пока время есть, деньжонки да цацки, а то скоро ее замуж выдавать будут, тогда это ей пригодится.
— За кого же вы ее готовите?
— Я? — еврей сделал гримасу и добавил: — Говорят, что сестру ее сватают за Фризена, а ее… Право, не знаю, за кого… Да не все ли равно, возьмет ее и Гакстгаузен, возьмет и француз Безенваль.
— Ну, а еще что нового, пан Леман?
Леман пожал плечами и отвечал:
— Ничего: люди меняются, а гадости все те же.
— Ну, от вас, видно, не много узнаешь! Надо пойти понюхать, чем пахнет в других местах.
— Подите, подите, понюхайте, но только смотрите, чтобы вас не видели, как вы ко мне приходите и от меня уходите.
— О, за это не беспокойтесь!
— То-то; а то ведь тогда все будет испорчено, и я вам ни на что не буду пригоден.
— Не беспокойтесь, пан Леман, не беспокойтесь: я буду скользить, как тень.
— Да, и чтобы вы более походили на тень, я вам дам ключ от особой двери, через которую вы можете входить и выходить так, что вас не увидит никто из моих домашних.
— Это более чем нужно, пан Леман. Благодарю вас и прощайте!
— Прощайте! Вот вам ключ от дверей и еще один добрый совет — быть осторожнее.
— Благодарю и беру и то и другое. Прощайте!
Леман сам посветил гостю и выпроводил его за двери.
_____
Снова плотно закутавшись в плащ, Заклик зашагал по улицам; он держал путь к Звингру, где хотел, замешавшись в толпу, посмотреть, что там происходит. Заклик был твердо уверен, что его не узнают, но, как ниже увидим, он ошибся в этом расчете. Едва он дошел до Замковой улицы, как кто-то ударил его по плечу. Удивленный Заклик обернулся и увидел Фрёлиха; старый шут стоял возле него и усмехался.
— Ага! Как это вы узнали меня, господин Фрёлих? — спросил Заклик.
— Не мудрено узнать, здесь других таких широких плеч, исключая короля, ни у кого нет, — отвечал Фрёлих. — А что такое вы, почтенный Унглюк, тут делаете? Я вас считал в штате той… оставшейся за штатом…
«Ах ты коварный урод!» — подумал Заклик и быстро отвечал:
— Да, я был в ее штате, господин Фрёлих, а теперь из него вышел.
— Что же так?
— Да что делать; знаете, когда корабль тонет, мыши с него спасаются вплавь.
— Это благоразумно делают мыши, очень благоразумно, господин Унглюк, — отвечал Фрёлих, — свою шею всегда не мешает немножко поберечь. Ха! Ха! Да, это благоразумно, пускай каждый спасает себя, как знает. Ну, так теперь что же, вы, значит, опять возвращаетесь на службу к королю? Или, быть может, служите уже у Денгоф?
— Нет, еще не служу, — возразил Заклик, — я, признаться, ведь совсем не знаю, что она за особа.
— Что за особа? — повторил Фрёлих. — Особа невеличка, как тот постельный зверек, который скачет и кусает.
И Фрёлих начал было хохотать своим дребезжащим смехом, но вдруг закрыл себе рот и умолк, завидя приближавшегося к ним испанца в маске. Заклик хотел удалиться, но маска заглянула ему под шляпу и, схватив за руку, проговорила:
— Что ты тут делаешь?
Немного растерявшийся Заклик отвечал то же самое, что он сказал Фрёлиху:
— Я пришел сюда в город искать службу.
— Вот что! А что же твоя госпожа, разве она тебе надоела?
— Да какая она теперь госпожа? Она так живет, что не нуждается больше в слугах.
— Ну, пойдем поговорим, может быть, я тебе и помогу найти хорошую службу.
— Сделайте милость!
— Пойдем!
Испанец потащил его за собой.
— А какую бы ты, например, желал службу?
— Я дворянин и потому желал бы службу дворянскую, службу при сабле.
— Вон что! А ведь у Ко́зель ты служил не при сабле?
— То было другое дело.
— Другое; ну хорошо, пойдем со мной.
— Куда?
— Вот уже сейчас и сказать тебе, куда! Что, ты меня боишься, что ли?
— Нет, не боюсь, — отвечал Заклик, и они пошли.
По направлению пути он догадывался, что незнакомец ведет его как будто к Флеммингу. Это так и было.
Несмотря на происходивший в Звингре маскарад, Флемминг был дома, двери его были открыты, и у него была куча маскированных гостей, которые приходили, угощались у открытых буфетов и уходили. Некоторые, впрочем, так плотно нагрузились, что не вставали с мест: говорили, что Флемминг ожидает к себе короля; но пир не мешал и делу.
Едва испанец, отыскав хозяина, шепнул ему на ухо несколько слов, генерал тотчас же встал и проворно направился к дверям; здесь он поманил за собою Заклика и привел его в отдельный кабинет, где все было тихо; на столе лежали множество бумаг, и какой-то молодой человек что-то сочинял или переписывал. Флемминг отошел с Закликом в темный угол и, сев в кресло, резко спросил Заклика.
— Когда ты бросил службу у Ко́зель?
— Я оставил графиню несколько дней назад, — отвечал Заклик.
— Чем она занимается?
— Устраивается в Пильнице…
— Что, она думает там оставаться или нет? — спросил Флемминг.
— Должно быть, думает оставаться.
Флемминг молча взглянул на испанца и продолжал свой допрос.
— Как ты расстался со своей бывшей госпожой?
— Меня выгнали, — солгал Заклик.
Флемминг и испанец снова переглянулись.
— Чем же ты перед нею провинился?
— Ничем не провинился; а так, она во мне больше не нуждается.
— Гм! А ты хорошо знаешь Пильницу?
— Еще бы не знать!
— И людей тамошних знаешь?
— Всех знаю.
— И знаешь и дороги и окрестности?
— Да как же не знать?
— Отлично! И ты хотел бы снова служить?
— Почему же нет? Бедному человеку без службы жить нельзя.
— Но если бы тебе дали службу, которая требовала, чтобы ты шел против своей прежней госпожи?
— Что же мне такое теперь моя прежняя госпожа? Я не имею ни госпожи, ни господина, кроме короля, которому обязан верностью как дворянин польский.
Флемминг потрепал его по плечу и сказал:
— Ты хорошо рассуждаешь и за то будешь устроен; приходи ко мне сюда через два дня! Понимаешь?
— Слушаю и понимаю, — отвечал Заклик и, уклоняясь от принятия монеты, которую ему совал в руку Флемминг, поклонился и вышел.
Дело радовало бедного парня: он надеялся теперь попасть в самую живую струю интриги — все разведать, все перепутать и спасти свою графиню. Два дня, данные ему Флеммингом, он решил употребить на то, чтобы побывать в Пильнице и сообщить обо всем, что нужно, графине.
Выйдя от Флемминга, он тотчас же, не теряя времени, сел в свою лодку и, сильно работая веслами, явился в Пильницу прежде, чем наступавшее утро разбудило двор опальной графини.
IV
Мы забыли сказать, что шатаясь в толпе, прежде чем встретиться с Фрёлихом, Заклик узнал, что назавтра в Дрездене, на Старом рынке, был назначен большой венецианский маскарад с ярмаркой, и Денгоф и ее сестры должны были играть не нем роль трактирщиц. Многолюдство ожидалось огромное: король звал на этот маскарад уже не приглашениями, а приказами, которых мало кто не получил во всем городе. Его величеству хотелось, чтобы на площади было как можно люднее.
Возвратившись в Пильницу еще до рассвета, Заклик привязал на старом месте свою лодку и пробрался на двор, когда там еще все спали; никем не замеченный, он пробрался в свою комнату, и дождавшись, когда у окон графини открыли ставни, прошелся перед домом и вошел в сад. Он был уверен, что графиня его заметит и не замедлит выйти, так как в комнатах всякий разговор Заклику казался небезопасным. Как он полагал, так и вышло: Анна пришла в сад, и Заклик представил ей самый подробный отчет о своей экскурсии, не забыв упомянуть и о назначенном в этот день маскараде. Это было с его стороны порядочной неосторожностью, которая вскоре же заставила его немало о ней пожалеть; но теперь они заняты были планом, как переправить драгоценности Анны из Пильницы к Леману. После недолгих соображений решено было, что шкатулки с вещами тотчас же будут отправлены с Закликом в Дрезден под видом подарков, посылаемых графиней ее детям. Заклик намеревался отвезти этот багаж немедленно и к вечеру возвратиться снова в Пильницу, чтобы в эту же ночь графиня могла бежать в Пруссию.
Условясь таким образом, графиня возвратилась в дом, откуда Заклик тотчас же начал выносить и устанавливать в дорожную бричку тяжелые ящики. Через час он уже выехал.
Относительно же побега графини были приняты следующие меры: нанятые Закликом лошади в сумерки должны были ждать ее в лесу на берегу Эльбы; когда все в доме улягутся, графиня должна была выйти и ехать до Дрездена, а оттуда далее до прусской границы. В известных Заклику местах были заготовлены заставы, и он надеялся, что его госпожа вскоре будет вне всякой опасности от саксонской погони, но вдруг все эти его надежды потерпели сильное поражение: графиня объявила, что она во что бы то ни стало хочет остановиться в Дрездене и взглянуть на сегодняшний маскарад.
Все усилия Заклика отклонить ее от этой опасной затеи были напрасны, и он, как ни спорил, должен был ей уступить.
— Я очень хорошо знаю, чем я рискую, — говорила Анна, — меня, конечно, могут схватить, отвезти в Кёнигштейн или даже прямо убить, но я должна там быть! Это мне необходимо!
Как ни неприятно это было преданному Заклику, но, зная упрямство своей госпожи, он с нею более не спорил и отправился в город. Дорогой он подпоил своего кучера так, что тот, отдав вожжи Заклику, преспокойно заснул в бричке и не видел, как тот, сам правя лошадьми, заехал на постоялый двор и, забрав на плечи все привезенные им вещи, снес их осторожно к Леману.
Заклик, возвратившись назад, сам запряг лошадей и, взяв вожжи, погнал назад в Пильницу.
Таким образом, дело с имуществом было улажено, и теперь оставалось спасать только саму графиню.
_____
Ко́зель в это время осторожно собирала свои бумаги, жгла письма и вообще готовилась в свое небезопасное путешествие, до выезда в которое ей суждено было испытать еще некоторые тревоги. Так, едва в обычный час ей подали обед, как совершенно неожиданно к ней пожаловали из Дрездена граф Фризен и Лагнаско, которых она могла считать подосланными с поручением заглянуть, что она поделывает.
Ко́зель настолько владела собой, что приняла их как нельзя более радушно; была свиду очень спокойна, говорила о разных своих предположениях, об устройстве пильницкого сада, которым была будто бы очень занята, и, спустив благополучно с рук этих гостей, сказалась прислуге больной и ушла в спальню несколько ранее обыкновенного.
В доме по случаю нездоровья графини приказано было соблюдать тишину, и прислуга предалась покою.
Заклик, обойдя двор и удостоверясь, что весь дом спит, постучал в небольшую дверь, ведущую из покоев графини в сад. Ко́зель вышла, вся закутанная в черное; она быстро прошла к берегу Эльбы и села в лодку, которая и поплыла вниз по течению. Береговой тростник и лозы укрыли бы от людских глаз эту лодку даже и днем, а теперь ее совсем никто не мог видеть. Через четверть часа они остановились у берега, вышли и, отыскав в лесу ожидавшую их повозку с четырьмя лошадьми, поскакали в Дрезден. В то время, полное любовных приключений, ночные странствования с женщинами были делом весьма обыкновенным, так что подобная ночная поездка не могла удивить нанятого кучера, он и не думал, что способствует преступному побегу.
Путь до Дрездена был невелик, и беглецы его проехали очень скоро.
Выйдя из повозки в самом безлюдном месте, графиня подала Заклику накидку и сказала:
— Наденьте это как можно скорее!
— Боже! Неужто вы ни за что не откажетесь от вашего ужасного намерения! — воскликнул Заклик.
— Не откажусь и требую, чтобы вы сейчас же надели это и следовали за мною.
Она легким движением руки накинула на голову капюшон своей накидки.
Заклику ничего не оставалось, как последовать ее примеру, и он пошел за графиней.
Как только они повернули к Замковой улице, так тотчас заметили, что все дома там убраны флагами и ярко иллюминованы; улица была битком набита экипажами, людьми, лошадьми и носилками. Повсюду раздавались шум, смех, писк, которые производили на Ко́зель раздражающее впечатление; но она все-таки быстро продвигалась вперед и увлекала следовавшего за нею Заклика, который старался заслонять ее и от толчков и от рассматривания.
На галерее ратуши играл оркестр музыкантов в фантастических костюмах; внизу под галереей кишели самые пестрые маски, а на самом рынке были построены убранные цветами балаганы и лавки, в которых разряженные в различные восточные костюмы женщины продавали безделушки, напитки и сладости. Вокруг карнавальных торговок собирались кучки острословов и шутников.
Впрочем, все это было гораздо более шумно, чем весело.
В конце Замковой улицы Ко́зель остановилась, точно у нее не хватало сил идти далее.
Заклик воспользовался этой минутой и еще раз шепнул ей:
— Вернитесь, графиня!
Но она вместо ответа только сжала его руку и быстро двинулась вперед. Стремление Ко́зель было неудержимо; она все рвалась вперед и вперед, пока вдруг не вздрогнула, остановила движением Заклика и сама встала: около них волновалось целое море фигур, и трудно было определить, кто был виновником ее внимания. Но вот Заклик осмотрелся пристальнее и увидел, что глаза его госпожи устремлены на человека, который высматривал кого-то, стоя от них всего в нескольких шагах. Это был высокий и необыкновенно статный мужчина в шляпе с черным пером и в черном бархатном костюме с золотой цепью на груди; несмотря на покрывавшую его лицо черную маску, в нем нетрудно было узнать короля Августа, и Анна его узнала: она остановилась, перевела дух и вдруг пошла к нему быстрыми и смелыми шагами.
Заклик понимал, что ему теперь некстати торчать при своей госпоже, и он наблюдал за нею только издали. Она приблизилась к королю, окинула его с головы до ног пристальным, вызывающим взглядом и, тихо отойдя на несколько шагов, остановилась.
Ее прекрасная фигура и в таинственных складках накидка обратили на себя внимание Августа, и он тотчас же подошел к ней.
— Клянусь честью, — заговорил он, — ты меня заинтересовала, милая маска! И знаешь ли, именно чем? Я был уверен, что знаю здесь всех женщин, но оказывается, что одной не знаю, и эта одна ты и есть.
— Какое счастье быть для тебя не тем, чем все! — отвечала, изменяя голос Анна. — Я очень рада, что ты меня не знаешь.
— А ты меня знаешь?

Парадное украшение коня к свадьбе Августа III
Праздник-карусель в Цвингере
— О, конечно, у меня нет исключений: я всех знаю.
— Вот как! Кто же я?
— Ты здешний палач.
Король вздрогнул и гордо выпрямился.
— Что это? — спросил он. — У тебя, маска, кажется, очень грубые шутки.
— Да я и не думаю шутить, я говорю правду.
Август посмотрел на нее и сухо заметил:
— Если вы меня знаете и все-таки решились сказать мне в глаза такую дерзость, то и я удивлю вас и скажу вам, что и я вас знаю.
— О, какой вздор! — отвечала сквозь веселый, беспечный смех Анна Ко́зель.
— И правда, я, кажется, ошибся! — проговорил обманутый этой беспечностью Август. — Вы не можете быть тою, за которую я вас принял.
— А можно узнать, за кого я была принята?
— Зачем?
— Ну так, ради любопытства, ведь женщины суетны, а мужчины… хорошие мужчины всегда бывают к ним добры и любезны. Так кто же эта та, за которую я была принята? Может быть, тут ошибка, может быть, я-то и есть она?
— Нет, этого не может быть.
— Почему?
— Почему? Ну, потому что ее здесь нет.
— Она могла приехать.
— Она этого не смеет сделать.
— Что такое «не смеет сделать»? Ха, ха, ха! Женщина и чего-то «не смеет сделать»?
И она опять так рассмеялась, что Август дрогнул, заслышав в этом смехе знакомую нотку, а она, не дав ему опомниться, шепнула ему одно слово на ухо и, юркнув в толпу, смешалась с нею, прежде чем Август успел пожалеть, что не схватил ее за руку и не удержал.
Скрывшись в толпе, Анна пробралась в темный закоулок, оказавшийся между стеной какого-то здания и примыкавшим к нему балаганчиком, и проворно сняв с себя накидку, вывернула ее на другую сторону, которая была подшита красной материей, и в этом новом наряде стала пробираться к выставке, за которой в костюме трактирщицы, торговала Денгоф.
Обе фаворитки сейчас должны были встретиться лицом к лицу.
Денгоф помещалась в одном из трех красивых балаганчиков, устроенных против самой ратуши. Здесь торговали три дамы: Белинская, Поцей и Денгоф, которой помогал граф Фризен; он стоял возле сестры фаворитки с гитарой, которая висела у него на перекинутой через плечо ленте, и занимал дам забавным разговором. Впрочем, тут было много и других блестящих кавалеров, между которыми были заметны Монтаргон и французский посланник Безенваль, умевший заставлять всех смеяться от его остроумных и порою едких замечаний.
Ко́зель, подойдя близко к этой группе, пристально рассмотрела Денгоф, а потом, когда та обратила на нее внимание, тихо подошла и сказала:
— Милая торговка, умилосердись над жаждущею, дай мне стакан лимонаду!
Денгоф подала ей стакан, и когда та, приподняв кружева своей красной маски, стала пить, беспокойно следила за пристально устремленным на нее взглядом Анны. Глаза Ко́зель смотрели на нее зло и насмешливо, а прекрасная рука, держа стакан, слегка дрожала.
— Благодарю! — проговорила она, выпив лимонад, и, подавая Денгоф червонец, добавила: — Вот тебе и плата за то, что ты отвела мою душу; я ведь знаю, что ты без платы ничего не делаешь, не правда ли?.. Что же ты не хочешь мне ответить, или не хочешь и словечка даром вымолвить? О, какая расчетливая! Или ты, может быть, не говоришь с масками?
Денгоф растерялась и беспокойно посматривала на сестру и мать, которые не обращали на нее никакого внимания и звонко хохотали под забавные речи Безенваля.
— Оставь их! — сказала, все смелее приступая, Ко́зель. — Я сделаю тебе удовольствие и буду говорить с тобой без маски. Смотри!
И графиня, приблизив свое лицо к лицу Денгоф, приподняла свою маску и, не удерживая более всего душившего ее негодования, прошептала:
— Смотри, смотри! Я хочу, чтобы мое лицо навсегда осталось в твоей памяти. Это лицо твоего смертного врага. Я та, с которой ты так боялась встретиться, и вот, однако, встретилась… Не бойся, пока ты не зовешь никого на помощь, я тебе вреда не сделаю, я только хотела тебя видеть для того, чтобы сказать тебе в глаза, что я тебя презираю!
И с этими словами Анна опустила на лицо маску и быстро исчезла в толпе, между тем как перепуганная Денгоф наделала тревоги; тут явился сам Август, все заговорили, что здесь ходит Ко́зель; сделано было распоряжение ее арестовать, а для того, чтобы она не могла скрыться, немедленно приказано было затворить все городские ворота и не выпускать ни одной женщины. Но так как распоряжение это не распространялось на мужчин, то Заклик нашелся завести графиню к Леману, где они добыли мужскую шляпу и плащ, в которых Анна под видом молодого человека, сопровождаемого слугой, и выехала благополучно из Дрездена.
И в то время, как графиню Ко́зель искали в Дрездене да в Пильнице, она уже удалялась по дороге к Берлину.
V
Берлин в первой четверти XVIII столетия был, конечно, совсем не то, что нынешний Берлин, хотя он и тогда имел уже все задатки образовать казарменную столицу. В самом расположении города и в характере вновь возводимых зданий преобладали единообразие и ранжир, не оставлявшие никакого места вкусу и фантазии. Систематическое правительственное опекунство чувствовалось во всем: все было под наблюдением и велось по установленной форме.
После относительно небольшого, но изящного Дрездена Берлин должен был показаться Ко́зель очень скучным, тем более что у нее был целый ад в душе. На улицах видны были только почти одни солдаты, рожки и барабаны которых нестерпимо надоедали. Несмотря на то, что Берлин насчитывал уже пять кварталов, везде казалось очень безлюдно. Из знаменитых впоследствии зданий тогда в Шпандаузском предместье уединенно стоял дворец королевы, а в Стралаузском — бельведер короля. Все здесь было ново и, сдавалось, еще ждало притока людей и начала жизни: на широких площадях, напоминающих целые степи, скучали кое-где расставленные статуи, но на Шпрее был уже каменный мост, который назывался «новым мостом».
Королевский дворец еще строился и мог бы быть очень хорошим зданием, если бы Шлухтер имел чувство меры и не увешал его венцами до такой степени, что они закрыли все стены.
Берлин имел уже тогда театр, картинную галерею, библиотеку, музей. Правда, все это было устроено наскоро, без особенно тяжелых пожертвований; по крайней мере, здесь не жертвовали людьми за вещи, как водилось в Дрездене, где меняли солдат на фарфоровую посуду и безделушки.
Но что было самого замечательного в Берлине, это, конечно, солдаты — их рост, их обмундирование, выправка и дисциплина. Вот чем мог вволю налюбоваться всякий, кто был одарен способностью на это любоваться.
Здесь был жив тогда тот знаменитый батальон гренадер, собранный с особенными усилиями из самых высоких людей целого света. Этих великанов скупали повсюду, где могли, и платили за них очень большие, по-тогдашнему, деньги; сводили их сюда, муштровали и вообще обращали в подвижные военные машины. Это были здесь люди пришлые, чужие, не имевшие никаких живых связей со страною, в которую попали против своей воли. Между этими великанами самым колоссальным ростом отличался норвежец Ионаш, который был так велик, что даже сгорбился, и его таким и привезли в Берлин; но чтобы заплаченные за него деньги не пропали, здесь его как-то распрямили и сделали тем «идеалом солдата», каким потом слыл этот бедный малый.
Вообще Берлин, после Дрездена, не мог нравиться такой женщине, какой была Ко́зель; но ей нужны были не удовольствия, а покой, личная неприкосновенность, и это казарменный Берлин, кажется, мог дать ей. Правда, что на третий день после того, как она расположилась в нанятом для себя помещении, ее посетили губернатор Вартеслебен и начальник жандармов Натцмер; но они были очень любезны и появились как бы только для формы. На переезд сюда графини смотрели, кажется, очень благосклонно, особенно с тех пор, как стало известно, что дрезденский Леман перевел для нее в один берлинский дом весьма значительные суммы.
Тесные отношения трех Фридрихов, казалось бы, не должны были ее касаться, и Ко́зель была уверена, что здесь ее уже никто не тронет, и она старалась жить как можно тише, никого не беспокоя и отмечая прожитые дни одними тупыми муками тоски начавшегося для нее тягостнейшего бесцельного существования Эмигрантки.
Она изверилась в Августе: оглядываясь на свое прошлое, она отыскивала в нем собственную вину и взялась за то, за что берутся многие в подобном положении: стала читать Библию… Священное писание призывалось произвести примирение в смятенной душе и уврачевать язвы борющихся ее страстей; но храмина была не убрана и не постлана для доброго гостя, и ему нельзя было сотворить себе в ней обители. К тому же и со стороны Анну не оставляли в покое: то Заклик извещал ее, что около дома бродят какие-то подозрительные люди, то о ней осведомлялись прусские власти, то наконец навещали ее будто бы случайно заезжавшие сюда саксонцы.
Так, например, к ней совершенно неожиданно пожаловал Ван Тинен, которого графиня знала; это был тот самый человек, который незадолго перед этим брался объясняться Анне в своей страстной любви.
Ван Тинен, однако, был принят и, притворяясь, что он будто бы совсем не знал о переезде графини в Берлин, сообщил ей дрезденские новости вечно одного и того же характера: Флемминг недавно давал сельский пир на равнине под Лаубегастом, причем в поле напротив Пильницы было выведено шесть полков королевской лейб-гвардии. На высотах были поставлены пушки и расположены другие войска и были произведены маневры. Разделенные на два отряда полки наступали друг на друга с батальным огнем, и все имело вид настоящего сражения. Король любовался на это зрелище, имея при себе, с одной стороны, госпожу Денгоф, а с другой, ее сестру, гетманшу Поцей.
Ко́зель усмехнулась и спросила:
— Почему же обе… без всякого предпочтения одной против другой, разве это уже так стало?
Ван Тинен улыбнулся и, понизив голос, отвечал:
— Да, эти дамы одна другую не ревнуют!
— Что же, это, должно быть, нравится вашему августейшему повелителю.
— Вероятно.
— В самом деле, это очень удобно, хотя, может быть, немножко более по-султански, чем по-королевски, но не беда!
— Не беда, — отвечал, уклоняясь от длинных об этом рассуждений, Ван Тинен и перешел к продолжению рассказа о том, как на этом полусельском-полувоенном празднестве король и его придворные до того перепились, что Флемминг забыл всякий этикет и начал бросаться королю на шею и фамильярно называть его своим другом и братом, а в заключении угрожал ему лишить его этой дружбы, если Август оставит попойку. Денгоф хотела отвести его от короля, но пьяный Флемминг вдруг перенес свои нежности на нее. Словом, венценосный гость и его фаворитка должны были спасаться от своего слишком хлебосольного хозяина и насилу ускакали верхом; тогда разгулявшийся Флемминг дошел уже до того, что брал оставшихся служанок и кружился с ними, производя всякие безобразия.
— Все это старые истории! — отозвалась Анна. — Флеммингу не впервые так обращаться с Августом; король сам мне рассказывал, что Флемминг, сделав подобное в пьяном виде, обыкновенно приходил наутро в замок и говорил королю: «Я слышал, ваше величество, что Флемминг вчера был не совсем в порядке, но вы ему это простили», и все этим кончалось.
— Король Август добр и кроток, как барашек, с теми, кто ему нужен, — продолжала она с саркастическим смехом. — После, когда минет надобность, пройдет и его доброта. Так это бывало со всеми и так кончится и с Флеммингом. Но все это для меня теперь дело стороннее, и вы будете очень любезны, дорогой гость, если перестанете меня тешить этими новостями, увы, слишком хорошо мне известного сорта и прямо мне скажете: зачем вы ко мне приехали? Говорите прямо, потому что я ведь не дитя и меня нельзя обмануть тем, будто вы заехали сюда случайно.
— Графиня! — возразил, едва скрывая смущение, Ван Тинен.
— Не спорьте со мною, пожалуйста, я на вас за это вовсе не сержусь, вы служите и стараетесь выслужиться — ну, что тут толковать! Но дело вот в чем: от меня ровно ничего нельзя узнать, я все стараюсь забыть и живу вот так, как видите. Это вы и можете рассказать, кому это интересно, а хотите еще что-нибудь добавить, то добавьте… Вот что, — проговорила она, поднимаясь с места, — добавьте, что при всех моих усилиях забыть мою жестокую обиду я до сих пор еще не нашла средства совладеть с собою, и месть, ненасытная, алчная месть кипит в груди моей и будет кипеть… пока живу я, или он!..
Ван Тинен побледнел и воскликнул:
— Графиня! Вы так немилосердны, что ставите меня, честного человека, в необходимость делать доносы. Вы ведь знаете, что я служу королю Августу, что я камергер его двора и присягал ему в верности….
— Исполните же долг вашей службы и донесите на меня, — резко отвечала Ко́зель. — Я прошу вас об этом.
— Но это вас окончательно погубит!
— Не беспокойтесь об этом, мне уже никто на свете не страшен, потому что никто уже не может мне сделать ничего хуже того, что сделано.
— А, может быть, вы ошибаетесь, графиня!
— Нет, не ошибаюсь, вы, может быть, думаете, что я сожалею об утрате дворцов, влияния и прочего… Нет. Ван Тинен, все это в моих глазах ничего не стоит, но я оскорблена как женщина в самых глубоких чувствах моего сердца, у меня отняты дети, отнято право доказать, что я не торговала собою и любила этого человека… Что же еще вы можете у меня отнять? Скажите, я вас слушаю…
Ван Тинен смотрел на нее с живейшим сочувствием и ничего ей не отвечал.
— Что же, — продолжала она, — договаривайте, чего еще могу я бояться?
— Уезжайте отсюда!.. Более этого я ничего не могу вам сказать, — отвечал Ван Тинен, чувствуя, что говорит то, о чем ему отнюдь не следовало бы говорить.
— Как? — спросила Ко́зель. — Уехать из Берлина? Зачем это? Разве я и здесь еще не в безопасности? Нет, я здесь под покровительством прусских законов; а король Фридрих не выдает так людей, как Август выдал Паткуля.
— Я более ничего не скажу, — тихо уронил Ван Тинен и взялся за шляпу.
— Прощайте! — отвечала ему равнодушно Ко́зель.
— Прошу вас верить одному, что мне глубоко и искренно жаль вас, — проговорил, откланиваясь, Ван Тинен.
— Хорошо, я готова этому верить, — отвечала, сухо поклонившись ему, Ко́зель, и с этим они расстались.
VI
Придворная жизнь в Дрездене продолжала идти своим порядком, но в Августе начинали замечать некоторое утомление и скуку: он как будто уже устал развратничать, и во всех его новых сношениях с женщинами не было и тени любви или привязанности, которыми несколько опоэтизировались прежние его интрижки.
Он, видимо, старел; ничто его не забавляло, и он зевал дома, зевал на пирах и увеселениях и часто сердился.
Самые развлечения его стали еще грубее: он теперь больше всего любил смотреть, как большие меделянские собаки берут на садке сильного медведя или как издыхает в агонии несчастный раненый олень. К этим же диким удовольствиям он приучал и своего юного сына. Кровавые травли составляли теперь резкий контраст с прежними картинами его наслаждений среди улыбок прелестных женщин.
О Ко́зель он не хотел и слышать, но ему напоминали о ней, запугивая ее мстительностью: представляли, что теперь на свободе в чужом государстве эта бешеная, ревнивая женщина может покуситься на священную жизнь Августа.
Король и об этом слушал неохотно, но постепенно стал верить этим словам.
Усердные наушники: Флемминг, Левендаль, Ватцдорф, Лагнаско и Фицтум — тщательно поддерживали в короле это настроение и беспрестанно подсылали шпионов следить за Анной, а в то же время выдумывали средства снова захватить ее в свои руки и, воспользовавшись этим, разграбить ее состояние.
Поэтому когда Ван Тинен вернулся из Берлина, его сейчас же позвал к себе Левендаль и потребовал от него обстоятельного отчета.
— Ну, что же там Ко́зель? — спросил он.
— Несчастная женщина! — отвечал Ван Тинен.
— Да, что она несчастная, в том сама виновата! Сошла с ума на обещании короля жениться на ней! Что, она до сих пор не перестала считать себя правой?
— Кажется, что так; она ни в чем не изменилась.
— Расскажите мне все, что вы видели и что от нее слышали.
— Она все такая же, как была: упрямая, вспыльчивая, гневная и прекрасная…
— Подурнела?
— Нисколько.
— Может ли это быть?
— Уверяю вас: ни время, ни горести точно не имеют над ее наружностью никакой власти.
— Тем хуже.
— Что вы изволили сказать?
— Я говорю, тем хуже ей, а нам тем более причин опасаться: король о ней еще помнит. Что же она поет теперь?
— Поет то же, что и всегда пела.
И Ван Тинен сообщил в общих чертах известный нам разговор его с Ко́зель.
Левендаль, отобрав эти сведения, тотчас же отправился с ними к Денгоф и передал ей все, разумеется, с некоторыми преувеличениями и прикрасами, прося ее всячески действовать на короля, чтобы он обеспечил свою дорогую жизнь от угроз этой безумной ревнивицы. Денгоф и ее сестра Поцей, по правде сказать, не совсем верили в эту опасность, но Левендаль привел им на память, как Анна явилась из Пильницы на маскарад, и сказал, что так же легко она может в один прекрасный день явиться и из Берлина. Это подействовало на женщин, и они, призвав к общему совету свою почтенную мать, решили немедленно предупредить короля и всячески стараться убедить его в необходимости лишить Анну свободы.
Вечером этого дня были танцы в саду Гесперид при дворце Звингра. Это был очень хороший сад, разбитый в тогдашнем прихотливом вкусе: с цветочными куртинами, обсаженными буковыми деревьями, с фонтанами, гротами и прекрасными статуями. При искусственном ночном освещении цветными фонарями сад был еще лучше, чем днем, и дрезденское общество его очень любило. Посреди сада был просторный и ярко иллюминованный шатер, где танцевали, а аллеи густых померанцевых деревьев и темноватые беседки давали приют парам, искавшим уединения.
Король явился на этот вечер в голубом, отделанном серебром и белым кружевом шелковом кафтане, и такого же цвета платье было на госпоже Денгоф, при которой неотлучно находилась ее сестра Поцей. Эти две примерные сестры не ревновали друг друга и вели дела сообща: так и здесь они обе сразу овладели Августом и, выбрав удобное, по их соображениям, время, успели пролепетать ему надиктованные им фразы о Ко́зель.
Август был не в духе, слушал их неохотно и дело не клеилось. Тогда на помощь дочерям подоспела Белинская, но это окончательно не понравилось Августу, и он, как бы выйдя из задумчивости, с которой слушал их жужжание, сказал Белинской:
— Дорогая моя графиня, вы, мне кажется, уж очень много беспокоитесь за меня. Но вам надо знать, что обо мне пекутся столько прошенных и непрошенных охранителей, что со мною определенно ничего не может случиться, а между тем разговоры об этом так меня утомили, что я всегда рад, когда их не слышу. Пойдемте-ка лучше что-нибудь пропляшем!
И он встал и, взяв под руки ее дочерей, отправился к танцевальному шатру. Таким образом, первая попытка была вполне неудачна, но зато она в тот же вечер была возобновлена другими лицами: Левендалем и Флеммингом. То же самое, что дамы говорили королю перед танцами, эти государственные люди повторили ему после ужина за вином; король дал им говорить и слушал их, но его брови несколько раз нахмуривались, и он наконец не выдержал и сказал с сильным сарказмом:
— Послушай, Левендаль, ты, должно быть, черт знает как сильно меня любишь!
— Можете ли вы в этом сомневаться, государь?
— Где тут, мой любезный, сомневаться, когда ты мне выдаешь с головою женщину, с которой ты и в родстве, да и, кажется, немало ей обязан… Откровенно скажу: ты меня, братец, удивляешь; я бы на твоем месте учился быть благодарнее; а о себе я сам позабочусь.
Левендаль умолк; но в тот же вечер подсунул на глаза королю Ван Тинена с его известиями из Берлина, однако, король и этого не захотел слушать. И вот тогда-то, может быть, зародилась мысль добывать Анну Ко́зель через Берлин.
Графиня Ко́зель не желала жить в Берлине открытым домом, но ей это, однако, не удалось: ее красота и своего рода известность, а также ум и приятность — все это делало ее интересной для многих; притом же в Берлине тогда все так скучали, что гостиная молодой красивой женщины составляла очень привлекательное место, и молодые люди стали добиваться знакомства с графиней.
Большая часть придворных короля Фридриха прусского знали графиню Ко́зель ранее при своих неоднократных поездках в Дрезден и потому имели достаточный предлог к возобновлению отношений; и около нее скоро стал собираться весьма оживленный кружок, в котором не было излишних стеснений этикета, и вечера проводились нескучно, тогда как на вечерах короля или королевы тоска доводила людей до сонной одури.
Сам король, впрочем, редко принимал в городе: он чаще бывал в Потсдаме или Вустергаузене, где вел строго регулируемую жизнь. В десять часов он являлся на смену караула; потом слушал доклады своих министров, делал небольшую прогулку; в полдень принимал военных начальников и иностранцев; после садился вместе с королевой и семейством за скромный стол. После обеда работал в кабинете и не показывался до самого вечера.
Вечером королева и несколько ее дам и офицеров, а иногда и кто-нибудь из иностранцев играли в пикет или ломбер, и тем день был кончен. Ничто не разнообразило этого течения жизни, составлявшей самый резкий контраст с жизнью шумного и элегантного двора саксонского. Да это было и в порядке вещей: в целом свете не было двух характеров, менее схожих между собой, чем Фридрих прусский и Август. Август был волокита и развратник, а Фридрих имел в жизни только одно увлечение девицей фон Панневитц, но с тех пор, как она наградила его пощечиной, он навсегда оставил ухаживание за женщинами и был образцом супружеской верности. Август был расточителен, а Фридрих до того скуп, что из-за его стола нередко вставали впроголодь. У Августа в государственном управлении господствовал какой-то правительственный дебош; а тут во всех порядках царствовал педантизм, и малейшее нарушение правил наказывалось казарменной суровостью. О балах при дворе никто и не думал. Ели на глиняной посуде, а когда надо было принимать кого-нибудь из иностранцев, то тогда доставали из кладовых тяжелое серебро, которое после обеда снова прятали. Фантазии у короля Фридриха если и были, то совсем не такие, как у Августа; он, например, любил, чтобы после скудного ужина королева удалялась, а мужчины собирались в «табачную коллегию», то есть в комнату, где курили табак из коротеньких голландских трубочек и пили пиво. Здесь допускалась несколько большая свобода, позволявшая смех и шутки, но всегда весьма грубые. В этом состояла самая веселая часть королевских приемов. Одурманясь пивом и табаком, гости в угоду королю тупо и отвратительно издевались над наукой и учеными, устраивая шутовские диспуты на пошлые темы об ученых глупцах и других подобных материях. Или на кафедре появлялся Моргенштерн, одетый в голубой бархатный сюртук с красными обшлагами и заячьей обшивкой, в красном камзоле, в парике, мало не хватающем до колен, и с лисьим хвостом на боку вместо шпаги. Вяло и скучно он толковал что-нибудь битый час, и это чрезвычайно потешало короля. Более изящных и разнообразных удовольствий Фридрих себе не позволял да, вероятно, и не желал их. А потому понятно, что когда в Дрездене смеялись над Берлином, в Берлине, в свою очередь, подтрунивали над Дрезденом, представляя его за некоторое подобие ада. Для заключения контрастов надо упомянуть, что Август в области религии был олицетворенное неверие, а Фридрих прусский был человек религиозный и набожный. Рассказывают, что однажды за ужином недавно поступивший камердинер короля, обязанный читать вслух молитву, дойдя до слов: «да благословит тебя Господь», нашел более приличным сказать: «да благословит вас Господь», и король закричал ему:
— Стой, негодяй! Читай так, как написано! И знай, что перед очами Божиими я такой же негодяй, как и ты!
Понятно, что люди с более или менее живыми характерами искали, где отдохнуть от этой скуки, наилучшее описание которой оставила нам собственная дочь короля Фридриха. Одним из таких спасительных мест и был дом Ко́зель, круг знакомых которой, все расширяясь и расширяясь, достиг наконец такого большого размера, что это стало заметно.
Король Фридрих, знавший обо всем, что у него делалось, конечно, знал и об этом, но пока молчал.
Военные люди собирались к Ко́зель обыкновенно в пору раннего берлинского ужина и засиживались, против берлинских обычаев, далеко за полночь.
Молодой народ приносил сюда новости и сплетни, которые доходили в Берлин из Дрездена, и как графиня не умела скрывать своего гнева, когда дело касалось Августа, то его саксонскому величеству здесь порядочно доставалось. Иногда он бывал и исключительным героем ночных бесед в салоне своей отставной фаворитки, и непочтительные речи, которые вели здесь о «соседе», начали доходить до «табачной коллегии».
Фридрих сначала посмеивался над тем, как достается его «прелюбодейному соседу», но потом, при дальнейших рассказах о том же, начал хмуриться, и вот однажды вечером Анну совершенно неожиданно посетил один старый генерал.
Он «дружески» советовал Анне оставить в покое Августа и играть вечерами в трик-трак или в пикет и с тем уехал.
Анна не послушалась этого совета и продолжала вести себя по-прежнему, что и шло вплоть до того самого дня, когда ее одним ранним утром посетил генерал-губернатор города Берлина Вартеслебен и предложил ей неожиданный вопрос: не желает ли она пожить в более спокойном уголке Пруссии, в Галле?
— Что я буду делать в этом Галле? — изумилась графиня.
— Все, что вам угодно, графиня, там чудесный воздух, прекрасные виды. Словом, это очень хорошее место.
— Да, но вы меня извините, я никогда в жизни не думала о Галле и не знаю, для чего мне туда ехать!
— Это удивительно! — воскликнул Вартеслебен. — Вообразите, королю кто-то сказал, что вам будто бы очень нравится жить в Галле, и его величество отдал приказ вас там устроить. Теперь вам отказаться от этого было бы большой неловкостью, да и… по моему мнению, даже совсем невозможно.
Графиня посмотрела на него и с усилием выговорила:
— Значит, вы мне передаете приказ?
— Король полагает, что вам там будет лучше и удобнее, там вы можете говорить все, что вам угодно и о чем угодно, и это никуда не дойдет, между тем как здесь каждое неосторожное слово может испортить соседские отношения, которыми наш король весьма дорожит.
Проговорив это, Вартеслебен встал, откланялся и вышел, добавив на прощанье, что графиню, конечно, никто не гонит и что она может выехать не только завтра, а даже и послезавтра.
Графиня отлично понимала, что этот новый разразившийся над ней удар был намечен из Дрездена, и она в этом не ошиблась.
Такое упорное преследование только взбудоражило ее беспокойный дух, и она, опасаясь нового визита Вартеслебена, решила уехать в тот же день. Лошади были наняты, вещи уложены, и прекрасная Анна со своим верным домочадцем Закликом потянулась в новое место изгнания, которое отвела ей казарменная любезность Пруссии.
VII
В небольшой тесной улице маленького города Галле, в невзрачном мещанском доме неподалеку от здания, где давались скромные общественные балы местных жителей, поселилась привыкшая к дворцам Ко́зель. Она здесь многих интересовала, но никому не была известна.
Хозяева дома, которых немало допрашивали об их квартирантке, отвечали, что они о ней решительно ничего не знают, и все сведения ограничивались тем, что это «какая-то больная иностранка, приехавшая издалека». Но, разумеется, не все этим удовлетворялись, и о незнакомке в городе ходили самые разнообразные толки.
Эта последняя катастрофа сломила мужество Ко́зель. Она уехала с тревогой; ясно, что здесь в Галле она была уже настоящей пленницей, и в этом ее еще более утверждал Заклик, который на другой же день своего приезда сюда обнаружил признаки учрежденного за графиней постоянного и строгого военно-полицейского надзора. Она не могла никуда ступить шагу, чтобы за ней не смотрели. В один воскресный день она пошла в церковь, но, заметив, что за ней издали следуют шаг за шагом, рассердилась и вернулась домой.
Однажды, совершенно неожиданно, ее посетил Ван Тинен.
Анна, как и можно было ожидать, встретила его весьма сухо и резко сказала:
— Прошу вас, господин камергер, сразу объявить мне, зачем вы пожаловали.
Тот было что-то заговорил об участии, но она снова его оборвала:
— Я не верю ни в чье участие и прошу вас сообщить, зачем вы пришли?
— Снова повторяю, что я вам сочувствую, и не хотел, чтобы неприятная обязанность, которая мне поручена, была исполнена другим человеком, менее меня способным беречь ваше спокойствие.
— Прекрасно, но теперь оставьте сочувствие и говорите прямо. Я вам помогу, как это должно начинать: «королю угодно» или «король требует» — чего от меня хочет ваш король, господин камергер?
— Мой король хочет облегчения вашей участи, которое возможно…
— …с тем условием, чтобы… Ну, говорите, пожалуйста, скорее!
— Да, к несчастью, графиня, действительно с тем условием, чтобы вы вручили мне, для передачи его величеству, письмо, которое он вам дал когда-то…
— И ваш король полагает, — прервала графиня, — что я ему отдам это письмо, особенно теперь, после всех вынесенных мною унижений?.. Нет, любезнейший Ван Тинен, если вы приехали сюда только за этим, то уезжайте скорее назад и скажите, чтобы король никогда и не надеялся иметь в своих руках это письмо. Это мое твердое решение, которого я не изменю ни за что, ни перед какими требованиями.
Проговорив это, она поклонилась и добавила:
— Я вам, господин камергер, все сказала.
Ван Тинен, однако, не хотел этим ограничиться и не спешил сократить свидание с графиней, но он все-таки ничего не добился. Он еще промедлил несколько дней в Галле и еще приступал к Анне с теми же доводами и просьбами, но наконец должен был все это оставить и возвратился ни с чем к своему королю, которого роковой клочок бумажки, после долгих нашептываний, наконец стал, кажется, очень серьезно раздражать и беспокоить.
На другой же день по отъезде Ван Тинена Заклик доложил графине, что надзор за ними, кажется, усилен.
— Это весьма вероятно, — отвечала Анна, — нас стерегут строго и скоро могут начать стеречь еще строже. Теперь Заклик, если хотите, вам настало время сослужить мне самую большую службу.
— Я хотел бы их не мерить, графиня, все службы мои для вас мне одинаково и легки и малы.
— Благодарю вас.
Заклик моргнул глазами, желая скрыть слезы.
— Благодарю вас и никогда, никогда вас не забуду, — продолжала графиня, — но теперь мы должны расстаться.
— Как!.. Что такое? Я не расслышал или не так понял, графиня, что вам угодно было сказать?
— Нет, вы хорошо меня поняли: нам нужно расстаться, вы должны меня оставить.
— Ни за что на свете!
— Постойте, мое заключение, может быть, не кончится до моей смерти…
— Это все равно, пусть будет, что будет, но я хочу разделять с вами вашу участь.
— Благодарю, но вы напрасно меня перебиваете, вы должны оставить меня для моей же пользы.
— Для вашей пользы?
— Да, вы должны быть на свободе, когда я буду в неволе.
— Зачем?
— Потому что иначе моя неволя никогда не кончится.
Заклик поник головою и прошептал:
— Это другое дело.
— Да, это так, и потому слушайте же, что вы должны для меня сделать: вы должны спешить с моей запиской в Дрезден к Леману; взять у него все мои деньги, обратить их в золото и иметь все при себе; а между тем… зорко следить за тем, что будут делать со мной, и употребить все средства меня выручить. Согласны ли вы это исполнить?
— Как бы я мог быть на это не согласен, графиня?
— Благодарю. Теперь здесь делайте вид, что мы друг другом недовольны и что вы не хотите мне больше служить, и разыграйте это как можно аккуратнее.
— Постараюсь.
— Потом, о той бумаге, которую я вам отдала, уезжая из Пильницы…
— Она всегда на моей груди.
— Когда мы не будем видеться и, может быть, не будем знать, где искать друг друга, мы должны знать, как с ней поступить на всякий случай. Возможно все: возможно, что и вашей свободе будет что-нибудь угрожать; возможно, что и на вас нападут с тем, чтобы отнять бумагу… то вот, — она сжала своей дрожащей рукой его руку и прошептала, — тогда, при крайней опасности выдать эту бумагу, ввиду полной невозможности ее спасти…
— Уничтожить ее?
— Да, да, уничтожить, но…
— Уничтожить так, чтобы этого никто не знал?
— Чтобы никто не знал, чтобы все думали, что бумага цела, и чтобы король ее боялся и не торжествовал свою победу надо мной.
— Будьте уверены, что он ее торжествовать не будет.
И с этим Заклик вышел; весь следующий день он не приходил назад, а к вечеру явился с новым слугой, которого ставил на свое место. Но он в этот день не тем только был занят, что искал слугу на свое место, а побывал также и в местном управлении, с жалобой на притеснения и капризы своей госпожи, и просил позволения ее оставить.
Его выслушали и, принимая его за недальновидного простака, отвечали, что дело в его госпоже, а не в нем, и что он может отправляться на все четыре стороны.
Заклик купил себе коня, еще раз выслушал наставления своей госпожи и, поцеловав ее руку, уехал в Дрезден.
_____
Следовавший теперь по этому же самому пути Ван Тинен был очень недоволен и собою и теми, которые послали его к Ко́зель.
Он прибыл в Дрезден в такой шумный день, когда было не до дел, потому что двор отправлялся на большой праздник в Морицбург. Небольшой морицбургский замок тогда только что был заново отделан, и в его окрестностях любили отдыхать и охотиться дрезденские горожане. За королем туда, разумеется, ехала вся его обычная свита, и туда же отправился Тинен на тот случай, чтобы там же, если будет удобно, представить и свои донесения. В числе дам короля при нем тут были княгиня Тешен, графиня Кенигсмарк и Денгоф с ее сестрою Поцей. Денгоф была не в духе, потому что Тешен была ей неприятна, а Тешен и Кенигсмарк, в свою очередь, презрительно поглядывали на Денгоф.
Август был очень занят праздником, которым хотел сам распоряжаться, и вздохнул только, когда вся программа была исполнена, и король от трудов своих сел отдохнуть за бокалом доброго вина.
— А что это, мне кажется, что я как будто видел здесь сегодня этого голыша Ван Тинена? — спросил он.
— Как же, ваше величество, он вернулся из Галле, — отвечал Левендаль.
Август посмотрел на него вопросительно и вскоре отошел с ним в сторону и спросил весьма резко:
— С чем вернулся Ван Тинен?
— Ни с чем, государь.
— Опять ни с чем? Он ничего не может сделать!
— С графиней, ваше величество, ничего добром нельзя сделать.
— Да какое, к черту, ей там добро; она терпит и изрядно терпит и, я думаю, весьма могла бы оценить теперь свободу!
Август поморщился:
— Ах, как это мне стало противно!
— Всем это уже опротивело, ваше величество.
— Ну, так надо же это кончить!
— Для того, чтобы все было кончено, нужно только одно ваше слово.
— Хорошо, я даю вам это мое слово! — воскликнул гневно Август. — Я не хочу этого больше терпеть и требую, чтобы это было кончено, кончено и кончено!
Он при каждом слове пристукивал нетерпеливо ногой и, глядя из-под бровей, докончил:
— Нынче же приготовить от меня письмо к королю прусскому о ее выдаче! Написать, что я… прошу ее выдать… как покусительницу на мою жизнь…
— Слушаюсь.
— Написать, что она сама этим похвалялась и теперь живет с этими похвальбами… и вообще вытребовать ее как преступницу на нашу границу.
— А с границы?
— В Носсен! Этот старый замок в пустыне очень хорош для тех, в ком надо сбить спесь и безрассудство.
Письмо было отправлено в Берлин с курьером, а король Фридрих, конечно, не колебался ни одной минуты, выдать ли беспокойную даму. По его приказанию к Анне немедленно явился поручик полка князя Ангальт-Дессаусского по фамилии Духармой и объявил ей королевское приказание выехать на границу в его сопровождении.
Анна в первую минуту была поражена этим известием, как громом, а потом воскликнула:
— Боже! Что же это за несправедливость! — И, упав к столу, она заплакала. Этим временем наскоро собрали ее вещи и подали карету.
В отчаянии Анна бросилась в глубину экипажа, лошади поскакали, эскорт прусской конницы под командой Духармоя последовал за каретой.
Всю дорогу до саксонской границы графиня не подавала никакого признака жизни, но чуть экипаж остановился и в его окно заглянула голова в шляпе саксонской формы, графиня вздрогнула и, торопливо достав из кармана часы и кошелек с деньгами, предложила их офицеру и солдатам.
Офицер отказывался, но она его упросила взять, чтобы не видеть, как все это у нее отнимут саксонцы.
VIII
С той минуты, как графиня Анна попала на саксонскую территорию, она сделалась в полном смысле арестанткой. В Липске, правда, ей дали провести одну ночь, но зато тут же рано утром к ней явился чиновник и, предъявив ей письменный приказ короля подвергнуть все вещи тщательному осмотру, тотчас же принялся за дело. Все сундуки, шкатулки были перерыты, бумаги и драгоценности отобраны и опечатаны, и потом ее повезли далее. Куда лежал путь, об этом ей не говорили ни слова.
Конный отряд солдат так плотно окружал карету, что она не могла ни распознать местность, ни получить какие бы то ни было сведения от посторонних.
Опять ехали быстро и безостановочно и к вечеру достигли какой-то равнины, на горизонте которой показались очертания, похожие на стены и башни. Очертания эти становились все яснее, и наконец карета въехала на двор замка.
Замок казался давно необитаемым, но в его главных дверях, однако, показались люди, которые вынули ослабевшую графиню из экипажа и повели ее под руки вверх по узкой лестнице в довольно просторное помещение, по-видимому, несколько приведенное в порядок. Комнаты имели огромные камины, высокие узкие окна, ободранные стены и самую скудную, чисто арестантскую, меблировку.
Измученная Ко́зель, окинув взглядом свое неприглядное жилище, бросилась на кровать и провела в ней ночь без сна, но в страшных грезах, которые почти у каждого порождает с непривычки неволя.
Чуть на небе засерело, она встала и, пока приставленные к ней слуги спали, бросилась к окнам, чтобы определить, что за местность, куда ее заживо похоронили? Повсюду была еще глубокая тишина, только в коридоре у дверей гулко отдавались шаги часового. Анна, поместившись в глубокой нише окна, припала лицом к оправленным в олово, мелким стеклам оконной рамы. Сколько позволял слабый свет, она видела перед собой равнину, которая сливалась с синевшим на дальнем горизонте лесом. Внизу откуда-то шел дымок, очевидно, поднимавшийся с очага.
Графиня поняла, что замок стоит над обрывом и что у подножья обрыва есть жилье; но это открытие еще немного говорило. Зорче всматриваясь в разъяснявшуюся даль, графиня увидела, что по долине шла широкая, обсаженная вербами дорога, на которой, однако, теперь не было заметно никакого движения. Графиня оставила оконную нишу и перешла из спальни в другой покой, где стояли большой дубовый стол, две лавки и несколько стульев, а на мрачных стенах висели два запыленных портрета. Тут же был и камин с гербовыми украшениями, которые были, впрочем, так беспощадно сглажены временем, что утратили все геральдические особенности, по которым можно было бы определить, чью родовую гордость должно было напоминать это изображение. За комнатой была еще третья, круглая, находившаяся уже в самой башне; окно этого покоя выходило на другую сторону замка, но и из этого окна виднелись только леса — ничего такого, что могло бы навести на мысль, что это за место.
В круглой башне был пустой шкаф, на одной из полок которого валялась старая Библия, сильно пострадавшая от времени и от мышей; Ко́зель жадно схватила книгу, но она выскользнула из рук и рассыпалась на листочки.
Тут же, в этой комнате, были запертые тяжелым замком железные двери, которые, вероятно, вели в какие-нибудь подземные помещения замка.
Пока графиня уныло обошла все это, на дворе уже посветлело; у окон запорхали ласточки и внизу, в долине, показалось тихо выходящее на пастбище стадо. Ко́зель поспешила вернуться в спальню, и хорошо сделала, потому что состоявшие при ней женщины уже проснулись. Анна выпила поданное ей теплое питье и снова уселась на каменной лавочке в нише. Что же ей было делать? Уже первые часы заключения в этой тюрьме были ужасны, а что ждало ее в будущем? Анна просидела весь день у своего окна и видела, как в поле далеко тянулись какие-то возы, люди перегоняли какое-то стадо; далее кружилось по дороге пыльное облачко и потом развеялось… Так шли часы за часами, и вот снова появились служанки и подали обед — плохой, настоящий арестантский. Ко́зель расплакалась и ни к чему не прикоснулась. И снова она подходила к окнам и снова смотрела на дорогу, не видно ли на ней Заклика; но верного слуги не было.
Так шли день за днем, пока она не заметила, что внизу под стенами какой-то ободранный детина собирал траву. Анна бросила ему уцелевшую у нее каким-то образом монету и, высунувшись в окно, тихо спросила, как называется замок. Парень не сразу понял, о чем его спросили, а потом не сразу собрался робко вымолвить: Носсен… Для Анны название было совершенно незнакомо.
Гораздо более отрадного доставил ей всадник, которого она однажды увидела после полудня из своего окна.
Это был человек, который держал путь со стороны Дрездена; он ехал тихо, опустив поводья, и, по-видимому, если не с любопытством, то с интересом осматривал окрестность. Анне даже показалось, что он старался быть замеченным из замка и сам хотел там что-то высмотреть и заметить.
Милосердный Боже! Неужто ты так ко мне милостив, неужто это Заклик? — подумала графиня и, не размышляя более, махнула белым платком.
Всадник тотчас же достал платок и, как будто отирая им запыленное лицо, дал знак, что он видел сигнал и на него отвечает. Это был никто иной, как Заклик, и сердце ее сильно забилось; друг и притом единственный в мире, преданный и верный друг был близко: он ее помнил, о ней заботился и, может быть, что-нибудь придумал для ее спасения…
Всадник между тем тихо обогнул замок и скрылся за обрывом горы.
_____
Вернемся теперь к Заклику и посмотрим, что стало с добрым парнем с тех пор, как мы его потеряли из виду.
Заклик, оставив дом Анны, еще несколько дней пробыл в Галле. Он хотел понаблюдать, что будут творить с графиней, но пруссаки нашли, что ему здесь нечего делать, и приказали убираться. Он повиновался и поехал в Дрезден, а прибыв сюда, тотчас же отправился к Леману.
Банкир, конечно, трусил и не рад был такому гостю, однако, приняв нужные, по его мнению, предосторожности, сообщил Заклику, что Анне, вероятно, грозят беды, потому что король на нее очень зол, а раз он начал кого-нибудь преследовать, то уже не устанет в этом, пока не доканает.
— Вот и теперь, — продолжал он, — ее имущество разыскивается и конфискуется. Пильница уже взята в казну, другие имения тоже. Все отбирают как будто для ее же детей. Даже и у меня забрали все, что ей принадлежало… Да, да, забрали! Король присылал… ну, что же было делать, я не мог сопротивляться. Они взяли осмотрели мои книги, а там все записано, я не мог, не мог скрывать и отдал.
— Полноте, пан Леман!
— Что вы… не верите?
— Право, не верю.
— Напрасно, напрасно не верите, отдал, ей Богу, отдал.
— Все?
— Ну, разумеется, все.
— И ничего, ничего не припрятали для моей бедной графини?
— Нельзя было, пан Заклик, невозможно.
— Вот так поздравили вы ее! — проговорил Заклик. — А она было поручила мне теперь взять у вас большую сумму.
Говоря это, Заклик достал зашитую у него в рукаве записку и подал ее Леману.
Банкир взял дрожащими руками листок и, пробежав его, молвил:
— Хорошая бумажка: она зараз может спровадить меня в Кёнигштейн, а Флемминга с Левендалем припустить к моим сундукам. Исчезни она совсем! И он ее быстро сжег на свечке, прежде чем Заклик успел остановить его.
— Полно, — сказал он, — не волнуйся. — И достав из бюро, вероятно, данный ему кем-нибудь в залог небольшой золотой, усыпанный драгоценными камнями крест, сказал:
— Поклянись-ка прежде мне перед этой штукой, что ты даже на пытке меня не выдашь!
Заклик взял крест, поднял вверх пальцы и сказал:
— Я в этом присягаю, но вы могли бы мне верить и без присяги.
— Ну, ничего, а этак все лучше. Положите же теперь опять эту штуку назад и слушайте. Что, если бы я вам дал деньги, а вас поймают и эти деньги у вас найдут?
— Что же за беда! Во-первых, я могу иметь свои деньги, а во-вторых, и графиня могла мне дать эти деньги.
— Правда, правда, но все, что принадлежит графине, теперь конфискуется. Однако, впрочем, я не король, и что мне доверено, то я должен возвратить. — И он отворил железный сундук, достал оттуда мешок и начал считать деньги. У Заклика отлегло от сердца, он видел, что дело пошло на лад, и пока банкир копался в мешках, Заклик положил свою усталую голову на руки и крепко уснул. Окончив, Леман слегка тронул Заклика за плечо. Тот сию же минуту очнулся, протер глаза, загреб выложенные Леманом деньги и стал прощаться.
— Прощайте! — отвечал Леман. — Не осуждайте меня, что я осторожен… может быть, даже труслив, у меня есть дети, надо и их пожалеть.
— Что об этом и говорить, пан Леман!
— Да, я с большим, большим трудом и риском сберег деньги графини. Наши счеты с ней теперь кончены, я выплатил ей все, что у нее взял. Но в наших руках деньги растут. Вот, возьмите и то, что наросло. — И он сунул в руки Заклика еще мешок и молвил: — Ну, теперь все. Затем пусть будет так, что вы у меня как будто и не были, никаких дел со мной не имели и даже совсем меня не знаете, а я вас не знаю.
— Пусть будет так, если хотите.
— Я вас об этом покорно прошу.
— Извольте, пан Леман, извольте.
Леман сжал руку Заклика и выпроводил его от себя через садовую калитку.
В городе Заклику тоже казалось небезопасно, и потому он приютился в предместье над Эльбой, где в те времена жили еще неонемеченные венды. У одного из них и пристал Заклик.
Человека этого звали Гавлик. Это был бедный честный рыбак, который давно знал Заклика и потому и теперь нашел у себя хлев для его лошади, а в хате уголок для самого Заклика.
Ни Гавлик, ни его жена не имели никаких понятий о Ко́зель, о ее падении, а потому им не было никакого дела, зачем Заклик появился в Дрездене.
Отдохнув, Заклик встал рано утром и, поплотнее закутавшись, отправился к дому шута. Он надеялся дождаться, когда Фрёлих выйдет на улицу, чтобы разузнать, что угрожает графине Ко́зель.
Расчет был верен: старый Фрёлих в свой урочный час вышел из дома и был очень удивлен, когда увидел на ступеньках своего крыльца сидящего человека.
— Эй, приятель, кто вы такой? — закричал Фрёлих. — Позвольте мне полюбопытствовать, что вам тут нужно?
Заклик обернулся.
— Ба, ба, ба! Кого я вижу? Что с вами сделалось, почтеннейший господин Унглюк, что вы тут прилипли к моему дому? Э, да вы, кажется, опять что-то невеселы, точно как будто вы недавно женились. Откуда вы теперь?
— С дороги.
— Да, да, да; с дороги-то вы, с дороги, но только с какой? Вы ведь католик, так, пожалуй, странствуете, держа путь в чистилище. Ну, что же, оно интересно. А с землею-то, видно, все-таки жаль расстаться, а? Любопытство, небось, влечет, про что-нибудь хочется сведать?
— Хочется, — отвечал, улыбнувшись, Заклик.
— А о чем, например?
— Да обо всем, что тут делается!
— Где это «тут»: при дворе нашего благочестивого Августа, или во всем Дрездене, или во всей Саксонии или наконец на всем земном шаре?
— Что мне земной шар!
— Да, конечно, земной шар это пустяки в сравнении с тем, чем заняты наши мысли; но при всем том я думаю, что вы, однако, ведь не имеете намерения сделать меня историографом событий счастливого царствования Августа, которые не могут быть описаны на целой воловьей шкуре, так скажите попрямее, что вы хотите знать?
— Не знаете ли вы, что сделали или хотят сделать с моей прежней госпожой?
Фрёлих оглянулся и, приложив к губам палец, отвечал:
— Неужто вы о ней ничего не знаете?
— Ничего не знаю.
— Я полагаю, что та, во власти которой был наш король, теперь сама в его власти…
— Но где же она заключена? — спросил Заклик.
— Говорят, будто в каком-то замке Носсен; но это, должно быть, ненадолго.
— Почему вы так думаете?
— Да уж, верно, для нее выстроят что-нибудь попараднее, — засмеялся Фрёлих и сейчас же добавил: — Нет, черт возьми, не хотел бы я родиться женщиной! Правда, что и мужчиной быть не лучше, ну да все-таки… А впрочем, если бы от меня зависело, то я, верно, пожелал бы родиться ослом. Чудесное, право, положение: мяса ослиного не едят; шкура у этих почтенных животных такая толстая-претолстая, что оберегает его от побоев как нельзя лучше; а когда долгоухие запоют свою арию, от них все убегают и оставляют их в покое. Прибавьте к этому их неизменный аппетит и неприхотливый вкус, и вы должны сознаться, что они имеют много прав быть счастливыми.
— Носсен! Носсен! — в задумчивости повторял Заклик. — Что же это за Носсен, и где этот Носсен?
— Вона! Прошу рассуждать с этим человеком! Я ему говорю об осле, а он отвечает о Носсене!.. Эй, приятель! Что у вас застряло в этом Носсене? А не будем-ка лучше говорить о таких скучных местах, как Носсен! Говорят, что там скверно, и я там ни за что не хотел бы очутиться, чего, кстати, и вам пожелать честь имею!
И Фрёлих со своей официальной улыбкой откланялся.
Через своего хозяина Заклик доведался кое-как, где находился Носсен, и расспросив о ведущей к нему дороге, в тот же день выехал туда, держась русла Эльбы.
Он не только благополучно нашел Носсен, но был так счастлив, что тамошняя узница тотчас же его заметила. Заклик был счастлив уже тем, что его появление могло утешить Ко́зель.
Оставив свою лошадь на постоялом дворе под вывеской «Золотой подковы», он сказал, что торгует кожами и приехал за товаром.
Прежде всего, разумеется, надо было хорошенько познакомиться с замком.
Порядки были довольно строги, и в замок никого не впускали, а потому проникнуть туда было мало надежды. Окна комнат в башне были высоко, и, вероятно, это внушало страже так много уверенности, что она даже не оберегала наружных стен. Караул содержался только внутри, на дворе и в коридорах при покоях графини.
С задней стороны замка была некоторая возможность пробраться под самые окна; но зато голая скала была так открыта со всех сторон, что на ней издали можно было увидеть всякую движущуюся точку.
Чтобы прийти к какому-нибудь определенному плану действий для избавления носсенской пленницы, нужно было много времени, а для этого прежде всего требовался предлог жить в здешних окрестностях.
Заклик притворился больным и щедро платил ухаживавшим за ним хозяевам сельской гостиницы.
Теперь они сами старались удержать его у себя как можно долее.
Этот же хозяин, которого звали Вуйехом, сообщил Заклику, что к ним в замок на днях привезли ту отчаянную даму, которая покушалась на жизнь короля.
От него же Заклик узнал, сколько солдат составляют стражу и какие приняты меры предосторожности против побега арестантки. Ей прислуживали две женщины, экономка и камеристка, и двое мужчин, повар и чернорабочий.
Не торопясь выздоравливать от лихорадки, от которой хозяин лечил его медвежьим салом, Заклик, выходя подышать чистым воздухом, все более и более знакомился с местностью замка. Но ему важно было познакомиться с лицами, окружающими, или лучше сказать, стерегущими Ко́зель, и случай ему не отказал в этом.
IX
Однажды утром, когда Заклик сидел у себя в гостинице за кружкой игристого пива, туда вошли три солдата из замковой стражи.
Лица их показались Заклику знакомыми, он видел их на часах во дворце, и из солдат один тоже его вспомнил. Они разговорились.
— Черт меня съешь, — воскликнул солдат, — если вы не тот силач, который ломал подковы!
— Однако, вы памятливы, приятель, — отвечал Заклик, — да, бывало, что я и подковы ломал и вола за рога останавливал. Все это было, да прошло, теперь я и с бараном вряд ли справлюсь.
— Что же это с вами сделалось?
— Да вот все колики у меня, все хвораю.
— Ну, это худо; впрочем, поживите у нас подольше, полечитесь, авось вылечитесь; а нам все-таки веселее будет, хоть человека свежего видим, а то тут едва не одурели от скуки.
— Что же так?
— Да разве вы не видите, что за жизнь здесь и что за место?
— Не хотите ли кружку пива, приятель?
— Отчего же со старым знакомцем не выпить? Служба пакостная. И еще, черт знает, до каких пор продолжится!
— Правда, тут невесело! Ну, как-нибудь время коротаете?
— А как его коротать?
— Вот пивцо пьете.
— Редко.
— Отчего же?
— Отчего? — солдат рассмеялся. — Не все угощают им, приятель, так, как вы, а деньги спрашивают.
— Ну, в картишки, небось, играете?
— Опять деньги нужны, а без денег что за радость шлепать!
Вскоре солдаты зачастили «на доброе пиво» в гостиницу, а хворый Заклик, тоже изнывая от скуки, ходил их провожать в замок и заходил иногда далее границ, для этого положенных. Так он побывал не только на дворе, но даже в коридорах, по которым можно было дойти прямо до дверей арестантки.
Солдаты всегда были рады этому силачу, который к тому же оказался еще страстным и очень несчастливым картежником. Что ни день, то они забирали у него несколько талеров, но он за это не сердился и, уходя, так же медленно шел вдоль стен замка, как и приходил в него. Офицер команды жил в местечке и был занят ухаживанием за дочерью мясника, для которой он играл на гитаре и пел нежные романсы.
Заклик видел, что стражу обмануть нетрудно. Но зато выяснились почти неодолимые затруднения: помещения графини примыкали к квартирам командующего стражей офицера и старого надзирателя замка. Последний жил здесь со своим семейством, в коридорах постоянно проходили, невозможно было пробраться к узнице никем не замеченным. Надо было думать о другом пути: нельзя ли подкупить этого многосемейного чиновника и потом его обмануть? Другого нечего было делать, и Заклик решился это испробовать. Через солдат ему очень скоро удалось завязать знакомство с надзирателем, который оказался человеком очень удобным для целей Заклика: он был беден, жаден, скуп и весьма сговорчив. Начав угощать тюремщика, Заклик выведал от него, куда поместили Ко́зель, и узнал, что там есть старая железная дверь, ведущая в пространные камеры, где когда-то хотели устроить архив для старинных актов. Заклик высказал своему новому знакомцу большое желание взглянуть на эту старинную постройку, но тот на этот раз отмолчался.
На другой день они уже разговорились прямо о графине, и Заклик старался рассеять в надзирателе некоторые неблагоприятные для нее впечатления и внушить ему к ней сострадание как к женщине молодой, прекрасной и очень несчастливой.
— Судите сами, у нее все отнято: имя, положение, состояние, дети и наконец сама свобода, а еще, Бог знает, виновата ли она в том, в чем ее обвиняют!
— Ну, даром же не стали бы ее обвинять! — возразил надзиратель.
— Эх, мой почтеннейший!.. Отчего не стали бы обвинять и даром? Это не мы, простые люди, а там люди придворные, хитрые, коварные и жадные; а графиня была могущественна и богата.
— Богата?
— О, она и до сих пор очень богата! — отвечал Заклик. — Хотя, разумеется, ее порядком обобрали, но все-таки у нее остались еще очень много друзей, которые для нее ничего не пожалеют. А потом, будьте уверены, что она еще вернет свое могущество, и тем, кто ей сослужил бы теперь хоть маленькую службу, наверно, будет нехудо… А? Что вы об этом думаете, господин Герцог?
Господин Герцог (так звали надзирателя) думал то, что ему и следовало думать, то есть, думал, нельзя ли тут извлечь себе какую-нибудь выгоду.
— Да, — сказал он, — разумеется, если все это так, как вы говорите…
— Это все так, как я говорю, господин Герцог!
— Ну, тогда… тогда я должен думать, что вы знаете, о чем говорите.
Они молча взглянули в глаза друг другу и оба улыбнулись.
— Конечно, я знаю, — отвечал Заклик, — и даже нимало бы не удивился, если бы кто-нибудь из друзей графини вдруг явился бы сюда к вам и предложил бы вам хорошенькую сумму за то только, чтобы вы устроили ему возможность переговорить с графиней хотя бы всего одну минутку.
Заклик взглянул на старого Герцога, который молча поглаживал бороду.
— Подумайте-ка, что бы вы в таком случае сделали?
— Я поступил бы с этим искусителем, как наш мудрый Лютер с чертом: я пустил бы в него чернильницей.
— Ну, чернильницей это еще не так страшно: вы в него запалите чернильницей, а он в вас разом пустит целую горсть новых чеканных талеров, так перестрелка будет неравная.
— Да, это действительно пули не одного калибра. Если кому не жаль ребят, так этакой канонады, пожалуй, не выдержишь! — отвечал, смеясь, надзиратель.
— Э, оставьте вы в покое детей! Никогда до детей ничто это не коснется!
— Толкуйте-ка вы: не коснется! — засмеялся Герцог. — Как раз отец повиснет на виселице, а они пойдут по миру.
— Полноте, пожалуйста! Никто об этом никогда не узнает; и вы сами хорошо в этом уверены, а мы так только напрасно время в разговорах тратим. Берите-ка пятьдесят новеньких талеров, да и дело в шляпе.
— Как вы это странно говорите!
— Ничуть не странно!
— Да кто же мне их даст?
— А хоть бы и я!
— Ну, я так и думал, что это вы! — отвечал с усмешкой Герцог.
— Ну, так за чем же дело? Уверяю вас, что вам нечего опасаться: солдаты меня знают и будут на моей стороне, а я сам знаю, как с ними обойтись. Проведите меня в залу, когда при графине нет ее женщин. Постучимся в ее дверь, и я ей скажу несколько слов… Только и всего.
— Знаете ли, если бы не те бабы, что к ней приставлены, то мне, право, кажется, что я бы не мог вам отказать в вашей просьбе, — отвечал Герцог. — Но ведь они при ней, то та, то другая, безотлучно.
— На все есть средства. Разве нельзя, например, сделать так, чтобы их пригласила к себе ваша супруга?
— Э, нет, этак я не хочу. По-моему, баба никогда не должна ничего знать о серьезном деле! — возразил Герцог. — Нет, вы уже предоставьте мне это самому обдумать!
Заклик, разумеется, не возражал, а только выставил перед надзирателем пять стопок крупных талеров, которые и спустились в объемистый карман Герцога; а несколько дней спустя, когда графиня прохаживалась по своей спальне, она вдруг услышала легкий, но ясный стук в железную дверь, и едва подбежала к ней и постучала со своей стороны, тотчас же щелкнул замок и дверь отворилась, а на пороге ее показался Заклик.
— Графиня! — заговорил он. — Время дорого; много говорить нельзя; знайте, что я буду здесь в окрестностях, пока что-нибудь сделаю.
— Бежать, бежать отсюда! — живо отвечала графиня.
— Это не так легко, как вы думаете! Вы только будьте терпеливы и верьте, что я сделаю все, что возможно. А вы спускайте всякий день из окна, которое с Задней стороны башни, серый шнурок, я буду прикреплять к нему записочки о том, как идут наши дела и что вы должны делать. Теперь более говорить невозможно, я едва устроил и это короткое свидание. Вот вам кошелек с червонцами на всякий случай, они могут вам понадобиться, спрячьте их и прощайте!
Стоявший сзади него в тени Герцог уже торопил Заклика удалиться, и едва он шепнул графине название гостиницы, где остановился, как железная дверь снова замкнулась.
Узница ободрилась духом и, упав на колени, со слезами благодарила Провидение за оказанную ей помощь.
Герцогу очень понравились полновесные талеры, он почувствовал охоту добрать их до сотни и сам навязался к Заклику с предложением познакомить его с развалинами замка и теми запущенными частями, где он еще не был. Заклику все это, разумеется, было на руку, и талеры переходили к Герцогу, а у Заклика слагался план освобождения графини.
Осматривая развалины, он заметил старые крытые ходы, которыми можно было пробраться в замок и выйти из него. Один такой ход выводил почти на самую дорогу, и хотя этот выход был завален мусором, однако, была некоторая надежда, что он к чему-нибудь пригодится. Затем оставалось найти средства скорее перебежать из Саксонии и выбрать приют, безопасный от поисков Августа. Пруссия для этого, очевидно, не годилась, и Заклик в этом выборе все больше останавливался на Польше. Там, по его мнению, можно было так спрятаться, что никто не отыщет. Хотя всякие отношения Заклика с родиной были давно уже прерваны, но все-таки он имел там знакомых, дальних и близких родственников и притом он знал, что саксонец, кроме немногих сторонников в польской аристократии, был нелюбим всею страною и имел много заклятых врагов между влиятельной шляхтой.
Надо было припасти верного человека и лошадей для побега, и Заклик решился для этого на время отлучиться. Он сообщил графине о цели своей отлучки посредством записочки, привязанной к спущенному ею шнурку, и еще раз повидался перед отъездом с Герцогом, заинтриговав его возможностью заработать без всякого риска не пятьдесят талеров, а уже целую тысячу.
Старик слушал.
— С тысячей талеров, — говорил Заклик, — вы могли бы тихонько перебраться куда-нибудь к Рейну, выслав туда заранее свое семейство, и поживали бы себе там, как у Христа за пазухой.
Герцог молчал.
Прощаясь с солдатами, Заклик распил с ними несколько бутылок пива и, пообещав скоро опять сюда вернуться, отправился назад в Дрезден.
По отъезде Заклика Ко́зель в ожидании от него вестей находилась в лихорадочном состоянии. Ежедневно бегала она к окну и спускала свой серый шнур, но записок не было. Своенравная женщина еще не умела терпеть и негодовала, что не все делается так, как ей хочется. Впрочем, она в это время постаралась привлечь к себе одну из приставленных к ней женщин, которая казалась несколько податливее своей нелюдимой подруги.
Ко́зель не умела просто и душевно обходиться со слугами, и ей нелегко было научиться этому в заточении, где она еще продолжала считать себя женой Августа, но, однако, неволя заставила ее обращаться с Магдаленой — так звали младшую из ее женщин — теперь поласковее, но все это было неискренно и неискусно и потому не достигало своей цели. Графине не удалось привлечь к себе Магдалену. Денежные подарки, которые давала ей Ко́зель, конечно, подействовали на служанку, но не установили между ней и княгиней искренних отношений.
Так прошел месяц, а Заклик все еще не возвращался. Хлопоты его в Дрездене затруднялись тем, что его здесь почти все знали, и он должен был скрываться и действовать так, чтобы ничем себя не обнаружить.
А между тем прошла осень, наступила зима, и дороги сделались хуже, а следы явнее для погони. Надо было ждать до весны. Заклик съездил в Носсен и не без труда известил об этом графиню, прося ее потерпеть до теплого времени. Герцог, снова получивший при этом изрядные деньги, опять дозволил им свидание, для которого сам отворил двери, а посвященная на сей раз в эту тайну Магдалена стояла на страже. Теперь разговор мог продолжаться долее и Ко́зель имела время договориться с Раймондом. Побег отложен был до первых весенних дней. На Герцога теперь смело рассчитывали, не сомневаясь, что он за хорошую плату поможет графине выйти на волю.
Но зима, как назло, в тот год стояла холодная и долгая, и исполнение затеянного побега все отлагалось; а это, как известно, всегда очень дурно в подобных делах, зависящих от множества самых непредвиденных случайностей. Так было и тут: Герцог как-то немного подпил и сболтнул что-то жене, а она выпытала от него еще кое-что и поболее и, будучи женщиной рассудительной, стала соображать, что от выгод предлагаемой измены отказываться не следует; но следует, может быть, сыграть в двойную игру: прикинуться готовым оказать содействие побегу графини, взять деньги, а между тем, чтобы не утратить места, сообщить обо всем правительству.
Герцог, выслушав жену, промолчал, поглаживая свою бороду, но мысль показалась ему довольно практичной.
Графиня была уверена в Магдалене и уговаривала ее бежать вместе с собой; а у той были свои соображения. Она под предлогом свидания с родными отправилась на несколько дней в Дрезден и сообщила о приглашении Ко́зель своей сестре, которая служила при доме Денгоф. Сестры посоветовались и, надеясь на большую награду, решили донести обо всем Белинской.
Можно себе представить, какой переполох подняло это, когда разлетелось по городу! Немедленно было сделано распоряжение арестовать обеих сестер-доносчиц и допытаться от них подробностей затеи Ко́зель, а вместе с тем в тот же день в Носсен был отправлен новый отряд солдат на смену прежнему, причем караул был удвоен, и старый надзиратель Герцог сменен, закован и отправлен в Дрезден. С этих же пор замок стали стеречь и снаружи. Ко́зель ничего этого не ожидала и была очень удивлена, когда, проснувшись утром, нашла в комнате, смежной с ее спальной, незнакомого офицера, который имел поручение пересмотреть все ее вещи и бумаги, а также осмотреть замки и двери ее помещения.
Графиня поняла, что случилось что-то неблагоприятное, но не смела ни о чем спросить и опасалась всего более того, чтобы не арестовали Заклика. Но, на счастье, его здесь никто не знал под его настоящим именем, а наружность свою он маскировал так ловко, что по ней его узнать было трудно.
Записки Заклика, которые графиня получала при помощи шнурка, она сумела уничтожить, и доказательств к подтверждению доноса о Побеге не было, но тем не менее жизнь арестантки в Носсене с этих пор сделалась гораздо несноснее. К ней были приставлены новые слуги, которые обходились с ней самым сдержанным образом. Всех добрее был новый караульный офицер, который, несмотря на его мрачное лицо, имел мягкое сердце и однажды сам сказал графине:
— Я знал вас, графиня, в лучшие времена!
— Право, не помню, — отвечала Ко́зель.
— Ну, да где вам помнить меня, бедного и ничтожного человека, а я видел вас, состоя в королевской свите, и, признаюсь, никак не думал тогда, что мне доведется исполнять здесь при вас такую обязанность.
— Что делать! — сказала графиня.
— Конечно, что делать, графиня: у служащего человека служба прежде всего; но, однако, если я могу чем-нибудь быть вам полезен и в пределах моей власти облегчить вашу долю, то вы не ошибетесь, если на меня положитесь в этом.
Ко́зель посмотрела на него недоверчиво.
— Вы мне, кажется, не верите?
— Нет. Но я вам поверю, если вы мне скажете, что обо мне донесено?
— Подробностей я не знаю, так как все новые распоряжения вышли прямо от короля через маршала Левендаля, но велено переменить прислугу, надзиратель замка арестован.
— А еще кто пострадал за меня?
— Кажется, что, кроме слуг, никто. Впрочем, если я что-нибудь узнаю, я вам скажу: я ведь должен ежедневно приходить к вам. Вы не сердитесь, что я при слугах буду строг, но знайте, что я вас очень жалею и все, что могу, готов для вас сделать.
Он, откланявшись, ушел и вел себя, как обещал. Дни графини потекли вяло и уныло, и надежды ее, еще недавно столь живые, разлетелись прахом.
Заклик из слухов, распространившихся по Дрездену, узнал обо всем, что случилось, и притаился, выжидая, будут ли его разыскивать. Он понимал, как опасно было бы ему теперь показаться около Носсена; но вместе с тем чувствовал неодолимую потребность успокоить графиню известием, что он свободен и что она все-таки еще может на него рассчитывать.
С этой целью он оделся нищим и окольными путями побрел к Носсену. Шатаясь здесь вблизи замка, он высмотрел, что под окнами графини ходит часовой и что через шнурок ничего передать было невозможно. Но Заклик нашел другое средство дать ей о себе весточку: он повстречал странствующего торговца, развозившего перед Рождеством товары по деревням и местечкам. Такой торговец со своей коробкой пробирался всюду, и Заклику пришла мысль послать его в Носсен.
— Сходи, друг, в Носсен, — сказал ему Заклик, — я уверен, что там ты можешь сделать хорошее дело: там в замке сидит теперь графиня Ко́зель, и хотя она и заточена, но при ней немало прислуги, которой она, наверно, захочет сделать на праздники подарки. Я уверен, что, если ты туда заберешься, то славно поторгуешь.
У торговца, которого звали Трейе, заблестели глаза.
— Спасибо за добрый совет! — воскликнул он, потирая руки. — Право, спасибо, мне бы этого, признаться, и в голову не пришло!
— А мой совет, наверно, будет хорош особенно, если ты, любезный Трейе, согласишься при этом сделать графине маленькую услугу.
— Какую это?
— Самую пустую и безопасную: шепнуть ей потихоньку о ее старом слуге.
— А что же о нем шепнуть-то?
— Только всего, что, мол, ваш верный слуга, который ломал подковы, жив и ходит по белому свету.
— Что ж, это, кажется, неопасно?
— Да уж чего безопаснее! Так скажешь?
— Пожалуй.
— Ну, а если только скажешь, так увидишь, какая будет за это пожива; да еще кроме того…
— Что такое?
— И я еще кое-что за это принакину. Ты какой дорогой пойдешь из Носсена?
— Да этой же самой, праздники близко, а их надо провести вместе с женой и с ребятишками.
— Ну, так и прекрасно: мы, может быть, встретимся.
Трейе, как большинство торговцев, был человек сметливый и ловкий: он, добравшись до местечка, отдохнул и тотчас же отправился в замок. Солдаты хотели его прогнать, но он наделал такого шума, что вышел офицер и, сжалившись над ним, а также желая доставить какое-нибудь развлечение арестантке, послал спросить ее, не угодно ли ей что-нибудь купить у Трейе. Графиня, ради одного развлечения, пожелала видеть Трейе, и когда его ввели к ней, она стала пересматривать его товары, а он, улучив минутку, шепнул ей:
— Меня просили сказать вам, что ваш верный слуга, который ломал подковы, жив и ходит по белому свету.
Графиня чрезвычайно удивилась и, начав как можно более отбирать себе из коробки Трейе, спросила:
— Кто тебе это сказал?
— Он сам, он сам, всемилостивейшая.
— Где ты его видел?
— Я повстречал его здесь в окрестности.
Накупив у Трейе множество вещей для прислуги, графиня отпустила торговца, который оставил замок неимоверно счастливым и заночевал в Носсене.
На следующий день он пошел, как обещал, домой и в миле от Носсена снова повстречался с Закликом.
— Ну, что же? — спросил его Заклик. — Как поторговал?
— А, спасибо вам, поторговал на славу, если бы всегда так торговать, то скоро бы я перестал таскать эту коробку и построил бы себе дом в Дрездене.
— Отлично, а сказали ли вы, приятель, что я вас просил, графине?
— Как же! Как же, сказал, и графине это, видно, было очень приятно.
— Ну, спасибо!
— И вам спасибо, услуга невелика, а я сделал славный оборотец, и мне так весело теперь ехать к детям. Бог вам заплатит за это! Прощайте!
— Счастливый путь!
_____
Между тем в Дрездене над арестованной прислугой носсенского замка производилось строгое следствие, по обычаям тогдашнего сурового времени, когда у обвиняемого добивались признания всеми возможными средствами. Герцог, однако, вел себя так умно, что ни в чем не признался, и его освободили. Женщины тоже выбрались из тюрьмы, измученные и истерзанные, но переполох, поднятый всем этим, не улегся: Август приказал перевезти Ко́зель в тот самый Столпянский замок, где она некогда была перепугана грозою и предсказаниями полоумной вендки.
За два дня перед самым Рождеством в замок Носсен прибыла пустая карета с лошадьми и верховой стражей, которой приказано было немедленно перевезти Ко́зель в Столпянский замок.
Ко́зель, заслышав необыкновенное движение в замке, бросилась к дверям: ей пришло в голову, не дарит ли ей Август к новому году свободу; но дверь отворилась, и к ней вошел чиновник.
— Что тебе надо? — спросила его Ко́зель.
— Мне надо, по повелению его королевского величества, сейчас же увезти отсюда графиню Ко́зель в Столпянский замок, всемилостивейше предназначенный ей для дальнейшего ее пребывания. Прошу вас за мною следовать!
Графиня с криком бросилась к стене, как будто желая разбить о нее свою голову, но ее схватили и почти насильно вывели и усадили в карету, которая 25 декабря 1716 года остановилась у ворот Столпянского замка. Подняв глаза, графиня увидела страшную башню святого Яна, предназначенную для ее заточения, и затрепетала, вспомнив предсказания Млавы.
X
Старый Столпянский замок, о котором довольно говорилось в одной из глав первой части этого рассказа, представлял самое неприветливое жилище. Прежнее место пребывания мессенских епископов частью было переделано, а частью обратилось в развалины. Комендант замка был Ян Фридрих фон Велен, он занимал неудобную квартиру в одном бастионе, а для несчастной Ко́зель отвели башню, которая еще во время епископов служила тюрьмой; каждый этаж ее состоял из одного обширного каземата со сводами.
Для бывшей владелицы дворца «четырех времен года» должны были служить две комнаты. Нижний этаж башни, засыпанный щебнем, давно уже был необитаем; но два верхних приготовили для графини. В одном из них устроили наскоро кухню и жилье для прислуги, а в другом поместили саму Ко́зель.
Когда графиню ввели в эту шестиугольную комнату, со всех сторон освещенную узкими окнами, с самой скудной и печальной тюремной обстановкой, она оглянулась кругом в страхе и потеряла сознание. Ее привели в себя, но, однако, долго должны были за ней присматривать: как только глаза ее обращались на стены этой тюрьмы и на замкнутые двери, ею овладевало бессильное бешенство, за которым следовали столбняк и слезы.
Велен, старый солдат, никогда не воевавший с женщинами, терял голову и терпение с этой беснующейся гостьей. Первый день рождественского праздника, справляемого во всей Германии с такой радостью у домашнего очага, был отравлен для Белена, и даже его солдаты, стоявшие у дверей каземата, были смущены вылетавшими оттуда стенаниями.
Двое суток Анна провела в таком отчаянном состоянии, что можно было опасаться за ее жизнь, но на третий день она вдруг поднялась с постели и потребовала перо и бумагу. Она хотела писать королю, и желание это было предусмотрено. Ей дали бумагу и перо. Но все письма ее должны были поступать в руки Левендаля со строгим приказом, чтобы прежде него никто не смел их вскрывать.
Август устранил себя от чтения этих отчаянных посланий: он как будто боялся, чтобы они не пробудили в нем чувство сострадания к некогда столь любимой им женщине, и поэтому письма графини заранее были обречены на сожжение. Надо сказать, что и сама Анна ожидала, что такое распоряжение возможно, но она надеялась, что хотя бы одно ее письмо как-нибудь случайно попадет в руки Августа, и потому теперь опять написала письмо и, отдав его коменданту для пересылки, стала спокойнее. Когда первые порывы ее отчаяния улеглись, она с тяжелым чувством стала припоминать окружающую местность, стены замка, которые тогда так устрашили ее своим мрачным видом; гору, покрытую лесом, и голые скалы, и считала себя погребенной здесь заживо.
Слуги обращались с ней сурово, но и это еще казалось слишком мягко, по мнению коменданта, хриплый голос которого беспрестанно гремел по коридорам.
Велен получил из Дрездена приказ содержать узницу как можно строже и исполнял это в точности.
О бегстве отсюда нечего было и думать: башня была очень высока и так испещрена окнами, что часовые чуть не ежеминутно могли видеть узницу, которой некуда было спрятаться от их докучных взоров. Кроме того, чтобы выйти из замка, надо было пройти два двора и двое замкнутых ворот, и в каждых из этих ворот стояли бессменные часовые.
Кроме коменданта и нескольких офицеров и солдат, обреченных разделять эту ссылку с Ко́зель, в замке не было никаких других обитателей. Прислуга же, приставленная к графине, никуда не выпускалась.
Старый Велен, прежде никогда не видевший графиню и думавший, что король оставил ее за старость, был очень удивлен, увидя в своей арестантке красивую женщину. Ко́зель тогда шел уже тридцать шестой год, но она была еще прекрасна.
И в чем же теперь должна была проходить ее жизнь?
Когда в Носсене поспешно собирали принадлежавшие графине вещи, кто-то случайно уложил с ее пожитками растрепанные листы Библии. Таким образом, они были привезены с графиней, и она зачитывалась теперь этой святой книгой, в которой запечатлелись столько человеческих страданий.
Растрепанные и частью утраченные листы возбудили в графине желание иметь целый экземпляр Библии, и она послала к Белену просьбу купить для нее книгу. Комендант сообщил об этом в Дрезден, где и было разрешено исполнить желание арестантки.
С того времени Библия всегда лежала на ее столе, и графиня Ко́зель нашла в ней если не утешение, то силу к перенесению страданий.
Так дожила она здесь до весны. С приближением тепла появились ласточки и стали поправлять свои старые гнезда, потом начали зеленеть деревья. Вокруг пустынного замка дохнуло обновлением и возрождением. На полях появились плуг и рабочие люди, а Ко́зель все сидела одна-одинешенька и, глядя в окна своего каземата, завидовала этим труженикам, евшим в поте лица хлеб свой.
Ее же не видел никто посторонний, кроме солдат. Сам старый Велен, прохаживаясь с трубкой в зубах по замковым залам, не раз пожалел бедную узницу и мысленно осуждал своего повелителя за его продолжительную жестокость.
У подножья башни был маленький клочок земли, огороженный стенами; он был так невелик, что на нем, собственно, можно было только похоронить человека, но тут все-таки теперь цвели полынь, душица и розовая дикая гвоздика. Велен подумал, что не будет большим преступлением, если он предоставит графине возможность выходить хоть в этот крошечный палисадник. Но он побоялся показать строптивой женщине малейшее участие и ограничился тем, что велел убрать этот палисадник, чтобы арестантка могла хоть смотреть на цветы и зелень. Вскоре здесь начались садовые работы, за которыми узница могла следить, и они ее занимали.
Ей казалось, что если бы она могла сойти туда, то это было бы огромным счастьем, и вот это счастье осуществилось: Велен в один прекрасный день позволил ей туда выйти. Когда Анна сбежала с лестницы и ступила на землю, воздух показался опьяняющим, солнце несносным, свет ослепительным. Она вынуждена была постоять несколько времени, держась за стену, и потом села на дерновую скамью и горько заплакала. Это уже было счастье. С этих пор садик сделался для нее большой отрадой, и она проводила в нем целые дни, сажая цветы.
Но кроме этого в ее положении ничто не изменилось. Прошли весна и лето, а Анну все окружала неизменная глухая тишина; на ее письма не было никакого ответа. Даже Заклик пропал, и лишь осенью, когда садик уже успел завянуть, к графине был допущен, по ее требованию, поставлявший ей некоторые необходимые вещи еврей, который совсем неожиданно шепнул ей, что тот, кто ломал подковы, жив и когда-нибудь явится.
Более еврей ничего не сказал, но и это уже оживило узницу.
_____
Заклик, однако, не забыл свою графиню и не бездействовал. Обманувшись в своих расчетах освободить ее из Носсена, он должен был обдумать новый план освобождения. Он знал, где она находится и с какой строгостью содержат ее в Столпянском замке.
Суровость, с какой поступал Август, пугала соперницу Анны госпожу Денгоф, которая не могла похвастаться сильной привязанностью к ней короля.
Кружок новой фаворитки, правда, был великолепен, но ее приближенные не имели никакого политического влияния, и ни на что прочное не рассчитывая, она сама чувствовала шаткость своего положения и даже помышляла о том, как бы тихо и мирно освободиться от опасных ласк короля. С этой целью она посматривала то на Безенваля, то на молодого Любомирского, раздумывая, кого из них взять в мужья.
Холодный и эгоистичный нрав Августа в это время начал внушать многим очень серьезные опасения, и люди, которые как будто бы пользовались его расположением, на самом деле за себя тревожились, и не напрасно. Иные даже искали спасения в бегстве. Так, отставной муж фаворитки Ко́зель, Гойм, в котором король нуждался как в финансисте, наученный судьбой Бейхлинга и Имгофа, продал свои имения в Саксонии и, переведя деньги в чужие края, оставил саксонскую службу и уехал в Силезию, а потом поселился в Вене.
С Денгоф при королевском дворе прекратилось властвование фавориток, и все изменилось. Август старел и терял охоту к шумным развлечениям. Одна еще липская ярмарка его немножко занимала, и то ненадолго.
Заклик при всей скромности своего положения все это знал и принимал в расчет. Время для похищения графини из Столпянского замка ему теперь казалось удобным, но замок ему был почти совсем не известен. Он отправился осмотреть его и познакомиться с ним поближе.
В местечке Заклик мог проживать совершенно безопасно, так как там не обращали особенного внимания на проезжающих. Тут он узнал все порядки в замке и, придя к убеждению, что сразу здесь ничего сделать нельзя, уехал назад в Дрезден с самой смелой и отважной мыслью: он решился поступить на военную службу и потом всячески добиваться зачисления в гарнизон Столпянского замка. Правда, здесь очень многие знали, что Заклик был некогда в штате графини Ко́зель, но он надеялся, что это не помешает ему осуществить свои намерения.
Он смело объяснял теперь всем, что с тех пор, как уехал из Саксонии, он жил в Польше, но не поладил с домашними, как не поладил прежде с Ко́зель, и вернулся в Дрезден, с тем чтобы служить Августу в его саксонском войске. Короткое пребывание в Дрездене Сенявского, куявского епископа, который знал Заклика в молодости, дало последнему возможность хлопотать через епископа о разрешении купить капитанский чин. Епископ помог земляку, но когда об этом доложили королю, Август поморщился, но, однако, приказал представить себе Заклика. Не видя его несколько лет, Август сначала едва его узнал, потом подозрительно посмотрел на него, но, заговорив с ним и видя, что тот отвечает смело и спокойно и вообще держится добрым малым и о прежней своей госпоже говорит простодушно, велел записать его в военную службу. Заклик купил себе капитанский чин и надел мундир саксонской гвардии.
Гвардейские войска и в то время служили более не для боев, а для парадов и других воинских потех, офицеры чуть ли не по целым годам не видели своих полков, а солдаты холодали и голодали, терпя лишения. Современники свидетельствуют, что были целые полки, которые считались по спискам и на содержание которых отпускались деньги, тогда как полков этих никогда в сборе не было. Да и вообще беспорядки были страшные: начальники беспрестанно сменялись; комиссариат крал без всяких церемоний; в личном составе войска преобладали отбросы страны как в отношении умственном, так и во всех других. Что никуда уже не годилось, то шло в войско, здесь были всевозможные искатели приключений, шулеры, плуты и даже особого рода кляузники, разводившие особенного же рода полковые процессы. Споры и скандальные столкновения между офицерами были явлением самым обычным, генералы, офицеры без всяких церемоний жили на солдатскую копейку, солдаты же, доведенные до отчаяния, промышляли воровством, грабежами и даже разбоями.
Маркграф Людвиг Баденский, под командованием которого в 1703 году была часть саксонского войска, терял голову с этими людьми и говорил, что с ними невозможно справиться. История полковника Гертца и его выступления из Польши в 1704 году дают хороший пример того, какова была дисциплина в саксонских войсках. Гертца за его гнусные поступки велено было арестовать, но он сам арестовал посланные за ним войска.
Но зато эта распущенность саксонского войска и была всего более на руку защитнику графини Ко́зель. Ясно, что с такими деморализованными людьми за деньги возможно было сделать все или почти все. Он очень удачно вошел в офицерское общество, проводившее самую разгульную жизнь, и в беспрерывных кутежах скоро перезнакомился со всеми и со многими даже сошелся весьма близко, чему способствовали небольшие ссуды, которыми он умел прислужиться своим новым товарищам.
Устроившись таким образом, он нашел случай дать знать о себе Ко́зель, которая удивилась новому положению своего слуги и не хотела верить, что он, пожалуй, в скором времени будет в числе ее охранителей в Столпянском замке.
Но на самом деле Заклик приближался к этому.
XI
Земля совершила свой оборот, и опять стояла весна; опять зеленел укромный малый садик Ко́зель, и арестантка опять сошла в него и принялась там за цветочные грядки.
И офицеры и солдаты гарнизона, завидя ее, снова стали на нее заглядываться; и графиня, избегавшая их пристальных взглядов, заметила между офицерами одного, который словно сам напрашивался в караул как раз в те часы, когда Анна выходила подышать воздухом. Кое-как ей удалось узнать, что это был молодой Велен, племянник старого коменданта. Старик держал при себе этого молодого человека, чтобы хорошенько его вымуштровать и потом вывести на хорошую служебную дорогу; притом же, будучи страстным шахматным игроком, он имел в нем бессменного партнера.
Этот молодой Генрих фон Велен не имел склонности к военной службе, но его вдовая мать, рассчитывавшая на наследство после бездетного коменданта, которого считали очень богатым, принудила сына надеть мундир и служить по желанию дяди.
Двадцатилетний Велен, разумеется, смертельно скучал в Столпянском замке, тем более что не имел никаких надежд оттуда скоро вырваться.
Он был мечтателен, молчалив, любил уединение и сразу влюбился в Анну, страдальческое положение которой благоприятствовало разгару молодого чувства. Это началось почти с первого же его взгляда на Анну, и к описываемой нами поре любовь молодого человека созрела до серьезного состояния. Анна со свойственной женщинам проницательностью подозревала, или даже лучше сказать, знала эту страстную тайну молодого Велена, потому что влюбленный юноша старался, чем мог, услужить и принести облегчение прекрасной узнице.
Графине нетрудно было догадаться, что теми небольшими льготами, которыми она пользовалась, она была обязана ходатайствам молодого Велена: он выпросил у дяди для нее позволения пользоваться садиком, и когда комендант куда-нибудь отлучался, молодой человек всякий раз находил возможность оказать арестантке какую-нибудь другую услугу. Все это показывало Ко́зель, что молодой человек при случае мог бы быть ей полезен в более серьезном деле.
Всякий легко может представить, как было велико ее удивление, когда она однажды, входя в свой садик, увидела, что Генрих Велен стоит и разговаривает с другим офицером, голос которого Анне показался знакомым. Она взглянула на незнакомца пристальнее и узнала, что это был Заклик. Офицеры говорили между собой так громко, что графиня могла все слышать. Заклик рассказывал Белену, что он прислан сюда, чтобы занять место капитана Зитацера, которого увольняли на родину.
По тону их речей можно было заключить, что Генрих Велен и Заклик были уже немножко приятелями.
— Ну, а что же, капитан фон Велен, — говорил капитан фон Заклик, — как тут у вас живется? Говорят, невесело; да откуда и быть веселью в этих старых монастырских развалинах?
— Э, мой любезный капитан, — отвечал Генрих, — везде жить можно; а, разумеется, кто хочет веселиться, тому сюда не следует забираться. Но природа здесь прекрасная, и тихо жить очень можно. Я уже привык к этому.
Ко́зель слушала этот разговор, и сердце ее сильно билось.
— Ну, а жить, так и будем жить, капитан Велен! — отвечал Заклик. — Только, если это не будет преступлением, вы, как хотите, должны представить меня как вновь прибывшего нашей узнице.
— О, охотно, капитан Заклик, охотно! От всего сердца готов служить вам этим! — воскликнул Велен, которого чрезвычайно обрадовал случай поговорить с графиней, и с этим он взял Заклика за руку и подвел к стене садика, который был значительно выше, чем двор. Отсюда было как нельзя более удобно разговаривать с арестанткой.
— Графиня! — сказал несмело Генрих, и когда Анна, скрывая свое смущение, обернулась к нему, добавил: — Позвольте мне представить вам моего нового товарища капитана фон Заклика, который только что приехал сюда на службу.
Ко́зель с притворным спокойствием отвечала на поклон Заклика и не проронила ни слова. Однако, офицеры не отходили, и она, наклонясь к цветку, который подсаживала, тихо спросила Заклика, надолго ли он сюда прислан.
— На это трудно отвечать, графиня, — молвил Заклик, — я прислан сюда по службе и не думаю, чтобы скоро нашелся охотник заменить здесь товарища.
— О, это верно! Но вы чем согрешили-то и за что сюда посланы?
— Просто так пришлось, — отвечал Заклик. — Впрочем, я уже не молод, и мне почти все равно, где жить.
Анна взглянула на него, поклонилась и отошла, а Велен, взяв Заклика под руку, увел его к себе на двор замка, где он занимал две комнатки рядом с дядей. Тут же вблизи отвели помещение и Заклику.
— Ну, что, капитан, — заговорил молодой Велен, — вы ведь, конечно, в первый раз видели графиню Ко́зель?
— Разумеется, первый раз в жизни! — отвечал Заклик.
— Ну, что же вы о ней скажете? Не правда ли, что эта женщина достойна трона? Что за красота! Что за прелестное лицо!
Велен говорил с таким восторгом, что сразу выдал Заклику свою тайну, которую, впрочем, он, может быть, и не хотел скрывать.
Заклик взглянул на Велена и, улыбнувшись, отвечал:
— Ого, как вы о ней говорите!
— А что?
— Ничего, ничего, капитан Велен! Я вам не удивляюсь, но только думаю, что вам, пожалуй, не очень-то по сердцу видеть графиню под охраной стражи, в которой вы служите.
Велен ударил себя в грудь и воскликнул:
— О, капитан, мы оба солдаты и, разумеется, честные люди! К чему же я стану запираться перед вами? Да, я потерял голову и покой и не стыжусь этого. Что делать, что делать? Такой второй женщины на свете нет!
— Хорошо, хорошо, пусть так, но к чему все это? Она узница на веки.
— На веки! Ничего нет вечного на земле! — перебил Велен. — Она еще очень молода!
— А вы, кажется, еще моложе, — пошутил Заклик.
Капитан Велен слегка сконфузился, но, не обижаясь, протянул руку своему новому товарищу и тихо проговорил:
— В сущности вы правы, я еще юноша, это правда, но ведь, кажется, лучше увлекаться по молодости, чем по старости.
— Это правда.
— То-то и есть, а между тем, смотрите: мой дядя старик, но и он…
— Тоже увлекается графиней?
— Увлекаться, может быть, и не увлекается, но тоже… жалеет ее и ради этого отступает от многих своих правил, в которых всегда точен, как педант. Что же после этого говорить обо мне!
— Совершенно справедливо, и я вас в этом не укоряю.
— Я очень рад, что вы на это смотрите таким образом, и надеюсь, что не станете мешать моим заботам, чтобы ей жилось, сколько возможно, полегче.
— О, будьте покойны, этому я не помешаю!
Заклик понимал, что Велен мог быть ему полезен, но мог быть и помехой, если в нем родится что-нибудь вроде ревности или подозрения, а потому он старался быть как можно осторожнее.
Они, однако, очень подружились, и Генрих скоро познакомил Заклика с тайниками замка. Заклик побывал с ним во всех закоулках семиэтажной башни, где содержалась графиня; обошел подземелья и галереи, все выходы и входы.
Занятый всегда мыслью об освобождении графини, он скоро обдумал план, как ее вывести подземельями в часовню, от которой давно заброшенный коридорчик вел в тесный подземный ход, выводивший в довольно уединенное место за оградой замка. Переодетая в мужское платье графиня могла ночью спуститься с лестницы и проскользнуть во внутренний двор, где не было часовых, и никем не замеченная, добраться до дверей подземелья, которое и выведет ее за ограду, а отсюда уже широк путь во все стороны, так как замок стоял на самой границе и дальняя погоня была невозможна.
Велен и не подозревал всего этого коварства и с легкомыслием молодого человека сам подсказывал Заклику подходящие мысли.
— Черт знает, что настроено! — говорил он. — А несмотря на всю эту городьбу и высокие стены, которые со всех сторон окружают замок, бежать отсюда совсем нетрудно!
Заклик притворился, что он этого не слышал.
Несколько дней спустя он увиделся с графиней с глазу на глаз, но они говорили мало, она укоряла за медлительность, он оправдывался невозможностью действовать скорее, и потом графиня шепнула:
— Вы должны знать мой план. Молодой Велен сослужит нам службу: он…
— Влюблен в вас?
— Да, и этим надо воспользоваться: он хорошо знает замок.
— Это не особенно важно, потому что и я его теперь тоже знаю.
— Да, но вас я должна беречь до последней крайности. Побег может не удасться, и тогда мы оба попадем в их руки; я этого не хочу. Нет, я должна бежать с ним!
— С ним! — воскликнул Заклик.
— Да, непременно с ним: это и удобнее и безопаснее; он здесь почти хозяин, и его всюду пускают, тогда как вы можете навлечь на себя подозрение. Это решено: я убегу с ним!
— Но он неосторожный и почти сумасшедший молодой человек!
— Это-то и дорого: только сумасшедшим и удаются такие сумасшедшие предприятия.
— А если оно ему не удастся?
— Что же, мое положение так дурно, что ничего худшего быть не может! — холодно отозвалась Ко́зель.
— А уверены ли вы, что этот молодой человек отважится на это дело?
— Он должен отважиться! — отвечала Ко́зель. — Но тс-с! Я слышу на лестнице чьи-то шаги, — добавила она и отошла в сторону, а Заклик спустился на нижний этаж. Ему было досадно, что Ко́зель отказывалась от его помощи. Но дорожа ее пользою, он беспрекословно ее слушался и играл смешную роль поверенного сердечных тайн молодого Велена, который вскоре же признался ему, что для освобождения графини он готов пожертвовать своей жизнью.
— Вы ведь, конечно, не выдадите меня, капитан Заклик?
— Да, в этом-то, мне кажется, вы можете быть вполне уверены. Только смотрите, сами себя не выдайте!
Заклик замечал, что Велен учащает тайные прогулки с графиней в садике и даже проникает к ней в башню, а вместе с тем становится беспокоен и озабочен.
Чтобы старый дядя не замечал отлучек племянника и происходящих в нем перемен, Заклик заменял Генриха на службе и играл вместо него в шахматы с комендантом. А в это время в молодом человеке любовь забила ключом, и затея побега близилась к исполнению.
Нетерпеливая Ко́зель, конечно, спешила как можно скорее отсюда вырваться и торопила влюбленного юношу. Заклик об этом догадывался и, пробравшись однажды в башню графини, сказал ей:
— Осмотрительно ли вы поступаете, графиня?
— Не знаю, но прошу вас, чтобы и вы были слепы и глухи ко всему, что я делаю. Одно, о чем я прошу вас — играйте как можно чаще в шахматы с комендантом, и если случайно поднимется какая-нибудь тревога, делайте все, чтобы помешать ему выбежать.
— Хорошо, я сделаю все, что могу, а вы скажите же мне скорее, что я должен делать, если вам удастся бежать?
— Немедленно бежать самому и явиться туда, куда я укажу. До свидания!
И она подала ему руку и тихонько направила его к двери.
Заклик вышел с каким-то тяжелым предчувствием и зорко смотрел за молодым Беленом, который был очень беспокоен и почти ежеминутно поглядывал на солнце, при закате которого и сам скрылся.
Старый комендант ничего не подозревал, он пригласил к себе на пиво Заклика и преспокойно играл с ним в шахматы. Игра длилась долго; вот и ночь спустилась; подали огни; пришел дежурный унтер-офицер, запиравший ворота, и принес ключи, а комендант и Заклик все еще играли; но Заклик нынче против обыкновения играл неудачно и делал ходы самые нерасчетливые. Комендант это заметил и спросил его:
— Что с вами сегодня, капитан, вы так худо играете?
— А у меня, признаться, голова болит, господин комендант.
— А голова болит, так перестанем играть!
— Нет, отчего же, будем играть, — настаивал Заклик, настораживая свой слух, как заяц, и боясь, чтобы капитан, оставив игру, не задумал пройтись по замку.
Велен набил трубку, и они сыграли еще несколько партий, а потом стали беседовать.
Было уже поздно, но Генрих, обыкновенно приходивший в эту пору, не возвращался.
— Верно, удрал сорванец в местечко! — проговорил вспомнивший о нем комендант. — Ну, да что делать, парень молодой, надо и пошалить.
— Разумеется, — отвечал снисходительно Заклик, громоздя из шахмат какую-то прихотливую пирамидку.
— Да, — отвечал комендант. — Да я, по правде сказать, и предпочитаю, чтобы парень лучше где-нибудь позабавился, лишь бы не вздыхал об этой… знаете, той… ну, что вот под башней.
— A-а, понимаю!
— Не правда ли, что я говорю дело?
— Конечно, конечно! — отвечал Заклик, но сам тотчас же переменил разговор и начал плести, что приходило в голову. В замке было тихо, но вдруг кто-то осторожно постучал в двери, и показалась голова старого солдата, с виду более похожего на разбойника. Это был наемник, послуживший чуть ли не во всех немецких войсках. Имя его было Вурм. Заклик взглянул на него, и выражение его лица показалось ему подозрительным; солдат, просунув голову сквозь створ двери, прошептал:
— Господин комендант!
— Ну, что еще? — сухо спросил не любивший его комендант.
— Я имею честь донести вам о самоважнейшем происшествии…
— Что такое? Пожар? Где горит? — вскричал, вскочив с кресла, Велен.
— Нигде ничто не горит, но ваш племянник в эту самую минуту уводит из каземата графиню, чтобы бежать с ней.
Старый комендант зашатался и прохрипел:
— Куда?
— Ну, уж это вы хотите, чтобы я очень много знал, а с меня довольно и того, что я знаю: ваш племянник бежит, господин комендант, и уводит арестантку; а Вурм вам об этом доносит, потому что ему известно более, чем вам…
— Ты врешь, бездельник! — закричал комендант.
— Нет, я не вру, а я исполнил мои обязанности, а ваш племянник с арестанткой бежали, и в эту самую минуту солдаты держат их в проходе за каплицей. Да, теперь капитан Генрих больше уже не будет бить меня по лицу и сам поплатится за эту штуку своей головой.
Комендант совсем растерялся и хватался то за оружие, то за ключи, и кричал:
— Спасайте, капитан Заклик! Спасайте!
Но напрасны были все эти хлопоты старика о спасении племянника: по направлению от башни слышен был уже большой шум со стороны подземелья семиэтажной башни, это солдаты вели схваченных беглецов. Графиню просто держали за руки, а Генрих был связан, потому что он успел уже ранить себя из пистолета, и если бы у него не отняли оружие и не связали ему руки, то он, наверно, лишил бы себя жизни.
Бедный комендант велел отвести арестантку снова в старый каземат, а племянника запер в другой и немедленно послал донесение о происшествии в Дрезден. Диктуя писарю рапорт, старик был достоин глубокого сострадания: едва произнося за рыданиями слова, он просил принять во внимание молодые годы племянника и его, коменданта, старые заслуги и молил о снисхождении к, несчастному. Рапорт был послан с нарочным курьером, караулы везде удвоены, и унтер-офицер Вурм, который, вместо того, чтобы предупредить несчастье, выжидал, пока оно случилось, также был арестован.
На следующий день в Столпянский замок явились из Дрездена присланные королем генерал фон Бодт и несколько чиновников.
Старый Велен, встретив их, тотчас же подал свою шпагу фон Бодту; но Бодт ее не взял и объявил ему, что, по велению короля, военному суду будут преданы только капитан Генрих фон Велен и унтер-офицер Вурм. И следствие и суд, по полевым законам, должны были окончиться прежде, чем зайдет солнце, и приговор немедленно должен быть исполнен.
Так было и сделано: все просьбы старого коменданта о помиловании остались втуне, и Ко́зель, услышав донесшийся до нее ружейный залп, вздрогнула недаром, это стоило жизни влюбленному в нее юноше, за душу которого она могла прочесть теперь самые теплые молитвы.
Старый Велен хотя и не был арестован, но, однако, в тот же день оставил службу, а унтер-офицера послали в кандалах на крепостные работы в Кёнигштейн, но Заклик пока еще оставался в гарнизоне.
XII
После описанного происшествия в Столпянском замке вместо Белена комендантская должность была поручена суровому, но весьма неспособному Бирингу. Это был человек надменный, буйный, самовольный и грубый. Событие, после которого последовало его назначение, сразу вызвало в нем чрезвычайную строгость. Графине запрещено было делать шаг из башни, и весь прежний гарнизон переменили; а с тем вместе и Заклику приказано было возвратиться из замка в свой полк.
Он едва улучил одну минуту, чтобы проститься с графиней и растолковать ей, что он уезжает отсюда не по своей воле.
— А я? О Боже! Как тяжела, как тяжела смерть в этом томленьи!
И она заплакала.
— Приказывайте, графиня! — проговорил печально Заклик. — Я все тот же и готов сделать все, что вам может быть полезно.
Ко́зель покачала головой и отвечала:
— Нет, ступайте с Богом и не заботьтесь более обо мне! Мне уже ничто не может быть полезно: меня оставил Бог и взял у меня мой разум. Но вот что… на всякий случай, чтобы не пропадало: съездите в Пильницу; там под дубом, у круглой скамьи, я сама зарыла маленькую шкатулку с бриллиантами. Выройте ее, продайте эти бриллианты и берегите у себя деньги, в которых я еще могу иметь надобность.
Едва она успела сказать это Заклику, как послышались чьи-то шаги, и Заклик поспешил удалиться.
_____
Прошло несколько лет, в течение которых Заклик не мог ничего сделать для своей графини и ограничивался тем, что изредка давал ей знать о своем существовании и верной о ней памяти.
Ко́зель, однако, в это время успела пленить некоего поручика Гельма и затеяла новый побег, о котором нашла случай дать загадочную весть Заклику. Она требовала, чтобы он запасся лошадьми и ждал ее на границе в назначенном месте. Эта весть встревожила Заклика, который плохо верил в возможность ее исполнения и счел нужным съездить, под благовидным предлогом, в Столпянский замок и разузнать ближе, что это за затея. Для этого ему, конечно, надо было увидеться с графиней, и он надеялся, что это ему удастся.
Заклик, увидев графиню, нашел в ней сильную перемену. Страдания положили на нее свою печать, хотя и не лишили ее черты их необычайной прелести. Прежняя энергия и живость движений уступили место степенной важности; она проводила свое время за Библией и размышлениями, и характер ее смягчился и выровнялся. Чувства, внушенные ею Гельму, не были чувствами крови и плоти, а именно чувствами той высокой преданности, какую способен принести дух ради сочувствия другому духу.
Заклик, проникнув в покои графини, застал ее с карандашом в руках углубленной в чтение Библии. Увидев старого друга, она поблагодарила его взглядом и подала ему руку, которую тот поцеловал; и отер у себя на глазах слезы.
— Вот видите, — заговорила она, — я до сих пор еще живу. Бог продолжил мои дни против моего желания; хвала ему за это! Он позволил мне в это время взглянуть в глубь моей души. Но теперь довольно мучиться: я имею возможность уйти отсюда и хочу этим воспользоваться, чтобы увидеть моих детей.
— Графиня, — прервал ее Заклик, — уверены ли вы, что ваши попытки уйти теперь будут счастливее прежних?
— Да, я в этом уверена, — спокойно отвечала графиня. — Я имею предчувствие, что на этот раз мне счастье не изменит.
Раймонд промолчал, выслушав от графини все ее соображения о дне, когда он должен был ждать ее на границе; он дал ей слово быть готовым и распростился.
Гельм, который, конечно, интересовал Заклика, показался ему таким же энтузиастом, как и погибший Генрих Велен. Заклик ничего от него не ждал, но, послушный приказаниям графини, взял отпуск и в назначенный день явился в условленное место на границе. Но он ждал беглецов напрасно: они не явились ни в назначенный день, ни два дня спустя; а на четвертый день Заклик от проезжавших через Столпень торговцев узнал, что в замке опять было происшествие: заключенная там графиня снова чуть было не ускользнула из замка в сопровождении офицера, помогавшего ей в этом побеге; но оба они снова захвачены.
Заклик тотчас повернул к своей службе в Дрезден, где надеялся подробнее разузнать о случившемся в Столпянском замке.
Дело было в том, что Гельм целый год работал, устраивая лаз под стенами замка в той стороне, где не было часовых, и когда все было готово, он подпоил стражу и в темную дождливую ночь бежал с графиней, переодетой в мужское платье. Они выбрались из замка как нельзя благополучнее, прошли весь подземный ход, который выводил их за крепость, и спустились с обрывов базальтовых скал к самому их основанию; сели на привязанных в лесу верховых лошадей и поскакали. Но в замке горничная хватилась графини и подняла тревогу, за беглецами пустились в погоню, и они были настигнуты, защищались и ранили выстрелом одного солдата, но все-таки были обезоружены, взяты и возвращены в замок.
Графиню опять стали держать еще строже, а офицера предали военному суду, который производился на этот раз в Дрездене. Гельму его бегство обошлось дешевле, чем Белену, так как он имел при дворе очень сильных родственников, которые обратились к милосердию короля и ходатайству тогдашней новой звезды, графини Оржельской. Гельм, однако, все-таки был приговорен к расстрелу в Дрездене, на новом рынке. В день его казни на площадь стеклась многочисленная публика и пешком и в щегольских экипажах. В полдень молодой преступник был выведен из крепости, проведен, при треске барабанов, мимо выстроенных шпалерами войск и поставлен у стены. Глаза всех устремились на этого красивого златокудрого молодого человека, осужденного на смерть из-за Ко́зель. Сам преступник хранил замечательное присутствие духа и просил не завязывать ему глаза. Солдаты зарядили ружья, и офицер, который должен был дать знак стрелять, встал уже на свое место, но в этот последний момент от замка подскакал адъютант короля с прощением. Гельму была оставлена жизнь, может быть, не совсем к удовольствию публики, которая собиралась посмотреть, как его расстреляют.
В Столпянском замке опять произошли перемены в гарнизоне и некоторые усиления в караулах. Новый комендант пересмотрел и перечинил замки, двери и стены; но в общем положении графини не произошло ничего нового, и она даже пользовалась прежней свободой, то есть могла выходить в свой садик. Но Ко́зель терзалась нравственно: она чувствовала укоры совести за второго погубленного человека. О помиловании Гельма ей ничего не было известно.
Заклик чувствовал, что если графине суждено быть свободной, то теперь за это дело должен мужественно взяться он сам, и он считал это своей непременной обязанностью. Но имея перед собой в прошлом такие уроки, он хотел быть осмотрительнее и надеялся, что его попытка к бегству будет удачнее. Полный самоотверженности, он был готов положить свою жизнь за едва ли не обезумевшую в неволе Ко́зель и собирался выйти в отставку, поселиться в местечке Столпень и, сидя у моря, ждать погоды, когда можно будет все приготовить и увезти пленницу.
В гарнизоне Столпянского замка у него было несколько знакомых, на расположение которых он мог рассчитывать, и между ними был у него один приятель, некий капитан фон Кашау — настоящий вояка, добрая душа и кутила. У Заклика имелся предлог съездить в замок.
Кашау скучал здесь и, увидев Заклика, едва не задушил его в своих объятьях; а потом сбегал к коменданту, чтобы испросить своему гостю разрешение погостить в замке, и затем начал наливать его добрым пивом.
За кружками пива офицеры, естественно, скоро заговорили об узнице, над которой постоянно приходилось бодрствовать Кашау.
— Э! — говорил он. — Я никому другому не судья, а тем более нашему всемилостивейшему королю, но что до меня, то мне ее просто напросто жаль, и я, по правде сказать, что-то плохо верю тому, чтобы ее томили здесь из опасения за жизнь короля.
— Ну, конечно! — отвечал Заклик.
— Не пистолета ее боится король.
— Надеюсь, что не пистолета.
— Он боится своего бессилия и той власти, какую она над ним имела.
— Быть может, быть может, любезный Кашау; а, впрочем, ведь это не наше дело.
— Разумеется, не наше дело, но надо же о чем-нибудь поболтать, — и Кашау засмеялся и добавил: — Я еще и то думаю: ну, она была самовластна, ну, пускай это так, но ведь какая-нибудь Дескау или Остерхаузен, с которыми теперь возится наш, с позволенья его величества сказать, старый волокита, также, чай, не без своих фантазий? Женщины уж так созданы, приятель, что кто охочий с ними заниматься, тот должен и терпеть их капризы. Но зато эта Ко́зель женщина, как вы хотите, не без достоинств и красавица!
— Была, капитан, была!
— Ну, она даже и теперь еще хороша.
— Может ли это быть?
— Честное слово.
— Я очень бы желал увидеть ее! — отозвался Заклик.
— Так зачем же дело стало? Этого тебе никто не запрещает. Днем ты ее у нас не украдешь! — отвечал Кашау. — Ступай к ней и побеседуй, если она тебя примет.
— А почему же не примет?
— Да она, брат, что-то стала чудить.
— Как чудить?
— Ну вот, буду я тебе все рассказывать, иди сам посмотри.
Заклик не заставил упрашивать себя и пошел на башню.
Пройдя знакомыми переходами, он постучал в дверь, но ответа не было. Заклик тихонько приотворил дверь, и глазам его представилась странная картина: посреди комнаты перед столом, заваленным книгами, по переплетам которых можно было судить об их религиозном содержании, стояла Ко́зель. Облокотись на одну руку и приложив палец другой к своим губам, она стояла над раскрытой Библией и обдумывала что-то с большой сосредоточенностью. Одета она была престранно: на ней было широкое черное платье с длинными рукавами, подпоясанное широким кушаком с кабалистическими знаками, а волосы повязаны косынкой, за которую был засунут какой-то пергаментный свиток, исписанный буквами еврейского алфавита.
Эта женщина мало походила на прежнюю Ко́зель. Черты ее прекрасного лица потеряли свою нежность и стали суровее, на лбу обозначились морщины, а уста, по-видимому, привыкли более к молчанию, чем к разговору.
Заклик вошел и остановился; она не могла не слышать его шагов, но не подняла на него глаз от книги.
— Графиня! — позвал он.
Она тихо и медленно повернулась.
— Вы не узнаете меня?
— Постой! — и она силилась что-то припомнить. — Да, я узнаю тебя!.. Но ты!.. Когда же ты освободился?
— Кто освободился, графиня?
— Ты.
— Откуда же?
— Из твоей темницы, из твоего тела.
— Я в моем теле, графиня.
— Как? Это ты сам, весь, а не один дух твой?
— Да, это я, ваш верный слуга; я пришел навестить вас и служить вам, — отвечал Заклик. — Я приехал, чтобы еще раз попытаться освободить вас.
Она только махнула рукой.
— Что это значит? — спросил Заклик.
— Довольно двух жертв, и я не хочу третьей!
— Но это моя добрая воля, и вы не вправе мне запретить возвратить вам свободу.
— Я скоро буду свободна совсем, — покачала головой Ко́зель.
— Вы как-то темно говорите.
— Нет, это вы меня темно понимаете; я знаю это состояние, но для меня оно, слава Богу, минуло. В земной судьбе нет никакой милости. Тут один закон: что определено, то неизбежно сбудется. Надо сжиться с этой старой святой книгой и вопрошать ее день и ночь, пока она не станет отвечать… и тогда!.. Впрочем, зачем я говорю Тебе это? Скажи, ты надолго сюда?
— Сам не знаю, графиня. Хотел бы даже остаться здесь, вблизи вас, да не знаю…
— Тсс! — перебила графиня.
Заклик подумал, что она кого-нибудь заслышала своим тонким слухом, который так изощряется у арестантов, и начал было оглядываться, но графиня, видя его нерешительность, быстро перевернула несколько страниц в книге, не без торжественности закрыла застежки и, подняв глаза, начала шептать молитву, а потом сняла свои руки с книги, быстро ее раскрыла и, взглянув на правую сторону раскрытого листа, прочитала: — И сказал им: «Не бойтесь и не ужасайтесь, будьте тверды и мужественны; потому что так поступит Господь со всеми врагами вашими, с которыми вы воюете».
Графиня приложила палец ко лбу, еще раз повторила эти слова шепотом и затем, быстро закрыв книгу, молвила:
— Да, это так, это понятно; потерпев неудачи с другими, я буду счастлива, когда стану действовать с тобой; но нельзя ничего начинать прежде, чем будет указание свыше. Итак, ты должен остаться здесь!
Заклик ничего против этого не имел, но ему, конечно, не могло нравиться это какое-то расстроенное мистическое воображение, и потому он с некоторой сухостью отвечал:
— Хорошо, я буду стараться, чтоб это было возможно, и если не попаду опять в замок, то поселюсь здесь в местечке. Я надеюсь, что теперь мне никто этого не запретит! Но, конечно, я для этого должен буду оставить королевскую службу.
— Ах, брось ее и сними поскорее эту позорную ливрею, эту одежду! — живо отозвалась Ко́зель.
— Хорошо, хорошо, я сброшу, но на это тоже мне понадобится время, — отвечал Заклик, — так снять ливрею нельзя, а надо продать чин и получить отставку. Тогда я перееду в Столпень и буду жить здесь частным человеком. Здесь в гарнизоне есть у меня старый приятель, капитан Кашау…
— Кашау? — перебила Ко́зель. — Зачем он тебе? Кашау, как и все другие, кто здесь живет, слуга беззакония.
— А что же делать, если он может быть нам полезен?
Ко́зель встала и начала молча ходить по комнате.
— Что делать? — повторила она. — Вот что сделай: возвращайся назад, таскай на себе ливрею и за меня не бойся.
— Прошу прощения, графиня, но я не понимаю, зачем вы мне это говорите.
— Я говорю тебе это затем, что я не должна бороться с предопределением и более никогда не позову тебя выручать меня. Но ты не обижайся: ты единственный человек, который меня не покинул, и я это ценю и жалею тебя!
У Заклика закипели в груди слезы, и он с усилием просил графиню не говорить о нем, потому что он не знает ничего более отрадного, как служить ей.
— У тебя есть Бог в сердце, — отвечала она, — и он один ведает, в наказание тебе или в отраду мне дана тебе твоя преданность моей печальной доле. Я часто хотела это знать, но это от меня скрыто.
— А что от нас скрыто, того мы не должны и касаться.
— Нет, я должна это знать! — отвечала Ко́зель и взялась рукой за Библию.
Заклик стоял, покашливал и даже позвал ее два раза, но она не откликалась, и он, постояв у дверей, поклонился и тихонько вышел.
Анна продолжала читать и ничего не заметила. Заклика так поразило это состояние Ко́зель, что он шел, ничего перед собой не видя, и не заметил, как у колодца столкнулся с ожидавшим его Кашау, который не утерпел, чтобы не подтрунить над приятелем.
— Ну, что, — спросил он, — побеседовал ты с ней или только мудрости у нее поучился?
— Какая с ней беседа! — отвечал Заклик. — Я застал ее над Библией и оставил за нею. Ждал, ждал и не дождался ни ответа, ни привета.
— Да и не дождешься!
— Нет, думаю еще раз попробовать счастья, если это только возможно.
— Да возможно-то, пожалуй, возможно: говори себе с ней, сколько хочешь, — отвечал Кашау, — а только я думаю, что все это будет напрасно. А как ты ее нашел? Очень она, на твой взгляд, изменилась?
— Ну, разумеется, изменилась, — отвечал Заклик и перевел разговор на другие предметы.
Пробыв у Кашау до позднего вечера, он отправился ночевать в трактир, содержатель которого, услужливо лебезя перед заезжим офицером, хотел вступить с ним в разговор об узнице, но Заклик отклонил это, чтобы не казаться заинтересованным судьбою Анны.
На следующее утро, как только отворили замковые ворота, Заклик снова был у Кашау, ожидавшего его с завтраком, и, проходя в его квартиру, видел Ко́зель, которая была в садике и, заметив Заклика, кивнула головой. На этот раз она была в обыкновенном платье, и выражение лица было спокойно и не так сурово, как вчера.
— Вот посмотрите, — сказала она, — эти цветы — теперь мои дети; моих родных детей у меня отняли, вырвали и не дают видеть, и я часто думаю: как-то выросли теперь те, которых я не вижу?
— Ну, они, конечно, живы и здоровы. Я уверен, что они вас любят.
— Нет, я в этом не уверена, — отвечала графиня. — Я считала бы за благо для себя, если бы была уверена, что они меня забыли; но и этого не может быть; они знают, что у них есть мать; но воображаю себе, что им насказано об их матери и какою они себе ее представляют злодейкой… О, это ужасно, ужасно! Я думаю, если бы я им могла послать хоть вот по одному этому цветку, то они отбросили бы их с отвращением, узнав, что эти цветы вырастила их мать.
У Заклика на глаза навернулись слезы.
Надо признаться, что Ко́зель очень редко говорила о своих детях, она как будто страшилась воспоминания о них, но когда она говорила, можно было чувствовать, что тяжкое горе дошло до самых тайников души.
Она не могла более говорить и, кивнув Заклику, сказала ему только:
— Приходи сюда и жди!
Заклик провел около часа с Кашау, а затем отправился назад в местечко.
Лениво тащился он по замковому двору, стараясь высмотреть Ко́зель, но ее в садике не было. Зато, подняв голову вверх, он увидел ее… и в каком положении! Она стояла у верхнего окна, одетая во вчерашний костюм сивиллы, с книгой, в руках. Она не бросила на Заклика ни одного взгляда.
Вскоре Заклик продал чин, вышел в отставку и, купив в Столпене небольшую усадьбу, начал хозяйничать, благодушествуя по временам с Кашау.
XIII
В 1727 году, спустя три года после неудачной попытки графини к побегу, в Столпянском замке и местечке уже забыли об этом происшествии, а в большом свете, при королевском дворе, произошло много перемен. Графиня Ко́зель была отомщена ее недоброхотам: даже в ее тихое заточение к ней доходили вести, как враги ее один за другим исчезали со сцены, а на их места являлись новые актеры. Один Август Сильный сохранял свою мощь и здоровье и по-прежнему сорил золотом, алкал удовольствий и не находил их.
Заменившая Ко́зель Мария Денгоф, быть может, устрашенная участью своей предшественницы, даже и не искала чести привязать к себе короля прочным образом, а, напротив, сама искала случая от него отделаться и выйти замуж за простого смертного. Август нисколько этому не воспротивился и, выдав ее замуж, стал забавляться кем и как попало на липской ярмарке. Вообще он теперь предпочитал кратковременность связям сколько-нибудь прочным и не изменял этому правилу даже для женщин, более или менее достойных внимания. Так, у него в кратком фаворе была замечательной красоты девушка, дочь тайного советника Дицкау, которую он выдал замуж за своего маршалка фон Лосса, а сам заинтересовался Генриеттой Остергаузен; но эта ему так надоела, что он даже не стал хлопотать об ее устройстве, и не смущался тем, что ее невестка сбыла ее в монастырь, откуда гораздо позднее ее увез Станиславский и, женившись на ней, привез в Польшу.
Но после всех этих мимолетных шалостей опять было наступило нечто, напоминавшее прежние страстные увлечения: виновницей этого порыва была Анна Оржельская, дочь Генриетты Дюваль. С привязанностью к ней король не таился, как и с привязанностью к Анне Ко́зель. Он возложил на нее орден Белого орла, с которым она в гусарском, шитом золотом ментике поверх платья выезжала с королем на полковые смотры и на псовые охоты. Король при ней снова подбодрился, и при его дворе опять было начались веселье и временщичество. Так, граф Рутовский, пользуясь фавором сестры, получил силу и значение, оттерев прочь прежних временщиков.
Фюрстенберг, который некогда своим пьяным пари с Гоймом вывел на свет графиню Ко́зель, а позднее сделался самым отъявленным ее врагом, давно уже не жил. Его товарищи министры подставили ему ногу, и этот человек, мечтавший управлять через госпожу Рейс целым двором и самим своим государем, потерял почву под ногами и снизошел до полного ничтожества.
Даже самую графиню Рейс у него, перед его смертью, отнял кузен его Лютцельбург. Так, все ему изменило, и он, всеми на земле позабытый, тихо переселился в мир лучший. Значение того кружка, в котором царили Юльхен, Рейс, Рейхенбах, Шелендорф, Цаленберг и другие, давно утратилось.
Фицтум также окончил свое земное поприще; удаленный от короля, он несколько лет пробыл послом в Швеции, а дома, за него и за себя, неустанно интриговала его жена, та самая сестра Гойма, которую мы видели в начале повести. Поссорясь с Флеммингом и затеяв интригу против госпожи Пшебендовской, которую саксонцы для удобства произношения называли Бребентау, госпожа Фицтум во время посольства мужа выстроила ему даже новый дворец на углу Крейцгассе, но ему не суждено было жить в этом здании: великолепный палац этот достался брату новой фаворитки Рутовскому.
Фицтум окончил свою жизнь очень трагически.
За год перед катастрофой, будучи в Варшаве с королем, при котором Фицтум в то время состоял камергером и адъютантом, он поссорился за картами с неким маркизом, который, кажется, был незаконным сыном сардинского короля Виктора. Фицтуму тогда было уже лет за пятьдесят, а маркизу двадцать с небольшим, но несмотря на это, старик не уступил юноше в запальчивости, а потом не уступил и в смелости.
Когда они крупно поссорились и дело дошло до короля, Август принял сторону Фицтума, посадил молодого итальянца под арест, но тот, отбыв трехмесячное заключение, бежал в Польшу и, пробравшись в Надажин, послал Фицтуму вызов. Старик, несмотря на свои годы и положение, принял вызов и, приказав всем своим приближенным хранить об этом самое строгое молчание, чтобы не узнал об этом король, дал слово приехать 13 апреля 1726 года в условленное место.
Накануне вечером Фицтум ужинал у своей дочери, был очень весел и до полуночи играл в пикет, а через два часа тайно выехал в Надажин в сопровождении одного своего секунданта — графа Монморанси.

Портал в замке Цвингер
Рано утром, между пятым и шестым часом, Фицтум был уже на месте. Он послал к противнику офицера Френейза с уведомлением о своем прибытии. Так как в то время на дуэлях принято было стрелять с лошадей, то Фицтум сел на коня и встал против своего противника. Оба они съезжались с большим мужеством, и когда сблизились на выстрел, маркиз спустил курок и убил Фицтума на месте. Падая с лошади, Фицтум тоже выстрелил, но его пуля только задела парик.
Маркиз после этой дуэли бежал в Варшаву и укрылся в монастыре Театинов, но разгневанный Август отдал приказ достать его оттуда, несмотря на право убежища. Монастырь окружили полтораста солдат, но маркиз, переодетый простолюдином, бежал через Берлин в Италию.
Тело убитого, сопровождаемое везде по дороге перезвоном колоколов, было перевезено в фамильный склеп и там погребено с должным почетом. Таков был конец первого Августова фаворита.
Флемминг держался долее других: он по-прежнему умел оставаться необходимым для Августа и строил себе дворцы, торговал имениями и богател так, что считал золото бочками. Избавившись от Шуленбурга и отсоветовав королю поручать начальство над войсками гениальному сыну Морица Саксонского, Флемминг мечтал добыть для себя княжество Курляндское и женить пятидесятивосьмилетнего вдовца Августа на семнадцатилетней прусской княжне. Последней мерой он рассчитывал упрочить союз между Саксонией и Пруссией, и если бы Август II его послушал, то это, кажется, было бы недурно для государственных видов Саксонии.
Неблагодарный Левендаль, обязанный всем своим положением графине Ко́зель, тоже маялся, но, однако, без всякого значения, и вел напрасную борьбу с Флеммингом, который был несравненно его сильнее. Он легкомысленно расточал легко нажитое состояние и быстро стремился к очевидному разорению.
Наконец Ватцдорф, «мужик из Майнсфельда», который употреблялся для того, чтобы выжить Ко́зель из ее дрезденской квартиры, и он, при всей своей грубости и неразборчивости в средствах, тоже не сдобровал, и был едва терпим, и то потому, что король нуждался в нем для некоторых особых поручений, к выполнению которых этот человек годился.
Что же касается образа жизни при дворе короля Августа, то тут и теперь, как прежде, не любили скучать, и появление Оржельской было отпраздновано на славу.
Известно, что король Август, несмотря на поражение от шведов, считал себя за великого полководца и жаждал славы воинской, может быть, не менее, чем любовных удовольствий. Проводя весну того года, до которого доведен наш рассказ, в прекрасной Пильнице, вблизи которой стояли лагерем войска, Август очень занимался муштрой. Особенно его внимание было обращено на стрельбу из пушек и опыты со входившими тогда в употребление полукартаунами[3].
При короле неотступно находился граф Ваккербарт. Полукартауны отлично выдерживали испытание и дробили каменное основание крепости, но Ваккербарт заметил, что он знает скалы, которые не поддались бы этим ядрам.
— Где такие скалы? — спросил король.
— В Столпене, ваше величество… Тамошний базальт не чета этим колким глыбам, и нигде не было бы так хорошо испробовать силу орудий, как там.
— А что же? Это, право, не худо сказано! В Столпень так в Столпень! — воскликнул Август; но лицо его тотчас же омрачилось: очевидно, он вспомнил о тамошней узнице, и это воспоминание было не из приятных; но после минуты молчания он встал, прошелся и спокойно сказал:
— В самом деле, я не вижу, почему бы нам не пустить несколько ядер в столпянские базальтовые скалы! Ведь мы этим замка не разрушим, а проба будет настоящая. Я поручаю вам, любезный Ваккербарт, не откладывать этого дела и немедленно же отправить в Столпень две пушки.
— Слушаю, ваше величество.
— И прикажите тоже приготовить там батарею напротив этих столбов и ожидать меня: я сам хочу присутствовать при начале канонады.
И он, сказав это, отвернулся и пошел, как ни в чем не бывало.
Вакербарт был ревностный и точный исполнитель королевских повелений: и пушки с артиллеристами высланы были в Столпень тотчас же.
_____
Заклик спал в эту ночь спокойным сном и самому себе не поверил, когда в полночь услышал грохот тяжелых лафетов. За артиллерией еще шумнее вступал обоз, и тихое местечко вдруг сделалось шумным военным станом. Капитан никак не мог понять, что случилось, да и кто бы мог это понять? Уж не вторгся ли в Саксонию неприятель?.. Но какой же именно? По языку, которым говорили или, лучше сказать, перебранивались солдаты, Заклик слышал, что это саксонцы… Что такое!.. Заклик захлопнул окно, вышел и, увидев проезжавшего офицера, спросил его, что случилось.
— Ничего не случилось, а завтра сюда будет король!
— Король? Сюда? Его величество?
— Да, король, его величество! — крикнул офицер, суетясь около солдат. — Он будет стрелять в столбы, чтобы пробовать силу новых орудий.
— Над чем? — крикнул изумленный Заклик.
— А вот над этой замковой горой.
Разговор прервался, но Заклик все-таки не верил своим ушам. Как! Король станет стрелять в замок, в котором он держал уже столько лет свою несчастную жертву! Нет, это даже для Августа невозможно; не может же он не подумать, какое все это должно произвести впечатление на бедную Ко́зель!
Чуть забрезжило, Заклик бросился к замку, чтобы подготовить как-нибудь бедную пленницу к тому, что должно было случиться.
В замке давно все были на ногах; ожидание короля подбодрило сонных солдат; из окружных деревень согнали множество народа для насыпки батарей и еще усерднее подгоняли согнанных. Везде был шум, гам, хлопанье палок, стоны, крик.
Одну батарею спешно возводили в зверинце на так называемой Рорпфорте, а другую на Ганне-Вальде, в казенном садике.
В замке между тем все чистили и мели, выносили мусор и вообще убирали, чтобы все казалось попригляднее. Около башни была в сборе вся мужская и женская прислуга графини, и сама узница встретила Заклика на пороге. Она окинула его тревожным взглядом и прошептала:
— Ты слышал, ко мне едет король?
— Я слышал, что король сюда едет, — ответил Заклик, — но только мне говорили, что он едет пробовать на здешних столбах силу своих новых пушек.
Ко́зель покачала головой и проговорила:
— Ах, как же ты прост и наивен! Это я, я его вызвала: моя душа парила над ним и тянула его сюда ко мне. Он не мог сюда не приехать и только искал предлога… О, мой Август, о мой бедный Август! Его так много обманывали, что он вспомнил свою верную Анну; он знает, что я люблю его, и хочет меня видеть! И ты знаешь, почему именно теперь? Потому что королева умерла, он свободен и хочет сдержать свое слово и жениться на мне!
Она ударила в ладони и спешно заговорила:
— Однако, некогда ждать, он едет, он едет! Пошли ко мне поскорей всех моих слуг! Пусть Лина достанет из сундуков мои лучшие платья; я хочу выбрать из них то, которое мне больше всего к лицу.
И схватив распущенные черные волосы рукой, графиня суетливо заметалась по комнате…
_____
Батареи росли на глазах, и короля ждали с минуты на минуту.
Настало прекрасное майское утро. С долин и гор поднималась к небу легкая мгла. В воздухе был слышен тонкий запах цветущих лугов.
Но в замке некому было этим наслаждаться: там все суетилось и снаряжалось встречать своего повелителя. Хлопот была куча, и притом самых неожиданных. Комендант, к ужасу своему, узнал, что, вопреки обычаю, из Пильницы не будет прислана сюда королевская кухня и ему самому надо распорядиться, чем принять короля и его свиту; а это было нелегко в таком месте, где нет ни искусных поваров, ни отборной провизии.
Из зверинца наскоро взяли несколько штук дичи; нашли где-то бутылку хорошего вина, но стол решительно нечем было сервировать. Нашелся только один старый стакан с саксонскими гербами, годный для того, чтобы из него пить королю; а все прочее представляло самый пестрый сброд. Местное духовенство собрало кое-какие скатерти, кое-что прислал сельский трактир, а чего недоставало, о том напрасно было и хлопотать.
Между тем полукартауны были уже поставлены на предназначенных для них батареях; войска выстроились, а наверх семиэтажной башни поставили махального, который должен был зорко наблюдать за дорогой и дать знак, чуть завидев королевское приближение.
Около четырех часов утра уже все было готово: артиллеристы не только установили орудия, но даже навели прицелы так, чтобы ядра попадали в базальтовые столбы, и ждали Августа, который обещал выехать из Пильницы до рассвета. Представители местного населения тоже все были в парадных платьях, да и сама чернь была прибрана и умыта и шепотом повторяла какое-то старое предание, что будто при какой-то давней осаде замка, во время оно, скалы так отражали попадавшие в них ядра, что они, отскакивая, убивали тех, кто ими стрелял. Собранный народ думал, как бы теперь не случилось того же самого.
Но вот махальный дал знак, и в ту же минуту бургомистр во главе мещан, несших хоругви и заржавленные ключи от магазина местного войта, вышли на дорогу. На колокольнях поднялся трезвон, и все население местечка в праздничных нарядах высыпало на рынок.
Облако пыли, замеченное издали махальным, быстро приближалось, и в нем начала уже обозначаться фигура ехавшего впереди рослого, статного всадника. Это был Август. Он ехал полной рысью на коне, а за ним неслись его свита и несколько приглашенных гостей. В отдалении виднелась другая кавалькада, как бы догонявшая первую.
В шеренгах выстроенного замкового гарнизона водворилось мертвое молчание, а всадник подъезжал все ближе и ближе: можно уже было видеть его голубой кафтан с вышитой на нем звездой Белого орла.
Не прошло и получаса, как король подъехал к воротам замка.
В воротах он едва кивнул преклонившимся до земли бургомистру и мещанам и прямо въехал на замковый двор. Он молча принял рапорт коменданта. Ясно было, что король не в духе. Не сказав никому ни слова, он повернул коня к батарее при Рорпфорте в зверинце и, посмотрев на нее молча, поехал к Ганне-Вальде. Эта батарея была насыпана против самой сплошной массы черных столбов, как бы связанных в огромный пук какой-то титанической рукой. С этого пункта была на виду вся башня, в одном из ее многочисленных окон можно было заметить даже фигуру женщины в белом. Но король не мог или не хотел поднять туда своих глаз и повернул коня снова к зверинцу.
В эту минуту к нему подъехал Ваккербарт и стал позади него, не говоря ни слова. Август дал знак начинать, и артиллеристы приступили к орудиям: раздался первый выстрел, и страшный гул пронесся в окружных горах.
Первый выстрел, направленный в базальтовую стену, сделал в ней трещину, но зато и чугунное ядро тоже разлетелось на части. Комендант принес его осколки государю, и Август посмотрел на них и молча кивнул. Другой выстрел, направленный в столб у подножья бастиона, отбил от него только несколько кусков.
Король приказал стрелять выше, по результат был один и тот же: камень крошился, но лопались и ядра, а сами столбы не сокрушались. После каждого выстрела лопавшиеся ядра и обломки каменьев летели вверх и во все стороны, попадая даже в местечко, но никому вреда не причиняли, если не считать королевской лошади, которая при Рорпфорте получила ушиб в ногу, да одной сушильни, у которой пробило крышу и потолок. Король удовольствовался этой пробой и велел прекратить пальбу.
_____
Что касается печальной узницы, которую мы видели в ее самообольщенной надежде, то она была одета с чрезвычайной тщательностью и, поджидая короля, долго смотрелась в зеркало и, усмехаясь, говорила себе, что не может быть иначе, Август едет только для нее. Что за вздор, чтобы он ехал сюда пробовать орудия! Не все ли равно, где их пробовать? Нет! Он едет положить конец ее неволе и даже, может быть, возвратить ей все, что ею так давно утрачено.
В этом убеждении, нетерпеливо переходя от окна к окну, она смотрела на дорогу из Пильницы и не позже выставленного комендантом махального заметила пыльное облако, в котором являлся ее Август. Сердце бедной женщины сильно забилось. Барабанный бой и колокольный звон, возвещавшие о прибытии короля в замок, еще более увеличили ее тревогу, и она, прижав руку к сердцу, ожидала, что вот сейчас услышит его шаги на своей лестнице; вот сейчас он покажется в ее дверях и заговорит с ней голосом, полным ласки, любви и сожаления…
Но ничего этого не было: долго длилось зловещее молчание, и потом вдруг грянул выстрел. Все кончено, он приехал не для нее!.. Ко́зель вскрикнула и упала на пол, но потом вдруг вскочила и, бросившись к комоду, где у нее был заряженный пистолет, достала его, спрятала в складках широкого рукава и притаилась за оконницей. Глаза ее горели, руки дрожали, а грудь высоко вздымалась.
После каждого выстрела она все острее смотрела вдаль, ожидая, не покажется ли король, и ожидания ее не были напрасны.
Среди тишины, наступившей за выстрелами, по дороге из леса послышался топот копыт. Ехал один человек… Ко́зель выглянула в окно и почувствовала, что ноги ее подкашиваются. Да, это был он! Август! Он ехал один-одинешенек по дорожке, которая проходила как раз под стенами; Ко́зель сжала в руке пистолет и, высунувшись до половины в окно, громко крикнула:
— Государь! Яви милосердие, возврати мне детей и свободу!
Август вскинул на нее глаза, насупился и, ничего не ответив, продолжал путь.
Ко́зель побледнела.
— О, изверг! — вскрикнула она. — У тебя нет милосердия!.. Так будь же ты проклят!
И с этим она спустила курок.
Король осадил коня, снял шляпу, в крае которой появилась маленькая круглая дырка, и обернулся к окну узницы, но ее там уже не было; она лежала в это время без чувств на том самом месте, где стояла, проклиная и стреляя в того, кого так сильно и глубоко любила.
Август оглянулся по сторонам и, не увидев никого, кто бы наблюдал за ним, надел снова свою простреленную шляпу и уехал из Столпян, не приняв угощения, приготовленного ему комендантом.
XIV
Выстрел, впрочем, не был так незаметен: его слышали многие и, между прочим, Заклик, который вбежал в комнату Ко́зель первым и нашел ее без чувств. Дымившийся еще пистолет был возле нее. Заклик догадался, что произошло, и прежде всего спрятал оружие, а потом принялся вместе со сбежавшимися слугами приводить графиню в чувство.
Событие это, впрочем, не имело никаких особенных последствий, так как Август никому не упомянул об этом выстреле, и из его молчания все должны были понять, что разглашать это не следует.
Страшно потрясенная всем этим графиня опять мало-помалу оправилась и вернулась к своему прежнему образу жизни, не покинув и после этого надежды на побег.
Год спустя, получив от Заклика деньги за проданные бриллианты, она, не говоря ему ни слова, подкупила евреев, обещавших ее выручить, и с помощью веревочной лестницы уже совсем было спустилась с крепостных стен; но что-то роковое ее преследовало, и она опять была поймана и снова заточена в своей обители в башне, у которой только усилили караулы. Потом строгости опять мало-помалу ослабели: желающим было дозволено посещать арестантку, а самой ей выходить в садик.
Заклик продолжал жить тут же в местечке и, по счастью, не возбуждал никаких подозрений, так как не был замешан и в последней попытке графини к побегу. Ко́зель давала ему поручения, но не хотела ничем его компрометировать.
На характер короля покушение Ко́зель также не оказало влияния: он в следующем году великолепно принимал у себя в Дрездене Фридриха Вильгельма прусского вместе с сыном его Фридрихом, впоследствии Великим. Пребывание высоких гостей в Дрездене продолжалось четыре недели и утомило спартанца-короля до того, что он писал оттуда, жалуясь на усталость. Комедия, балет, осмотр музеев, скачки, карусели, метание дротиков — все это шло одно за другим. Забавам не помешал даже случившийся в Зекаузе пожар, при котором гости едва успели выскочить. Король на этих празднествах нередко появлялся в национальном польском платье, богато расшитом золотом, с белыми и голубыми перьями.
Ко́зель, слыша о всех этих забавах, только вспоминала свои прежние времена и понимала, что она не нужна и король о ней забыл.
Оржельская кружила голову даже Фридриху, который ею так сильно заинтересовался, что возбудил в Августе ревность, и они с тех пор тайно враждовали. Фридрих писал о нем Секендорфу:
«Король польский из всех монархов самый фальшивый и возбуждает во мне наибольшее отвращение. У него нет ни чести, ни веры; обман и ложь — это и его право и его стихия. Он, кажется, не знает ничего более приятного, как перессорить людей и обмануть их. Меня ему тоже однажды удалось обмануть, но более уже не удастся.
Я в Дрездене прыгаю, танцую и измучен более, чем если бы ежедневно затравливал по два оленя, и вообще живу не по-христиански; но Бог мне свидетель, что во всем этом не нахожу никакого удовольствия и возвращусь домой так же чист, как уехал оттуда».
Увеселениям, терзавшим Фридриха, в самом деле не было конца, и когда гости от них окончательно устали, их еще попотчевали великолепным военным лагерем под Мюлебергом на Эльбе, который с неописанным восторгом воспевали некоторые современные поэты.
Место для этого лагеря было выбрано на пологом скате и очищено от леса, который тут рос и был, собственно, для этого вырублен; оно занимало три мили в окружности и представляло бесценные удобства для военного стана.
Двадцать тысяч пехоты и десять тысяч польской и саксонской кавалерий, расположились здесь, как на ладони. Войска были заново обмундированы и обучены по самому новейшему образцу. Особенно хороши были кавалергарды и конные мушкетеры, а из пехоты — янычары и батальон гренадер Рутовского.
Август имел свою главную квартиру в деревянном, наскоро выстроенном огромном двухэтажном здании, внутренность которого была обита полотном и расписана специально выписанными из Италии декораторами. На эти военные празднества собрались множество своих и иностранцев; среди последних было пятнадцать послов, шестьдесят девять графов и тридцать восемь баронов. Именитые гости прибыли издалека, так, из Франции приехал, например, маршал де Сакс. Конечно, и здесь более слушали музыку, танцевали и жгли фейерверки, чем занимались войском. Не прерывались здесь и чудеса Августовой изобретательности, например, на одном из здешних лагерных пиров был подан знаменитый в своем роде чудовищный пирог, имевший шестнадцать локтей в длину и шесть в ширину. На то, чтобы изготовить этого гиганта, пошло семнадцать четвериков муки, и его подали к столу не на руках, а подвезли на особо устроенных дрогах, запряженных восьмериком лошадей.
Все эти затеи изобретательного Августа воспевал его придворный поэт Кёниг, а Фридрих над ними втихомолку зло посмеивался.
Слухи об этих пирах доходили и до Ко́зель и все более и более убеждали ее, что она забыта и ей нет никакой надежды на освобождение монаршей волей. Она опять решилась бежать, но на этот раз при содействии Заклика. Он только и ждал этого.
После стольких лет жизни в Столпене ему были отлично знакомы и местность, и люди, и порядки, и он после каждой неудачной попытки графини к побегу прикидывал все обстоятельства и обдумывал, как устроить все опять, чтобы это не повлекло за собой неудачу. Но он не решался сам вызывать графиню на новую опасную попытку, а предпочитал ждать ее слова. Но она все еще медлила, пока одно, по-видимому, малозначительное обстоятельство вдруг быстро не изменило ее решения.
Случилось, что торговые евреи, заехав к ней с разными товарами, привезли графине и несколько номеров гамбургской газеты, где было подробное описание последних увеселений во время пребывания прусского короля в Дрездене. Читая между прочим о каруселях, которые впервые были выдуманы Августом для Анны Ко́зель, она так вознегодовала, что скомкала газету и при первой же встрече с Закликом спросила, может ли она бежать из замка.
В воротах замка караул был нестрог, в замок впускали и выпускали всех, особенно мужчин: к графине и к коменданту ходили торговцы и знакомые, и стража к этому привыкла и почти не обращала на проходящих никакого внимания. Заклик думал, что в один из пасмурных, или еще лучше, совсем дождливых дней, когда мужчины надевают плащи, Ко́зель, покрывшись военным плащом и нахлобучив пониже фуражку, смело могла бы выйти никем не узнанной за ворота замка; а он будет за ней следовать и, выпроводив ее за зверинец, где должны были стоять верховые лошади, посадит ее в седло, и они ускачут лесом в горы, скроются за границу Саксонии.
Как Заклик ни раздумывал, он ничего лучше не мог выдумать и потому сообщил свой план графине. Той это чрезвычайно понравилось, и она решила, что в первый же дождливый день они должны уйти.
— Я надеюсь, что это будет последний раз и, готова защищаться. Лучше умереть, чем снова сюда вернуться! Надеюсь, что и ты также не дашь взять себя голыми руками. Прошу тебя вооружиться.
— Я надеюсь, что до этого дело не дойдет! — отвечал Заклик.
Итак, для этой, последней, попытки недоставало только ненастья; а дни, как назло, стояли ясные и погожие. Заклик употребил это время на то, чтобы еще более приучить стражу к частым входам и выходам. Он приходил к графине ежедневно и, выходя от нее, неохотно отвечал на оклики часовых, если которому приходило в голову его окликнуть. Он также продал в эти дни за бесценок свою усадьбишку и обратил в деньги все, что только было возможно.
Наконец однажды в четверг небо с утра начало заволакивать тучами и в воздухе запахло дождем. Казалось, что ненастная погода непременно пойдет на несколько дней. Заклик сейчас же взялся за дело: одетый в свой плащ, он нарочно то приходил в замок, то выходил оттуда, и когда к утру пятницы бродившие с вечера тучи разразились проливным дождем, он сказал Ко́зель, что настал их час и что теперь медлить не для чего.
Графиня, отпустив прислугу, покрылась принесенным ей Закликом плащом и пошла к воротам. На нее никто не обратил никакого внимания, и она прошла эти ворота благополучно. В других воротах солдат стал было приглядываться к ней внимательнее, но тоже пропустил ее, не сказав ни слова. Так она и вышла, благодаря этому плану, на свободу; но неумолимый рок не переставал ее преследовать.
Когда вслед за ней в таком же плаще показался Заклик, часовой заворчал на него:
— Да сколько вас тут ходит! Сейчас только один прошел, а тут уж и другой!
Заклик открыл лицо и сказал:
— Что же, ты меня не знаешь, что ли?
— А, черт признает вас тут всех, столько вас шляется! — отозвался солдат. — Что это такое, в самом деле? Сам считал, что вошел всего один, а теперь выходит уже второй.
— Тебе, верно, это приснилось.
— Нет, я не спал, и мне это не приснилось, а ты, постой-ка, не уходи, а вернись к коменданту!
— Да меня же все здесь знают! — настаивал, смеясь, Заклик.
— Ну, знают или не знают, а ты иди к коменданту, иначе не выпущу!
Пока они спорили и шумели, прибежал унтер-офицер, который по жалобе Заклика и велел его выпустить; но потом, на горе беглецов, спросил солдата, что возбудило в нем подозрение на счет этого, столь знакомого в замке человека.
— Да то, что, стоя на часах, надо считать, сколько людей входят в ворота и сколько выходят.
— Ну, что же далее?
— А далее то, что сегодня в таком плаще вошел один, а вышли двое.
— Ты в этом уверен?
— Конечно, уверен, да еще теперь припоминаю, что тот первый имел такую подозрительную походку.
— Какую же это подозрительную?
— Ну, не военную, а шел, как баба.
— Что ты врешь?
— Право, так, я даже подумал, не Ко́зель ли это сыграла со мной такую штуку?
— Сохрани Господи! — сказал унтер-офицер и, начав разделять опасения часового, пошел к башне.
Здесь от чернорабочего на кухне он узнал, что всем женщинам графини дано было дозволение отправиться в город. Это его еще более встревожило, и он, уже не помня себя, вбежал на второй этаж и увидел, что комната Ко́зель пуста, на третьем этаже — также никого. Искать арестантку в саду во время такого сильного дождя было бы, конечно, напрасно, и унтер-офицер сломя голову побежал к коменданту. Тот сию же минуту послал солдат искать графиню сначала около башни и во всех закоулках замка, но все поиски были напрасны, и становилось ясно, что арестантка бежала. Тогда в замке ударили тревогу и комендант с солдатами, разделив их на несколько отрядов, отправились на поиски по окрестностям.
Между тем Ко́зель имела вполне достаточно времени, чтобы дойти до укрытых в лесу лошадей, но, по несчастью, она в поспешности отклонилась от своего пути и заблудилась… Ускользнувший во время сумятицы Заклик обошел графиню и ждал ее при конях в мучительной тревоге; время уходило, уже был слышен шум погони, а Ко́зель все еще не было. В отчаяньи он сам бросился искать ее то в ту, то в другую сторону, не смея, однако, окликнуть ее, чтобы не открыть солдатам своей засады; но вот он ее наконец нашел, помог ей вскочить в седло и сам хватался уже за поводья своего коня, как в эту самую минуту они были окружены солдатами. Заклик не захотел сдаться и, стараясь дать графине время ускакать, дрался свирепо и упал с простреленной головой; но графине и это не помогло: прежде чем ее лошадь успела поднять карьер, один из солдат уже схватился за ее удила. Графиня вынула пистолет и выстрелила ему в голову; но на место одного подоспели другие, и сопротивляться было невозможно.
Комендант, явившись на место схватки, нашел уже графиню под стражей, а при ней два трупа и одного раненого, который умирал в муках.
— Довольно ли с вас этого, госпожа графиня? — воскликнул комендант. — Считайте, сколько человеческих жизней стоят ваши напрасные попытки бежать!
Ко́зель ничего не ответила, а быстро подойдя к мертвому Заклику, поцеловала его в окровавленный лоб и сняла у него с груди известную нам бумагу, на которой покойный инстинктивно скрестил руки в минуту смерти.
Графиню отвели опять в замок, откуда сама судьба, кажется, не хотела ее выпускать. Ко́зель дала деньги, чтобы устроить Заклику похороны, и сказала:
— Для меня и этого никто не сделает!
В это время Ко́зель было уже сорок девять лет; но, как многие свидетельствуют, она была хороша и в эти уже столь поздние для женщины годы.
С этих пор она не стала выходить даже в свой садик, а окружила себя книгами; читала без устали; изучала кабалу и заказывала переводить для себя еврейские религиозные книги — так убивала время, не будучи в силах убить саму себя…
Это совпадало уже с последними годами царствования Августа II, когда он, подражая Людовику XIV, наскучил и удовольствиями, то заменил пышность двора страстью к постройкам.
В Дрездене, где тогда было еще много некрасивых деревянных домов, приказано было ломать их и строить вместо них каменные. Постройка шла за постройкой: на старом рынке было возведено хорошее здание ратуши; Флемминг, Фицтум, Ваккербарт и Сулковский были вынуждены выстроить себе по дворцу. У Флемминга король сам купил его японский дворец, который прежде назывался голландским. В городе разбивали сады, строили казармы, проектировали монументы. Красовался уже тогда и Цвингер, прелестная в своем роде игрушка, но он тогда был еще только надворным строением к проектируемому новому дворцу. Прекрасные померанцевые деревья, которые теперь украшают летом Цвингер, были привезены сюда в 1731 году как корабельный балласт и предназначались для токарных поделок. Их было четыреста штук, но когда деревья привезли в Дрезден, здесь вздумали их посадить в землю, и большая часть принялись.
В окрестностях Дрездена построены были замки Моритцбург, Губертсбург, летние дачи в Пильнице и т. п.
Король, видимо, состарился, хотя и бодрился, желая всемерно казаться молодым и свежим. Его силы и здоровье подорвались. Еще в 1697 году, гарцуя на коне перед княжной Любомирской, он упал, опасно повредил себе ногу, но не слушал врачей, которые советовали ему беречься. Это кончилось тем, что в 1727 году ему должны были отрезать на ноге палец, на котором образовалась гангрена. Хирург Вейс, производивший эту операцию чуть не под страхом смерти, был счастлив, что операция удалась как нельзя лучше; но, однако, с тех пор Август уже не мог ходить так хорошо, как прежде, и часто садился перед дамами.
В последний год он еще раз провел в Липске свою любимую новогоднюю ярмарку и затем торжественно открыл карнавал в Дрездене; а так как в скором времени должен был состояться сейм, то он 16 января отправился в Варшаву. Но это была его последняя поездка.
Зимняя дорога и новый ушиб ноги, полученный Августом при выходе из экипажа, снова вызвали гангрену, от которой его через три дня и не стало. Впрочем, и то удивительно, как он при своей бесшабашной жизни мог прожить до шестидесяти трех лет!
Когда весть о смерти Августа II дошла из Варшавы в Саксонию, тогдашний комендант Столпянской крепости сказал о новом государе графине Ко́зель.
Она выслушала эту весть стоя, долго стояла в безмолвии, а потом, всплеснув руками, упала, рыдая, наземь.
Заточение, жестокость и все другие испытанные ею несправедливости и унижения, как видно, не могли вытеснить из ее сердца страстной и глубокой любви, которую она питала к этому человеку, и когда его не стало более на земле, все злое ему было забыто, и с этой поры он снова был для нее только ее несравненным, ее возлюбленным Августом, которого она могла оплакивать со всей нежностью.
Через несколько дней в замок прибыл из Дрездена некто Геннике и приказал доложить графине, что он прислан к ней от нового курфюрста. Она, по обыкновению, сидела за своими книгами, но, услышав о приезде Геннике, приказала его просить.
— Ваше сиятельство, — сказал посланец, — я прибыл к вам по приказанию моего всемилостивейшего государя с тем, чтобы объявить вам, что вы свободны; вы можете хоть сию же минуту оставить этот замок и жить, где вам будет угодно.
Ко́зель посмотрела на привезшего ей эту новость, потом потерла рукой лоб и проговорила:
— Я свободна? Вы, кажется, это мне сказали. Я свободна оставить Столпянский замок хоть сию же минуту…
— Точно так, графиня.
— И могу жить, где я захочу?
— Где вам угодно.
Она покачала головой и, грустно улыбнувшись, начала как бы сама с собою:
— Свобода, свобода! Для чего ты мне теперь, когда весь мир мне чужд и я ему чужая? Куда я пойду? Где стану жить? Где мне угодно… Но мне, господин офицер, нигде не угодно жить.
Геннике молчал.
— Да, — повторила она, — эта свобода, этот дар нового государя, который вы привезли печальной арестантке, немножко запоздал и теперь ни на что мне не нужен. Свобода, то есть жизнь между людей, теперь для меня была бы не благополучием, а несносным бременем. Мне здесь лучше; я уже сроднилась с этими стенами; в них я прострадала в унижении и неволе долгие годы; в них я выплакала все мои слезы; в них успела отвыкнуть от самой свободы и не хочу с ними расстаться; не хочу жить нигде в другом месте! Возвратитесь, молодой человек, к вашему всемилостивейшему королю и передайте ему, что вы от меня слышали.
Геннике поклонился.
— Да, — продолжала Ко́зель, — доложите его величеству, что я шлю ему мой привет; желаю ему благополучно царствовать, к славе своей и на благо народу; а для себя прошу у него одной милости: дозволить мне остаться здесь, в этом замке, где я провела многие годы и хочу здесь же умереть.
Геннике отвечал, что он в точности доложит обо всем этом государю, и с тем откланялся и уехал.
Легко догадаться, что желание графини было удовлетворено, и она осталась жить в замке. Ей тогда, в 1733 году, исполнилось уже пятьдесят три года, и она не надеялась жить долго, но высшей волей было решено иначе.
Оставаясь обитательницей, но не арестанткой Столпянского замка, Ко́зель устроилась в башне очень удобно и по-прежнему неустанно занималась чтением. Вниманием ее преимущественно пользовались еврейские религиозные книги и вообще литература Востока и кабалистика. Она постоянно окружала себя евреями и через них доставала все, что ей было нужно. Пенсии в три тысячи талеров, которую она получала, ей было довольно и на жизнь и на покупку книг, а также на выкуп нескромных медалей, которые однажды после одного спора с ней приказал выбить Август II. Кроме этих нескромных медалей она скупала также редкие талеры, на которых королевский герб был соединен с ее гербом. Это было сделано по ее просьбе еще тогда, когда она думала, что имеет права второй жены Августа. Талеры эти, впрочем, были выпущены в самом незначительном количестве. После смерти Ко́зель несколько десятков штук этих монет нашли в ее кресле.
В тюрьме и на свободе Ко́зель сохраняла свою гордость и не изменила ей и теперь: всем местным чиновникам, духовным лицам, точно так же, как и простолюдинам, она говорила «ты» и лицам, посещавшим Столпень, приказывала объявлять свое благоволение. После семнадцатилетнего заточения при жизни Августа II она прожила здесь все время царствования Августа III и Брюля, обе силезские войны и всю семилетнюю войну, первый выстрел которой раздался под стенами этого замка.
Прусский генерал Вернер, подступив к этой защищенной несколькими инвалидами крепости, овладел ею.
Фридрих Великий во время войны аккуратно выплачивал графине Ко́зель назначенную ей пенсию; но только той дрянной монетой, которую тогда называли «ефраимитами». Ко́зель прибивала эти легковесные талеры гвоздиками к стенам.
XV
Во время занятия австрийцами Дрездена знаменитый принц де Линь, бывший тогда полковником драгунов, нарочно ездил в Столпень, чтобы представиться графине. Она его приняла и в первое же свидание с ним рассказала, что, изучив все главные религии, она нашла большие преимущества в гебраизме и исповедует еврейскую веру в единого Бога. Она говорила также принцу, что не скучает в Столпене и остается здесь, потому что ее никто в свете не знает, а знакомиться ей поздно, потому что остается немного жить. Ей тогда было уже восемьдесят два года; но она была еще так бодра, что после писала де Линю письмо, которое, впрочем, едва можно было разобрать, а понять и совсем невозможно: оно было полно мистических сопоставлений и магических формул.
Из других источников известно, что знаменитому в то время ориенталисту, суперинтенданту Боденсшатцу, графиня поручила перевести себе с еврейского языка книгу и послала ему за эту работу двадцать талеров при письме, которое подписала: «Barroneus Lobgesang». Окончив заказанную ему переводную работу, Боденсшатц получил еще шесть дукатов в награду. Потом она заказывала ему также переводы разных религиозных еврейских трактатов и платила по луидору за каждый параграф. Боденсшатц очень хотел знать, для кого он работает, но узнал только, что его письма и посылки, которые он адресовал в Дрезден, забирал какой-то посланец по имени Шмидефельдт, он же привозил и отправлял ему и ответы; больше же он ничего не допытался. Но наконец этот неизвестный корреспондент и заказчик сам пригласил Боденсшатца в Дрезден, предложив притом заплатить все его путевые издержки. Боденсшатц приехал, и кого же он нашел в Дрездене? Его встретила очень странная особа в полном облачении ветхозаветного первосвященника. Боденсшатц был поражен этой оригинальностью, но тотчас узнал в этой приехавшей для свидания с ним особе женщину. Это была Ко́зель. Они свиделись и долго беседовали, и после того еще неоднократно съезжались для совещаний по интересовавшему их предмету.
Графиня всегда принимала ученого дружески и жадно слушала его толкования Талмуда и других писаний еврейских ученых раввинов.
Ко́зель даже хлопотала через тогдашнего президента консистории графа Ганцендорфа, чтобы Боденсшатца назначили пробстом в Столпень, но это не состоялось, потому что Боденсшатц был отозван князем Байентцем. Впрочем, Боденсшатц и сам едва ли пожелал бы близкого сообщества графини, так как ему не нравились ее слишком резкие выпады против христианства.
Наконец 2 апреля 1765 года графиня Ко́зель скончалась, на восемьдесят пятом году от рождения; смерть ее была весьма тиха и покойна. 5 апреля ее смертные останки были самым скромным образом погребены в замковом костеле, но над могилой ее не сделали ни памятника, ни надписи.
Она оставила после себя троих детей, признанных королем. Граф Фридрих Август Ко́зель родился в 1712 году и был генералом кавалерии, шефом гвардии и владетелем замка, который носил имя Ко́зель. Фридрих Август Ко́зель был женат на девице Гальцендорф и скончался в 1770 году, оставив одного сына, который умер бездетным. Из дочерей графини Анны старшая — Августа Констанция — была выдана замуж за графа Фризена и принесла ему за собой в приданое Кенигсбрук; она умерла в 1737 году. Младшая же, Фредерика, родившаяся в 1709 году, вышла за подскарбия Фридерика Христиана Мошинского, который умер в 1737 году; а она пережила его почти на целое полустолетие и во время могущества Брюля играла очень видную роль в Саксонии. Ее богатый дом под названием «палаца Мошинских» снесен очень недавно. Он стоил целых бочек золота.
_____
Такова судьба описанной здесь женщины и ее блистательного потомства.
Не думаем, что мы должны уверять наших читателей, что история графини Ко́зель есть не вымысел, а история истинная.
Она несомненна и записана у многих современников той эпохи: Гакстгаузена, Пёльпитца, Лоена и других. Автор воспользовался только богатым материалом, оставленным современниками. Он представил здесь одну сторону царствования, которое отозвалось на Польше крайне пагубно. Саксонский двор испортил польские нравы. Под развращающим влиянием Августа явились такие семейства, как Белинские, Денгоф и Поцей, где женщины пользовались постыдными ласками короля, продавая ему себя за те или другие выгоды. Чудовищная, почти безумная роскошь Августа познакомила Польшу с такими потребностями, о каких не было и помину при доброй старопольской простоте, и что всего хуже, — раз войдя в нравы, эта расточительность уже не исчезала в стране, как исчезла оттуда саксонская династия. С тех пор крупные, характерные черты уступают место пронырливому мелкодушию интриганов; любовь к родине ослабевает, и начинают замечаться политическое торгашество и измена; роскошь вызывает повсеместную зависть; желание каждого тянуться за другими рождает такую сговорчивость совести о которой, вероятно, и не думали старопольские деды. Блеск и великолепие двора поражали слабые умы и увлекали их к разорительной переимчивости. И с тех пор пошел неслыханный прежде в польском обществе соблазн, к которому теперь все присмотрелись до того, что не обращают на него внимания, как будто это обыкновенное явление, которое так и должно быть… И все это шло так мягко, при такой веселой и блестящей обстановке… Но тем-то и хуже, что это шло при такой обстановке. Саксонцы обыкновенно любят приписывать свое разорение при Августе II расходам его на польскую корону и войнам, которые он должен был вести для того, чтобы сберечь ее; но едва ли это справедливо. Самого беглого просмотра бюджета того времени достаточно, чтобы убедиться, что никогда эта корона и поднимавшиеся из-за нее войны, подкупные сеймы и прочее не стоили Августу II столько, сколько пошло на безумные забавы его и его любовниц.
_____
Замок в Столпене еще стоит, но уже представляет ныне одни величественные руины. Впрочем, башня, где столько лет жила Ко́зель, довольно хорошо сохранилась, и в ней показывают комнаты графини и ее садик, но могила ее никому не известна.

I
Заботы Пшебендовской увенчались полным успехом. Август постепенно заинтересовался госпожою Денгоф и, идя быстрыми шагами к прямой цели, скоро был осчастливлен ее взаимностью.
Анна об этом знала: о ходе этой истории ей сообщали и ее друзья и люди Флемминга, в планы которого входило досаждать этим Ко́зель и выводить ее из терпения. А так как король довольно серьезно опасался ее ревности, то графиню окружили шпионами, которые были обязаны зорко за нею следить и рапортовать обо всем в Дрезден.
Август, очевидно, был уже очень рад от нее избавиться, для чего, как мы помним, и была дана Левендалю инструкция притвориться влюбленным в Анну и попытаться склонить ее к взаимности; но это, как ниже увидим, не удалось.
Примеры Кенигсмарк, Тешен, Шпигель и Эстерле, которые, потеряв любовь короля, нашли себе других утешителей, были некстати: Ко́зель на это нельзя было поддеть, и Левендаль, попытавшись изъясниться Анне в нежных чувствах, был ею выпровожен самым резким образом; а вдобавок она в тот же день сама рассказала о его наглости Гакстгаузену.
— О, — говорила она, — я уверена, что несколько месяцев тому назад этот негодяй и подумать бы не смел так оскорбить меня; но теперь другое дело.
Поступок Левендаля давал ясно чувствовать графине, что ее час пробил и она для сердца Августа не существует.
— Послушайте, Гакстгаузен, — спрашивала она, — скажите мне откровенно, что такое вокруг меня происходит?.. А?.. Вы молчите, ну, скажите мне, по крайней мере, что вы знаете об этой Денгоф?
— Право, я ничего не знаю, — отвечал Гакстгаузен, — конечно, я что-то слышал, но это может быть одна из миллиона сплетен, не более.
— Нет, Гакстгаузен, это гораздо более. К чему лгать себе, это совсем не сплетня. О, мой Боже! В какое грязное болото они затянули там бедного короля!
Получив уведомление от Левендаля, что его любовное коварство с Анной не удалось, Флемминг решился действовать иначе, гораздо бесцеремоннее, и с этой целью сам отправился назад в Дрезден.
Первым его делом здесь было объяснить Анне через Гакстгаузена, что королю понадобился дворец «четырех времен года» и что для графини по этому случаю приготовлено другое помещение, в частном доме.
Ко́зель снесла этот первый открытый удар от своего венчанного любовника со спокойствием, которое трудно было от нее ожидать.
Выслушав Гакстгаузена, она отвечала ему:
— Дворец этот подарил мне король, он же его может и взять назад, да я и не тужу об этом, мне теперь было бы слишком тяжело здесь оставаться, и я уйду отсюда даже с удовольствием.
Действительно, графиня через несколько дней уже переехала в свое новое жилище.
Но этого было мало. Опальную фаворитку ждали еще большие унижения, вытекавшие, разумеется, из необходимости удалить ее еще далее, что представлялось нужным ввиду тех угроз, которые сама же она имела неосторожность высказать.
Еще в 1705 году, в те дни, когда Август был страстно влюблен в Ко́зель, он подарил ей красивую деревеньку Пильницу, которая была раскинута на живописном берегу Эльбы. Здесь на самом берегу реки были очень хороший дом и усадьба, где Анна проводила иногда жаркое время года.
Местоположение этой усадьбы было очень красиво. Кругом зеленели леса, на севере виднелись горы; внизу плыла тихоструйная Эльба. Прямо перед окнами дома тонул в зелени густо заросший кустарниками остров. От Дрездена эта деревня была в нескольких часах. Вот сюда-то именно и хотелось Августу выпроводить Анну, чтобы, не стесняясь ее присутствием в столице, свободно перевезти сюда из Варшавы свою новую фаворитку.
Надрессированная матерью и Пшебендовской, госпожа Денгоф ни за что иначе не хотела оставить Варшаву. Она настаивала на том, чтобы Ко́зель была удалена из города, и у Августа не дрогнула рука подписать Флеммингу исполнить это новое желание.
Флемминг, которым весь этот план был сочинен и продиктован через Пшебендовскую, немедленно занялся его исполнением. С этой целью он призвал Гакстгаузена и поручил ему объявить королевскую волю графине.
— Будьте добры, передайте ей это щекотливое поручение, — обратился он к Гакстгаузену. — А так как графиня Ко́зель имеет охоту считать меня своим врагом и потому, пожалуй, способна будет заподозрить, что это я ее так упорно выживаю, то вот возьмите и прочтите собственноручное письмо нашего короля, оно даст вам право уверить ее, что все это идет не от меня и что ей не на кого пенять и нечего дожидаться, чтобы я был вынужден перевезти ее в Пильницу против ее желания. Идите, пожалуйста, к ней сейчас же и уговорите ее оставить Дрезден, и притом как можно скорее.
Гакстгаузен отправился и, застав Ко́зель в довольно хорошем расположении духа, начал шутливо:
— Ну, что касается меня, графиня, то я должен вам сказать, что теперь уже решительно не в состоянии спорить с вами, что наш король действительно неразборчив.
— А что такое?
— Говорят, эта Денгоф просто черт знает что… Меня сейчас один тонкий знаток сердечных дел уверял, что это невозможно, чтобы такая женщина, как Денгоф, могла пользоваться прочной привязанностью Августа, и я теперь более чем когда-нибудь уверен, что если вы не будете сами портить свое положение, раздражая Августа, то он снова будет у ваших ног.
Анна догадалась, что за этими словами скрывается что-нибудь недоброе, и, упорно глядя на Гакстгаузена, сказала:
— Вы пришли ко мне, конечно, с каким-то новым поручением… К чему заводить издалека? Говорите прямо, что еще королю угодно от меня потребовать?
Гакстгаузен участливо взглянул на нее и отвечал со вздохом:
— Вы отгадали, я пришел к вам с поручением.
— Так говорите же! В чем дело?
— Я был сейчас у Флемминга…
— Что же дальше?..
— Он показал мне собственноручное письмо короля.
— Что же угодно было его величеству написать в том письме?.. Да говорите же, Гакстгаузен! Ведь это смешно, вы за этим пришли и не решаетесь выговорить! Что требует от меня король Август?
— Он требует, чтобы вы, графиня, немедленно оставили Дрезден и переехали в ваше имение…
— В Пильницу?
— Да, графиня.
Анна молча закрыла белой ручкой свои прелестные глаза и тихо заплакала, а Гакстгаузен в это время успел ей досказать свой совет немедленно исполнить это требование, чтобы дело не дошло до насильственного вмешательства со стороны Флемминга.
— Поверьте, графиня, — заключил он, — что я вам желаю лучшего.
— Я вам верю, — отвечала, открывая лицо, Анна, — но вот только один вопрос…
— Сколько угодно.
— Вы сами видели королевский приказ о моей высылке?
— Я сам читал его, графиня.
На бледных щеках Анны выступил густой пунцовый румянец.
— Так вот это как! — проговорила она, задыхаясь от гнева. — Он меня прогоняет… И все это ради какой-то Денгоф, у которой недостает пальцев, чтобы перечесть всех ее любовников!.. Вот это истинно достойная короля Августа женщина… О, какое ужасное, какое тяжкое унижение!
Ко́зель горько заплакала и снова заговорила:
— Как я могла этого ожидать после того, как он мне клялся? И неужто столько лет самой верной любви для него не значат ничего?.. Ничего… ровно ничего!.. И эти три колыбели моих детей, которых он называл и своими, тоже ничего!.. И я должна доживать жизнь мою одинокой, а мои дети — сиротами… О, у этого человека в самом деле совсем нет сердца! Ему кажется, что все люди созданы только для его забав и развлечений и что каждого из них он может повертеть, изломать и бросить, да еще отшвырнуть ногой…
И с этими словами она снова закрыла руками лицо и, упав в кресло, тихо зарыдала.
Гакстгаузен воспользовался этим моментом.
— Графиня, — сказал он, — я уверен, что никто не стал бы находить ваши теперешние чувства слишком несдержанными, вы не можете не страдать, а, страдая, трудно безмолвствовать. Но как дело идет не о том, чтобы заслужить извинение в чувствах, а о том, чтобы поправить принявшее дурной оборот дело, то я, право, поступил бы не так, как вы поступаете…
— Что же бы вы сделали?
— Я бы прежде всего не плакал…
Анна отерла платком глаза и, через силу улыбнувшись, сказала:
— Ну, я не плачу, а что далее?
— Я бы сообразил все обстоятельства и оценил бы те из них, которые мне могут быть полезны. Прежде всего надо обмануть расчеты ваших врагов…
— Продолжайте, пожалуйста!
— Но кто ваши враги?..
— Весь Дрезден и больше всех Флемминг.
— Ну… тут опять ошибка: Флемминг совсем не так зол, как вы это себе представили; он выиграл свою ставку, и теперь ему с вами спорить не за что, а генерал Флемминг человек умный и из-за пустяков спорить не станет.
— Быть может.
— Поверьте, и если поверите, то это будет с вашей стороны первый практический шаг; я вам советую прежде разрушить ожидания Флемминга на счет возможного с вашей стороны упорства.
— То есть вы мне советуете выехать в Пильницу?
— Да, графиня, как это ни неприятно, но я это вам советую. Это разобьет соображения Флемминга и изменит его к вам отношения, а потом ваша уступчивость может возбудить раскаяние в самом короле, и тогда будет надежда, что дела когда-нибудь могут принять лучший оборот. Я прошу вас вспомнить графиню Кёнигсмарк, она своим смирением положительно выиграла и сумела сохранить добрые отношения с королем; княгиня Тешен сделала то же, и ей не только позволили оставаться в Дрездене, но она продолжала и видеться с королем. Эстерле действовала иначе и за то своим упорством отрезала себе навсегда вход ко двору.
— Но позвольте, — перебила нетерпеливо Анна, — вы, кажется, не замечаете, что все эти дамы мне не пример?! Эстерле, и Кёнигсмарк, и Тешен — это все были любовницы, а я имею такие же права, как его жена.
Гакстгаузен посмотрел на нее и не ответил. Анна переменила тон.
— Но во всяком случае, вы правы, — сказала она, — пусть будет по-вашему, я не хочу спорить с королем и завтра уеду.
Но прежде чем обрадованный таким исходом своих переговоров Гакстгаузен вышел, Ко́зель снова переменила свое намерение, она начала раздражаться, припоминать все измены и клятвы и кончила тем, что объявила нежелание выехать добровольно.
Напрасно убеждал ее Гакстгаузен, она три или четыре раза меняла свои решения и наконец совершенно отказалась повиноваться.
Анна, очевидно, не могла решить, что ей выбрать, а может быть, она еще и не совсем верила, что ее могут выслать насильно.
Но когда Гакстгаузен, истощив все свои доводы, должен был передать отказ графини Флеммингу и генерал пожаловал к ней сам, а в то же время под окнами Ко́зель показался отряд королевских телохранителей, то Анна увидела, что надо повиноваться, и через два дня тихо выехала в закрытом экипаже в Пильницу.
Все это произошло прежде, чем король возвратился из Варшавы в Дрезден, куда теперь была очищена дорога для его новой фаворитки.
Получая о всех этих событиях подробные отчеты в Варшаве, Август был очень рад, что удаление Ко́зель совершилось так благополучно, и даже в знак своего к ней благоволения пожелал вознаградить ее и для того, чтобы узнать, чего она желала, послал к ней в Пильницу некоего Ватцдорфа, довольно грубого человека, которого Август сам называл «мужиком из Майнсфельда».
Этот Ватцдорф имел самое ничтожное значение, но Флемминг ему, однако, покровительствовал, и вот этот «мужик из Майнсфельда» в один прекрасный день явился в Пильницу к отставной королевской фаворитке. Ватцдорф понимал дело по-своему и думал покуражиться над потерявшей силу Ко́зель, к тому же он был пьян и, войдя к графине без доклада, заговорил:
— A-а, милейшая графиня! Здравствуйте, здравствуйте! Я к вам послом от его королевского величества. Да, от его величества, добрый король не забыл вас и вам есть чему порадоваться…
— Что такое вы мне хотите сказать? — спросила недоумевающая Ко́зель, осматривая с головы до ног пьяную фигуру «мужика из Майнсфельда».
— Привожу вам отличные вести, графиня, — отвечал, интимно наклоняясь к ней, Ватцдорф. — Король… вы сами знаете… он ведь теперь мог бы вам ничего не дать, а он так не желает сделать… Он так милостив, что хочет расстаться с вами по-королевски… Хе, хе, хе, то есть, к взаимному удовольствию… слышите?
— Слышу, но ничего не понимаю, — гордо отвечала Ко́зель.
— A-а!.. Однако, какая же вы все-таки еще очаровательная! — воскликнул Ватцдорф и хотел взять ее за руку, но вдруг обнял ее с намерением поцеловать, но в то же самое мгновение перед его глазами мелькнула белая ручка и на щеке прозвучала громкая пощечина.
«Мужик из Майнсфельда» отскочил и воскликнул:
— Так вы вот как?
— Да, так, — отвечала графиня и, показывая на дверь, добавила: — Ступайте вон и скажите вашему милостивому королю, что он должен был знать, что такого невежу, как вы, ко мне посылать не следует.
Но нравы того времени были странные, и Ватцдорф, вместо того чтобы выйти, положил свою шляпу и сказал:
— Ну, вы меня проучили, графиня, теперь забудем об этом, я прошу у вас прощения, а пощечина от такой хорошенькой женщины совсем не бесчестье.
И «мужик из Майнсфельда» остался у Ко́зель откушать. Стараясь исполнить королевское поручение, он даже решился возвратиться опять к делу и снова заговаривал с графиней о том, что король готов ее облагодетельствовать, но Анна не намерена была продолжать разговор.
Ко́зель после этого хотела написать королю жалобу на Ватцдорфа и Левендаля, но раздумала: жалобы Август мог бы оставить без всякого внимания и тем только увеличил бы ее обиду.
Попытки же сблизить с кем-нибудь Анну еще не были оставлены, и на смену Левендалю и «мужику из Майнсфельда» появился некий Ван Тинен. Этот подставной любовник явился к Августу не в пору, когда король был выпивши, и так надоел пространностью доклада, что августейший повелитель прижал его к стене, схватил за шиворот и, бросив на пол, отколотил и руками и ногами чуть не до полусмерти. После такой трепки, разумеется, было не до сватовства и не до ухаживания, и тогда обратились к последнему, универсальному средству — клевете.
Сочинили, что Анна якобы имела когда-то тайную интрижку с братом того Лехерена, который, как, вероятно, помнит читатель, был серьезно приревнован Августом и выслан за границу. К нему послали поторговаться, сколько он возьмет, чтобы очернить невинную Анну, но и это не удалось. Однако, Анна, видя, что ее так дружно атакуют, могла ожидать, что умыслы на этом не остановятся, и чтобы положить всем этим историям конец, выкинула сама такую неожиданную штуку, что всех привела в недоумение и, почти без преувеличения можно сказать, возмутила мир и покой в обоих государствах, короны которых лежали на одном венценосце.
В один, для многих весьма неприятный, день в Дрездене узнали, что в Пильнице случилось большое происшествие — графиня Анна Козель пропала!..
Подозрения прямо падали на то, что она уехала в Варшаву с намерением увидеться с Августом и нажаловаться ему, а может быть, и привести в исполнение одну из своих безумных угроз. О побеге ее тотчас же послано было известие в Варшаву, и вместе с тем приняты все возможные по тогдашнему времени меры, чтобы выследить ее путь и задержать ее.
В Варшаве весть эта произвела страшную тревогу. Прибытие Ко́зель пугало не столько саму новую фаворитку, сколько тех, которые ею орудовали; а потому здесь был составлен совет, на котором Денгоф получила обстоятельную инструкцию, как ей действовать, и когда Август по своему обыкновению посетил ее, она встретила его с притворным волнением и слезами, в чем прекрасная кокетка оказалась довольно искусной. Она притворилась так углубленной в свое горе, что будто даже не заметила королевского прихода, и на вопрос о причине своей грусти как бы нехотя созналась, что она боится Анны Ко́зель.
— Ко́зель едет сюда в Варшаву. Быть может, она уже здесь!.. Она способна убить меня, но это ничто в сравнении с тем, что… Меня, быть может, ждет другая гибель… Государь!.. Что это?.. Мне кажется… быть может, вы пришли теперь ко мне за тем, чтобы объявить мне, что я… что вы… должны меня оставить?
— Ты бредишь! — шутливо перебил ее король. — Напротив, твой милый характер и доброта так меня к тебе привязали, что я и в помыслах не имею с тобой расстаться. Успокойся, тебе Ко́зель не опасна.
— О, благодарю вас, благодарю вас, государь, за эти добрые речи! Но не осудите меня, что я так встревожена и не могу прийти в себя.
— Чего же ты тревожишься? — спросил, лаская молодую женщину, Август.
— Да ведь она все-таки приедет сюда, — шепотом отвечала Денгоф.
— Ну, если бы и так, что же дальше?
— Вы к ней привязаны, государь.
— Был.
— Что было, то может возвратиться.
— Перестаньте говорить такие пустяки!
— Это не пустяки, государь: всем известно, какую власть имела над вами Ко́зель.
Такое напоминание было острым ударом в сердце Августа, который теперь стыдился уже своего потворства прихотям Анны и, перебив Денгоф, резко заметил:
— Я вам говорю, что все это пустяки, вздор, никакой власти она надо мной не имеет… да и не имела и… не будет иметь.
Во время этого разговора мать новой фаворитки стояла за дверями, и чуть только дочь ее при последних словах условно кашлянула, почтенная дама и явилась. Она вошла, как будто не зная о том, что найдет здесь короля, и начала извиняться.
— Помилуйте, я очень рад, что вас вижу, — воскликнул Август. — Помогите мне, пожалуйста, успокоить вашу дочь!
— Что с тобой, мое дитя?.. А?.. Что с ней, государь? Ага, если я отгадала, она немножко ревнует, ну, что делать: маленькая ревность только делает приятнее удовольствия любви.
— Да вы послушайте, из каких все это пустяков…
И он рассказал старухе свой разговор с ее дочерью.
— Вы меня извините, ваше величество, если я буду откровенна? — нахмурилась Белинская.
— Пожалуйста!
— Я не удивляюсь беспокойству моей дочери; неистовый и бешеный нрав графини Ко́зель известен всему свету, равно как и ее угрозы, которые она может привести в действие.
— Да, если ее допустят.
— А кто может ее не допустить, государь? Конечно, одни вы.
— Да, я.
Белинская молча пожала плечами.
— Что же, вы не верите, что ли, этому? — подхватил Август. — Но тогда я для вашего успокоения сейчас же отдам приказ, чтобы Ко́зель вернули с дороги обратно в Дрезден.
— Будто вы это сделаете, государь?
— А отчего же нет?
Белинская сжала руки и воскликнула:
— О, моя дочь, о, моя Марися, в таком случае тебе не о чем плакать! Ты можешь быть названа счастливейшей из женщин. Но я осмелюсь вашему величеству доложить, что Ко́зель слишком избалована вашей снисходительностью: она может не послушаться приказа и не возвратиться. Мне кажется, что для этого дела надо послать человека очень надежного, который сумел бы быть твердым и даже, если нужно, решительным.
— Конечно! — воскликнул король, немного утомленный всей этой сценой. — Кто здесь, по-вашему, такой человек?
Такой человек был наготове, его звали Монтаргон; он был француз, прибывший в Польшу с Полиньяком и много обязанный Белинским, которые вывели его в камергеры. Король тотчас же согласился послать Монтаргона навстречу Анне, и когда услужливый француз явился, король сам приказал ему предупредить приезд Анны в Варшаву и вернуть ее с дороги назад в Пильницу.
— А что я должен делать, государь, если графиня не захочет подчиниться приказанию вашего королевского величества? — спросил Монтаргон.
Король подумал с минуту и отвечал:
— На этот случай я дам вам в помощь подполковника моих кавалергардов Ла-Гайе и шесть человек гвардейцев. Этого, надеюсь, слишком довольно, чтобы приказание мое было исполнено.
Не теряя времени, послали за Ла-Гайе, который получил приказ из уст самого короля, и отряд в ту же ночь выступил по дороге, ведущей из Варшавы к Дрездену.
Анне нелегко было ускользнуть от этих сыщиков и еще труднее им сопротивляться.
II
Решившись во что бы то ни стало увидеть короля и лично защитить перед ним свое дело, графиня Ко́зель пустилась в путь с небольшой свитой из своих людей. Они ехали почти без отдыха, заботясь о том, чтобы весть о ее выезде не опередила ее прибытия в Варшаву.
Заклик сопровождал графиню. Хмурый, сосредоточенный на положении своей госпожи, он в молчании ехал всю дорогу возле кареты. Он теперь был для нее более, чем слуга: он хранил ее тайны.
Перед выездом из Пильницы графиня позвала его к себе и сказала:
— Слушайте, Заклик, меня все оставили, около меня нет ни одного человека, на которого я могла бы положиться.
— Вы на меня можете положиться, — коротко отвечал Заклик.
Она взглянула на него и спросила:
— Вы меня не покинете?
— Никогда! — отвечал он.
— Я вам верю.
Заклик торжественно поднял вверх два пальца и, как бы присягая, твердо проговорил:
— Клянусь!
— Хорошо, я должна доверить вам все, что имею самого дорогого. Обещайте мне, что вы разве только вместе со своей жизнью отдадите то, что я вам вверю.
— Это так будет, — ответил Заклик и снова клятвенно поднял вверх руку.
— Об этом никто не должен знать!
— Никто не будет знать, графиня.
— Но вам я должна открыть, что именно вы будете беречь.
— Разве это нужно, чтобы я знал?
— Да, это нужно.
— В таком случае, как вам угодно, я буду нем, как рыба.
— Слушайте, несколько лет назад, когда король развел меня с мужем, он выдал мне письменное обещание, скрепленное его печатью, что в случае смерти королевы он на мне должен жениться. Понимаете?
— Как нельзя лучше, графиня.
— Я всегда берегла эту бумагу у себя, но теперь… я опасаюсь…
— Вы хорошо делаете, что опасаетесь.
— Они могут ее у меня отнять.
— Могут, графиня.
— Когда они не найдут у меня этой бумаги, они могут ее требовать, могут допытываться, где она, но я им этого не скажу. Они, может быть, прибегнут и к пыткам, но и пытками не заставят меня сказать, куда я ее дела. Но куда же я ее спрячу? Замуровать ее в стену, но меня могут изгнать из Саксонии, и тогда бумага эта для меня навсегда пропала…
— Отдайте ее мне.
— Да, я вам отдам ее.
И выговорив это, Ко́зель вздохнула и, открыв выложенную серебром и слоновой костью шкатулку, вынула оттуда золотую коробочку, а из коробочки кожаный мешочек с печатями и шелковым шнурком.
— Вот, — сказала она, — возьмите и помните, что я вам все мое вверила!
Заклик упал на колени и в глазах его заблестели слезы; он поцеловал руку графини и взял мешочек, спрятал его на груди.
— Теперь едем! — сказала Ко́зель. — Я не знаю, что может с нами случиться дорогой, но на всякий случай нам нужны деньги, вот золото, возьмите его тоже к себе.
И она подала Заклику зеленый мешок с полновесными червонцами.
И у Заклика и у Ко́зель были при себе заряженные пистолеты.
Путешествие их шло благополучно и быстро до самой Видавы, небольшого городка на границе Шлезвига. Здесь они должны были остановиться для отдыха. Утомленная графиня приказала изготовить на скорую руку обед и заняла лучший да, пожалуй, и единственный постоялый двор. На том же дворе стояли с десяток лошадей какого-то отряда драбантов, возвращавшихся, как можно было думать, в Саксонию. Заклик занял свой сторожевой пост вблизи покоя, где расположилась графиня; но только он хотел немножко отдохнуть, как появились Монтаргон и Ла-Гайе и просили его доложить о них графине. Они сказали, что, встретившись с ней в дороге, рады были бы засвидетельствовать ей свое почтение.
Из этих людей одного графиня едва знала, а другой вовсе ей не был известен, и потому она отчасти удивилась их желанию видеться, но, не подозревая никакой опасности, велела их просить.
Она любезно приняла обоих офицеров, и так как ее обед был готов, то пригласила их разделить с ней скромную дорожную трапезу, в конце которой Монтаргон и приступил к исполнению своего поручения.
Поговорив во время обеда о варшавских делах, он сказал:
— Мне кажется, графиня, что вы напрасно предприняли это путешествие, король теперь слишком занят и вы можете быть поставлены в неприятное положение.
Выслушав это, Ко́зель нахмурила брови и проговорила:
— А мне кажется, что я тоже достаточно знаю короля, и не думаю, чтобы мой приезд был такой большой неловкостью, как это почему-то вам кажется.
Монтаргон смешался и сказал:
— В таком случае я, разумеется, должен вас просить простить мне мою неловкость.
— Нет, я вам ее не прощу, — отвечала Ко́зель, — и не прощу именно потому, что это не столько неловкость, сколько невежливость! Я ведь не просила у вас совета?
— Не просили, графиня.
— С какой же стати вы мне его подали?
— Имел к тому очень важную причину, — отвечал, волнуясь, Монтаргон.
— При-ичину?
— Да, графиня, и как я уже смел вам доложить, очень важную!
— Прошу вас мне ее объяснить.
— Извольте, я имею поручение сказать вам это от лица его величества моего короля!
— От вашего короля?
— Точно так, графиня.
— Ну, так вы, значит, исполнили ваше поручение и все, что вам велено было сказать, мне сказали, а теперь…
Она привстала с места и добавила:
— Теперь вы можете ехать своим путем, а я поеду своим.
— О, если бы это было так, графиня! — воскликнул Монтаргон.
Анне показалось, что она ослышалась, и она переспросила:
— Что вы сказали?
— Я сказал: о, если бы это было так; я был бы весьма рад, если бы каждый из нас волен был ехать своей дорогой.
— То есть как это?.. Что вы этим хотите сказать?
— Ничего кроме того, что я был бы очень рад, если бы вы могли продолжать вашу дорогу.
— Отчего же нет?
— Вы этого не можете, графиня.
— Как не могу?
— Не можете.
— Но кто мне смеет помешать?
— Я… если…
— Если что такое?
— Если вам неугодно будет поверить моим словам и возвратиться добровольно в Пильницу.
— Как! — вскрикнула, порываясь с места, Ко́зель. — Так вы даже готовы удержать меня силой?
— Я имею на это положительный приказ короля и должен вернуть вас в Дрезден.
Графиней овладело бешенство, и она, вспомнив, что отец Монтаргона был где-то писарем, закричала:
— Вон с моих глаз, писаришка! — и с этим она выхватила пистолет. — Сейчас же вон отсюда, или я раздроблю тебе череп!
В дверях показался Заклик.
Монтаргон знал, с кем он имеет дело, и, не желая раздражать Ко́зель, поспешно встал и вышел; с графиней с глазу на глаз остался один Ла-Гайе, который, видя неудачу товарища, заговорил еще мягче:
— Напрасно гневаетесь, графиня; есть очень умная пословица, что послов не бранят и не бьют, а жалуют. С послов взыскивать нечего; они, может быть, и сами не рады тому, за чем посланы, но должны исполнять волю пославшего. Наверное, ни один из нас не счел для себя удовольствием огорчать такую особу, как вы, сообщением вам суровых королевских приказов…
— Вы видели короля? — перебила Анна.
— Видел перед самым выездом навстречу вам, куда отправился по личному его приказанию с поручением, смысл которого, мне кажется, вам должен быть ясен.
— Вам приказано не допустить меня в Варшаву?
— Я очень счастлив, что вы сами изволили это выговорить, — отвечал с низким придворным поклоном воспитанный Ла-Гайе.
Ко́зель поникла головою и смирилась. В результате вышло то, что она в Варшаве не была, а возвратилась к себе в Пильницу. Монтаргон об этом немедленно же послал известие в Варшаву, а сам с отрядом издали провожал Ко́зель до места ее почетного заточения.
Между тем госпожа Денгоф в Варшаве все чаще и чаще появлялась при короле. Солидные люди резко осуждали такое соблазнительное поведение замужней дамы высшего общества. Скандал представлялся тем чувствительнее, что во всей этой интриге роль помощниц играли мать фаворитки и другие ее родственники. Старопольские добрые нравы этого не переносили, и друзья отсутствующего Денгофа вызывали его как можно скорее в Варшаву; королевские клевреты старались удержать его в деревне, как некогда они удерживали прежнего мужа Анны, Гойма. Денгоф и не мог приехать, но он зато так настойчиво требовал к себе жену, что Белинская встревожилась этой столь несвоевременной настойчивостью и сама полетела к беспокойному зятю.
Теща и зять, как только свиделись, так тотчас же и объяснились начистоту.
— Я вас прошу, чтобы вы нас с дочерью оставили в покое, — заговорила Белинская. — И с чего вы это, право, выдумали ее к себе требовать? Любезный зятюшка, нам нельзя исполнять таких ваших фантазий: наши дела очень худы и их надо поправить, а в таком положении королями не бросаются. Я не буду делать из пустяков секрета: король влюблен в вашу жену и… вам ревновать ее уже поздно; а притом мы и не пожертвуем счастьем всей семьи для какого бы то ни было предрассудка. Мы, вот что, будем говорить откровенно: мы с Марисею предлагаем вам на выбор: или не мешать Марисе жить, как она хочет и как она уже живет, и за это пользоваться разными монаршими милостями…
— Гм, какими это? — перебил сухо Денгоф.
— Ну, мало ли какими? Я не знаю, чего бы вы хотели и что вам нужно, но все это мы, конечно, могли бы вам добыть у его милости короля; или же соглашайтесь на развод. Папский нунций в угоду его величеству немедленно добудет в Риме развод моей дочери.
— Да, если вы, моя почтеннейшая теща, стали уже так решительны и сильны при его милости короле, то, пожалуйста, позаботьтесь о разводе, — отвечал Денгоф.
— Как! Так вы согласны?
— А еще бы! Неужто вы думали, что делиться женою составляет большое удовольствие? Что до меня, то я, признаюсь, не чувствую к этому никакой охоты.
— Что же, и прекрасно, вы получите развод.
— Очень рад буду расстаться навсегда с вашей Марисею, и чем скорее, тем лучше.
— Нунций сделает это очень скоро.
— Очень ему буду благодарен.
Белинская не ожидала такого исхода; она была удивлена, что Денгоф так мало дорожил ее ветреной Марисей и так охотно и совершенно бескорыстно согласился на развод с нею.
Дело это тут же было решено и вскоре же исполнено почти с невероятной быстротою: папа в угоду Августу дал желанный развод, и нунций поздравил наследницу Анны со свободой от уз брака.
Происшествие это совпало со смертью маршала Белинского, оставившего все свои имущественные дела в таком беспорядке, что дочь его, по советам матери, немедленно принялась для поправления их за королевскую кассу.
Началось это с того, что покойному отцу новой фаворитки были справлены за королевский счет самые пышные похороны, на которые охотно сбежалась глазеть чуть не вся Варшава, а потом чувствительное сердце Августа II было тронуто участью сирот покойника, и с тех пор щедроты его величества рекою полились на осиротевшее семейство. Хроника того времени гласит, что сама госпожа Денгоф была неалчна и не мастерица наживаться, но зато ее мать беспрестанно что-нибудь себе просила и всегда чрезвычайно удачно.
Между тем король Август, несмотря на вкушаемые им удовольствия новой любви, уже тяготился пребыванием в Варшаве, где не было многих его любимых саксонских удовольствий, и он рвался в Дрезден. В известных сферах было решено, что за королем туда же последует Марися Денгоф, а за нею — чада и домочадцы дома Белинских. Лица, заправлявшие вместо легкомысленной Денгоф всей ее судьбою и через нее устраивавшие свои делишки, заботились, чтобы этим переездом добыть как можно более уступок в пользу новой фаворитки. Старая же фаворитка еще казалась некоторым из них опасной. Мало того, что Анна уже была теперь осуждена на безвыездное пребывание в Пильнице; Флемминг представлял королю всю неосторожность данного им Ко́зель письменного обещания на ней жениться и настаивал на необходимости отобрать у Анны этот скандальный документ, способный компрометировать Августа если не перед современниками, то перед судом истории, которым обязаны дорожить венценосцы.
Так как план этот не был в разладе с собственными желаниями Августа, то он охотно согласился с доводами Флемминга и командировал уже известного нам «мужика из Майнсфельда» с предложением вытребовать у графини Ко́зель бумагу, которой та, как мы знаем, дорожила более всего на свете и вверила ее на сохранение Заклику.
И вот Ватцдорф снова явился к графине в Пильницу; он был теперь много опытнее и держался умнее и даже, надо признать, исполнил возложенное на него поручение с некоторой вежливостью, хотя, впрочем, без всякого успеха.
В ответ на вежливые приветствия «мужика из Майнсфельда» графиня стала жаловаться, что с нею поступают слишком жестоко, но на сделку никаких надежд не подавала.
— Я не знаю, — говорила она, — чем я заслужила все то, что переношу: мне приказывают отречься от любви; меня выгоняют из подаренного мне дворца, высылают меня из Дрездена, сажают сюда в Пильницу, не позволяют мне видеть короля и возвращают меня с полпути из Варшавы, и я всему этому покоряюсь, а ненависть не унимается. Я слышу, что там все кричат, что я зла, дерзка и мстительна; все это, конечно, для того, чтобы представить опасным мое мнимое бешенство и подготовить мне еще что-нибудь более худшее… О, я ведь недаром восемь лет прожила между этими людьми: я их понимаю.
— Вот уж что правда, то правда; вы их действительно понимаете, — засмеялся Ватцдорф. — Но только знаете ли вы то, что от вас зависит одним приемом разуверить короля в справедливости всех слухов, распущенных о вашей строптивости?
— Каким это образом?
— У вас есть от короля какая-то бумажка?
Ко́зель догадалась, о чем идет дело, и сдержанно отвечала:
— И, вероятно, не одна, а очень много, любезный Ватцдорф.
— Да, но дело, собственно, об одной.
— О какой же это?
— О той, по которой он обещал на вас жениться.
— Что же, не хотите ли вы, чтобы я ее отдала вам?
— Именно, возвратите ее королю.
Ко́зель только молча на него посмотрела.
— Что вы так смотрите? — переспросил Ватцдорф. — Право, возвратите!
— Я смотрю на вас, потому что думаю: не с ума ли вы сошли?
— Я? Нет. Я все с тем же рассудком, с которым век прожил до сих пор; а вот чему вы в моих словах дивитесь, я этого понять не могу.
— Как не можете?
— Не могу, да и полно.
— Но эта бумага… это обещание…
— Пустяки.
— Она мне дороже всего на свете.
— Право, пустяки.
— Как пустяки! Это все мое оправдание и вся моя защита.
Ватцдорф захохотал во все горло.
— Чего же вы смеетесь? — спросила с обидой в голосе Ко́зель.
— Да как же не смеяться, графиня, что вы все еще повторяете эту старую песню и верите в какие-то несбыточные обещания.
— А почему они несбыточны?
— Почему? Ну, мало ли почему.
— Ну, например?
— Да есть много причин. Во-первых, наша королева жива и здорова; а во-вторых… да во-вторых, впрочем, пока ничего и не надо. Одно только заметьте, что если не исполнены условия Альтранштадтского мира, то что могут значить все другие условия, если король не захочет ими стесняться?
— Но в том-то и дело, что я считаю короля честным человеком, который не мальчик и знает, что он обещает и зачем обещает, я привыкла верить его обещаниям.
Она встала и начала нетерпеливо ходить по комнате.
— А по-моему, вы все не о том говорите, — сказал Ватцдорф. — Совсем не это вам нужно.
— Что же, по вашему мнению, мне нужно?
— Извольте, я вам скажу, но только совершенно откровенно.
— Говорите.
— Король вас очень жалеет… Да, он чувствует к вам признательность. Он рад бы сделать все, что может для вашего счастья… Конечно, нельзя и не должно домогаться чего-нибудь невозможного, но любовным шуткам вроде его обещания не должно придавать такого значения, какого они никогда не имели и иметь не могут. Вы эту королевскую бумажку отдайте, а за нее потребуйте себе что посущественнее.
Ко́зель быстро повернулась к нему и спросила:
— Вы, без шуток, за ней и приехали?
— Без всяких шуток, графиня: за ней.
— Ну, так возвращайтесь назад, — отрезала Ко́зель.
— Что же, не отдадите?
— Нет, пока я жива, я никому ее не отдам! Это защита моей чести, а моя честь мне дороже, чем сама жизнь.
— Ах, Боже мой, да какая это защита? Ведь вы должны же признать, что этот документ ничего не значит!
— В таком случае, зачем же вы хотите его у меня отобрать? Нет, любезный Ватцдорф, он, верно, что-то значит… Не тратьте же попусту время, а возвращайтесь туда, откуда прибыли, и скажите, что я бумагу не отдам.
С этим она холодно повернулась спиной и хотела выйти, но Ватцдорф удержал ее.
— Позвольте, графиня! — сказал он. — Подумали ли вы о всех последствиях, которые может повлечь ваш отказ? Вы ведь, может быть, заставите короля прибегнуть к самым крайним мерам.
— Так что же?
— Он может употребить силу!
— Я в этом и не сомневаюсь.
— И тогда эта в существе своем ничтожная бумага будет взята у вас.
— Пускай же попробуют!
— Чего же вы достигнете?
— Я?
Она подняла голову и с твердым спокойствием проговорила:
— Я хочу, чтобы свет знал, как гнусно была я обманута и какой предательской подлостью я доведена до нынешнего моего положения.
Из ее глаз брызнули слезы, и она добавила:
— Но знаете ли что, я еще должна вам сказать, что я даже не верю, чтобы вы все это требовали по королевской воле.
Посол вместо ответа расстегнул сюртук и, достав из кармана собственноручное письмо короля, подал его Анне.
Она пробежала листок и презрительно его отбросила.
— Что же вы на это скажете, графиня?
— То, что это для меня неубедительно.
— Как! Для вас неубедительно собственноручное письмо короля?
— Как вы, однако, странны; но разве то письмо, за которым вы приехали и которого от меня добиваетесь, тоже писано не самим королем?
— Что же из этого? — спросил растерявшийся Ватцдорф.
— А то, что если король отрекается от своего собственноручного письма, которое он писал мне с клятвой в верности своих слов, то ему не труднее будет отречься от того, которое вы носите в вашем кармане. Не тратьте же больше время и доложите, что просьбы ваши на меня не имели влияния, а угроз я никаких не боюсь и их не послушаю.
С этим она во второй раз встала и спокойно вышла, оставив посреди комнаты одного Ватцдорфа, который думал теперь, как он будет докладывать в Дрезден о своем неудачном посольстве.
III
Есть люди, в которых несчастье других возбуждает не участие и не сожаление, а только одно любопытство. Такова была известная нам по этой повести госпожа Глазенапп.
Опала, постигшая графиню Ко́зель, возбуждала в ней неутолимое любопытство, которому она не в силах была противиться, и в один прекрасный день она явилась к пильницкой затворнице. Баронесса имела немало оснований опасаться, что графиня ее не примет, и потому она стала заглядывать в окна и, заметив в одном из них Анну, постучала:
— Здравствуй, здравствуй, мой дорогой дружок! Моя милая графиня, не прячься, мой ангел, я знаю, что ты не совсем доверяешь моим чувствам; Бог тебе простит это, и я прощаю. А теперь я к тебе и с самыми добрыми намерениями и с самыми интересными новостями, и потому ты должна пустить меня к себе!
После такого натиска некуда было деться, и баронесса была принята. Вертясь перед зеркалом и поправляя свою растрепанную в дороге прическу, докучливая гостья тотчас же затараторила:
— Я хотела доказать тебе, что у меня есть сердце, и хотя я знаю, что мне в этом отказывают, но поверь, что это неправда. Мне так надоели все интриги столицы, что я завидую твоему уединению! Чтобы жить при нашем дворе, надо с ума сойти, а здесь в Пильнице так тихо и мило, что тебе, чай, совсем было бы хорошо, если бы только тебя здесь оставили в покое. Но этого-то, я думаю, и нет: эта мерзкая Денгоф готова бы тебя и отсюда выгнать.
Графиню покоробило.
— Право, — продолжала Глазенапп, — ведь этой скверной бабенке все мерещится, что ты ее подстрелишь. Ей и конвой дали для охраны, как же, подполковник Хатира и шесть кавалергардов оберегают ее от твоих покушений. Ничего, я думаю, что эта гвардия ей не была бы противна даже и в том случае, если бы она ничего не боялась. Ты знаешь, ее пока поместили у Фюрстенберга, а потом построят для нее дворец. Только не запоздала бы постройка окончиться после конца ее царствования.
— Да ведь там есть готовый дворец!
— Какой это?
— В котором жила я.
— О! Тот, мой друг, уже предназначен для курфюрста. Да никакой дворец ей и не понадобится: рассказывают, что на одной из вечеринок, которыми их тешит Фюрстенберг, король, сильно подпивши, уже раз порядочно оттрепал эту свою милую даму и назвал ее таким мерзким именем, которого она и на самом деле заслуживает… Впрочем, она таким обращением не огорчается, она так добра, понимаешь, что ни за чем не постоит.
Глазенапп нагнулась к лицу Анны и, приложив к губам палец, добавила:
— Король ужасно изменяется, в нем совсем не стало прежней веселости; постоянно суров и… зол.
— В отношении меня… это, кажется, так, — проговорила Ко́зель.
— Ну, да в отношении тебя нечего и говорить, но тут это совершенно естественно! Сильная любовь никогда не кончается иначе, как ненавистью, а он и со всеми-то стал страшно жесток и несправедлив. Я думаю, ты слышала, что случилось с Яблоновским?
— Я ни о ком и ни о чем здесь не слышу, — отозвалась Ко́зель.
— Да, но ты ведь все-таки знаешь, однако, как много обязан был Август гетману, а особенно галицкому воеводе, который склонил гетмана на его сторону; а как ты думаешь, что теперь с этим воеводой? Он сидит в Кёнигштейне, в комнате Бейхлинга!
Ко́зель посмотрела на свою гостью с непритворным удивлением, а та продолжала:
— Да, да, его взяли в Варшаве из того самого дома, где он уговаривал отца перейти на нашу сторону, и вдобавок, арест этот пришелся в тот самый день, в который, год тому назад, они выезжали на границу приветствовать курфюрста.
— Это просто невозможно! — воскликнула Ко́зель.
— Да, и я готова была бы говорить, что это невозможно, но тем не менее это уже случилось, — продолжала гостья.
— Что же сделал этот воевода? — спросила Ко́зель.
— Говорят, что в то самое время, когда король упрочивал себе Денгоф, этот прямой человек на съезде этих бритых польских голов заговорил, что король подает дурной пример в семейной жизни и портит нравы в Польше, как испортил их в Саксонии. С их точки зрения, он выходил будто бы государственным преступником… Вообрази себе, король — государственный преступник! — воскликнула Глазенапп. — Как тебе это кажется? О, неоцененный Яблоновский! Говорят, что он таким образом заговорил в пользу Лещинского, который, по крайней мере, не развращал их жен. Августа, разумеется, огорчило более всего то, что ему мешали свободно тешиться с его Денгоф. За Яблоновским установили шпионство, перехватили какое-то его письмо, взяли какого-то писаря, который Бог весть что напутал на допросе, и король нашел достаточную причину без всякой церемонии и без всякого суда посадить Яблоновского в Кёнигштейн.
Ко́зель слушала равнодушно.
— Сообрази же теперь, моя дорогая, — докончила Глазенапп, — если не церемонятся с воеводами, то что же значим мы, бедные женщины, когда мы больше не нужны и от нас хотят избавиться?
Рассказ баронессы Глазенапп произвел на Ко́зель сильное впечатление. Воевода галицкий в Кёнигштейне, и посажен туда без суда и притом за польское дело, а заключен в Саксонии… Все это действительно было тогда как-то необыкновенно и обозначало в самовластии Августа какую-то новую фазу; но Глазенапп переменила тон и перешла к веселым сплетням. Она сообщила, что Денгоф никто не видит на придворных балах, вероятно, потому, что она никак не осмелится быть представленной королеве. Поэтому, продолжала рассказчица, маскарады стали гораздо чаще, чем балы. Короля, впрочем, также нигде почти не видно, потому что он все еще ею занят и сидит с ней. На одном ужине Киан, как я слышала, вместо того чтобы провозгласить тост за здоровье короля, пригласил всех к молебствию, чтобы Господь соблаговолил освободить Августа из польского плена.
На губах Ко́зель скользнула улыбка.
— На другой же день, — прибавила Глазенапп, — кто-то подхватил остроумную выходку Киана и прибил к Георгиевским воротам и к костелу воззвание ко всем христианам о молитвах за Августа. Король, как я слышала, очень над этим смеялся, но, однако, приказал отыскать того, кто это сделал… Но вряд ли, однако, найдут.
Неутомимо сплетничая до самого обеда, баронесса осталась здесь и откушать, а потом пожелала посмотреть сад и старую липовую аллею, где под открытым небом ею снова овладела откровенность.
— Все вы считаете меня злой интриганкой, — заговорила она, — и это отчасти правда, но только отчасти: я действительно люблю отомстить моим врагам, но зато, кто мне сделал какое-нибудь одолжение, я это ценю и помню, а ты была добра ко мне, и я за то открою тебе очень важный секрет…
— Нужно ли это? — спросила, слегка наморщив лоб, Анна.
— Да, это для тебя очень важно. У тебя хотят отнять бумагу…
— Какую бумагу? — с показным спокойствием спросила графиня.
— Ну, перестань притворяться, ты очень хорошо знаешь, в чем дело, потому что за этой бумагой к тебе присылали сюда Ватцдорфа. Так вот знай, что в случае твоего несогласия отдать ее добровольно бумага будет взята насильно.
— Очень благодарна за предупреждение, — отозвалась Ко́зель, — но только все это напрасно, потому что такой бумаги, какой от меня добиваются, у меня нет.
— Где же она?
— Где она? — переспросила, улыбнувшись, Ко́зель.
— Да.
— Тебе хотелось бы это знать?
— Да, то есть, так… разумеется, если ты хочешь мне это сказать.
— Отчего же, я отвечу откровенно. Бумага, о которой вы хлопочете, находится в очень верных руках. Надо признаться, что я ведь этого давно ожидала и приняла свои меры.
Глазенапп посмотрела на графиню долгим, пристальным взглядом, как бы желая прочитать на ее лице, правду ли она говорит; но Ко́зель казалась очень искренней и спокойной. Она, конечно, понимала, что баронесса Глазенапп для того к ней и пожаловала, чтобы, начав с простых сплетен, выпытать кое-что о бумаге. С этим ответом баронесса и уехала назад в Дрезден.
Проводив глазами экипаж баронессы, графиня тотчас же приказала позвать к себе Заклика.
Опасаясь быть подслушанной в своем собственном доме, она вышла с ним в сад, как будто для некоторых хозяйственных распоряжений, и сказала:
— Я подозреваю, что нас здесь окружают шпионы.
— В этом и сомневаться нельзя, графиня, я ни за кого в доме не поручусь, — отвечал Заклик. — А хуже всех Готлиб; я уверен, что он доносит обо всем, что тут делается. Впрочем, он человек недалекий и его ничего не стоит провести.
— Готлиб? Возможно ли, чтобы он за мной шпионил! — воскликнула графиня.
— Это вы потому так думаете, что он более всех лезет к вам со своей преданностью? Не верьте ему, это все притворство, с тем чтобы вкрасться в доверие.
— Скажите мне, Заклик, вас в городе все знают? — тихо спросила графиня.
— Ну, как вам доложить, может быть, многие уже и забыли; да ведь если вам угодно меня послать с каким-нибудь поручением, для которого надо, чтобы меня не узнали, то ведь можно так сделать, что и не узнают.
— Как это?
— Что же, — отвечал, слегка улыбнувшись, Заклик, — можно лицо-то и того… как актеры делают…
— Подрисовать, загримироваться?
— Да, отчего же, я это могу.
— А можете ли вы там достать нам верного языка?
Заклик пожал плечами и отвечал:
— Если нужно, так, разумеется, надо найти.
— Да, мой добрый Заклик, теперь это нужно, — сказала, понизив тон, графиня. — Здесь мне более уже совсем не безопасно и мне теперь одно спасение — бежать; вы должны мне помочь в этом, и я вам одному только верю и на вас на одного надеюсь.
Заклик промолчал.
— Что же вы молчите? — спросила нетерпеливо Анна.
— Трудно это будет сделать, — проворчал Заклик и сейчас же добавил: — Но, разумеется, если необходимо, то… разумеется…
— И это еще не все, — прервала графиня, — я должна спасти драгоценности, потому что они составляют все мое состояние.
Заклик только потер себе лоб и опустил глаза.
— Что вы мне на все это скажете? — спросила графиня.
— Все, что только в человеческих силах, я сделаю, — отвечал Заклик и задумчиво добавил: — Одно жаль, давно бы это следовало сделать. Ну, да что не сделано, о том уже нечего говорить.
— Сегодня ночью, — продолжал он, как бы погруженный в глубокую думу, — я поеду в город. У меня в кустах, у острова, есть лодка, я на ней и поплыву, и все, что можно, разузнаю, соображу, подготовлю и возвращусь.
— Хорошо.
— А вы не требуйте меня к себе, пока я сам не явлюсь к вам, комната моя будет заперта, и люди будут уверены, что я там для чего-нибудь затворился. Пока я больше ничего не могу придумать. Вон Готлиб, это он за нами шпионит.
— Ага, это в самом деле кажется так. Ну и прекрасно, идите и делайте, как вы сказали, а этого шпиона надо одурачить.
— Эй, Готлиб! Готлиб! Подите-ка сюда, — закричала она, отпустив Заклика и, когда немец приблизился, сказала: — Этот сад можно было бы привести в порядок, но этот поляк так бестолков, что ничего не может понять. Сколько я ему ни толковала, он меня только вывел из терпения.
Готлиб укоризненно покачал головой.
— Я вас очень прошу, чтобы вы нашли мне в городе хорошего садовника.
— Слушаю, графиня.
— И приведите его сюда.
— Приведу, графиня.
— Только хорошего.
— Самого лучшего, ваше сиятельство.
— Чтобы был и садовник и цветовод.
— И садовник будет и цветовод.
— Благодарю вас, я знаю, что вы все это отлично устроите.
— О, не беспокойтесь, ваше сиятельство… так устрою, что…
Но видя, что графиня удаляется, он только поклонился ей вслед и, окинув надменным взглядом Заклика, гордо пошел в свое место.
Когда темная ночь спустилась на окрестности, Заклик отвязал тихонько свою лодку, впрыгнул в нее, оттолкнул ее от берега и поплыл вниз по течению, к Дрездену. В ту пору по Эльбе почти не было никакого движения, и надо было хорошо знать реку, чтобы не попасть на бесчисленные мели и каменья. Но Заклик их не боялся: ему они были неопасны, потому что в то время, когда он, еще ничем не занятый, бродил по окрестностям Дрездена, он часто плавал по Эльбе и знал ее, как свои пять пальцев. Поэтому его нимало не пугала темная ночь, и он благополучно спустился к Дрездену. Сначала он увидел огоньки в домах раскинутых по берегам реки предместий, а потом перед ним засветило зарево, стоявшее над ярко иллюминованным замком.
В городе у Заклика, конечно, было много знакомых, но не ко всякому из них он мог теперь прийти, и потому голова его была занята соображениями: где бы ему приютиться и кому довериться?
Из числа людей, с которыми он был более или менее близок, были два еврея, один Леман Берендт, другой Иона Мейер; к ним часто обращались по устройству займов, в которых беспрестанно нуждался роскошный и нерасчетливый двор Августа.
Мейер был еврей европейского пошиба, он был родом из Гамбурга и приехал в Дрезден в 1700 году, в самом начале царствования Августа, и, поселясь в Дрездене, завел здесь первую меняльную лавку и банк. Нуждавшийся в его услугах король дал ему дом, который прежде назывался «старой почтой», а потом стал известен под названием «еврейского дома». Этот Мейер, разбогатев, выстроил дворец, развел при нем сад, а в первом этаже самого дома устроил несколько роскошных зал, в которых нередко задавал своим клиентам не менее роскошные балы и маскарады.
Товарищ его Леман Берендт был совсем другим: он родился в Польше, был блюстителем отчей веры и хранил в себе типические черты, свойственные старожитным надвислянским евреям; он был скромен, расчетлив, тих, обстоятелен и умен. Ко́зель имела с ним дела, и Заклику казалось, что он мог рассчитывать на некоторое доброжелательство этого человека. Он к нему и решился обратиться, если не рассчитывая на его прямое содействие, то, по крайней мере, надеясь получить от него добрый совет.
Оставив лодку у хибары одного знакомого венда, которые в то время еще не исчезли в Дрездене, посол Анны Ко́зель завернулся в плащ и, надвинув шляпу, начал пробираться по улицам города к дому, где жил Леман. Час был уже довольно поздний, но по движению на улицах легко было догадаться, что в замке происходило большое пиршество. Издали блестевшая над садом Гесперид в Звингре иллюминация убеждала в этом еще более: король давал маскарад для своей Денгоф. Маскарад был при факелах, и толпы народа стремились туда густыми потоками.
Пробираясь в тени под стенами, Заклик, никем не узнанный, благополучно достиг знакомыми переулками дома на Пирнейской улице и постучал в двери небольшой квартирки в задней части здания. Ему отворила старая кухарка и, впустив посетителя, кликнула Лемана, который, не увлекаясь любопытством, возбуждаемым королевским пиром, сидел один у себя дома, читая Библию или сводя свои счеты. Выйдя по зову кухарки в сени и узнав неожиданного гостя, он удивился, но ничем не выразил удивления и провел Заклика в кабинет.
Леман был очень красивый пожилой мужчина с проседью в волосах, но с замечательно свежим лицом семитского типа. Черные глаза его смотрели спокойно и рассудительно, но в них были свой внутренний огонь и приятное выражение.
Заметив, что Заклик оглядывается с некоторой особенной осторожностью, он сжал его руку и сказал по-польски:
— Здесь, пан Заклик, вы в безопасности.
— Я так и надеялся, — отвечал Заклик.
— Да, если нужно, то у меня вас никто не увидит.
— Ах, это мне очень нужно, господин Леман.
— Ну и прекрасно, вот кресло, садитесь и рассказывайте, что у вас делается и чем я могу служить.
— У нас все плохо, пан Леман, — отвечал Заклик. — Сначала графиню выгнали из дворца, потом из наемного дома, потом выгнали совсем из Дрездена, а теперь уже идет дело о том, чтобы выгнать нас и из Пильницы, да еще, Бог знает, удовольствуются ли и этим…
— Так, так, — проговорил раздумчиво еврей.
— Да, несчастную графиню преследуют немилосердно.
— Так, так, когда же преследования бывают милосердны?
— Это правда, господин Леман, но утешения в этом мало.
— Немного, пан Заклик, немного.
— Ее надо спасти, пан Леман.
— Гм!
— Я за этим сюда и приехал, пан Леман.
— Так, так, — процедил Леман, поправляя на голове свою черную ермолку, — спасти, да… однако, и себя, конечно, не губить.
— Да, если можно это так уладить… — отозвался Заклик.
— Уладить!.. Так, так, уладить… да!
— Графине остается одно: бежать!
— Так, да, бежать! А куда бежать, пан Заклик? Что? Бежать за море! Тут все цари и короли по-соседски беглых друг другу выдадут.
— Э, пан Леман, да за нами теперь вряд ли отсюда и погонятся!
Леман покачал головой.
— Вот где затруднение, — продолжал верный слуга, — графине нельзя бежать с пустыми руками, она должна спасти от расхищения свое добро.
Банкир потихоньку утвердительно кивнул головою.
— Но опасно взять все с собою!.. Что, если мы попадемся в руки наших врагов?
— Ай, что это будет! — воскликнул, схватившись за голову, еврей.
— Подумайте о нас, пан Леман!
— Ах, что тут думать, что тут думать, сколько ни думай, ничего, пан Заклик, не выдумаешь.
— Однако…
— Поверьте, ничего нельзя выдумать; я люблю графиню и рад бы помочь ей, да ведь… ничего нельзя, ничего нельзя… Не погубить же мне себя и семью свою… И все будет напрасно, все напрасно!
— Ничего не надо губить, пан Леман…
— Да?
Еврей поднял на него глаза и смотрел, ожидая окончания мысли.
— Мы не просим от вас никакого риска…
— Так, так, это вы хорошо говорите, пан Заклик. Чем же я могу служить вашей доброй графине?
— Одной вашей честностью.
— Честностью? Я вас не выдам, пан Заклик, не выдам, и тайны вашей не выдам!
— А если я привезу и сдам на ваши руки драгоценности графини?
— Все, что вы вверите мне, я сберегу и пришлю вам туда, куда вы мне укажете.
— Это все, что нам от вас нужно! Ну, так и дело кончено! Давайте вашу руку, пан Леман!
— Вот вам моя рука! А теперь дайте-ка мне достать вот тут в шкафу бутылку вина, да разопьем ее за добрый успех вашей затеи. Стакан вина вам с дороги теперь, я думаю, не помешает?
Леман достал из шкафа бутылку, налил в стаканы, и оба собеседника чокнулись и снова сели.
— Ну, теперь скажите мне, что же здесь нового? — спросил Заклик.
— У нас здесь что было, то и есть, здесь всегда одни порядки, — отвечал осторожно Леман.
— Ну, однако же, говорят, король влюблен?
— Влюблен? — как бы удивился Леман. — В кого влюблен?
— А в Денгоф!
— Ах! Да, Денгоф! — воскликнул Леман. — Ну, что про бедняжку говорить! Пусть собирает себе, пока время есть, деньжонки да цацки, а то скоро ее замуж выдавать будут, тогда это ей пригодится.
— За кого же вы ее готовите?
— Я? — еврей сделал гримасу и добавил: — Говорят, что сестру ее сватают за Фризена, а ее… Право, не знаю, за кого… Да не все ли равно, возьмет ее и Гакстгаузен, возьмет и француз Безенваль.
— Ну, а еще что нового, пан Леман?
Леман пожал плечами и отвечал:
— Ничего: люди меняются, а гадости все те же.
— Ну, от вас, видно, не много узнаешь! Надо пойти понюхать, чем пахнет в других местах.
— Подите, подите, понюхайте, но только смотрите, чтобы вас не видели, как вы ко мне приходите и от меня уходите.
— О, за это не беспокойтесь!
— То-то; а то ведь тогда все будет испорчено, и я вам ни на что не буду пригоден.
— Не беспокойтесь, пан Леман, не беспокойтесь: я буду скользить, как тень.
— Да, и чтобы вы более походили на тень, я вам дам ключ от особой двери, через которую вы можете входить и выходить так, что вас не увидит никто из моих домашних.
— Это более чем нужно, пан Леман. Благодарю вас и прощайте!
— Прощайте! Вот вам ключ от дверей и еще один добрый совет — быть осторожнее.
— Благодарю и беру и то и другое. Прощайте!
Леман сам посветил гостю и выпроводил его за двери.
Снова плотно закутавшись в плащ, Заклик зашагал по улицам; он держал путь к Звингру, где хотел, замешавшись в толпу, посмотреть, что там происходит. Заклик был твердо уверен, что его не узнают, но, как ниже увидим, он ошибся в этом расчете. Едва он дошел до Замковой улицы, как кто-то ударил его по плечу. Удивленный Заклик обернулся и увидел Фрёлиха; старый шут стоял возле него и усмехался.
— Ага! Как это вы узнали меня, господин Фрёлих? — спросил Заклик.
— Не мудрено узнать, здесь других таких широких плеч, исключая короля, ни у кого нет, — отвечал Фрёлих. — А что такое вы, почтенный Унглюк, тут делаете? Я вас считал в штате той… оставшейся за штатом…
«Ах ты коварный урод!» — подумал Заклик и быстро отвечал:
— Да, я был в ее штате, господин Фрёлих, а теперь из него вышел.
— Что же так?
— Да что делать; знаете, когда корабль тонет, мыши с него спасаются вплавь.
— Это благоразумно делают мыши, очень благоразумно, господин Унглюк, — отвечал Фрёлих, — свою шею всегда не мешает немножко поберечь. Ха! Ха! Да, это благоразумно, пускай каждый спасает себя, как знает. Ну, так теперь что же, вы, значит, опять возвращаетесь на службу к королю? Или, быть может, служите уже у Денгоф?
— Нет, еще не служу, — возразил Заклик, — я, признаться, ведь совсем не знаю, что она за особа.
— Что за особа? — повторил Фрёлих. — Особа невеличка, как тот постельный зверек, который скачет и кусает.
И Фрёлих начал было хохотать своим дребезжащим смехом, но вдруг закрыл себе рот и умолк, завидя приближавшегося к ним испанца в маске. Заклик хотел удалиться, но маска заглянула ему под шляпу и, схватив за руку, проговорила:
— Что ты тут делаешь?
Немного растерявшийся Заклик отвечал то же самое, что он сказал Фрёлиху:
— Я пришел сюда в город искать службу.
— Вот что! А что же твоя госпожа, разве она тебе надоела?
— Да какая она теперь госпожа? Она так живет, что не нуждается больше в слугах.
— Ну, пойдем поговорим, может быть, я тебе и помогу найти хорошую службу.
— Сделайте милость!
— Пойдем!
Испанец потащил его за собой.
— А какую бы ты, например, желал службу?
— Я дворянин и потому желал бы службу дворянскую, службу при сабле.
— Вон что! А ведь у Ко́зель ты служил не при сабле?
— То было другое дело.
— Другое; ну хорошо, пойдем со мной.
— Куда?
— Вот уже сейчас и сказать тебе, куда! Что, ты меня боишься, что ли?
— Нет, не боюсь, — отвечал Заклик, и они пошли.
По направлению пути он догадывался, что незнакомец ведет его как будто к Флеммингу. Это так и было.
Несмотря на происходивший в Звингре маскарад, Флемминг был дома, двери его были открыты, и у него была куча маскированных гостей, которые приходили, угощались у открытых буфетов и уходили. Некоторые, впрочем, так плотно нагрузились, что не вставали с мест: говорили, что Флемминг ожидает к себе короля; но пир не мешал и делу.
Едва испанец, отыскав хозяина, шепнул ему на ухо несколько слов, генерал тотчас же встал и проворно направился к дверям; здесь он поманил за собою Заклика и привел его в отдельный кабинет, где все было тихо; на столе лежали множество бумаг, и какой-то молодой человек что-то сочинял или переписывал. Флемминг отошел с Закликом в темный угол и, сев в кресло, резко спросил Заклика.
— Когда ты бросил службу у Ко́зель?
— Я оставил графиню несколько дней назад, — отвечал Заклик.
— Чем она занимается?
— Устраивается в Пильнице…
— Что, она думает там оставаться или нет? — спросил Флемминг.
— Должно быть, думает оставаться.
Флемминг молча взглянул на испанца и продолжал свой допрос.
— Как ты расстался со своей бывшей госпожой?
— Меня выгнали, — солгал Заклик.
Флемминг и испанец снова переглянулись.
— Чем же ты перед нею провинился?
— Ничем не провинился; а так, она во мне больше не нуждается.
— Гм! А ты хорошо знаешь Пильницу?
— Еще бы не знать!
— И людей тамошних знаешь?
— Всех знаю.
— И знаешь и дороги и окрестности?
— Да как же не знать?
— Отлично! И ты хотел бы снова служить?
— Почему же нет? Бедному человеку без службы жить нельзя.
— Но если бы тебе дали службу, которая требовала, чтобы ты шел против своей прежней госпожи?
— Что же мне такое теперь моя прежняя госпожа? Я не имею ни госпожи, ни господина, кроме короля, которому обязан верностью как дворянин польский.
Флемминг потрепал его по плечу и сказал:
— Ты хорошо рассуждаешь и за то будешь устроен; приходи ко мне сюда через два дня! Понимаешь?
— Слушаю и понимаю, — отвечал Заклик и, уклоняясь от принятия монеты, которую ему совал в руку Флемминг, поклонился и вышел.
Дело радовало бедного парня: он надеялся теперь попасть в самую живую струю интриги — все разведать, все перепутать и спасти свою графиню. Два дня, данные ему Флеммингом, он решил употребить на то, чтобы побывать в Пильнице и сообщить обо всем, что нужно, графине.
Выйдя от Флемминга, он тотчас же, не теряя времени, сел в свою лодку и, сильно работая веслами, явился в Пильницу прежде, чем наступавшее утро разбудило двор опальной графини.
IV
Мы забыли сказать, что шатаясь в толпе, прежде чем встретиться с Фрёлихом, Заклик узнал, что назавтра в Дрездене, на Старом рынке, был назначен большой венецианский маскарад с ярмаркой, и Денгоф и ее сестры должны были играть не нем роль трактирщиц. Многолюдство ожидалось огромное: король звал на этот маскарад уже не приглашениями, а приказами, которых мало кто не получил во всем городе. Его величеству хотелось, чтобы на площади было как можно люднее.
Возвратившись в Пильницу еще до рассвета, Заклик привязал на старом месте свою лодку и пробрался на двор, когда там еще все спали; никем не замеченный, он пробрался в свою комнату, и дождавшись, когда у окон графини открыли ставни, прошелся перед домом и вошел в сад. Он был уверен, что графиня его заметит и не замедлит выйти, так как в комнатах всякий разговор Заклику казался небезопасным. Как он полагал, так и вышло: Анна пришла в сад, и Заклик представил ей самый подробный отчет о своей экскурсии, не забыв упомянуть и о назначенном в этот день маскараде. Это было с его стороны порядочной неосторожностью, которая вскоре же заставила его немало о ней пожалеть; но теперь они заняты были планом, как переправить драгоценности Анны из Пильницы к Леману. После недолгих соображений решено было, что шкатулки с вещами тотчас же будут отправлены с Закликом в Дрезден под видом подарков, посылаемых графиней ее детям. Заклик намеревался отвезти этот багаж немедленно и к вечеру возвратиться снова в Пильницу, чтобы в эту же ночь графиня могла бежать в Пруссию.
Условясь таким образом, графиня возвратилась в дом, откуда Заклик тотчас же начал выносить и устанавливать в дорожную бричку тяжелые ящики. Через час он уже выехал.
Относительно же побега графини были приняты следующие меры: нанятые Закликом лошади в сумерки должны были ждать ее в лесу на берегу Эльбы; когда все в доме улягутся, графиня должна была выйти и ехать до Дрездена, а оттуда далее до прусской границы. В известных Заклику местах были заготовлены заставы, и он надеялся, что его госпожа вскоре будет вне всякой опасности от саксонской погони, но вдруг все эти его надежды потерпели сильное поражение: графиня объявила, что она во что бы то ни стало хочет остановиться в Дрездене и взглянуть на сегодняшний маскарад.
Все усилия Заклика отклонить ее от этой опасной затеи были напрасны, и он, как ни спорил, должен был ей уступить.
— Я очень хорошо знаю, чем я рискую, — говорила Анна, — меня, конечно, могут схватить, отвезти в Кёнигштейн или даже прямо убить, но я должна там быть! Это мне необходимо!
Как ни неприятно это было преданному Заклику, но, зная упрямство своей госпожи, он с нею более не спорил и отправился в город. Дорогой он подпоил своего кучера так, что тот, отдав вожжи Заклику, преспокойно заснул в бричке и не видел, как тот, сам правя лошадьми, заехал на постоялый двор и, забрав на плечи все привезенные им вещи, снес их осторожно к Леману.
Заклик, возвратившись назад, сам запряг лошадей и, взяв вожжи, погнал назад в Пильницу.
Таким образом, дело с имуществом было улажено, и теперь оставалось спасать только саму графиню.
Ко́зель в это время осторожно собирала свои бумаги, жгла письма и вообще готовилась в свое небезопасное путешествие, до выезда в которое ей суждено было испытать еще некоторые тревоги. Так, едва в обычный час ей подали обед, как совершенно неожиданно к ней пожаловали из Дрездена граф Фризен и Лагнаско, которых она могла считать подосланными с поручением заглянуть, что она поделывает.
Ко́зель настолько владела собой, что приняла их как нельзя более радушно; была свиду очень спокойна, говорила о разных своих предположениях, об устройстве пильницкого сада, которым была будто бы очень занята, и, спустив благополучно с рук этих гостей, сказалась прислуге больной и ушла в спальню несколько ранее обыкновенного.
В доме по случаю нездоровья графини приказано было соблюдать тишину, и прислуга предалась покою.
Заклик, обойдя двор и удостоверясь, что весь дом спит, постучал в небольшую дверь, ведущую из покоев графини в сад. Ко́зель вышла, вся закутанная в черное; она быстро прошла к берегу Эльбы и села в лодку, которая и поплыла вниз по течению. Береговой тростник и лозы укрыли бы от людских глаз эту лодку даже и днем, а теперь ее совсем никто не мог видеть. Через четверть часа они остановились у берега, вышли и, отыскав в лесу ожидавшую их повозку с четырьмя лошадьми, поскакали в Дрезден. В то время, полное любовных приключений, ночные странствования с женщинами были делом весьма обыкновенным, так что подобная ночная поездка не могла удивить нанятого кучера, он и не думал, что способствует преступному побегу.
Путь до Дрездена был невелик, и беглецы его проехали очень скоро.
Выйдя из повозки в самом безлюдном месте, графиня подала Заклику накидку и сказала:
— Наденьте это как можно скорее!
— Боже! Неужто вы ни за что не откажетесь от вашего ужасного намерения! — воскликнул Заклик.
— Не откажусь и требую, чтобы вы сейчас же надели это и следовали за мною.
Она легким движением руки накинула на голову капюшон своей накидки.
Заклику ничего не оставалось, как последовать ее примеру, и он пошел за графиней.
Как только они повернули к Замковой улице, так тотчас заметили, что все дома там убраны флагами и ярко иллюминованы; улица была битком набита экипажами, людьми, лошадьми и носилками. Повсюду раздавались шум, смех, писк, которые производили на Ко́зель раздражающее впечатление; но она все-таки быстро продвигалась вперед и увлекала следовавшего за нею Заклика, который старался заслонять ее и от толчков и от рассматривания.
На галерее ратуши играл оркестр музыкантов в фантастических костюмах; внизу под галереей кишели самые пестрые маски, а на самом рынке были построены убранные цветами балаганы и лавки, в которых разряженные в различные восточные костюмы женщины продавали безделушки, напитки и сладости. Вокруг карнавальных торговок собирались кучки острословов и шутников.
Впрочем, все это было гораздо более шумно, чем весело.
В конце Замковой улицы Ко́зель остановилась, точно у нее не хватало сил идти далее.
Заклик воспользовался этой минутой и еще раз шепнул ей:
— Вернитесь, графиня!
Но она вместо ответа только сжала его руку и быстро двинулась вперед. Стремление Ко́зель было неудержимо; она все рвалась вперед и вперед, пока вдруг не вздрогнула, остановила движением Заклика и сама встала: около них волновалось целое море фигур, и трудно было определить, кто был виновником ее внимания. Но вот Заклик осмотрелся пристальнее и увидел, что глаза его госпожи устремлены на человека, который высматривал кого-то, стоя от них всего в нескольких шагах. Это был высокий и необыкновенно статный мужчина в шляпе с черным пером и в черном бархатном костюме с золотой цепью на груди; несмотря на покрывавшую его лицо черную маску, в нем нетрудно было узнать короля Августа, и Анна его узнала: она остановилась, перевела дух и вдруг пошла к нему быстрыми и смелыми шагами.
Заклик понимал, что ему теперь некстати торчать при своей госпоже, и он наблюдал за нею только издали. Она приблизилась к королю, окинула его с головы до ног пристальным, вызывающим взглядом и, тихо отойдя на несколько шагов, остановилась.
Ее прекрасная фигура и в таинственных складках накидка обратили на себя внимание Августа, и он тотчас же подошел к ней.
— Клянусь честью, — заговорил он, — ты меня заинтересовала, милая маска! И знаешь ли, именно чем? Я был уверен, что знаю здесь всех женщин, но оказывается, что одной не знаю, и эта одна ты и есть.
— Какое счастье быть для тебя не тем, чем все! — отвечала, изменяя голос Анна. — Я очень рада, что ты меня не знаешь.
— А ты меня знаешь?

Парадное украшение коня к свадьбе Августа III
Праздник-карусель в Цвингере
— О, конечно, у меня нет исключений: я всех знаю.
— Вот как! Кто же я?
— Ты здешний палач.
Король вздрогнул и гордо выпрямился.
— Что это? — спросил он. — У тебя, маска, кажется, очень грубые шутки.
— Да я и не думаю шутить, я говорю правду.
Август посмотрел на нее и сухо заметил:
— Если вы меня знаете и все-таки решились сказать мне в глаза такую дерзость, то и я удивлю вас и скажу вам, что и я вас знаю.
— О, какой вздор! — отвечала сквозь веселый, беспечный смех Анна Ко́зель.
— И правда, я, кажется, ошибся! — проговорил обманутый этой беспечностью Август. — Вы не можете быть тою, за которую я вас принял.
— А можно узнать, за кого я была принята?
— Зачем?
— Ну так, ради любопытства, ведь женщины суетны, а мужчины… хорошие мужчины всегда бывают к ним добры и любезны. Так кто же эта та, за которую я была принята? Может быть, тут ошибка, может быть, я-то и есть она?
— Нет, этого не может быть.
— Почему?
— Почему? Ну, потому что ее здесь нет.
— Она могла приехать.
— Она этого не смеет сделать.
— Что такое «не смеет сделать»? Ха, ха, ха! Женщина и чего-то «не смеет сделать»?
И она опять так рассмеялась, что Август дрогнул, заслышав в этом смехе знакомую нотку, а она, не дав ему опомниться, шепнула ему одно слово на ухо и, юркнув в толпу, смешалась с нею, прежде чем Август успел пожалеть, что не схватил ее за руку и не удержал.
Скрывшись в толпе, Анна пробралась в темный закоулок, оказавшийся между стеной какого-то здания и примыкавшим к нему балаганчиком, и проворно сняв с себя накидку, вывернула ее на другую сторону, которая была подшита красной материей, и в этом новом наряде стала пробираться к выставке, за которой в костюме трактирщицы, торговала Денгоф.
Обе фаворитки сейчас должны были встретиться лицом к лицу.
Денгоф помещалась в одном из трех красивых балаганчиков, устроенных против самой ратуши. Здесь торговали три дамы: Белинская, Поцей и Денгоф, которой помогал граф Фризен; он стоял возле сестры фаворитки с гитарой, которая висела у него на перекинутой через плечо ленте, и занимал дам забавным разговором. Впрочем, тут было много и других блестящих кавалеров, между которыми были заметны Монтаргон и французский посланник Безенваль, умевший заставлять всех смеяться от его остроумных и порою едких замечаний.
Ко́зель, подойдя близко к этой группе, пристально рассмотрела Денгоф, а потом, когда та обратила на нее внимание, тихо подошла и сказала:
— Милая торговка, умилосердись над жаждущею, дай мне стакан лимонаду!
Денгоф подала ей стакан, и когда та, приподняв кружева своей красной маски, стала пить, беспокойно следила за пристально устремленным на нее взглядом Анны. Глаза Ко́зель смотрели на нее зло и насмешливо, а прекрасная рука, держа стакан, слегка дрожала.
— Благодарю! — проговорила она, выпив лимонад, и, подавая Денгоф червонец, добавила: — Вот тебе и плата за то, что ты отвела мою душу; я ведь знаю, что ты без платы ничего не делаешь, не правда ли?.. Что же ты не хочешь мне ответить, или не хочешь и словечка даром вымолвить? О, какая расчетливая! Или ты, может быть, не говоришь с масками?
Денгоф растерялась и беспокойно посматривала на сестру и мать, которые не обращали на нее никакого внимания и звонко хохотали под забавные речи Безенваля.
— Оставь их! — сказала, все смелее приступая, Ко́зель. — Я сделаю тебе удовольствие и буду говорить с тобой без маски. Смотри!
И графиня, приблизив свое лицо к лицу Денгоф, приподняла свою маску и, не удерживая более всего душившего ее негодования, прошептала:
— Смотри, смотри! Я хочу, чтобы мое лицо навсегда осталось в твоей памяти. Это лицо твоего смертного врага. Я та, с которой ты так боялась встретиться, и вот, однако, встретилась… Не бойся, пока ты не зовешь никого на помощь, я тебе вреда не сделаю, я только хотела тебя видеть для того, чтобы сказать тебе в глаза, что я тебя презираю!
И с этими словами Анна опустила на лицо маску и быстро исчезла в толпе, между тем как перепуганная Денгоф наделала тревоги; тут явился сам Август, все заговорили, что здесь ходит Ко́зель; сделано было распоряжение ее арестовать, а для того, чтобы она не могла скрыться, немедленно приказано было затворить все городские ворота и не выпускать ни одной женщины. Но так как распоряжение это не распространялось на мужчин, то Заклик нашелся завести графиню к Леману, где они добыли мужскую шляпу и плащ, в которых Анна под видом молодого человека, сопровождаемого слугой, и выехала благополучно из Дрездена.
И в то время, как графиню Ко́зель искали в Дрездене да в Пильнице, она уже удалялась по дороге к Берлину.
V
Берлин в первой четверти XVIII столетия был, конечно, совсем не то, что нынешний Берлин, хотя он и тогда имел уже все задатки образовать казарменную столицу. В самом расположении города и в характере вновь возводимых зданий преобладали единообразие и ранжир, не оставлявшие никакого места вкусу и фантазии. Систематическое правительственное опекунство чувствовалось во всем: все было под наблюдением и велось по установленной форме.
После относительно небольшого, но изящного Дрездена Берлин должен был показаться Ко́зель очень скучным, тем более что у нее был целый ад в душе. На улицах видны были только почти одни солдаты, рожки и барабаны которых нестерпимо надоедали. Несмотря на то, что Берлин насчитывал уже пять кварталов, везде казалось очень безлюдно. Из знаменитых впоследствии зданий тогда в Шпандаузском предместье уединенно стоял дворец королевы, а в Стралаузском — бельведер короля. Все здесь было ново и, сдавалось, еще ждало притока людей и начала жизни: на широких площадях, напоминающих целые степи, скучали кое-где расставленные статуи, но на Шпрее был уже каменный мост, который назывался «новым мостом».
Королевский дворец еще строился и мог бы быть очень хорошим зданием, если бы Шлухтер имел чувство меры и не увешал его венцами до такой степени, что они закрыли все стены.
Берлин имел уже тогда театр, картинную галерею, библиотеку, музей. Правда, все это было устроено наскоро, без особенно тяжелых пожертвований; по крайней мере, здесь не жертвовали людьми за вещи, как водилось в Дрездене, где меняли солдат на фарфоровую посуду и безделушки.
Но что было самого замечательного в Берлине, это, конечно, солдаты — их рост, их обмундирование, выправка и дисциплина. Вот чем мог вволю налюбоваться всякий, кто был одарен способностью на это любоваться.
Здесь был жив тогда тот знаменитый батальон гренадер, собранный с особенными усилиями из самых высоких людей целого света. Этих великанов скупали повсюду, где могли, и платили за них очень большие, по-тогдашнему, деньги; сводили их сюда, муштровали и вообще обращали в подвижные военные машины. Это были здесь люди пришлые, чужие, не имевшие никаких живых связей со страною, в которую попали против своей воли. Между этими великанами самым колоссальным ростом отличался норвежец Ионаш, который был так велик, что даже сгорбился, и его таким и привезли в Берлин; но чтобы заплаченные за него деньги не пропали, здесь его как-то распрямили и сделали тем «идеалом солдата», каким потом слыл этот бедный малый.
Вообще Берлин, после Дрездена, не мог нравиться такой женщине, какой была Ко́зель; но ей нужны были не удовольствия, а покой, личная неприкосновенность, и это казарменный Берлин, кажется, мог дать ей. Правда, что на третий день после того, как она расположилась в нанятом для себя помещении, ее посетили губернатор Вартеслебен и начальник жандармов Натцмер; но они были очень любезны и появились как бы только для формы. На переезд сюда графини смотрели, кажется, очень благосклонно, особенно с тех пор, как стало известно, что дрезденский Леман перевел для нее в один берлинский дом весьма значительные суммы.
Тесные отношения трех Фридрихов, казалось бы, не должны были ее касаться, и Ко́зель была уверена, что здесь ее уже никто не тронет, и она старалась жить как можно тише, никого не беспокоя и отмечая прожитые дни одними тупыми муками тоски начавшегося для нее тягостнейшего бесцельного существования Эмигрантки.
Она изверилась в Августе: оглядываясь на свое прошлое, она отыскивала в нем собственную вину и взялась за то, за что берутся многие в подобном положении: стала читать Библию… Священное писание призывалось произвести примирение в смятенной душе и уврачевать язвы борющихся ее страстей; но храмина была не убрана и не постлана для доброго гостя, и ему нельзя было сотворить себе в ней обители. К тому же и со стороны Анну не оставляли в покое: то Заклик извещал ее, что около дома бродят какие-то подозрительные люди, то о ней осведомлялись прусские власти, то наконец навещали ее будто бы случайно заезжавшие сюда саксонцы.
Так, например, к ней совершенно неожиданно пожаловал Ван Тинен, которого графиня знала; это был тот самый человек, который незадолго перед этим брался объясняться Анне в своей страстной любви.
Ван Тинен, однако, был принят и, притворяясь, что он будто бы совсем не знал о переезде графини в Берлин, сообщил ей дрезденские новости вечно одного и того же характера: Флемминг недавно давал сельский пир на равнине под Лаубегастом, причем в поле напротив Пильницы было выведено шесть полков королевской лейб-гвардии. На высотах были поставлены пушки и расположены другие войска и были произведены маневры. Разделенные на два отряда полки наступали друг на друга с батальным огнем, и все имело вид настоящего сражения. Король любовался на это зрелище, имея при себе, с одной стороны, госпожу Денгоф, а с другой, ее сестру, гетманшу Поцей.
Ко́зель усмехнулась и спросила:
— Почему же обе… без всякого предпочтения одной против другой, разве это уже так стало?
Ван Тинен улыбнулся и, понизив голос, отвечал:
— Да, эти дамы одна другую не ревнуют!
— Что же, это, должно быть, нравится вашему августейшему повелителю.
— Вероятно.
— В самом деле, это очень удобно, хотя, может быть, немножко более по-султански, чем по-королевски, но не беда!
— Не беда, — отвечал, уклоняясь от длинных об этом рассуждений, Ван Тинен и перешел к продолжению рассказа о том, как на этом полусельском-полувоенном празднестве король и его придворные до того перепились, что Флемминг забыл всякий этикет и начал бросаться королю на шею и фамильярно называть его своим другом и братом, а в заключении угрожал ему лишить его этой дружбы, если Август оставит попойку. Денгоф хотела отвести его от короля, но пьяный Флемминг вдруг перенес свои нежности на нее. Словом, венценосный гость и его фаворитка должны были спасаться от своего слишком хлебосольного хозяина и насилу ускакали верхом; тогда разгулявшийся Флемминг дошел уже до того, что брал оставшихся служанок и кружился с ними, производя всякие безобразия.
— Все это старые истории! — отозвалась Анна. — Флеммингу не впервые так обращаться с Августом; король сам мне рассказывал, что Флемминг, сделав подобное в пьяном виде, обыкновенно приходил наутро в замок и говорил королю: «Я слышал, ваше величество, что Флемминг вчера был не совсем в порядке, но вы ему это простили», и все этим кончалось.
— Король Август добр и кроток, как барашек, с теми, кто ему нужен, — продолжала она с саркастическим смехом. — После, когда минет надобность, пройдет и его доброта. Так это бывало со всеми и так кончится и с Флеммингом. Но все это для меня теперь дело стороннее, и вы будете очень любезны, дорогой гость, если перестанете меня тешить этими новостями, увы, слишком хорошо мне известного сорта и прямо мне скажете: зачем вы ко мне приехали? Говорите прямо, потому что я ведь не дитя и меня нельзя обмануть тем, будто вы заехали сюда случайно.
— Графиня! — возразил, едва скрывая смущение, Ван Тинен.
— Не спорьте со мною, пожалуйста, я на вас за это вовсе не сержусь, вы служите и стараетесь выслужиться — ну, что тут толковать! Но дело вот в чем: от меня ровно ничего нельзя узнать, я все стараюсь забыть и живу вот так, как видите. Это вы и можете рассказать, кому это интересно, а хотите еще что-нибудь добавить, то добавьте… Вот что, — проговорила она, поднимаясь с места, — добавьте, что при всех моих усилиях забыть мою жестокую обиду я до сих пор еще не нашла средства совладеть с собою, и месть, ненасытная, алчная месть кипит в груди моей и будет кипеть… пока живу я, или он!..
Ван Тинен побледнел и воскликнул:
— Графиня! Вы так немилосердны, что ставите меня, честного человека, в необходимость делать доносы. Вы ведь знаете, что я служу королю Августу, что я камергер его двора и присягал ему в верности….
— Исполните же долг вашей службы и донесите на меня, — резко отвечала Ко́зель. — Я прошу вас об этом.
— Но это вас окончательно погубит!
— Не беспокойтесь об этом, мне уже никто на свете не страшен, потому что никто уже не может мне сделать ничего хуже того, что сделано.
— А, может быть, вы ошибаетесь, графиня!
— Нет, не ошибаюсь, вы, может быть, думаете, что я сожалею об утрате дворцов, влияния и прочего… Нет. Ван Тинен, все это в моих глазах ничего не стоит, но я оскорблена как женщина в самых глубоких чувствах моего сердца, у меня отняты дети, отнято право доказать, что я не торговала собою и любила этого человека… Что же еще вы можете у меня отнять? Скажите, я вас слушаю…
Ван Тинен смотрел на нее с живейшим сочувствием и ничего ей не отвечал.
— Что же, — продолжала она, — договаривайте, чего еще могу я бояться?
— Уезжайте отсюда!.. Более этого я ничего не могу вам сказать, — отвечал Ван Тинен, чувствуя, что говорит то, о чем ему отнюдь не следовало бы говорить.
— Как? — спросила Ко́зель. — Уехать из Берлина? Зачем это? Разве я и здесь еще не в безопасности? Нет, я здесь под покровительством прусских законов; а король Фридрих не выдает так людей, как Август выдал Паткуля.
— Я более ничего не скажу, — тихо уронил Ван Тинен и взялся за шляпу.
— Прощайте! — отвечала ему равнодушно Ко́зель.
— Прошу вас верить одному, что мне глубоко и искренно жаль вас, — проговорил, откланиваясь, Ван Тинен.
— Хорошо, я готова этому верить, — отвечала, сухо поклонившись ему, Ко́зель, и с этим они расстались.
VI
Придворная жизнь в Дрездене продолжала идти своим порядком, но в Августе начинали замечать некоторое утомление и скуку: он как будто уже устал развратничать, и во всех его новых сношениях с женщинами не было и тени любви или привязанности, которыми несколько опоэтизировались прежние его интрижки.
Он, видимо, старел; ничто его не забавляло, и он зевал дома, зевал на пирах и увеселениях и часто сердился.
Самые развлечения его стали еще грубее: он теперь больше всего любил смотреть, как большие меделянские собаки берут на садке сильного медведя или как издыхает в агонии несчастный раненый олень. К этим же диким удовольствиям он приучал и своего юного сына. Кровавые травли составляли теперь резкий контраст с прежними картинами его наслаждений среди улыбок прелестных женщин.
О Ко́зель он не хотел и слышать, но ему напоминали о ней, запугивая ее мстительностью: представляли, что теперь на свободе в чужом государстве эта бешеная, ревнивая женщина может покуситься на священную жизнь Августа.
Король и об этом слушал неохотно, но постепенно стал верить этим словам.
Усердные наушники: Флемминг, Левендаль, Ватцдорф, Лагнаско и Фицтум — тщательно поддерживали в короле это настроение и беспрестанно подсылали шпионов следить за Анной, а в то же время выдумывали средства снова захватить ее в свои руки и, воспользовавшись этим, разграбить ее состояние.
Поэтому когда Ван Тинен вернулся из Берлина, его сейчас же позвал к себе Левендаль и потребовал от него обстоятельного отчета.
— Ну, что же там Ко́зель? — спросил он.
— Несчастная женщина! — отвечал Ван Тинен.
— Да, что она несчастная, в том сама виновата! Сошла с ума на обещании короля жениться на ней! Что, она до сих пор не перестала считать себя правой?
— Кажется, что так; она ни в чем не изменилась.
— Расскажите мне все, что вы видели и что от нее слышали.
— Она все такая же, как была: упрямая, вспыльчивая, гневная и прекрасная…
— Подурнела?
— Нисколько.
— Может ли это быть?
— Уверяю вас: ни время, ни горести точно не имеют над ее наружностью никакой власти.
— Тем хуже.
— Что вы изволили сказать?
— Я говорю, тем хуже ей, а нам тем более причин опасаться: король о ней еще помнит. Что же она поет теперь?
— Поет то же, что и всегда пела.
И Ван Тинен сообщил в общих чертах известный нам разговор его с Ко́зель.
Левендаль, отобрав эти сведения, тотчас же отправился с ними к Денгоф и передал ей все, разумеется, с некоторыми преувеличениями и прикрасами, прося ее всячески действовать на короля, чтобы он обеспечил свою дорогую жизнь от угроз этой безумной ревнивицы. Денгоф и ее сестра Поцей, по правде сказать, не совсем верили в эту опасность, но Левендаль привел им на память, как Анна явилась из Пильницы на маскарад, и сказал, что так же легко она может в один прекрасный день явиться и из Берлина. Это подействовало на женщин, и они, призвав к общему совету свою почтенную мать, решили немедленно предупредить короля и всячески стараться убедить его в необходимости лишить Анну свободы.
Вечером этого дня были танцы в саду Гесперид при дворце Звингра. Это был очень хороший сад, разбитый в тогдашнем прихотливом вкусе: с цветочными куртинами, обсаженными буковыми деревьями, с фонтанами, гротами и прекрасными статуями. При искусственном ночном освещении цветными фонарями сад был еще лучше, чем днем, и дрезденское общество его очень любило. Посреди сада был просторный и ярко иллюминованный шатер, где танцевали, а аллеи густых померанцевых деревьев и темноватые беседки давали приют парам, искавшим уединения.
Король явился на этот вечер в голубом, отделанном серебром и белым кружевом шелковом кафтане, и такого же цвета платье было на госпоже Денгоф, при которой неотлучно находилась ее сестра Поцей. Эти две примерные сестры не ревновали друг друга и вели дела сообща: так и здесь они обе сразу овладели Августом и, выбрав удобное, по их соображениям, время, успели пролепетать ему надиктованные им фразы о Ко́зель.
Август был не в духе, слушал их неохотно и дело не клеилось. Тогда на помощь дочерям подоспела Белинская, но это окончательно не понравилось Августу, и он, как бы выйдя из задумчивости, с которой слушал их жужжание, сказал Белинской:
— Дорогая моя графиня, вы, мне кажется, уж очень много беспокоитесь за меня. Но вам надо знать, что обо мне пекутся столько прошенных и непрошенных охранителей, что со мною определенно ничего не может случиться, а между тем разговоры об этом так меня утомили, что я всегда рад, когда их не слышу. Пойдемте-ка лучше что-нибудь пропляшем!
И он встал и, взяв под руки ее дочерей, отправился к танцевальному шатру. Таким образом, первая попытка была вполне неудачна, но зато она в тот же вечер была возобновлена другими лицами: Левендалем и Флеммингом. То же самое, что дамы говорили королю перед танцами, эти государственные люди повторили ему после ужина за вином; король дал им говорить и слушал их, но его брови несколько раз нахмуривались, и он наконец не выдержал и сказал с сильным сарказмом:
— Послушай, Левендаль, ты, должно быть, черт знает как сильно меня любишь!
— Можете ли вы в этом сомневаться, государь?
— Где тут, мой любезный, сомневаться, когда ты мне выдаешь с головою женщину, с которой ты и в родстве, да и, кажется, немало ей обязан… Откровенно скажу: ты меня, братец, удивляешь; я бы на твоем месте учился быть благодарнее; а о себе я сам позабочусь.
Левендаль умолк; но в тот же вечер подсунул на глаза королю Ван Тинена с его известиями из Берлина, однако, король и этого не захотел слушать. И вот тогда-то, может быть, зародилась мысль добывать Анну Ко́зель через Берлин.
Графиня Ко́зель не желала жить в Берлине открытым домом, но ей это, однако, не удалось: ее красота и своего рода известность, а также ум и приятность — все это делало ее интересной для многих; притом же в Берлине тогда все так скучали, что гостиная молодой красивой женщины составляла очень привлекательное место, и молодые люди стали добиваться знакомства с графиней.
Большая часть придворных короля Фридриха прусского знали графиню Ко́зель ранее при своих неоднократных поездках в Дрезден и потому имели достаточный предлог к возобновлению отношений; и около нее скоро стал собираться весьма оживленный кружок, в котором не было излишних стеснений этикета, и вечера проводились нескучно, тогда как на вечерах короля или королевы тоска доводила людей до сонной одури.
Сам король, впрочем, редко принимал в городе: он чаще бывал в Потсдаме или Вустергаузене, где вел строго регулируемую жизнь. В десять часов он являлся на смену караула; потом слушал доклады своих министров, делал небольшую прогулку; в полдень принимал военных начальников и иностранцев; после садился вместе с королевой и семейством за скромный стол. После обеда работал в кабинете и не показывался до самого вечера.
Вечером королева и несколько ее дам и офицеров, а иногда и кто-нибудь из иностранцев играли в пикет или ломбер, и тем день был кончен. Ничто не разнообразило этого течения жизни, составлявшей самый резкий контраст с жизнью шумного и элегантного двора саксонского. Да это было и в порядке вещей: в целом свете не было двух характеров, менее схожих между собой, чем Фридрих прусский и Август. Август был волокита и развратник, а Фридрих имел в жизни только одно увлечение девицей фон Панневитц, но с тех пор, как она наградила его пощечиной, он навсегда оставил ухаживание за женщинами и был образцом супружеской верности. Август был расточителен, а Фридрих до того скуп, что из-за его стола нередко вставали впроголодь. У Августа в государственном управлении господствовал какой-то правительственный дебош; а тут во всех порядках царствовал педантизм, и малейшее нарушение правил наказывалось казарменной суровостью. О балах при дворе никто и не думал. Ели на глиняной посуде, а когда надо было принимать кого-нибудь из иностранцев, то тогда доставали из кладовых тяжелое серебро, которое после обеда снова прятали. Фантазии у короля Фридриха если и были, то совсем не такие, как у Августа; он, например, любил, чтобы после скудного ужина королева удалялась, а мужчины собирались в «табачную коллегию», то есть в комнату, где курили табак из коротеньких голландских трубочек и пили пиво. Здесь допускалась несколько большая свобода, позволявшая смех и шутки, но всегда весьма грубые. В этом состояла самая веселая часть королевских приемов. Одурманясь пивом и табаком, гости в угоду королю тупо и отвратительно издевались над наукой и учеными, устраивая шутовские диспуты на пошлые темы об ученых глупцах и других подобных материях. Или на кафедре появлялся Моргенштерн, одетый в голубой бархатный сюртук с красными обшлагами и заячьей обшивкой, в красном камзоле, в парике, мало не хватающем до колен, и с лисьим хвостом на боку вместо шпаги. Вяло и скучно он толковал что-нибудь битый час, и это чрезвычайно потешало короля. Более изящных и разнообразных удовольствий Фридрих себе не позволял да, вероятно, и не желал их. А потому понятно, что когда в Дрездене смеялись над Берлином, в Берлине, в свою очередь, подтрунивали над Дрезденом, представляя его за некоторое подобие ада. Для заключения контрастов надо упомянуть, что Август в области религии был олицетворенное неверие, а Фридрих прусский был человек религиозный и набожный. Рассказывают, что однажды за ужином недавно поступивший камердинер короля, обязанный читать вслух молитву, дойдя до слов: «да благословит тебя Господь», нашел более приличным сказать: «да благословит вас Господь», и король закричал ему:
— Стой, негодяй! Читай так, как написано! И знай, что перед очами Божиими я такой же негодяй, как и ты!
Понятно, что люди с более или менее живыми характерами искали, где отдохнуть от этой скуки, наилучшее описание которой оставила нам собственная дочь короля Фридриха. Одним из таких спасительных мест и был дом Ко́зель, круг знакомых которой, все расширяясь и расширяясь, достиг наконец такого большого размера, что это стало заметно.
Король Фридрих, знавший обо всем, что у него делалось, конечно, знал и об этом, но пока молчал.
Военные люди собирались к Ко́зель обыкновенно в пору раннего берлинского ужина и засиживались, против берлинских обычаев, далеко за полночь.
Молодой народ приносил сюда новости и сплетни, которые доходили в Берлин из Дрездена, и как графиня не умела скрывать своего гнева, когда дело касалось Августа, то его саксонскому величеству здесь порядочно доставалось. Иногда он бывал и исключительным героем ночных бесед в салоне своей отставной фаворитки, и непочтительные речи, которые вели здесь о «соседе», начали доходить до «табачной коллегии».
Фридрих сначала посмеивался над тем, как достается его «прелюбодейному соседу», но потом, при дальнейших рассказах о том же, начал хмуриться, и вот однажды вечером Анну совершенно неожиданно посетил один старый генерал.
Он «дружески» советовал Анне оставить в покое Августа и играть вечерами в трик-трак или в пикет и с тем уехал.
Анна не послушалась этого совета и продолжала вести себя по-прежнему, что и шло вплоть до того самого дня, когда ее одним ранним утром посетил генерал-губернатор города Берлина Вартеслебен и предложил ей неожиданный вопрос: не желает ли она пожить в более спокойном уголке Пруссии, в Галле?
— Что я буду делать в этом Галле? — изумилась графиня.
— Все, что вам угодно, графиня, там чудесный воздух, прекрасные виды. Словом, это очень хорошее место.
— Да, но вы меня извините, я никогда в жизни не думала о Галле и не знаю, для чего мне туда ехать!
— Это удивительно! — воскликнул Вартеслебен. — Вообразите, королю кто-то сказал, что вам будто бы очень нравится жить в Галле, и его величество отдал приказ вас там устроить. Теперь вам отказаться от этого было бы большой неловкостью, да и… по моему мнению, даже совсем невозможно.
Графиня посмотрела на него и с усилием выговорила:
— Значит, вы мне передаете приказ?
— Король полагает, что вам там будет лучше и удобнее, там вы можете говорить все, что вам угодно и о чем угодно, и это никуда не дойдет, между тем как здесь каждое неосторожное слово может испортить соседские отношения, которыми наш король весьма дорожит.
Проговорив это, Вартеслебен встал, откланялся и вышел, добавив на прощанье, что графиню, конечно, никто не гонит и что она может выехать не только завтра, а даже и послезавтра.
Графиня отлично понимала, что этот новый разразившийся над ней удар был намечен из Дрездена, и она в этом не ошиблась.
Такое упорное преследование только взбудоражило ее беспокойный дух, и она, опасаясь нового визита Вартеслебена, решила уехать в тот же день. Лошади были наняты, вещи уложены, и прекрасная Анна со своим верным домочадцем Закликом потянулась в новое место изгнания, которое отвела ей казарменная любезность Пруссии.
VII
В небольшой тесной улице маленького города Галле, в невзрачном мещанском доме неподалеку от здания, где давались скромные общественные балы местных жителей, поселилась привыкшая к дворцам Ко́зель. Она здесь многих интересовала, но никому не была известна.
Хозяева дома, которых немало допрашивали об их квартирантке, отвечали, что они о ней решительно ничего не знают, и все сведения ограничивались тем, что это «какая-то больная иностранка, приехавшая издалека». Но, разумеется, не все этим удовлетворялись, и о незнакомке в городе ходили самые разнообразные толки.
Эта последняя катастрофа сломила мужество Ко́зель. Она уехала с тревогой; ясно, что здесь в Галле она была уже настоящей пленницей, и в этом ее еще более утверждал Заклик, который на другой же день своего приезда сюда обнаружил признаки учрежденного за графиней постоянного и строгого военно-полицейского надзора. Она не могла никуда ступить шагу, чтобы за ней не смотрели. В один воскресный день она пошла в церковь, но, заметив, что за ней издали следуют шаг за шагом, рассердилась и вернулась домой.
Однажды, совершенно неожиданно, ее посетил Ван Тинен.
Анна, как и можно было ожидать, встретила его весьма сухо и резко сказала:
— Прошу вас, господин камергер, сразу объявить мне, зачем вы пожаловали.
Тот было что-то заговорил об участии, но она снова его оборвала:
— Я не верю ни в чье участие и прошу вас сообщить, зачем вы пришли?
— Снова повторяю, что я вам сочувствую, и не хотел, чтобы неприятная обязанность, которая мне поручена, была исполнена другим человеком, менее меня способным беречь ваше спокойствие.
— Прекрасно, но теперь оставьте сочувствие и говорите прямо. Я вам помогу, как это должно начинать: «королю угодно» или «король требует» — чего от меня хочет ваш король, господин камергер?
— Мой король хочет облегчения вашей участи, которое возможно…
— …с тем условием, чтобы… Ну, говорите, пожалуйста, скорее!
— Да, к несчастью, графиня, действительно с тем условием, чтобы вы вручили мне, для передачи его величеству, письмо, которое он вам дал когда-то…
— И ваш король полагает, — прервала графиня, — что я ему отдам это письмо, особенно теперь, после всех вынесенных мною унижений?.. Нет, любезнейший Ван Тинен, если вы приехали сюда только за этим, то уезжайте скорее назад и скажите, чтобы король никогда и не надеялся иметь в своих руках это письмо. Это мое твердое решение, которого я не изменю ни за что, ни перед какими требованиями.
Проговорив это, она поклонилась и добавила:
— Я вам, господин камергер, все сказала.
Ван Тинен, однако, не хотел этим ограничиться и не спешил сократить свидание с графиней, но он все-таки ничего не добился. Он еще промедлил несколько дней в Галле и еще приступал к Анне с теми же доводами и просьбами, но наконец должен был все это оставить и возвратился ни с чем к своему королю, которого роковой клочок бумажки, после долгих нашептываний, наконец стал, кажется, очень серьезно раздражать и беспокоить.
На другой же день по отъезде Ван Тинена Заклик доложил графине, что надзор за ними, кажется, усилен.
— Это весьма вероятно, — отвечала Анна, — нас стерегут строго и скоро могут начать стеречь еще строже. Теперь Заклик, если хотите, вам настало время сослужить мне самую большую службу.
— Я хотел бы их не мерить, графиня, все службы мои для вас мне одинаково и легки и малы.
— Благодарю вас.
Заклик моргнул глазами, желая скрыть слезы.
— Благодарю вас и никогда, никогда вас не забуду, — продолжала графиня, — но теперь мы должны расстаться.
— Как!.. Что такое? Я не расслышал или не так понял, графиня, что вам угодно было сказать?
— Нет, вы хорошо меня поняли: нам нужно расстаться, вы должны меня оставить.
— Ни за что на свете!
— Постойте, мое заключение, может быть, не кончится до моей смерти…
— Это все равно, пусть будет, что будет, но я хочу разделять с вами вашу участь.
— Благодарю, но вы напрасно меня перебиваете, вы должны оставить меня для моей же пользы.
— Для вашей пользы?
— Да, вы должны быть на свободе, когда я буду в неволе.
— Зачем?
— Потому что иначе моя неволя никогда не кончится.
Заклик поник головою и прошептал:
— Это другое дело.
— Да, это так, и потому слушайте же, что вы должны для меня сделать: вы должны спешить с моей запиской в Дрезден к Леману; взять у него все мои деньги, обратить их в золото и иметь все при себе; а между тем… зорко следить за тем, что будут делать со мной, и употребить все средства меня выручить. Согласны ли вы это исполнить?
— Как бы я мог быть на это не согласен, графиня?
— Благодарю. Теперь здесь делайте вид, что мы друг другом недовольны и что вы не хотите мне больше служить, и разыграйте это как можно аккуратнее.
— Постараюсь.
— Потом, о той бумаге, которую я вам отдала, уезжая из Пильницы…
— Она всегда на моей груди.
— Когда мы не будем видеться и, может быть, не будем знать, где искать друг друга, мы должны знать, как с ней поступить на всякий случай. Возможно все: возможно, что и вашей свободе будет что-нибудь угрожать; возможно, что и на вас нападут с тем, чтобы отнять бумагу… то вот, — она сжала своей дрожащей рукой его руку и прошептала, — тогда, при крайней опасности выдать эту бумагу, ввиду полной невозможности ее спасти…
— Уничтожить ее?
— Да, да, уничтожить, но…
— Уничтожить так, чтобы этого никто не знал?
— Чтобы никто не знал, чтобы все думали, что бумага цела, и чтобы король ее боялся и не торжествовал свою победу надо мной.
— Будьте уверены, что он ее торжествовать не будет.
И с этим Заклик вышел; весь следующий день он не приходил назад, а к вечеру явился с новым слугой, которого ставил на свое место. Но он в этот день не тем только был занят, что искал слугу на свое место, а побывал также и в местном управлении, с жалобой на притеснения и капризы своей госпожи, и просил позволения ее оставить.
Его выслушали и, принимая его за недальновидного простака, отвечали, что дело в его госпоже, а не в нем, и что он может отправляться на все четыре стороны.
Заклик купил себе коня, еще раз выслушал наставления своей госпожи и, поцеловав ее руку, уехал в Дрезден.
Следовавший теперь по этому же самому пути Ван Тинен был очень недоволен и собою и теми, которые послали его к Ко́зель.
Он прибыл в Дрезден в такой шумный день, когда было не до дел, потому что двор отправлялся на большой праздник в Морицбург. Небольшой морицбургский замок тогда только что был заново отделан, и в его окрестностях любили отдыхать и охотиться дрезденские горожане. За королем туда, разумеется, ехала вся его обычная свита, и туда же отправился Тинен на тот случай, чтобы там же, если будет удобно, представить и свои донесения. В числе дам короля при нем тут были княгиня Тешен, графиня Кенигсмарк и Денгоф с ее сестрою Поцей. Денгоф была не в духе, потому что Тешен была ей неприятна, а Тешен и Кенигсмарк, в свою очередь, презрительно поглядывали на Денгоф.
Август был очень занят праздником, которым хотел сам распоряжаться, и вздохнул только, когда вся программа была исполнена, и король от трудов своих сел отдохнуть за бокалом доброго вина.
— А что это, мне кажется, что я как будто видел здесь сегодня этого голыша Ван Тинена? — спросил он.
— Как же, ваше величество, он вернулся из Галле, — отвечал Левендаль.
Август посмотрел на него вопросительно и вскоре отошел с ним в сторону и спросил весьма резко:
— С чем вернулся Ван Тинен?
— Ни с чем, государь.
— Опять ни с чем? Он ничего не может сделать!
— С графиней, ваше величество, ничего добром нельзя сделать.
— Да какое, к черту, ей там добро; она терпит и изрядно терпит и, я думаю, весьма могла бы оценить теперь свободу!
Август поморщился:
— Ах, как это мне стало противно!
— Всем это уже опротивело, ваше величество.
— Ну, так надо же это кончить!
— Для того, чтобы все было кончено, нужно только одно ваше слово.
— Хорошо, я даю вам это мое слово! — воскликнул гневно Август. — Я не хочу этого больше терпеть и требую, чтобы это было кончено, кончено и кончено!
Он при каждом слове пристукивал нетерпеливо ногой и, глядя из-под бровей, докончил:
— Нынче же приготовить от меня письмо к королю прусскому о ее выдаче! Написать, что я… прошу ее выдать… как покусительницу на мою жизнь…
— Слушаюсь.
— Написать, что она сама этим похвалялась и теперь живет с этими похвальбами… и вообще вытребовать ее как преступницу на нашу границу.
— А с границы?
— В Носсен! Этот старый замок в пустыне очень хорош для тех, в ком надо сбить спесь и безрассудство.
Письмо было отправлено в Берлин с курьером, а король Фридрих, конечно, не колебался ни одной минуты, выдать ли беспокойную даму. По его приказанию к Анне немедленно явился поручик полка князя Ангальт-Дессаусского по фамилии Духармой и объявил ей королевское приказание выехать на границу в его сопровождении.
Анна в первую минуту была поражена этим известием, как громом, а потом воскликнула:
— Боже! Что же это за несправедливость! — И, упав к столу, она заплакала. Этим временем наскоро собрали ее вещи и подали карету.
В отчаянии Анна бросилась в глубину экипажа, лошади поскакали, эскорт прусской конницы под командой Духармоя последовал за каретой.
Всю дорогу до саксонской границы графиня не подавала никакого признака жизни, но чуть экипаж остановился и в его окно заглянула голова в шляпе саксонской формы, графиня вздрогнула и, торопливо достав из кармана часы и кошелек с деньгами, предложила их офицеру и солдатам.
Офицер отказывался, но она его упросила взять, чтобы не видеть, как все это у нее отнимут саксонцы.
VIII
С той минуты, как графиня Анна попала на саксонскую территорию, она сделалась в полном смысле арестанткой. В Липске, правда, ей дали провести одну ночь, но зато тут же рано утром к ней явился чиновник и, предъявив ей письменный приказ короля подвергнуть все вещи тщательному осмотру, тотчас же принялся за дело. Все сундуки, шкатулки были перерыты, бумаги и драгоценности отобраны и опечатаны, и потом ее повезли далее. Куда лежал путь, об этом ей не говорили ни слова.
Конный отряд солдат так плотно окружал карету, что она не могла ни распознать местность, ни получить какие бы то ни было сведения от посторонних.
Опять ехали быстро и безостановочно и к вечеру достигли какой-то равнины, на горизонте которой показались очертания, похожие на стены и башни. Очертания эти становились все яснее, и наконец карета въехала на двор замка.
Замок казался давно необитаемым, но в его главных дверях, однако, показались люди, которые вынули ослабевшую графиню из экипажа и повели ее под руки вверх по узкой лестнице в довольно просторное помещение, по-видимому, несколько приведенное в порядок. Комнаты имели огромные камины, высокие узкие окна, ободранные стены и самую скудную, чисто арестантскую, меблировку.
Измученная Ко́зель, окинув взглядом свое неприглядное жилище, бросилась на кровать и провела в ней ночь без сна, но в страшных грезах, которые почти у каждого порождает с непривычки неволя.
Чуть на небе засерело, она встала и, пока приставленные к ней слуги спали, бросилась к окнам, чтобы определить, что за местность, куда ее заживо похоронили? Повсюду была еще глубокая тишина, только в коридоре у дверей гулко отдавались шаги часового. Анна, поместившись в глубокой нише окна, припала лицом к оправленным в олово, мелким стеклам оконной рамы. Сколько позволял слабый свет, она видела перед собой равнину, которая сливалась с синевшим на дальнем горизонте лесом. Внизу откуда-то шел дымок, очевидно, поднимавшийся с очага.
Графиня поняла, что замок стоит над обрывом и что у подножья обрыва есть жилье; но это открытие еще немного говорило. Зорче всматриваясь в разъяснявшуюся даль, графиня увидела, что по долине шла широкая, обсаженная вербами дорога, на которой, однако, теперь не было заметно никакого движения. Графиня оставила оконную нишу и перешла из спальни в другой покой, где стояли большой дубовый стол, две лавки и несколько стульев, а на мрачных стенах висели два запыленных портрета. Тут же был и камин с гербовыми украшениями, которые были, впрочем, так беспощадно сглажены временем, что утратили все геральдические особенности, по которым можно было бы определить, чью родовую гордость должно было напоминать это изображение. За комнатой была еще третья, круглая, находившаяся уже в самой башне; окно этого покоя выходило на другую сторону замка, но и из этого окна виднелись только леса — ничего такого, что могло бы навести на мысль, что это за место.
В круглой башне был пустой шкаф, на одной из полок которого валялась старая Библия, сильно пострадавшая от времени и от мышей; Ко́зель жадно схватила книгу, но она выскользнула из рук и рассыпалась на листочки.
Тут же, в этой комнате, были запертые тяжелым замком железные двери, которые, вероятно, вели в какие-нибудь подземные помещения замка.
Пока графиня уныло обошла все это, на дворе уже посветлело; у окон запорхали ласточки и внизу, в долине, показалось тихо выходящее на пастбище стадо. Ко́зель поспешила вернуться в спальню, и хорошо сделала, потому что состоявшие при ней женщины уже проснулись. Анна выпила поданное ей теплое питье и снова уселась на каменной лавочке в нише. Что же ей было делать? Уже первые часы заключения в этой тюрьме были ужасны, а что ждало ее в будущем? Анна просидела весь день у своего окна и видела, как в поле далеко тянулись какие-то возы, люди перегоняли какое-то стадо; далее кружилось по дороге пыльное облачко и потом развеялось… Так шли часы за часами, и вот снова появились служанки и подали обед — плохой, настоящий арестантский. Ко́зель расплакалась и ни к чему не прикоснулась. И снова она подходила к окнам и снова смотрела на дорогу, не видно ли на ней Заклика; но верного слуги не было.
Так шли день за днем, пока она не заметила, что внизу под стенами какой-то ободранный детина собирал траву. Анна бросила ему уцелевшую у нее каким-то образом монету и, высунувшись в окно, тихо спросила, как называется замок. Парень не сразу понял, о чем его спросили, а потом не сразу собрался робко вымолвить: Носсен… Для Анны название было совершенно незнакомо.
Гораздо более отрадного доставил ей всадник, которого она однажды увидела после полудня из своего окна.
Это был человек, который держал путь со стороны Дрездена; он ехал тихо, опустив поводья, и, по-видимому, если не с любопытством, то с интересом осматривал окрестность. Анне даже показалось, что он старался быть замеченным из замка и сам хотел там что-то высмотреть и заметить.
Милосердный Боже! Неужто ты так ко мне милостив, неужто это Заклик? — подумала графиня и, не размышляя более, махнула белым платком.
Всадник тотчас же достал платок и, как будто отирая им запыленное лицо, дал знак, что он видел сигнал и на него отвечает. Это был никто иной, как Заклик, и сердце ее сильно забилось; друг и притом единственный в мире, преданный и верный друг был близко: он ее помнил, о ней заботился и, может быть, что-нибудь придумал для ее спасения…
Всадник между тем тихо обогнул замок и скрылся за обрывом горы.
Вернемся теперь к Заклику и посмотрим, что стало с добрым парнем с тех пор, как мы его потеряли из виду.
Заклик, оставив дом Анны, еще несколько дней пробыл в Галле. Он хотел понаблюдать, что будут творить с графиней, но пруссаки нашли, что ему здесь нечего делать, и приказали убираться. Он повиновался и поехал в Дрезден, а прибыв сюда, тотчас же отправился к Леману.
Банкир, конечно, трусил и не рад был такому гостю, однако, приняв нужные, по его мнению, предосторожности, сообщил Заклику, что Анне, вероятно, грозят беды, потому что король на нее очень зол, а раз он начал кого-нибудь преследовать, то уже не устанет в этом, пока не доканает.
— Вот и теперь, — продолжал он, — ее имущество разыскивается и конфискуется. Пильница уже взята в казну, другие имения тоже. Все отбирают как будто для ее же детей. Даже и у меня забрали все, что ей принадлежало… Да, да, забрали! Король присылал… ну, что же было делать, я не мог сопротивляться. Они взяли осмотрели мои книги, а там все записано, я не мог, не мог скрывать и отдал.
— Полноте, пан Леман!
— Что вы… не верите?
— Право, не верю.
— Напрасно, напрасно не верите, отдал, ей Богу, отдал.
— Все?
— Ну, разумеется, все.
— И ничего, ничего не припрятали для моей бедной графини?
— Нельзя было, пан Заклик, невозможно.
— Вот так поздравили вы ее! — проговорил Заклик. — А она было поручила мне теперь взять у вас большую сумму.
Говоря это, Заклик достал зашитую у него в рукаве записку и подал ее Леману.
Банкир взял дрожащими руками листок и, пробежав его, молвил:
— Хорошая бумажка: она зараз может спровадить меня в Кёнигштейн, а Флемминга с Левендалем припустить к моим сундукам. Исчезни она совсем! И он ее быстро сжег на свечке, прежде чем Заклик успел остановить его.
— Полно, — сказал он, — не волнуйся. — И достав из бюро, вероятно, данный ему кем-нибудь в залог небольшой золотой, усыпанный драгоценными камнями крест, сказал:
— Поклянись-ка прежде мне перед этой штукой, что ты даже на пытке меня не выдашь!
Заклик взял крест, поднял вверх пальцы и сказал:
— Я в этом присягаю, но вы могли бы мне верить и без присяги.
— Ну, ничего, а этак все лучше. Положите же теперь опять эту штуку назад и слушайте. Что, если бы я вам дал деньги, а вас поймают и эти деньги у вас найдут?
— Что же за беда! Во-первых, я могу иметь свои деньги, а во-вторых, и графиня могла мне дать эти деньги.
— Правда, правда, но все, что принадлежит графине, теперь конфискуется. Однако, впрочем, я не король, и что мне доверено, то я должен возвратить. — И он отворил железный сундук, достал оттуда мешок и начал считать деньги. У Заклика отлегло от сердца, он видел, что дело пошло на лад, и пока банкир копался в мешках, Заклик положил свою усталую голову на руки и крепко уснул. Окончив, Леман слегка тронул Заклика за плечо. Тот сию же минуту очнулся, протер глаза, загреб выложенные Леманом деньги и стал прощаться.
— Прощайте! — отвечал Леман. — Не осуждайте меня, что я осторожен… может быть, даже труслив, у меня есть дети, надо и их пожалеть.
— Что об этом и говорить, пан Леман!
— Да, я с большим, большим трудом и риском сберег деньги графини. Наши счеты с ней теперь кончены, я выплатил ей все, что у нее взял. Но в наших руках деньги растут. Вот, возьмите и то, что наросло. — И он сунул в руки Заклика еще мешок и молвил: — Ну, теперь все. Затем пусть будет так, что вы у меня как будто и не были, никаких дел со мной не имели и даже совсем меня не знаете, а я вас не знаю.
— Пусть будет так, если хотите.
— Я вас об этом покорно прошу.
— Извольте, пан Леман, извольте.
Леман сжал руку Заклика и выпроводил его от себя через садовую калитку.
В городе Заклику тоже казалось небезопасно, и потому он приютился в предместье над Эльбой, где в те времена жили еще неонемеченные венды. У одного из них и пристал Заклик.
Человека этого звали Гавлик. Это был бедный честный рыбак, который давно знал Заклика и потому и теперь нашел у себя хлев для его лошади, а в хате уголок для самого Заклика.
Ни Гавлик, ни его жена не имели никаких понятий о Ко́зель, о ее падении, а потому им не было никакого дела, зачем Заклик появился в Дрездене.
Отдохнув, Заклик встал рано утром и, поплотнее закутавшись, отправился к дому шута. Он надеялся дождаться, когда Фрёлих выйдет на улицу, чтобы разузнать, что угрожает графине Ко́зель.
Расчет был верен: старый Фрёлих в свой урочный час вышел из дома и был очень удивлен, когда увидел на ступеньках своего крыльца сидящего человека.
— Эй, приятель, кто вы такой? — закричал Фрёлих. — Позвольте мне полюбопытствовать, что вам тут нужно?
Заклик обернулся.
— Ба, ба, ба! Кого я вижу? Что с вами сделалось, почтеннейший господин Унглюк, что вы тут прилипли к моему дому? Э, да вы, кажется, опять что-то невеселы, точно как будто вы недавно женились. Откуда вы теперь?
— С дороги.
— Да, да, да; с дороги-то вы, с дороги, но только с какой? Вы ведь католик, так, пожалуй, странствуете, держа путь в чистилище. Ну, что же, оно интересно. А с землею-то, видно, все-таки жаль расстаться, а? Любопытство, небось, влечет, про что-нибудь хочется сведать?
— Хочется, — отвечал, улыбнувшись, Заклик.
— А о чем, например?
— Да обо всем, что тут делается!
— Где это «тут»: при дворе нашего благочестивого Августа, или во всем Дрездене, или во всей Саксонии или наконец на всем земном шаре?
— Что мне земной шар!
— Да, конечно, земной шар это пустяки в сравнении с тем, чем заняты наши мысли; но при всем том я думаю, что вы, однако, ведь не имеете намерения сделать меня историографом событий счастливого царствования Августа, которые не могут быть описаны на целой воловьей шкуре, так скажите попрямее, что вы хотите знать?
— Не знаете ли вы, что сделали или хотят сделать с моей прежней госпожой?
Фрёлих оглянулся и, приложив к губам палец, отвечал:
— Неужто вы о ней ничего не знаете?
— Ничего не знаю.
— Я полагаю, что та, во власти которой был наш король, теперь сама в его власти…
— Но где же она заключена? — спросил Заклик.
— Говорят, будто в каком-то замке Носсен; но это, должно быть, ненадолго.
— Почему вы так думаете?
— Да уж, верно, для нее выстроят что-нибудь попараднее, — засмеялся Фрёлих и сейчас же добавил: — Нет, черт возьми, не хотел бы я родиться женщиной! Правда, что и мужчиной быть не лучше, ну да все-таки… А впрочем, если бы от меня зависело, то я, верно, пожелал бы родиться ослом. Чудесное, право, положение: мяса ослиного не едят; шкура у этих почтенных животных такая толстая-претолстая, что оберегает его от побоев как нельзя лучше; а когда долгоухие запоют свою арию, от них все убегают и оставляют их в покое. Прибавьте к этому их неизменный аппетит и неприхотливый вкус, и вы должны сознаться, что они имеют много прав быть счастливыми.
— Носсен! Носсен! — в задумчивости повторял Заклик. — Что же это за Носсен, и где этот Носсен?
— Вона! Прошу рассуждать с этим человеком! Я ему говорю об осле, а он отвечает о Носсене!.. Эй, приятель! Что у вас застряло в этом Носсене? А не будем-ка лучше говорить о таких скучных местах, как Носсен! Говорят, что там скверно, и я там ни за что не хотел бы очутиться, чего, кстати, и вам пожелать честь имею!
И Фрёлих со своей официальной улыбкой откланялся.
Через своего хозяина Заклик доведался кое-как, где находился Носсен, и расспросив о ведущей к нему дороге, в тот же день выехал туда, держась русла Эльбы.
Он не только благополучно нашел Носсен, но был так счастлив, что тамошняя узница тотчас же его заметила. Заклик был счастлив уже тем, что его появление могло утешить Ко́зель.
Оставив свою лошадь на постоялом дворе под вывеской «Золотой подковы», он сказал, что торгует кожами и приехал за товаром.
Прежде всего, разумеется, надо было хорошенько познакомиться с замком.
Порядки были довольно строги, и в замок никого не впускали, а потому проникнуть туда было мало надежды. Окна комнат в башне были высоко, и, вероятно, это внушало страже так много уверенности, что она даже не оберегала наружных стен. Караул содержался только внутри, на дворе и в коридорах при покоях графини.
С задней стороны замка была некоторая возможность пробраться под самые окна; но зато голая скала была так открыта со всех сторон, что на ней издали можно было увидеть всякую движущуюся точку.
Чтобы прийти к какому-нибудь определенному плану действий для избавления носсенской пленницы, нужно было много времени, а для этого прежде всего требовался предлог жить в здешних окрестностях.
Заклик притворился больным и щедро платил ухаживавшим за ним хозяевам сельской гостиницы.
Теперь они сами старались удержать его у себя как можно долее.
Этот же хозяин, которого звали Вуйехом, сообщил Заклику, что к ним в замок на днях привезли ту отчаянную даму, которая покушалась на жизнь короля.
От него же Заклик узнал, сколько солдат составляют стражу и какие приняты меры предосторожности против побега арестантки. Ей прислуживали две женщины, экономка и камеристка, и двое мужчин, повар и чернорабочий.
Не торопясь выздоравливать от лихорадки, от которой хозяин лечил его медвежьим салом, Заклик, выходя подышать чистым воздухом, все более и более знакомился с местностью замка. Но ему важно было познакомиться с лицами, окружающими, или лучше сказать, стерегущими Ко́зель, и случай ему не отказал в этом.
IX
Однажды утром, когда Заклик сидел у себя в гостинице за кружкой игристого пива, туда вошли три солдата из замковой стражи.
Лица их показались Заклику знакомыми, он видел их на часах во дворце, и из солдат один тоже его вспомнил. Они разговорились.
— Черт меня съешь, — воскликнул солдат, — если вы не тот силач, который ломал подковы!
— Однако, вы памятливы, приятель, — отвечал Заклик, — да, бывало, что я и подковы ломал и вола за рога останавливал. Все это было, да прошло, теперь я и с бараном вряд ли справлюсь.
— Что же это с вами сделалось?
— Да вот все колики у меня, все хвораю.
— Ну, это худо; впрочем, поживите у нас подольше, полечитесь, авось вылечитесь; а нам все-таки веселее будет, хоть человека свежего видим, а то тут едва не одурели от скуки.
— Что же так?
— Да разве вы не видите, что за жизнь здесь и что за место?
— Не хотите ли кружку пива, приятель?
— Отчего же со старым знакомцем не выпить? Служба пакостная. И еще, черт знает, до каких пор продолжится!
— Правда, тут невесело! Ну, как-нибудь время коротаете?
— А как его коротать?
— Вот пивцо пьете.
— Редко.
— Отчего же?
— Отчего? — солдат рассмеялся. — Не все угощают им, приятель, так, как вы, а деньги спрашивают.
— Ну, в картишки, небось, играете?
— Опять деньги нужны, а без денег что за радость шлепать!
Вскоре солдаты зачастили «на доброе пиво» в гостиницу, а хворый Заклик, тоже изнывая от скуки, ходил их провожать в замок и заходил иногда далее границ, для этого положенных. Так он побывал не только на дворе, но даже в коридорах, по которым можно было дойти прямо до дверей арестантки.
Солдаты всегда были рады этому силачу, который к тому же оказался еще страстным и очень несчастливым картежником. Что ни день, то они забирали у него несколько талеров, но он за это не сердился и, уходя, так же медленно шел вдоль стен замка, как и приходил в него. Офицер команды жил в местечке и был занят ухаживанием за дочерью мясника, для которой он играл на гитаре и пел нежные романсы.
Заклик видел, что стражу обмануть нетрудно. Но зато выяснились почти неодолимые затруднения: помещения графини примыкали к квартирам командующего стражей офицера и старого надзирателя замка. Последний жил здесь со своим семейством, в коридорах постоянно проходили, невозможно было пробраться к узнице никем не замеченным. Надо было думать о другом пути: нельзя ли подкупить этого многосемейного чиновника и потом его обмануть? Другого нечего было делать, и Заклик решился это испробовать. Через солдат ему очень скоро удалось завязать знакомство с надзирателем, который оказался человеком очень удобным для целей Заклика: он был беден, жаден, скуп и весьма сговорчив. Начав угощать тюремщика, Заклик выведал от него, куда поместили Ко́зель, и узнал, что там есть старая железная дверь, ведущая в пространные камеры, где когда-то хотели устроить архив для старинных актов. Заклик высказал своему новому знакомцу большое желание взглянуть на эту старинную постройку, но тот на этот раз отмолчался.
На другой день они уже разговорились прямо о графине, и Заклик старался рассеять в надзирателе некоторые неблагоприятные для нее впечатления и внушить ему к ней сострадание как к женщине молодой, прекрасной и очень несчастливой.
— Судите сами, у нее все отнято: имя, положение, состояние, дети и наконец сама свобода, а еще, Бог знает, виновата ли она в том, в чем ее обвиняют!
— Ну, даром же не стали бы ее обвинять! — возразил надзиратель.
— Эх, мой почтеннейший!.. Отчего не стали бы обвинять и даром? Это не мы, простые люди, а там люди придворные, хитрые, коварные и жадные; а графиня была могущественна и богата.
— Богата?
— О, она и до сих пор очень богата! — отвечал Заклик. — Хотя, разумеется, ее порядком обобрали, но все-таки у нее остались еще очень много друзей, которые для нее ничего не пожалеют. А потом, будьте уверены, что она еще вернет свое могущество, и тем, кто ей сослужил бы теперь хоть маленькую службу, наверно, будет нехудо… А? Что вы об этом думаете, господин Герцог?
Господин Герцог (так звали надзирателя) думал то, что ему и следовало думать, то есть, думал, нельзя ли тут извлечь себе какую-нибудь выгоду.
— Да, — сказал он, — разумеется, если все это так, как вы говорите…
— Это все так, как я говорю, господин Герцог!
— Ну, тогда… тогда я должен думать, что вы знаете, о чем говорите.
Они молча взглянули в глаза друг другу и оба улыбнулись.
— Конечно, я знаю, — отвечал Заклик, — и даже нимало бы не удивился, если бы кто-нибудь из друзей графини вдруг явился бы сюда к вам и предложил бы вам хорошенькую сумму за то только, чтобы вы устроили ему возможность переговорить с графиней хотя бы всего одну минутку.
Заклик взглянул на старого Герцога, который молча поглаживал бороду.
— Подумайте-ка, что бы вы в таком случае сделали?
— Я поступил бы с этим искусителем, как наш мудрый Лютер с чертом: я пустил бы в него чернильницей.
— Ну, чернильницей это еще не так страшно: вы в него запалите чернильницей, а он в вас разом пустит целую горсть новых чеканных талеров, так перестрелка будет неравная.
— Да, это действительно пули не одного калибра. Если кому не жаль ребят, так этакой канонады, пожалуй, не выдержишь! — отвечал, смеясь, надзиратель.
— Э, оставьте вы в покое детей! Никогда до детей ничто это не коснется!
— Толкуйте-ка вы: не коснется! — засмеялся Герцог. — Как раз отец повиснет на виселице, а они пойдут по миру.
— Полноте, пожалуйста! Никто об этом никогда не узнает; и вы сами хорошо в этом уверены, а мы так только напрасно время в разговорах тратим. Берите-ка пятьдесят новеньких талеров, да и дело в шляпе.
— Как вы это странно говорите!
— Ничуть не странно!
— Да кто же мне их даст?
— А хоть бы и я!
— Ну, я так и думал, что это вы! — отвечал с усмешкой Герцог.
— Ну, так за чем же дело? Уверяю вас, что вам нечего опасаться: солдаты меня знают и будут на моей стороне, а я сам знаю, как с ними обойтись. Проведите меня в залу, когда при графине нет ее женщин. Постучимся в ее дверь, и я ей скажу несколько слов… Только и всего.
— Знаете ли, если бы не те бабы, что к ней приставлены, то мне, право, кажется, что я бы не мог вам отказать в вашей просьбе, — отвечал Герцог. — Но ведь они при ней, то та, то другая, безотлучно.
— На все есть средства. Разве нельзя, например, сделать так, чтобы их пригласила к себе ваша супруга?
— Э, нет, этак я не хочу. По-моему, баба никогда не должна ничего знать о серьезном деле! — возразил Герцог. — Нет, вы уже предоставьте мне это самому обдумать!
Заклик, разумеется, не возражал, а только выставил перед надзирателем пять стопок крупных талеров, которые и спустились в объемистый карман Герцога; а несколько дней спустя, когда графиня прохаживалась по своей спальне, она вдруг услышала легкий, но ясный стук в железную дверь, и едва подбежала к ней и постучала со своей стороны, тотчас же щелкнул замок и дверь отворилась, а на пороге ее показался Заклик.
— Графиня! — заговорил он. — Время дорого; много говорить нельзя; знайте, что я буду здесь в окрестностях, пока что-нибудь сделаю.
— Бежать, бежать отсюда! — живо отвечала графиня.
— Это не так легко, как вы думаете! Вы только будьте терпеливы и верьте, что я сделаю все, что возможно. А вы спускайте всякий день из окна, которое с Задней стороны башни, серый шнурок, я буду прикреплять к нему записочки о том, как идут наши дела и что вы должны делать. Теперь более говорить невозможно, я едва устроил и это короткое свидание. Вот вам кошелек с червонцами на всякий случай, они могут вам понадобиться, спрячьте их и прощайте!
Стоявший сзади него в тени Герцог уже торопил Заклика удалиться, и едва он шепнул графине название гостиницы, где остановился, как железная дверь снова замкнулась.
Узница ободрилась духом и, упав на колени, со слезами благодарила Провидение за оказанную ей помощь.
Герцогу очень понравились полновесные талеры, он почувствовал охоту добрать их до сотни и сам навязался к Заклику с предложением познакомить его с развалинами замка и теми запущенными частями, где он еще не был. Заклику все это, разумеется, было на руку, и талеры переходили к Герцогу, а у Заклика слагался план освобождения графини.
Осматривая развалины, он заметил старые крытые ходы, которыми можно было пробраться в замок и выйти из него. Один такой ход выводил почти на самую дорогу, и хотя этот выход был завален мусором, однако, была некоторая надежда, что он к чему-нибудь пригодится. Затем оставалось найти средства скорее перебежать из Саксонии и выбрать приют, безопасный от поисков Августа. Пруссия для этого, очевидно, не годилась, и Заклик в этом выборе все больше останавливался на Польше. Там, по его мнению, можно было так спрятаться, что никто не отыщет. Хотя всякие отношения Заклика с родиной были давно уже прерваны, но все-таки он имел там знакомых, дальних и близких родственников и притом он знал, что саксонец, кроме немногих сторонников в польской аристократии, был нелюбим всею страною и имел много заклятых врагов между влиятельной шляхтой.
Надо было припасти верного человека и лошадей для побега, и Заклик решился для этого на время отлучиться. Он сообщил графине о цели своей отлучки посредством записочки, привязанной к спущенному ею шнурку, и еще раз повидался перед отъездом с Герцогом, заинтриговав его возможностью заработать без всякого риска не пятьдесят талеров, а уже целую тысячу.
Старик слушал.
— С тысячей талеров, — говорил Заклик, — вы могли бы тихонько перебраться куда-нибудь к Рейну, выслав туда заранее свое семейство, и поживали бы себе там, как у Христа за пазухой.
Герцог молчал.
Прощаясь с солдатами, Заклик распил с ними несколько бутылок пива и, пообещав скоро опять сюда вернуться, отправился назад в Дрезден.
По отъезде Заклика Ко́зель в ожидании от него вестей находилась в лихорадочном состоянии. Ежедневно бегала она к окну и спускала свой серый шнур, но записок не было. Своенравная женщина еще не умела терпеть и негодовала, что не все делается так, как ей хочется. Впрочем, она в это время постаралась привлечь к себе одну из приставленных к ней женщин, которая казалась несколько податливее своей нелюдимой подруги.
Ко́зель не умела просто и душевно обходиться со слугами, и ей нелегко было научиться этому в заточении, где она еще продолжала считать себя женой Августа, но, однако, неволя заставила ее обращаться с Магдаленой — так звали младшую из ее женщин — теперь поласковее, но все это было неискренно и неискусно и потому не достигало своей цели. Графине не удалось привлечь к себе Магдалену. Денежные подарки, которые давала ей Ко́зель, конечно, подействовали на служанку, но не установили между ней и княгиней искренних отношений.
Так прошел месяц, а Заклик все еще не возвращался. Хлопоты его в Дрездене затруднялись тем, что его здесь почти все знали, и он должен был скрываться и действовать так, чтобы ничем себя не обнаружить.
А между тем прошла осень, наступила зима, и дороги сделались хуже, а следы явнее для погони. Надо было ждать до весны. Заклик съездил в Носсен и не без труда известил об этом графиню, прося ее потерпеть до теплого времени. Герцог, снова получивший при этом изрядные деньги, опять дозволил им свидание, для которого сам отворил двери, а посвященная на сей раз в эту тайну Магдалена стояла на страже. Теперь разговор мог продолжаться долее и Ко́зель имела время договориться с Раймондом. Побег отложен был до первых весенних дней. На Герцога теперь смело рассчитывали, не сомневаясь, что он за хорошую плату поможет графине выйти на волю.
Но зима, как назло, в тот год стояла холодная и долгая, и исполнение затеянного побега все отлагалось; а это, как известно, всегда очень дурно в подобных делах, зависящих от множества самых непредвиденных случайностей. Так было и тут: Герцог как-то немного подпил и сболтнул что-то жене, а она выпытала от него еще кое-что и поболее и, будучи женщиной рассудительной, стала соображать, что от выгод предлагаемой измены отказываться не следует; но следует, может быть, сыграть в двойную игру: прикинуться готовым оказать содействие побегу графини, взять деньги, а между тем, чтобы не утратить места, сообщить обо всем правительству.
Герцог, выслушав жену, промолчал, поглаживая свою бороду, но мысль показалась ему довольно практичной.
Графиня была уверена в Магдалене и уговаривала ее бежать вместе с собой; а у той были свои соображения. Она под предлогом свидания с родными отправилась на несколько дней в Дрезден и сообщила о приглашении Ко́зель своей сестре, которая служила при доме Денгоф. Сестры посоветовались и, надеясь на большую награду, решили донести обо всем Белинской.
Можно себе представить, какой переполох подняло это, когда разлетелось по городу! Немедленно было сделано распоряжение арестовать обеих сестер-доносчиц и допытаться от них подробностей затеи Ко́зель, а вместе с тем в тот же день в Носсен был отправлен новый отряд солдат на смену прежнему, причем караул был удвоен, и старый надзиратель Герцог сменен, закован и отправлен в Дрезден. С этих же пор замок стали стеречь и снаружи. Ко́зель ничего этого не ожидала и была очень удивлена, когда, проснувшись утром, нашла в комнате, смежной с ее спальной, незнакомого офицера, который имел поручение пересмотреть все ее вещи и бумаги, а также осмотреть замки и двери ее помещения.
Графиня поняла, что случилось что-то неблагоприятное, но не смела ни о чем спросить и опасалась всего более того, чтобы не арестовали Заклика. Но, на счастье, его здесь никто не знал под его настоящим именем, а наружность свою он маскировал так ловко, что по ней его узнать было трудно.
Записки Заклика, которые графиня получала при помощи шнурка, она сумела уничтожить, и доказательств к подтверждению доноса о Побеге не было, но тем не менее жизнь арестантки в Носсене с этих пор сделалась гораздо несноснее. К ней были приставлены новые слуги, которые обходились с ней самым сдержанным образом. Всех добрее был новый караульный офицер, который, несмотря на его мрачное лицо, имел мягкое сердце и однажды сам сказал графине:
— Я знал вас, графиня, в лучшие времена!
— Право, не помню, — отвечала Ко́зель.
— Ну, да где вам помнить меня, бедного и ничтожного человека, а я видел вас, состоя в королевской свите, и, признаюсь, никак не думал тогда, что мне доведется исполнять здесь при вас такую обязанность.
— Что делать! — сказала графиня.
— Конечно, что делать, графиня: у служащего человека служба прежде всего; но, однако, если я могу чем-нибудь быть вам полезен и в пределах моей власти облегчить вашу долю, то вы не ошибетесь, если на меня положитесь в этом.
Ко́зель посмотрела на него недоверчиво.
— Вы мне, кажется, не верите?
— Нет. Но я вам поверю, если вы мне скажете, что обо мне донесено?
— Подробностей я не знаю, так как все новые распоряжения вышли прямо от короля через маршала Левендаля, но велено переменить прислугу, надзиратель замка арестован.
— А еще кто пострадал за меня?
— Кажется, что, кроме слуг, никто. Впрочем, если я что-нибудь узнаю, я вам скажу: я ведь должен ежедневно приходить к вам. Вы не сердитесь, что я при слугах буду строг, но знайте, что я вас очень жалею и все, что могу, готов для вас сделать.
Он, откланявшись, ушел и вел себя, как обещал. Дни графини потекли вяло и уныло, и надежды ее, еще недавно столь живые, разлетелись прахом.
Заклик из слухов, распространившихся по Дрездену, узнал обо всем, что случилось, и притаился, выжидая, будут ли его разыскивать. Он понимал, как опасно было бы ему теперь показаться около Носсена; но вместе с тем чувствовал неодолимую потребность успокоить графиню известием, что он свободен и что она все-таки еще может на него рассчитывать.
С этой целью он оделся нищим и окольными путями побрел к Носсену. Шатаясь здесь вблизи замка, он высмотрел, что под окнами графини ходит часовой и что через шнурок ничего передать было невозможно. Но Заклик нашел другое средство дать ей о себе весточку: он повстречал странствующего торговца, развозившего перед Рождеством товары по деревням и местечкам. Такой торговец со своей коробкой пробирался всюду, и Заклику пришла мысль послать его в Носсен.
— Сходи, друг, в Носсен, — сказал ему Заклик, — я уверен, что там ты можешь сделать хорошее дело: там в замке сидит теперь графиня Ко́зель, и хотя она и заточена, но при ней немало прислуги, которой она, наверно, захочет сделать на праздники подарки. Я уверен, что, если ты туда заберешься, то славно поторгуешь.
У торговца, которого звали Трейе, заблестели глаза.
— Спасибо за добрый совет! — воскликнул он, потирая руки. — Право, спасибо, мне бы этого, признаться, и в голову не пришло!
— А мой совет, наверно, будет хорош особенно, если ты, любезный Трейе, согласишься при этом сделать графине маленькую услугу.
— Какую это?
— Самую пустую и безопасную: шепнуть ей потихоньку о ее старом слуге.
— А что же о нем шепнуть-то?
— Только всего, что, мол, ваш верный слуга, который ломал подковы, жив и ходит по белому свету.
— Что ж, это, кажется, неопасно?
— Да уж чего безопаснее! Так скажешь?
— Пожалуй.
— Ну, а если только скажешь, так увидишь, какая будет за это пожива; да еще кроме того…
— Что такое?
— И я еще кое-что за это принакину. Ты какой дорогой пойдешь из Носсена?
— Да этой же самой, праздники близко, а их надо провести вместе с женой и с ребятишками.
— Ну, так и прекрасно: мы, может быть, встретимся.
Трейе, как большинство торговцев, был человек сметливый и ловкий: он, добравшись до местечка, отдохнул и тотчас же отправился в замок. Солдаты хотели его прогнать, но он наделал такого шума, что вышел офицер и, сжалившись над ним, а также желая доставить какое-нибудь развлечение арестантке, послал спросить ее, не угодно ли ей что-нибудь купить у Трейе. Графиня, ради одного развлечения, пожелала видеть Трейе, и когда его ввели к ней, она стала пересматривать его товары, а он, улучив минутку, шепнул ей:
— Меня просили сказать вам, что ваш верный слуга, который ломал подковы, жив и ходит по белому свету.
Графиня чрезвычайно удивилась и, начав как можно более отбирать себе из коробки Трейе, спросила:
— Кто тебе это сказал?
— Он сам, он сам, всемилостивейшая.
— Где ты его видел?
— Я повстречал его здесь в окрестности.
Накупив у Трейе множество вещей для прислуги, графиня отпустила торговца, который оставил замок неимоверно счастливым и заночевал в Носсене.
На следующий день он пошел, как обещал, домой и в миле от Носсена снова повстречался с Закликом.
— Ну, что же? — спросил его Заклик. — Как поторговал?
— А, спасибо вам, поторговал на славу, если бы всегда так торговать, то скоро бы я перестал таскать эту коробку и построил бы себе дом в Дрездене.
— Отлично, а сказали ли вы, приятель, что я вас просил, графине?
— Как же! Как же, сказал, и графине это, видно, было очень приятно.
— Ну, спасибо!
— И вам спасибо, услуга невелика, а я сделал славный оборотец, и мне так весело теперь ехать к детям. Бог вам заплатит за это! Прощайте!
— Счастливый путь!
Между тем в Дрездене над арестованной прислугой носсенского замка производилось строгое следствие, по обычаям тогдашнего сурового времени, когда у обвиняемого добивались признания всеми возможными средствами. Герцог, однако, вел себя так умно, что ни в чем не признался, и его освободили. Женщины тоже выбрались из тюрьмы, измученные и истерзанные, но переполох, поднятый всем этим, не улегся: Август приказал перевезти Ко́зель в тот самый Столпянский замок, где она некогда была перепугана грозою и предсказаниями полоумной вендки.
За два дня перед самым Рождеством в замок Носсен прибыла пустая карета с лошадьми и верховой стражей, которой приказано было немедленно перевезти Ко́зель в Столпянский замок.
Ко́зель, заслышав необыкновенное движение в замке, бросилась к дверям: ей пришло в голову, не дарит ли ей Август к новому году свободу; но дверь отворилась, и к ней вошел чиновник.
— Что тебе надо? — спросила его Ко́зель.
— Мне надо, по повелению его королевского величества, сейчас же увезти отсюда графиню Ко́зель в Столпянский замок, всемилостивейше предназначенный ей для дальнейшего ее пребывания. Прошу вас за мною следовать!
Графиня с криком бросилась к стене, как будто желая разбить о нее свою голову, но ее схватили и почти насильно вывели и усадили в карету, которая 25 декабря 1716 года остановилась у ворот Столпянского замка. Подняв глаза, графиня увидела страшную башню святого Яна, предназначенную для ее заточения, и затрепетала, вспомнив предсказания Млавы.
X
Старый Столпянский замок, о котором довольно говорилось в одной из глав первой части этого рассказа, представлял самое неприветливое жилище. Прежнее место пребывания мессенских епископов частью было переделано, а частью обратилось в развалины. Комендант замка был Ян Фридрих фон Велен, он занимал неудобную квартиру в одном бастионе, а для несчастной Ко́зель отвели башню, которая еще во время епископов служила тюрьмой; каждый этаж ее состоял из одного обширного каземата со сводами.
Для бывшей владелицы дворца «четырех времен года» должны были служить две комнаты. Нижний этаж башни, засыпанный щебнем, давно уже был необитаем; но два верхних приготовили для графини. В одном из них устроили наскоро кухню и жилье для прислуги, а в другом поместили саму Ко́зель.
Когда графиню ввели в эту шестиугольную комнату, со всех сторон освещенную узкими окнами, с самой скудной и печальной тюремной обстановкой, она оглянулась кругом в страхе и потеряла сознание. Ее привели в себя, но, однако, долго должны были за ней присматривать: как только глаза ее обращались на стены этой тюрьмы и на замкнутые двери, ею овладевало бессильное бешенство, за которым следовали столбняк и слезы.
Велен, старый солдат, никогда не воевавший с женщинами, терял голову и терпение с этой беснующейся гостьей. Первый день рождественского праздника, справляемого во всей Германии с такой радостью у домашнего очага, был отравлен для Белена, и даже его солдаты, стоявшие у дверей каземата, были смущены вылетавшими оттуда стенаниями.
Двое суток Анна провела в таком отчаянном состоянии, что можно было опасаться за ее жизнь, но на третий день она вдруг поднялась с постели и потребовала перо и бумагу. Она хотела писать королю, и желание это было предусмотрено. Ей дали бумагу и перо. Но все письма ее должны были поступать в руки Левендаля со строгим приказом, чтобы прежде него никто не смел их вскрывать.
Август устранил себя от чтения этих отчаянных посланий: он как будто боялся, чтобы они не пробудили в нем чувство сострадания к некогда столь любимой им женщине, и поэтому письма графини заранее были обречены на сожжение. Надо сказать, что и сама Анна ожидала, что такое распоряжение возможно, но она надеялась, что хотя бы одно ее письмо как-нибудь случайно попадет в руки Августа, и потому теперь опять написала письмо и, отдав его коменданту для пересылки, стала спокойнее. Когда первые порывы ее отчаяния улеглись, она с тяжелым чувством стала припоминать окружающую местность, стены замка, которые тогда так устрашили ее своим мрачным видом; гору, покрытую лесом, и голые скалы, и считала себя погребенной здесь заживо.
Слуги обращались с ней сурово, но и это еще казалось слишком мягко, по мнению коменданта, хриплый голос которого беспрестанно гремел по коридорам.
Велен получил из Дрездена приказ содержать узницу как можно строже и исполнял это в точности.
О бегстве отсюда нечего было и думать: башня была очень высока и так испещрена окнами, что часовые чуть не ежеминутно могли видеть узницу, которой некуда было спрятаться от их докучных взоров. Кроме того, чтобы выйти из замка, надо было пройти два двора и двое замкнутых ворот, и в каждых из этих ворот стояли бессменные часовые.
Кроме коменданта и нескольких офицеров и солдат, обреченных разделять эту ссылку с Ко́зель, в замке не было никаких других обитателей. Прислуга же, приставленная к графине, никуда не выпускалась.
Старый Велен, прежде никогда не видевший графиню и думавший, что король оставил ее за старость, был очень удивлен, увидя в своей арестантке красивую женщину. Ко́зель тогда шел уже тридцать шестой год, но она была еще прекрасна.
И в чем же теперь должна была проходить ее жизнь?
Когда в Носсене поспешно собирали принадлежавшие графине вещи, кто-то случайно уложил с ее пожитками растрепанные листы Библии. Таким образом, они были привезены с графиней, и она зачитывалась теперь этой святой книгой, в которой запечатлелись столько человеческих страданий.
Растрепанные и частью утраченные листы возбудили в графине желание иметь целый экземпляр Библии, и она послала к Белену просьбу купить для нее книгу. Комендант сообщил об этом в Дрезден, где и было разрешено исполнить желание арестантки.
С того времени Библия всегда лежала на ее столе, и графиня Ко́зель нашла в ней если не утешение, то силу к перенесению страданий.
Так дожила она здесь до весны. С приближением тепла появились ласточки и стали поправлять свои старые гнезда, потом начали зеленеть деревья. Вокруг пустынного замка дохнуло обновлением и возрождением. На полях появились плуг и рабочие люди, а Ко́зель все сидела одна-одинешенька и, глядя в окна своего каземата, завидовала этим труженикам, евшим в поте лица хлеб свой.
Ее же не видел никто посторонний, кроме солдат. Сам старый Велен, прохаживаясь с трубкой в зубах по замковым залам, не раз пожалел бедную узницу и мысленно осуждал своего повелителя за его продолжительную жестокость.
У подножья башни был маленький клочок земли, огороженный стенами; он был так невелик, что на нем, собственно, можно было только похоронить человека, но тут все-таки теперь цвели полынь, душица и розовая дикая гвоздика. Велен подумал, что не будет большим преступлением, если он предоставит графине возможность выходить хоть в этот крошечный палисадник. Но он побоялся показать строптивой женщине малейшее участие и ограничился тем, что велел убрать этот палисадник, чтобы арестантка могла хоть смотреть на цветы и зелень. Вскоре здесь начались садовые работы, за которыми узница могла следить, и они ее занимали.
Ей казалось, что если бы она могла сойти туда, то это было бы огромным счастьем, и вот это счастье осуществилось: Велен в один прекрасный день позволил ей туда выйти. Когда Анна сбежала с лестницы и ступила на землю, воздух показался опьяняющим, солнце несносным, свет ослепительным. Она вынуждена была постоять несколько времени, держась за стену, и потом села на дерновую скамью и горько заплакала. Это уже было счастье. С этих пор садик сделался для нее большой отрадой, и она проводила в нем целые дни, сажая цветы.
Но кроме этого в ее положении ничто не изменилось. Прошли весна и лето, а Анну все окружала неизменная глухая тишина; на ее письма не было никакого ответа. Даже Заклик пропал, и лишь осенью, когда садик уже успел завянуть, к графине был допущен, по ее требованию, поставлявший ей некоторые необходимые вещи еврей, который совсем неожиданно шепнул ей, что тот, кто ломал подковы, жив и когда-нибудь явится.
Более еврей ничего не сказал, но и это уже оживило узницу.
Заклик, однако, не забыл свою графиню и не бездействовал. Обманувшись в своих расчетах освободить ее из Носсена, он должен был обдумать новый план освобождения. Он знал, где она находится и с какой строгостью содержат ее в Столпянском замке.
Суровость, с какой поступал Август, пугала соперницу Анны госпожу Денгоф, которая не могла похвастаться сильной привязанностью к ней короля.
Кружок новой фаворитки, правда, был великолепен, но ее приближенные не имели никакого политического влияния, и ни на что прочное не рассчитывая, она сама чувствовала шаткость своего положения и даже помышляла о том, как бы тихо и мирно освободиться от опасных ласк короля. С этой целью она посматривала то на Безенваля, то на молодого Любомирского, раздумывая, кого из них взять в мужья.
Холодный и эгоистичный нрав Августа в это время начал внушать многим очень серьезные опасения, и люди, которые как будто бы пользовались его расположением, на самом деле за себя тревожились, и не напрасно. Иные даже искали спасения в бегстве. Так, отставной муж фаворитки Ко́зель, Гойм, в котором король нуждался как в финансисте, наученный судьбой Бейхлинга и Имгофа, продал свои имения в Саксонии и, переведя деньги в чужие края, оставил саксонскую службу и уехал в Силезию, а потом поселился в Вене.
С Денгоф при королевском дворе прекратилось властвование фавориток, и все изменилось. Август старел и терял охоту к шумным развлечениям. Одна еще липская ярмарка его немножко занимала, и то ненадолго.
Заклик при всей скромности своего положения все это знал и принимал в расчет. Время для похищения графини из Столпянского замка ему теперь казалось удобным, но замок ему был почти совсем не известен. Он отправился осмотреть его и познакомиться с ним поближе.
В местечке Заклик мог проживать совершенно безопасно, так как там не обращали особенного внимания на проезжающих. Тут он узнал все порядки в замке и, придя к убеждению, что сразу здесь ничего сделать нельзя, уехал назад в Дрезден с самой смелой и отважной мыслью: он решился поступить на военную службу и потом всячески добиваться зачисления в гарнизон Столпянского замка. Правда, здесь очень многие знали, что Заклик был некогда в штате графини Ко́зель, но он надеялся, что это не помешает ему осуществить свои намерения.
Он смело объяснял теперь всем, что с тех пор, как уехал из Саксонии, он жил в Польше, но не поладил с домашними, как не поладил прежде с Ко́зель, и вернулся в Дрезден, с тем чтобы служить Августу в его саксонском войске. Короткое пребывание в Дрездене Сенявского, куявского епископа, который знал Заклика в молодости, дало последнему возможность хлопотать через епископа о разрешении купить капитанский чин. Епископ помог земляку, но когда об этом доложили королю, Август поморщился, но, однако, приказал представить себе Заклика. Не видя его несколько лет, Август сначала едва его узнал, потом подозрительно посмотрел на него, но, заговорив с ним и видя, что тот отвечает смело и спокойно и вообще держится добрым малым и о прежней своей госпоже говорит простодушно, велел записать его в военную службу. Заклик купил себе капитанский чин и надел мундир саксонской гвардии.
Гвардейские войска и в то время служили более не для боев, а для парадов и других воинских потех, офицеры чуть ли не по целым годам не видели своих полков, а солдаты холодали и голодали, терпя лишения. Современники свидетельствуют, что были целые полки, которые считались по спискам и на содержание которых отпускались деньги, тогда как полков этих никогда в сборе не было. Да и вообще беспорядки были страшные: начальники беспрестанно сменялись; комиссариат крал без всяких церемоний; в личном составе войска преобладали отбросы страны как в отношении умственном, так и во всех других. Что никуда уже не годилось, то шло в войско, здесь были всевозможные искатели приключений, шулеры, плуты и даже особого рода кляузники, разводившие особенного же рода полковые процессы. Споры и скандальные столкновения между офицерами были явлением самым обычным, генералы, офицеры без всяких церемоний жили на солдатскую копейку, солдаты же, доведенные до отчаяния, промышляли воровством, грабежами и даже разбоями.
Маркграф Людвиг Баденский, под командованием которого в 1703 году была часть саксонского войска, терял голову с этими людьми и говорил, что с ними невозможно справиться. История полковника Гертца и его выступления из Польши в 1704 году дают хороший пример того, какова была дисциплина в саксонских войсках. Гертца за его гнусные поступки велено было арестовать, но он сам арестовал посланные за ним войска.
Но зато эта распущенность саксонского войска и была всего более на руку защитнику графини Ко́зель. Ясно, что с такими деморализованными людьми за деньги возможно было сделать все или почти все. Он очень удачно вошел в офицерское общество, проводившее самую разгульную жизнь, и в беспрерывных кутежах скоро перезнакомился со всеми и со многими даже сошелся весьма близко, чему способствовали небольшие ссуды, которыми он умел прислужиться своим новым товарищам.
Устроившись таким образом, он нашел случай дать знать о себе Ко́зель, которая удивилась новому положению своего слуги и не хотела верить, что он, пожалуй, в скором времени будет в числе ее охранителей в Столпянском замке.
Но на самом деле Заклик приближался к этому.
XI
Земля совершила свой оборот, и опять стояла весна; опять зеленел укромный малый садик Ко́зель, и арестантка опять сошла в него и принялась там за цветочные грядки.
И офицеры и солдаты гарнизона, завидя ее, снова стали на нее заглядываться; и графиня, избегавшая их пристальных взглядов, заметила между офицерами одного, который словно сам напрашивался в караул как раз в те часы, когда Анна выходила подышать воздухом. Кое-как ей удалось узнать, что это был молодой Велен, племянник старого коменданта. Старик держал при себе этого молодого человека, чтобы хорошенько его вымуштровать и потом вывести на хорошую служебную дорогу; притом же, будучи страстным шахматным игроком, он имел в нем бессменного партнера.
Этот молодой Генрих фон Велен не имел склонности к военной службе, но его вдовая мать, рассчитывавшая на наследство после бездетного коменданта, которого считали очень богатым, принудила сына надеть мундир и служить по желанию дяди.
Двадцатилетний Велен, разумеется, смертельно скучал в Столпянском замке, тем более что не имел никаких надежд оттуда скоро вырваться.
Он был мечтателен, молчалив, любил уединение и сразу влюбился в Анну, страдальческое положение которой благоприятствовало разгару молодого чувства. Это началось почти с первого же его взгляда на Анну, и к описываемой нами поре любовь молодого человека созрела до серьезного состояния. Анна со свойственной женщинам проницательностью подозревала, или даже лучше сказать, знала эту страстную тайну молодого Велена, потому что влюбленный юноша старался, чем мог, услужить и принести облегчение прекрасной узнице.
Графине нетрудно было догадаться, что теми небольшими льготами, которыми она пользовалась, она была обязана ходатайствам молодого Велена: он выпросил у дяди для нее позволения пользоваться садиком, и когда комендант куда-нибудь отлучался, молодой человек всякий раз находил возможность оказать арестантке какую-нибудь другую услугу. Все это показывало Ко́зель, что молодой человек при случае мог бы быть ей полезен в более серьезном деле.
Всякий легко может представить, как было велико ее удивление, когда она однажды, входя в свой садик, увидела, что Генрих Велен стоит и разговаривает с другим офицером, голос которого Анне показался знакомым. Она взглянула на незнакомца пристальнее и узнала, что это был Заклик. Офицеры говорили между собой так громко, что графиня могла все слышать. Заклик рассказывал Белену, что он прислан сюда, чтобы занять место капитана Зитацера, которого увольняли на родину.
По тону их речей можно было заключить, что Генрих Велен и Заклик были уже немножко приятелями.
— Ну, а что же, капитан фон Велен, — говорил капитан фон Заклик, — как тут у вас живется? Говорят, невесело; да откуда и быть веселью в этих старых монастырских развалинах?
— Э, мой любезный капитан, — отвечал Генрих, — везде жить можно; а, разумеется, кто хочет веселиться, тому сюда не следует забираться. Но природа здесь прекрасная, и тихо жить очень можно. Я уже привык к этому.
Ко́зель слушала этот разговор, и сердце ее сильно билось.
— Ну, а жить, так и будем жить, капитан Велен! — отвечал Заклик. — Только, если это не будет преступлением, вы, как хотите, должны представить меня как вновь прибывшего нашей узнице.
— О, охотно, капитан Заклик, охотно! От всего сердца готов служить вам этим! — воскликнул Велен, которого чрезвычайно обрадовал случай поговорить с графиней, и с этим он взял Заклика за руку и подвел к стене садика, который был значительно выше, чем двор. Отсюда было как нельзя более удобно разговаривать с арестанткой.
— Графиня! — сказал несмело Генрих, и когда Анна, скрывая свое смущение, обернулась к нему, добавил: — Позвольте мне представить вам моего нового товарища капитана фон Заклика, который только что приехал сюда на службу.
Ко́зель с притворным спокойствием отвечала на поклон Заклика и не проронила ни слова. Однако, офицеры не отходили, и она, наклонясь к цветку, который подсаживала, тихо спросила Заклика, надолго ли он сюда прислан.
— На это трудно отвечать, графиня, — молвил Заклик, — я прислан сюда по службе и не думаю, чтобы скоро нашелся охотник заменить здесь товарища.
— О, это верно! Но вы чем согрешили-то и за что сюда посланы?
— Просто так пришлось, — отвечал Заклик. — Впрочем, я уже не молод, и мне почти все равно, где жить.
Анна взглянула на него, поклонилась и отошла, а Велен, взяв Заклика под руку, увел его к себе на двор замка, где он занимал две комнатки рядом с дядей. Тут же вблизи отвели помещение и Заклику.
— Ну, что, капитан, — заговорил молодой Велен, — вы ведь, конечно, в первый раз видели графиню Ко́зель?
— Разумеется, первый раз в жизни! — отвечал Заклик.
— Ну, что же вы о ней скажете? Не правда ли, что эта женщина достойна трона? Что за красота! Что за прелестное лицо!
Велен говорил с таким восторгом, что сразу выдал Заклику свою тайну, которую, впрочем, он, может быть, и не хотел скрывать.
Заклик взглянул на Велена и, улыбнувшись, отвечал:
— Ого, как вы о ней говорите!
— А что?
— Ничего, ничего, капитан Велен! Я вам не удивляюсь, но только думаю, что вам, пожалуй, не очень-то по сердцу видеть графиню под охраной стражи, в которой вы служите.
Велен ударил себя в грудь и воскликнул:
— О, капитан, мы оба солдаты и, разумеется, честные люди! К чему же я стану запираться перед вами? Да, я потерял голову и покой и не стыжусь этого. Что делать, что делать? Такой второй женщины на свете нет!
— Хорошо, хорошо, пусть так, но к чему все это? Она узница на веки.
— На веки! Ничего нет вечного на земле! — перебил Велен. — Она еще очень молода!
— А вы, кажется, еще моложе, — пошутил Заклик.
Капитан Велен слегка сконфузился, но, не обижаясь, протянул руку своему новому товарищу и тихо проговорил:
— В сущности вы правы, я еще юноша, это правда, но ведь, кажется, лучше увлекаться по молодости, чем по старости.
— Это правда.
— То-то и есть, а между тем, смотрите: мой дядя старик, но и он…
— Тоже увлекается графиней?
— Увлекаться, может быть, и не увлекается, но тоже… жалеет ее и ради этого отступает от многих своих правил, в которых всегда точен, как педант. Что же после этого говорить обо мне!
— Совершенно справедливо, и я вас в этом не укоряю.
— Я очень рад, что вы на это смотрите таким образом, и надеюсь, что не станете мешать моим заботам, чтобы ей жилось, сколько возможно, полегче.
— О, будьте покойны, этому я не помешаю!
Заклик понимал, что Велен мог быть ему полезен, но мог быть и помехой, если в нем родится что-нибудь вроде ревности или подозрения, а потому он старался быть как можно осторожнее.
Они, однако, очень подружились, и Генрих скоро познакомил Заклика с тайниками замка. Заклик побывал с ним во всех закоулках семиэтажной башни, где содержалась графиня; обошел подземелья и галереи, все выходы и входы.
Занятый всегда мыслью об освобождении графини, он скоро обдумал план, как ее вывести подземельями в часовню, от которой давно заброшенный коридорчик вел в тесный подземный ход, выводивший в довольно уединенное место за оградой замка. Переодетая в мужское платье графиня могла ночью спуститься с лестницы и проскользнуть во внутренний двор, где не было часовых, и никем не замеченная, добраться до дверей подземелья, которое и выведет ее за ограду, а отсюда уже широк путь во все стороны, так как замок стоял на самой границе и дальняя погоня была невозможна.
Велен и не подозревал всего этого коварства и с легкомыслием молодого человека сам подсказывал Заклику подходящие мысли.
— Черт знает, что настроено! — говорил он. — А несмотря на всю эту городьбу и высокие стены, которые со всех сторон окружают замок, бежать отсюда совсем нетрудно!
Заклик притворился, что он этого не слышал.
Несколько дней спустя он увиделся с графиней с глазу на глаз, но они говорили мало, она укоряла за медлительность, он оправдывался невозможностью действовать скорее, и потом графиня шепнула:
— Вы должны знать мой план. Молодой Велен сослужит нам службу: он…
— Влюблен в вас?
— Да, и этим надо воспользоваться: он хорошо знает замок.
— Это не особенно важно, потому что и я его теперь тоже знаю.
— Да, но вас я должна беречь до последней крайности. Побег может не удасться, и тогда мы оба попадем в их руки; я этого не хочу. Нет, я должна бежать с ним!
— С ним! — воскликнул Заклик.
— Да, непременно с ним: это и удобнее и безопаснее; он здесь почти хозяин, и его всюду пускают, тогда как вы можете навлечь на себя подозрение. Это решено: я убегу с ним!
— Но он неосторожный и почти сумасшедший молодой человек!
— Это-то и дорого: только сумасшедшим и удаются такие сумасшедшие предприятия.
— А если оно ему не удастся?
— Что же, мое положение так дурно, что ничего худшего быть не может! — холодно отозвалась Ко́зель.
— А уверены ли вы, что этот молодой человек отважится на это дело?
— Он должен отважиться! — отвечала Ко́зель. — Но тс-с! Я слышу на лестнице чьи-то шаги, — добавила она и отошла в сторону, а Заклик спустился на нижний этаж. Ему было досадно, что Ко́зель отказывалась от его помощи. Но дорожа ее пользою, он беспрекословно ее слушался и играл смешную роль поверенного сердечных тайн молодого Велена, который вскоре же признался ему, что для освобождения графини он готов пожертвовать своей жизнью.
— Вы ведь, конечно, не выдадите меня, капитан Заклик?
— Да, в этом-то, мне кажется, вы можете быть вполне уверены. Только смотрите, сами себя не выдайте!
Заклик замечал, что Велен учащает тайные прогулки с графиней в садике и даже проникает к ней в башню, а вместе с тем становится беспокоен и озабочен.
Чтобы старый дядя не замечал отлучек племянника и происходящих в нем перемен, Заклик заменял Генриха на службе и играл вместо него в шахматы с комендантом. А в это время в молодом человеке любовь забила ключом, и затея побега близилась к исполнению.
Нетерпеливая Ко́зель, конечно, спешила как можно скорее отсюда вырваться и торопила влюбленного юношу. Заклик об этом догадывался и, пробравшись однажды в башню графини, сказал ей:
— Осмотрительно ли вы поступаете, графиня?
— Не знаю, но прошу вас, чтобы и вы были слепы и глухи ко всему, что я делаю. Одно, о чем я прошу вас — играйте как можно чаще в шахматы с комендантом, и если случайно поднимется какая-нибудь тревога, делайте все, чтобы помешать ему выбежать.
— Хорошо, я сделаю все, что могу, а вы скажите же мне скорее, что я должен делать, если вам удастся бежать?
— Немедленно бежать самому и явиться туда, куда я укажу. До свидания!
И она подала ему руку и тихонько направила его к двери.
Заклик вышел с каким-то тяжелым предчувствием и зорко смотрел за молодым Беленом, который был очень беспокоен и почти ежеминутно поглядывал на солнце, при закате которого и сам скрылся.
Старый комендант ничего не подозревал, он пригласил к себе на пиво Заклика и преспокойно играл с ним в шахматы. Игра длилась долго; вот и ночь спустилась; подали огни; пришел дежурный унтер-офицер, запиравший ворота, и принес ключи, а комендант и Заклик все еще играли; но Заклик нынче против обыкновения играл неудачно и делал ходы самые нерасчетливые. Комендант это заметил и спросил его:
— Что с вами сегодня, капитан, вы так худо играете?
— А у меня, признаться, голова болит, господин комендант.
— А голова болит, так перестанем играть!
— Нет, отчего же, будем играть, — настаивал Заклик, настораживая свой слух, как заяц, и боясь, чтобы капитан, оставив игру, не задумал пройтись по замку.
Велен набил трубку, и они сыграли еще несколько партий, а потом стали беседовать.
Было уже поздно, но Генрих, обыкновенно приходивший в эту пору, не возвращался.
— Верно, удрал сорванец в местечко! — проговорил вспомнивший о нем комендант. — Ну, да что делать, парень молодой, надо и пошалить.
— Разумеется, — отвечал снисходительно Заклик, громоздя из шахмат какую-то прихотливую пирамидку.
— Да, — отвечал комендант. — Да я, по правде сказать, и предпочитаю, чтобы парень лучше где-нибудь позабавился, лишь бы не вздыхал об этой… знаете, той… ну, что вот под башней.
— A-а, понимаю!
— Не правда ли, что я говорю дело?
— Конечно, конечно! — отвечал Заклик, но сам тотчас же переменил разговор и начал плести, что приходило в голову. В замке было тихо, но вдруг кто-то осторожно постучал в двери, и показалась голова старого солдата, с виду более похожего на разбойника. Это был наемник, послуживший чуть ли не во всех немецких войсках. Имя его было Вурм. Заклик взглянул на него, и выражение его лица показалось ему подозрительным; солдат, просунув голову сквозь створ двери, прошептал:
— Господин комендант!
— Ну, что еще? — сухо спросил не любивший его комендант.
— Я имею честь донести вам о самоважнейшем происшествии…
— Что такое? Пожар? Где горит? — вскричал, вскочив с кресла, Велен.
— Нигде ничто не горит, но ваш племянник в эту самую минуту уводит из каземата графиню, чтобы бежать с ней.
Старый комендант зашатался и прохрипел:
— Куда?
— Ну, уж это вы хотите, чтобы я очень много знал, а с меня довольно и того, что я знаю: ваш племянник бежит, господин комендант, и уводит арестантку; а Вурм вам об этом доносит, потому что ему известно более, чем вам…
— Ты врешь, бездельник! — закричал комендант.
— Нет, я не вру, а я исполнил мои обязанности, а ваш племянник с арестанткой бежали, и в эту самую минуту солдаты держат их в проходе за каплицей. Да, теперь капитан Генрих больше уже не будет бить меня по лицу и сам поплатится за эту штуку своей головой.
Комендант совсем растерялся и хватался то за оружие, то за ключи, и кричал:
— Спасайте, капитан Заклик! Спасайте!
Но напрасны были все эти хлопоты старика о спасении племянника: по направлению от башни слышен был уже большой шум со стороны подземелья семиэтажной башни, это солдаты вели схваченных беглецов. Графиню просто держали за руки, а Генрих был связан, потому что он успел уже ранить себя из пистолета, и если бы у него не отняли оружие и не связали ему руки, то он, наверно, лишил бы себя жизни.
Бедный комендант велел отвести арестантку снова в старый каземат, а племянника запер в другой и немедленно послал донесение о происшествии в Дрезден. Диктуя писарю рапорт, старик был достоин глубокого сострадания: едва произнося за рыданиями слова, он просил принять во внимание молодые годы племянника и его, коменданта, старые заслуги и молил о снисхождении к, несчастному. Рапорт был послан с нарочным курьером, караулы везде удвоены, и унтер-офицер Вурм, который, вместо того, чтобы предупредить несчастье, выжидал, пока оно случилось, также был арестован.
На следующий день в Столпянский замок явились из Дрездена присланные королем генерал фон Бодт и несколько чиновников.
Старый Велен, встретив их, тотчас же подал свою шпагу фон Бодту; но Бодт ее не взял и объявил ему, что, по велению короля, военному суду будут преданы только капитан Генрих фон Велен и унтер-офицер Вурм. И следствие и суд, по полевым законам, должны были окончиться прежде, чем зайдет солнце, и приговор немедленно должен быть исполнен.
Так было и сделано: все просьбы старого коменданта о помиловании остались втуне, и Ко́зель, услышав донесшийся до нее ружейный залп, вздрогнула недаром, это стоило жизни влюбленному в нее юноше, за душу которого она могла прочесть теперь самые теплые молитвы.
Старый Велен хотя и не был арестован, но, однако, в тот же день оставил службу, а унтер-офицера послали в кандалах на крепостные работы в Кёнигштейн, но Заклик пока еще оставался в гарнизоне.
XII
После описанного происшествия в Столпянском замке вместо Белена комендантская должность была поручена суровому, но весьма неспособному Бирингу. Это был человек надменный, буйный, самовольный и грубый. Событие, после которого последовало его назначение, сразу вызвало в нем чрезвычайную строгость. Графине запрещено было делать шаг из башни, и весь прежний гарнизон переменили; а с тем вместе и Заклику приказано было возвратиться из замка в свой полк.
Он едва улучил одну минуту, чтобы проститься с графиней и растолковать ей, что он уезжает отсюда не по своей воле.
— А я? О Боже! Как тяжела, как тяжела смерть в этом томленьи!
И она заплакала.
— Приказывайте, графиня! — проговорил печально Заклик. — Я все тот же и готов сделать все, что вам может быть полезно.
Ко́зель покачала головой и отвечала:
— Нет, ступайте с Богом и не заботьтесь более обо мне! Мне уже ничто не может быть полезно: меня оставил Бог и взял у меня мой разум. Но вот что… на всякий случай, чтобы не пропадало: съездите в Пильницу; там под дубом, у круглой скамьи, я сама зарыла маленькую шкатулку с бриллиантами. Выройте ее, продайте эти бриллианты и берегите у себя деньги, в которых я еще могу иметь надобность.
Едва она успела сказать это Заклику, как послышались чьи-то шаги, и Заклик поспешил удалиться.
Прошло несколько лет, в течение которых Заклик не мог ничего сделать для своей графини и ограничивался тем, что изредка давал ей знать о своем существовании и верной о ней памяти.
Ко́зель, однако, в это время успела пленить некоего поручика Гельма и затеяла новый побег, о котором нашла случай дать загадочную весть Заклику. Она требовала, чтобы он запасся лошадьми и ждал ее на границе в назначенном месте. Эта весть встревожила Заклика, который плохо верил в возможность ее исполнения и счел нужным съездить, под благовидным предлогом, в Столпянский замок и разузнать ближе, что это за затея. Для этого ему, конечно, надо было увидеться с графиней, и он надеялся, что это ему удастся.
Заклик, увидев графиню, нашел в ней сильную перемену. Страдания положили на нее свою печать, хотя и не лишили ее черты их необычайной прелести. Прежняя энергия и живость движений уступили место степенной важности; она проводила свое время за Библией и размышлениями, и характер ее смягчился и выровнялся. Чувства, внушенные ею Гельму, не были чувствами крови и плоти, а именно чувствами той высокой преданности, какую способен принести дух ради сочувствия другому духу.
Заклик, проникнув в покои графини, застал ее с карандашом в руках углубленной в чтение Библии. Увидев старого друга, она поблагодарила его взглядом и подала ему руку, которую тот поцеловал; и отер у себя на глазах слезы.
— Вот видите, — заговорила она, — я до сих пор еще живу. Бог продолжил мои дни против моего желания; хвала ему за это! Он позволил мне в это время взглянуть в глубь моей души. Но теперь довольно мучиться: я имею возможность уйти отсюда и хочу этим воспользоваться, чтобы увидеть моих детей.
— Графиня, — прервал ее Заклик, — уверены ли вы, что ваши попытки уйти теперь будут счастливее прежних?
— Да, я в этом уверена, — спокойно отвечала графиня. — Я имею предчувствие, что на этот раз мне счастье не изменит.
Раймонд промолчал, выслушав от графини все ее соображения о дне, когда он должен был ждать ее на границе; он дал ей слово быть готовым и распростился.
Гельм, который, конечно, интересовал Заклика, показался ему таким же энтузиастом, как и погибший Генрих Велен. Заклик ничего от него не ждал, но, послушный приказаниям графини, взял отпуск и в назначенный день явился в условленное место на границе. Но он ждал беглецов напрасно: они не явились ни в назначенный день, ни два дня спустя; а на четвертый день Заклик от проезжавших через Столпень торговцев узнал, что в замке опять было происшествие: заключенная там графиня снова чуть было не ускользнула из замка в сопровождении офицера, помогавшего ей в этом побеге; но оба они снова захвачены.
Заклик тотчас повернул к своей службе в Дрезден, где надеялся подробнее разузнать о случившемся в Столпянском замке.
Дело было в том, что Гельм целый год работал, устраивая лаз под стенами замка в той стороне, где не было часовых, и когда все было готово, он подпоил стражу и в темную дождливую ночь бежал с графиней, переодетой в мужское платье. Они выбрались из замка как нельзя благополучнее, прошли весь подземный ход, который выводил их за крепость, и спустились с обрывов базальтовых скал к самому их основанию; сели на привязанных в лесу верховых лошадей и поскакали. Но в замке горничная хватилась графини и подняла тревогу, за беглецами пустились в погоню, и они были настигнуты, защищались и ранили выстрелом одного солдата, но все-таки были обезоружены, взяты и возвращены в замок.
Графиню опять стали держать еще строже, а офицера предали военному суду, который производился на этот раз в Дрездене. Гельму его бегство обошлось дешевле, чем Белену, так как он имел при дворе очень сильных родственников, которые обратились к милосердию короля и ходатайству тогдашней новой звезды, графини Оржельской. Гельм, однако, все-таки был приговорен к расстрелу в Дрездене, на новом рынке. В день его казни на площадь стеклась многочисленная публика и пешком и в щегольских экипажах. В полдень молодой преступник был выведен из крепости, проведен, при треске барабанов, мимо выстроенных шпалерами войск и поставлен у стены. Глаза всех устремились на этого красивого златокудрого молодого человека, осужденного на смерть из-за Ко́зель. Сам преступник хранил замечательное присутствие духа и просил не завязывать ему глаза. Солдаты зарядили ружья, и офицер, который должен был дать знак стрелять, встал уже на свое место, но в этот последний момент от замка подскакал адъютант короля с прощением. Гельму была оставлена жизнь, может быть, не совсем к удовольствию публики, которая собиралась посмотреть, как его расстреляют.
В Столпянском замке опять произошли перемены в гарнизоне и некоторые усиления в караулах. Новый комендант пересмотрел и перечинил замки, двери и стены; но в общем положении графини не произошло ничего нового, и она даже пользовалась прежней свободой, то есть могла выходить в свой садик. Но Ко́зель терзалась нравственно: она чувствовала укоры совести за второго погубленного человека. О помиловании Гельма ей ничего не было известно.
Заклик чувствовал, что если графине суждено быть свободной, то теперь за это дело должен мужественно взяться он сам, и он считал это своей непременной обязанностью. Но имея перед собой в прошлом такие уроки, он хотел быть осмотрительнее и надеялся, что его попытка к бегству будет удачнее. Полный самоотверженности, он был готов положить свою жизнь за едва ли не обезумевшую в неволе Ко́зель и собирался выйти в отставку, поселиться в местечке Столпень и, сидя у моря, ждать погоды, когда можно будет все приготовить и увезти пленницу.
В гарнизоне Столпянского замка у него было несколько знакомых, на расположение которых он мог рассчитывать, и между ними был у него один приятель, некий капитан фон Кашау — настоящий вояка, добрая душа и кутила. У Заклика имелся предлог съездить в замок.
Кашау скучал здесь и, увидев Заклика, едва не задушил его в своих объятьях; а потом сбегал к коменданту, чтобы испросить своему гостю разрешение погостить в замке, и затем начал наливать его добрым пивом.
За кружками пива офицеры, естественно, скоро заговорили об узнице, над которой постоянно приходилось бодрствовать Кашау.
— Э! — говорил он. — Я никому другому не судья, а тем более нашему всемилостивейшему королю, но что до меня, то мне ее просто напросто жаль, и я, по правде сказать, что-то плохо верю тому, чтобы ее томили здесь из опасения за жизнь короля.
— Ну, конечно! — отвечал Заклик.
— Не пистолета ее боится король.
— Надеюсь, что не пистолета.
— Он боится своего бессилия и той власти, какую она над ним имела.
— Быть может, быть может, любезный Кашау; а, впрочем, ведь это не наше дело.
— Разумеется, не наше дело, но надо же о чем-нибудь поболтать, — и Кашау засмеялся и добавил: — Я еще и то думаю: ну, она была самовластна, ну, пускай это так, но ведь какая-нибудь Дескау или Остерхаузен, с которыми теперь возится наш, с позволенья его величества сказать, старый волокита, также, чай, не без своих фантазий? Женщины уж так созданы, приятель, что кто охочий с ними заниматься, тот должен и терпеть их капризы. Но зато эта Ко́зель женщина, как вы хотите, не без достоинств и красавица!
— Была, капитан, была!
— Ну, она даже и теперь еще хороша.
— Может ли это быть?
— Честное слово.
— Я очень бы желал увидеть ее! — отозвался Заклик.
— Так зачем же дело стало? Этого тебе никто не запрещает. Днем ты ее у нас не украдешь! — отвечал Кашау. — Ступай к ней и побеседуй, если она тебя примет.
— А почему же не примет?
— Да она, брат, что-то стала чудить.
— Как чудить?
— Ну вот, буду я тебе все рассказывать, иди сам посмотри.
Заклик не заставил упрашивать себя и пошел на башню.
Пройдя знакомыми переходами, он постучал в дверь, но ответа не было. Заклик тихонько приотворил дверь, и глазам его представилась странная картина: посреди комнаты перед столом, заваленным книгами, по переплетам которых можно было судить об их религиозном содержании, стояла Ко́зель. Облокотись на одну руку и приложив палец другой к своим губам, она стояла над раскрытой Библией и обдумывала что-то с большой сосредоточенностью. Одета она была престранно: на ней было широкое черное платье с длинными рукавами, подпоясанное широким кушаком с кабалистическими знаками, а волосы повязаны косынкой, за которую был засунут какой-то пергаментный свиток, исписанный буквами еврейского алфавита.
Эта женщина мало походила на прежнюю Ко́зель. Черты ее прекрасного лица потеряли свою нежность и стали суровее, на лбу обозначились морщины, а уста, по-видимому, привыкли более к молчанию, чем к разговору.
Заклик вошел и остановился; она не могла не слышать его шагов, но не подняла на него глаз от книги.
— Графиня! — позвал он.
Она тихо и медленно повернулась.
— Вы не узнаете меня?
— Постой! — и она силилась что-то припомнить. — Да, я узнаю тебя!.. Но ты!.. Когда же ты освободился?
— Кто освободился, графиня?
— Ты.
— Откуда же?
— Из твоей темницы, из твоего тела.
— Я в моем теле, графиня.
— Как? Это ты сам, весь, а не один дух твой?
— Да, это я, ваш верный слуга; я пришел навестить вас и служить вам, — отвечал Заклик. — Я приехал, чтобы еще раз попытаться освободить вас.
Она только махнула рукой.
— Что это значит? — спросил Заклик.
— Довольно двух жертв, и я не хочу третьей!
— Но это моя добрая воля, и вы не вправе мне запретить возвратить вам свободу.
— Я скоро буду свободна совсем, — покачала головой Ко́зель.
— Вы как-то темно говорите.
— Нет, это вы меня темно понимаете; я знаю это состояние, но для меня оно, слава Богу, минуло. В земной судьбе нет никакой милости. Тут один закон: что определено, то неизбежно сбудется. Надо сжиться с этой старой святой книгой и вопрошать ее день и ночь, пока она не станет отвечать… и тогда!.. Впрочем, зачем я говорю Тебе это? Скажи, ты надолго сюда?
— Сам не знаю, графиня. Хотел бы даже остаться здесь, вблизи вас, да не знаю…
— Тсс! — перебила графиня.
Заклик подумал, что она кого-нибудь заслышала своим тонким слухом, который так изощряется у арестантов, и начал было оглядываться, но графиня, видя его нерешительность, быстро перевернула несколько страниц в книге, не без торжественности закрыла застежки и, подняв глаза, начала шептать молитву, а потом сняла свои руки с книги, быстро ее раскрыла и, взглянув на правую сторону раскрытого листа, прочитала: — И сказал им: «Не бойтесь и не ужасайтесь, будьте тверды и мужественны; потому что так поступит Господь со всеми врагами вашими, с которыми вы воюете».
Графиня приложила палец ко лбу, еще раз повторила эти слова шепотом и затем, быстро закрыв книгу, молвила:
— Да, это так, это понятно; потерпев неудачи с другими, я буду счастлива, когда стану действовать с тобой; но нельзя ничего начинать прежде, чем будет указание свыше. Итак, ты должен остаться здесь!
Заклик ничего против этого не имел, но ему, конечно, не могло нравиться это какое-то расстроенное мистическое воображение, и потому он с некоторой сухостью отвечал:
— Хорошо, я буду стараться, чтоб это было возможно, и если не попаду опять в замок, то поселюсь здесь в местечке. Я надеюсь, что теперь мне никто этого не запретит! Но, конечно, я для этого должен буду оставить королевскую службу.
— Ах, брось ее и сними поскорее эту позорную ливрею, эту одежду! — живо отозвалась Ко́зель.
— Хорошо, хорошо, я сброшу, но на это тоже мне понадобится время, — отвечал Заклик, — так снять ливрею нельзя, а надо продать чин и получить отставку. Тогда я перееду в Столпень и буду жить здесь частным человеком. Здесь в гарнизоне есть у меня старый приятель, капитан Кашау…
— Кашау? — перебила Ко́зель. — Зачем он тебе? Кашау, как и все другие, кто здесь живет, слуга беззакония.
— А что же делать, если он может быть нам полезен?
Ко́зель встала и начала молча ходить по комнате.
— Что делать? — повторила она. — Вот что сделай: возвращайся назад, таскай на себе ливрею и за меня не бойся.
— Прошу прощения, графиня, но я не понимаю, зачем вы мне это говорите.
— Я говорю тебе это затем, что я не должна бороться с предопределением и более никогда не позову тебя выручать меня. Но ты не обижайся: ты единственный человек, который меня не покинул, и я это ценю и жалею тебя!
У Заклика закипели в груди слезы, и он с усилием просил графиню не говорить о нем, потому что он не знает ничего более отрадного, как служить ей.
— У тебя есть Бог в сердце, — отвечала она, — и он один ведает, в наказание тебе или в отраду мне дана тебе твоя преданность моей печальной доле. Я часто хотела это знать, но это от меня скрыто.
— А что от нас скрыто, того мы не должны и касаться.
— Нет, я должна это знать! — отвечала Ко́зель и взялась рукой за Библию.
Заклик стоял, покашливал и даже позвал ее два раза, но она не откликалась, и он, постояв у дверей, поклонился и тихонько вышел.
Анна продолжала читать и ничего не заметила. Заклика так поразило это состояние Ко́зель, что он шел, ничего перед собой не видя, и не заметил, как у колодца столкнулся с ожидавшим его Кашау, который не утерпел, чтобы не подтрунить над приятелем.
— Ну, что, — спросил он, — побеседовал ты с ней или только мудрости у нее поучился?
— Какая с ней беседа! — отвечал Заклик. — Я застал ее над Библией и оставил за нею. Ждал, ждал и не дождался ни ответа, ни привета.
— Да и не дождешься!
— Нет, думаю еще раз попробовать счастья, если это только возможно.
— Да возможно-то, пожалуй, возможно: говори себе с ней, сколько хочешь, — отвечал Кашау, — а только я думаю, что все это будет напрасно. А как ты ее нашел? Очень она, на твой взгляд, изменилась?
— Ну, разумеется, изменилась, — отвечал Заклик и перевел разговор на другие предметы.
Пробыв у Кашау до позднего вечера, он отправился ночевать в трактир, содержатель которого, услужливо лебезя перед заезжим офицером, хотел вступить с ним в разговор об узнице, но Заклик отклонил это, чтобы не казаться заинтересованным судьбою Анны.
На следующее утро, как только отворили замковые ворота, Заклик снова был у Кашау, ожидавшего его с завтраком, и, проходя в его квартиру, видел Ко́зель, которая была в садике и, заметив Заклика, кивнула головой. На этот раз она была в обыкновенном платье, и выражение лица было спокойно и не так сурово, как вчера.
— Вот посмотрите, — сказала она, — эти цветы — теперь мои дети; моих родных детей у меня отняли, вырвали и не дают видеть, и я часто думаю: как-то выросли теперь те, которых я не вижу?
— Ну, они, конечно, живы и здоровы. Я уверен, что они вас любят.
— Нет, я в этом не уверена, — отвечала графиня. — Я считала бы за благо для себя, если бы была уверена, что они меня забыли; но и этого не может быть; они знают, что у них есть мать; но воображаю себе, что им насказано об их матери и какою они себе ее представляют злодейкой… О, это ужасно, ужасно! Я думаю, если бы я им могла послать хоть вот по одному этому цветку, то они отбросили бы их с отвращением, узнав, что эти цветы вырастила их мать.
У Заклика на глаза навернулись слезы.
Надо признаться, что Ко́зель очень редко говорила о своих детях, она как будто страшилась воспоминания о них, но когда она говорила, можно было чувствовать, что тяжкое горе дошло до самых тайников души.
Она не могла более говорить и, кивнув Заклику, сказала ему только:
— Приходи сюда и жди!
Заклик провел около часа с Кашау, а затем отправился назад в местечко.
Лениво тащился он по замковому двору, стараясь высмотреть Ко́зель, но ее в садике не было. Зато, подняв голову вверх, он увидел ее… и в каком положении! Она стояла у верхнего окна, одетая во вчерашний костюм сивиллы, с книгой, в руках. Она не бросила на Заклика ни одного взгляда.
Вскоре Заклик продал чин, вышел в отставку и, купив в Столпене небольшую усадьбу, начал хозяйничать, благодушествуя по временам с Кашау.
XIII
В 1727 году, спустя три года после неудачной попытки графини к побегу, в Столпянском замке и местечке уже забыли об этом происшествии, а в большом свете, при королевском дворе, произошло много перемен. Графиня Ко́зель была отомщена ее недоброхотам: даже в ее тихое заточение к ней доходили вести, как враги ее один за другим исчезали со сцены, а на их места являлись новые актеры. Один Август Сильный сохранял свою мощь и здоровье и по-прежнему сорил золотом, алкал удовольствий и не находил их.
Заменившая Ко́зель Мария Денгоф, быть может, устрашенная участью своей предшественницы, даже и не искала чести привязать к себе короля прочным образом, а, напротив, сама искала случая от него отделаться и выйти замуж за простого смертного. Август нисколько этому не воспротивился и, выдав ее замуж, стал забавляться кем и как попало на липской ярмарке. Вообще он теперь предпочитал кратковременность связям сколько-нибудь прочным и не изменял этому правилу даже для женщин, более или менее достойных внимания. Так, у него в кратком фаворе была замечательной красоты девушка, дочь тайного советника Дицкау, которую он выдал замуж за своего маршалка фон Лосса, а сам заинтересовался Генриеттой Остергаузен; но эта ему так надоела, что он даже не стал хлопотать об ее устройстве, и не смущался тем, что ее невестка сбыла ее в монастырь, откуда гораздо позднее ее увез Станиславский и, женившись на ней, привез в Польшу.
Но после всех этих мимолетных шалостей опять было наступило нечто, напоминавшее прежние страстные увлечения: виновницей этого порыва была Анна Оржельская, дочь Генриетты Дюваль. С привязанностью к ней король не таился, как и с привязанностью к Анне Ко́зель. Он возложил на нее орден Белого орла, с которым она в гусарском, шитом золотом ментике поверх платья выезжала с королем на полковые смотры и на псовые охоты. Король при ней снова подбодрился, и при его дворе опять было начались веселье и временщичество. Так, граф Рутовский, пользуясь фавором сестры, получил силу и значение, оттерев прочь прежних временщиков.
Фюрстенберг, который некогда своим пьяным пари с Гоймом вывел на свет графиню Ко́зель, а позднее сделался самым отъявленным ее врагом, давно уже не жил. Его товарищи министры подставили ему ногу, и этот человек, мечтавший управлять через госпожу Рейс целым двором и самим своим государем, потерял почву под ногами и снизошел до полного ничтожества.
Даже самую графиню Рейс у него, перед его смертью, отнял кузен его Лютцельбург. Так, все ему изменило, и он, всеми на земле позабытый, тихо переселился в мир лучший. Значение того кружка, в котором царили Юльхен, Рейс, Рейхенбах, Шелендорф, Цаленберг и другие, давно утратилось.
Фицтум также окончил свое земное поприще; удаленный от короля, он несколько лет пробыл послом в Швеции, а дома, за него и за себя, неустанно интриговала его жена, та самая сестра Гойма, которую мы видели в начале повести. Поссорясь с Флеммингом и затеяв интригу против госпожи Пшебендовской, которую саксонцы для удобства произношения называли Бребентау, госпожа Фицтум во время посольства мужа выстроила ему даже новый дворец на углу Крейцгассе, но ему не суждено было жить в этом здании: великолепный палац этот достался брату новой фаворитки Рутовскому.
Фицтум окончил свою жизнь очень трагически.
За год перед катастрофой, будучи в Варшаве с королем, при котором Фицтум в то время состоял камергером и адъютантом, он поссорился за картами с неким маркизом, который, кажется, был незаконным сыном сардинского короля Виктора. Фицтуму тогда было уже лет за пятьдесят, а маркизу двадцать с небольшим, но несмотря на это, старик не уступил юноше в запальчивости, а потом не уступил и в смелости.
Когда они крупно поссорились и дело дошло до короля, Август принял сторону Фицтума, посадил молодого итальянца под арест, но тот, отбыв трехмесячное заключение, бежал в Польшу и, пробравшись в Надажин, послал Фицтуму вызов. Старик, несмотря на свои годы и положение, принял вызов и, приказав всем своим приближенным хранить об этом самое строгое молчание, чтобы не узнал об этом король, дал слово приехать 13 апреля 1726 года в условленное место.
Накануне вечером Фицтум ужинал у своей дочери, был очень весел и до полуночи играл в пикет, а через два часа тайно выехал в Надажин в сопровождении одного своего секунданта — графа Монморанси.

Портал в замке Цвингер
Рано утром, между пятым и шестым часом, Фицтум был уже на месте. Он послал к противнику офицера Френейза с уведомлением о своем прибытии. Так как в то время на дуэлях принято было стрелять с лошадей, то Фицтум сел на коня и встал против своего противника. Оба они съезжались с большим мужеством, и когда сблизились на выстрел, маркиз спустил курок и убил Фицтума на месте. Падая с лошади, Фицтум тоже выстрелил, но его пуля только задела парик.
Маркиз после этой дуэли бежал в Варшаву и укрылся в монастыре Театинов, но разгневанный Август отдал приказ достать его оттуда, несмотря на право убежища. Монастырь окружили полтораста солдат, но маркиз, переодетый простолюдином, бежал через Берлин в Италию.
Тело убитого, сопровождаемое везде по дороге перезвоном колоколов, было перевезено в фамильный склеп и там погребено с должным почетом. Таков был конец первого Августова фаворита.
Флемминг держался долее других: он по-прежнему умел оставаться необходимым для Августа и строил себе дворцы, торговал имениями и богател так, что считал золото бочками. Избавившись от Шуленбурга и отсоветовав королю поручать начальство над войсками гениальному сыну Морица Саксонского, Флемминг мечтал добыть для себя княжество Курляндское и женить пятидесятивосьмилетнего вдовца Августа на семнадцатилетней прусской княжне. Последней мерой он рассчитывал упрочить союз между Саксонией и Пруссией, и если бы Август II его послушал, то это, кажется, было бы недурно для государственных видов Саксонии.
Неблагодарный Левендаль, обязанный всем своим положением графине Ко́зель, тоже маялся, но, однако, без всякого значения, и вел напрасную борьбу с Флеммингом, который был несравненно его сильнее. Он легкомысленно расточал легко нажитое состояние и быстро стремился к очевидному разорению.
Наконец Ватцдорф, «мужик из Майнсфельда», который употреблялся для того, чтобы выжить Ко́зель из ее дрезденской квартиры, и он, при всей своей грубости и неразборчивости в средствах, тоже не сдобровал, и был едва терпим, и то потому, что король нуждался в нем для некоторых особых поручений, к выполнению которых этот человек годился.
Что же касается образа жизни при дворе короля Августа, то тут и теперь, как прежде, не любили скучать, и появление Оржельской было отпраздновано на славу.
Известно, что король Август, несмотря на поражение от шведов, считал себя за великого полководца и жаждал славы воинской, может быть, не менее, чем любовных удовольствий. Проводя весну того года, до которого доведен наш рассказ, в прекрасной Пильнице, вблизи которой стояли лагерем войска, Август очень занимался муштрой. Особенно его внимание было обращено на стрельбу из пушек и опыты со входившими тогда в употребление полукартаунами[3].
При короле неотступно находился граф Ваккербарт. Полукартауны отлично выдерживали испытание и дробили каменное основание крепости, но Ваккербарт заметил, что он знает скалы, которые не поддались бы этим ядрам.
— Где такие скалы? — спросил король.
— В Столпене, ваше величество… Тамошний базальт не чета этим колким глыбам, и нигде не было бы так хорошо испробовать силу орудий, как там.
— А что же? Это, право, не худо сказано! В Столпень так в Столпень! — воскликнул Август; но лицо его тотчас же омрачилось: очевидно, он вспомнил о тамошней узнице, и это воспоминание было не из приятных; но после минуты молчания он встал, прошелся и спокойно сказал:
— В самом деле, я не вижу, почему бы нам не пустить несколько ядер в столпянские базальтовые скалы! Ведь мы этим замка не разрушим, а проба будет настоящая. Я поручаю вам, любезный Ваккербарт, не откладывать этого дела и немедленно же отправить в Столпень две пушки.
— Слушаю, ваше величество.
— И прикажите тоже приготовить там батарею напротив этих столбов и ожидать меня: я сам хочу присутствовать при начале канонады.
И он, сказав это, отвернулся и пошел, как ни в чем не бывало.
Вакербарт был ревностный и точный исполнитель королевских повелений: и пушки с артиллеристами высланы были в Столпень тотчас же.
Заклик спал в эту ночь спокойным сном и самому себе не поверил, когда в полночь услышал грохот тяжелых лафетов. За артиллерией еще шумнее вступал обоз, и тихое местечко вдруг сделалось шумным военным станом. Капитан никак не мог понять, что случилось, да и кто бы мог это понять? Уж не вторгся ли в Саксонию неприятель?.. Но какой же именно? По языку, которым говорили или, лучше сказать, перебранивались солдаты, Заклик слышал, что это саксонцы… Что такое!.. Заклик захлопнул окно, вышел и, увидев проезжавшего офицера, спросил его, что случилось.
— Ничего не случилось, а завтра сюда будет король!
— Король? Сюда? Его величество?
— Да, король, его величество! — крикнул офицер, суетясь около солдат. — Он будет стрелять в столбы, чтобы пробовать силу новых орудий.
— Над чем? — крикнул изумленный Заклик.
— А вот над этой замковой горой.
Разговор прервался, но Заклик все-таки не верил своим ушам. Как! Король станет стрелять в замок, в котором он держал уже столько лет свою несчастную жертву! Нет, это даже для Августа невозможно; не может же он не подумать, какое все это должно произвести впечатление на бедную Ко́зель!
Чуть забрезжило, Заклик бросился к замку, чтобы подготовить как-нибудь бедную пленницу к тому, что должно было случиться.
В замке давно все были на ногах; ожидание короля подбодрило сонных солдат; из окружных деревень согнали множество народа для насыпки батарей и еще усерднее подгоняли согнанных. Везде был шум, гам, хлопанье палок, стоны, крик.
Одну батарею спешно возводили в зверинце на так называемой Рорпфорте, а другую на Ганне-Вальде, в казенном садике.
В замке между тем все чистили и мели, выносили мусор и вообще убирали, чтобы все казалось попригляднее. Около башни была в сборе вся мужская и женская прислуга графини, и сама узница встретила Заклика на пороге. Она окинула его тревожным взглядом и прошептала:
— Ты слышал, ко мне едет король?
— Я слышал, что король сюда едет, — ответил Заклик, — но только мне говорили, что он едет пробовать на здешних столбах силу своих новых пушек.
Ко́зель покачала головой и проговорила:
— Ах, как же ты прост и наивен! Это я, я его вызвала: моя душа парила над ним и тянула его сюда ко мне. Он не мог сюда не приехать и только искал предлога… О, мой Август, о мой бедный Август! Его так много обманывали, что он вспомнил свою верную Анну; он знает, что я люблю его, и хочет меня видеть! И ты знаешь, почему именно теперь? Потому что королева умерла, он свободен и хочет сдержать свое слово и жениться на мне!
Она ударила в ладони и спешно заговорила:
— Однако, некогда ждать, он едет, он едет! Пошли ко мне поскорей всех моих слуг! Пусть Лина достанет из сундуков мои лучшие платья; я хочу выбрать из них то, которое мне больше всего к лицу.
И схватив распущенные черные волосы рукой, графиня суетливо заметалась по комнате…
Батареи росли на глазах, и короля ждали с минуты на минуту.
Настало прекрасное майское утро. С долин и гор поднималась к небу легкая мгла. В воздухе был слышен тонкий запах цветущих лугов.
Но в замке некому было этим наслаждаться: там все суетилось и снаряжалось встречать своего повелителя. Хлопот была куча, и притом самых неожиданных. Комендант, к ужасу своему, узнал, что, вопреки обычаю, из Пильницы не будет прислана сюда королевская кухня и ему самому надо распорядиться, чем принять короля и его свиту; а это было нелегко в таком месте, где нет ни искусных поваров, ни отборной провизии.
Из зверинца наскоро взяли несколько штук дичи; нашли где-то бутылку хорошего вина, но стол решительно нечем было сервировать. Нашелся только один старый стакан с саксонскими гербами, годный для того, чтобы из него пить королю; а все прочее представляло самый пестрый сброд. Местное духовенство собрало кое-какие скатерти, кое-что прислал сельский трактир, а чего недоставало, о том напрасно было и хлопотать.
Между тем полукартауны были уже поставлены на предназначенных для них батареях; войска выстроились, а наверх семиэтажной башни поставили махального, который должен был зорко наблюдать за дорогой и дать знак, чуть завидев королевское приближение.
Около четырех часов утра уже все было готово: артиллеристы не только установили орудия, но даже навели прицелы так, чтобы ядра попадали в базальтовые столбы, и ждали Августа, который обещал выехать из Пильницы до рассвета. Представители местного населения тоже все были в парадных платьях, да и сама чернь была прибрана и умыта и шепотом повторяла какое-то старое предание, что будто при какой-то давней осаде замка, во время оно, скалы так отражали попадавшие в них ядра, что они, отскакивая, убивали тех, кто ими стрелял. Собранный народ думал, как бы теперь не случилось того же самого.
Но вот махальный дал знак, и в ту же минуту бургомистр во главе мещан, несших хоругви и заржавленные ключи от магазина местного войта, вышли на дорогу. На колокольнях поднялся трезвон, и все население местечка в праздничных нарядах высыпало на рынок.
Облако пыли, замеченное издали махальным, быстро приближалось, и в нем начала уже обозначаться фигура ехавшего впереди рослого, статного всадника. Это был Август. Он ехал полной рысью на коне, а за ним неслись его свита и несколько приглашенных гостей. В отдалении виднелась другая кавалькада, как бы догонявшая первую.
В шеренгах выстроенного замкового гарнизона водворилось мертвое молчание, а всадник подъезжал все ближе и ближе: можно уже было видеть его голубой кафтан с вышитой на нем звездой Белого орла.
Не прошло и получаса, как король подъехал к воротам замка.
В воротах он едва кивнул преклонившимся до земли бургомистру и мещанам и прямо въехал на замковый двор. Он молча принял рапорт коменданта. Ясно было, что король не в духе. Не сказав никому ни слова, он повернул коня к батарее при Рорпфорте в зверинце и, посмотрев на нее молча, поехал к Ганне-Вальде. Эта батарея была насыпана против самой сплошной массы черных столбов, как бы связанных в огромный пук какой-то титанической рукой. С этого пункта была на виду вся башня, в одном из ее многочисленных окон можно было заметить даже фигуру женщины в белом. Но король не мог или не хотел поднять туда своих глаз и повернул коня снова к зверинцу.
В эту минуту к нему подъехал Ваккербарт и стал позади него, не говоря ни слова. Август дал знак начинать, и артиллеристы приступили к орудиям: раздался первый выстрел, и страшный гул пронесся в окружных горах.
Первый выстрел, направленный в базальтовую стену, сделал в ней трещину, но зато и чугунное ядро тоже разлетелось на части. Комендант принес его осколки государю, и Август посмотрел на них и молча кивнул. Другой выстрел, направленный в столб у подножья бастиона, отбил от него только несколько кусков.
Король приказал стрелять выше, по результат был один и тот же: камень крошился, но лопались и ядра, а сами столбы не сокрушались. После каждого выстрела лопавшиеся ядра и обломки каменьев летели вверх и во все стороны, попадая даже в местечко, но никому вреда не причиняли, если не считать королевской лошади, которая при Рорпфорте получила ушиб в ногу, да одной сушильни, у которой пробило крышу и потолок. Король удовольствовался этой пробой и велел прекратить пальбу.
Что касается печальной узницы, которую мы видели в ее самообольщенной надежде, то она была одета с чрезвычайной тщательностью и, поджидая короля, долго смотрелась в зеркало и, усмехаясь, говорила себе, что не может быть иначе, Август едет только для нее. Что за вздор, чтобы он ехал сюда пробовать орудия! Не все ли равно, где их пробовать? Нет! Он едет положить конец ее неволе и даже, может быть, возвратить ей все, что ею так давно утрачено.
В этом убеждении, нетерпеливо переходя от окна к окну, она смотрела на дорогу из Пильницы и не позже выставленного комендантом махального заметила пыльное облако, в котором являлся ее Август. Сердце бедной женщины сильно забилось. Барабанный бой и колокольный звон, возвещавшие о прибытии короля в замок, еще более увеличили ее тревогу, и она, прижав руку к сердцу, ожидала, что вот сейчас услышит его шаги на своей лестнице; вот сейчас он покажется в ее дверях и заговорит с ней голосом, полным ласки, любви и сожаления…
Но ничего этого не было: долго длилось зловещее молчание, и потом вдруг грянул выстрел. Все кончено, он приехал не для нее!.. Ко́зель вскрикнула и упала на пол, но потом вдруг вскочила и, бросившись к комоду, где у нее был заряженный пистолет, достала его, спрятала в складках широкого рукава и притаилась за оконницей. Глаза ее горели, руки дрожали, а грудь высоко вздымалась.
После каждого выстрела она все острее смотрела вдаль, ожидая, не покажется ли король, и ожидания ее не были напрасны.
Среди тишины, наступившей за выстрелами, по дороге из леса послышался топот копыт. Ехал один человек… Ко́зель выглянула в окно и почувствовала, что ноги ее подкашиваются. Да, это был он! Август! Он ехал один-одинешенек по дорожке, которая проходила как раз под стенами; Ко́зель сжала в руке пистолет и, высунувшись до половины в окно, громко крикнула:
— Государь! Яви милосердие, возврати мне детей и свободу!
Август вскинул на нее глаза, насупился и, ничего не ответив, продолжал путь.
Ко́зель побледнела.
— О, изверг! — вскрикнула она. — У тебя нет милосердия!.. Так будь же ты проклят!
И с этим она спустила курок.
Король осадил коня, снял шляпу, в крае которой появилась маленькая круглая дырка, и обернулся к окну узницы, но ее там уже не было; она лежала в это время без чувств на том самом месте, где стояла, проклиная и стреляя в того, кого так сильно и глубоко любила.
Август оглянулся по сторонам и, не увидев никого, кто бы наблюдал за ним, надел снова свою простреленную шляпу и уехал из Столпян, не приняв угощения, приготовленного ему комендантом.
XIV
Выстрел, впрочем, не был так незаметен: его слышали многие и, между прочим, Заклик, который вбежал в комнату Ко́зель первым и нашел ее без чувств. Дымившийся еще пистолет был возле нее. Заклик догадался, что произошло, и прежде всего спрятал оружие, а потом принялся вместе со сбежавшимися слугами приводить графиню в чувство.
Событие это, впрочем, не имело никаких особенных последствий, так как Август никому не упомянул об этом выстреле, и из его молчания все должны были понять, что разглашать это не следует.
Страшно потрясенная всем этим графиня опять мало-помалу оправилась и вернулась к своему прежнему образу жизни, не покинув и после этого надежды на побег.
Год спустя, получив от Заклика деньги за проданные бриллианты, она, не говоря ему ни слова, подкупила евреев, обещавших ее выручить, и с помощью веревочной лестницы уже совсем было спустилась с крепостных стен; но что-то роковое ее преследовало, и она опять была поймана и снова заточена в своей обители в башне, у которой только усилили караулы. Потом строгости опять мало-помалу ослабели: желающим было дозволено посещать арестантку, а самой ей выходить в садик.
Заклик продолжал жить тут же в местечке и, по счастью, не возбуждал никаких подозрений, так как не был замешан и в последней попытке графини к побегу. Ко́зель давала ему поручения, но не хотела ничем его компрометировать.
На характер короля покушение Ко́зель также не оказало влияния: он в следующем году великолепно принимал у себя в Дрездене Фридриха Вильгельма прусского вместе с сыном его Фридрихом, впоследствии Великим. Пребывание высоких гостей в Дрездене продолжалось четыре недели и утомило спартанца-короля до того, что он писал оттуда, жалуясь на усталость. Комедия, балет, осмотр музеев, скачки, карусели, метание дротиков — все это шло одно за другим. Забавам не помешал даже случившийся в Зекаузе пожар, при котором гости едва успели выскочить. Король на этих празднествах нередко появлялся в национальном польском платье, богато расшитом золотом, с белыми и голубыми перьями.
Ко́зель, слыша о всех этих забавах, только вспоминала свои прежние времена и понимала, что она не нужна и король о ней забыл.
Оржельская кружила голову даже Фридриху, который ею так сильно заинтересовался, что возбудил в Августе ревность, и они с тех пор тайно враждовали. Фридрих писал о нем Секендорфу:
«Король польский из всех монархов самый фальшивый и возбуждает во мне наибольшее отвращение. У него нет ни чести, ни веры; обман и ложь — это и его право и его стихия. Он, кажется, не знает ничего более приятного, как перессорить людей и обмануть их. Меня ему тоже однажды удалось обмануть, но более уже не удастся.
Я в Дрездене прыгаю, танцую и измучен более, чем если бы ежедневно затравливал по два оленя, и вообще живу не по-христиански; но Бог мне свидетель, что во всем этом не нахожу никакого удовольствия и возвращусь домой так же чист, как уехал оттуда».
Увеселениям, терзавшим Фридриха, в самом деле не было конца, и когда гости от них окончательно устали, их еще попотчевали великолепным военным лагерем под Мюлебергом на Эльбе, который с неописанным восторгом воспевали некоторые современные поэты.
Место для этого лагеря было выбрано на пологом скате и очищено от леса, который тут рос и был, собственно, для этого вырублен; оно занимало три мили в окружности и представляло бесценные удобства для военного стана.
Двадцать тысяч пехоты и десять тысяч польской и саксонской кавалерий, расположились здесь, как на ладони. Войска были заново обмундированы и обучены по самому новейшему образцу. Особенно хороши были кавалергарды и конные мушкетеры, а из пехоты — янычары и батальон гренадер Рутовского.
Август имел свою главную квартиру в деревянном, наскоро выстроенном огромном двухэтажном здании, внутренность которого была обита полотном и расписана специально выписанными из Италии декораторами. На эти военные празднества собрались множество своих и иностранцев; среди последних было пятнадцать послов, шестьдесят девять графов и тридцать восемь баронов. Именитые гости прибыли издалека, так, из Франции приехал, например, маршал де Сакс. Конечно, и здесь более слушали музыку, танцевали и жгли фейерверки, чем занимались войском. Не прерывались здесь и чудеса Августовой изобретательности, например, на одном из здешних лагерных пиров был подан знаменитый в своем роде чудовищный пирог, имевший шестнадцать локтей в длину и шесть в ширину. На то, чтобы изготовить этого гиганта, пошло семнадцать четвериков муки, и его подали к столу не на руках, а подвезли на особо устроенных дрогах, запряженных восьмериком лошадей.
Все эти затеи изобретательного Августа воспевал его придворный поэт Кёниг, а Фридрих над ними втихомолку зло посмеивался.
Слухи об этих пирах доходили и до Ко́зель и все более и более убеждали ее, что она забыта и ей нет никакой надежды на освобождение монаршей волей. Она опять решилась бежать, но на этот раз при содействии Заклика. Он только и ждал этого.
После стольких лет жизни в Столпене ему были отлично знакомы и местность, и люди, и порядки, и он после каждой неудачной попытки графини к побегу прикидывал все обстоятельства и обдумывал, как устроить все опять, чтобы это не повлекло за собой неудачу. Но он не решался сам вызывать графиню на новую опасную попытку, а предпочитал ждать ее слова. Но она все еще медлила, пока одно, по-видимому, малозначительное обстоятельство вдруг быстро не изменило ее решения.
Случилось, что торговые евреи, заехав к ней с разными товарами, привезли графине и несколько номеров гамбургской газеты, где было подробное описание последних увеселений во время пребывания прусского короля в Дрездене. Читая между прочим о каруселях, которые впервые были выдуманы Августом для Анны Ко́зель, она так вознегодовала, что скомкала газету и при первой же встрече с Закликом спросила, может ли она бежать из замка.
В воротах замка караул был нестрог, в замок впускали и выпускали всех, особенно мужчин: к графине и к коменданту ходили торговцы и знакомые, и стража к этому привыкла и почти не обращала на проходящих никакого внимания. Заклик думал, что в один из пасмурных, или еще лучше, совсем дождливых дней, когда мужчины надевают плащи, Ко́зель, покрывшись военным плащом и нахлобучив пониже фуражку, смело могла бы выйти никем не узнанной за ворота замка; а он будет за ней следовать и, выпроводив ее за зверинец, где должны были стоять верховые лошади, посадит ее в седло, и они ускачут лесом в горы, скроются за границу Саксонии.
Как Заклик ни раздумывал, он ничего лучше не мог выдумать и потому сообщил свой план графине. Той это чрезвычайно понравилось, и она решила, что в первый же дождливый день они должны уйти.
— Я надеюсь, что это будет последний раз и, готова защищаться. Лучше умереть, чем снова сюда вернуться! Надеюсь, что и ты также не дашь взять себя голыми руками. Прошу тебя вооружиться.
— Я надеюсь, что до этого дело не дойдет! — отвечал Заклик.
Итак, для этой, последней, попытки недоставало только ненастья; а дни, как назло, стояли ясные и погожие. Заклик употребил это время на то, чтобы еще более приучить стражу к частым входам и выходам. Он приходил к графине ежедневно и, выходя от нее, неохотно отвечал на оклики часовых, если которому приходило в голову его окликнуть. Он также продал в эти дни за бесценок свою усадьбишку и обратил в деньги все, что только было возможно.
Наконец однажды в четверг небо с утра начало заволакивать тучами и в воздухе запахло дождем. Казалось, что ненастная погода непременно пойдет на несколько дней. Заклик сейчас же взялся за дело: одетый в свой плащ, он нарочно то приходил в замок, то выходил оттуда, и когда к утру пятницы бродившие с вечера тучи разразились проливным дождем, он сказал Ко́зель, что настал их час и что теперь медлить не для чего.
Графиня, отпустив прислугу, покрылась принесенным ей Закликом плащом и пошла к воротам. На нее никто не обратил никакого внимания, и она прошла эти ворота благополучно. В других воротах солдат стал было приглядываться к ней внимательнее, но тоже пропустил ее, не сказав ни слова. Так она и вышла, благодаря этому плану, на свободу; но неумолимый рок не переставал ее преследовать.
Когда вслед за ней в таком же плаще показался Заклик, часовой заворчал на него:
— Да сколько вас тут ходит! Сейчас только один прошел, а тут уж и другой!
Заклик открыл лицо и сказал:
— Что же, ты меня не знаешь, что ли?
— А, черт признает вас тут всех, столько вас шляется! — отозвался солдат. — Что это такое, в самом деле? Сам считал, что вошел всего один, а теперь выходит уже второй.
— Тебе, верно, это приснилось.
— Нет, я не спал, и мне это не приснилось, а ты, постой-ка, не уходи, а вернись к коменданту!
— Да меня же все здесь знают! — настаивал, смеясь, Заклик.
— Ну, знают или не знают, а ты иди к коменданту, иначе не выпущу!
Пока они спорили и шумели, прибежал унтер-офицер, который по жалобе Заклика и велел его выпустить; но потом, на горе беглецов, спросил солдата, что возбудило в нем подозрение на счет этого, столь знакомого в замке человека.
— Да то, что, стоя на часах, надо считать, сколько людей входят в ворота и сколько выходят.
— Ну, что же далее?
— А далее то, что сегодня в таком плаще вошел один, а вышли двое.
— Ты в этом уверен?
— Конечно, уверен, да еще теперь припоминаю, что тот первый имел такую подозрительную походку.
— Какую же это подозрительную?
— Ну, не военную, а шел, как баба.
— Что ты врешь?
— Право, так, я даже подумал, не Ко́зель ли это сыграла со мной такую штуку?
— Сохрани Господи! — сказал унтер-офицер и, начав разделять опасения часового, пошел к башне.
Здесь от чернорабочего на кухне он узнал, что всем женщинам графини дано было дозволение отправиться в город. Это его еще более встревожило, и он, уже не помня себя, вбежал на второй этаж и увидел, что комната Ко́зель пуста, на третьем этаже — также никого. Искать арестантку в саду во время такого сильного дождя было бы, конечно, напрасно, и унтер-офицер сломя голову побежал к коменданту. Тот сию же минуту послал солдат искать графиню сначала около башни и во всех закоулках замка, но все поиски были напрасны, и становилось ясно, что арестантка бежала. Тогда в замке ударили тревогу и комендант с солдатами, разделив их на несколько отрядов, отправились на поиски по окрестностям.
Между тем Ко́зель имела вполне достаточно времени, чтобы дойти до укрытых в лесу лошадей, но, по несчастью, она в поспешности отклонилась от своего пути и заблудилась… Ускользнувший во время сумятицы Заклик обошел графиню и ждал ее при конях в мучительной тревоге; время уходило, уже был слышен шум погони, а Ко́зель все еще не было. В отчаяньи он сам бросился искать ее то в ту, то в другую сторону, не смея, однако, окликнуть ее, чтобы не открыть солдатам своей засады; но вот он ее наконец нашел, помог ей вскочить в седло и сам хватался уже за поводья своего коня, как в эту самую минуту они были окружены солдатами. Заклик не захотел сдаться и, стараясь дать графине время ускакать, дрался свирепо и упал с простреленной головой; но графине и это не помогло: прежде чем ее лошадь успела поднять карьер, один из солдат уже схватился за ее удила. Графиня вынула пистолет и выстрелила ему в голову; но на место одного подоспели другие, и сопротивляться было невозможно.
Комендант, явившись на место схватки, нашел уже графиню под стражей, а при ней два трупа и одного раненого, который умирал в муках.
— Довольно ли с вас этого, госпожа графиня? — воскликнул комендант. — Считайте, сколько человеческих жизней стоят ваши напрасные попытки бежать!
Ко́зель ничего не ответила, а быстро подойдя к мертвому Заклику, поцеловала его в окровавленный лоб и сняла у него с груди известную нам бумагу, на которой покойный инстинктивно скрестил руки в минуту смерти.
Графиню отвели опять в замок, откуда сама судьба, кажется, не хотела ее выпускать. Ко́зель дала деньги, чтобы устроить Заклику похороны, и сказала:
— Для меня и этого никто не сделает!
В это время Ко́зель было уже сорок девять лет; но, как многие свидетельствуют, она была хороша и в эти уже столь поздние для женщины годы.
С этих пор она не стала выходить даже в свой садик, а окружила себя книгами; читала без устали; изучала кабалу и заказывала переводить для себя еврейские религиозные книги — так убивала время, не будучи в силах убить саму себя…
Это совпадало уже с последними годами царствования Августа II, когда он, подражая Людовику XIV, наскучил и удовольствиями, то заменил пышность двора страстью к постройкам.
В Дрездене, где тогда было еще много некрасивых деревянных домов, приказано было ломать их и строить вместо них каменные. Постройка шла за постройкой: на старом рынке было возведено хорошее здание ратуши; Флемминг, Фицтум, Ваккербарт и Сулковский были вынуждены выстроить себе по дворцу. У Флемминга король сам купил его японский дворец, который прежде назывался голландским. В городе разбивали сады, строили казармы, проектировали монументы. Красовался уже тогда и Цвингер, прелестная в своем роде игрушка, но он тогда был еще только надворным строением к проектируемому новому дворцу. Прекрасные померанцевые деревья, которые теперь украшают летом Цвингер, были привезены сюда в 1731 году как корабельный балласт и предназначались для токарных поделок. Их было четыреста штук, но когда деревья привезли в Дрезден, здесь вздумали их посадить в землю, и большая часть принялись.
В окрестностях Дрездена построены были замки Моритцбург, Губертсбург, летние дачи в Пильнице и т. п.
Король, видимо, состарился, хотя и бодрился, желая всемерно казаться молодым и свежим. Его силы и здоровье подорвались. Еще в 1697 году, гарцуя на коне перед княжной Любомирской, он упал, опасно повредил себе ногу, но не слушал врачей, которые советовали ему беречься. Это кончилось тем, что в 1727 году ему должны были отрезать на ноге палец, на котором образовалась гангрена. Хирург Вейс, производивший эту операцию чуть не под страхом смерти, был счастлив, что операция удалась как нельзя лучше; но, однако, с тех пор Август уже не мог ходить так хорошо, как прежде, и часто садился перед дамами.
В последний год он еще раз провел в Липске свою любимую новогоднюю ярмарку и затем торжественно открыл карнавал в Дрездене; а так как в скором времени должен был состояться сейм, то он 16 января отправился в Варшаву. Но это была его последняя поездка.
Зимняя дорога и новый ушиб ноги, полученный Августом при выходе из экипажа, снова вызвали гангрену, от которой его через три дня и не стало. Впрочем, и то удивительно, как он при своей бесшабашной жизни мог прожить до шестидесяти трех лет!
Когда весть о смерти Августа II дошла из Варшавы в Саксонию, тогдашний комендант Столпянской крепости сказал о новом государе графине Ко́зель.
Она выслушала эту весть стоя, долго стояла в безмолвии, а потом, всплеснув руками, упала, рыдая, наземь.
Заточение, жестокость и все другие испытанные ею несправедливости и унижения, как видно, не могли вытеснить из ее сердца страстной и глубокой любви, которую она питала к этому человеку, и когда его не стало более на земле, все злое ему было забыто, и с этой поры он снова был для нее только ее несравненным, ее возлюбленным Августом, которого она могла оплакивать со всей нежностью.
Через несколько дней в замок прибыл из Дрездена некто Геннике и приказал доложить графине, что он прислан к ней от нового курфюрста. Она, по обыкновению, сидела за своими книгами, но, услышав о приезде Геннике, приказала его просить.
— Ваше сиятельство, — сказал посланец, — я прибыл к вам по приказанию моего всемилостивейшего государя с тем, чтобы объявить вам, что вы свободны; вы можете хоть сию же минуту оставить этот замок и жить, где вам будет угодно.
Ко́зель посмотрела на привезшего ей эту новость, потом потерла рукой лоб и проговорила:
— Я свободна? Вы, кажется, это мне сказали. Я свободна оставить Столпянский замок хоть сию же минуту…
— Точно так, графиня.
— И могу жить, где я захочу?
— Где вам угодно.
Она покачала головой и, грустно улыбнувшись, начала как бы сама с собою:
— Свобода, свобода! Для чего ты мне теперь, когда весь мир мне чужд и я ему чужая? Куда я пойду? Где стану жить? Где мне угодно… Но мне, господин офицер, нигде не угодно жить.
Геннике молчал.
— Да, — повторила она, — эта свобода, этот дар нового государя, который вы привезли печальной арестантке, немножко запоздал и теперь ни на что мне не нужен. Свобода, то есть жизнь между людей, теперь для меня была бы не благополучием, а несносным бременем. Мне здесь лучше; я уже сроднилась с этими стенами; в них я прострадала в унижении и неволе долгие годы; в них я выплакала все мои слезы; в них успела отвыкнуть от самой свободы и не хочу с ними расстаться; не хочу жить нигде в другом месте! Возвратитесь, молодой человек, к вашему всемилостивейшему королю и передайте ему, что вы от меня слышали.
Геннике поклонился.
— Да, — продолжала Ко́зель, — доложите его величеству, что я шлю ему мой привет; желаю ему благополучно царствовать, к славе своей и на благо народу; а для себя прошу у него одной милости: дозволить мне остаться здесь, в этом замке, где я провела многие годы и хочу здесь же умереть.
Геннике отвечал, что он в точности доложит обо всем этом государю, и с тем откланялся и уехал.
Легко догадаться, что желание графини было удовлетворено, и она осталась жить в замке. Ей тогда, в 1733 году, исполнилось уже пятьдесят три года, и она не надеялась жить долго, но высшей волей было решено иначе.
Оставаясь обитательницей, но не арестанткой Столпянского замка, Ко́зель устроилась в башне очень удобно и по-прежнему неустанно занималась чтением. Вниманием ее преимущественно пользовались еврейские религиозные книги и вообще литература Востока и кабалистика. Она постоянно окружала себя евреями и через них доставала все, что ей было нужно. Пенсии в три тысячи талеров, которую она получала, ей было довольно и на жизнь и на покупку книг, а также на выкуп нескромных медалей, которые однажды после одного спора с ней приказал выбить Август II. Кроме этих нескромных медалей она скупала также редкие талеры, на которых королевский герб был соединен с ее гербом. Это было сделано по ее просьбе еще тогда, когда она думала, что имеет права второй жены Августа. Талеры эти, впрочем, были выпущены в самом незначительном количестве. После смерти Ко́зель несколько десятков штук этих монет нашли в ее кресле.
В тюрьме и на свободе Ко́зель сохраняла свою гордость и не изменила ей и теперь: всем местным чиновникам, духовным лицам, точно так же, как и простолюдинам, она говорила «ты» и лицам, посещавшим Столпень, приказывала объявлять свое благоволение. После семнадцатилетнего заточения при жизни Августа II она прожила здесь все время царствования Августа III и Брюля, обе силезские войны и всю семилетнюю войну, первый выстрел которой раздался под стенами этого замка.
Прусский генерал Вернер, подступив к этой защищенной несколькими инвалидами крепости, овладел ею.
Фридрих Великий во время войны аккуратно выплачивал графине Ко́зель назначенную ей пенсию; но только той дрянной монетой, которую тогда называли «ефраимитами». Ко́зель прибивала эти легковесные талеры гвоздиками к стенам.
XV
Во время занятия австрийцами Дрездена знаменитый принц де Линь, бывший тогда полковником драгунов, нарочно ездил в Столпень, чтобы представиться графине. Она его приняла и в первое же свидание с ним рассказала, что, изучив все главные религии, она нашла большие преимущества в гебраизме и исповедует еврейскую веру в единого Бога. Она говорила также принцу, что не скучает в Столпене и остается здесь, потому что ее никто в свете не знает, а знакомиться ей поздно, потому что остается немного жить. Ей тогда было уже восемьдесят два года; но она была еще так бодра, что после писала де Линю письмо, которое, впрочем, едва можно было разобрать, а понять и совсем невозможно: оно было полно мистических сопоставлений и магических формул.
Из других источников известно, что знаменитому в то время ориенталисту, суперинтенданту Боденсшатцу, графиня поручила перевести себе с еврейского языка книгу и послала ему за эту работу двадцать талеров при письме, которое подписала: «Barroneus Lobgesang». Окончив заказанную ему переводную работу, Боденсшатц получил еще шесть дукатов в награду. Потом она заказывала ему также переводы разных религиозных еврейских трактатов и платила по луидору за каждый параграф. Боденсшатц очень хотел знать, для кого он работает, но узнал только, что его письма и посылки, которые он адресовал в Дрезден, забирал какой-то посланец по имени Шмидефельдт, он же привозил и отправлял ему и ответы; больше же он ничего не допытался. Но наконец этот неизвестный корреспондент и заказчик сам пригласил Боденсшатца в Дрезден, предложив притом заплатить все его путевые издержки. Боденсшатц приехал, и кого же он нашел в Дрездене? Его встретила очень странная особа в полном облачении ветхозаветного первосвященника. Боденсшатц был поражен этой оригинальностью, но тотчас узнал в этой приехавшей для свидания с ним особе женщину. Это была Ко́зель. Они свиделись и долго беседовали, и после того еще неоднократно съезжались для совещаний по интересовавшему их предмету.
Графиня всегда принимала ученого дружески и жадно слушала его толкования Талмуда и других писаний еврейских ученых раввинов.
Ко́зель даже хлопотала через тогдашнего президента консистории графа Ганцендорфа, чтобы Боденсшатца назначили пробстом в Столпень, но это не состоялось, потому что Боденсшатц был отозван князем Байентцем. Впрочем, Боденсшатц и сам едва ли пожелал бы близкого сообщества графини, так как ему не нравились ее слишком резкие выпады против христианства.
Наконец 2 апреля 1765 года графиня Ко́зель скончалась, на восемьдесят пятом году от рождения; смерть ее была весьма тиха и покойна. 5 апреля ее смертные останки были самым скромным образом погребены в замковом костеле, но над могилой ее не сделали ни памятника, ни надписи.
Она оставила после себя троих детей, признанных королем. Граф Фридрих Август Ко́зель родился в 1712 году и был генералом кавалерии, шефом гвардии и владетелем замка, который носил имя Ко́зель. Фридрих Август Ко́зель был женат на девице Гальцендорф и скончался в 1770 году, оставив одного сына, который умер бездетным. Из дочерей графини Анны старшая — Августа Констанция — была выдана замуж за графа Фризена и принесла ему за собой в приданое Кенигсбрук; она умерла в 1737 году. Младшая же, Фредерика, родившаяся в 1709 году, вышла за подскарбия Фридерика Христиана Мошинского, который умер в 1737 году; а она пережила его почти на целое полустолетие и во время могущества Брюля играла очень видную роль в Саксонии. Ее богатый дом под названием «палаца Мошинских» снесен очень недавно. Он стоил целых бочек золота.
Такова судьба описанной здесь женщины и ее блистательного потомства.
Не думаем, что мы должны уверять наших читателей, что история графини Ко́зель есть не вымысел, а история истинная.
Она несомненна и записана у многих современников той эпохи: Гакстгаузена, Пёльпитца, Лоена и других. Автор воспользовался только богатым материалом, оставленным современниками. Он представил здесь одну сторону царствования, которое отозвалось на Польше крайне пагубно. Саксонский двор испортил польские нравы. Под развращающим влиянием Августа явились такие семейства, как Белинские, Денгоф и Поцей, где женщины пользовались постыдными ласками короля, продавая ему себя за те или другие выгоды. Чудовищная, почти безумная роскошь Августа познакомила Польшу с такими потребностями, о каких не было и помину при доброй старопольской простоте, и что всего хуже, — раз войдя в нравы, эта расточительность уже не исчезала в стране, как исчезла оттуда саксонская династия. С тех пор крупные, характерные черты уступают место пронырливому мелкодушию интриганов; любовь к родине ослабевает, и начинают замечаться политическое торгашество и измена; роскошь вызывает повсеместную зависть; желание каждого тянуться за другими рождает такую сговорчивость совести о которой, вероятно, и не думали старопольские деды. Блеск и великолепие двора поражали слабые умы и увлекали их к разорительной переимчивости. И с тех пор пошел неслыханный прежде в польском обществе соблазн, к которому теперь все присмотрелись до того, что не обращают на него внимания, как будто это обыкновенное явление, которое так и должно быть… И все это шло так мягко, при такой веселой и блестящей обстановке… Но тем-то и хуже, что это шло при такой обстановке. Саксонцы обыкновенно любят приписывать свое разорение при Августе II расходам его на польскую корону и войнам, которые он должен был вести для того, чтобы сберечь ее; но едва ли это справедливо. Самого беглого просмотра бюджета того времени достаточно, чтобы убедиться, что никогда эта корона и поднимавшиеся из-за нее войны, подкупные сеймы и прочее не стоили Августу II столько, сколько пошло на безумные забавы его и его любовниц.
Замок в Столпене еще стоит, но уже представляет ныне одни величественные руины. Впрочем, башня, где столько лет жила Ко́зель, довольно хорошо сохранилась, и в ней показывают комнаты графини и ее садик, но могила ее никому не известна.

 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ