БЫСТРЫЕ СНЫ
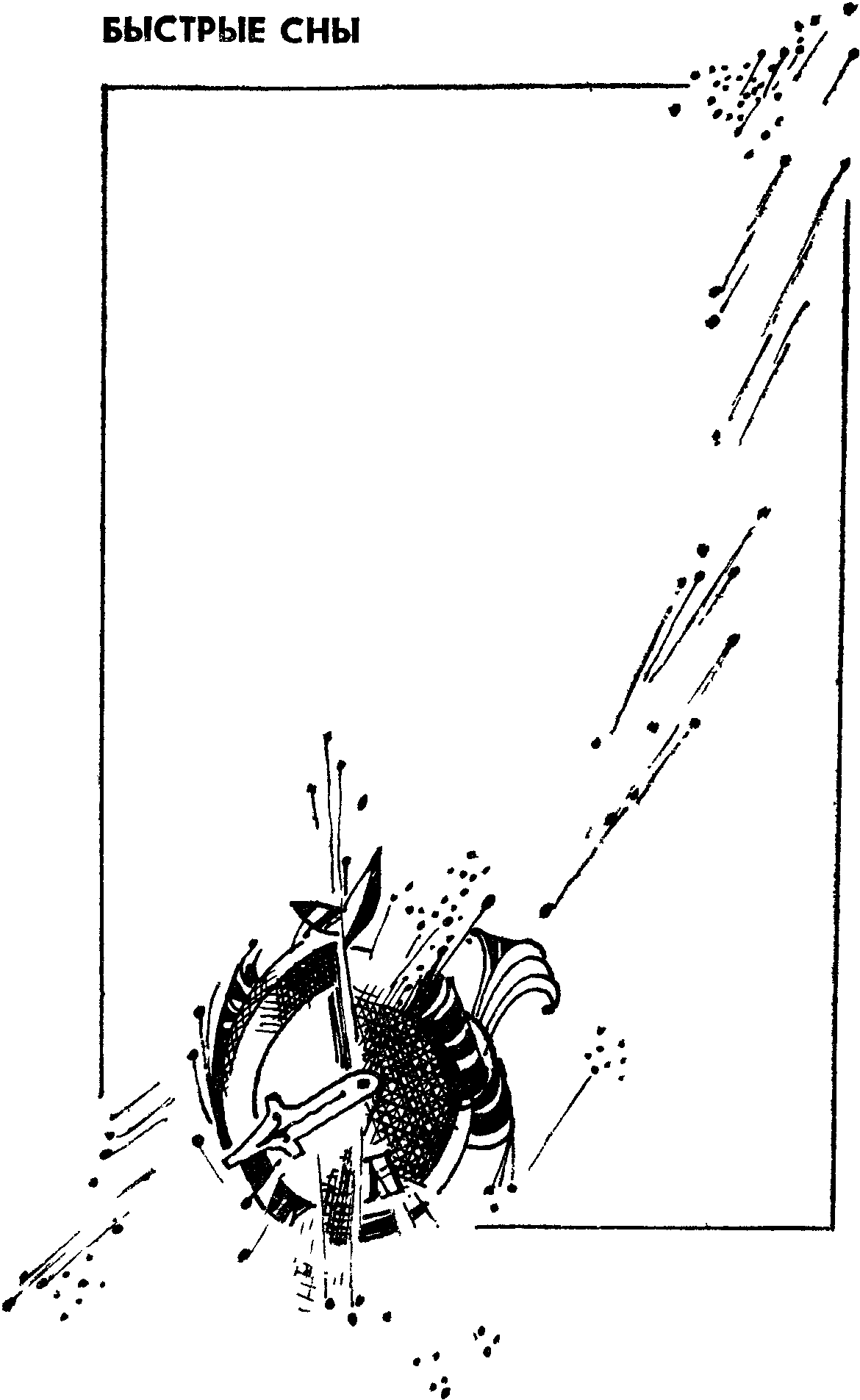
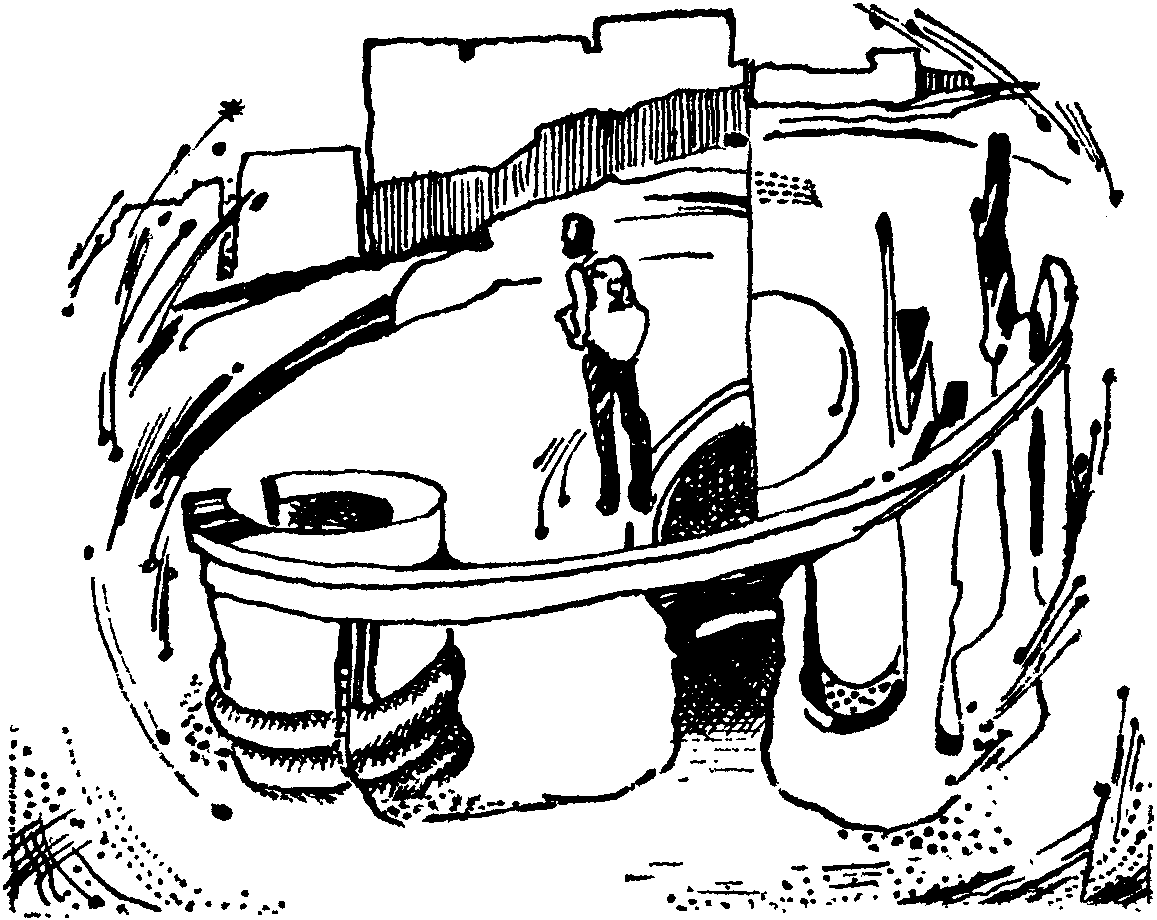
О. КОРНЕЕВА МОЯ БАБУШКА
Бабушку мой папа вывел из какой–то личинки, чтобы было кому со мной сидеть. Наверное, личинка находилась в неблагоприятных условиях, потому что старушка получилась допотопная. Целыми днями сидит на камне и сказки рассказывает. Про лису. Она говорит, что лиса в лесу водилась. Ну лес я знаю: десять лет назад последний отключили, когда кислородный синтезатор достроили, а про лису услышал впервые в так и не смог ее себе представить.
Бабушка говорит, что у лисы была рыжая шерсть и хвост. У бабушки тоже рыжие косы на голове, во свое сходство с лисой она отрицает. Вот я на лису не похож: никаких волос. И головы, кстати, тоже нет. Это бабушка так говорит. Еще она говорит: “Ум хорошо, а два лучше”. Я посчитал. Примерно в то же время, из которого моя бабушка, водились двух–, трех– и так далее головые Змеи Горынычи. (В сказках, конечно, живые передохли давно.) И все глупые. Поэтому я не стал головы отращивать, как когда–то собирался.
Папа у меня профессор. Он изучает ПОСЛЕДСТВИЯ, и потому знает больше всех. Лапа считает бабушку научным фантастом. Он говорит, что раньше такая литература была. Папа мне объяснил, что такое литература. Но бабушка писать не умеет, и мы решили, что она большой мастер научно–фантастического устного творчества.
У меня нет ни братьев, ни сестер. Папа произвел меня на свет почкованием — отрезал кусок себя и положил в аквариум. Через три дня я появился. Но мама упала в обморок, и папа больше так не делает. Теперь он диссертацию пишет.
А все–таки бабушка плохо получилась. Иногда в ней что–то заедает, и она начинает рассказывать о своей прежней жизни. Бабушка, оказывается, жила в доме, и было у нее трое детей, и она ходила с ними гулять на пруд. И деревья тогда были зеленые, и в пруду лилии цвели. Когда она про это вспоминает, начинает ритмично и членораздельно говорить — стихи читает. Я слышал, что бабушку скоро заберут в папин НИИ — изучать.
Однажды бабушка с папой поругалась. Она кричала, что у нас нет ни литературы, ни искусства, мы лишены чувства прекрасного. Папа ответил: “Мы можем помнить, но не можем творить”. Папа долго сердился: у нас не принято говорить об этом. А я… я захотел стать человеком, но это невозможно.
Когда–то все были людьми, такими, как бабушка. Вы о переселении душ слыхали? Сначала были люди, потом было два солнца, потом появились тени и призраки, а потом они материализовались. Так говорят у папы в НИИ. Еще они говорят, что мы лишаемся памяти и способности мыслить. Пройдет несколько лет, и мы станем ничем.
Каждый вечер моя бабушка сказку рассказывает. О всемирном потопе. Ядерном. Только все это неправда. И нет никаких последствий. Я знаю, что когда проснусь, над серыми оплавленными камнями будет мирно светить вишневое солнце.
О. КОРНЕЕВА САНЯ
Воздух свеж и прозрачен, словно питье. Закрыв глаза, я остужаю тело растворенными в нем солнцем и туманом. Сводит судорогой, огонь, — и рвусь, задыхаясь из плоти. И не чувствую движения — слегка натянут, перетекаю влажным всплеском в неподвижную зыбь утра.
Трава шуршит, скользя по боку палатки. Едва заметное кострище пружинит под кроссовкой. Присаживаюсь ну корточки, окунувшись в туман, кладу несколько сухих — нет, отсыревших прутьев, и поджигаю их слабым лучом бластера.
Кажется, нашумел. В палатке слышится возня, молния расстегнулась, и высовывается заспанная физиономия.
— Привет, — говорю а.
— Спайдер… Ты откуда? — Саня щурится.
— Сверху.
Саня смотрит в небо. Потом вылезает, садится, ткнувшись лицом в колени.
— Спи дальше, — советую я, — пока чай сделаю. Где ты берешь воду?
— Здесь…
— В озере?
— Прямо, в двадцати метрах родник. Под кустом, — он почти засыпает.
Возвращаюсь. С волос капнуло, застыли руки. Я вдоволь напился, но этот запах пойманной воды…
Вешаю котелок к подбрасываю прутьев. Появляется взъерошенный Саня.
— Искупался?
— Немного, — он легко шлепает меня по спине, садится.
Как тихо. Кажется, бесплотен, не существую больше, — часть леса, и все вобрал в себя. Наверно, легче было бы потерять сознание, но огонь почти прозрачен, у него не хватает ни сил, ни красок, чтобы заворожить. Солнце… я так и не понял, когда оно стало ярче. Последние обрывки тумана вползают в сплетение трав, тают и превращаются в душисто–живую воду…
— Надолго? — спрашивает Саня.
Я не сразу понял, так чужды здесь слова:
— До вечера.
— Ты подтвержден вне закона, теперь уже за подрывную деятельность.
— Знаю.
Я не хочу об этом: мне хорошо сейчас.
— И подлежишь аресту, — Саня выдергивает меня в реальность.
— Тоже знаю.
— И у тебя хватило наглости прилететь, — смеется он.
— Ага…
Я выбираю прутик поровнее и подношу к пламени, пытаясь зажечь. Сзади забулькало. Я оборачиваюсь: в траве бледно–зеленым светятся любопытные глаза.
— У нас гость, — говорит Саня. — Налови рыбы.
— Кто там?
— Русалка, — он сыплет заварку в закипевшую воду.
— Получилась?
— Конечно, — Саня доволен. — Уже сцены устраивает. Вчера, видишь ли, надо было танцевать в лунном свете, а не с кем. Подружек ей подавай да витязя.
— Берегись…
— Что они со мной только не делали, — отмахивается он. — И янтарь жгли, и заклинают каждый день. Смотри, совсем в шамана превратился: работать–то надо.
Вид у него и впрямь живописный. На шее пучки травы на веревочках, ветки, еще что–то. Морды, перья, кольца, светлые космы до плеч, шорты в колючках…
Плеснуло, и по траве запрыгали здоровенные карпы. Саня собрал каркас, водрузил на него сковородку и принялся за рыбу.
Потянуло к воде. Нырнуть, насовсем. Там спокойно: хорошо и спокойно, вода не убивает…
— Прекрати, — сказал Саня, не оборачиваясь.
— Он мне нравится, — обиделась русалка.
— Мне тоже, — возразил Саня. — Он гость.
— Все нельзя, нельзя…
— Не ворчи, в старуху превратишься.
Русалочка замолчала.
— Мы потом искупаемся, — предупредил Саня. — Чтобы без фокусов. А ты, он повернулся ко мне, снял амулет и надел мне на шею, — носи вот это.
Я слушал этот сумасшедший диалог. Что это? Провал во времени? Искажение разума? Саня — бионик. Однажды ему пришло в голову, что если очеловечить природу, вернуть людей в сказку, воскресить домовых, леших, водяных, люди обретут душу, утраченную в процессе эволюции. Он начал с киберов, кончил биоплазматической русалкой. Кто знает, быть может, он и прав…
Рыбой пахнет, жареной. Саня поглядел на меня и усмехнулся:
— Подожди немного.
— Хорошо здесь, — мучительно ежась, сквозь сжатые зубы: — Тебя не обнаружили?
— У меня воздушная разведка. Да и кому я нужен, сумасшедший?
— А твои монстры? Сейчас стреляют, не думая, — казалось, я святотатствовал.
— Всегда стреляют, не думая, — говорит он. — Давай тарелку.
— В палатке, в синем пакетике… — Саня примеривается к обжаренной шкурке, — пленки и записи. Не забудь забрать.
— Угу…
— Нет здесь никакого пакетика. И не было.
— Опять?! — завопил Саня. — Сколько просить: не трогай мои вещи!
— Не так, — сказали из палатки. — Поставь блюдечко с молоком, да заклинание прочитай ласковое, уважь старика.
— Я тебе покажу заклинание! — Саня полез в палатку.
Обрывок фразы: “Чтобы тебя найти…” Вылетел матрац, барахло какое–то. Крики: “Мозоль!”; “Отдай, сказал!”; “Не дам…”; “Убери ноги!”; визг, — и задним ходом вылез Саня с пакетиком.
— Домовой, — принялся объяснять Саня. — Он же любит таскать всякие мелочи. Ну я его сюда переселил, а то в трейлере была сплошная морока. Единственное средство воздействия — на любимую мозоль наступить… Ничего, привыкнешь, — взглянул мне в лицо. — Сейчас мы тебя на солнышко…
— Весело здесь, — я потянулся за добавкой.
— Еще как, — уверил Саня. — Осторожно, я с чайником.
Я никогда в жизни не пил такого чая.
— Травы. Кстати, ото всех болезней. Здесь немного, а когда–то использовали несколько тысяч видов.
— Они же ядовитые.
— Почему? — удивляется Саня. — Как в огороде — подкормка, прополка…
— Я о другом.
— Здесь экологически чистая зона, — говорит Саня. — И потом, мои специалисты всякую гадость собирать не будут.
— Откуда твои специалисты знают…
— Сам не понимаю, — говорит Саня. — Такое творят, ни в одной книге не найти. Интуитивно, что ли?
— Привезти книг? — предлагаю я.
— Каких? “По специальности” нет ничего, а остальное я читаю.
— Кстати, я заходил в трейлер, он стоял открытым.
— А кому все это нужно? Разве только запчасти… В биоплазме все равно никто ничего не понимает, третью комнату не найдут — взаимопроникновение пространств. Конечно, неприятно, когда кто–то уворует твою родную вещь. Знаешь, у них такие лица… С мимикой, настроением, характером. Они живые. Для меня немыслимо продать или выбросить что–нибудь.
— Дотеоретизировался.
— Спасовал? — ехидничает он. — Куда тебе, цивилизованному.
— Здорово, — говорю я и скольжу под воду.
Там прохладнее. Становится легко, я растворяюсь, перестаю быть собой… Тянусь, тянусь до бесконечности, до дикой стихийной силы. Движения плавны и мощны. Кувыркаюсь, на мгновение теряю ориентировку, сворачиваю тело в немыслимую петлю, раскрываюсь и плыву…
Выныриваю. Уже земной — барахтаясь, пытаюсь протереть глаза и хватаю воздух шершавым горлом. Силы исчезли, и Сане приходится плыть ко мне:
— Отдышался?
Я киваю. Еще задыхаясь.
— Тебя долго не было.
— Нормально, — хриплю я. Ветер приподнимает волну, она закрывает лицо. Закашливаюсь.
Возвращаемся. До берега далеко, а солнце стало таким холодным…
Потом мы купались до одури. Отдыхали в воде и опять плавали, забыв обо всем. Пытались руками ловить рыбу, падали, брызгались, прыгали в воду с качелей и опять плавали, плавали, плавали.
Наконец, выбираемся на песок. Я падаю, Саня тоже. Что–то бормочет про пыльное солнце…
Звук. Садится флаер. Кто? В полусне скатываюсь в воду. Наглотался, но ныряю и плыву в заросли какой–то травы.
Саня кричит, зовет.
Я выглядываю. Он что–то говорит старушке в коричневом.
— Лесс! Вылезай, это Баба Яга!
— Так… Дожили…
Опускаю глаза. В шаге от меня извивается пиявка. Она повернула и двинулась ко мне.
Я предпочел Бабу Ягу.
— Это наш гость, бабушка, — говорит Саня.
Она, прищурившись, разглядывает меня с ног до головы.
— Робот, — шепотом объясняет Саня. — Воздушный разведчик и, заодно, присматривает здесь за порядком. И за мной, потому что я недисциплинированный.
— Хулиган, — поправляет Яга.
Мне бы ее слух.
— И бездельник, — продолжает она. — Развалился. Дрыхнет. Обеда нет, трейлер распахнут, пленки не менял, к биоплазме не подходил, а она сгниет…
— Менял, — сказал Саня.
— …трейлер распахнут, к биоплазме не подходил, а она сгниет… — Яга взяла чуть выше.
— Хватит, — прервал Саня. — Что–нибудь случилось?
— Случилось. Дрыхнешь. Обеда нет, трейлер…
— Стоп! — заорал Саня. — Зачем ты здесь?
— Согласно программе, вывожу тебя из пассивного состояния. Напоминаю, что обеда…
— Бабуля! — Саня взвыл. — Я тебя нежно люблю, но на большом расстоянии!
Он под руку отвел продолжавшую зудеть Ягу к ступе, подсадил и, взглянув на датчики, включил подъем. Ступа взлетела.
Саня проворчал что–то и вернулся ко мне.
— А старушка очень примитивно разговаривает, — съязвил я. — Видно, что механизм. Исправь.
— Вызываю LS, — вмешался приемник на браслете. Саня вздрогнул. Звездолет загружен, деньги перечислены.
— Принял, спасибо.
Отключаться нельзя: я здесь нелегально, и случиться может всякое:
— Мне пора.
— Пообедаешь, потом проводим, — цедит посерьезневший Саня.
Очень хочется искупаться еще раз, напоследок. Запах травы, солнца лишает разума. Почему я должен улетать, скрываться, рвать пуповину, соединяющую меня с этим миром?
— Хочешь молока? — спрашивает Саня. — С утренней дойки, Яга привезла.
— Она что, корову держит?
— Держит.
Он несет глиняную кружку. Движения замедлены, текучи. Саня свободным красивым жестом протягивает ее:
— Что с тобой?
Пью. Я не знаю, что со мной. Волна беспокойства. Здесь безопасно, а интуиция не обманывает…
— Эй, очнись…
— В случае чего, мы незнакомы.
— Какой случай? — он старается успокоить. — Силовое поле, робот–разведчик, телерадиоперехват. Муха не пролетит.
— Осторожней, трижды осторожней. Игра усложняется. Мы стягиваем силы.
— Все заминировано, — говорит он, — следов не останется.
— Останутся, — шепчу я, — должны остаться.
Леший лохматым шариком катится по дороге. У Сани за поясом бластер.
— Как на “Фронтире”?
— Нормально, — отвечаю. — Все тебя ждут. Живем…
— Вроде, на вас облаву готовят.
Полиция. Конечно, мы опасны — несколько чудаков, которые не хотят жить в грязи и захлебываться кровью, и потому купили сектор границы дальнего космоса, нарекли его “Фронтиром” и ушли.
Мы засылаем на Землю, на нашу Землю разведчиков, потому что люди, немногие светлые и добрые люди живут под угрозой смерти. Мы хотим видеть их свободными и счастливыми и мы сделаем это.
— Вас слишком мало, — слышу Санины слова.
— С каких это пор ты стал пессимистом?
— Ты не обжигался? — Он о чем–то своем, но больно.
— Не надо, — резко говорю я. — Обжигался. Но все равно, лучше доверять и обжигаться…
— И получать нож в спину… Где же твоя хваленая интуиция?
Мы входим в длинный трейлер. Жилая комната законсервирована: у Сани полевые испытания русалки, и он перебрался в палатку.
Саня кидается к пробиркам. Из большого стеклянного сосуда выползает тягучая биоплазма. Нежная, напоминающая обожженную кожу. Неприятное зрелище. Я ухожу в соседнюю комнату.
Это аппаратная. Тридцать телеэкранов показывают перехваченные программы с различных точек материка. Одновременно идет запись их на компьютер.
Иду в лабораторию. Саня набивает мои карманы орехами.
— И ребят угости, — он кивает на огромный рюкзак, который взваливает себе на спину.
В двери появляется голова.
— В нашу сторону идет туча, перенасыщенная кислотными испарениями, сказала Яга.
Саня бросается в лабораторию, разгребает бумаги, химпосуду. Там оказался еще один пульт. Я не хочу мешать, спускаюсь.
— Садись, — приглашает Леший, — костяники хочешь?
Он подает свернутый лист, полный оранжевых полупрозрачных ягод.
— А что за лист?
— Не бойся, не отравленный. Мать–и–мачеха называется.
Прислоняюсь спиной к нагретой шине, пробую ягоды — вкусно.
— Это у нас Саня с Ягой экспериментаторы, — бормочет Леший. — Остальные — народ спокойный.
Яга намеренно громко кашляет. Она что–то говорит подошедшему Сане и направляется к нам:
— Есть, — я вытаскиваю из кармана небольшую коричневую расческу. Подаю.
— Опять полимерная, — морщится она.
Пробует зубцы ногтем, нюхает и бросает через плечо в крапиву. Саня так и покатился.
— Тьфу! — Яга разочарована.
— Теперь пятерней причесывайся, — советует Саня. — Она все расчески перетаскала. Надеется, что превратятся в непроходимый лес.
— А сколько раз тебя просить: сделай из осины или костяной купи. И вообще, гребень должен быть полукруглым…
— Осенью, — сказал Саня. — Вот небо запру.
Он протягивает дождевик:
— Что смотришь? На Земле сейчас опаснее, чем в космосе, это здесь чисто.
Мы надеваем прозрачные плащи. Леший вскакивает с трухлявого пня и семенит к тропинке.
Саня нашаривает в траве пульт, снимает сектор защитного поля. Мы попадаем под едкий, непрофильтрованный дождь. Здесь, в кустах, спрятан флаер. Пора прощаться.
Саня ставит рюкзак в кабину.
— Мы будем чаще прилетать. Ты тоже…
— Как только приживется нечисть, прилечу.
— Обязательно.
Мы смотрим друг другу в глаза. Я развязываю дождевик.
— Оставь, — говорит Саня. — Тебе еще идти.
— Спасибо. Держись…
— Счастливо.
Мы коротко обнимаемся. Саня отходит, и я рву стартер.
Я отсылаю флаер на стоянку и иду к “Фортэлю”. Небольшой, обгоревший в атмосфере звездолет почти не заметен на фоне скал.
Никого нет. Вспоминаю, что надо бы поостеречься: вдруг засада? Но до “Фортэля” ближе, чем до любого из камней, за которыми можно укрыться. В два прыжка я достигаю его. Поднимаюсь в кабину, сбрасываю рюкзак. Машинально проверяю герметичность, остаток топлива, стартую. Почему так больно?
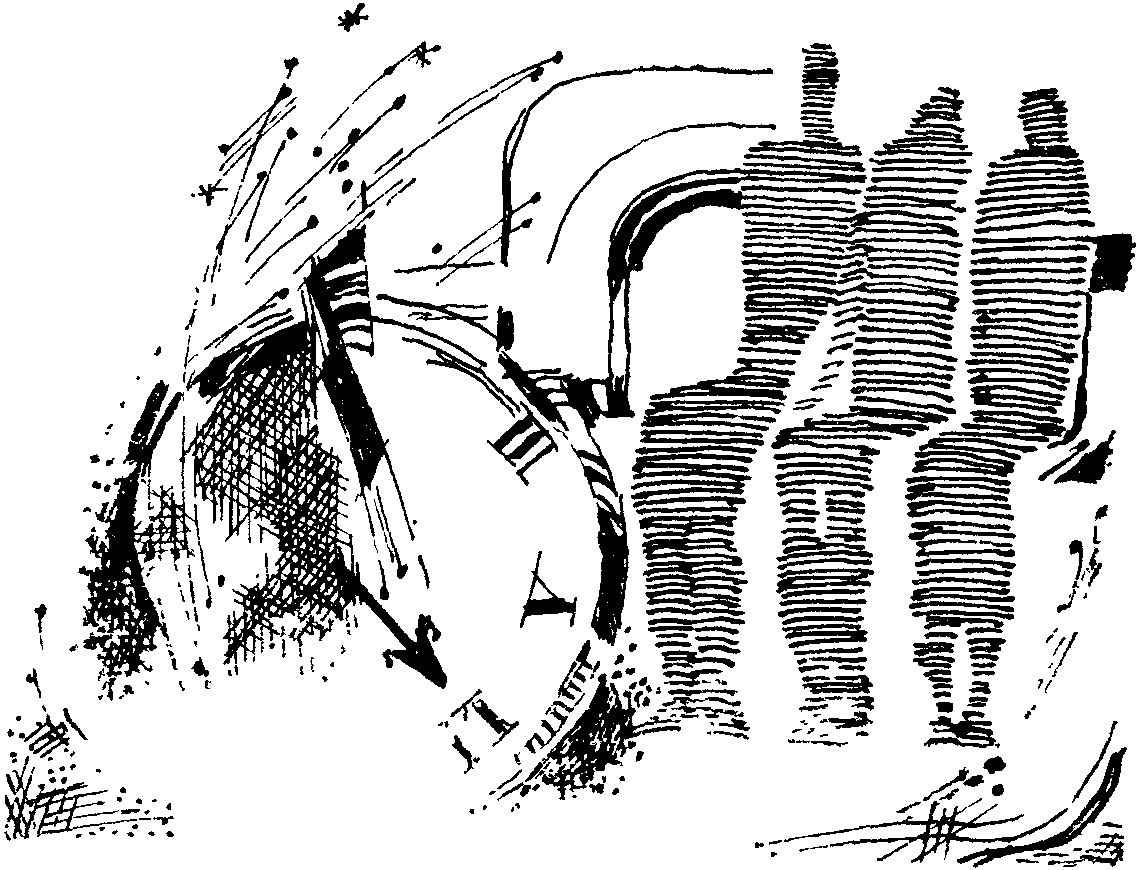
Г. ГРАНОВСКАЯ ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
Не иначе — автобус… Он, долгожданный. Костя Бутейкин с трудом разлепил веки и стал вглядываться в темные кусты, скрывавшие поворот дороги. Рокот мотора становился все отчетливее. Точно, автобус. Бутейкин оторвал непослушное тело от скамьи и, пошатываясь, принял вертикальное положение. Его знобило, прямо–таки вымораживало. Плотно сцепил зубы, чтобы не стучали. Пить надо меньше, произнесла бы классическую фразу жена, увидь Бутейкина в его нынешнем состоянии. Он даже услышал ее голос, отчетливо, презрительно выговаривающий каждое слово… Бр–рр! Слава богу, жена уже в прошлом, ушла полгода назад к матери, забрав Димку и два чемодана с тряпками, которые он, Бутейкин, возил ей из каждого рейса, как последний дурак. Ушла! Еще пожалеет. Пусть попробует прожить на свою библиотекарскую зарплату — на колготки не хватит… Прискачет!.
Но пить и в самом деле надо меньше. Перестали в нем срабатывать внутренние тормоза — из–за Иркиного ухода, что ли? Раньше он точно знал, когда накрыть рюмку рукой: все, братцы, предел. А сегодня пил без пределов… Сколько же они употребили сегодня? Сам он принес бутылку белой и коньяк: как–никак только вернулся из рейса, сошел, как говорится, на берег, встреча с друзьями и все такое. Следовало отметить. Тем более, что дома, в пустой квартире, сидеть было просто невыносимо. Позвонил Кольке, тот откликнулся, давай, говорит, к Климову, у него жена в командировке, организуем стол и встречу… Да. Колька приволок трехлитровый бутылек самогона, чистого, как слеза. Ну и Климов что–то там на стол поставил, домашнего производства — то ли вино, то ли наливку. И было их, значит, пятеро… Две подружки Колькины подскочили “на огонек”. Одна была очень даже ничего: “Вы, конечно, женаты…”. Глаза поразительные, синие в черной кайме. “Уже свободен и еще свободен, — сострил он кокетливо. — А вы?” Пили за знакомство. Потом еще за что–то.
Что было дальше, Бутейкин не помнил. Сидит вот на остановке, а автобуса нет. Почудился ему звук мотора, что ли? Холодно, холодно–то как. Бархатный сезон называется. Туман откуда–то взялся, ни черта не видать. Может, автобусы не ходят? Сколько времени уже? Бутейкин попытался рассмотреть циферблат, но не смог. Не успел. Темень прорезало ярким лучом света, и из–за поворота вынырнул автобус, как–то неожиданно вынырнул и вроде бы беззвучно, хотя несколько минут назад Бутейкин слышал гул мотора. Наконец–то! Двери распахнулись, словно приглашая Бутейкина в слабоосвещенный салон. Он ухватился за поручень и с трудом вскарабкался. Перебрал, перебрал сегодня — ноги едва держат, руки дрожат и никаких сил. Пол разъезжается под ногами — перебрал. Ну да ничего, подбодрил себя, сейчас, главное, добраться домой. Что есть силы вцепился в стойку, оглядел автобус в поисках местечка. Света в салоне было чуть–чуть, но достаточно, чтобы разглядеть: все места заняты. Вот черт! И куда они все едут: ночь же на дворе, туман и непогода. Куда в такую темень можно ехать? Бутейкин покрепче сжал стойку. Ладно, он постоит пока. А там через остановку–другую что–нибудь да освободится. Он успеет, может, и покемарить: ехать ему далеко, считай, через весь город… Но сколько все ж таки времени? Он поднял руку и снова попытался рассмотреть стрелки. Автобус трясло, рука прыгала, и сколько Бутейкин ни вглядывался в циферблат, так и не смог разглядеть, что же там натикало. Беспомощно уронив руку, он решил оставить свою затею до первой остановки. Посмотрел в окно: где проезжают, какая там погода и обстановка на улицах родимого города? Но ничего не увидел. Клочья тумана, мерцание редких огней — ни домов, ни транспорта… Да какой это номер автобуса, куда он едет? Прет без остановок… Может, это пригородный какой, и он, Бутейкин, не туда сел и катит теперь в обратную от родимого дома сторону? Или такое ощущение из–за тумана, откуда он только взялся? Странный такой туман. Вечер как вечер был, в меру теплый, ветерок, правда, дул, слабый такой, когда он шел к Климову, что тем более не предвещало никакого тумана… Спросить бы.
— Девушка, какой это автобус… номер какой? — Бутейкин попытался заглянуть сбоку и сверху в лицо сидящей перед ним женщины с пышной прической, украшенной белым цветком. Ответа не последовало.
Не слышит, решил Бутейкин и, медленно переставляя ноги, сделал пару шагов вперед, чтобы видеть лицо сидящей. Глаза ее были прикрыты. Спит, что ли? Слегка наклонившись, он переспросил:
— Н-не скажете, какой это автобус, куда едем?
Девушка подняла голову, взглянула холодно и безучастно. От ее взгляда Бутейкину сделалось не по себе, но, как всякий моряк, он решил не отступать и задал свой вопрос, внутренне подобравшись, в третий раз.
— Разве вы не знаете? — спросила она, почти не разжимая губ, ярко, вызывающе накрашенных.
Был какой–то диссонанс в ее облике. Ясные глаза были обведены карандашом, веки блестели от перламутра синих теней, искусственный румянец рдел на скулах — грим был чрезвычайно праздничным, как и прическа с цветами, как неуместно нарядное платье… Разве в таком платье садятся в автобус? Явно сбежала с какого–то вечера… одна в такую–то пору! Ясное дело, эта старая карга рядом не может быть ей ни подругой, ни матерью… Бутейкин расправил плечи и крепче вцепился в поручень, соображая, что бы еще такое спросить, чтобы завязался разговор, а там, глядишь, и знакомство. И не нашел ничего лучше, чем узнать, который час.
Девушка снова подняла на него глаза и что–то промелькнуло в них… Ага, вроде бы клюнула.
— Вы спросили… который час?
— Вот именно, — Бутейкин постарался принять как можно более непринужденный вид. — Сколько там, на ваших часиках? Мои что–то барахлят…
Девушка посмотрела на свои часы, мельком, и — как она только разглядела на них стрелки в таком сумраке? — ответила:
— Десять минут шестого.
— Утра? — не поверил Бутейкин.
— Вечера.
Отвязаться хочет, понял Бутейкин. Или шутит? На всякий случай забросил еще один пробный камешек:
— На вечер как будто не похоже. — Он кивнул на окно. — Слишком мрачно для шести вечера, а? Скорее всего, ваши часики, как и мои, барахлят. Или стоят…
— Стоят, — как–то механически повторила девушка. — Они всегда теперь стоят. Так же как и ваши.
— Хотите, привезу вам новые? Японские. Исключительная точность и четверть века гарантии. Умеют делать.
Девушка слушала его, широко раскрыв глаза. На лице ее стала проступать тревога. Что–то у него не в порядке? Бутейкин, вцепившись одной рукой в поручень, другой попытался привести в порядок волосы, мимоходом прошелся пальцами по усам. Эти действия потребовали усилий, так как он едва держался на ногах. Сесть бы, сесть. И лучше рядом с этой…
— Как вас зовут? — спросил, хватаясь рукой за воздух в поисках опоры.
— Ваши часы… идут? — Девушка завороженно смотрела на его левую руку, крепко сжимавшую прямо перед ней поручень переднего сиденья.
— Разумеется. Просто у меня что–то с глазами… Возможно, я ослеп… слепну от того, что вижу вас, — галантно начал Бутейкин, чувствуя в то же время, что если он сейчас, сию минуту, не сядет, так удачно начатое знакомство может обернуться конфузом.
— Как вы попали сюда? — спросила девушка, пристально глядя на него.
— Как я мог попасть? Сел на остановке, — он сделал шаг назад, схватился за стояк у входа и почувствовал некоторое облегчение. Главное — держать равновесие. Равновесие, вот что главное.
— В этот автобус нельзя сесть на остановке.
— Но я‑то сел? Ну, не сел пока… — Бутейкин оглянулся. — Мест вот нет. А сесть мне очень хочется, если говорить честно.
— Ваши часы идут, — сказала девушка. — Значит, у вас есть шанс. Вам надо выйти… уйти отсюда. И поскорее, пока двигаются стрелки ваших часов. Сделайте это немедленно, ваши часы останавливаются, секундная стрелка уже замедляет ход… поторопитесь, если можете.
— Что за чушь! Почему я должен выйти, да еще на ходу? Автобус–то не останавливается! И вообще, куда мы катим? Почему не объявляют остановок, черт возьми! Какая следующая?
— Остановки по требованию… Я не понимаю, как вы попали сюда, но ваши часы идут — вам надо немедленно выйти. Пока идут ваши часы — вы живы. А этот автобус… он развозит… если хотите, тени.
Бутейкин почувствовал, что трезвеет резко, внезапно.
— Какие тени, — грубо спросил он. — Это вы, что ли, тень?
— Все, кто сидит в этом автобусе — едут сниться. Они будут сниться в эту ночь тем, кто их когда–то знал. Некоторые едут в этом автобусе раз в году, другие чаще… я езжу каждую ночь, почти каждую ночь…
— И кому же снитесь вы? — Бутейкин старался говорить насмешливо, но голос у него отчего–то дрогнул и “вы” он произнес почти шепотом. Но девушка расслышала.
— Мужу, — ответила она. — Он убил меня в первую ночь после свадьбы. Перепил, приревновал, знаете, это бывает. Выбросил с девятого этажа… я даже не успела раздеться, снять это платье. Он очень любил меня — и я снюсь ему почти каждую ночь.
— Значит… я тоже… снюсь?
— Я не знаю. Ваши часы идут, нет, смотрите… они останавливаются!
Теряя равновесие, Бутейкин ринулся к двери.
— Откройте! Открой, ты, сукин сын! — заорал он, не узнавая собственного голоса, и всем телом навалился на дверцы. Они не поддавались. — Открой, гад!
Автобус мчался с умопомрачительной скоростью. В слабоосвещенном салоне едва белели безучастные лица. За стеклами выл ветер, звук ветра становился все пронзительнее — он нарастал и болью отдавался во всем теле Бутейкина… Туман за стеклами делался все гуще и гуще, он начал просачиваться внутрь, Бутейкин почувствовал, что задыхается. Собрав последние силы, он всем телом ударил по половинке автобусной двери, она подалась, щель сделалась шире…
— Быстрее, Вася, гони, пульса уже почти нет! — Пожилой врач повернулся к окошечку, соединявшему водительскую кабину с фургоном “скорой”. — Анна Дмитриевна, что у вас там?..
С мигалкой и сиреной “скорая” мчалась по проспекту.
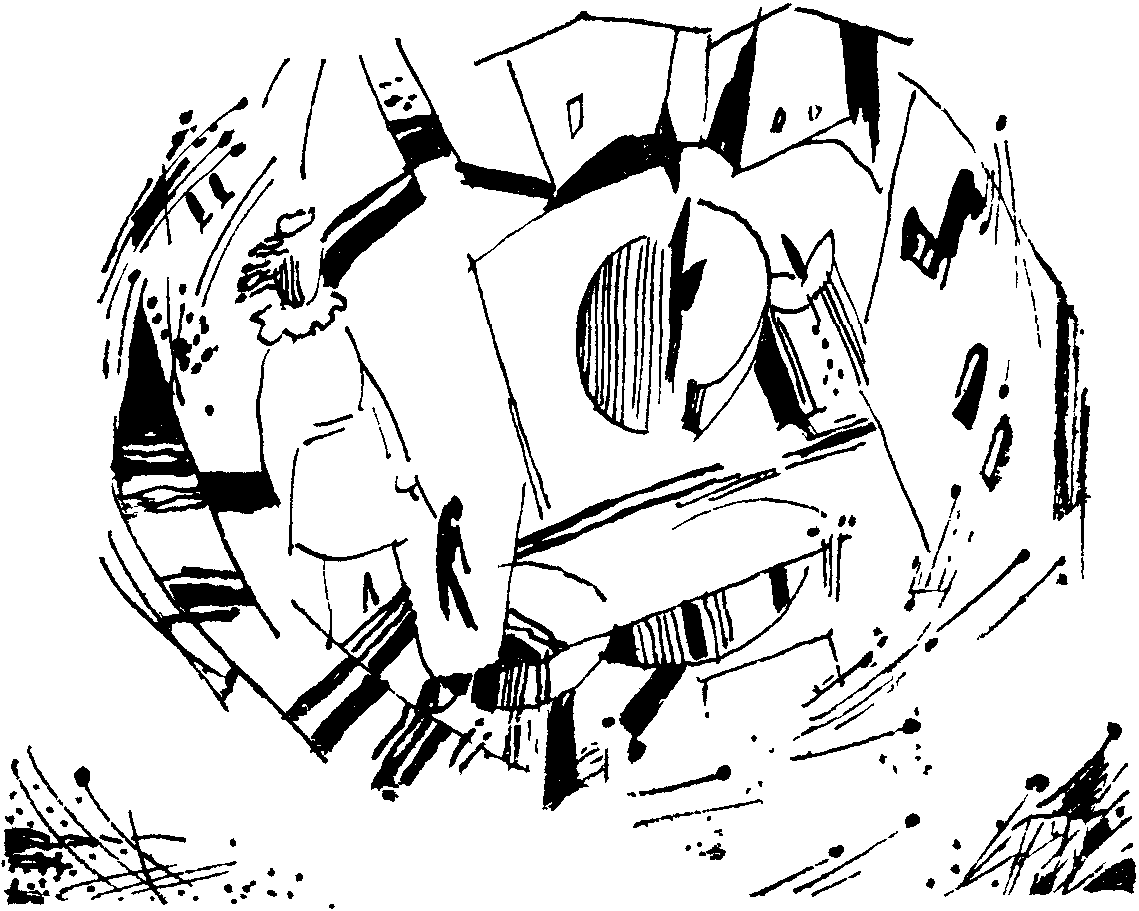
В. ПАХОМОВА ГОД ДРАКОНА
Гости разошлись. Помыла посуду, подмела пол, покурила и легла спать с привычной фразой: “Господи, спаси, сохрани и помилуй”. Сон не приходил. Выпила таблетку, взяла восьмой том Чехова. Минут через пять подействовало снотворное. Под бульканье аквариума я засыпала.
Над ухом зажужжал комар. Отмахнулась и повернулась на другой бок. Опять комар. Ушла с головой под одеяло и подумала: “Можешь пищать хоть всю ночь”. Вдруг почувствовала легкий укол в правую ногу. Вскочила, зажгла ночник, откинула одеяло и увидела на ноге комара. Рука уже поднялась для удара, да так и осталась висеть.
Ярко–зеленый комар сидел на ноге. “Но почему зеленый?” — пронеслось в голове. Подумала о том, что люди тоже разного цвета: черные, белые, желтые. Подумаешь, зеленый комар. Глаза слипались, и я опять подняла руку. Послышался писк и комар сидел уже на моей руке.
— Ты, насекомое, дашь мне спать? Или ты думаешь, я засушу тебя для гербария?
— А я знаю, отчего ты не спишь, — пропищал комар. — От тебя муж ушел.
Я ошалела, но не потеряла дара речи. Хорошо, что есть успокоительные.
— Комариных забот мало, в людские лезешь.
А про себя подумала: “Откуда у этой зеленки такие сведения?” Комар перелетел на родинку и уселся, как на табуретке.
— Да, извела мужа, а ведь его теперь в чужой постельке отогревают.
— Ничего, отогреется и прибежит, — с горечью бросаю я.
— Может и не прибежать. Вся беда в тебе. Ты не можешь изменить себя. Оставь его. Дай ему свободу. Он должен жить среди людей. А ты из комариного рода, которые дальше своего носа не видят.
— Оборотень! — вскрикнула я, прижимаясь к стене.
Комар перелетел на ковер и растворился в дремучих красках узора. Мне казалось, что его писклявый голос разрезал полумрак и тишину на квадратные зеленые куски. И в каждом квадрате пищали и жужжали зеленые точки. Взлетел восьмой том Чехова, рыбы повыпрыгивали из аквариума, комар пел: “Господи, спаси, сохрани и помилуй”.
Сколько часов я была в забытьи — не знаю.
— Тебе плохо? — пропищал комар. — Выпей кофе и выслушай меня.
Я уже не удивлялась, откуда появился кофе, комар, который опять перелетел на мою родинку на руке. Родинка растянулась и стала большим табуретом, на котором мог уместиться весь комариный род.
— В вашем городе происходят жуткие вещи, и никто этого не замечает. Ты мучишь мужа, погрязла в мании вынюхиваний и выслеживания. И никто из вас не знает, что в город пришла большая беда. Скоро вы все погибнете. Взгляни в окно на дом напротив.
В меня словно воткнули механизм робота, и я послушно подошла к окну и отодвинула штору. Ночь. Аккуратный скверик с очень белыми скамейками. Что за чертовщина, почему такие белые скамейки?
Все похолодело внутри, нервная дрожь не давала произнести ни слова. Я приросла к полу и не могла оторваться от окна.
— Дом! Напротив стоял пятиэтажный дом! Где он? — я испугалась своего крика. Каждая моя клеточка превращалась в ледышку. “Нет, это не со мной происходит, от меня всего–навсего ушел муж, а это черное наваждение”. Не было сил говорить, я шипела:
— Зачем ты мне это сказал? Ничего не хочу знать и видеть!
Комар сидел на занавеске и тихо стонал:
— Ты — единственный человек, который заметил исчезновение дома. Люди ослепли. Все закручены в своих делах и заботах. Наступит утро, и они пройдут мимо того места, где стоял дом. А дома в вашем городе пропадают каждую ночь.
Я совсем отупела и не знала, что сказать.
— Куда же все исчезает? Нужно немедленно заявить в органы! Что же делать?
— Что делать? Найти зрячих и уходить. Призывай Бога, если ты в него веришь. А органы по иронии судьбы пропали в первую очередь. Но этот момент не для слепых. В ваш город пришел дьявол. Питается он каменными строениями. Его аппетит возрос не сразу. Сначала камешки с хрустящим песком на зубах, затем кирпичи, плиты. Если бы не натолкнулся на ваш город, возможно, что он бы погиб.
Завороженная, я слушала писк комара, и мне хотелось выпрыгнуть прямо сейчас, ночью, со второго этажа и бежать куда глаза глядят.
Села на пол, обхватив голову руками. В висках мерно отстукивали молоточки. Начинало светать. Комар перелетел на мою щеку и своим крошечным хоботком стал гладить ее.
— Ты жалеешь меня, — глотая слезы говорила я. — А разве тебе не жаль тех, кто погиб и погибнет? Из нашего города он переберется в другой, третий, пятый…
— Ваш город очень далеко от других городов. Чтобы дойти до следующего каменного массива, ему нужно постоянно набивать свой желудок. Если даже завтра ты взойдешь на трибуну и расскажешь ВСЕ ЭТО людям — тебя посадят в сумасшедший дом. Поэтому мне их не жалко. Сегодня ты должна уйти из дома, уйти навсегда. Ночью я разыщу тебя.
Уснула я на полу. Случайно опрокинула чашку с недопитым кофе, и рыбы вновь выпрыгнули из аквариума допивать черную лужицу.
Пробуждение было тяжелым. И как магнитом потянуло к окну. Нет, это был не мираж и не галлюцинация. Дома напротив действительно не было. Небольшой скверик с ровно подстриженными кустами, розовыми клумбами и белыми скамейками приветливо сиял солнцу и прохожим. В песочнице играли дети, на качелях болтался переросток. На скамейке сидели бабу ли и о чем–то оживленно разговаривали. Я быстро накинула халат, нечесаная и неумытая побежала в сквер. Подошла к бабушкам, поздоровалась.
— Ты никак спросонок, дочка? — спросила ласково бабушка в белой панаме. — Кого ищешь или потеряла что?
Вторую бабулю несколько озадачил мой вид, и она долго смотрела на кружева ночной рубашки, торчавшие из–под халата.
— Скажите, этот сквер давно здесь? — Я дрожала и заикалась, в надежде услышать чудо.
Они посмотрели на меня с большим сочувствием, и одна из них просто спросила:
— У тебя, дочка, горе, что ли?
— Горе, горе, у всех нас горе общее. — Ноги подкосились, слезы с криком вырвались наружу.
— Ну что ты, милая, успокойся. Жизнь–то, она, знаешь, какая заковыристая. Сегодня гладко, а на завтра, глядишь, и в яму угодишь. Ты, дочка, так не убивайся, молода еще. Терпеть надо. Бог терпел и нам велел, — уговаривала бабуля в панаме. — А сквер–то, здесь давно, мне скоро семьдесят пять стукнет, а помню его, как на пенсию пошла, раньше–то здесь пустырь был…
Лучше бы меня сбила машина или кирпич упал на голову. Не хотелось верить в эту жестокую реальность. Выпив стакан чаю, пошла бродить по улицам.
Городская жизнь напоминает мне часы. Все куда–то движутся, спешат, стоят в очередях за продуктами и шмотками. Вон парочка прошла, не замечая вокруг никого и ничего. Молодая женщина проехала с коляской и с сумками наперевес. Внимательно вглядываюсь в лица прохожих, пытаюсь интуитивно найти хоть одного зрячего. Лица довольные, строгие, тупые, озабоченные. Никакой тревоги в толпе не чувствовалось. И солнечный день без единого облачка на небе, и легкий ветерок действовал на людей разнеживающе.
Знакомый забор заставил меня остановиться. За забором раскинулся сквер с белыми скамейками, подстриженными кустами и клумбами. Детские голоса мячиками отскакивали от земли и разлетались в разные стороны. Зашла в сквер. В воздухе висел запах эфира. Больница тоже пошла на закуску. Я уже не кричала и не рыдала, может быть, от безысходности или в надежде на будущее. Хотя очень смутно его представляла.
Мои мысли прервал детский плач на соседней скамейке. Плакала девочка лет пяти, с тоненькими косичками и крупными синими бантами. Маленькие кулачки не успевали вытирать катившиеся слезы.
— Что же ты так горько плачешь, малышка? — спросила я. Девочка еще громче зарыдала. Я обняла ее. — Смотри, какие у тебя красивые банты, ну прямо шары воздушные. Как тебя зовут?
— Ася, — всхлипывая, ответила она.
— А меня Валя. — Я посадила ее к себе на колени. — Расскажи про свою беду, может, смогу чем помочь.
Ася опять заплакала, обняла меня за шею.
— Ты ведь мне правда поможешь? Правда, правда?
В глазах этой беспомощной девочки я увидела недетское смятение и страх. Я догадывалась, о чем примерно будет разговор, но старалась отбросить эти блуждающие мысли.
— Вчера вечером бабушка из садика взяла меня к себе, — начала сбивчиво рассказывать Ася. — А сегодня утром мы пошли в садик, а садика–то нет. Там сквер с качелями. А бабушка говорит, что садика там не было. В скверике, где садик был, песочница стоит с нашими игрушками. Я грузовик из песочницы взяла, он наш, садиковый.
Ася плакала и гладила мои волосы, лицо, руки. Нет, теперь мне не хотелось под машину, я нашла зрячего ребенка, и ради этого только стоило выжить.
Наступил вечер. Мы с Асей пришли домой, поужинали, посмотрели “Спокойной ночи, малыши”, собрали все необходимые вещи и в двадцать два ноль–ноль вышли из дома. У подъезда наткнулась на мужа с красными гвоздиками и большим черным портфелем.
— Здравствуй, — сказал он и растерялся, но тут же протянул мне букет. Худой, растерянный, с вымученной улыбкой. Мятая рубашка, рыжие усы — такое родное и далекое. Прошлое осталось позади. Начиналось настоящее. Роднее мужа и Аси в этот момент никого не было. Пока я рассматривала его, он знакомился с Асей.
— Валюш, чья эта девочка и чего мы здесь стоим, как бездомные?
— А мы и есть бездомные, бездомные, бездомные, — очумело повторяла я. Мне показалось, что этот звук летит в пространство. Эхо вытянулось в длинный, яркий хвост и паша планета опоясалась бездомным, безродным, бездонным хвостом.
— Что ты, Валюша, что с тобой стряслось?
Над ухом зажужжал комар, пропищал: “Уходите”, — в примостился на моей щеке. Муж осторожно снял комара и раздавил.
— Ишь ты, зеленый, — как–то безразлично сказал он.
Прошло пять дней. Наш город опустел. Скверы, скамейки, качели. Мы не пытались увидеть того, кто пожирал дома. Мы шли в новую жизнь. Лишь однажды встретили огромный каменный столб, он качался из стороны в сторону и медленно распадался на куски.
Странное, непонятное чувство овладело мной. Мы трое в экране телевизора, умирающий столб, отрыгивающий камни. Небо, солнце, пустыри. Захочет ли режиссер снимать вторую серию? И какой она будет? Время покажет. А пока мы идем, крепко взявшись за руки. Ася напевает песенку: “Куда идем мы с Пятачком, большой, большой секрет…”
В. ПАХОМОВА ЗУЕВ
— Зуев, а вдруг соблазню, не боишься? — спросила я, передернув плечами.
Зуев осторожно выглядывал из–за газеты. Глаза его были широко раскрыты.
— Ты что, Зуев? — испугалась я.
Он вскочил, дернул меня за руку.
— Раздевайся, — приказал Зуев.
Я погладила его по плечу.
— Зуев, что с тобой? Зачем ты так?
— Раздевайся, — металлическим голосом повторил он.
Губы у меня пересохли, и почувствовала я такую слабость, что совершенно перестала соображать. Машинально сняла джинсы, бросила на пол и села на стул. Зуев отвернулся к стене, плечи его вздрагивали.
— Зуев, — тихо позвала я, — а давай пить чай.
Он повернулся ко мне с вымученной улыбкой.
— Чего ты ходишь за мной по пятам? Что надо? — прохрипел он.
Я закричала и рванулась к двери.
— Не уходи, я прошу тебя, не уходи, останься, — уже упрашивал Зуев, словно очнувшись после кошмара.
— Почему ты так ходишь? — начала я. — Когда в первый раз увидела твои ноги, не касающиеся пола, думала, что заболела. Даже с работы ушла. Пришла домой, занялась стиркой, и вдруг звонок в дверь. Пошла открывать и замерла, подумав: “А что если за дверью ноги в серых туфлях?”. Пыталась говорить о тебе на работе. — Ну и походка у новенького, не идет, а летит, — смеялась я. — Нашла тему для разговора, — отвечали мне, — неуклюжий, неповоротливый. Идет и оглядывается, как будто своровал чего. Так, какой–то без одного звена.
А дня через два после этого разговора увидела, как ты выходил из отдела, где только что покрасили полы. Вышел, посмотрел по сторонам и бросился бежать. А я, чтобы не выдать своего наблюдения, отвернулась к стенду. Буквы слились в одну полосу. “Если будут следы, — думала я, значит, все–таки больна”. Несколько секунд у стенда показались часом. Наконец я оглянулась. Следов не было. Потом я узнала, что тебя попросили принести отчеты за квартал, их нигде не могли найти, а ты нашел там, откуда сильно несло краской. Знаешь, с этого момента я стала твоей соучастницей. И мне захотелось войти в тайну, которая, как черная призма хочешь разбить, да руки не дотягиваются.
Зуев слушал меня, сидя на окне, и трудно было понять, о чем он думает. Лицо его казалось бесстрастным. Но это было обманчиво. По нему в любой момент могли пробежать и гнев, и улыбка, и что–то такое, от чего сжимается сердце. Зуев смотрел сквозь меня. Далеко, далеко. В свой мир, со своими горизонтами. А я видела его черные глаза — тьму, как в бездонном колодце, в котором черпаешь на ощупь.
— Зуев, так это правда? По воздуху?
— Да, — вздохнул он.
Я подсела к нему:
— Ты, извини меня, — виновато говорила я.
— За соблазн? — усмехнулся Зуев. — Я понял твою игру. Почему через постель? Пришла ты за другим. А это другое, как резать по живому, понимаешь?
Я смотрела на Зуева и чувствовала, что растет во мне такая благодарность, от которой вот–вот захлебнусь и исчезну. Взяла его руку. Поцеловала.
— Ну, что ты, — покраснел Зуев.
— Зуев, а можно я посмотрю поближе, — попросила я. Он тяжело встал. Я нагнулась к его ногам и увидела, что тапки не касались пола примерно на полтора сантиметра. Задумалась. Зачем природе понадобилось делать такие эксперименты? Подняла голову.
— У тебя это с рожденья?
— Не знаю.
— Я помогу тебе, Зуев, слышишь, обязательно помогу. Мы найдем бабку, и ты перестанешь жить с оглядкой. Ты хоть крещеный?
— Не знаю.
— Ну а родители, братья, сестры есть?
— Не помню, — Зуев нахмурил брови, лицо сделалось напряженным.
— Зуев, — вскочила я, — а может, ты оттуда? Я читала, что два миллиона людей на Земле переселенных. И многие из них могут этого не знать.
Зуев схватил меня за плечи и начал трясти.
— Ты что пытаешь меня? Мне же больно!
Я стояла в джемпере и колготках, не испытывая неловкости и стыда. “Да хоть голышом, — думала я, — не имеет никакого значения”. Соприкоснулись две реальности. Как рыба и птица.
— Смотри! У тебя в коридоре гантели стоят, — возбужденно говорила я… — Я привяжу их к твоим ногам, Зуев, миленький, ты почувствуешь линолеум! Почувствуешь, — рассеянно повторила я. — А ведь ты земли не чувствуешь!
Эта мысль обожгла меня, придавила. А Зуев стоял и улыбался. “Самое время улыбаться”, — с горечью подумала я. В шкафу нашла веревку, разрезала, привязала к гантелям и стала обматывать ноги Зуева. Руки тряслись. Может, чудо все–таки случится, и от двадцати килограммов он перестанет витать в облаках. Зуев покорно ждал.
— Все! — радовалась я, — а теперь пройдись, пройдись!
Он пошел.
— Ну, что чувствуешь? — с надеждой спросила я.
— Тяжесть, — сморщился Зуев.
Я опять присела на корточки и увидела пространство в полтора сантиметра от пола до тапок. И навалилась на меня вдруг такая усталость, словно вывернули нутро наизнанку и посыпалось все оттуда, как горох из мешка. Домой. Уснуть. Забыться.
— Зуев, мне пора. Уже ночь.
Накинула плащ и убежала. А Зуев стоял с гантелями, и захотелось ему картошки, жаренной с луком. “Прожил тридцать пять и остальное как–нибудь”, — думал он.
Ночь стояла теплая. Подойдя к дому, сняла туфли и встала в лужу. Постояла, поглядела на темные окна домов, звезды, прислушалась к ночным шорохам. Хорошо–то как! Вот чего мне не хватало после Зуева — лужи и соприкосновения. И это тоже было счастьем. А ведь люди — корни, которые дают всходы.
Квартиру открывала, стараясь не шуметь. Включила свет и увидела мужа.
— Почему ты разутая? Что с ногами? Грязь месила или лужи мерила? Время два часа ночи, болтается черт знает где, — свирепел муж.
Я сняла плащ, повесила.
— Ну, мать, ты просто прелесть! А штаны–то где? Да-а! Хороша! Нечего сказать! Как в детективе. Ночь. Жена без порток, грязные ноги.
Прошла на кухню, налила чаю. Мужа я не испугалась. Положение, конечно, дурацкое. Не нарочно же забыла. Неприятно было само подозрение. Муж не успокаивался:
— А может, тебя раздели?
— И разули, — равнодушно добавила я.
— Ну знаешь…
Вдруг он засмеялся так громко, что я вздрогнула.
— Весь дом перебудишь!
— А я представил, как появлюсь перед тобой ночью в пиджаке, при галстуке, в трусах и… Ой, не могу, держите меня, — хохотал муж, — и в кирзовых сапогах.
— Что ты паясничаешь?
И вдруг мне захотелось рассказать мужу о Зуеве, он поймет, ведь десять лет прожили.
— Знаешь, где я была?
— Мне это не интересно.
— Я сейчас все объясню. Я была у Зуева. Это наш новый сотрудник. Понимаешь, его ноги не касаются земли — он по воздуху… Ему надо помочь, он страдает от этого.
— Какие трудности, конечно, поможем. Сделаем обмен. Будем жить втроем. Тоска зажрет, так и спать втроем будем. Да-а. Как ни крути, от треугольника никуда не деться.
— Какой ты пошлый, серый, — расстроилась я.
— Ты давно не была у психиатра, а надо бы.
— А может, правда, съедемся, — размышляла я.
— Несомненно. Летом все вместе поедем на дачу… Зуев копает, я сажаю, ты поливаешь. Ложись–ка спать. На тебе лица нет…
А в воскресенье мы с Зуевым забрели на пруды. Бабье лето долго раскочегаривалось и наконец выплеснуло отстоявшееся тепло. Шли молча. Каждый боялся спугнуть осеннюю благость, разливавшуюся в нас. На прудах никого не было. Плавали утки.
— Как здорово, Зуев! Давай искупаемся!
— Прохладно. Да и воду я не люблю, — насупился Зуев.
— А я искупаюсь!
Разделась и вошла в воду. Вода обжигала. Выскочила из воды и забормотала: “Солнышко, солнышко, погрей меня”. Перестала дрожать. В голове ясно–ясно. И вот уже спасительная мысль рвется наружу. Лихорадочно рою яму. Песок мягкий, податливый. В стороне стоит безучастный Зуев.
— Скорее, скорее, иди сюда, Зуев! Вставай в яму!
Он послушно встал. Я засыпала его ноги песком, и боялась спрашивать что–либо. Прошла минута, две, три. Зуев улыбнулся. Лицо его просветлело.
— Тепло, — ласково сказал он.
— Тихо, Зуев, послушай землю, послушай…
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ