Раздел первый Китай
Глава I Китайская философия как суперэтика
Из трех главных и древнейших философских традиций: европейской, индийской и китайской — первая и последняя в наибольшей степени отличны друг от друга. Одним из определяющих специфику китайской философии качеств является ее универсальная этизированность, т. е. не просто превалирование этической проблематики, но и последовательное рассмотрение всех основных философских тем с точки зрения морали, стремление к созданию целостного антропоцентричного мировоззрения в виде своеобразной «моральной метафизики».
В научной литературе специфическая этизированность традиционной китайской философии общепризнанна. В этом смысле ценностно-нормативный характер последней очевиден и хорошо изучен: Но обычно под этизированностью тут понимается абсолютное преобладание этической проблематики, что далеко не исчерпывает глубокого содержания данной характеристики.
Сфера этического для китайских философов всегда была не только наиболее важной, но и предельно широкой. В традиционной китайской культуре предмет этики оставался неотделимым от синкретического комплекса норм и ценностей этикета, ритуала, обрядов, обычаев, неписаного права и т. п.
Для сравнения укажем, что в Европе выделение этики в особую философскую дисциплину со специальным терминологическим обозначением (ēthika) и собственным предметом осуществил уже Аристотель в IV в. до н. э. Кроме того, здесь по крайней мере со времен, стоиков, этика стала считаться одной из трех основных частей философии наряду с логикой-методологией и физикой (вместе с метафизикой), а в послекантовскую эпоху была признана особой наукой о внеэмпирической области должного.
Конечно, и в Европе с эпохи античности существует философская тенденция к универсализации этики. Достаточно вспомнить «Этику» Спинозы с ее всеобъемлющим содержанием (от онтологии до психологии) и «геометрическим» методом. В наши дни также на фоне популярных представлений об относительной узости сферы моральных конвенций высказываются универсалистские взгляды на этот предмет. Например, А. Швейцер писал: «Я установил, что наша культура не имеет достаточно этического характера. Тогда возникает вопрос, почему этика оказывает столь слабое влияние на нашу культуру? Наконец, я пришел к объяснению этого факта тем, что этика не имеет никакой силы, так как она непроста и несовершенна. Она занимается нашим отношением к людям, вместо того чтобы иметь предметом наши отношения ко всему сущему. Подобная совершенная этика много проще и много глубже обычной. С ее помощью мы достигнем духовной связи со вселенной»[1].
Как явствует из приведенного рассуждения, проповедуемый в нем принцип отнюдь не доминировал в европейской философии. Но, думается, он играл существенную роль в религиозно-теологической мысли, для которой теизирующая онтологизация моральных ценностей и норм вполне закономерна.
В китайской философии, никогда не противопоставлявшей себя религии, но успешно ее ассимилировавшей, отсутствовала указанная спецификация этики, а также принципиальная дифференциация в последней теоретического и практического, сущего и должного, благодаря чему сфера морального всегда считалась предельно широкой и онтологически обусловленной. Согласно Г. Роземонту, китайские мыслители разрабатывали отсутствовавшую на Западе «моральную теорию человеческих действий», которая была призвана интеллектуально санкционировать систему исконных ритуалов, обрядов и обычаев в качестве необходимого и достаточного регулятора жизни в обществе[2].
Более того, в китайской философии этика имела не только социальный и антропологический, но также гносеологический и онтологический смысл. Основные виды знания различались по их моральной значимости, а фундаментальные параметры бытия трактовались в этических категориях, таких, как «добро» (шань), «благодать-добродетель» (дэ), «подлинность-искренность» (чэн), «гуманность» (жэнь) и пр. Поэтому некоторые современные исследователи и интерпретаторы конфуцианства видят его специфическую заслугу в выработке уникальной теории — «моральной метафизики».
Так, имея в виду кантовскую постановку проблемы соотношения морали и религии, выдающийся китайский философ и историк китайской философии Моу Цзунсань (1909–1995) следующим образом определяет специфику конфуцианства: «У конфуцианцев мораль (дао-дэ) не замкнута в ограниченной сфере, не составляет с религией две противоположные сферы, как на Западе. Мораль у них обладает безграничным проникновением. Моральные действия имеют границы, но та реальность, на которой они основаны и благодаря которой являются таковыми, безгранична»[3]. Эта безграничность — уже сфера религии. Моу Цзунсаню вторит другой известный ученый и мыслитель, Ду Вэймин: «Конфуцианская этика с необходимостью простирается в область религии»[4].
Моральная метафизика (дао-дэ ды сип-шан-сюэ) в терминах Моу Цзунсаня не тождественна метафизике морали (дао-дэ чжи син-шан-сюэ). Последняя делает упор на мораль, объясняет ее доопытный характер. Первая же делает упор на метафизику и трактует обо всем существующем в мире, благодаря чему включает в себя и онтолого-космологические положения. Моральная метафизика сформировалась на основе анализа моральной практики и священного писания (канонов-цзин), отличаясь от западной чистой метафизики. Ее «смысл в том, чтобы, следуя дорогой морали, прийти к метафизике или обосновать метафизику, следуя дорогой морали. Это соответствует формированию „моральной религии“ (дао-дэ ды цзун-цзяо)»[5].
Как считает Моу Цзунсань, Кант не справился с задачей создания моральной метафизики, не смог решить проблему единства природного и морального миров. Моральная метафизика должна быть одновременно теологией. После Канта западная философская мысль стремится к этому, утверждает китайский ученый. Но именно неоконфуцианцы эпох Сун и Мин (X–XVII вв.) «явились создателями полноценной „моральной метафизики“», тем самым превзойдя Канта[6].
Сходную точку зрения отстаивает один из крупнейших китайских философов XX в., виднейший историк китайской философии Фэн Юлань (1895–1990). Он полагает, что, идя этическим путем, неоконфуцианцы продвинулись дальше онтологического анализа в своем стремлении привести к единству выявляемое в подобном анализе наиболее общее противоречие между частным и общим. Методом достижения этой цели у них стала аккумуляция моральных поступков. Таким образом, заключает китайский мыслитель, Кант и неоконфуцианцы двигались в одном направлении, «но Кант все же не высказал того, что уже высказали представители учения о дао», т. е. неоконфуцианцы[7].
Все упомянутые здесь исследователи сходятся на том, что в неоконфуцианстве достигло своего апогея конфуцианское стремление к осмыслению мира как этического универсума. Однако подчеркнем, возможным это оказалось именно потому, что этика в конфуцианстве не была специфицирована ни предметно, ни методологически, ни категориально.
В рамках подобного мировоззрения этические категории становятся в один ряд с онтологическими, что нашло свое теоретическое отражение уже в таком основополагающем для всей китайской философии трактате, как «Чжоу и» («Чжоуские перемены»): «То инь, то ян — это называется Путем-дао. Продолжение этого есть добро. Оформление этого есть [индивидуальная] природа» («Си цы чжуань» — «Предание привязанных афоризмов», I, 5).
Центральную этическую категорию «добро» в китайском языке выражает иероглиф «шань», этимологически связанный с образами барана и флейты, что заключает в себе представление о моральном единстве материального и духовного начал. Сами древнекитайские ученые трактовали изображение флейты, входящее в иероглиф «шань», как обозначение речи, подчеркивая тем самым духовный компонент его семантики.
Последняя охватывает все три основных вида норм и ценностей — этических, эстетических и деонтологических, благодаря чему термин «шань» издревле определялся с помощью иероглифов «мэй» («красота») и «и» («долг», «справедливость»). В состав всех трех фундаментальных ценностно-нормативных категорий («шань», «мэй», «и») входит элемент «баран» (ян1) в качестве символа общественно признанной чувственно-материальной ценности. Поэтому в лексиконе китайской философии «добро» — «шань» охватывает все «хорошее» и напоминает древнегреческую «калокагатию», подразумевая не только благое и добродетельное, но и благообразное и доброкачественное. Соответственно и антоним иероглифа «шань» — «э» означает все «плохое» — как недоброе, злое, дурное, так и безобразное, уродливое, некрасивое и недолжное, недостойное, некачественное, порочное, скверное.
Указанные особенности китайской философии сформировались уже в древности, в «золотой век» ее истории, когда в ней происходила идейная борьба «ста школ» (VI–III вв. до н. э.). Из этого множества направлений четыре главные этические программы — гуманизма, натурализма, утилитаризма и этатизма — были выработаны соответственно конфуцианством (жу цзя), даосизмом (дао цзя), моизмом (мо цзя) и легизмом (фа цзя). Дальнейшее развитие автохтонной этической мысли в традиционном Китае не выходило за рамки этих общих установок. Принятие других принципов было всецело обусловлено инокультурным влиянием, прежде всего буддизма, а затем и христианства.
Глава II
Четыре главные этические программы
§ 1
Конфуцианство (жу цзя): этика ритуальной благопристойности и человеколюбивого самосовершенствования
Древнейшая философская система и одно из трех, наряду с даосизмом и буддизмом, главных этико-религиозных учений-цзяо Дальнего Востока «школа ученых-интеллектуалов» (жу [цзя/цзяо]) возникла в Китае на рубеже VI–V вв. до н. э. В оригинальном наименовании конфуцианства (жу) отсутствует указание на имя его создателя — Конфуция (552/1—479), что соответствует исходной установке последнего — «передавать, а не создавать; верить древности и любить ее» («Лунь юй» — «Рассудительные речи» VII, 1). Свое качественно новое этико-философское учение Конфуций подчеркнуто идентифицировал с мудростью «святых-совершенномудрых» (шэн1) правителей полумифической древности, выраженной главным образом в историко-дидактических и художественных произведениях, древнейшие и авторитетнейшие из которых — восходящие к концу 2-го — первой половине 1-го тыс. до н. э. каноны Шу цзин («Канон писаний») и Ши цзин («Канон стихов») Эта изначальная ориентация сделала опирающуюся на исторический прецедент нормативность и сообразующуюся с канонами беллетризированность фундаментальными характеристиками всего конфуцианства.
Хранителями древней мудрости во времена Конфуция (эпоха Чжоу, XI–III вв. до н. э.) были отставленные от кормила власти ученые-интеллектуалы, специализировавшиеся в «знаково-культурной» (вэнь) деятельности, т. е. хранении и воспроизводстве письменных памятников и протонаучных штудиях, главным образом астрономо-астрологических (семантика «знаков-культуры» — вэнь охватывает и письменность, и астрономо-метеорологические явления). Они концентрировались в районе царства Лу, родины Конфуция (современная провинция Шаньдун), и, возможно, являлись потомками правившей или жреческой верхушки государства Шан-Инь, покоренного в XII–XI вв. до н. э. племенным союзом Чжоу, находившимся на менее высоком уровне культурного развития. Видимо, их социальное падение отразилось в этимологическом значении термина «жу» — «слабый». Конфуций счел эту социальную слабость несовместимой с их культурно-интеллектуальной силой и выдвинул идеал государственного устройства, в котором при наличии сакрально вознесенного, но практически почти бездействующего («обращенного ликом на юг») правителя реальная власть принадлежит жу, соединяющим в себе свойства философов, литераторов, ученых и чиновников. С самого своего рождения конфуцианство отличалось осознанной социально-этической направленностью и стремлением к слиянию с государственной властью во всех ее гражданских (но не военных) аспектах — от административного до идеологического.
Этому стремлению соответствовало теоретическое истолкование и государственной и божественной («небесной») власти в семейно-родственных категориях; «государство — одна семья», государь — Сын Неба и одновременно «отец и мать народа». Государство отождествлялось с обществом, социальные связи — с межличностными, основа которых усматривалась в семейной структуре. Последняя же выводилась из отношений между отцом и сыном. С точки зрения конфуцианства отец считался «Небом» в той же мере, в какой Небо — отцом. Поэтому «сыновняя почтительность» (сяо1) в специально посвященном ей каноническом трактате Сяо цзин («Канон сыновней почтительности») была возведена в ранг «корня благодати/добродетели (дэ1)».
Развиваясь в виде своего рода социально-этической антропологии, конфуцианство сосредоточило свое внимание на человеке, проблемах его врожденной природы и благоприобретаемых качеств, его положения в мире и обществе, способностей к знанию и действию и т. п. Воздерживаясь от собственных суждений о сверхъестественном, Конфуций формально одобрил традиционную веру в безличное, божественно-натуралистичное, «судьбоносное» Небо и посредничающих с ним духов предков, что в дальнейшем во многом обусловило обретение конфуцианством социальных функций религии.
Вместе с тем всю относящуюся к сфере Неба (тянь) сакральную и онтолого-космологическую проблематику Конфуций рассматривал с точки зрения значимости для человека и общества. Фокусом своего учения он сделал анализ взаимодействия «внутренних» импульсов человеческой натуры, в идеале охватываемых понятием «гуманности» (жэнь2), и «внешних» социализирующих факторов, в идеале охватываемых понятием этико-ритуальной «благопристойности» (ли2). Нормативный тип человека, по Конфуцию, — «благородный муж» (цзюнь цзы), познавший небесное «предопределение» (мин1) и «гуманный», сочетающий в себе идеальные духовно-моральные качества и право на высокий социальный статус.
Соблюдение этико-ритуальной нормы ли2 Конфуций сделал также высшим гносеопраксиологическим принципом: «Не следует ни смотреть, ни слушать, ни говорить несоответствующее ли2»; «Расширяя [свои] познания в знаках-культуре (вэнь) и стягивая их с помощью ли2, можно избегнуть нарушений» («Лунь юй», XII, 1, VI, 27, XII, 15). Как этика, так и гносеопраксиология Конфуция зиждутся на общей идее универсального баланса и взаимосоответствия, в первом случае выливающейся в «золотое правило» морали (шу3 — «взаимность»), во втором — в требование соответствия номинального и реального, слова и дела (чжэн мин — «правильное [употребление] имен»). Смысл человеческого существования, по Конфуцию, — утверждение в Поднебесной высшей и всеобщей формы социально-этического порядка — «Пути» (дао), важнейшие проявления которого суть «гуманность», «должная справедливость» (и), «взаимность», «разумность» (чжи1), «мужество» (юн1), «[уважительная] осторожность» (цзин4), «сыновняя почтительность» (сяо1), «братская любовь» (ди3 ти2), собственное достоинство, верность (чжун2), «милостивость» и другие. Конкретным воплощением дао в каждом отдельном существе и явлении выступает «благодать/добродетель» (дэ1). Иерархизированная гармония всех индивидуальных дэ1 образует вселенское дао.
После смерти Конфуция его многочисленные ученики и последователи образовали различные направления, которых к III в. до н. э., по свидетельству современника Хань Фэя, было уже не менее восьми. Они развивали и эксплицитные этико-социальные (Да сюэ — «Великое учение», Сяо цзин, комментарий к канонической летописи Чунь цю — «Весны и осени») и имплицитные онтолого-космологические (Чжун юн — «Срединное и неизменное», Си цы чжуань) представления Конфуция. Две целостные и противоположные друг другу, а потому впоследствии признанные ортодоксальной и неортодоксальной соответственно интерпретации конфуцианства в IV–III вв. до н. э. предложили Мэн Кэ, или Мэн-цзы (ок. 372–289), и Сюнь Куан, или Сюнь-цзы (III в. до н. э.). Первый из них выдвинул тезис об изначальной «доброте» человеческой природы (син1), которой «гуманность», «должная справедливость», «благопристойность» и «разумность» присущи так же, как человеку — четыре конечности. Согласно второму, человеческая природа изначально зла, т. е. от рождения стремится к выгоде и плотским наслаждениям, поэтому указанные благие качества должны быть привиты ей извне путем постоянного обучения. В соответствии со своим исходным постулатом Мэн-цзы сосредоточился на исследовании морально-психологической, а Сюнь-цзы — социальной и гносеопраксиологической стороны человеческого существования. Это расхождение сказалось и в их взглядах на общество: Мэн-цзы сформулировал теорию «гуманного управления» (жэнь чжэн), основанную на приоритете народа над духами и правителем, включая право подданных свергать порочного государя, Сюнь-цзы же сравнивал правителя с корнем, а народ — с листьями и считал задачей идеального государя «завоевание» своего народа, что сближало его тем самым с легизмом.
Во II в. до н. э., в эпоху Хань, Конфуций был признан «некоронованным царем», или «подлинным властелином» (су ван), а его учение обрело статус официальной идеологии и, победив главного конкурента в области социально-политической теории — легизм, в то же время интегрировало ряд его кардинальных идей, в частности признало компромиссное сочетание этико-ритуальных норм (ли2) и административно-юридических законов (фа1). Конфуцианство обрело черты всеобъемлющей системы благодаря усилиям «Конфуция эпохи Хань» — Дун Чжуншу (II в. до н. э.), который, использовав соответствующие концепции даосизма и школы инь-ян цзя, детально разработал онтолого-космологическую доктрину конфуцианства и придал ему некоторые религиозные функции (учение о «духе» и «воле Неба»), необходимые для официальной идеологии централизованной империи.
В целом в эпоху Хань (конец III в. до н. э. — начало III в. н. э.) было создано «ханьское конфуцианство», основное достижение которого — систематизация идей, рожденных «золотым веком» китайской философии (V–III вв. до н. э.), и текстолого-комментаторская обработка конфуцианской и конфуцианизированной классики.
Реакцией на проникновение в Китай буддизма в первые века новой эры и связанное с этим оживление даосизма стал даосско-конфуцианский синтез в «учении о таинственном (сокровенном)» (сюань сюэ). Постепенное нарастание как идейного, так и социального влияния буддизма и даосизма вызвало стремление к восстановлению престижа конфуцианства. Провозвестниками этого движения, вылившегося в создание неоконфуцианства, явились Ван Тун (584–617), Хань Юй (768–824) и его ученик Ли Ао (772–841).
Возникшее в XI в. неоконфуцианство поставило перед собой две главные и взаимосвязанные задачи: восстановление аутентичного конфуцианства и решение с его помощью на основе усовершенствованной нумерологической методологии, т. е. «учения о символах и числах» (сян шу чжи сюэ), комплекса новых проблем, выдвинутых буддизмом и даосизмом. В предельно компактной форме эти задачи первым решил Чжоу Дуньи (1017–1073), идеи которого через столетие получили всесторонне развернутую интерпретацию в творчестве Чжу Си (1130–1200). Его учение, поначалу считавшееся неортодоксальным и даже подвергшееся запрету, в XIV в. было официально признано и стало основой понимания конфуцианской классики в системе государственных экзаменов вплоть до начала XX в. Чжусианская трактовка конфуцианства доминировала в сопредельных Китаю странах — Корее, Японии, Вьетнаме.
Основную конкуренцию чжусианству в период правления династии Мин (XIV–XVII вв.) составила школа Лу Цзюаня (1132–1193) — Ван Янмина (1472–1529), идейно господствовавшая в Китае в XVI–XVII вв. и также получившая распространение в сопредельных странах. В борьбе этих школ на новом теоретическом уровне возродилась исходная для конфуцианства оппозиция экстернализма (Сюнь-цзы — Чжу Си, лишь формально канонизировавший Мэн-цзы) и интернализма (Мэн-цзы — Ван Янмин), в неоконфуцианстве оформившаяся в противоположные ориентации на объект или субъект, внешний мир или внутреннюю природу человека как источник постижения «принципов» (ли1) всего сущего, в том числе и моральных норм.
В XVII–XIX вв. оба ведущих учения — Чжу Си и Ван Янмина подверглись критике со стороны эмпирического направления (пу сюэ — «учение о естестве», или «конкретная философия»), основанного Гу Яньу (1613–1682) и возглавленного Дай Чжэнем (1723–1777). Оно сконцентрировалось на опытном исследовании природы и научнокритическом изучении конфуцианской классики, взяв себе за образец текстологию ханьского конфуцианства, благодаря чему получило название «ханьское учение» (хань сюэ).
С конца XIX в. развитие конфуцианства в Китае так или иначе связано с попытками ассимиляции западных идей (Кан Ювэй, Лян Цичао, Тань Сытун и др.) и возвращением от абстрактных проблем сунско-минского неоконфуцианства и цинско-ханьской текстологии к конкретной этико-социальной тематике первоначального конфуцианства.
В первой половине XX в. особенно в противостоянии учений Фэн Юланя (1895–1990) и Сюн Шили (1885–1962) внутриконфуцианская оппозиция экстернализма и интернализма соответственно возродилась на более высоком теоретическом уровне, сочетающем неоконфуцианские и отчасти буддийские категории со знанием европейской и индийской философии, что позволяет исследователям говорить о возникновении в это время новой, исторически четвертой (после изначальной, ханьской и неоконфуцианской) формы конфуцианства — постконфуцианства, а точнее, постнеоконфуцианства, основанного, как и две предыдущие формы, на ассимиляции инородных и даже инокультурных идей. Современные конфуцианцы, или постнеоконфуцианцы (Моу Цзунсань, Тан Цзюньи, Ду Вэймин и другие), в этическом универсализме конфуцианства, трактующего любой пласт бытия в моральном аспекте и породившего «моральную метафизику» неоконфуцианства, усматривают идеальное сочетание философской и религиозной мысли. В Китае конфуцианство было официальной идеологией до 1912 г. и духовно доминировало до 1949 г., ныне подобное положение сохранилось на Тайване и в Сингапуре. После идеологического разгрома в 1970-е годы (кампания «критики Линь Бяо и Конфуция») ныне оно успешно реанимируется и в КНР как носитель ожидающей востребования национальной идеи.
§ 2
Даосизм (дао цзя): индивидуалистическим натурализм — этика природосообразного недеяния
«Школа Пути» (дао [цзя/цзяо]) — оригинальнейшее философско-религиозное течение традиционного Китая, одно из его главных «трех учений» (сань цзяо), являвшее собой в этой триаде основную альтернативу конфуцианству как философии, а буддизму как религии.
Впервые как целостное идейное формирование под названием «школа Пути и благодати» (дао дэ цзя), воспроизводящим название основополагающего даосского трактата «Канон Пути и благодати» (Дао дэ цзин), оно было определено в ряду шести (философских) школ (лю цзя) Сыма Танем (II в. до н. э.) и зафиксировано его сыном Сыма Цянем (II–I вв. до н. э.) в заключительной 130-й главе первого в ряду нормативных династийных хроник грандиозного историко-энциклопедического сочинения Ши цзи («Исторические записки»). Данное название было сокращено до бинома «школа Пути» (дао цзя), сохранившегося до наших дней, в расширенной классификации философских школ Лю Синя (46 г. до н. э. — 23 г. н. э.). Эта классификация легла в основу древнейшего в Китае, а может и в мире; классификационно-библиографического каталога И вэнь чжи («Трактат об искусствах и текстах»), который стал 30-й главой, составленной Бань Гу (32–92) но образцу Ши цзи династийной истории Хань шу («Книга [о династии] Хань»).
В обоих ставших официальными и классическими классификациях сопоставимыми по длительности существования и степени развития являются конфуцианство и даосизм. Определивший название последнего термин «дао» («Путь») настолько же шире специфики даосизма, насколько термин «жу» шире специфики конфуцианства. Более того, несмотря на максимальную взаимную антиномичность этих идейных течений, и раннее конфуцианство, и затем неоконфуцианство могли называться «учением дао» (дао цзяо, дао шу; дао сюэ), а приверженцы даосизма — включаться в категорию жу. Соответственно и термин «адепт дао» (дао жэнь, дао ши) применялся не только к даосам, но и к конфуцианцам, а также к буддистам и магам-алхимикам.
С последним обстоятельством связана серьезнейшая проблема соотношения философско-теоретической и религиозно-практической ипостасей даосизма. Согласно традиционной конфуцианской версии, преобладавшей на Западе в конце XIX — начале XX вв., это разнопорядковые и гетерогенные явления, которым соответствуют различные обозначения: философии — «школа дао» (дао цзя), религии — «учение (почитание) дао» (дао цзяо). В историческом аспекте данный подход предполагает, что первоначально в VI–V вв. до н. э. даосизм возник как философия, а затем к I–II вв., то ли в результате покровительственного влияния имперской власти в конце III — начале II вв. до н. э., то ли в подражание начавшему проникать в Китай буддизму, радикально преобразовался в религию и мистику, сохранив со своей исходной формой лишь номинальную общность.
В сущности эта модель аналогична традиционному представлению о развитии конфуцианства, возникнувшего в VI–V вв. до н. э. как философия, а к I–II вв. н. э. трансформировавшегося в официальную религиозно-философскую доктрину, которую некоторые синологи предлагают рассматривать в качестве отличной от исходного конфуцианства самостоятельной идеологической системы («синистической» или «имперской»). Более широкий, чем собственно конфуцианство, идейный базис этой системы составили доконфуцианские религиозные верования и мировоззренческие представления, которые конфуцианство включило в процесс рационализирующей адаптации к собственным концепциям.
В западной синологии второй половины XX в. возобладала теория, согласно которой даосская философия сходным образом возникла на основе протодаосской религиозно-магической культуры шаманского типа, локализовавшейся на юге Китая, в так называемых «варварских царствах» (в первую очередь Чу), не входивших в круг Срединных государств и считавшихся колыбелью китайской цивилизации (отсюда идея Китая как Срединной империи). В соответствии с данной теорией, пионером которой стал французский синолог А. Масперо (1883–1945), даосизм представляет собой единое учение и его философская ипостась, выраженная прежде всего в классической триаде текстов Дао дэ цзин («Канон Пути и благодати»), Чжуан-цзы («[Трактат] Учителя Чжуана»), Ле-цзы («[Трактат] Учителя Ле»), явилась теоретизирующей реакцией на соприкосновение с рационалистической конфуцианской культурой, локализовавшейся на Севере, в Срединных государствах.
Коренное отличие даосского мистико-индивидуалистического натурализма от этико-рационалистического социоцентризма всех остальных ведущих мировоззренческих систем в Китае периода формирования и расцвета «ста школ» побуждает некоторых специалистов усиливать тезис о периферийном происхождении даосизма утверждением об иноземном (прежде всего индо-иранском) влиянии, в соответствии с которым его Дао оказывается своеобразным аналогом Брахмана и даже Логоса. Подобному взгляду радикально противостоит точка зрения, согласно которой даосизм является самым ярким выражением китайского духа, поскольку представляет собой наиболее развитую форму национальной религии. Данной точки зрения придерживается ведущий российский исследователь даосизма Е.А. Торчинов, различающий в истории его становления несколько этапов.
1) С древнейших времен до IV–III вв. до н. э. происходило формирование религиозной практики и мировоззренческих моделей на основе архаических шаманистских верований. 2) С IV–III вв. до н. э. по II–I вв. до н. э. протекали два параллельных процесса: с одной стороны, обретало философский характер и письменную фиксацию даосское мировоззрение, с другой стороны, подспудно и эзотерично развивались методы «обретения бессмертия» и психофизиологизированной медитации йогического типа, неявно и фрагментарно, но все-таки отраженные в классических текстах. 3) С I в. до н. э. по V в. н. э. шло сближение и слияние теоретического и практического подразделений с включением достижений других философских направлений (прежде всего нумерологии Чжоу и, легизма и отчасти конфуцианства), что выразилось в обретении имплицитным материалом эксплицитной формы и письменной фиксации единого даосского мировоззрения, ранее скрытые компоненты которого стали выглядеть принципиальными новациями. 4) В этот же период происходила институализация даосизма в виде религиозных организаций как «ортодоксальных», так и «еретических» направлений, а также начало складываться каноническое собрание его литературы Дао цзан («Сокровищница Пути-дао»). Дальнейшее развитие даосизма протекало главным образом в религиозном аспекте, в чем большую стимулирующую роль играл буддизм как его основной в данной сфере конкурент.
Изначальный даосизм, представленный учениями Лао Даня, или Лао-цзы (традиционная датировка жизни: ок. 580 — ок. 500 гг. до н. э., современная: V–IV вв. до н. э.), Чжуан Чжоу, или Чжуан-цзы (399–328 — 295–275 гг. до н. э.), Ле Юй-коу, или Ле-цзы (ок. 430 — ок. 349 гг. до н. э.), и Ян Чжу (440–414 — 380–360 гг. до н. э.) и отраженный в названных их именами произведениях: Лао-цзы (или Дао дэ цзин), Чжуан-цзы, Ле-цзы, Ян Чжу (гл. 7 Ле-цзы), а также даосских разделов энциклопедических трактатов Гуань-цзы («[Трактат] Учителя Гуаня»), Люй-ши чунь цю («Весны и осени господина Люя») и Хуайнань-цзы («[Трактат] Учителя Хуайнаня»), создал наиболее глубокую и оригинальную в древнекитайской философии онтологию.
Основные принципы первых даосских мыслителей — «естественность» (цзы жань) и «недеяние» (у вэй), знаменующие собой отказ от нарочитой, искусственной, преобразующей природу деятельности и стремление к спонтанному следованию природному естеству вплоть до полного слияния с ним в виде самоотождествления с господствующим в мире беспредпосылочным и нецеленаправленным Путем-дао: «Небо длительно, земля долговечна. Небо и земля длительны и долговечны благодаря тому, что они живут не собой, а потому способны жить долго. На этом основании совершенномудрый человек отставляет назад свою личность, а сам первенствует; отбрасывает прочь свою личность, а сам сохраняется» (Дао дэ цзин, § 7).
Вскрываемая при таком подходе относительность всех человеческих ценностей, обусловливающая релятивистское «равенство» добра и зла, жизни и смерти, в конечном итоге логически привела к апологии культурной энтропии и квиетизма: «Настоящий человек древности не знал ни любви к жизни, ни ненависти к смерти; не радовался своему появлению [на свет] и не противился уходу [из жизни]; безразлично покидал [этот мир] и безразлично приходил в него, и это все. Он не забывал того, что было для него началом, и не доискивался до того, в чем [заключался] его конец. Получая [жизнь], радовался ей; забывая [о смерти], возвращался [в небытие]. Это означает, что он не прибегал к разуму, чтобы противиться дао, не прибегал к человеческому, чтобы помогать небесному» (Чжуан-цзы, гл. 6).
Однако на рубеже новой эры предшествующая высокоразвитая философия даосизма предстала соединенной с новорожденными или вышедшими из-под спуда, из эзотерического подполья религиозными, оккультными и магическими учениями, нацеленными на максимальное, сверхъестественное увеличение витальных сил организма и достижение долголетия или даже бессмертия (чан шэн у сы). Теоретическая аксиома первородного даосизма — равноценность жизни и смерти при онтологическом первенстве меонического небытия перед наличным бытием — на этом этапе его развития сменилась сотериологическим признанием высшей ценности жизни и ориентацией на различные виды соответствующей практики от диетики и гимнастики, фармацевтики и эротологии до психотехники и алхимии. В этой философско-религиозной форме проходила вся дальнейшая эволюция даосизма как особого, парадоксально-прагматического стиля жизни и мышления, оплодотворявшего своим влиянием науку и искусство в средневековом Китае и сопредельных странах.
Один из идейных мостов от исходного даосизма к его последующей ипостаси перекинул Ян Чжу, акцентировавший значимость индивидуальной жизни: «То, что делает все вещи разными, — это жизнь; то, что делает их одинаковыми, — это смерть» (Ле-цзы, гл.7). Обозначение его концепции автономного существования — «для себя», или «ради своего я» (вэй во), согласно которой «собственное тело, несомненно, главное в жизни» и для пользы Поднебесной нет смысла «лишаться даже единого волоска», стало синонимом эгоизма, который конфуцианцы противопоставляли неупорядоченному, нарушающему этико-ритуальную благопристойность, альтруизму Мо Ди (Мо-цзы, V в. до н. э.) и равным образом отрицали.
Согласно Фэн Юланю, Ян Чжу олицетворяет собой первый этап развития раннего даосизма, т. е. апологию самосохраняющего эскапизма, восходящего к практике отшельников, покидавших вредоносный мир во имя «сохранения своей чистоты». Знамением второго этапа стала основная часть Дао дэ цзина, в которой предпринята попытка постичь неизменные законы всеобщих изменений во Вселенной. В главном произведении третьего этапа — Чжуан-цзы закреплена еще дальше идущая мысль о релятивной равнозначности изменяющегося и неизменного, жизни и смерти, я и не-я, что логически подводило даосизм к самоисчерпанию философского подхода и стимулированию религиозной установки, которая также поддерживалась контрадикторно-комплементарными отношениями с буддизмом. В дальнейшем философия даосизма не только оплодотворяла развитие китайского буддизма, но и сыграла существенную роль в формировании «учения о таинственном» (сюань сюэ) и неоконфуцианства.
§ 3
Моизм (мо цзя): религиозно-популистский утилитаризм — этика объединяющей любви и взаимной пользы
Моизм — «школа Мо» (мо цзя), древнекитайское философско-религиозное учение, сформировавшееся в V–IV вв. до н. э. и получившее широкое распространение в IV–III вв. до н. э. во многом благодаря своим популистским установкам, методологически фундированной аргументации и широкой практической деятельности его адептов, сплоченных в военно-религиозный «орден» и способных на такие радикальные акции, как массовое самоубийство (более 180 человек во главе с Мэн Шэном) и казнь собственного сына (Фу Дунем).
Согласно теории происхождения древнекитайских философских школ, выдвинутой Лю Синем и зафиксированной Бань Гу в И вэнь чжи («Трактате об искусствах и текстах»), моизм создали выходцы из храмовых сторожей, что должно объяснять его теологизированность. Развивший эту теорию в XX в. и основывающийся на отраженном в гл. 50 «Популярные учения» (Сянь сюэ) трактата Хань Фэй-цзы (III в. до н. э.) оппозиционном определении конфуцианцев и моистов как соответственно «жу» («ученые-интеллектуалы») и «ся» («воины-удальцы, рыцари»), Фэн Юлань связал происхождение моизма с социальной прослойкой «рыцарей», что должно объяснять повышенный интерес его представителей к военной тематике и их альтруистическое народолюбие.
Моизм явился одной из первых теоретических реакций на конфуцианство в древнекитайской философии. Создатель и единственный крупный представитель школы, названной его именем, — Мо Ди, или Мо-цзы (490–468 — 403–376 гг. до н. э.), согласно Хуайнань-цзы (цз. 21), первоначально был сторонником конфуцианства, а затем выступил с его резкой критикой. От других философских течений древнего Китая моизм отличают две специфические особенности: теологизированность и организационная оформленность, что вместе с повышенным интересом к логико-методологической проблематике окрашивало его в схоластические тона.
Эта своеобразная секта выходцев из низших слоев общества, прежде всего ремесленников и внештатных воинов-удальцов, очень напоминала пифагорейский союз и возглавлялась «великим учителем» (цзюй цзы), который, согласно Чжуан-цзы (гл. 33), считался «совершенномудрым» (шэн) и которого Го Можо (1892–1978) сравнил с Папой Римским. Реконструируется следующая преемственность обладателей данного поста: Мо Ди — Цинь Гули (Хуали) — Мэн Шэн (Сюй Фань) — Тянь Сян-цзы (Тянь Цзи) — Фу Дунь. Затем в конце IV в. до н. э., видимо, произошел распад единой организации на два или три направления «отделившихся моистов» (бемо), во главе которых стояли Сянли Цинь, Сянфу (Бофу), Дэнлин.
После теоретического и практического разгрома моизма во второй половине III в. до н. э., обусловленного его собственной дезинтеграцией и антигуманитарными репрессиями при династии Цинь (221–207 гг. до н. э.), а также конфуцианскими запретами в эпоху Хань (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.), он продолжал существовать лишь как духовное наследие, коллективно выработанное несколькими поколениями его представителей, целиком приписанное главе школы и закрепленное в глубоком и обширном, но плохо сохранившемся трактате Мо-цзы.
Учение самого Мо-цзы изложено в десяти начальных главах, названия которых отражают его основополагающие идеи: «Почитание достойных» (Шан сянь), «Почитание единения» (Шан тун), «Объединяющая любовь» (Цзянь ай), «Отрицание нападений» (Фэй гун), «Сокращение потребления» (Цзе юн), «Сокращение погребальных [расходов]» (Цзе цзан), «Боля Неба» (Тянь чжи), «Духовидение» (Мин гуй), «Отрицание музыки» (Фэй юэ), «Отрицание предопределения» (Фэй мин). Все они разбиты на три схожие друг с другом части, что явилось следствием отмеченного в гл. 33 Чжуан-цзы и гл. 50 Хань Фэй-цзы разделения моистов на три направления, каждое из которых оставило свой вариант изложения общих положений.
В середине трактата помещены главы «Канон» (Цзин), «Изъяснение канона» (Цзин шо), каждая в двух частях; «Большой выбор» (Да цюй) и «Малый выбор» (Сяо цюй), которые вместе называются «Моистским каноном» (Мо цзин), или «Моистской диалектикой» (Мо бянь), и представляют собой формализованный и терминологизированный текст, демонстрирующий высшие достижения древнекитайской протологической методологии, полученные к III в. до н. э. в кругах поздних моистов или, согласно гипотезе Ху Ши (1891–1962), последователей «школы имен» (мин цзя). Содержание данного раздела Мо-цзы, охватывающее прежде всего гносеологическую, логико-грамматическую, математическую и естественно-научную проблематику, благодаря ее сложности и специфической (интенциональной) форме изложения стало малопонятным уже для ближайших потомков. Заключительные главы трактата, позднейшие по времени написания, посвящены более конкретным вопросам обороны городов, фортификации и сооружения защитных орудий.
Главный пафос социально-этического ядра моистской философии — аскетическое народолюбие, предполагающее безусловный примат коллективного над индивидуальным и борьбу с частным эгоизмом во имя общественного альтруизма. Интересы народа в основном сводятся к удовлетворению элементарных материальных потребностей, определяющих его поведение: «В урожайный год люди гуманны и добры, в неурожайный — негуманны и злы» (Мо-цзы, гл. 5). С этой точки зрения традиционные формы этико-ритуальной благопристойности (ли2) и музыки рассматриваются как проявления расточительства. Строго иерархичной конфуцианской гуманности (жэнь), которую монеты называли «разделяющей любовью» (бе ай), направленной только на своих близких, они противопоставили принцип всеобъемлющей, взаимной и равной «объединяющей любви» (цзянь ай), а конфуцианскому антиутилитаризму и антимеркантилизму, превозносившему должную справедливость (и) над пользой/выгодой (ли3) — принцип «взаимной пользы/выгоды» (сян ли).
Высшим гарантом и точным (как циркуль для круга и угольник для квадрата) критерием обоснованности этой позиции монеты считали деифицированное Небо (тянь), которое приносит счастье тому, кто испытывает к людям объединяющую любовь и приносит им пользу/выгоду. Выступающее в качестве универсального «образца/закона» (фа), «благодатное» (дэ) и «бескорыстное» (у сы) Небо, с их точки зрения, не имея ни личностных, ни антропоморфных атрибутов, тем не менее обладает волей (чжи3), помыслами (и3), желаниями (юй) и одинаково любит все живое: «Небо желает жизни Поднебесной и ненавидит ее смерть, желает ее пребывания в богатстве и ненавидит ее бедность, желает ей находиться в порядке и ненавидит смуту в ней» (Мо-цзы, гл.26). Одним из источников, дающих возможность судить о воле Неба, признавались посредствующие между ним и людьми «нави и духи» (гуй шэнь), о существовании которых свидетельствуют исторические источники, сообщающие, что с их помощью «в древности совершенномудрые правители наводили порядок в Поднебесной» (Мо-цзы, гл. 31), а также уши и глаза многих современников.
В позднем моизме, переориентировавшемся с теистических аргументов на логические, всеобъемлемость любви доказывалась тезисом «Любить людей не значит исключать себя» (Да цюй), предполагающим вхождение субъекта («себя») в число «людей», а контрарная оппозиция между апологией пользы/выгоды и признанием должной справедливости, «желанной Небу» и являющейся «самым ценным в Поднебесной», снималась прямой дефиницией: «должная справедливость есть польза/выгода» (Цзин, ч. 1).
Борясь с ассимилированной конфуцианством древней верой в «небесное предопределение» (тянь мин), монеты утверждали, что в судьбах людей нет фатального предопределения (мин), поэтому человек должен быть активен и деятелен, а правитель — внимателен к достоинствам и талантам, которые следует почитать и продвигать независимо от их исходной социальной принадлежности. Результатом правильного взаимодействия верхов и низов на основе принципа равных возможностей, согласно Мо-цзы, должно стать всеобщее «единение» (тун), т. е. преодолевшее животный хаос и первобытные смуты всеобщей взаимной вражды централизованно управляемое, машинообразное, структурное целое, которое составляют Поднебесная, народ, правители, государь и само Небо.
Эта идея, по мнению некоторых специалистов (Цай Шансы, Хоу Вайлу), породила знаменитую социальную утопию Великого единения (да тун), описанную в гл. 7/9 Ли юнь («Циркуляция благопристойности») конфуцианского канонического трактата Ли цзи («Записки о благопристойности») В связи с особым вниманием со стороны представителей «школы имен» к категории «тун» в значении «тождество/подобие» поздние монеты подвергли ее специальному анализу и выделили четыре главные разновидности: «Два имени (мин2) одной реалии (ши) — [это] тун [как] повторенность (чун). Невыделенность из целого — [это] тун [как] единотелесность (ти). Совместное нахождение в помещении — [это] тун [как] совпадение (хэ3). Наличие основания для единения (тун)— [это] тун [как] родственность (лэй)» (Цзин шо, ч. 1). Важнейшим выводом из моистского идеала всеобщего «единения» стал призыв к антимилитаристской и миротворческой деятельности, который подкреплялся теорией фортификации и обороны. Для отстаивания и пропаганды своих взглядов монеты разрабатывали специальную технику убеждения, которая привела к созданию оригинальной эристико-семантической протологики, ставшей их главным вкладом в китайскую духовную культуру.
Вплоть до XVIII–XIX вв. трактат Мо-цзы занимал маргинальное положение в традиционной китайской культуре, специфическим Проявлением чего стало включение его в XV в. в состав канонической даосской библиотеки Дао цзан («Сокровищница Пути-дао»), хотя уже в Мэн-цзы (III Б, 9) была отмечена противоположность моизма и даосизма (представленного Ян Чжу). Повышенный интерес к моизму, возникший в конце XIX — начале XX вв. и поддержанный такими видными мыслителями и общественными деятелями, как Тань Сытун (1865–1898), Сунь Ятсен (1866–1925), Лян Цичао (1873–1923), Лу Синь (1881–1936), Ху Ши и другие, обусловливался, во-первых, общей тенденцией видеть в нем древнее провозвестие утилитаризма, социализма, коммунизма, марксизма и даже христианства, что позднее обернулось его обличением Го Можо как тоталитаризма фашистского типа, а во-вторых, стимулированной столкновением с Западом активизацией поисков китайских аналогов западной научной методологии.
§ 4
Легизм (фа цзя): законнический этатизм — этика тотальной власти
Легизм, или буквально «школа закона», представляет собой сформировавшееся в IV–III вв. до н. э. теоретическое обоснование тоталитарно-деспотического управления государством и обществом, которое впервые в китайской истории добилось статуса единой официальной идеологии в первой централизованной империи Цинь (221–207 гг. до н. э.). Легистское учение выражено в аутентичных трактатах IV–III вв. до н. э. Гуань-цзы («[Трактат] Учителя Гуань [Чжуна]»), Шан цзюнь шу («Книга правителя [области] Шан [Гунсунь Яна]»), Шэнь-цзы («[Трактат] Учителя Шэнь [Бухая]»), Хань Фэй-цзы («[Трактат] Учителя Хань Фэя»), а также в менее значимых из-за сомнений в аутентичности и содержательной недифференцированности относительно «школы имен» (мин цзя) и даосизма Дэн Си-цзы («[Трактат] Учителя Дэн Си») и Шэнь-цзы («[Трактат] Учителя Шэнь [Дао]»).
В латентный период VII–V вв. до н. э. протолегистские принципы вырабатывались на практике. Гуань Чжун (? — 645 г. до н. э.), советник правителя царства Ци, видимо, первым в истории Китая выдвинул концепцию управления страной на основе «закона» (фа), определенного им как «отец и мать народа» (Гуань-цзы, гл. 16), что ранее применялось только в качестве определения государя (Шу-цзин, гл. 24/32: Хун фань — «Величественный образец», § 5). Гуань Чжун противопоставил Закон не только правителю, над которым он должен возвышаться и которого должен ограничивать, дабы защищать от его необузданности народ, ибо «закон и есть любовь к народу» (Гуань-цзы, гл. 6), но также мудрости и знаниям, которые отвлекают людей от их обязанностей. Чтобы противодействовать порочным тенденциям, Гуань Чжун также, по-видимому, первый, предложил использовать наказания как главный метод управления: «когда боятся наказаний, управлять легко» (Гуань-цзы, гл. 48).
Эту линию продолжил Цзы-Чань (ок. 580 — ок. 522 гг. до н. э.), первый советник правителя царства Чжэн, согласно главному комментарию к Чунь цю — Цзо чжуань («Предание Цзо», Чжао-гун, 18 г., 6 г.), считавший, что «Путь (дао) Неба далек, а Путь человека близок и до него не доходит». Он нарушил традицию «суда по совести» и впервые в Китае в 536 г. до н. э. кодифицировал уголовные законы, отлив в металле (видимо, на сосудах-триподах) «уложение о наказаниях» (син шу).
Его современник и также сановник царства Чжэн, Дэн Си (ок. 545 — ок. 501 гг. до н. э.) развил и демократизировал данное начинание, опубликовав «бамбуковое [уложение о] наказаниях» (чжу син). Согласно Дэн Си-цзы, он излагал учение о государственной власти как единоначальном осуществлении правителем посредством «законов» (фа) правильного соответствия между «именами» (мин2) и «реалиями» (ши). Правитель должен овладеть особой «техникой» (шу2) управления, которая предполагает способность «видеть глазами Поднебесной», «слушать ушами Поднебесной», «рассуждать разумом Поднебесной». Подобно Небу (шянь), он не может быть «великодушен» (хоу) к людям: Небо допускает стихийные бедствия, правитель не обходится без применения наказаний. Ему надлежит быть «безмятежным» (цзи1)и «замкнутым в себе» («сокрытым» — цан), но одновременно «властно-величественным» (вэй2) и «просветленным» (мин3) относительно законосообразного соответствия «имен» и «реалий».
В период с IV по первую половину III в. до н. э. на основе отдельных идей, сформулированных предшественниками, практиками государственного управления, и под влиянием некоторых положений даосизма, моизма и «школы имен» произошло формирование легизма в целостное самостоятельное учение, ставшее в самую резкую оппозицию конфуцианству. Гуманизму, народолюбию, пацифизму и этико-ритуальному традиционализму последнего легизм противопоставил деспотизм, почитание власти, милитаризм и законническое новаторство. Из даосизма легисты почерпнули представление о мировом процессе как естественном Пути-дао, в котором природа значимее культуры, из моизма — утилитаристский подход к человеческим ценностям, принцип равных возможностей и обожествление власти, а из «школы имен» — стремление к правильному балансу «имен» и «реалий».
Эти общие установки были конкретизированы в творчестве классиков легизма Шэнь Дао (ок. 395 — ок. 315 гг. до н. э.), Шэнь Бухая (ок. 385 — ок. 337 гг. до н. э.), Шан (Гунсунь) Яна (390–338 гг. до н. э.) и Хань Фэя (ок. 280 — ок. 233 гг. до н. э.).
Шэнь Дао, первоначально близкий к даосизму, впоследствии стал проповедовать «почтение к закону» (шан фа) и «уважение к властной силе» (чжун ши), поскольку «народ объединяется правителем, а дела решаются законом». С именем Шэнь Дао связывается выдвижение на первый план категории «ши1» («властная сила»), совмещающей в себе понятия «власть» и «сила» и дающей содержательное наполнение формальному «закону». Согласно Шэнь Дао, «недостаточно быть достойным, чтобы подчинять народ, но достаточно обладать властной силой, чтобы подчинять достойного».
Другую важнейшую легистскую категорию «шу» — «техника/искусство [управления]», которая определяет взаимосвязь «закона/образца» и «власти/силы», разработал Шэнь Бухай, первый советник правителя царства Хань. Следуя по стопам Дэн Си, он привнес в легизм идеи не только даосизма, но и «школы имен», отразившиеся в его учении о «наказаниях/формах и именах» (син мин), согласно которому «реалии должны соответствовать именам» (сюнь мин цзэ ши). Сосредоточившись на проблемах управленческого аппарата, Шэнь Дао призывал «возвышать государя и принижать чиновников» таким образом, чтобы на них ложились все исполнительские обязанности, а он, демонстрируя Поднебесной «недеяние» (у вэй), скрытно осуществлял контроль и властные полномочия.
Своего апогея легистская идеология достигла в теории и практике правителя области Шан в царстве Цинь Гунсунь Яна, который считается автором шедевра макиавеллизма Шан цзюнь шу. Восприняв моистскую идею машинообразного устройства государства, Шан Ян, однако, пришел к выводу о том, что оно должно побеждать и, как советовал Лао-цзы, оглуплять народ, а не приносить ему пользу, ибо: «Если народ глуп, легко [наводится] порядок. Это рождается законом… законы и установления суть предопределение народа» (гл. 26). Сами же законы отнюдь не богодухновенны и подлежат переменам, поскольку «умный творит законы, а глупый подчиняется им, достойный изменяет правила благопристойности, а никчемный обуздывается ими» (гл.1). «Когда народ побеждает своих правителей, государство слабо; когда правители побеждают свой народ, армия могущественна. […] Если проступки скрываются, народ побеждает закон, если преступления караются, закон побеждает народ. Там, где народ побеждает закон, государство в смуте; там, где закон побеждает народ, армия могущественна» (гл.5). Поэтому власти следует быть Сильнее своего народа и заботиться о могуществе армии. Народ же надо побуждать заниматься важнейшими делами — земледелием и войной, избавляя его тем самым от неисчислимых желаний.
Управление людьми должно строиться на понимании их порочной, корыстной природы. «Если использовать (юн) добро (шань), народ испытывает родственную близость к своим родственникам; если опираться на пороки, народ испытывает родственную близость к подчиняющим его. Сплочение и поддержка — там, где добро; разделение и регламентация — там, где пороки. Если выделяется добро, проступки скрываются; если опираться на пороки, преступления караются» (гл.5). «Народу свойствен порядок, но его дела [несут] смуту, поэтому если в проведении наказаний считать легкое тяжким, то легкое не возникает, а тогда и тяжкому неоткуда будет нагрянуть» (гл.5).
«Наказание рождает силу, сила рождает могущество, могущество рождает властное величие (вэй2), властное величие рождает благодать (дэ). Благодать рождается наказанием» (гл.5), поэтому «в государстве, где [наведен] порядок, много наказаний и мало наград» (гл.7). «Красноречие и ум — пособники смуты; благопристойность и музыка — признаки разврата и распущенности; милость и гуманность — матери проступков; назначение и выдвижение на должности [добродетельных людей] — разносчики (буквально: крысы. — А.К.)порока» (гл. 5). Важнейшим средством борьбы с этими «ядовитыми» явлениями «культуры» (вэнь) признается война, неизбежно предполагающая железную дисциплину и всеобщую унификацию.
Хань Фэй завершил формирование легизма, синтезировав систему Шан Яна с концепциями Шэнь Дао и Шэнь Бухая, а также введя в него некоторые общетеоретические положения конфуцианства и даосизма. Он развил намеченную Сюнь-цзы и важнейшую для последующих философских, особенно неоконфуцианской, систем связь понятий «дао» и «принцип» (ли1): «Дао делает тьму вещей таковыми, каковы они суть, и определяет тьму принципов» («Хань Фэй-цзы», гл. 20). Воплощающая дао благодать (дэ) в человеке укрепляется бездействием и отсутствием желаний, ибо чувственные контакты с внешними объектами растрачивают «(божественный) дух» (шэнь) и «духовное семя» (цзин3). «Ароматный запах, тонкий вкус, доброе вино и жирное мясо услаждают рот, но губят телесную форму. Прелестная кожа и белые зубы радуют чувства, но отнимают духовное семя. Поэтому устраняя превосходное и чрезмерное, телесная личность (шэнь) избавляется от вреда» (там же, гл. 8). «Если дух развратно не расточается вовне, то телесная личность целостна. Целостность телесной личности называется достижением (дэ1). Достижение есть достижение телесной личности. Всякая благодать (дэ) накапливается благодаря, отсутствию деяний (у вэй), формируется благодаря отсутствию желаний, умиротворяется благодаря безмыслию, упрочивается благодаря неиспользованию. Если же действовать и желать, то не в чем будет благодати закрепиться» (там же, гл. 20).
Отсюда следует, что и в деятельности полезно придерживаться спокойной скрытности: «Дела завершаются благодаря тайне, и договоры рушатся благодаря разглашению» (гл. 12). Надо следовать своей природе и своему предопределению, а не «обучать людей гуманности и должной справедливости», которые так же непередаваемы, как ум и долголетие: «Ныне если кто-то скажет человеку: „Непременно сделаю тебя разумным и долголетним“, все в мире непременно сочтут это безумием. Разумность — это [индивидуальная] природа (син2), а долголетие — предопределение (мин1). Природа и предопределение не суть то, чему научаются у другого. А предложение человеку того, на что он не способен, все в мире называют обманом. […] Разум народа нельзя использовать, как и сердце младенца» (гл. 50).
Следующий чрезвычайно краткий исторический период развития легизма стал для него исторически самым значительным. Еще в IV в. до н. э. он был взят на вооружение в государстве Цинь, а вслед за покорением циньцами соседних государств и возникновением первой централизованной империи в Китае обрел статус первой всекитайской официальной идеологии, опередив таким образом имевшее на это большие права конфуцианство. Однако незаконное торжество длилось недолго. Просуществовавшая всего полтора десятилетия, но оставившая о себе на века глубокую и недобрую память, пораженная утопической гигантоманией, жестоким сервилизмом и рационализированным мракобесием, империя Цинь в конце III в. до н. э. рухнула, похоронив под своими обломками и грозную славу легизма.
Конфуцианство же к середине II в. до н. э. добилось реванша на официально-ортодоксальном поприще, эффективно учтя прежний опыт посредством умелого освоения ряда прагматически эффективных принципов легистского учения об обществе и государстве. Морально облагороженные конфуцианством, эти принципы находили реализацию в официальной теории и практике Срединной империи вплоть до начала XX в.
Даже вопреки стойкой конфуцианской идиосинкразии на легизм в Средние века видный государственный деятель, канцлер-реформатор и философ-конфуцианец Ван Аньши (1021–1086) включил в свою социально-политическую программу легистские положения об опоре на законы, в особенности карательные («суровые наказания за малые проступки»), о поощрении воинской доблести (у2), о взаимной ответственности чиновников, об отказе от признания абсолютного приоритета «древности» (гу) над современностью.
В конце XIX — начале XX вв. легизм привлек к себе внимание реформаторов, усматривавших в нем теоретическое обоснование ограничения законом императорского всевластия, освященного официальным конфуцианством.
После падения империи, в 1920-1940-е гг. легистскую апологетику государственности стали пропагандировать «этатисты» (гоцзяч-жуи пай) и, в частности, их идеолог Чэнь Цытянь (1893–1975), ратовавший за создание «неолегизма». Сходных взглядов придерживались и теоретики гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887–1975), заявлявшие о легистском характере государственного планирования экономики и политики «народного благоденствия».
В КНР во время проведения кампании «критики Линь Бяо и Конфуция» (1972–1976) легисты были официально объявлены прогрессивными реформаторами, боровшимися с консервативными конфуцианцами за победу нарождавшегося феодализма над отжившим рабовладением, и идейными предшественниками маоизма.
§ 1 Конфуцианство (жу цзя): этика ритуальной благопристойности и человеколюбивого самосовершенствования
Древнейшая философская система и одно из трех, наряду с даосизмом и буддизмом, главных этико-религиозных учений-цзяо Дальнего Востока «школа ученых-интеллектуалов» (жу [цзя/цзяо]) возникла в Китае на рубеже VI–V вв. до н. э. В оригинальном наименовании конфуцианства (жу) отсутствует указание на имя его создателя — Конфуция (552/1—479), что соответствует исходной установке последнего — «передавать, а не создавать; верить древности и любить ее» («Лунь юй» — «Рассудительные речи» VII, 1). Свое качественно новое этико-философское учение Конфуций подчеркнуто идентифицировал с мудростью «святых-совершенномудрых» (шэн1) правителей полумифической древности, выраженной главным образом в историко-дидактических и художественных произведениях, древнейшие и авторитетнейшие из которых — восходящие к концу 2-го — первой половине 1-го тыс. до н. э. каноны Шу цзин («Канон писаний») и Ши цзин («Канон стихов») Эта изначальная ориентация сделала опирающуюся на исторический прецедент нормативность и сообразующуюся с канонами беллетризированность фундаментальными характеристиками всего конфуцианства.
Хранителями древней мудрости во времена Конфуция (эпоха Чжоу, XI–III вв. до н. э.) были отставленные от кормила власти ученые-интеллектуалы, специализировавшиеся в «знаково-культурной» (вэнь) деятельности, т. е. хранении и воспроизводстве письменных памятников и протонаучных штудиях, главным образом астрономо-астрологических (семантика «знаков-культуры» — вэнь охватывает и письменность, и астрономо-метеорологические явления). Они концентрировались в районе царства Лу, родины Конфуция (современная провинция Шаньдун), и, возможно, являлись потомками правившей или жреческой верхушки государства Шан-Инь, покоренного в XII–XI вв. до н. э. племенным союзом Чжоу, находившимся на менее высоком уровне культурного развития. Видимо, их социальное падение отразилось в этимологическом значении термина «жу» — «слабый». Конфуций счел эту социальную слабость несовместимой с их культурно-интеллектуальной силой и выдвинул идеал государственного устройства, в котором при наличии сакрально вознесенного, но практически почти бездействующего («обращенного ликом на юг») правителя реальная власть принадлежит жу, соединяющим в себе свойства философов, литераторов, ученых и чиновников. С самого своего рождения конфуцианство отличалось осознанной социально-этической направленностью и стремлением к слиянию с государственной властью во всех ее гражданских (но не военных) аспектах — от административного до идеологического.
Этому стремлению соответствовало теоретическое истолкование и государственной и божественной («небесной») власти в семейно-родственных категориях; «государство — одна семья», государь — Сын Неба и одновременно «отец и мать народа». Государство отождествлялось с обществом, социальные связи — с межличностными, основа которых усматривалась в семейной структуре. Последняя же выводилась из отношений между отцом и сыном. С точки зрения конфуцианства отец считался «Небом» в той же мере, в какой Небо — отцом. Поэтому «сыновняя почтительность» (сяо1) в специально посвященном ей каноническом трактате Сяо цзин («Канон сыновней почтительности») была возведена в ранг «корня благодати/добродетели (дэ1)».
Развиваясь в виде своего рода социально-этической антропологии, конфуцианство сосредоточило свое внимание на человеке, проблемах его врожденной природы и благоприобретаемых качеств, его положения в мире и обществе, способностей к знанию и действию и т. п. Воздерживаясь от собственных суждений о сверхъестественном, Конфуций формально одобрил традиционную веру в безличное, божественно-натуралистичное, «судьбоносное» Небо и посредничающих с ним духов предков, что в дальнейшем во многом обусловило обретение конфуцианством социальных функций религии.
Вместе с тем всю относящуюся к сфере Неба (тянь) сакральную и онтолого-космологическую проблематику Конфуций рассматривал с точки зрения значимости для человека и общества. Фокусом своего учения он сделал анализ взаимодействия «внутренних» импульсов человеческой натуры, в идеале охватываемых понятием «гуманности» (жэнь2), и «внешних» социализирующих факторов, в идеале охватываемых понятием этико-ритуальной «благопристойности» (ли2). Нормативный тип человека, по Конфуцию, — «благородный муж» (цзюнь цзы), познавший небесное «предопределение» (мин1) и «гуманный», сочетающий в себе идеальные духовно-моральные качества и право на высокий социальный статус.
Соблюдение этико-ритуальной нормы ли2 Конфуций сделал также высшим гносеопраксиологическим принципом: «Не следует ни смотреть, ни слушать, ни говорить несоответствующее ли2»; «Расширяя [свои] познания в знаках-культуре (вэнь) и стягивая их с помощью ли2, можно избегнуть нарушений» («Лунь юй», XII, 1, VI, 27, XII, 15). Как этика, так и гносеопраксиология Конфуция зиждутся на общей идее универсального баланса и взаимосоответствия, в первом случае выливающейся в «золотое правило» морали (шу3 — «взаимность»), во втором — в требование соответствия номинального и реального, слова и дела (чжэн мин — «правильное [употребление] имен»). Смысл человеческого существования, по Конфуцию, — утверждение в Поднебесной высшей и всеобщей формы социально-этического порядка — «Пути» (дао), важнейшие проявления которого суть «гуманность», «должная справедливость» (и), «взаимность», «разумность» (чжи1), «мужество» (юн1), «[уважительная] осторожность» (цзин4), «сыновняя почтительность» (сяо1), «братская любовь» (ди3 ти2), собственное достоинство, верность (чжун2), «милостивость» и другие. Конкретным воплощением дао в каждом отдельном существе и явлении выступает «благодать/добродетель» (дэ1). Иерархизированная гармония всех индивидуальных дэ1 образует вселенское дао.
После смерти Конфуция его многочисленные ученики и последователи образовали различные направления, которых к III в. до н. э., по свидетельству современника Хань Фэя, было уже не менее восьми. Они развивали и эксплицитные этико-социальные (Да сюэ — «Великое учение», Сяо цзин, комментарий к канонической летописи Чунь цю — «Весны и осени») и имплицитные онтолого-космологические (Чжун юн — «Срединное и неизменное», Си цы чжуань) представления Конфуция. Две целостные и противоположные друг другу, а потому впоследствии признанные ортодоксальной и неортодоксальной соответственно интерпретации конфуцианства в IV–III вв. до н. э. предложили Мэн Кэ, или Мэн-цзы (ок. 372–289), и Сюнь Куан, или Сюнь-цзы (III в. до н. э.). Первый из них выдвинул тезис об изначальной «доброте» человеческой природы (син1), которой «гуманность», «должная справедливость», «благопристойность» и «разумность» присущи так же, как человеку — четыре конечности. Согласно второму, человеческая природа изначально зла, т. е. от рождения стремится к выгоде и плотским наслаждениям, поэтому указанные благие качества должны быть привиты ей извне путем постоянного обучения. В соответствии со своим исходным постулатом Мэн-цзы сосредоточился на исследовании морально-психологической, а Сюнь-цзы — социальной и гносеопраксиологической стороны человеческого существования. Это расхождение сказалось и в их взглядах на общество: Мэн-цзы сформулировал теорию «гуманного управления» (жэнь чжэн), основанную на приоритете народа над духами и правителем, включая право подданных свергать порочного государя, Сюнь-цзы же сравнивал правителя с корнем, а народ — с листьями и считал задачей идеального государя «завоевание» своего народа, что сближало его тем самым с легизмом.
Во II в. до н. э., в эпоху Хань, Конфуций был признан «некоронованным царем», или «подлинным властелином» (су ван), а его учение обрело статус официальной идеологии и, победив главного конкурента в области социально-политической теории — легизм, в то же время интегрировало ряд его кардинальных идей, в частности признало компромиссное сочетание этико-ритуальных норм (ли2) и административно-юридических законов (фа1). Конфуцианство обрело черты всеобъемлющей системы благодаря усилиям «Конфуция эпохи Хань» — Дун Чжуншу (II в. до н. э.), который, использовав соответствующие концепции даосизма и школы инь-ян цзя, детально разработал онтолого-космологическую доктрину конфуцианства и придал ему некоторые религиозные функции (учение о «духе» и «воле Неба»), необходимые для официальной идеологии централизованной империи.
В целом в эпоху Хань (конец III в. до н. э. — начало III в. н. э.) было создано «ханьское конфуцианство», основное достижение которого — систематизация идей, рожденных «золотым веком» китайской философии (V–III вв. до н. э.), и текстолого-комментаторская обработка конфуцианской и конфуцианизированной классики.
Реакцией на проникновение в Китай буддизма в первые века новой эры и связанное с этим оживление даосизма стал даосско-конфуцианский синтез в «учении о таинственном (сокровенном)» (сюань сюэ). Постепенное нарастание как идейного, так и социального влияния буддизма и даосизма вызвало стремление к восстановлению престижа конфуцианства. Провозвестниками этого движения, вылившегося в создание неоконфуцианства, явились Ван Тун (584–617), Хань Юй (768–824) и его ученик Ли Ао (772–841).
Возникшее в XI в. неоконфуцианство поставило перед собой две главные и взаимосвязанные задачи: восстановление аутентичного конфуцианства и решение с его помощью на основе усовершенствованной нумерологической методологии, т. е. «учения о символах и числах» (сян шу чжи сюэ), комплекса новых проблем, выдвинутых буддизмом и даосизмом. В предельно компактной форме эти задачи первым решил Чжоу Дуньи (1017–1073), идеи которого через столетие получили всесторонне развернутую интерпретацию в творчестве Чжу Си (1130–1200). Его учение, поначалу считавшееся неортодоксальным и даже подвергшееся запрету, в XIV в. было официально признано и стало основой понимания конфуцианской классики в системе государственных экзаменов вплоть до начала XX в. Чжусианская трактовка конфуцианства доминировала в сопредельных Китаю странах — Корее, Японии, Вьетнаме.
Основную конкуренцию чжусианству в период правления династии Мин (XIV–XVII вв.) составила школа Лу Цзюаня (1132–1193) — Ван Янмина (1472–1529), идейно господствовавшая в Китае в XVI–XVII вв. и также получившая распространение в сопредельных странах. В борьбе этих школ на новом теоретическом уровне возродилась исходная для конфуцианства оппозиция экстернализма (Сюнь-цзы — Чжу Си, лишь формально канонизировавший Мэн-цзы) и интернализма (Мэн-цзы — Ван Янмин), в неоконфуцианстве оформившаяся в противоположные ориентации на объект или субъект, внешний мир или внутреннюю природу человека как источник постижения «принципов» (ли1) всего сущего, в том числе и моральных норм.
В XVII–XIX вв. оба ведущих учения — Чжу Си и Ван Янмина подверглись критике со стороны эмпирического направления (пу сюэ — «учение о естестве», или «конкретная философия»), основанного Гу Яньу (1613–1682) и возглавленного Дай Чжэнем (1723–1777). Оно сконцентрировалось на опытном исследовании природы и научнокритическом изучении конфуцианской классики, взяв себе за образец текстологию ханьского конфуцианства, благодаря чему получило название «ханьское учение» (хань сюэ).
С конца XIX в. развитие конфуцианства в Китае так или иначе связано с попытками ассимиляции западных идей (Кан Ювэй, Лян Цичао, Тань Сытун и др.) и возвращением от абстрактных проблем сунско-минского неоконфуцианства и цинско-ханьской текстологии к конкретной этико-социальной тематике первоначального конфуцианства.
В первой половине XX в. особенно в противостоянии учений Фэн Юланя (1895–1990) и Сюн Шили (1885–1962) внутриконфуцианская оппозиция экстернализма и интернализма соответственно возродилась на более высоком теоретическом уровне, сочетающем неоконфуцианские и отчасти буддийские категории со знанием европейской и индийской философии, что позволяет исследователям говорить о возникновении в это время новой, исторически четвертой (после изначальной, ханьской и неоконфуцианской) формы конфуцианства — постконфуцианства, а точнее, постнеоконфуцианства, основанного, как и две предыдущие формы, на ассимиляции инородных и даже инокультурных идей. Современные конфуцианцы, или постнеоконфуцианцы (Моу Цзунсань, Тан Цзюньи, Ду Вэймин и другие), в этическом универсализме конфуцианства, трактующего любой пласт бытия в моральном аспекте и породившего «моральную метафизику» неоконфуцианства, усматривают идеальное сочетание философской и религиозной мысли. В Китае конфуцианство было официальной идеологией до 1912 г. и духовно доминировало до 1949 г., ныне подобное положение сохранилось на Тайване и в Сингапуре. После идеологического разгрома в 1970-е годы (кампания «критики Линь Бяо и Конфуция») ныне оно успешно реанимируется и в КНР как носитель ожидающей востребования национальной идеи.
§ 2 Даосизм (дао цзя): индивидуалистическим натурализм — этика природосообразного недеяния
«Школа Пути» (дао [цзя/цзяо]) — оригинальнейшее философско-религиозное течение традиционного Китая, одно из его главных «трех учений» (сань цзяо), являвшее собой в этой триаде основную альтернативу конфуцианству как философии, а буддизму как религии.
Впервые как целостное идейное формирование под названием «школа Пути и благодати» (дао дэ цзя), воспроизводящим название основополагающего даосского трактата «Канон Пути и благодати» (Дао дэ цзин), оно было определено в ряду шести (философских) школ (лю цзя) Сыма Танем (II в. до н. э.) и зафиксировано его сыном Сыма Цянем (II–I вв. до н. э.) в заключительной 130-й главе первого в ряду нормативных династийных хроник грандиозного историко-энциклопедического сочинения Ши цзи («Исторические записки»). Данное название было сокращено до бинома «школа Пути» (дао цзя), сохранившегося до наших дней, в расширенной классификации философских школ Лю Синя (46 г. до н. э. — 23 г. н. э.). Эта классификация легла в основу древнейшего в Китае, а может и в мире; классификационно-библиографического каталога И вэнь чжи («Трактат об искусствах и текстах»), который стал 30-й главой, составленной Бань Гу (32–92) но образцу Ши цзи династийной истории Хань шу («Книга [о династии] Хань»).
В обоих ставших официальными и классическими классификациях сопоставимыми по длительности существования и степени развития являются конфуцианство и даосизм. Определивший название последнего термин «дао» («Путь») настолько же шире специфики даосизма, насколько термин «жу» шире специфики конфуцианства. Более того, несмотря на максимальную взаимную антиномичность этих идейных течений, и раннее конфуцианство, и затем неоконфуцианство могли называться «учением дао» (дао цзяо, дао шу; дао сюэ), а приверженцы даосизма — включаться в категорию жу. Соответственно и термин «адепт дао» (дао жэнь, дао ши) применялся не только к даосам, но и к конфуцианцам, а также к буддистам и магам-алхимикам.
С последним обстоятельством связана серьезнейшая проблема соотношения философско-теоретической и религиозно-практической ипостасей даосизма. Согласно традиционной конфуцианской версии, преобладавшей на Западе в конце XIX — начале XX вв., это разнопорядковые и гетерогенные явления, которым соответствуют различные обозначения: философии — «школа дао» (дао цзя), религии — «учение (почитание) дао» (дао цзяо). В историческом аспекте данный подход предполагает, что первоначально в VI–V вв. до н. э. даосизм возник как философия, а затем к I–II вв., то ли в результате покровительственного влияния имперской власти в конце III — начале II вв. до н. э., то ли в подражание начавшему проникать в Китай буддизму, радикально преобразовался в религию и мистику, сохранив со своей исходной формой лишь номинальную общность.
В сущности эта модель аналогична традиционному представлению о развитии конфуцианства, возникнувшего в VI–V вв. до н. э. как философия, а к I–II вв. н. э. трансформировавшегося в официальную религиозно-философскую доктрину, которую некоторые синологи предлагают рассматривать в качестве отличной от исходного конфуцианства самостоятельной идеологической системы («синистической» или «имперской»). Более широкий, чем собственно конфуцианство, идейный базис этой системы составили доконфуцианские религиозные верования и мировоззренческие представления, которые конфуцианство включило в процесс рационализирующей адаптации к собственным концепциям.
В западной синологии второй половины XX в. возобладала теория, согласно которой даосская философия сходным образом возникла на основе протодаосской религиозно-магической культуры шаманского типа, локализовавшейся на юге Китая, в так называемых «варварских царствах» (в первую очередь Чу), не входивших в круг Срединных государств и считавшихся колыбелью китайской цивилизации (отсюда идея Китая как Срединной империи). В соответствии с данной теорией, пионером которой стал французский синолог А. Масперо (1883–1945), даосизм представляет собой единое учение и его философская ипостась, выраженная прежде всего в классической триаде текстов Дао дэ цзин («Канон Пути и благодати»), Чжуан-цзы («[Трактат] Учителя Чжуана»), Ле-цзы («[Трактат] Учителя Ле»), явилась теоретизирующей реакцией на соприкосновение с рационалистической конфуцианской культурой, локализовавшейся на Севере, в Срединных государствах.
Коренное отличие даосского мистико-индивидуалистического натурализма от этико-рационалистического социоцентризма всех остальных ведущих мировоззренческих систем в Китае периода формирования и расцвета «ста школ» побуждает некоторых специалистов усиливать тезис о периферийном происхождении даосизма утверждением об иноземном (прежде всего индо-иранском) влиянии, в соответствии с которым его Дао оказывается своеобразным аналогом Брахмана и даже Логоса. Подобному взгляду радикально противостоит точка зрения, согласно которой даосизм является самым ярким выражением китайского духа, поскольку представляет собой наиболее развитую форму национальной религии. Данной точки зрения придерживается ведущий российский исследователь даосизма Е.А. Торчинов, различающий в истории его становления несколько этапов.
1) С древнейших времен до IV–III вв. до н. э. происходило формирование религиозной практики и мировоззренческих моделей на основе архаических шаманистских верований. 2) С IV–III вв. до н. э. по II–I вв. до н. э. протекали два параллельных процесса: с одной стороны, обретало философский характер и письменную фиксацию даосское мировоззрение, с другой стороны, подспудно и эзотерично развивались методы «обретения бессмертия» и психофизиологизированной медитации йогического типа, неявно и фрагментарно, но все-таки отраженные в классических текстах. 3) С I в. до н. э. по V в. н. э. шло сближение и слияние теоретического и практического подразделений с включением достижений других философских направлений (прежде всего нумерологии Чжоу и, легизма и отчасти конфуцианства), что выразилось в обретении имплицитным материалом эксплицитной формы и письменной фиксации единого даосского мировоззрения, ранее скрытые компоненты которого стали выглядеть принципиальными новациями. 4) В этот же период происходила институализация даосизма в виде религиозных организаций как «ортодоксальных», так и «еретических» направлений, а также начало складываться каноническое собрание его литературы Дао цзан («Сокровищница Пути-дао»). Дальнейшее развитие даосизма протекало главным образом в религиозном аспекте, в чем большую стимулирующую роль играл буддизм как его основной в данной сфере конкурент.
Изначальный даосизм, представленный учениями Лао Даня, или Лао-цзы (традиционная датировка жизни: ок. 580 — ок. 500 гг. до н. э., современная: V–IV вв. до н. э.), Чжуан Чжоу, или Чжуан-цзы (399–328 — 295–275 гг. до н. э.), Ле Юй-коу, или Ле-цзы (ок. 430 — ок. 349 гг. до н. э.), и Ян Чжу (440–414 — 380–360 гг. до н. э.) и отраженный в названных их именами произведениях: Лао-цзы (или Дао дэ цзин), Чжуан-цзы, Ле-цзы, Ян Чжу (гл. 7 Ле-цзы), а также даосских разделов энциклопедических трактатов Гуань-цзы («[Трактат] Учителя Гуаня»), Люй-ши чунь цю («Весны и осени господина Люя») и Хуайнань-цзы («[Трактат] Учителя Хуайнаня»), создал наиболее глубокую и оригинальную в древнекитайской философии онтологию.
Основные принципы первых даосских мыслителей — «естественность» (цзы жань) и «недеяние» (у вэй), знаменующие собой отказ от нарочитой, искусственной, преобразующей природу деятельности и стремление к спонтанному следованию природному естеству вплоть до полного слияния с ним в виде самоотождествления с господствующим в мире беспредпосылочным и нецеленаправленным Путем-дао: «Небо длительно, земля долговечна. Небо и земля длительны и долговечны благодаря тому, что они живут не собой, а потому способны жить долго. На этом основании совершенномудрый человек отставляет назад свою личность, а сам первенствует; отбрасывает прочь свою личность, а сам сохраняется» (Дао дэ цзин, § 7).
Вскрываемая при таком подходе относительность всех человеческих ценностей, обусловливающая релятивистское «равенство» добра и зла, жизни и смерти, в конечном итоге логически привела к апологии культурной энтропии и квиетизма: «Настоящий человек древности не знал ни любви к жизни, ни ненависти к смерти; не радовался своему появлению [на свет] и не противился уходу [из жизни]; безразлично покидал [этот мир] и безразлично приходил в него, и это все. Он не забывал того, что было для него началом, и не доискивался до того, в чем [заключался] его конец. Получая [жизнь], радовался ей; забывая [о смерти], возвращался [в небытие]. Это означает, что он не прибегал к разуму, чтобы противиться дао, не прибегал к человеческому, чтобы помогать небесному» (Чжуан-цзы, гл. 6).
Однако на рубеже новой эры предшествующая высокоразвитая философия даосизма предстала соединенной с новорожденными или вышедшими из-под спуда, из эзотерического подполья религиозными, оккультными и магическими учениями, нацеленными на максимальное, сверхъестественное увеличение витальных сил организма и достижение долголетия или даже бессмертия (чан шэн у сы). Теоретическая аксиома первородного даосизма — равноценность жизни и смерти при онтологическом первенстве меонического небытия перед наличным бытием — на этом этапе его развития сменилась сотериологическим признанием высшей ценности жизни и ориентацией на различные виды соответствующей практики от диетики и гимнастики, фармацевтики и эротологии до психотехники и алхимии. В этой философско-религиозной форме проходила вся дальнейшая эволюция даосизма как особого, парадоксально-прагматического стиля жизни и мышления, оплодотворявшего своим влиянием науку и искусство в средневековом Китае и сопредельных странах.
Один из идейных мостов от исходного даосизма к его последующей ипостаси перекинул Ян Чжу, акцентировавший значимость индивидуальной жизни: «То, что делает все вещи разными, — это жизнь; то, что делает их одинаковыми, — это смерть» (Ле-цзы, гл.7). Обозначение его концепции автономного существования — «для себя», или «ради своего я» (вэй во), согласно которой «собственное тело, несомненно, главное в жизни» и для пользы Поднебесной нет смысла «лишаться даже единого волоска», стало синонимом эгоизма, который конфуцианцы противопоставляли неупорядоченному, нарушающему этико-ритуальную благопристойность, альтруизму Мо Ди (Мо-цзы, V в. до н. э.) и равным образом отрицали.
Согласно Фэн Юланю, Ян Чжу олицетворяет собой первый этап развития раннего даосизма, т. е. апологию самосохраняющего эскапизма, восходящего к практике отшельников, покидавших вредоносный мир во имя «сохранения своей чистоты». Знамением второго этапа стала основная часть Дао дэ цзина, в которой предпринята попытка постичь неизменные законы всеобщих изменений во Вселенной. В главном произведении третьего этапа — Чжуан-цзы закреплена еще дальше идущая мысль о релятивной равнозначности изменяющегося и неизменного, жизни и смерти, я и не-я, что логически подводило даосизм к самоисчерпанию философского подхода и стимулированию религиозной установки, которая также поддерживалась контрадикторно-комплементарными отношениями с буддизмом. В дальнейшем философия даосизма не только оплодотворяла развитие китайского буддизма, но и сыграла существенную роль в формировании «учения о таинственном» (сюань сюэ) и неоконфуцианства.
§ 3 Моизм (мо цзя): религиозно-популистский утилитаризм — этика объединяющей любви и взаимной пользы
Моизм — «школа Мо» (мо цзя), древнекитайское философско-религиозное учение, сформировавшееся в V–IV вв. до н. э. и получившее широкое распространение в IV–III вв. до н. э. во многом благодаря своим популистским установкам, методологически фундированной аргументации и широкой практической деятельности его адептов, сплоченных в военно-религиозный «орден» и способных на такие радикальные акции, как массовое самоубийство (более 180 человек во главе с Мэн Шэном) и казнь собственного сына (Фу Дунем).
Согласно теории происхождения древнекитайских философских школ, выдвинутой Лю Синем и зафиксированной Бань Гу в И вэнь чжи («Трактате об искусствах и текстах»), моизм создали выходцы из храмовых сторожей, что должно объяснять его теологизированность. Развивший эту теорию в XX в. и основывающийся на отраженном в гл. 50 «Популярные учения» (Сянь сюэ) трактата Хань Фэй-цзы (III в. до н. э.) оппозиционном определении конфуцианцев и моистов как соответственно «жу» («ученые-интеллектуалы») и «ся» («воины-удальцы, рыцари»), Фэн Юлань связал происхождение моизма с социальной прослойкой «рыцарей», что должно объяснять повышенный интерес его представителей к военной тематике и их альтруистическое народолюбие.
Моизм явился одной из первых теоретических реакций на конфуцианство в древнекитайской философии. Создатель и единственный крупный представитель школы, названной его именем, — Мо Ди, или Мо-цзы (490–468 — 403–376 гг. до н. э.), согласно Хуайнань-цзы (цз. 21), первоначально был сторонником конфуцианства, а затем выступил с его резкой критикой. От других философских течений древнего Китая моизм отличают две специфические особенности: теологизированность и организационная оформленность, что вместе с повышенным интересом к логико-методологической проблематике окрашивало его в схоластические тона.
Эта своеобразная секта выходцев из низших слоев общества, прежде всего ремесленников и внештатных воинов-удальцов, очень напоминала пифагорейский союз и возглавлялась «великим учителем» (цзюй цзы), который, согласно Чжуан-цзы (гл. 33), считался «совершенномудрым» (шэн) и которого Го Можо (1892–1978) сравнил с Папой Римским. Реконструируется следующая преемственность обладателей данного поста: Мо Ди — Цинь Гули (Хуали) — Мэн Шэн (Сюй Фань) — Тянь Сян-цзы (Тянь Цзи) — Фу Дунь. Затем в конце IV в. до н. э., видимо, произошел распад единой организации на два или три направления «отделившихся моистов» (бемо), во главе которых стояли Сянли Цинь, Сянфу (Бофу), Дэнлин.
После теоретического и практического разгрома моизма во второй половине III в. до н. э., обусловленного его собственной дезинтеграцией и антигуманитарными репрессиями при династии Цинь (221–207 гг. до н. э.), а также конфуцианскими запретами в эпоху Хань (206 г. до н. э. — 220 г. н. э.), он продолжал существовать лишь как духовное наследие, коллективно выработанное несколькими поколениями его представителей, целиком приписанное главе школы и закрепленное в глубоком и обширном, но плохо сохранившемся трактате Мо-цзы.
Учение самого Мо-цзы изложено в десяти начальных главах, названия которых отражают его основополагающие идеи: «Почитание достойных» (Шан сянь), «Почитание единения» (Шан тун), «Объединяющая любовь» (Цзянь ай), «Отрицание нападений» (Фэй гун), «Сокращение потребления» (Цзе юн), «Сокращение погребальных [расходов]» (Цзе цзан), «Боля Неба» (Тянь чжи), «Духовидение» (Мин гуй), «Отрицание музыки» (Фэй юэ), «Отрицание предопределения» (Фэй мин). Все они разбиты на три схожие друг с другом части, что явилось следствием отмеченного в гл. 33 Чжуан-цзы и гл. 50 Хань Фэй-цзы разделения моистов на три направления, каждое из которых оставило свой вариант изложения общих положений.
В середине трактата помещены главы «Канон» (Цзин), «Изъяснение канона» (Цзин шо), каждая в двух частях; «Большой выбор» (Да цюй) и «Малый выбор» (Сяо цюй), которые вместе называются «Моистским каноном» (Мо цзин), или «Моистской диалектикой» (Мо бянь), и представляют собой формализованный и терминологизированный текст, демонстрирующий высшие достижения древнекитайской протологической методологии, полученные к III в. до н. э. в кругах поздних моистов или, согласно гипотезе Ху Ши (1891–1962), последователей «школы имен» (мин цзя). Содержание данного раздела Мо-цзы, охватывающее прежде всего гносеологическую, логико-грамматическую, математическую и естественно-научную проблематику, благодаря ее сложности и специфической (интенциональной) форме изложения стало малопонятным уже для ближайших потомков. Заключительные главы трактата, позднейшие по времени написания, посвящены более конкретным вопросам обороны городов, фортификации и сооружения защитных орудий.
Главный пафос социально-этического ядра моистской философии — аскетическое народолюбие, предполагающее безусловный примат коллективного над индивидуальным и борьбу с частным эгоизмом во имя общественного альтруизма. Интересы народа в основном сводятся к удовлетворению элементарных материальных потребностей, определяющих его поведение: «В урожайный год люди гуманны и добры, в неурожайный — негуманны и злы» (Мо-цзы, гл. 5). С этой точки зрения традиционные формы этико-ритуальной благопристойности (ли2) и музыки рассматриваются как проявления расточительства. Строго иерархичной конфуцианской гуманности (жэнь), которую монеты называли «разделяющей любовью» (бе ай), направленной только на своих близких, они противопоставили принцип всеобъемлющей, взаимной и равной «объединяющей любви» (цзянь ай), а конфуцианскому антиутилитаризму и антимеркантилизму, превозносившему должную справедливость (и) над пользой/выгодой (ли3) — принцип «взаимной пользы/выгоды» (сян ли).
Высшим гарантом и точным (как циркуль для круга и угольник для квадрата) критерием обоснованности этой позиции монеты считали деифицированное Небо (тянь), которое приносит счастье тому, кто испытывает к людям объединяющую любовь и приносит им пользу/выгоду. Выступающее в качестве универсального «образца/закона» (фа), «благодатное» (дэ) и «бескорыстное» (у сы) Небо, с их точки зрения, не имея ни личностных, ни антропоморфных атрибутов, тем не менее обладает волей (чжи3), помыслами (и3), желаниями (юй) и одинаково любит все живое: «Небо желает жизни Поднебесной и ненавидит ее смерть, желает ее пребывания в богатстве и ненавидит ее бедность, желает ей находиться в порядке и ненавидит смуту в ней» (Мо-цзы, гл.26). Одним из источников, дающих возможность судить о воле Неба, признавались посредствующие между ним и людьми «нави и духи» (гуй шэнь), о существовании которых свидетельствуют исторические источники, сообщающие, что с их помощью «в древности совершенномудрые правители наводили порядок в Поднебесной» (Мо-цзы, гл. 31), а также уши и глаза многих современников.
В позднем моизме, переориентировавшемся с теистических аргументов на логические, всеобъемлемость любви доказывалась тезисом «Любить людей не значит исключать себя» (Да цюй), предполагающим вхождение субъекта («себя») в число «людей», а контрарная оппозиция между апологией пользы/выгоды и признанием должной справедливости, «желанной Небу» и являющейся «самым ценным в Поднебесной», снималась прямой дефиницией: «должная справедливость есть польза/выгода» (Цзин, ч. 1).
Борясь с ассимилированной конфуцианством древней верой в «небесное предопределение» (тянь мин), монеты утверждали, что в судьбах людей нет фатального предопределения (мин), поэтому человек должен быть активен и деятелен, а правитель — внимателен к достоинствам и талантам, которые следует почитать и продвигать независимо от их исходной социальной принадлежности. Результатом правильного взаимодействия верхов и низов на основе принципа равных возможностей, согласно Мо-цзы, должно стать всеобщее «единение» (тун), т. е. преодолевшее животный хаос и первобытные смуты всеобщей взаимной вражды централизованно управляемое, машинообразное, структурное целое, которое составляют Поднебесная, народ, правители, государь и само Небо.
Эта идея, по мнению некоторых специалистов (Цай Шансы, Хоу Вайлу), породила знаменитую социальную утопию Великого единения (да тун), описанную в гл. 7/9 Ли юнь («Циркуляция благопристойности») конфуцианского канонического трактата Ли цзи («Записки о благопристойности») В связи с особым вниманием со стороны представителей «школы имен» к категории «тун» в значении «тождество/подобие» поздние монеты подвергли ее специальному анализу и выделили четыре главные разновидности: «Два имени (мин2) одной реалии (ши) — [это] тун [как] повторенность (чун). Невыделенность из целого — [это] тун [как] единотелесность (ти). Совместное нахождение в помещении — [это] тун [как] совпадение (хэ3). Наличие основания для единения (тун)— [это] тун [как] родственность (лэй)» (Цзин шо, ч. 1). Важнейшим выводом из моистского идеала всеобщего «единения» стал призыв к антимилитаристской и миротворческой деятельности, который подкреплялся теорией фортификации и обороны. Для отстаивания и пропаганды своих взглядов монеты разрабатывали специальную технику убеждения, которая привела к созданию оригинальной эристико-семантической протологики, ставшей их главным вкладом в китайскую духовную культуру.
Вплоть до XVIII–XIX вв. трактат Мо-цзы занимал маргинальное положение в традиционной китайской культуре, специфическим Проявлением чего стало включение его в XV в. в состав канонической даосской библиотеки Дао цзан («Сокровищница Пути-дао»), хотя уже в Мэн-цзы (III Б, 9) была отмечена противоположность моизма и даосизма (представленного Ян Чжу). Повышенный интерес к моизму, возникший в конце XIX — начале XX вв. и поддержанный такими видными мыслителями и общественными деятелями, как Тань Сытун (1865–1898), Сунь Ятсен (1866–1925), Лян Цичао (1873–1923), Лу Синь (1881–1936), Ху Ши и другие, обусловливался, во-первых, общей тенденцией видеть в нем древнее провозвестие утилитаризма, социализма, коммунизма, марксизма и даже христианства, что позднее обернулось его обличением Го Можо как тоталитаризма фашистского типа, а во-вторых, стимулированной столкновением с Западом активизацией поисков китайских аналогов западной научной методологии.
§ 4 Легизм (фа цзя): законнический этатизм — этика тотальной власти
Легизм, или буквально «школа закона», представляет собой сформировавшееся в IV–III вв. до н. э. теоретическое обоснование тоталитарно-деспотического управления государством и обществом, которое впервые в китайской истории добилось статуса единой официальной идеологии в первой централизованной империи Цинь (221–207 гг. до н. э.). Легистское учение выражено в аутентичных трактатах IV–III вв. до н. э. Гуань-цзы («[Трактат] Учителя Гуань [Чжуна]»), Шан цзюнь шу («Книга правителя [области] Шан [Гунсунь Яна]»), Шэнь-цзы («[Трактат] Учителя Шэнь [Бухая]»), Хань Фэй-цзы («[Трактат] Учителя Хань Фэя»), а также в менее значимых из-за сомнений в аутентичности и содержательной недифференцированности относительно «школы имен» (мин цзя) и даосизма Дэн Си-цзы («[Трактат] Учителя Дэн Си») и Шэнь-цзы («[Трактат] Учителя Шэнь [Дао]»).
В латентный период VII–V вв. до н. э. протолегистские принципы вырабатывались на практике. Гуань Чжун (? — 645 г. до н. э.), советник правителя царства Ци, видимо, первым в истории Китая выдвинул концепцию управления страной на основе «закона» (фа), определенного им как «отец и мать народа» (Гуань-цзы, гл. 16), что ранее применялось только в качестве определения государя (Шу-цзин, гл. 24/32: Хун фань — «Величественный образец», § 5). Гуань Чжун противопоставил Закон не только правителю, над которым он должен возвышаться и которого должен ограничивать, дабы защищать от его необузданности народ, ибо «закон и есть любовь к народу» (Гуань-цзы, гл. 6), но также мудрости и знаниям, которые отвлекают людей от их обязанностей. Чтобы противодействовать порочным тенденциям, Гуань Чжун также, по-видимому, первый, предложил использовать наказания как главный метод управления: «когда боятся наказаний, управлять легко» (Гуань-цзы, гл. 48).
Эту линию продолжил Цзы-Чань (ок. 580 — ок. 522 гг. до н. э.), первый советник правителя царства Чжэн, согласно главному комментарию к Чунь цю — Цзо чжуань («Предание Цзо», Чжао-гун, 18 г., 6 г.), считавший, что «Путь (дао) Неба далек, а Путь человека близок и до него не доходит». Он нарушил традицию «суда по совести» и впервые в Китае в 536 г. до н. э. кодифицировал уголовные законы, отлив в металле (видимо, на сосудах-триподах) «уложение о наказаниях» (син шу).
Его современник и также сановник царства Чжэн, Дэн Си (ок. 545 — ок. 501 гг. до н. э.) развил и демократизировал данное начинание, опубликовав «бамбуковое [уложение о] наказаниях» (чжу син). Согласно Дэн Си-цзы, он излагал учение о государственной власти как единоначальном осуществлении правителем посредством «законов» (фа) правильного соответствия между «именами» (мин2) и «реалиями» (ши). Правитель должен овладеть особой «техникой» (шу2) управления, которая предполагает способность «видеть глазами Поднебесной», «слушать ушами Поднебесной», «рассуждать разумом Поднебесной». Подобно Небу (шянь), он не может быть «великодушен» (хоу) к людям: Небо допускает стихийные бедствия, правитель не обходится без применения наказаний. Ему надлежит быть «безмятежным» (цзи1)и «замкнутым в себе» («сокрытым» — цан), но одновременно «властно-величественным» (вэй2) и «просветленным» (мин3) относительно законосообразного соответствия «имен» и «реалий».
В период с IV по первую половину III в. до н. э. на основе отдельных идей, сформулированных предшественниками, практиками государственного управления, и под влиянием некоторых положений даосизма, моизма и «школы имен» произошло формирование легизма в целостное самостоятельное учение, ставшее в самую резкую оппозицию конфуцианству. Гуманизму, народолюбию, пацифизму и этико-ритуальному традиционализму последнего легизм противопоставил деспотизм, почитание власти, милитаризм и законническое новаторство. Из даосизма легисты почерпнули представление о мировом процессе как естественном Пути-дао, в котором природа значимее культуры, из моизма — утилитаристский подход к человеческим ценностям, принцип равных возможностей и обожествление власти, а из «школы имен» — стремление к правильному балансу «имен» и «реалий».
Эти общие установки были конкретизированы в творчестве классиков легизма Шэнь Дао (ок. 395 — ок. 315 гг. до н. э.), Шэнь Бухая (ок. 385 — ок. 337 гг. до н. э.), Шан (Гунсунь) Яна (390–338 гг. до н. э.) и Хань Фэя (ок. 280 — ок. 233 гг. до н. э.).
Шэнь Дао, первоначально близкий к даосизму, впоследствии стал проповедовать «почтение к закону» (шан фа) и «уважение к властной силе» (чжун ши), поскольку «народ объединяется правителем, а дела решаются законом». С именем Шэнь Дао связывается выдвижение на первый план категории «ши1» («властная сила»), совмещающей в себе понятия «власть» и «сила» и дающей содержательное наполнение формальному «закону». Согласно Шэнь Дао, «недостаточно быть достойным, чтобы подчинять народ, но достаточно обладать властной силой, чтобы подчинять достойного».
Другую важнейшую легистскую категорию «шу» — «техника/искусство [управления]», которая определяет взаимосвязь «закона/образца» и «власти/силы», разработал Шэнь Бухай, первый советник правителя царства Хань. Следуя по стопам Дэн Си, он привнес в легизм идеи не только даосизма, но и «школы имен», отразившиеся в его учении о «наказаниях/формах и именах» (син мин), согласно которому «реалии должны соответствовать именам» (сюнь мин цзэ ши). Сосредоточившись на проблемах управленческого аппарата, Шэнь Дао призывал «возвышать государя и принижать чиновников» таким образом, чтобы на них ложились все исполнительские обязанности, а он, демонстрируя Поднебесной «недеяние» (у вэй), скрытно осуществлял контроль и властные полномочия.
Своего апогея легистская идеология достигла в теории и практике правителя области Шан в царстве Цинь Гунсунь Яна, который считается автором шедевра макиавеллизма Шан цзюнь шу. Восприняв моистскую идею машинообразного устройства государства, Шан Ян, однако, пришел к выводу о том, что оно должно побеждать и, как советовал Лао-цзы, оглуплять народ, а не приносить ему пользу, ибо: «Если народ глуп, легко [наводится] порядок. Это рождается законом… законы и установления суть предопределение народа» (гл. 26). Сами же законы отнюдь не богодухновенны и подлежат переменам, поскольку «умный творит законы, а глупый подчиняется им, достойный изменяет правила благопристойности, а никчемный обуздывается ими» (гл.1). «Когда народ побеждает своих правителей, государство слабо; когда правители побеждают свой народ, армия могущественна. […] Если проступки скрываются, народ побеждает закон, если преступления караются, закон побеждает народ. Там, где народ побеждает закон, государство в смуте; там, где закон побеждает народ, армия могущественна» (гл.5). Поэтому власти следует быть Сильнее своего народа и заботиться о могуществе армии. Народ же надо побуждать заниматься важнейшими делами — земледелием и войной, избавляя его тем самым от неисчислимых желаний.
Управление людьми должно строиться на понимании их порочной, корыстной природы. «Если использовать (юн) добро (шань), народ испытывает родственную близость к своим родственникам; если опираться на пороки, народ испытывает родственную близость к подчиняющим его. Сплочение и поддержка — там, где добро; разделение и регламентация — там, где пороки. Если выделяется добро, проступки скрываются; если опираться на пороки, преступления караются» (гл.5). «Народу свойствен порядок, но его дела [несут] смуту, поэтому если в проведении наказаний считать легкое тяжким, то легкое не возникает, а тогда и тяжкому неоткуда будет нагрянуть» (гл.5).
«Наказание рождает силу, сила рождает могущество, могущество рождает властное величие (вэй2), властное величие рождает благодать (дэ). Благодать рождается наказанием» (гл.5), поэтому «в государстве, где [наведен] порядок, много наказаний и мало наград» (гл.7). «Красноречие и ум — пособники смуты; благопристойность и музыка — признаки разврата и распущенности; милость и гуманность — матери проступков; назначение и выдвижение на должности [добродетельных людей] — разносчики (буквально: крысы. — А.К.)порока» (гл. 5). Важнейшим средством борьбы с этими «ядовитыми» явлениями «культуры» (вэнь) признается война, неизбежно предполагающая железную дисциплину и всеобщую унификацию.
Хань Фэй завершил формирование легизма, синтезировав систему Шан Яна с концепциями Шэнь Дао и Шэнь Бухая, а также введя в него некоторые общетеоретические положения конфуцианства и даосизма. Он развил намеченную Сюнь-цзы и важнейшую для последующих философских, особенно неоконфуцианской, систем связь понятий «дао» и «принцип» (ли1): «Дао делает тьму вещей таковыми, каковы они суть, и определяет тьму принципов» («Хань Фэй-цзы», гл. 20). Воплощающая дао благодать (дэ) в человеке укрепляется бездействием и отсутствием желаний, ибо чувственные контакты с внешними объектами растрачивают «(божественный) дух» (шэнь) и «духовное семя» (цзин3). «Ароматный запах, тонкий вкус, доброе вино и жирное мясо услаждают рот, но губят телесную форму. Прелестная кожа и белые зубы радуют чувства, но отнимают духовное семя. Поэтому устраняя превосходное и чрезмерное, телесная личность (шэнь) избавляется от вреда» (там же, гл. 8). «Если дух развратно не расточается вовне, то телесная личность целостна. Целостность телесной личности называется достижением (дэ1). Достижение есть достижение телесной личности. Всякая благодать (дэ) накапливается благодаря, отсутствию деяний (у вэй), формируется благодаря отсутствию желаний, умиротворяется благодаря безмыслию, упрочивается благодаря неиспользованию. Если же действовать и желать, то не в чем будет благодати закрепиться» (там же, гл. 20).
Отсюда следует, что и в деятельности полезно придерживаться спокойной скрытности: «Дела завершаются благодаря тайне, и договоры рушатся благодаря разглашению» (гл. 12). Надо следовать своей природе и своему предопределению, а не «обучать людей гуманности и должной справедливости», которые так же непередаваемы, как ум и долголетие: «Ныне если кто-то скажет человеку: „Непременно сделаю тебя разумным и долголетним“, все в мире непременно сочтут это безумием. Разумность — это [индивидуальная] природа (син2), а долголетие — предопределение (мин1). Природа и предопределение не суть то, чему научаются у другого. А предложение человеку того, на что он не способен, все в мире называют обманом. […] Разум народа нельзя использовать, как и сердце младенца» (гл. 50).
Следующий чрезвычайно краткий исторический период развития легизма стал для него исторически самым значительным. Еще в IV в. до н. э. он был взят на вооружение в государстве Цинь, а вслед за покорением циньцами соседних государств и возникновением первой централизованной империи в Китае обрел статус первой всекитайской официальной идеологии, опередив таким образом имевшее на это большие права конфуцианство. Однако незаконное торжество длилось недолго. Просуществовавшая всего полтора десятилетия, но оставившая о себе на века глубокую и недобрую память, пораженная утопической гигантоманией, жестоким сервилизмом и рационализированным мракобесием, империя Цинь в конце III в. до н. э. рухнула, похоронив под своими обломками и грозную славу легизма.
Конфуцианство же к середине II в. до н. э. добилось реванша на официально-ортодоксальном поприще, эффективно учтя прежний опыт посредством умелого освоения ряда прагматически эффективных принципов легистского учения об обществе и государстве. Морально облагороженные конфуцианством, эти принципы находили реализацию в официальной теории и практике Срединной империи вплоть до начала XX в.
Даже вопреки стойкой конфуцианской идиосинкразии на легизм в Средние века видный государственный деятель, канцлер-реформатор и философ-конфуцианец Ван Аньши (1021–1086) включил в свою социально-политическую программу легистские положения об опоре на законы, в особенности карательные («суровые наказания за малые проступки»), о поощрении воинской доблести (у2), о взаимной ответственности чиновников, об отказе от признания абсолютного приоритета «древности» (гу) над современностью.
В конце XIX — начале XX вв. легизм привлек к себе внимание реформаторов, усматривавших в нем теоретическое обоснование ограничения законом императорского всевластия, освященного официальным конфуцианством.
После падения империи, в 1920-1940-е гг. легистскую апологетику государственности стали пропагандировать «этатисты» (гоцзяч-жуи пай) и, в частности, их идеолог Чэнь Цытянь (1893–1975), ратовавший за создание «неолегизма». Сходных взглядов придерживались и теоретики гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887–1975), заявлявшие о легистском характере государственного планирования экономики и политики «народного благоденствия».
В КНР во время проведения кампании «критики Линь Бяо и Конфуция» (1972–1976) легисты были официально объявлены прогрессивными реформаторами, боровшимися с консервативными конфуцианцами за победу нарождавшегося феодализма над отжившим рабовладением, и идейными предшественниками маоизма.
Глава III
Категориальные основы китайской этики
§ 1
Категория «благопристойность» (ли3) как единство этики и ритуала
Термин «ли3» весьма сложен и для перевода и для понимания. Его наиболее распространенные переводы: по-русски — ритуал, нормы, этикет, обряды, церемонии, устав (благочестия), благочиние, регламент достойной жизни, этика, правила приличия, благопристойность, сдержанность; по-английски — cult, culture, worship, religion, (rules of) propriety, rules of proper conduct, deportment, (good) manners, formality, courtesy, etiquette, rites, ritual (action), ceremony, decorum, good form, politeness, good custom, good behaviour, customary morality, institutions, natural law; по-французски — bienseances, convenances, usages sociaux; по-немецки — Anstand, Bildung, gute Sitte, Sittlichkteit, Formlichkeit.
Этим термином выражается одна из центральных категорий китайской философии, главным образом конфуцианства, сочетающая два основных смысла — этика и ритуал. «Ритуализованное» этимологическое значение «ли3» — «культовое действие с сосудом», зафиксированное в его исходной форме, изображающей такой сосуд, — роднит данный иероглиф с фундаментальным онтологическим термином «ти» («тело», «плоть», «строй», «сущность», «субстанция», «телесная сущность»), графическую основу которого составляет изображение того же ритуального сосуда (в современном начертании эти знаки различаются левыми частями: у ти — это элемент «кости» (гу2), у ли3 — «проявлять» (ши8)).
В этимологическом родстве ли3 и ти заложено зерно позднейшей философской онтологизации единого комплекса этики-ритуала в Китае, в котором соответствующее ему понятие «благопристойность» стало мыслиться как выражение важнейшего фактора не только культуросозидания, но и космоупорядочения. Взаимосвязи ли3 и ти были теоретически эксплицированы древнекитайскими философами. Например, в завершающей «Ли цзи» гл. 46/49 сказано: «Всегда великая сущность (ти) благопристойности [образует] сущность (ти) неба и земли, законы (фа) четырех времен [года], правила [сил] инь и ян». В предшествующей гл. 17/19 «Юэ цзи» («Записки о музыке») этого же конфуцианского канона высший онтологический статус «благопристойности» отражают такие ее определения, как «упорядочивающее [начало] (сюй1) неба и земли», «различающее [начало] (бе) неба и земли».
В наиболее общем виде универсальный онтологический смысл «ли3» был придан в «Ли цзи» (гл. 25/28, 17/19, 8/10) посредством определения с помощью омонимичного термина «ли» («принцип»): «Благопристойность — это принципы»; «Благопристойность — это принципы, которые не подлежат изменению»; «Должная справедливость и принципы суть знаки (вэнь) благопристойности».
Если первоначально в дофилософский период (т. е. до середины 1-го тыс. до н. э.) это онтологическое воздействие ли3 считалось основывающимся на религиозном ритуале, то впоследствии оно получило преимущественно этическое истолкование.
Встречающиеся уже в древнейших (конец 2-го — начало 1-го тыс. до н. э.) идеологических памятниках — «Шу цзине» и «Ши цзине» — категория «ли3», согласно их текстологическому анализу, который провел финский синолог П. Никкила, обозначала обряды, дающие возможность преодолеть политические конфликты и отражающие единство мира, а также храмовые, дворцовые ритуалы и формы поведения сановников по отношению к народу[8]. В этих произведениях термин «ли3» был еще слабо разработан, о чем свидетельствует его относительно редкое употребление: в «Шу цзине», состоящем примерно из 25 тыс. иероглифов, он встречается 18 раз, а в «Ши цзине», состоящем примерно из 30 тыс. иероглифов, — 10 раз.
С рождением философского учения Конфуция категория «ли3» обрела самый высокий статус, войдя в шестерку его наиболее значимых ключевых понятий. Об этом свидетельствует и частота употребления данного термина в «Лунь юе»: 74 или 75 раз на примерно 16 тыс. иероглифов текста. Конфуцием категория «ли3» была теоретически осмыслена и превращена в самую общую характеристику правильного общественного устройства и поведения человека по отношению к другим и к себе: «Правитель [должен] руководить подданными посредством благопристойности (ли3)» («Лунь юй», III, 19); «Преодоление себя и обращение к благопристойности составляет гуманность (жэнь) […] Не следует смотреть на несоответствующее благопристойности, не следует слушать несоответствующее благопристойности, не следует говорить несоответствующее благопристойности» («Лунь юй», XII, 1).
Распространение подобного контроля на чувственную сферу стало у Конфуция основой для придания ли3 статуса общегносеологического норматива: «Расширяя [свою] ученость (сюэ) с помощью знаков-культуры (вэнь) и стягивая ее с помощью благопристойности (ли3), можно избегнуть нарушений» («Лунь юй», VI, 25/27, XII, 15).
В целом с самого своего зарождения конфуцианство сосредоточило внимание на категории «ли3», ставшей одним из его важнейших символов. И в китайской духовной традиции именно за Конфуцием закрепился образ первого идеолога и ревностного проповедника ли3, теоретика превращения Срединной империи в «государство благопристойности и музыки». Более того, согласно некоторым конфуцианцам, например: Ли Гоу (1009–1059), Янь Юаню (1635–1704), Лин Тинканю (около 1755–1809), в ли3 заключена главная идея Конфуция. Поэтому неслучайно именно концепция ли3 стала центральной мишенью критических выпадов против конфуцианства со стороны конкурировавших с ним философских школ.
Из основателей таковых только родоначальник даосизма Лао-цзы, согласно древней легенде, встречался с Конфуцием. Сообщение об этой встрече в беллетристической форме впервые зафиксировано в основополагающем даосском трактате «Чжуан-цзы» (гл. 14,21), а затем воспроизведено Сыма Цянем (ок. 145 — ок. 86 гг. до н. э.) в «Ши цзи» («Исторических записках») в биографии как Конфуция (цз. 47), так и Лао-цзы (цз. 63). Верифицированное историографическим каноном описание встречи двух великих философов начинается со знаменитых слов о том, что Конфуций, который смладу не только «любил благопристойность» (хао ли), но и «обучал благопристойности» (сюэ ли), прибыл к Лао-цзы с вопросом о ли3, т. е. именно этот предмет представлен в виде важнейшей проблемы теоретической дискуссии между конфуцианством и даосизмом (историческая малодостоверность данной конкретной встречи лишь подчеркивает символическую значимость ее философского смысла). Высший гносеологический статус ли3 отражен в суждении Сюнь-цзы: «Учение доходит до предела в благопристойности» (Сюнь-цзы, гл. 1).
Даосы обрушились на вымученную искусственность и бесплодный ригоризм конфуцианского ли3 с позиций гедонистического следования природному естеству (см., например, «Чжуан-цзы», гл. 29, 31). В раннем даосизме ли3 представлено как результат последовательной деградации дао, благодати (дэ), гуманности (жэнь), должной справедливости (и) и в свою очередь как источник утраты верности (чжун1) и благонадежности (синь2) («Дао дэ цзин», § 38).
Моисты с позиции социально-экономического утилитаризма («должная справедливость — это польза-выгода») и понимания ли3 как «почтительной осторожности» (цзин3) («Мо-цзы», гл. 40: «Цзин» — «Канон», ч. 1) подвергли критике чрезмерное увлечение конфуцианцев обрядово-церемониальной стороной ли3, ее усложнение до крайне изощренных, трудновыполнимых форм («Мо-цзы», гл. 39). Вместе с тем перекликающееся с моистским определение «Благопристойность — это почтительная осторожность (цзин3) и только» закреплено в конфуцианском «Каноне сыновней почтительности» («Сяо цзин», § 12).
Легисты, также отвергая ли3 как высший принцип социальной регуляции, в качестве альтернативы выдвинули административные правила и юридические законы фа (см., например, «Шан-цзюнь шу», гл. 1).
Само выдвижение указанных принципов в противовес ли3 обнаруживает сверхэтическую природу последнего. Если бы осуществление ли3 обозначало только правильную регуляцию в плане этики, то оно могло бы безболезненно сочетаться и со следованием природному естеству, и с социально-экономическим утилитаризмом, и с административно-правовой законностью, поскольку все это — разные уровни общественного бытия и человеческой жизни. Иное дело — если считать ли3 универсальной нормой, распространяющей свою юрисдикцию на все эти уровни, но тогда подобная норма перестает быть чисто этической (в обычном для нас смысле этого слова).
Конфуцианцы, конечно, не оставляли без внимания критики в свой адрес и развивали собственные взгляды на ли3. Двузначность этого термина, объединяющего «этику» и «ритуал», позволила двум главным последователям Конфуция и основателям противоположных течений в конфуцианстве — Мэн-цзы и Сюнь-цзы — по-разному истолковать «благопристойность»: как внутреннее моральное качество человека и как налагаемую на него извне социальную форму соответственно.
Исходя из признания врожденной доброты человеческой природы (син2), Мэн-цзы утверждал: «Не имеющий отказывающего [себе] и уступающего [другому] сердца — не человек […] Отказывающее [себе] и уступающее [другому] сердце — начало благопристойности». Человеку это начало принадлежит так же, как рука или нога («Мэн-цзы», II А, 6); «Все люди обладают благоговейно-уважительным и почтительно-осторожным (гун цзин) сердцем […] Благоговейно-уважительное и почтительно-осторожное сердце — это благопристойность (ли3) […] Благопристойность (ли3) […] не внедрена в меня извне, она мне исконно присуща» («Мэн-цзы», VI А, 6).
Напротив, доказывая положение об изначальной недоброте человеческой природы, Сюнь-цзы ссылался на то, что человеку от рождения присущи желания и стремления, прежде всего — любовь к пользе-выгоде и плотские страсти, губящие ли3. Правила же ли3 были установлены в обществе древними совершенномудрыми для обуздания злой природы человека («Сюнь-цзы», гл. 23) и являются источником «знаков-культуры» (вэнь) («Сюнь-цзы», гл. 1, 22). Знаменательно при этом, что в определении «ли3» Сюнь-цзы пользовался тем же биномом «гун цзин», что и Мэн-цзы: «Благоговейная уважительность и почтительная осторожность (гун цзин) суть благопристойность» («Сюнь-цзы», гл. 13).
Развивая в самом начале своего сочинения концепцию учения (сюэ) как человекообразующего фактора, Сюнь-цзы утверждал, что таковое должно начинаться с канонов, а завершаться трактатами о благопристойности («Сюнь-цзы», гл. 1). Сам он, как, впрочем, и другие древние авторы, использовал иероглиф «ли3» и для выражения понятия «благопристойность», и для обозначения одноименного трактата или трактатов. Причем в ряде случаев эти смыслы практически невозможно дифференцировать.
Подобное семантическое слияние получило и свое теоретическое оформление. В древнейшем китайском библиографическом каталоге Бань Гу — «Трактате об искусствах и текстах» («И вэнь чжи»)первый раздел, носящий название «Шесть искусств» («Лю и»), посвящен важнейшей канонической литературе. В послесловии к нему развита теория, согласно которой пять канонов — «Юэ» («Музыка»), «Ши» («Стихи»), «Ли» («Благопристойность»), «Шу» («Писания»), «Чунь цю» («Весны и осени») — соответствуют «пяти постоянствам» (у чан) — гуманности (жэнь), должной справедливости (и), благопристойности (ли3), разумности (чжи), благонадежности (синь), а также «пяти учениям» (у сюэ) и «пяти элементам» (у син).
В эпоху Сун (X–XIII вв.) создатели неоконфуцианства стали уделять повышенное внимание категории «ли3» как символу всей конфуцианской традиции. В противовес даосской «Сокровищнице Пути-дао» («Дао цзан») и буддийской «Трипитаке», или «Великой сокровищнице сутр» («Да цзан цзин»), они сформировали собрание основополагающих текстов конфуцианства — «Тринадцатиканоние» («Ши сань цзин»), в состав которого входят уже три произведения, согласно вышеуказанной теории, воплощающих категорию «ли3»: «Чжоу ли» («Благопристойность [эпохи] Чжоу»), «И ли» («Церемониальность и благопристойность») и «Ли цзи» («Записки о благопристойности»).
Особую значимость трактатов о благопристойности также подчеркнули братья Чэн Хао (1032–1085) и Чэн И (1033–1107), выделив из «Ли цзи» две главы — «Да сюэ» («Великое учение») и «Чжун юн» («Срединное и неизменное») в качестве самостоятельных произведений, открывающих «Четверокнижие» («Сы шу»).
В это же время предпринимались попытки вообще выдвинуть «Ли цзи» на первое место среди основных канонов, что сделал, например, Су Сюнь (1009–1065) в «Суждениях о шести канонах» («Лю цзин лунь»)[9].
Аналогичной точки зрения придерживался современник Су Сюня Ли Гоу, который в «Суждениях о благопристойности» («Ли лунь», 1) писал: «Благопристойность — это определитель человеческого Пути (дао), главное в великом учении [конфуцианства]»; «„Гуманность“, „должная справедливость“, „разумность“ и „благонадежность“ суть другие имена благопристойности».
В сунском неоконфуцианстве категория «ли3» получила максимально широкое истолкование, что в своей лапидарной манере выразил его патриарх Чжоу Дуньи: «Принцип называется, благопристойностью» («Тун шу» — «Книга проникновения», § 3), а затем более пространно, как и положено экзегету, кодифицировал Чжу Си: «Благопристойность — это распорядок и знаки (вэнь) небесных принципов. Ведь у всего в Поднебесной есть соответствующий принцип, однако эти принципы не имеют ни фигуры, ни тени. Поэтому, творя определенный знак (вэнь) благопристойности, тем самым очерчивают один небесный принцип, который становится виден людям. Так в учении опираются на циркуль и на угольник. Поэтому и говорится о распорядке и знаках небесных принципов» («Чжу-цзы юй лэй» — «Классифицированные высказывания Учителя Чжу [Си]», цз. 42).
Проделав семантическую эволюцию от «ритуала» к «этике», а точнее, от «этизированного ритуала» к «ритуализированной этике», категория «ли3» в общем смысле стала выражать идею социального, этического, религиозного и общекультурного норматива, вошла в один ряд с такими фундаментальными для китайской философии понятиями, как «гуманность», «должная справедливость», «разумность» и «благонадежность». Однако этим не ограничилось, и уже в древности она онтологизировалась, дойдя до уровня космического дифференциатора и регулятора.
§ 2
Категория «благодать» (дэ): магическая сила и моральный императив
Будучи не просто философским понятием, но и общекультурным символом с религиозно-мифологической аурой — одним из главных конститутивных элементов «китайской идеи», категория «дэ» преисполнена величественной таинственности. Происхождение иероглифа «дэ» восходит к истокам китайской письменности, к гадательным текстам эпохи Шан-Инь (XVI–XI вв. до н. э.). Сущностная связь дэ с фундаментальной для всей китайской культуры мантической практикой отражена, в частности, в термине «Чжоу и» «сы дэ» («четыре благодати»), знаменующем собой четыре основные мантические характеристики гексаграмм. Гадательная практика — это всегда попытка взаимосвязи с высшими, сверхъестественными силами, с эмпирейным миром духов и божеств. Именно такого рода связь и выражал этимон «дэ». В рамках мифологического мышления контакт с высшей силой предполагает овладение ею или, по крайней мере, приобщение к ней. Поэтому в древнейший, дофилософский период своего бытования термин «дэ», подобно океанийской «мане», обозначал и приходящий извне божественный дар, и внутреннюю магическую силу.
Основополагающее свойство этой динамической субстанции, конкретно воплощающей движение «небесного Пути», — способность взращивать, оживотворять, доводить любое явление до максимального развития, предельной актуализации имманентных ему потенций: «Дао рождает, дэ вскармливает» («Дао дэ цзин», § 51). Воздействие дэ на другие объекты, прежде всего на иные его субстантивации, выражающееся в «ответе благодатью на благодать» («Лунь юй», XIV, 34; «Ли цзи», гл. 32/29; «Ши Цзин», II, V, 8, 4, III, III, 2, 6), подчинено капитальному для «коррелятивного мышления» закону бесконтактного дальнодействия, наглядно реализующегося в магнетизме и звуковом резонансе. Классический образ высшей формы человеческого дэ, присущей «единому человеку» (и жэнь) и одновременно «сыну неба» (тянь цзы) — императору, запечатлен в конфуцианском уподоблении последнего Полярной звезде, которая сама по себе неподвижна, но заставляет кружиться вокруг себя все прочие звезды («Лунь юй», II, 1).
Категория «дэ», игравшая важную роль в дофилософском, мифологическом мировоззрении древних китайцев, заняла центральное место в раннечжоуской идеологии X–VII вв. до н. э., отраженной в протофилософских текстах «Шу цзина» и «Ши цзина», а затем с возникновением китайской философии в середине 1-го тыс. до н. э. стала одним из ее наиболее специфичных и конститутивных понятий. В самом общем виде это понятие можно определить как основное качество, обусловливающее наилучший способ существования каждого отдельного явления или присущую ему индивидуальную благодать. Согласно «Ли цзи» (гл. 17/19), «благодать — это завершение (дуань) [индивидуальной] природы (син2)», а по определению Ван Би (226–249) в классическом комментарии к начальному параграфу (чжан1) второй части «Дао дэ цзина» (§ 38), в основном посвященной данной категории, «благодать (дэ) — это достижение (дэ1), постоянное достижение без потерь, получение пользы-выгоды без вреда».
Однако исконное религиозно-мифологическое содержание «дэ» не выгорело в горниле философской рефлексии. Поэтому во множестве своих разносмысленных употреблений в самых разнородных текстах иероглиф «дэ» сочетает в себе признаки трансцендентности и имманентности, объективности и субъективности, чувственности и рациональности, статичности и динамичности, витальности и нормативности, оценочной позитивности и нейтральности и т. д. Все это, разумеется, чрезвычайно затрудняет выработку точной дефиниции «дэ» и соответствующий перевод адекватным термином. Отсюда нередко делается вывод о предпочтительности простого транскрибирования «дэ» и определения его в китайском стиле — через подбор контекстов. Подобный подход может быть даже еще больше усилен ссылкой на Хань Юя (768–824), который назвал «дэ» «пустой позицией» (сюй вэй), т. е. знаком, не имеющим конкретного содержания.
Между тем такого рода абсентеизм противоречит самим основам научной методологии, требующей максимальной отчетливости предмета исследования, что, конечно, не мешает вводить различные допуски дефинитивной точности и ограничения рассматриваемых областей употребления данного термина. С учетом этих оговорок мы продолжаем считать достаточно удачным давно отстаиваемый нами и уже широко распространившийся перевод «дэ» словом «благодать», которое при своей прозрачной двукорневой конструкции без специальных дефиниций выражает как минимум два признака: хорошее качество и данность свыше. Эти признаки «дэ» эксплицитно представлены в китайской литературе определениями посредством знаков «шань» («добрый, благой, качественный») и «дао» («наивысшее благое начало, конкретизирующееся как дэ»).
Критики подобного перевода указывают прежде всего на то, что в отличие от термина «благодать», всегда подразумевающего позитивную оценку своего денотата, дэ может иметь нейтральный (просто «качество») или даже негативный («плохое качество») смысл. Например, в одном из суждений Мэн-цзы под дэ подразумеваются дурные поступки или плохие качества человека, требующие изменения (гай4). («Мэн-цзы», IV А, 14/15; см. также: «Шу цзин», гл. 11, 21/28, 38/46, 39/47, «Ши цзин», III, III, 1, 2; «Ли цзи», гл. 25/22, 28/25; «Цзо чжуань», Вэнь-гун, 18 г., Сюань-гун, 3 г., Чжао-гун, 9 г., 24 г., Дин-гун, 4 г., Ай-гун, 13 г.). Поэтому выдающийся французский синолог С. Куврёр (1835–1919) определил дэ как «доброе или злое расположение души, доброе или злое поведение»[10].
Эта проблема носит общий характер, поскольку практически все термины традиционной китайской философии, будучи и по происхождению, и по функциям словами естественного языка, совмещают в себе дескриптивное содержание с оценочностью и нормативностью (прескриптивностью). Баланс того и другого смысловых компонентов может быть различным: один, как правило, доминантный, а другой — рецессивный. В случае с дэ явно доминирует позитивная оценка денотата в отличие, например, от синонимичного ему в обозначении пяти первоэлементов термина «син» («у дэ» = «у син»), который имеет основной нейтральный смысл «дело-действие» и оценочный обертон «хорошее дело-действие» (проявляющийся, например, в одобрительном и порицательном выражениях «это дело!» и «это не дело!»). Кстати, иногда в предлагаемом вместо «благодати» на роль русскоязычного эквивалента «дэ» как будто бы нейтральном термине «качество» также присутствует позитивная оценка (ср. «знак качества», «качественный продукт»). Однако соотношение дескриптивности и оценочности здесь прямо противоположно ситуации с китайским «дэ», что явно мешает признать «качество» Вполне достойным его семантическим эквивалентом.
Что же касается «негативных благодатей», хотя и нечасто, но встречающихся в китайских текстах, то, с одной стороны, их негативность передается с помощью соответствующих эпитетов, сопровождающих знак «дэ» и свидетельствующих тем самым максимум об оценочной нейтральности последнего, ибо в противном случае в специальных эпитетах не было бы нужды, а с другой стороны, эта проблема уже относится не столько к семантике, сколько к прагматике, т. е. к плюрализму точек зрения, в рамках которого дэ, будучи индивидуальным качеством, — относительно (в отличие от всеобщего и потому абсолютного дао), а следовательно, являясь благодатью для одних, может оцениваться как неблагое другими. К примеру, для даосского персонажа разбойника Чжи (см. «Чжуан-цзы», гл. 29) его немеренная физическая сила — благодать, а для попавших в его руки жертв, чью печень он пожирает, — антиблагодать (ср. «несовместность» гения и зла, но допустимость «злого гения»).
С последним примером связано второе принципиальное возражение против идентификации дэ с благодатью. Область определения «дэ» включает в себя всю сферу материальных объектов, а «благодать» вроде бы относится только к духовной сфере. Но и это не так. В самом широком смысле «благодатью» может быть названо любое природное явление, в том числе самое что ни на есть материальное (ср. «всякую земную благодать», сопоставимую с употребляемой в пищу «ди дэ» — «земной благодатью» («Хуайнань-цзы», цз. 2), и «благодатство», т. е. «богатство»).
Так же обстоит дело и с фундаментальным для всей западной культуры древнегреческим аналогом «благодати» — термином «charis», в русском языке известным по своим производным «харита» и «харизма». В обычном употреблении это слово может быть отнесено ко всяким чувственно привлекательным предметам и реалиям материального мира, собственно, поэтому хариты суть богини физической красоты. Более того, для европейской античности характерно допущение предельной сенсуализации и материализации «благодати», распространяемой на ту же сферу плотских проявлений, которая соответствует эротическому смыслу дэ. Достаточно сравнить трактовку подъятого уда как признака «полноты дэ» в «Дао дэ цзине» (§ 55) с определением того же самого в «Сатириконе» Петрония как «дара благодати»[11].
Однако в христианском контексте слово «charis» постепенно терминологизировалось как обозначение спасающей падшего человека всемилостивой силы божьей. Наличие этого смысла у «благодати» служит третьим аргументом против использования данного термина для перевода иероглифа «дэ». На это можно возразить, что в принципе никакие столь общие категории предельно различных культур, тем более представленные исторически выделенными, глубоко «укорененными» словами естественного языка, не могут совпадать друг с другом во всех присущих им специальных терминологизированных значениях. Вполне достаточно и тождественности основного, «ядерного» смысла. Да и сам китайский контекст способен весьма эффективно отсекать ненужные семантические коннотации.
Вместе с тем ореол религиозного термина у «благодати» в самом общем виде, т. е. без христианизирующей смысловой конкретизации, является в рассматриваемом аспекте как раз положительным фактором, поскольку категория «дэ», обладая безусловным философским статусом, и своим происхождением, и дальнейшим функционированием неразрывно связана с религиозно-мифологическим сознанием. «Дэ», охватывающий все разновидности благодати, — основополагающий термин в религиозных ипостасях и всех автохтонных китайских учений (прежде всего конфуцианства и даосизма), и тех, что проникли в Срединную империю извне (прежде всего буддизма и христианства). Весьма выразительно, в частности, буддийское наименование свастики как «знака благодати» (дэ цзы), свидетельствующее не только о максимальной смысловой широте, но и о символической природе категории «дэ».
Не беря на себя непосильную задачу отразить весь широчайший спектр лексических и терминологических значений «дэ», далеко выходящих за границы сугубо философских построений, мы далее постараемся продемонстрировать центральную философскую коллизию в разнообразных трактовках этих категорий — между ее даосской «архаизацией» как витальной силы («темной-таинственной благодати» — сюань дэ) и конфуцианской «модернизацией» как нравственной нормы («светлой-общепонятной благодати» — мин дэ) в контексте исторической эволюции от «размытого» выражения мистической созидательной потенции и гармонизирующей симпатии к абстрактному обозначению универсальной моральной императивности, т. е. от магии и мантики через онтологию и космологию к этике и моральной метафизике.
Подобно тому как в театре короля играет его свита, в китайской классической философии смысл каждой фундаментальной категории раскрывается кругом коррелятивных понятий. Особенности категориальной системы китайской философии, построенной на полисемантической лексике естественного языка и весьма специфической методике определений, в корне отличной от западных родо-видовых дефиниций, требуют для установления смысла «дэ» обратиться к его анализу с обязательным привлечением ближайших понятий.
Категория «дэ» — одна из самых оригинальных в лексиконе традиционной китайской философии, не имеющая точного терминологического эквивалента в западных языках. Наиболее распространены следующие переводы: рус. — закономерность, манифестация (дао), (постоянные) свойства, (хорошие) качества, дарования, добродетель, достоинство, достижение, достояние, доблесть, благотворение, потенция, способность, энергия, сила; англ. — virtue, character, (moral) power, moral force, particular focus (outlawing) operation (of the Tao), exemplification of Tao; фр. — vertu bienfaisance, bonté, efficience; нем. — Lebenskraft.
Сами китайские ученые определяли эту категорию посредством графически схожего омонима «дэ1»(«достижение», «довление», см. «Ли цзи», гл. 17/19), а также синонимичных иероглифов «шэн3» и «дэн» («подъем», вознесение, «повышение», что в целом соответствует ее пониманию как «усиленного стремления вперед» в первом в Китае полном толково-этимологическом словаре начала II в. «Шо вэнь цзе цзы» — «Изъяснение знаков и анализ иероглифов»). В указанных древнейших определениях отражен этимологический смысл знака «дэ», восходящий к эпохе Шань-Инь (XVI–XI вв. до н. э.) и заключенный в его центральном графическом элементе, который изображает глаз с идущим из него вверх лучом, что означает взор, обращенный к небесному божеству, вышнему источнику всякой благодати.
После проникновения буддизма в Китай иероглиф «дэ» был использован для передачи санскритского термина «гуна» — «качество», «субстанциальное свойство» (букв. «нить»). Данная идентификация приоткрывает два важных аспекта в семантике «дэ»: во-первых, совмещение статики с динамикой, поскольку гуна — единство субстанции и силы; во-вторых, этическую нейтральность, т. е. возможность характеризовать как положительные, так и отрицательные качества, поскольку гуны образуют и активное положительное (саттва), и пассивное отрицательное (тамас) начала.
Западные синологи нередко проводят аналогию «дэ» с первобытным представлением о безличной сверхъестественной силе — мане (М. Гране, Г. Кёстер, В. Эберхард, А. Уэйли, П. Будберг, Д. Манро), соотносят его с индийской идеей кармы (А. Уэйли) или отождествляют с латинским термином «virtus» (А. Уэйли, Дж. Нидэм, Д. Робинсон). При этом, однако, Д. Робинсон отмечает, что понятие «дэ» исключает какое бы то ни было насилие[12], чему действительно можно найти много подтверждений в высказываниях китайских философов («Лунь юй», II, 1, XII, 19, XIV, 33; «Дао дэ Цзин», § 38, 51; «Гуань-цзы», гл. 49; «Хань Фэй-цзы», гл. 20). А между тем — прежде всего воинское мужество, храбрость, стойкость, доблесть, геройство, т. е. как раз то, что весьма тесно связано с насилием; Virtus — богиня воинской доблести. В русском языке «насильственную» семантику этого термина представляет однокоренное с ним слово «вира» — «штраф за убийство» (ср. др. — инд. «vāiram» — «вира», «вражда»).
В связи с отождествлением «дэ» и «virtus» П. Будберг отмечал: «Филологов, однако, беспокоит отсутствие у китайского термина каких-либо дополнительных значений, принадлежащих латинскому этимону vir, а именно: „мужественности“ и „мужества“. Они напоминают нам, что термин „дэ“ свободен от какой-либо связи с сексуальными ассоциациями и отличается этим от парного ему термина „дао“. Путь, который в одном или двух выражениях, таких, как „жэнь дао“ („путь мужчин и женщин“), внушает мысль о сексуальной активности»[13].
Безусловно, понятие «дэ» само по себе не обладает сексуальным смыслом. Однако в даосизме оно распространялось и на эту сферу человеческого бытия, в частности, была принята концепция непосредственной связи между дэ и цзин2 (специфическая категория традиционной китайской идеологии, одновременно обозначающая и дух, и семя). Так в упомянутом § 55 «Дао дэ цзина» «объемлющий полноту дэ» сравнивается с младенцем, которому «неведомо соитие самки и самца, но детородный уд которого подъят, что означает предельность цзин2». А в гл. 20 «Хань Фэй-цзы», где комментируется текст «Дао дэ цзина», сказано: «Для тела (шэнь) накопление цзин2 является благодатью (дэ)».
Таким образом, в целом верное рассуждение П. Будберга требует уточнения. Прежде всего следует разграничить два смысла определения «сексуальный»: 1) присущий одному из полов в отличие от другого; 2) связанный с отношениями двух полов. В приведенной цитате П. Будберг говорит об отсутствии сексуальных ассоциаций у дэ в первом смысле и о наличии таковых у дао — во втором. Но в первом смысле лишено сексуальных ассоциаций и дао, которое поэтому может рассматриваться и как мужской, и как женский предок всего сущего (см., например, «Дао дэ Цзин», § 4, 25), являясь собственно единством мужского (ян) и женского (инь) начал (см. «Си цы чжуань», I, 4/5). Второго же смысла не исключает и категория «дэ». Это явствует из ее связи с «семенем» (цзин2), из определения рождения-жизни (шэн) как «великой благодати (дэ) неба и земли» в «Чжоу и», где говорится и о «соединении [„разнополых“ сил] инь и ян» («Си цы чжуань», II, § 1,5/6), а также из того, что даже разврат (цзянь) мог квалифицироваться китайскими мыслителями как дэ.
Особый случай половой дифференциации — соответствующее сопоставление дао и дэ, в котором первая категория, как иерархически более высокая, естественным образом занимает мужскую позицию, а вторая — женскую. Так, в гл. 41/44 «Ли цзи» («Брачный долг» — «Хунь и») сказано: «Сын неба полагает принципы (ли) мужского Пути (ян дао), [его] супруга упорядочивает (чжи8) женскую благодать (инь дэ)». В подобной диспозиции «дэ» выступает прямым антонимом «virtus».
В отечественной синологии имела место и полемика по поводу отождествления даосской категории «дэ» с другим понятием классической европейской философии. Несмотря на существование таких дэ, как разврат и разбой, Л.Е. Померанцева, проводя аналогию между «дэ» и греческим термином «agathon» («благо»), указала на понятийную близость даосского «дэ» и платоновского «блага»[14]. Ей возразила Т.П. Григорьева, которая сформулировала два контраргумента. Согласно первому, греческое благо — абсолютное положительное начало, тогда как дэ может быть большим или меньшим, лучшим или худшим (примечательно, что Т.П. Григорьева ссылалась на те же тексты Платона, что и Л.Е. Померанцева); согласно второму, «даосы в принципе, по самой своей сути, не могли назвать „дэ“ „благом“, поскольку избегали называть вещи именами»[15].
Эти доводы выглядят неубедительными. По поводу первого аргумента необходимо заметить, что в даосизме дэ само по себе столь же абсолютно благостно, как и благо Платона; другое дело, что оно может в большей или меньшей степени присутствовать в отдельных вещах, но и солнцеподобное благо в разной степени одаряет своим светом различные вещи. Что же касается второго аргумента, то речь идет не о наименовании объекта дэ термином «благо», а о наличии у термина «дэ» смысла «благо»; к дэ как объекту даосы во множестве прилагали не менее «сиятельные» эпитеты, чем Платон — к благу.
Вместе с тем нельзя не указать и на принципиальные различия между дэ и платоновским благом. Во-первых, благо у Платона — наивысшее беспредпосылочное начало, тогда как дэ вторично, ибо имеет в качестве своей предпосылки дао; появляясь «после» (хоу) него и взращивая порожденное им («Дао дэ Цзин», § 38, 51). В этом отношении более близки дао и благо: оба они отождествляются с Единым и представляются дающими существование всем вещам.
Во-вторых, благо — абсолют в единой иерархии логически упорядоченных понятий (благо само по себе — идея), поэтому его различные воплощения непротиворечивы; дэ — собирательный образ всего множества разнонаправленных сил, действующих в плюралистическом мире, поэтому различные его воплощения противоречивы и способны приходить в столкновение друг с другом. Сочетание «у дэ» («пять благодатей») было использовано Цзоу Янем (IV–III вв. до н. э.) как синоним «у син» («пять элементов»), и с того времени за ним закрепилось данное значение. Идентификация «пяти благодатей» с «пятью элементами» совершенно очевидно обнаруживает их динамически-силовой аспект (ибо «у син» — «пять действий»), а также сложную гамму отношений друг с другом в амплитуде от взаимопорождения (сян-шэн) до взаимопреодоления (сян-шэн1), или взаимопокорения (сян-кэ). То, что для конкретного индивида является его «частным», «отдельным» «пристрастным» дэ (сы дэ, ли дэ, би дэ) — например, незаконное обогащение или прелюбодеяние — с точки зрения «одинакового», «единого», «правильного», «общего» «светлого» дэ (тун дэ, и дэ, чжэн дэ, гун дэ, мин дэ) оценивается как «нечестивое», «темное», «слабое», «дряхлое», «беспорядочное», «злое», «низкое», «ничтожное», «неистовое», «порочное», «варварское», «плохое» дэ (сюн дэ, хунь дэ, лян дэ, шуай дэ, луань дэ, бао дэ, ся дэ, сяо дэ, тао дэ, хуй дэ, и дэ1, э дэ). Таким образом, все дело состоит в различии точек отсчета.
В-третьих, благо телеологично, а дэ — детерминистично (к примеру, в «Чжуан-цзы» (гл. 4) говорится: «Знать, что тут ничего не поделаешь, и спокойно принимать это как предопределение (мин1) есть предел дэ»).
Поскольку специфику человека китайские мыслители усматривали в способности придерживаться должной справедливости — и и благопристойности — ли3, его дэ они в основном понимали как добродетель. Но в принципе и применительно к человеку категория «дэ» могла употребляться в самом общем смысле, т. е. означать, допустим, высокий рост, дородность и красоту в ситуации, где для жизнедеятельности индивида наиболее ценным оказывалось именно это.
Из категорий древнегреческого философского лексикона с дэ может быть сопоставлена «aretẽ» («добродетель»), тем более что взаимосвязь между благом и добродетелью (например, в учении Платона) имеет определенное сходство с взаимосвязью между дао и дэ (как она представлена, например, в «Дао дэ цзине» и «Да сюэ»).
Что же касается широты понятия дэ, далеко выходящего за рамки этического, то понятие «aretẽ» и в этом ему мало чем уступает. «Надо сказать между тем, — учил Аристотель, — что всякая добродетель и доводит до совершенства то, добродетелью чего она является, и придает совершенство выполняемому им делу. Скажем, добродетель глаза делает доброкачественными (spoydaios) и глаз, и его дело, ибо благодаря добродетели глаза мы хорошо видим. Точно так же и добродетель коня делает доброго (spoydaios) коня, хорошего (agathos) для бега, для верховой езды и для противостояния врагам на войне» («Никомахова этика», II, 5 (VI), 133, 16–21)[16]. Пример с «добродетелью коня», заимствованный Аристотелем у Платона («Государство», кн. 1, 335 в)[17], весьма схож с рассуждением Конфуция о «добродетели» (дэ) лихого скакуна («Лунь юй», XIV, 33).
Подобно китайским философам, видевшим в дэ атрибут неба (тянь дэ) или неба и земли (тянь ди чжи дэ), т. е. Природы и космоса (см., например: «Чжуан-цзы», гл. 12, 13, 15; «Ли цзи», гл. 7/9), стоики рассматривали добродетель в общекосмическом плане: «В самом деле, нет ничего совершеннее мироздания, нет ничего лучше добродетели, следовательно, добродетель — принадлежность мироздания» (Цицерон. «О природе богов», II, 14)[18]
Сближает дэ с aretẽ и присущий им телесный характер: в «Кинегетике» Ксенофонта говорится о «теле добродетели» («sõma aretẽs»)[19], а в «Ли цзи» — о «добродетели, пропитывающей тело» (дэ жунь шэнь) (гл. 39/42 = «Да сюэ», II, 6) и том, что «добродетель (дэ) — это достигаемое (дэ1) в теле (шэнь)» (гл. 42/45). Дэ представляется «пропитывающей» субстанцией, поскольку ее символ (сян) — вода («Дао дэ цзин», § 8; «Чжуан-цзы», гл. 15).
В целом такие телесные качества, как острота чувств, сила, красота и здоровье, были выделены древнегреческими философами в категорию врожденных «естественных добродетелей» (см., например: Марин. «Прокл, или О счастье», З[20]). В китайской философии естественность дэ определялась как «несодеянность» (у вэй) и «небесность» (тянь): «То, чем деется несодеянное, называется небом; то, о чем речется как о несодеянном, называется благодатью» («Чжуан-цзы», гл. 12).
Отличает же «добродетель»-aretẽ от «дэ» то, что роднит ее с «virtus», а именно семантика, связанная с насилием, — «доблесть», «геройство», «мужество». Описывая словами Сократа одну из добродетелей — мужество, Платон как самоочевидную истину выдвигает положение: идти на войну — прекрасно и хорошо («Протагор», 359 е)[21]. Впрочем, и у дэ есть связи с мужеством, хотя, видимо, только моральным: «Знание, гуманность и мужество (юн) — это три способа, которыми в Поднебесной проводится добродетель (дэ)» («Чжун юн», § 20).
О том, что здесь скорее всего подразумевается не военное или физическое мужество, свидетельствуют и контекст (сочетание с гуманностью и знанием), и положения других конфуцианских памятников. Например, в «Го юй» («Государственные речи», IV–III вв. до н. э.) при обсуждении военных действий говорится, что «мужество (юн1) противоречит добродетели (дэ)» (цз. 21).
Поэтому кажется оптимальным переводить «дэ» словом «благодать», имея в виду, что дэ — нечто данное от дао, сопоставимого с благом. Хотя к дэ неприменимо европейское противопоставление «благодать — природа», ибо оно природно, т. е. «порождаемо Небом» (см., например, «Лунь юй», VII, 23/24), оппозиция небесного (естественного) дэ и человеческого искусственного, в особенности административно-правового закона фа в принципе соответствует европейскому противопоставлению закона и благодати (ср.: «Слово о законе и благодати»). Уже Конфуций сформулировал тезис, основанный на подобном противопоставлении: «Если осуществлять Путь (дао) посредством администрирования и наводить порядок посредством наказаний, то народ будет [их] избегать и лишится стыда. Если же осуществлять Путь (дао) посредством благодати (дэ) и наводить порядок посредством благопристойности (ли3), то народ будет иметь стыд и будет выправлен» («Лунь юй», II, 3).
В основополагающей для легизма «Книге правителя [области] Шан» («Шан-цзюнь шу», гл. 7) причинно-следственная связь между методом управления и характером народа перевернута, но сама оппозиция закона и благодати играет точно такую же роль: «В древности народ был прост и оттого искренен, ныне народ ловок и оттого лукав. Поэтому, соответствуя древности, устанавливают порядок на основе благодати, а соответствуя современности, осуществляют закон на основе наказаний».
Приведенная цитата демонстрирует еще один семантический оттенок «дэ» — как антонима «и5» («искусство», «ремесло»), а именно связь с безыскусностью, простотой, естественностью, органичностью. Прямое противопоставление «дэ — и5» содержится в гл. 17/19 «Ли цзи»: «Совершенство благодати (дэ) — верхнее, совершенство искусства — нижнее». Понятно, что правовые нормы, в особенности с наказующим уклоном, оказывались в ином ассоциативном ряду — в сфере искусственности и неорганичности.
С подобным противопоставлением в китайской классической философии связано конфуцианско-легистское размежевание по признаку ориентации на этико-ритуальную «благопристойность» (ли3) либо на политико-юридический «закон» (фа). Конфуцианский приоритет благопристойности как главной социальной нормы и соответствующего управления людьми посредством дэ вытекает из утвержденного Мэн-цзы тезиса об исконно доброй (шань) природе человека, а противоположная позиция легистов, отдавших приоритет закону и соответствующему управлению людьми посредством наказаний и наград, обусловлена близостью к выдвинутому Сюнь-цзы тезису об исконно злой (э) природе человека. В данном случае действительно метод — управление людьми согласно благодати (дэ) — стал аналогом предмета — доброты человеческой природы.
Собственно, об оценочно-позитивном смысле и «дао», и «дэ» в самом общем виде свидетельствует их взаимосвязь с категорией «шань» («добро»). Универсальное описание мирового процесса как Пути-дао, атрибутом которого является добро-шань, содержится в философской части «Чжоу и»: «Одна инь, один ян — это называется Путем (дао). Продолжение этого есть добро (шань)» («Си цы чжуань», I, 4/5). В свою очередь, прямые свидетельства о понимании дэ как конечного модуса добра-шань, мыслимого в качестве «продолжения дао», встречаются в других канонических произведениях, в частности в «Шу цзине» (гл. 3): «Благодать (дэ) — это управление, [основанное на] добре (шань)» и в «Ли цзи» (гл. 17/19): «Если музыка добра (шань), то действия (син) сообразны (сян) благодати (дэ)». В «Чжуан-цзы» (гл. 7) «шань» прямо синонимизируется с «дэ» в притче о владыке Центра — Хаосе, чье гостеприимство сначала называется «добротой» (шань), а затем «благодатью» (дэ), и в предшествующей истории о Ле-цзы, где «пружина» (цзи4) жизненной силы определяется и как «благодатная», и как «добрая».
Вместе с тем очевидная взаимосвязь дэ с добром-шань может быть правильно понята лишь с учетом вышеуказанной широты семантики иероглифа «шань», далеко выходящей за пределы этики и проникающей в эстетическую (со значением «красота» — ср. «добрый молодец»), праксиологическую (со значением «умелость» — ср. «добрый мастер») и другие нормативно-оценочные сферы. К примеру, Конфуций называл «добрым» (шань) все то, чему можно научиться («Лунь юй», VII, 21/22), т. е. именно нормативное и ценное в самом широком смысле.
В китайской культуре данный лингвистический факт находится в полном соответствии с философским толкованием «шань» как универсальной (а не специфически этической) нормативно-оценочной и вместе с тем онтологической категории. Именно поэтому в процитированном пассаже «Чжоу и» («Си цы чжуань», I, 4/5) «добро» названо «оформляющимся» (чэн1) в индивидуальную природу (син2) «продолжением» (цзи12) Пути-дао, что пояснялось Чжу Си: «В плане неба и земли добро — предшествующее, а [индивидуальная] природа — последующее» («Чжу-цзы юй лэй», цз. 5). Дай Чжэнь же, трактуя «продолжение» как «отношение человеческого существа к небу и земле», определял «добро» с помощью еще одного набора терминов из «Чжоу и» (гексаграмма № 1, «Вэнь янь чжуань» — «Предание знаков и слов») — «срединное и правильное, чистое и рафинированное» и уточнял, что «добро каждого дела означает его согласованность (хэ1) с небом» («Мэн-цзы цзы и шу чжэн» — «Смысл терминов „[Трактата] Учителя Мэна“ в истолковывающих свидетельствах», цз. 3). Следовательно, такова же и доброта дэ, выступающего в качестве формообразующего начала, превращающего хаос в порядок. Согласно такому пониманию в «Записках о музыке» («Юэ цзи», гл. 17/19 «Ли цзи») музыка (юэ1) определяется как «благодатные звуки» (дэ инь).
«Дэ» принадлежит к числу не только древнейших категорий китайской философии, но и вообще древнейших слов китайской письменности. Соответствующий иероглиф встречается уже в иньских надписях на гадательных костях — самых древних образцах китайской письменности (вторая половина 2-го тыс. до н. э.). Разумеется, философский статус термин «дэ» приобрел лишь с возникновением философии как таковой. Однако этому этапу семантической эволюции дэ от магико-природной силы до морально-метафизического императива предшествовал, так сказать, пренатальный период, отраженный в двух важнейших протофилософских произведениях, канонизированных конфуцианством, — «Шу цзине» и «Ши цзине». Специальное исследование шести важнейших конфуцианских категорий, включая дэ, дао и тянь («небо»), в этих двух памятниках осуществил финский синолог П. Никкила, пришедший к следующим выводам.
Сначала на основе строгого текстологического анализа наиболее репрезентативного для первоначального конфуцианства памятника «Лунь юй» ученый выделил шесть ключевых категорий: тянь — «небо», дэ — «добродетель» («благодать»), дао — «путь», ли3 — «обряды» («благопристойность»), и — «справедливость» («долг»), жэнь — «доброта» («гуманность»). Конкретное изучение всех употреблений данных терминов в произведениях, наиболее адекватно представляющих доконфуцианскую идеологию эпохи Чжоу (XI–VII вв. до н. э.), т. е. в «Шу цзине» и «Ши цзине», должно, по замыслу П. Никкилы, дать ответ на вопрос: построил ли с их помощью Конфуций новую идеологическую систему (философию)?
В итоге детального разбора контекстов «Шу цзина», включающих интересующие нас термины, автор предложил такую генерализацию их значений. Дэ — главная добродетель в чжоуской мысли, унаследованная из древности (по крайней мере, от эпохи Инь, XVI–XI вв. до н. э.) и выражающая принцип гармонизации как общества, так и всего универсума. Дао означает «поведение» или «продвижение», а также Путь государя и Неба. Тянь — Небо, дающее начало всем вещам и принципам, направляющее ход истории посредством добродетельных (дэ) государей, за чьими действиями оно наблюдает глазами народа. Если правящая власть приобретает аморальные черты и тем самым вносит в мир дисгармонию, Небо восстанавливает порядок, сменяя правителя (династию) или, как в случае с династией Чжоу, пуская в ход воспитующие и наказующие меры.
В «Ши цзине» разбираемые термины фигурируют в иных значениях. Дэ там — добродетель государя, беспристрастного, заботящегося о жертвоприношениях, служащего образцом для народа, объединяющего империю и распространяющего на нее эту свою добродетель; внутри семьи супружеская верность и сыновняя почтительность. Дао по большей части — просто дорога. Тянь — невыразимая грандиозная и величественная сила, создавшая мир, народ и этические ценности, использующая государей и их чиновников для управления миром.
Важнейшим результатом тщательного исследования П. Никкилы стало установление двух фактов; с одной стороны, появлению конфуцианства (VI–V вв. до н. э.) предшествовал двухвековой период упадка чжоуской идеологии, а с другой стороны, в обеих идеологических системах ключевыми были понятия «тянь» и «дэ».
§ 3
Категории «путь» (дао), «орудийные предметы» (ци2) и «великий предел» (тай цзи): синергия неба и человека в благом абсолюте
Теснейшим образом примыкающей к дэ в ее «ближнем круге» является, несомненно, категория дао. Собственно говоря, эти категории в паре могут выступить в качестве предельно обобщенного определения всего содержания китайской классической философии, наподобие того, как всю западную философию можно считать совокупностью «физики» и «метафизики» или «теоретической» и «практической» философии. В высшей степени показательно, что самый глубокий трактат «золотого века» китайской классической философии, т. е. периода формирования ее внутренней парадигмы, озаглавлен с помощью этих двух категорий. Речь идет о «Дао дэ цзине».
Любопытно, что в его древнейшем списке (II в. до н. э.), найденном в кургане Мавандуй близ города Чанша (пров. Хунань), тематическое деление на две части противоположно традиционному, т. е. текст представляет собой «Канон дэ и дао», а не «дао и дэ». Случайно или нет, но подобная архитектоника соответствует историческому приоритету дэ как основополагающей категории идеологии и культуры Древнего Китая. В ходе дальнейшей эволюции теоретический приоритет перешел к термину «дао», прочно занявшему первое место в сочетании «дао дэ». При этом следует иметь в виду, что корреляция дао и дэ носит более сложный характер, нежели, например, антонимичных инь и ян. Элементы последней пары выводимы друг из друга (т. е. редуцируемы до одного репрезентанта), а дао и дэ — нет.
Иероглиф «дао» («путь», «подход», «график», «функция», «метод», «закономерность», «принцип», «класс», «учение», «теория», «правда», «мораль», «абсолют», англ. «way (of action)», «road», «path», «reason», «principle», «truth», «doctrine», «teaching», «absolute», фр. «voie (du devoir)», «foute», «moyen», нем. «Sinn») этимологически восходит к идее главенства (шоу) в движении-действии-поведении (син). Помимо дэ ближайшая к дао коррелятивная категория — ци2 («орудийный предмет»). В современном языке бином «дао-дэ» означает «мораль», «нравственность». Термином «дао» передавались, в Китае буддийские понятия марга (mārga) и патхи (pathi), выражающие идею пути и способа, прежде всего четвертой «благородной истины» и «восьмеричного пути», а также бодхи (bodhi) — «просветление», «пробуждение». Эквивалентами дао часто признаются Логос и Брахман. Иероглиф «дао» входит в обозначение ведущих направлений китайской философии — даосизма (дао цзя, дао цзяо; зап. — европ. taoism) и неоконфуцианства (дао сюэ). В «Мо-цзы» (гл. 39) «учением о дао» (дао цзяо), в «Чжуан-цзы» (гл. 33) «искусством (техникой) дао» (дао шу) названо и первородное конфуцианство.
В качестве высшей категории в различных философских системах дао определялась по-разному, поэтому предшественник неоконфуцианцев Хань Юй в специальном эссе «Юань дао» («Обращение к началу Пути») назвал ее, как и дэ, «пустой позицией», не имеющей точно фиксированного смысла. По-видимому, в этой особенности заключено объяснение того странного факта, что не обладающий, согласно исследованию А.М. Карапетьянца, «никаким специфически конфуцианским значением» термин «дао»[22] использовался современниками первородного конфуцианства (по крайней мере монетами и даосами) как его определение. Здесь же находит подтверждение и предположение П. Никкилы, что серьезное различие в семантике «дао», прослеживаемое в текстах «Шу цзина» и «Ши цзина», продолжалось и в разных осмыслениях этого термина разными философскими школами.
В отличие от неантонимичной парности дэ и дао, другой коррелят последнего — ци2 — ему противопоставляется. Термин «ци2» («орудийный предмет», «конкретное явление», «способность») первоначально обозначал (ритуальные) сосуды и (ремесленные) орудия, поэтому с ним связаны идеи специализации и полезности (ли2), в частности культовой утилитарности и ремесленно-военной «остроты» (другое значение «пользы-выгоды» ли2) инструментов и оружия (см. «Лунь юй», XV, 10; «Си цы чжуань», I, 10/11; «Дао дэ цзин», § 11, 29, 36; «Мэн-цзы», V Б, 4). Стремление показать, что всеобщность стоит превыше любых конкретных способов ее реализации, привело первых китайских философов к противопоставлению ци2 («орудийных предметов» и обусловленных ими специальных способностей) как универсальности (чжоу) «благородного мужа» («Лунь юй», II, 12, 14), так и «первозданной простоте» (пу) мироздания («Дао дэ цзин», § 28). Последняя в «Дао дэ цзине» выступает ипостасью дао, которое тем самым становится в оппозицию «орудийным предметам» (§ 15, 28, 32, 37, 80). В качестве же «отсутствия-небытия» (y1) дао определяет главную функцию ци2 как сосуда — способность вмещать в себя (§ 11), т. е. ци2 представляется орудием дао. Фундаментальная оппозиция «дао — ци2» («Путь — орудийные предметы») терминологически была впервые оформлена в «Си цы чжуани» (I, 12).
Уже в «Шу цзине» термин «дао» обрел абстрактные значения «поведение», «продвижение», «путь государя и Неба» и был соотнесен с «дэ» — также достаточно абстрактным выражением социальной и космической гармонии (гл. 3, 36/44, 44/52). С самого возникновения китайской философии центральным для нее стал вопрос о соотношении человеческого и небесного, т. е. общеприродного, дао. (В узком понимании «небесное дао» означало ход времен или движение звезд с запада на восток в противоположность движению Солнца с востока на запад.) Конфуций сделал дао и дэ основополагающими философскими категориями, сосредоточившись, однако, на их человеческих, а не на небесных ипостасях, которые взаимосвязаны, но могут проявляться и независимо друг от друга («Лунь юй», V, 12/13, XII, 19).
Он конкретизировал дао в различных наборах понятий: сыновняя почтительность и братская любовь («Лунь юй» I, 2), верность (чжун1)и взаимность (шу1), т. е. «золотое правило» морали (IV, 15), гуманность (жэнь), знание и мужество (XIV, 28), собственное достоинство, уважительная осторожность, милостивость и должная справедливость (V, 15/16), правильные телодвижения, выражения лица и речь (VIII, 4).
В общем смысле дао в «Лунь юе» — благой ход общественных событий и человеческой жизни, зависящий как от предопределения (мин1) (XIV, 36/38), так и от отдельной личности (XV, 29). Его носителем выступает индивид, государство, все человечество (Поднебесная), эпоха (см., например: IV, 15, VIII, 13, XV, 25). В силу различия носителей различны и их дао (XV, 39/40): прямое и кривое (XVIII, 2), большое и малое (XIX, 4), присущее «благородному мужу» (цзюнь цзы) и «ничтожному человеку» (сяо жэнь) (XVII, 4).
Соответственно разнятся и дэ (XIX, 11). Благодать изреченна, более того, она родит дар слова (XIV, 4/5), состоит в верности, благонадежности (синь2) и должной справедливости (XII, 10), противостоит прельщающей внешности (цветовому образу — сэ) (IX, 17/18, XV, 12/13; ср. «Ши цзин», III, I, 7, 7) и почвенной закоренелости (ту) (IV, 11). Благодатью следует отвечать на благодать, а не на вражду (XIV, 34/36), что согласуется с мыслью «Ши цзина» (III, III, 2, 6): «Нет безответной благодати». В отношениях же между разными дэ благодать «благородного мужа» доминирует над благодатью «ничтожного человека», как ветер — над травой (XII, 19). Идеальна гармония между благодатями правителя и подданных, подчеркиваемая главным тезисом «Да сюэ» об общественном благоустройстве как «выявлении (буквально: высветлении. — А.К.) светлой благодати (мин дэ) в Поднебесной», которое предполагает предварительное духовное и телесное совершенствование личности.
Последователи Конфуция и представители других школ универсализировали концепцию двух главных видов дао и дэ, различая также дао порядка (чжи8) и смуты, древнее и современное, правильное и ложное, гуманное и негуманное и др., а кроме того, всеобщее и индивидуальное дао (см., например: «Мэн-цзы», III Б, 2; IV А, 2; VII Б, 16/17; «Хань Фэй-цзы», гл. 20). Согласно «Лунь юю», Поднебесная может вообще утрачивать дао (III, 24; VIII, 13; XVI, 2), но утрата дао людьми не оправдывает их казней (XII, 19). В идеале единое дао (IV, 15) должно быть познано. Его утверждение в мире исчерпывает смысл человеческого существования (IV, 8); при отсутствии дао в Поднебесной следует скрываться, отказываться от службы (VIII, 13, XV, 6/7).
Уже ближайшие ученики Конфуция придали высшей ипостаси дао (великое — да дао, всепроникающее — да1 дао) универсальный онтологический смысл. В «Чжун юне» дао «благородного мужа» или «совершенномудрого» определяется как исходящая из индивида общекосмическая сила — «упрочивающаяся на небе и земле», «основывающаяся (чжи2) на навях и духах» (§ 29), приводящая к благодати — дэ (§ 33). Подлинность (искренность — чэн) составляет небесное, а ее осуществление — человеческое дао (§ 20). Обретший предельную подлинность способен образовать триединство с небом и землей (§ 22). Дао неба и земли «недвойственно» по отношению к вещам и «неизмеримо» в их порождении (§ 26).
Апогея подобная онтологизация дао достигла в творчестве создателя первой официальной и ортодоксальной версии конфуцианства Дун Чжуншу, который выдвинул тезис: «Великий исток Пути-дао исходит из Неба» — и в соответствии с принципом «подобия (ю3) телесной личности Небу» и «единства Пути» (дао и) Неба и человека определил: «Следование небесному Пути (тянь дао) для пестования телесной личности называется Путем-дао» («Чунь цю фань лу», цз. 10, гл. 35, цз. 16, гл. 77). Последний также представляет собой «дорогу, по которой приходят к порядку (чжи8), используя в качестве средств (цзюй3) гуманность и должную справедливость, благопристойность и музыку» («Дун Чжуншу дуй цэ и» — «Первый ответный Доклад Дун Чжуншу»).
В свою очередь у антропологизированного «небесного Пути величие (да) состоит в [силах] инь и ян, из которых первая образует благопристойность, а вторая наказания (син3)». Реминисцируя положение «Шу цзина» (гл. 3) об «удержании их середины (чжун)» в сочетании «сердца человека» (жэнь синь) и «сердца Пути» (дао синь), Дун Чжуншу утверждал, что «объединяющее (цзянь1) выдвижение (цзюй1) Пути Неба и человека называется „удержанием их середины“» («Чунь цю фань лу», цз. 17, гл. 80).
Кроме указанных выше наиболее тесно примыкают к дао понятия «предопределение» (мин1), «[индивидуальная] природа» (син2), «телесная форма» (син1). В «Да Дай ли цзи» («„Записках о благопристойности“ Старшего Дая») они взаимоувязываются следующим образом: «Обладание долей Пути-дао называется предопределением. Обладание телесной формой в качестве индивида (единицы) называется [индивидуальной] природой» (гл. «Бэнь мин» — «Коренное предопределение»).
Соотнесены данные понятия и в «Чжун юне», где дао означает следование самому себе (§ 25) или своей индивидуальной природе, предопределяемой небом. Совершенствование в дао, от которого нельзя ни на миг отойти, есть обучение (цзяо). Гармония (хэ) составляет всепроникающее дао Поднебесной (§ 1), конкретизирующееся в пяти видах отношений: между правителем и подданным, отцом и детьми, мужем и женой, старшими и младшими братьями, друзьями и товарищами. Реализуется это дао посредством знания, гуманности и мужества — троякой всепроникающей благодати (да дэ) Поднебесной (§ 20), что тождественно троякому дао «Лунь юя» (XIV, 28). На обыденном уровне познание и осуществление дао доступно даже глупым и никчемным, но в своем предельном выражении оно содержит нечто непознаваемое и неосуществимое даже для «совершенномудрых» (§ 12). Зародыш этой идеи сверхчеловеческого компонента дао содержался в «Шу цзине» (гл. 3), где противопоставлены «сердце человека» и «сокровенное» (вэй3) (ср. «Дао дэ цзин», § 14) «сердце Пути-дао».
В «Мэн-цзы», аналогично «Чжун юну», подлинность (чэн) определяется как небесное дао, а помышление (забота — сы1) о ней — как человеческое дао (IV А, 12). Дао «совершенномудрых» Яо и Шуня сводится лишь к сыновней почтительности и братской любви (VI Б, 2). В целом дао представляет собой соединение человека и гуманности (VII Б, 16). Смерть после полной реализации (исчерпания) своего дао и есть исполнение правильного предопределения (чжэн мин) (VII А, 2). Многие, однако, следуют своему дао, не осознавая этого (VII А, 5). Небесное дао предопределено, но кое в чем зависит и от индивидуальной природы (VII Б, 24), хотя в целом попытки воздействия на дао и предопределение бесполезны (VII А, 3). Если Конфуций, оценивал середину дао как недостаточность («Лунь юй», VI, 12), то Мэн-цзы видел в этом (или срединном дао) гармоническое состояние (VII А, 41, VII Б, 37).
Сюнь-цзы, с одной стороны, гиперболизировал всеобъемлемость дао, объявив всю тьму вещей одним его «боком» («Сюнь-цзы», гл. 17), с другой стороны, назвал «совершенномудрого» «пределом» (цзи8) дао (гл. 19). «Пределом» человеческого дао он считал благопристойность (гл. 19). Начав связывать дао с понятием «принцип» (ли) (гл. 2, 9, 12), Сюнь-цзы не ставил под сомнение телесную оформленность того и другого: «Предельное (чжи9) дао — великая форма (син1)» (гл. 12). Познание дао предполагает его «телесное воплощение» (ти) (гл. 21). Постоянное в своей телесной сущности (ти), дао бесконечно изменчиво, поэтому в отличие от обычных вещей неопределимо по одной из своих сторон (гл. 21; ср. «Лунь юй», VII, 8). Посредством великого дао изменяются (бянь1), трансформируются (хуа) и формируются (чэн1) все вещи (гл. 31). Следование дао предполагает обуздание страстей (гл. 20), индивидуальное накопление благодати (цзи дэ) (гл. 8), его предварительное выявление (бяо) (гл. 17) и познание. Последнее — задача сердца, исполненного пустоты, сосредоточенности и покоя. Знание дао дает возможность «взвешивать» (хэн) всю тьму вещей (гл. 21). Наряду с «предельным» (чжи9) (гл. 8, 12), «великим» (да) (гл. 12, 31), «генеральным» (гун1) (гл. 12, 13, 16), всеохватным (чжоу) (гл. 5, 21), «упорядочивающим» (чжи8) (гл. 5), свойственным «благородному мужу» (цзюнь цзы) (гл. 4, 19) существует «малое» (сяо) (гл. 18), «беспорядочное» (луань) (гл. 5), «порочное» (се) (гл. 8), «развратное» (цзянь) (гл. 7, 8, 10), «воровское» (тоу) (гл. 10), а также присущее «ничтожным людям» (сяо жэнь) (гл. 4), «беспорядочным людям» (луань жэнь) (гл. 16), «развратным людям» (цзянь жэнь) (гл. 19) дао.
В «Мо-цзы» трактовка дао мало чем отличается от раннеконфуцианской.
Оппозиционная конфуцианской важнейшая теория дао была развита в даосизме. Ее главная особенность — упор на небесную, а не человеческую ипостась дао, что отмечено уже в «Сюнь-цзы» (гл. 21) при характеристике Чжуан-цзы, согласно которому действительно «дао объединяется в небе» («Чжуан-цзы», гл. 12). Конфуцианцы, сосредоточившие свое внимание на человеческом дао, исходили из его словесно-понятийной выразимости и даже самовыразимости, активно используя такие значения дао, как «высказывание», «изречение», «учение». Поэтому противостоявшие им даосы сразу заявили о словесно-понятийной невыразимости высшего дао(«Дао дэ цзин», § 1, 14, 25, 32, 41). Специально оговоренная ими условность термина «дао» вылилась затем в его оценку Хань Юем как «пустой позиции».
В раннем даосизме на первый план выдвинулись парные категории дао и дэ, которым посвящен главный даосский трактат «Дао дэ цзин» и две специальные главы «Чжуан-цзы» (гл. 5, 13 — «Свидетельства полноты благодати» («Дэ гун фу») и «Путь Неба» («Тянь дао»)). В «Каноне Пути и благодати» дао, как и в конфуцианстве, выступает в двух основных ипостасях: 1) одинокое, отдельное от всего, постоянное, бездеятельное, пребывающее в покое, недоступное восприятию и словесно-понятийному выражению, безымянное, порождающее отсутствие-небытие, дающее начало Небу и Земле; 2) всеохватное; всепроникающее, подобно воде; изменяющееся вместе с миром; действующее; доступное «прохождению», восприятию и познанию; выразимое в имени-понятии, знаке и символе; порождающее наличие-бытие (ю); являющееся предком тьмы вещей (§ 1, 4, 14,18, 25, 32, 34, 40, 41, 42, 53, 81). Кроме того, в «Дао дэ цзине» противопоставлены друг другу справедливое — небесное и порочное — человеческое дао (§ 77), а также признается возможность отступлений от него (§ 30, 33, 55) и вообще его отсутствия в Поднебесной (§ 46).
В качестве «начала», «матери», «предка», «корня», «корневища» (ши9, му, цзун, гэнь, ди1 — § 1, 4, 6, 16, 25, 52, 59) дао генетически предшествует всему миру, в том числе «господу» (ди) (§ 4), хотя и неясно, постоянно оно порождает все сущее или в единовременном акте. Осознание этих двух допустимых толкований побудило Го Сяна (ок. 252 — ок. 312) окончательно отвергнуть последнее из них.
Под вопросом стоит и субстанциальный характер дао в «Дао дэ цзине». С одной стороны, оно описывается как недифференцированное (хаотическое, лишенное пределов, первозданно-простое) единство, «таинственное тождество» (сюань тун), содержащее в себе все вещи и символы (сян) в состоянии пневмы (ци) и семени (цзин1) (§ 21, 28, 42), т. е. как вещь (§ 21, 42), проявляющаяся в виде безвещного (безобъективного) и бесформенного символа (§ 14, 16, 41), который в этом аспекте пустотно-всеобъемлющ и равен всепроницающему отсутствию-небытию (§ 43). Но, с другой стороны, отсутствие-небытие, и следовательно дао, трактуется как деятельное проявление («функция» — юн) наличия-бытия (§ 11). Генетическое превосходство отсутствия-небытия над наличием-бытием (§ 40) снимается в тезисе об их взаимопорождении (§ 2).
Положение же о том, что дао рождает (оживотворяет) Единое, которое затем рождает (оживотворяет) тьму вещей (§ 42), скорее всего означает не субстанциальное первенство дао, ибо в таком случае оно само было бы Единый, а его универсальную организующую (мироустроительную) функцию. Без нее как предварительного условия никакая реальность не могла бы быть единой.
Таким образом, дао в «Дао дэ цзине» представляет собой генетическую и организующую функции единства наличия-бытия и отсутствия-небытия (§ 1), субъекта и объекта (§ 23). Главная закономерность этого дао — обратность, возвращение (фань, фу2, гуй1), т. е. движение по окружности (чжоу син) (§ 14, 16, 25, 40; ему посвящена специальная глава «Люй-ши чунь цю» (III, 5), называющаяся «Юань дао1» — «Круглый Путь»), характерное для неба, которое мыслилось круглым. Следующее лишь своему естеству (цзы жань) (§ 25) дао противостоит опасной искусственности «орудийных предметов» (§ 80, 31) и вредоносной сверхъестественности духов (§ 60), определяя вместе с тем возможность и того и другого (§ 11, 29; ср. «Инь фу цзин» — «Канон сокровенных свидетельств», III, 9).
Благодать-дэ оценивается в «Дао дэ цзине» как первая ступень деградации дао (§ 38), когда рожденная им вещь формируется (§ 51).
В «Чжуан-цзы» дао представлено «обладающим свойствами (цин) и достоверностью (синь2), но и лишенным деятельности (вэй) и телесной формы (син1), допускающим (кэ1) передачу (чуань), но не получение, допускающим достижение (дэ1), но не узрение, основанным (бэнь) на себе, укорененном (гэнь) в себе, прочно (гу1) сохраняющимся (цунь) с такой древности (гу4), когда еще не было неба и земли» (гл. 6). Здесь же усилена тенденция к его сближению с отсутствием-небытием (гл. 23), высшая форма которого — «отсутствие [даже следов] отсутствия» (у у) (гл. 22). Следствием этого явился расходящийся с «Дао дэ цзином» и ставший затем популярным (см. «Хуайнань-цзы», гл. 15) тезис, согласно которому дао, не будучи вещью среди вещей, делает вещи вещами (у y1) (гл. 11, 20, 22). Другое следствие — акцент на его непознаваемости: «Завершение, при котором неведомо, почему так называется дао» (гл. 2, см. также гл. 25).
Вместе с тем в «Чжуан-цзы» максимально акцентирована вездесущность дао: оно не только «проходит (син) сквозь тьму вещей» (гл. 12), образует «пространство и время» (юй чжоу) (гл. 23), «рождает и дух и Душу» (цзин шэнь) (гл. 22), «рождает небо и землю, одухотворяет навей и господа» (гл. 6), но и присутствует в разбое (гл. 10) и даже в кале и моче (гл. 22). Дао — это объединение (цзянь1) благодатей (гл. 12), генерализация (гун1) неба и земли, инь и ян, предел (цзи8) вещей (гл. 25), в котором все объекты и субъект (я) уравниваются (ци3) и обретают единство (и3) (гл. 2). Предельное всемогущество дао проявляется в естественном детерминизме благодати: «Знать, что тут ничего не поделаешь, и спокойно принимать это как предопределение есть предел (чжи9) благодати» (гл. 4). Благодать «проникает (тун) в небо и землю» (гл. 12), подразделяется на восемь разновидностей: левое и правое, нравственную норму и должную справедливость, долю и различение, соперничество и борьбу (гл. 2). Три благодати конкретной личности — высокорослость, дородство и красота (гл. 29), а «предельная благодать сердца» — бесстрастие (гл. 15).
Сближение понятий «дао» и «предел» наметилось уже в «Шу цзине» («Хун фань», § 5). Если в «Чжуан-цзы» дао стоит еще иерархически выше Великого предела (тай цзи) (гл. 6), то в «Люй-ши чунь цю» (V, 2) оно в качестве «предельного семени» (чжи Цзин) отождествляется с такой ипостасью Великого предела, как Великое единое (тай и).
В «Хуайнань-цзы» дао, телесной сущностью которого является отсутствие-небытие (гл. 16), а обнаружением Хаос, Бесформенное, Единое (гл. 21), характеризуется как «стягивающее пространство и время» (гл. 1) и нелокализованно находящееся между ними, но в то же время зависящее от «телесной личности» (шэнь) (гл. 11). У Гэ Хуна (284–363) дао в ипостаси Единого обрело уже два модуса — Таинственное Единое (сюань и) и Истинное Единое (чжэнь и) («Баопу-цзы» — «[Трактат] Учителя Объемлющего Простоту», I, 18).
Даосские идеи развивались также школой Сун Цзяня и Инь Вэня («Гуань-цзы», гл. 36–38, 49; «Инь Вэнь-цзы»), которая трактовала дао как естественное состояние семенной, тончайшей, эссенциальной, подобной духу (цзин2, лин1) пневмы, не дифференцированной ни телесными формами, ни именами-понятиями, а потому пустотно-небытийной (сюй у). В «Дао дэ цзине» вездесущность дао передана оксюмороном его одновременной великости (да) и малости (сяо) (§ 34, а также 18, 25, 53), а в «Чжуан-цзы» (гл. 33) процитировано высказывание основоположника «школы имен» (мин цзя) Хуй Ши: «Предельно (чжи9) великое, не имеющее [ничего] вовне, называется великим единым (да и); предельно малое, не имеющее [ничего] внутри, называется малым единым (сяо и)»). В «Гуань-цзы» (гл. 36, 49) и «Люй-ши чунь цю» (XV, 3) отражена идентификация дао с «великим единым» и «малым единым»: «так велико, что не имеет [ничего] вовне; так мало, что не имеет [ничего] внутри».
Подобная трактовка дао стала общепринятой в традиционной китайской культуре, находя воплощение и в философских опусах (см., например, «Чжун юн», § 12), и в художественной литературе. Так, в приписываемой родоначальнику авторской поэзии Цюй Юаню (ок. 340 — ок. 278) и входящей в «Чу цы» («Чуские строфы», 5) поэме «Юань ю» («Путешествие в даль») сказано: «Путь (дао) может быть получен, но не может быть преподан (чуань). Он так мал, что не имеет [ничего] внутри; он так велик, что не имеет краев».
Представители школы военной мысли (бич цзя) также положили концепцию дао в основу своей теории. В «Сунь-цзы» («[Трактат] Учителя Суня») оно называется первым из пяти устоев военного искусства (наряду с «условиями неба и земли», качествами полководца и законом-фа), состоящим в единстве волевых помыслов (и2) народа и верхов (I, 3). Поскольку война в трактате рассматривается как «Путь (дао) коварства» (I, 7), дао в нем связывается с идеей эгоистической самостийности и индивидуальной хитрости, которая была детализирована в позднем даосизме («Инь фу цзин»). Согласно «У-цзы» («[Трактат] Учителя У»), дао — «то, благодаря чему происходит обращение к основе и возврат к началу», то, что умиротворяет и становится первым в ряду четырех общих принципов успешной деятельности (остальные — должная справедливость, спланированность, требовательность) и «четырех благодатей» (остальные — должная справедливость, благопристойность, гуманность) (гл. 1).
Легист Хань Фэй-цзы, опираясь на конфуцианство и даосизм, развил намеченную Сюнь-цзы и важнейшую для последующих философских, особенно неоконфуцианских, систем связь понятий «дао» и «принцип» (ли): «Дао делает тьму вещей таковыми, каковы они суть, и определяет тьму принципов. Принципы суть знаки (вэнь), формирующие вещи. Дао — то, благодаря чему формируется тьма вещей» («Хань Фэй-цзы», гл. 20). Однако в отличие от конфуцианцев и вслед за даосами Хань Фэй-цзы признавал за дао как универсальную формирующую (чэн1), так и универсальную порождающе-оживотворяющую (шэн) функции. В отличие же от Чжуан-цзы, Сун Цзяня и Инь Вэня («Чжуан-цзы», гл. 22; «Инь Вэнь-цзы», гл. 1) он считал, что дао может быть не только представлено мыслью в символе (сян1), но и зафиксировано в визуальной форме (син1) («Хань Фэй-цзы» гл. 20).
Базовой для всей последующей философской мысли стала трактовка дао в комментирующей части «Чжоу и», которая традиционно связывается с именем Конфуция, но, по-видимому, отражает общетеоретические воззрения своего времени, разделявшиеся всеми философскими школами. Здесь фигурируют и двоичная модель — дао неба и земли, творения (цянь) и исполнения (кунь), благородного мужа и ничтожного человека, и троичная — дао неба, земли, человека, трех материалов (сань цай), трех пределов (сань цзи). Небесное дао утверждается силами инь и ян, земное — мягкостью и твердостью, человеческое — гуманностью и должной справедливостью («Шо гуа чжуань» — «Предание изъяснения триграмм», 2).
Главное выражение дао — перемены (и1), изменения, преобразования по принципу «одна инь — один ян» («Си цы чжуань», I, 5). Поэтому его атрибутом является «обратность и возвратность» (фань фу) («Чжоу и», гекс. № 24, Фу — Возврат). Дао в Качестве перемен означает «порождение порождения» или «оживотворение жизни» (шэн шэн) («Си цы чжуань», I, 5), что тождественно его даосскому определению («Чжуан-цзы», гл. 6) и соответствует пониманию просто порождения или жизни как «великой благодати неба и земли» («Си цы чжуань»,II, 1), также имеющему параллель в «Чжуан-цзы» (гл. 12): «То, что позволяет вещам достигать (дэ1) жизни, называется благодатью».
В более сильной, чем в «Дао дэ цзине» (§ 10), трактовке «Си цы чжуани» (I, 5), дао не только порождает (оживотворяет), но и обладает (ю) всем порожденным (живым). То, что дао не может быть «измерено» взаимопревращениями инь и ян, называется духом (шэнь1) («Си цы чжуань», I, 5). Этот тезис родствен положениям «Чжун юна» (§ 26). В качестве перемен дао иерархически выше Великого предела — оно «обладает» им («Си цы чжуань», I, 11), что сходно с оценкой из «Чжуан-цзы» (гл. 6), согласно которой оно «предшествует» (сянь) ему. В «Си цы чжуани» (I, 12) впервые было введено противопоставление надформенного (син эр шан) дао подформенным (син эр ся) «орудийным предметам».
Там же указаны четыре сферы реализации дао: в речах, поступках, изготовлении «орудийных предметов», гаданиях (I, 10). Испытавший влияние и «Чжоу и», и даосизма конфуцианец Ян Сюн (53 г. до н. э. — 18 г. н. э.) представил дао ипостасью «(Великой) тайны» — (тай) сюань, понимаемой как «предел деятельного проявления» (юн чжи чжи) («Тай сюань цзин» — «Канон Великой тайны», цз. 7, ч. 5 «Сюань ли» — «Развертывание тайны»). По Ян Сюну, дао — «проникновение» (тун) во все («Фа янь» — «Образцовые слова», цз. 4; ср. «Чжуань-цзы», гл. 2, 23), «пустое по форме (син1) и определяющее Путь (дао) тьмы вещей», а благодать (дэ) — следование дао, лишенное переворотов и достигающее (дэ1) принципа («Тай сюань цзин», цз. 7, ч. 5 «Сюань ли»). Восходящий к «Дао дэ цзину» (§ 1) термин «сюань» («таинственное», «сокровенное», «глубочайшее», «темное», «мистическое») позднее вошел в обозначение «учения о таинственном», или «мистического учения», — сюань сюэ, соединившего в себе конфуцианство с даосизмом. У Гэ Хуна дао, «являющееся формой форм» (вэй син чжи син), охватывающее Великую пустоту (тай сюй) и сочетающее наличие-бытие с отсутствием-небытием («Баопу-цзы», I, 9), в своем высшем выражении тождественно тайне и определяется как «таинственный Путь» (сюань дао) или «Путь Таинственного единого» (сюань и чжи дао) (I, 1, 18).
Основоположники сюань сюэ Хэ Янь (193–249) и Ван Би (226–249) прямо отождествили дао с отсутствием-небытием. Го Сян (ок. 252 — ок. 312) признал это, утверждая, что «предельный (чжи9) Путь есть предельное отсутствие-небытие» (комментарий-чжу2 к гл. 22 «Чжуан-цзы»), но вопреки «Дао дэ цзину» (§ 2,40) отрицал возможность порождения наличия-бытия из отсутствия-небытия, т. е. отвергал возможную креационно-деистическую трактовку дао: «отсутствие-небытие, являясь отсутствием-небытием, не способно породить наличие-бытие» (комментарий-чжу2 к гл. 2 «Чжуан-цзы»). Пэй Вэй (267–300) же отождествил дао с наличием-бытием:
Столь же различным интерпретациям подвергалась в китайской философии и оппозиция дао — «орудийные предметы». Цуй Цзин (VII–IX вв.) идентифицировал ее с введенной Ван Би (комментарий-чжу2 к § 38 «Дао дэ цзина») оппозицией ти-юн: деятельное проявление («функция») — телесная сущность («субстанция»). Это противопоставление стало одним из важнейших в неоконфуцианстве.
Чжан Цзай соотнес его с парой «благодать» (дэ) — «путь» (дао), первый член которой определялся как дух (шэнь), т. е. способность вещей к взаимному восприятию (гань), а второй — как преобразование (хуа), т. е, естественный процесс изменений в мире («Чжэн мэн» — «Исправление невежественной незрелости», гл. 4 «Шэнь хуа» — «Дух и преобразование»). Деятельное проявление, или преобразование (хуа), телесной первосущности (бэнь ти) пневмы, трактуемой как бесформенная (у син1) Великая пустота (тай сюй), Великая гармония (тай хэ) или единство наличия-бытия и отсутствия-небытия, пустоты (сюй) и реальности (ши1), Чжан Цзай приравнял к надформенному дао (гл. 1 «Тай хэ» — «Великая гармония»). Дао им описывалось и как пронизывающее тьму вещей взаимодействие противоположностей (лян ти, эр дуань), которое выражается в их взаимном восприятии и чудесно-утонченном (мяо) духовном согласовании (хэ1), находящем свою телесную сущность в индивидуальной природе (гл. 17, ч. 2). Универсальность этого взаимодействия обусловливает возможность его познания (гл. 4).
Предтеча неоконфуцианства Хань Юй в специальном трактате «Обращение к истоку Пути» («Юань дао») вернулся к исходному конфуцианскому смыслу дао (противопоставив его даосскому и буддийскому пониманию) как следованию гуманности и должной справедливости (его предшественник Дун Чжуншу причислял к ним еще благопристойность и музыку).
Однако основоположники неоконфуцианской философии, используя положения «Чжоу и» и «Дао дэ цзина», сделали упор на общеонтологический смысл дао. С точки зрения Шао Юна, бесформенное и самовозвращающееся дао — корень неба, земли и тьмы вещей, порождающий (оживотворяющий) и формирующий их («Хуан цзи цзин ши» — «Упорядочение мира по канонам [согласно] пределу», «Гуань у нэй пянь» — «Рассмотрение вещей. Внутренняя (авторская. — А.К.) глава»). Чэн Хао вслед за Чжан Цзаем приравнивал дао к индивидуальной природе («И шу», цз. 1), а Чэн И различал их как деятельное проявление и телесную сущность («Ичуань сянь шэн вэнь цзи» — «Собрание литературных творений наставника [Чэн] Ичуаня», цз. 5, «Юй Люй Далинь лунь чжун шу» — «Письмо Люй Далиню о срединности»), хотя говорил и о едином дао, выступающем в виде предопределения, индивидуальной природы и сердца («И шу», цз. 18), и о дао, обязательно предполагающем бинарность оппозиций (дуй) («И шу», цз. 15).
Чэн И также определял дао с помощью категорий «срединное и неизменное», или «равновесие и постоянство» (чжун юн), и «гуманность», что в целом вытекало из понимания этой категории как «собирательного имени» (цзун мин) («И шу», цз. 15). Истолковывая высказывание Цзэн-цзы о Конфуциевом дао («Лунь юй», IV, 15), Чэн Хао соотносил верность с телесной сущностью, т. е. небесным принципом, а взаимность — с деятельным проявлением, т. е. человеческим дао («И шу», цз. 11).
Развивая идеи Чэн И, Чжу Си стал трактовать дао как «объединяющее имя» (тун мин), а принципы — как охватываемую им «детальную рубрикацию» (си му) («Чжу-цзы юй лэй», цз. 6). Вслед за Го Сяном, писавшим, что и «у принципов есть совершенный предел (чжи цзи)» (комментарий-чжу2 к гл. 2 «Чжуан-цзы»), он утверждал, что «совершенный предел телесной сущности Пути-дао называется Путем-дао» («Чжу Вэнь-гун вэнь цзи» — «Собрание литературных творений Чжу [Си], князя Культуры», цз. 36, «Да Лу Цзыцзин» — «Ответ Лу Цзыцзину»).
В целом Чжу Си отождествил дао с принципом («корнем порождения-оживотворения вещей», «телесной сущностью неба») и Великим пределом («содержащим в себе тьму принципов»), а «орудийные предметы» — с пневмой, средством порождения-оживотворения вещей и силами инь и ян: «Инь и ян не суть Путь-дао; то, благодаря чему действуют инь и ян, есть Путь-дао» («Чжу-цзы юй лэй», цз. 74); «Поскольку одна инь и один ян относятся к обладающим телесной формой (син1) орудийным предметам, постольку то, благодаря чему за одной инь следует один як, осуществляется телесной сущностью Пути-дао» («Чжу Вэнь-гун вэнь цзи» — «Собрание литературных творений Чжу [Си], князя Культуры», цз. 36, «Да Лу Цзыцзин» — «Ответ Лу Цзыцзину»).
Хотя при этом Чжу Си отстаивал единство дао как телесной сущности и деятельного проявления («Чжу-цзы юй лэй», цз. 6) и его реальную неотделимость от «орудийных предметов», в которые дао внедрено (чжун) («Чжу Вэнь-гун вэнь цзи», цз. 72), он подвергся критике со стороны Лу Цзююаня, апеллировавшего к исходному определению «Си цы чжуани» и доказывавшего, что инь и ян суть надформенное дао, а следовательно, между последним и «орудийными предметами» нет той функциональной разницы, которую установил Чжу Си («Юй Чжу Юаньхуй» — «[Письмо] Чжу Юаньхую», 2).
Ван Янмин, следуя идеям Лу Цзююаня, отождествил дао с человеческим сердцем и его основой — благосмыслием (лян чжи), («Чуань си лу», цз. 2, «Си инь шо» — «Изъяснения относительно сбережения времени»), впрочем ранее и Чжу Си заявлял, что «в одном сердце присутствует тьма принципов и, сумев сохранить сердце, можно затем до истощения [исследовать] принципы» («Чжу-цзы юй лэй», цз. 9).
Пытаясь синтезировать взгляды своих предшественников, Ван Чуаньшань ратовал за неразрывное единство «орудийных предметов» и дао как конкретной реальности и упорядочивающего (чжи8) ее начала (ср. «Мэн-цзы», VI Б, 11). Результат этого упорядочения — благодать. Подобно своему современнику Фан Ичжи (1611–1671) («У ли сяо ши» — «Первичное ознакомление с принципами вещей», «Цзун лунь» — «Введение»), Ван Чуаньшань считал, что, будучи надформенным, дао не лишено формы или символа, но доминирует над телесными формами, которыми наделено все в мире «орудийных предметов» («Чжоу и вай чжуань» — «Внешний комментарий к „Чжоуским переменам“», цз. 5–6).
В противовес Фан Ичжи и Ван Чуаньшаню Дай Чжэнь трактовал надформенное как предшествующее появлению телесных форм, но зато подводил под это понятие и силы инь-ян, и пять элементов (у син). Последнее было связано с тем, что дао он определял с помощью его этимологического компонента — син («движение», «действие», «поведение»), образующего термин «у син» («Мэн-цзы цзы и шу чжэн», цз. 2). «Человеческий Путь-дао, — утверждал Дай Чжэнь в специальном эссе о дао, — коренится в [индивидуальной] природе, а [индивидуальная] природа имеет исток в небесном Пути-дао» («Мэн-цзы цзы и шу чжэн», цз. 3). Далее, разбирая определение дао в «Чжоу и» («Си цы чжуань», I, 4/5), он пришел в выводу: «Добро (шань) — необходимость (би жань), а [индивидуальная] природа — естественность (цзы жань). Возвращаясь к необходимости, достигаешь эту естественность, что называется пределом в доведении естественности до конца (цзи чжи). Тут исчерпывается Путь-дао неба, земли и человеческих существ» («Мэн-цзы цзы и шу чжэн», цз. 3).
Чжан Сюэчэн (1738–1801) также отстаивал совпадающее единство «орудийных предметов» и дао (дао ци хэ и), которые нераздельны, как тело (телесная форма) и его тень («Вэнь ши тун и» — «Всепроникающий смысл истории и литературы», «Юань дао» — «Обращение к [истоку] Пути», ч. 2). Дао в его понимании — «то, благодаря чему тьма дел и тьма вещей таковы, каковы они суть, а не то, что они суть как таковые» («Вэнь ши тун и», «Юань дао», ч. 1). Полемизируя с конфуцианской традицией считать канонические произведения («Лю цзин» — «Шесть канонов») носителями дао (ср. утверждение Ван Янмина: «Каноны суть постоянное дао» — в «Цзи шань шу юань цзин гэ цзи» — «Запись о посвященном канонам зале библиотеки у горы [Гуй]цзи»), Чжан Сюэчэн квалифицировал их как «орудийные предметы», т. е. конкретно-исторические явления («Вэнь ши тун и», «Юань дао», ч. 2).
Следуя за Ван Чуаньшанем, Тань Сытун вернулся к прямому определению «орудийных предметов» и дао как телесной сущности и деятельного проявления. Поднебесная — тоже огромный орудийный предмет (ср. «Дао дэ цзин», § 29). Подверженность мира «орудийных предметов» изменениям влечет за собой изменения дао, которых люди не в силах избежать, поскольку не могут дематериализоваться. Это рассуждение стало у Тань Сытуна теоретическим обоснованием реформизма («Сы-вэй инь-юнь тай-дуань шу» — «Краткие заметки о беспокойстве за отчизну», другой перевод: «Беспокойство за судьбу Родины»).
Проделанный анализ смысла термина «дэ» в его категориальном окружении и концептуальной эволюции обнаружил в самом общем плане трансформацию архаического представления о безличной магической силе в идею индивидуального нравственного императива. Однако это был путь синтетической эволюции, сохранявшей в той или иной степени свернутости достижения предыдущих этапов. Обращаясь к истории литературы, можно было бы провести аналогию с движением от магии к реализму в форме магического реализма.
Поэтому превращение онтологически-безоценочной пары дао и дэ (ср. «Дао дэ цзин») в этически-аксиологизированное сочетание (ср. современное дао-дэ — «мораль») не повлекло за собой полного разрыва с наследием прошлого. Более того, с помощью подобной терминологии стало возможным построение «моральной метафизики», представляющей собой высочайшее достижение и наиболее специфическое явление китайской классической философии.
Теоретический фундамент подобной онтологизации дао и дэ был заложен создателями неоконфуцианства. В частности, Чжу Си следующим образом связывал эти категории с Великим пределом, который «не имея телесной формы (син1) и обладая принципом» тождествен Отсутствию предела, или Пределу отсутствия (у цзи), и в качестве «метафизического» (син эр шан) абсолюта — «совершенного предела» (чжи цзи) и «предельного совершенства» (цзи чжи1) является высшим благом: «Великий предел — это только [соответствующий] Пути-дао принцип (дао ли) предельно хорошего (цзи хао) и совершенно доброго (чжи шань). Всякий человек имеет единый Великий предел, всякая вещь имеет единый Великий предел. То, что Учитель Чжоу [Дуньи] называл Великим пределом, есть обнаруживающаяся благодать тьмы доброго (вань шань) и совершенно хорошего (чжи хао) у неба и земли, человека и вещи» («Чжу-цзы юй лэй», цз. 94).
§ 4
Категория «гуманность» (жэнь1): любовь к людям и гармония мира
«Жэнь1» — «гуманность», «человечность», «истинно-человеческое (начало)», «человеколюбие», «милосердие», «доброта», «дружелюбие», «беспристрастность», англ. «(co-)humanity», «humaneness», «humandieartedness», «true manhood», «benevolence», «goodness», «charity», «perfect virtue», «(benevolent) love», «altruism», «authoritative person», фр. «bonté», «charité», «bienveillance», нем. «Güte», «Wohlwollen» — одна из основополагающих категорий китайской философии и традиционной духовной культуры, совмещающая три главных смысловых аспекта: 1) морально-психологический — «[родственная,] любовь-жалость к людям» (ай жэнь), стоящая в одном ряду с «должной справедливостью» (и), ритуальной «благопристойностью» (ли3), «разумностью» (чжи4), «благонадежностью» (синь2); 2) социально-этический — совокупность всех видов правильного отношения к другому человеку и обществу; 3) этико-метафизический — «приязнь к вещам» (ай у), т. е. симпатически-интегративная взаимосвязь отдельной личности со всем сущим, включая неодушевленные предметы.
Этимологическое значение «жэнь1» — «человек и человек» или «человек среди людей». Хотя иероглиф «жэнь1» в смысле «доброта правителя к подданным» присутствует в современных текстах канонизированной конфуцианцами доконфуцианской классики («Шу Цзин», «Ши цзин»), возможно, он был не только терминологизирован, но и искусственно создан Конфуцием, а затем включен в указанные тексты. С чрезвычайно редким употреблением «жэнь1» в доконфуцианских памятниках резко контрастирует его изобилие в «Лунь юе», где, как отметил Чэнь Юнцзе, он использован 105 раз в 58 параграфах из 499, т. е. ему посвящены более чем. 10 процентов текста. Отсюда Чэнь Юнцзе заключал, что «до появления Конфуция китайцы не выработали понятия общей добродетели», а таковым впервые выступило «жэнь!» у Конфуция[23].
В конфуцианстве это понятие, действительно, сразу стало центральной категорией, определявшейся, с одной стороны, как спокойно-самодостаточная «любовь к людям», рождающая правильный баланс любви и ненависти («Лунь юй», XII, 22, IV, 2, 3, VI, 21 /22; «Мэн-цзы», IV Б, 28, VII Б, 46, VII Б, 1), а с другой — как «преодоление себя и возвращение к ритуальной благопристойности» (кэ цзи фу ли), реализующее «золотое правило» морали: «не навязывать другим того, чего не желаешь себе», «упрочивать других в том, в чем желаешь упрочиться сам, и подвигать их на то, на что желаешь подвигнуться сам» («Лунь юй», XII, 1/2, VI, 28/30).
У Конфуция жэнь1 представлялось специфическим атрибутом «благородного мужа» (цзюнь цзы), не присущим «ничтожному человеку» (сяо жэнь) («Лунь юй», IV, 5, XIV, 6/7, 28/30), но уже у его ближайших последователей оно стало не только долгом правителя, но и универсальным началом человеческой личности и отношений между людьми («Чжун юн», § 20; «Мэн-цзы», III А, 4, VII Б, 16; «Ли цзи», гл. 7/9). Мэн-цзы усмотрел источник жэнь1 в полностью лишенном желания вредить другим людям, реагирующем с чувственной непосредственностью, соболезнующем и сострадающем «сердце» (синь), без которого человек перестает быть таковым, и поэтому сформулировал омонимичную максиму «Гуманность (жэнь1) — это человек (жэнь)», детализированную в дефинициях: «Обретение (дэ1) человека для Поднебесной называется гуманностью» и «Гуманность — это сердце человека» («Мэн-цзы», II А, 6, VI А, 6, VII Б, 31, 16, III А, VI А, 11). Следствием «гуманного [отношения к] людям» (жэнь минь) философ считал «любовь [к миру] вещей» (ай у), т. е. всему сущему («Мэн-цзы», VII А, 45). Он также обобщил суждения «Лунь юя» о социально-политической значимости жэнь1 как фактора «умиротворения» (пин) и упорядочения (чжи8) Поднебесной в понятии «жэнь чжэн» — «гуманное правление» («Мэн-цзы», I А, 5, I Б, 11, 12, II А, 1, III А,3, 4, IV А, 11, 14/15), ставшем впоследствии идеологическим штампом конфуцианской ортодоксии.
В «Мо-цзы» даны определения: «Гуманность — это любовь, [соединяющая отдельные] телесные сущности (ти ай)» и «Гуманность — это гуманнизирующая любовь» (гл. 40,43), — обусловленные общим моистским пониманием жэнь1 как компонента предписываемого волей Неба единения Поднебесной посредством «объединяющей (цзянь1) взаимной любви и связующей взаимной пользы-выгоды» (гл. 26, 35).
В раннем даосизме жэнь1 подверглось критике как искусственное образование, не свойственное природе («небу и земле»), продукт деградации дао и дэ («Дао дэ Цзин», § 38). В «Дао дэ цзине» (§ 8) жэнь1 признано благотворной основой общения людей, а в «Чжуан-цзы» (гл. 12) распространено и на неживую природу: «Любовь к людям (ай жэнь) и принесение пользы вещам (ли у) называется гуманностью».
Дун Чжуншу сделал шаг к онтологизации «гуманности», объявив ее «небесным сердцем (тянь синь), которое любит людей», воплощением «воли Неба» (тянь чжи) в человеческом теле и результатом «преобразования» (хуа) «пневмы» (ци) крови («Чунь цю фань лу», цз. 6, гл. 17–18).
В позднем даосизме, философии сюань-сюэ и буддизме жэнь1 стало играть роль одной из важнейших добродетелей — милосердия, преодолевающего барьер между «я» и «не-я» (у во1).
Неоконфуцианцы под влиянием Хань Юя расширили онтологическое содержание понятия «гуманность». Чэн Хао, Чжан Цзай, Ван Янмин и др. усматривали в ней как атрибут неба (тянь), органическую единосущность индивида со всем мирозданием, уподобляя отсутствие жэнь1 физическому параличу («паралич» — медицинский смысл выражения «бу жэнь», буквально означающего «негуманность»). Ван Янмин утверждал, что жэнь1 «образует единое тело (ти) с камнем и черепицей» («Да сюэ вэнь» — «Вопросы к „Великому учению“»).
В трактовках жэнь1 неоконфуцианскими мыслителями конца империи отразились особенности восприятия ими западной научной мысли.
Кан Ювэй оригинальным образом подытожил многовековое осмысление этой категории в китайской философской традиции и с помощью доступных ему сведений о науке Запада стал трактовать жэнь1 как проявление универсальной космической взаимосвязи. В своем важнейшем сочинении «Датун шу» («Книги о Великом единении»), идентифицировав жэнь1 с эфиром и-тай, он утверждал, что первосубстанция мироздания — «изначальная пневма» (юань ци), представляющая собой Великую тайну (тай сюань), образует в каждой вещи, в том числе небе и человеке, сочетание духовного, душевного, ментального, интеллектуального, сознающего, разумного, «светлоблагодатного» (шэнь1, цзин2, лин1, хунь, чжи, чжи4, мин дэ) начала с симпатической энергетикой, проявляющейся в качестве электричества, магнетизма, притяжения и «не выносящей» (бу жэнь1) чужих страданий (см. «Мэн-цзы», I А, 7, II А, 6, VII Б, 31) «гуманностью».
Признавший себя учеником Кан Ювэя Тань Сытун первым в Китае посвятил жэнь1 специальную книгу — свое главное произведение «Жэнь сюэ» («Учение о гуманности» или «Гуманность и учение»), в котором, максимально развив идеи учителя, опять-таки «впервые стал рассматривать жэнь1 не как только свойство действительности, а как саму действительность»[24]. Он представил жэнь1 единой (и3) и изначальной (юань1) общемировой субстанцией — эфиром (и-тай), проявляющимся, с одной стороны, в виде атмосферного электричества (дянь), силы тяготения (си ли), химического сродства (ай ли — буквально: «силы любви»), конфуцианской «[индивидуальной] природы» (син2) и буддийского «[всеобъемлющего] океана природных стихий (bhūtatathatā)», а с другой — психики (синь ли — буквально: «силы сердца»), интеллекта (вэй синь), сознания (вэй ши — буддийских vijñānamātra, cittamātra), буддийского «сочувствия и милосердия» (цы бэй), моистской «объединяющей любви» (цзянь ай), христианской «духовности» (лин хунь) и «любви к другому человеку (ай жэнь), как к себе».
Философы XX в., интерпретирующие классические китайские доктрины, истолковывают жэнь1 в изначальном конфуцианстве как сознательное следование этическим нормам (Ху Ши) или спонтанную нравственную интуицию (Лян Шумин), а в неоконфуцианстве — как принцип «моральной метафизики» (дао-дэ ды син-шан-сюэ), выражающий самосозидающее личностное начало (Фэн Юлань, Моу Цзунсань, Ду Вэймин)
§ 5
Категория «должная справедливость» (и): бескорыстная ответственность и соответствие смыслу
«И» — «должная справедливость», «долг», «чувство долга», «справедливость», «добропорядочность», «честность», «правильность», «принцип», «значение», «смысл», англ. «righteousness», «rightness», «justice», «signification», «(moral) duty», «morality», «sense of moral responsibility», «loyality», «compropriety», «selfshipfulness» фр. «jéquité», «honnête», «convenance», нем. «Gerechtigkeit», «Rechtlichkeit», «Pflicht», «Pflichttrene», «Recht», «Das Rechte», «Rechtschaffenheit», «Schicklichkeit», «das Gezieemende» — также одна из основополагающих категорий китайской философии, в особенности конфуцианства. Она заключает в себе идею «правильного (чжэн) соответствия (и4)» содержания форме, субъективных потребностей — объективным требованиям, внутреннего чувства справедливости — внешним императивам общественного долга. В «Чжун юне» (§ 20) дана лапидарная дефиниция: «Должная справедливость (и) — это соответствие (и4)», построенная, как и многие другие, на омонимичности соответствующих иероглифов и легшая в основу ряда последующих более развернутых определений «должной справедливости». В период формирования неоконфуцианства его патриарх Чжоу Дуньи, следуя лаконичности оригинала, канонизировал эту дефиницию в инверсированной форме: «Соответствие называется должной справедливостью» («Тун ту», § 3). Оппозиционная «и» категория «ли2» («польза, выгода, корысть, барыш, преимущество, успех, острота, быстрота») в свою очередь противопоставлялась «дао» (см., например: Дун Чжуншу. «Чунь цю фань лу», цз. 4, гл. 32; Ян Сюн. «Фа янь», цз. 1), что обнаруживает особую, доходящую до взаимозаменимости близость «должной справедливости» с «Путем-дао».
Этимологически «и» восходит к сочетанию знаков «я» (во) и «баран» (ян). Последний, входя также в состав иероглифов «добро» (шань) и «красота» (мэй), несет идею общепринятого «вкуса», охватывающего главные ценностно-нормативные сферы — этическую (шань), эстетическую (мэй) и деонтологическую (и). Интерпретация деонтологической нормы представлена в семантике «и» как общественный вкус («баран»), ставший внутренним чувством («я»).
В самом общем антропологическом смысле «и» — неотъемлемый атрибут индивидуальной природы (син2) человека, одно из «пяти постоянств» (у чан) его существования наряду с гуманностью (жэнь1), благопристойностью (ли3), разумностью (чжи4) и благонадежностью (синь2). В более конкретном социально-этическом смысле «и» — это Нормы отношений между пятью парами социальных ролей: отца и сына, старшего и младшего братьев, мужа и жены, старшего и младшего, государя и подданного («Ли цзи», гл. 7/9 «Ли юнь»). В еще более Узком смысле — принцип поведения мужа, правителя или харизматического лидера. Стандартная терминологическая оппозиция «и — ли2» («должное — полезное», «справедливое — выгодное», «честное — корыстное») знаменует собой противопоставление морального долга — эгоистической утилитарности, или обязанности по отношению к другому — соблюдению собственного интереса.
В древних протоконфуцианских памятниках «Ши цзине» и «Шу цзине» «и» обозначает умение правителей и чиновников приносить благо своей стране. У Конфуция «и» становится ключевой характеристикой «благородного мужа» (цзюнь цзы), отличающей его от гоняющегося за пользой-выгодой «ничтожного человека» (сяо жэнь), определяющей его «основу» (чжи2) и выражающей единство знания (чжи) и действия (син), соответствующее благодати (дэ), реализующееся посредством этико-ритуальной благопристойности (ли3) и направленное на осуществление дао («Лунь юй», 11, 24, IV, 16, XII, 10, XV, 18, XVI, 10, 11, XVII, 21/23, XVIII, 7). Поэтому «совершенный человек» (чэн жэнь), «видя пользу-выгоду, помышляет о должной справедливости», а сам Конфуций «редко говорил о пользе-выгоде» («Лунь юй», XIV, 12, IX, 1). Мэн-цзы радикально универсализировал «и» как одно из четырех начал исконно доброй (шань) человеческой природы — «стыдящееся [за себя] и негодующее [на другого] сердце» («Мэн-цзы», II А, 6, VI А, 6) и решительно отверг пользу-выгоду во имя должной справедливости и гуманности («Мэн-цзы», I А,1), отличающих человека от животных («Мэн-цзы», IV Б, 19). «Должная справедливость — это Путь человека» («Мэн-цзы», VI А, 11), совершенствование его «пневмы» (ци) происходит благодаря «накоплению должной справедливости» («Мэн-цзы», II А, 2).
Главный оппонент Мэн-цзы в рамках конфуцианства — Сюнь-цзы, считая человеческую природу исконно «злой» и наделенной врожденным стремлением к пользе-выгоде, вместе с тем еще категоричнее определил и как основной человеческий признак («Сюнь-цзы», гл. 9), которому должно быть подчинено неискоренимое стремление к пользе-выгоде. Общеконфуцианское решение проблемы «и — ли2» дано в «Да сюэ» (II, 10.22–28): «Не польза-выгода полезна-выгодна государству, а должная справедливость».
Моисты в отличие от конфуцианцев, трактуя «ли2» как «приносящую радость» «общую пользу и взаимную выгоду», а не частный интерес и эгоистическую корысть, отвергли противопоставление «и — ли2» прямой дефиницией «Должная справедливость есть польза-выгода» («Мо-цзы», гл. 40, 43). В специально посвященной «и» главе «Мо-цзы», носящей название «Ценить должную справедливость» (гл. 47 «Гуй и»), таковая названа «самым ценным из тьмы дел (вань ши)» (гл. 47), поскольку самому «Небу желанна (юй) должная справедливость и ненавистна (э) недолжная несправедливость» (гл. 26). Воле Неба соответствует и всенародная «польза-выгода» (гл. 26), составляющая также один из трех главных гносеологических критериев (сань бяо)— «применимость» (юн) высказываний (гл. 35).
Легисты антиконфуцианский (ср. «Мэн-цзы», VI А, 2) и близкий к моизму тезис о том, что «люди стремятся к пользе-выгоде, как вода вниз» («Шан цзюнь шу», гл. 23), соединили с враждебным и моизму и конфуцианству определением «и» как «Пути насилия» (бао чжи дао) ради абсолютной власти и унифицированной «законности» (фа).
В противовес всем указанным школам представители даосизма, отстаивая идеал естественной незаинтересованности, одновременно подвергли критике как пользу-выгоду, так и должную справедливость. Согласно «Дао дэ цзину» (§ 18, 19, 38), и — результат «упразднения великого Пути-дао», т. е. одна из ступеней общей деградации в мире: «За утратой Пути-дао следует благодать, за утратой благодати следует гуманность, за утратой гуманности следует должная справедливость, за утратой должной справедливости следует благопристойность. Благопристойность — это истощение верности (чжун1) и благонадежности (синь), голова смуты» (§ 38). В отличие от «Дао дэ цзина» (§ 38), где проведены тонкие градации упадка, четко разграничены «нецеленаправленная» (у и вэй) гуманность и «целенаправленная» (у и вэй) должная справедливость, в «Чжуан-цзы» (гл. 2,6,28) провозглашен отказ от различения «жэнь1» и «и», сопровождающийся призывом «забыть» (ван1) как должную справедливость с гуманностью, так и пользу-выгоду.
Дун Чжуншу, привнесший в официализированное конфуцианство некоторые легистские и моистские идеи, сочетал радикальные формулы: «гуманный человек выправляет свой Путь и не планирует свою пользу-выгоду, совершенствует свои принципы и не тревожится о своем успехе» (вариант: «Гуманный человек выправляет свое должное соответствие (и1) и не планирует свою пользу-выгоду, высветляет (мин2) свой Путь и не рассчитывает на успех»); «Нет человека, для чьей природы должная справедливость не была бы добром, а не способный к должной справедливости теряет и пользу-выгоду, поэтому благородный муж до конца дней слова не молвит о пользе-выгоде», — с признанием за последней роли столь же необходимого регулятора телесной жизни («Чунь цю фань лу», цз. 9, гл. 32, цз. 3, гл. 4). Специально посвященная этой теме глава «Должная справедливость — важнейшее в пестовании телесной личности» («Шэнь чжи ян чжун юй и») «Чунь цю фань лу» (цз. 9, гл. 31) начинается следующим пассажем: «Небо, порождая человека, побуждает его порождать Должную справедливость и пользу-выгоду. Пользой-выгодой пестуется его тело (ти), должной справедливостью — его сердце. Сердце, не достигнув (дэ1) должной справедливости, не способно радоваться (лэ); тело, не достигнув пользы-выгоды, не способно умиротворяться. Должная справедливость — пестун сердца, польза-выгода — пестун тела. В теле самое ценное — сердце, поэтому в пестовании самое важное — должная справедливость».
Усвоение даосских идей неоконфуцианством выразилось, в частности, в признании Шао Юном совершенномудрых способными «отрешиться от пользы-выгоды и от должной справедливости». Другой создатель неоконфуцианства, Чжан Цзай, пошел на сближение с моизмом в тезисе «Должная справедливость делает общей (гун1) пользу-выгоду Поднебесной» («Чжэн мэн», гл. «Да и» — «Великие перемены»). Открыто в защиту принципа общей пользы-выгоды выступили Ли Гоу (1009–1059), Ху Хун (1102/5-1155/61), Чэнь Лян (1143–1194), Е Ши (1150–1223). Ху Хун наиболее четко провел различие между частной и общей формами пользы-выгоды. Основоположник неоконфуцианской ортодоксии Чэн И прямо отождествил «должную справедливость» с общественно-альтруистическим (гун1) и светло-активным (ян), а пользу-выгоду — с частно-эгоистическим (сы) и темно-пассивным (инь) началом, допустив, однако, возможность их гармонии и полезность-выгодность соблюдения должной справедливости. «[Силою] инь помогающий [силе] ян сформировать (чэн1) вещь — это благородный муж, ею вредящий [силе] ян — это ничтожный человек. Гармония (хэ) пользы-выгоды с должной справедливостью — добро, нанесение ею вреда должной справедливости — недобро» («И шу», цз. 17,19).
Ван Чуаньшань соотнес должную справедливость с дао человека, а пользу-выгоду с его жизненными «функциями» (юн). Янь Юань (Сичжай), утверждавший, что «благодаря должной справедливости осуществляется польза-выгода», переиначил формулу Дун Чжуншу в призыв «выправлять свой долг, чтобы планировать свою пользу-выгоду, и, высветляя (мин2) свой Путь-дао, рассчитывать на свой успех» («Сы шу чжэн у», цз. 1: «Да сюэ»), аргументируя тем, что «совершенно не планировать пользу-выгоду и не рассчитывать на успех — это пустая безучастность (цзи), свойственная гнилым конфуцианцам (фу жу)» («Янь Сичжай сянь шэн янь сан лу» — «Записки слов и дел наставника Янь Сичжая»).
§ 1 Категория «благопристойность» (ли3) как единство этики и ритуала
Термин «ли3» весьма сложен и для перевода и для понимания. Его наиболее распространенные переводы: по-русски — ритуал, нормы, этикет, обряды, церемонии, устав (благочестия), благочиние, регламент достойной жизни, этика, правила приличия, благопристойность, сдержанность; по-английски — cult, culture, worship, religion, (rules of) propriety, rules of proper conduct, deportment, (good) manners, formality, courtesy, etiquette, rites, ritual (action), ceremony, decorum, good form, politeness, good custom, good behaviour, customary morality, institutions, natural law; по-французски — bienseances, convenances, usages sociaux; по-немецки — Anstand, Bildung, gute Sitte, Sittlichkteit, Formlichkeit.
Этим термином выражается одна из центральных категорий китайской философии, главным образом конфуцианства, сочетающая два основных смысла — этика и ритуал. «Ритуализованное» этимологическое значение «ли3» — «культовое действие с сосудом», зафиксированное в его исходной форме, изображающей такой сосуд, — роднит данный иероглиф с фундаментальным онтологическим термином «ти» («тело», «плоть», «строй», «сущность», «субстанция», «телесная сущность»), графическую основу которого составляет изображение того же ритуального сосуда (в современном начертании эти знаки различаются левыми частями: у ти — это элемент «кости» (гу2), у ли3 — «проявлять» (ши8)).
В этимологическом родстве ли3 и ти заложено зерно позднейшей философской онтологизации единого комплекса этики-ритуала в Китае, в котором соответствующее ему понятие «благопристойность» стало мыслиться как выражение важнейшего фактора не только культуросозидания, но и космоупорядочения. Взаимосвязи ли3 и ти были теоретически эксплицированы древнекитайскими философами. Например, в завершающей «Ли цзи» гл. 46/49 сказано: «Всегда великая сущность (ти) благопристойности [образует] сущность (ти) неба и земли, законы (фа) четырех времен [года], правила [сил] инь и ян». В предшествующей гл. 17/19 «Юэ цзи» («Записки о музыке») этого же конфуцианского канона высший онтологический статус «благопристойности» отражают такие ее определения, как «упорядочивающее [начало] (сюй1) неба и земли», «различающее [начало] (бе) неба и земли».
В наиболее общем виде универсальный онтологический смысл «ли3» был придан в «Ли цзи» (гл. 25/28, 17/19, 8/10) посредством определения с помощью омонимичного термина «ли» («принцип»): «Благопристойность — это принципы»; «Благопристойность — это принципы, которые не подлежат изменению»; «Должная справедливость и принципы суть знаки (вэнь) благопристойности».
Если первоначально в дофилософский период (т. е. до середины 1-го тыс. до н. э.) это онтологическое воздействие ли3 считалось основывающимся на религиозном ритуале, то впоследствии оно получило преимущественно этическое истолкование.
Встречающиеся уже в древнейших (конец 2-го — начало 1-го тыс. до н. э.) идеологических памятниках — «Шу цзине» и «Ши цзине» — категория «ли3», согласно их текстологическому анализу, который провел финский синолог П. Никкила, обозначала обряды, дающие возможность преодолеть политические конфликты и отражающие единство мира, а также храмовые, дворцовые ритуалы и формы поведения сановников по отношению к народу[8]. В этих произведениях термин «ли3» был еще слабо разработан, о чем свидетельствует его относительно редкое употребление: в «Шу цзине», состоящем примерно из 25 тыс. иероглифов, он встречается 18 раз, а в «Ши цзине», состоящем примерно из 30 тыс. иероглифов, — 10 раз.
С рождением философского учения Конфуция категория «ли3» обрела самый высокий статус, войдя в шестерку его наиболее значимых ключевых понятий. Об этом свидетельствует и частота употребления данного термина в «Лунь юе»: 74 или 75 раз на примерно 16 тыс. иероглифов текста. Конфуцием категория «ли3» была теоретически осмыслена и превращена в самую общую характеристику правильного общественного устройства и поведения человека по отношению к другим и к себе: «Правитель [должен] руководить подданными посредством благопристойности (ли3)» («Лунь юй», III, 19); «Преодоление себя и обращение к благопристойности составляет гуманность (жэнь) […] Не следует смотреть на несоответствующее благопристойности, не следует слушать несоответствующее благопристойности, не следует говорить несоответствующее благопристойности» («Лунь юй», XII, 1).
Распространение подобного контроля на чувственную сферу стало у Конфуция основой для придания ли3 статуса общегносеологического норматива: «Расширяя [свою] ученость (сюэ) с помощью знаков-культуры (вэнь) и стягивая ее с помощью благопристойности (ли3), можно избегнуть нарушений» («Лунь юй», VI, 25/27, XII, 15).
В целом с самого своего зарождения конфуцианство сосредоточило внимание на категории «ли3», ставшей одним из его важнейших символов. И в китайской духовной традиции именно за Конфуцием закрепился образ первого идеолога и ревностного проповедника ли3, теоретика превращения Срединной империи в «государство благопристойности и музыки». Более того, согласно некоторым конфуцианцам, например: Ли Гоу (1009–1059), Янь Юаню (1635–1704), Лин Тинканю (около 1755–1809), в ли3 заключена главная идея Конфуция. Поэтому неслучайно именно концепция ли3 стала центральной мишенью критических выпадов против конфуцианства со стороны конкурировавших с ним философских школ.
Из основателей таковых только родоначальник даосизма Лао-цзы, согласно древней легенде, встречался с Конфуцием. Сообщение об этой встрече в беллетристической форме впервые зафиксировано в основополагающем даосском трактате «Чжуан-цзы» (гл. 14,21), а затем воспроизведено Сыма Цянем (ок. 145 — ок. 86 гг. до н. э.) в «Ши цзи» («Исторических записках») в биографии как Конфуция (цз. 47), так и Лао-цзы (цз. 63). Верифицированное историографическим каноном описание встречи двух великих философов начинается со знаменитых слов о том, что Конфуций, который смладу не только «любил благопристойность» (хао ли), но и «обучал благопристойности» (сюэ ли), прибыл к Лао-цзы с вопросом о ли3, т. е. именно этот предмет представлен в виде важнейшей проблемы теоретической дискуссии между конфуцианством и даосизмом (историческая малодостоверность данной конкретной встречи лишь подчеркивает символическую значимость ее философского смысла). Высший гносеологический статус ли3 отражен в суждении Сюнь-цзы: «Учение доходит до предела в благопристойности» (Сюнь-цзы, гл. 1).
Даосы обрушились на вымученную искусственность и бесплодный ригоризм конфуцианского ли3 с позиций гедонистического следования природному естеству (см., например, «Чжуан-цзы», гл. 29, 31). В раннем даосизме ли3 представлено как результат последовательной деградации дао, благодати (дэ), гуманности (жэнь), должной справедливости (и) и в свою очередь как источник утраты верности (чжун1) и благонадежности (синь2) («Дао дэ цзин», § 38).
Моисты с позиции социально-экономического утилитаризма («должная справедливость — это польза-выгода») и понимания ли3 как «почтительной осторожности» (цзин3) («Мо-цзы», гл. 40: «Цзин» — «Канон», ч. 1) подвергли критике чрезмерное увлечение конфуцианцев обрядово-церемониальной стороной ли3, ее усложнение до крайне изощренных, трудновыполнимых форм («Мо-цзы», гл. 39). Вместе с тем перекликающееся с моистским определение «Благопристойность — это почтительная осторожность (цзин3) и только» закреплено в конфуцианском «Каноне сыновней почтительности» («Сяо цзин», § 12).
Легисты, также отвергая ли3 как высший принцип социальной регуляции, в качестве альтернативы выдвинули административные правила и юридические законы фа (см., например, «Шан-цзюнь шу», гл. 1).
Само выдвижение указанных принципов в противовес ли3 обнаруживает сверхэтическую природу последнего. Если бы осуществление ли3 обозначало только правильную регуляцию в плане этики, то оно могло бы безболезненно сочетаться и со следованием природному естеству, и с социально-экономическим утилитаризмом, и с административно-правовой законностью, поскольку все это — разные уровни общественного бытия и человеческой жизни. Иное дело — если считать ли3 универсальной нормой, распространяющей свою юрисдикцию на все эти уровни, но тогда подобная норма перестает быть чисто этической (в обычном для нас смысле этого слова).
Конфуцианцы, конечно, не оставляли без внимания критики в свой адрес и развивали собственные взгляды на ли3. Двузначность этого термина, объединяющего «этику» и «ритуал», позволила двум главным последователям Конфуция и основателям противоположных течений в конфуцианстве — Мэн-цзы и Сюнь-цзы — по-разному истолковать «благопристойность»: как внутреннее моральное качество человека и как налагаемую на него извне социальную форму соответственно.
Исходя из признания врожденной доброты человеческой природы (син2), Мэн-цзы утверждал: «Не имеющий отказывающего [себе] и уступающего [другому] сердца — не человек […] Отказывающее [себе] и уступающее [другому] сердце — начало благопристойности». Человеку это начало принадлежит так же, как рука или нога («Мэн-цзы», II А, 6); «Все люди обладают благоговейно-уважительным и почтительно-осторожным (гун цзин) сердцем […] Благоговейно-уважительное и почтительно-осторожное сердце — это благопристойность (ли3) […] Благопристойность (ли3) […] не внедрена в меня извне, она мне исконно присуща» («Мэн-цзы», VI А, 6).
Напротив, доказывая положение об изначальной недоброте человеческой природы, Сюнь-цзы ссылался на то, что человеку от рождения присущи желания и стремления, прежде всего — любовь к пользе-выгоде и плотские страсти, губящие ли3. Правила же ли3 были установлены в обществе древними совершенномудрыми для обуздания злой природы человека («Сюнь-цзы», гл. 23) и являются источником «знаков-культуры» (вэнь) («Сюнь-цзы», гл. 1, 22). Знаменательно при этом, что в определении «ли3» Сюнь-цзы пользовался тем же биномом «гун цзин», что и Мэн-цзы: «Благоговейная уважительность и почтительная осторожность (гун цзин) суть благопристойность» («Сюнь-цзы», гл. 13).
Развивая в самом начале своего сочинения концепцию учения (сюэ) как человекообразующего фактора, Сюнь-цзы утверждал, что таковое должно начинаться с канонов, а завершаться трактатами о благопристойности («Сюнь-цзы», гл. 1). Сам он, как, впрочем, и другие древние авторы, использовал иероглиф «ли3» и для выражения понятия «благопристойность», и для обозначения одноименного трактата или трактатов. Причем в ряде случаев эти смыслы практически невозможно дифференцировать.
Подобное семантическое слияние получило и свое теоретическое оформление. В древнейшем китайском библиографическом каталоге Бань Гу — «Трактате об искусствах и текстах» («И вэнь чжи»)первый раздел, носящий название «Шесть искусств» («Лю и»), посвящен важнейшей канонической литературе. В послесловии к нему развита теория, согласно которой пять канонов — «Юэ» («Музыка»), «Ши» («Стихи»), «Ли» («Благопристойность»), «Шу» («Писания»), «Чунь цю» («Весны и осени») — соответствуют «пяти постоянствам» (у чан) — гуманности (жэнь), должной справедливости (и), благопристойности (ли3), разумности (чжи), благонадежности (синь), а также «пяти учениям» (у сюэ) и «пяти элементам» (у син).
В эпоху Сун (X–XIII вв.) создатели неоконфуцианства стали уделять повышенное внимание категории «ли3» как символу всей конфуцианской традиции. В противовес даосской «Сокровищнице Пути-дао» («Дао цзан») и буддийской «Трипитаке», или «Великой сокровищнице сутр» («Да цзан цзин»), они сформировали собрание основополагающих текстов конфуцианства — «Тринадцатиканоние» («Ши сань цзин»), в состав которого входят уже три произведения, согласно вышеуказанной теории, воплощающих категорию «ли3»: «Чжоу ли» («Благопристойность [эпохи] Чжоу»), «И ли» («Церемониальность и благопристойность») и «Ли цзи» («Записки о благопристойности»).
Особую значимость трактатов о благопристойности также подчеркнули братья Чэн Хао (1032–1085) и Чэн И (1033–1107), выделив из «Ли цзи» две главы — «Да сюэ» («Великое учение») и «Чжун юн» («Срединное и неизменное») в качестве самостоятельных произведений, открывающих «Четверокнижие» («Сы шу»).
В это же время предпринимались попытки вообще выдвинуть «Ли цзи» на первое место среди основных канонов, что сделал, например, Су Сюнь (1009–1065) в «Суждениях о шести канонах» («Лю цзин лунь»)[9].
Аналогичной точки зрения придерживался современник Су Сюня Ли Гоу, который в «Суждениях о благопристойности» («Ли лунь», 1) писал: «Благопристойность — это определитель человеческого Пути (дао), главное в великом учении [конфуцианства]»; «„Гуманность“, „должная справедливость“, „разумность“ и „благонадежность“ суть другие имена благопристойности».
В сунском неоконфуцианстве категория «ли3» получила максимально широкое истолкование, что в своей лапидарной манере выразил его патриарх Чжоу Дуньи: «Принцип называется, благопристойностью» («Тун шу» — «Книга проникновения», § 3), а затем более пространно, как и положено экзегету, кодифицировал Чжу Си: «Благопристойность — это распорядок и знаки (вэнь) небесных принципов. Ведь у всего в Поднебесной есть соответствующий принцип, однако эти принципы не имеют ни фигуры, ни тени. Поэтому, творя определенный знак (вэнь) благопристойности, тем самым очерчивают один небесный принцип, который становится виден людям. Так в учении опираются на циркуль и на угольник. Поэтому и говорится о распорядке и знаках небесных принципов» («Чжу-цзы юй лэй» — «Классифицированные высказывания Учителя Чжу [Си]», цз. 42).
Проделав семантическую эволюцию от «ритуала» к «этике», а точнее, от «этизированного ритуала» к «ритуализированной этике», категория «ли3» в общем смысле стала выражать идею социального, этического, религиозного и общекультурного норматива, вошла в один ряд с такими фундаментальными для китайской философии понятиями, как «гуманность», «должная справедливость», «разумность» и «благонадежность». Однако этим не ограничилось, и уже в древности она онтологизировалась, дойдя до уровня космического дифференциатора и регулятора.
§ 2 Категория «благодать» (дэ): магическая сила и моральный императив
Будучи не просто философским понятием, но и общекультурным символом с религиозно-мифологической аурой — одним из главных конститутивных элементов «китайской идеи», категория «дэ» преисполнена величественной таинственности. Происхождение иероглифа «дэ» восходит к истокам китайской письменности, к гадательным текстам эпохи Шан-Инь (XVI–XI вв. до н. э.). Сущностная связь дэ с фундаментальной для всей китайской культуры мантической практикой отражена, в частности, в термине «Чжоу и» «сы дэ» («четыре благодати»), знаменующем собой четыре основные мантические характеристики гексаграмм. Гадательная практика — это всегда попытка взаимосвязи с высшими, сверхъестественными силами, с эмпирейным миром духов и божеств. Именно такого рода связь и выражал этимон «дэ». В рамках мифологического мышления контакт с высшей силой предполагает овладение ею или, по крайней мере, приобщение к ней. Поэтому в древнейший, дофилософский период своего бытования термин «дэ», подобно океанийской «мане», обозначал и приходящий извне божественный дар, и внутреннюю магическую силу.
Основополагающее свойство этой динамической субстанции, конкретно воплощающей движение «небесного Пути», — способность взращивать, оживотворять, доводить любое явление до максимального развития, предельной актуализации имманентных ему потенций: «Дао рождает, дэ вскармливает» («Дао дэ цзин», § 51). Воздействие дэ на другие объекты, прежде всего на иные его субстантивации, выражающееся в «ответе благодатью на благодать» («Лунь юй», XIV, 34; «Ли цзи», гл. 32/29; «Ши Цзин», II, V, 8, 4, III, III, 2, 6), подчинено капитальному для «коррелятивного мышления» закону бесконтактного дальнодействия, наглядно реализующегося в магнетизме и звуковом резонансе. Классический образ высшей формы человеческого дэ, присущей «единому человеку» (и жэнь) и одновременно «сыну неба» (тянь цзы) — императору, запечатлен в конфуцианском уподоблении последнего Полярной звезде, которая сама по себе неподвижна, но заставляет кружиться вокруг себя все прочие звезды («Лунь юй», II, 1).
Категория «дэ», игравшая важную роль в дофилософском, мифологическом мировоззрении древних китайцев, заняла центральное место в раннечжоуской идеологии X–VII вв. до н. э., отраженной в протофилософских текстах «Шу цзина» и «Ши цзина», а затем с возникновением китайской философии в середине 1-го тыс. до н. э. стала одним из ее наиболее специфичных и конститутивных понятий. В самом общем виде это понятие можно определить как основное качество, обусловливающее наилучший способ существования каждого отдельного явления или присущую ему индивидуальную благодать. Согласно «Ли цзи» (гл. 17/19), «благодать — это завершение (дуань) [индивидуальной] природы (син2)», а по определению Ван Би (226–249) в классическом комментарии к начальному параграфу (чжан1) второй части «Дао дэ цзина» (§ 38), в основном посвященной данной категории, «благодать (дэ) — это достижение (дэ1), постоянное достижение без потерь, получение пользы-выгоды без вреда».
Однако исконное религиозно-мифологическое содержание «дэ» не выгорело в горниле философской рефлексии. Поэтому во множестве своих разносмысленных употреблений в самых разнородных текстах иероглиф «дэ» сочетает в себе признаки трансцендентности и имманентности, объективности и субъективности, чувственности и рациональности, статичности и динамичности, витальности и нормативности, оценочной позитивности и нейтральности и т. д. Все это, разумеется, чрезвычайно затрудняет выработку точной дефиниции «дэ» и соответствующий перевод адекватным термином. Отсюда нередко делается вывод о предпочтительности простого транскрибирования «дэ» и определения его в китайском стиле — через подбор контекстов. Подобный подход может быть даже еще больше усилен ссылкой на Хань Юя (768–824), который назвал «дэ» «пустой позицией» (сюй вэй), т. е. знаком, не имеющим конкретного содержания.
Между тем такого рода абсентеизм противоречит самим основам научной методологии, требующей максимальной отчетливости предмета исследования, что, конечно, не мешает вводить различные допуски дефинитивной точности и ограничения рассматриваемых областей употребления данного термина. С учетом этих оговорок мы продолжаем считать достаточно удачным давно отстаиваемый нами и уже широко распространившийся перевод «дэ» словом «благодать», которое при своей прозрачной двукорневой конструкции без специальных дефиниций выражает как минимум два признака: хорошее качество и данность свыше. Эти признаки «дэ» эксплицитно представлены в китайской литературе определениями посредством знаков «шань» («добрый, благой, качественный») и «дао» («наивысшее благое начало, конкретизирующееся как дэ»).
Критики подобного перевода указывают прежде всего на то, что в отличие от термина «благодать», всегда подразумевающего позитивную оценку своего денотата, дэ может иметь нейтральный (просто «качество») или даже негативный («плохое качество») смысл. Например, в одном из суждений Мэн-цзы под дэ подразумеваются дурные поступки или плохие качества человека, требующие изменения (гай4). («Мэн-цзы», IV А, 14/15; см. также: «Шу цзин», гл. 11, 21/28, 38/46, 39/47, «Ши цзин», III, III, 1, 2; «Ли цзи», гл. 25/22, 28/25; «Цзо чжуань», Вэнь-гун, 18 г., Сюань-гун, 3 г., Чжао-гун, 9 г., 24 г., Дин-гун, 4 г., Ай-гун, 13 г.). Поэтому выдающийся французский синолог С. Куврёр (1835–1919) определил дэ как «доброе или злое расположение души, доброе или злое поведение»[10].
Эта проблема носит общий характер, поскольку практически все термины традиционной китайской философии, будучи и по происхождению, и по функциям словами естественного языка, совмещают в себе дескриптивное содержание с оценочностью и нормативностью (прескриптивностью). Баланс того и другого смысловых компонентов может быть различным: один, как правило, доминантный, а другой — рецессивный. В случае с дэ явно доминирует позитивная оценка денотата в отличие, например, от синонимичного ему в обозначении пяти первоэлементов термина «син» («у дэ» = «у син»), который имеет основной нейтральный смысл «дело-действие» и оценочный обертон «хорошее дело-действие» (проявляющийся, например, в одобрительном и порицательном выражениях «это дело!» и «это не дело!»). Кстати, иногда в предлагаемом вместо «благодати» на роль русскоязычного эквивалента «дэ» как будто бы нейтральном термине «качество» также присутствует позитивная оценка (ср. «знак качества», «качественный продукт»). Однако соотношение дескриптивности и оценочности здесь прямо противоположно ситуации с китайским «дэ», что явно мешает признать «качество» Вполне достойным его семантическим эквивалентом.
Что же касается «негативных благодатей», хотя и нечасто, но встречающихся в китайских текстах, то, с одной стороны, их негативность передается с помощью соответствующих эпитетов, сопровождающих знак «дэ» и свидетельствующих тем самым максимум об оценочной нейтральности последнего, ибо в противном случае в специальных эпитетах не было бы нужды, а с другой стороны, эта проблема уже относится не столько к семантике, сколько к прагматике, т. е. к плюрализму точек зрения, в рамках которого дэ, будучи индивидуальным качеством, — относительно (в отличие от всеобщего и потому абсолютного дао), а следовательно, являясь благодатью для одних, может оцениваться как неблагое другими. К примеру, для даосского персонажа разбойника Чжи (см. «Чжуан-цзы», гл. 29) его немеренная физическая сила — благодать, а для попавших в его руки жертв, чью печень он пожирает, — антиблагодать (ср. «несовместность» гения и зла, но допустимость «злого гения»).
С последним примером связано второе принципиальное возражение против идентификации дэ с благодатью. Область определения «дэ» включает в себя всю сферу материальных объектов, а «благодать» вроде бы относится только к духовной сфере. Но и это не так. В самом широком смысле «благодатью» может быть названо любое природное явление, в том числе самое что ни на есть материальное (ср. «всякую земную благодать», сопоставимую с употребляемой в пищу «ди дэ» — «земной благодатью» («Хуайнань-цзы», цз. 2), и «благодатство», т. е. «богатство»).
Так же обстоит дело и с фундаментальным для всей западной культуры древнегреческим аналогом «благодати» — термином «charis», в русском языке известным по своим производным «харита» и «харизма». В обычном употреблении это слово может быть отнесено ко всяким чувственно привлекательным предметам и реалиям материального мира, собственно, поэтому хариты суть богини физической красоты. Более того, для европейской античности характерно допущение предельной сенсуализации и материализации «благодати», распространяемой на ту же сферу плотских проявлений, которая соответствует эротическому смыслу дэ. Достаточно сравнить трактовку подъятого уда как признака «полноты дэ» в «Дао дэ цзине» (§ 55) с определением того же самого в «Сатириконе» Петрония как «дара благодати»[11].
Однако в христианском контексте слово «charis» постепенно терминологизировалось как обозначение спасающей падшего человека всемилостивой силы божьей. Наличие этого смысла у «благодати» служит третьим аргументом против использования данного термина для перевода иероглифа «дэ». На это можно возразить, что в принципе никакие столь общие категории предельно различных культур, тем более представленные исторически выделенными, глубоко «укорененными» словами естественного языка, не могут совпадать друг с другом во всех присущих им специальных терминологизированных значениях. Вполне достаточно и тождественности основного, «ядерного» смысла. Да и сам китайский контекст способен весьма эффективно отсекать ненужные семантические коннотации.
Вместе с тем ореол религиозного термина у «благодати» в самом общем виде, т. е. без христианизирующей смысловой конкретизации, является в рассматриваемом аспекте как раз положительным фактором, поскольку категория «дэ», обладая безусловным философским статусом, и своим происхождением, и дальнейшим функционированием неразрывно связана с религиозно-мифологическим сознанием. «Дэ», охватывающий все разновидности благодати, — основополагающий термин в религиозных ипостасях и всех автохтонных китайских учений (прежде всего конфуцианства и даосизма), и тех, что проникли в Срединную империю извне (прежде всего буддизма и христианства). Весьма выразительно, в частности, буддийское наименование свастики как «знака благодати» (дэ цзы), свидетельствующее не только о максимальной смысловой широте, но и о символической природе категории «дэ».
Не беря на себя непосильную задачу отразить весь широчайший спектр лексических и терминологических значений «дэ», далеко выходящих за границы сугубо философских построений, мы далее постараемся продемонстрировать центральную философскую коллизию в разнообразных трактовках этих категорий — между ее даосской «архаизацией» как витальной силы («темной-таинственной благодати» — сюань дэ) и конфуцианской «модернизацией» как нравственной нормы («светлой-общепонятной благодати» — мин дэ) в контексте исторической эволюции от «размытого» выражения мистической созидательной потенции и гармонизирующей симпатии к абстрактному обозначению универсальной моральной императивности, т. е. от магии и мантики через онтологию и космологию к этике и моральной метафизике.
Подобно тому как в театре короля играет его свита, в китайской классической философии смысл каждой фундаментальной категории раскрывается кругом коррелятивных понятий. Особенности категориальной системы китайской философии, построенной на полисемантической лексике естественного языка и весьма специфической методике определений, в корне отличной от западных родо-видовых дефиниций, требуют для установления смысла «дэ» обратиться к его анализу с обязательным привлечением ближайших понятий.
Категория «дэ» — одна из самых оригинальных в лексиконе традиционной китайской философии, не имеющая точного терминологического эквивалента в западных языках. Наиболее распространены следующие переводы: рус. — закономерность, манифестация (дао), (постоянные) свойства, (хорошие) качества, дарования, добродетель, достоинство, достижение, достояние, доблесть, благотворение, потенция, способность, энергия, сила; англ. — virtue, character, (moral) power, moral force, particular focus (outlawing) operation (of the Tao), exemplification of Tao; фр. — vertu bienfaisance, bonté, efficience; нем. — Lebenskraft.
Сами китайские ученые определяли эту категорию посредством графически схожего омонима «дэ1»(«достижение», «довление», см. «Ли цзи», гл. 17/19), а также синонимичных иероглифов «шэн3» и «дэн» («подъем», вознесение, «повышение», что в целом соответствует ее пониманию как «усиленного стремления вперед» в первом в Китае полном толково-этимологическом словаре начала II в. «Шо вэнь цзе цзы» — «Изъяснение знаков и анализ иероглифов»). В указанных древнейших определениях отражен этимологический смысл знака «дэ», восходящий к эпохе Шань-Инь (XVI–XI вв. до н. э.) и заключенный в его центральном графическом элементе, который изображает глаз с идущим из него вверх лучом, что означает взор, обращенный к небесному божеству, вышнему источнику всякой благодати.
После проникновения буддизма в Китай иероглиф «дэ» был использован для передачи санскритского термина «гуна» — «качество», «субстанциальное свойство» (букв. «нить»). Данная идентификация приоткрывает два важных аспекта в семантике «дэ»: во-первых, совмещение статики с динамикой, поскольку гуна — единство субстанции и силы; во-вторых, этическую нейтральность, т. е. возможность характеризовать как положительные, так и отрицательные качества, поскольку гуны образуют и активное положительное (саттва), и пассивное отрицательное (тамас) начала.
Западные синологи нередко проводят аналогию «дэ» с первобытным представлением о безличной сверхъестественной силе — мане (М. Гране, Г. Кёстер, В. Эберхард, А. Уэйли, П. Будберг, Д. Манро), соотносят его с индийской идеей кармы (А. Уэйли) или отождествляют с латинским термином «virtus» (А. Уэйли, Дж. Нидэм, Д. Робинсон). При этом, однако, Д. Робинсон отмечает, что понятие «дэ» исключает какое бы то ни было насилие[12], чему действительно можно найти много подтверждений в высказываниях китайских философов («Лунь юй», II, 1, XII, 19, XIV, 33; «Дао дэ Цзин», § 38, 51; «Гуань-цзы», гл. 49; «Хань Фэй-цзы», гл. 20). А между тем — прежде всего воинское мужество, храбрость, стойкость, доблесть, геройство, т. е. как раз то, что весьма тесно связано с насилием; Virtus — богиня воинской доблести. В русском языке «насильственную» семантику этого термина представляет однокоренное с ним слово «вира» — «штраф за убийство» (ср. др. — инд. «vāiram» — «вира», «вражда»).
В связи с отождествлением «дэ» и «virtus» П. Будберг отмечал: «Филологов, однако, беспокоит отсутствие у китайского термина каких-либо дополнительных значений, принадлежащих латинскому этимону vir, а именно: „мужественности“ и „мужества“. Они напоминают нам, что термин „дэ“ свободен от какой-либо связи с сексуальными ассоциациями и отличается этим от парного ему термина „дао“. Путь, который в одном или двух выражениях, таких, как „жэнь дао“ („путь мужчин и женщин“), внушает мысль о сексуальной активности»[13].
Безусловно, понятие «дэ» само по себе не обладает сексуальным смыслом. Однако в даосизме оно распространялось и на эту сферу человеческого бытия, в частности, была принята концепция непосредственной связи между дэ и цзин2 (специфическая категория традиционной китайской идеологии, одновременно обозначающая и дух, и семя). Так в упомянутом § 55 «Дао дэ цзина» «объемлющий полноту дэ» сравнивается с младенцем, которому «неведомо соитие самки и самца, но детородный уд которого подъят, что означает предельность цзин2». А в гл. 20 «Хань Фэй-цзы», где комментируется текст «Дао дэ цзина», сказано: «Для тела (шэнь) накопление цзин2 является благодатью (дэ)».
Таким образом, в целом верное рассуждение П. Будберга требует уточнения. Прежде всего следует разграничить два смысла определения «сексуальный»: 1) присущий одному из полов в отличие от другого; 2) связанный с отношениями двух полов. В приведенной цитате П. Будберг говорит об отсутствии сексуальных ассоциаций у дэ в первом смысле и о наличии таковых у дао — во втором. Но в первом смысле лишено сексуальных ассоциаций и дао, которое поэтому может рассматриваться и как мужской, и как женский предок всего сущего (см., например, «Дао дэ Цзин», § 4, 25), являясь собственно единством мужского (ян) и женского (инь) начал (см. «Си цы чжуань», I, 4/5). Второго же смысла не исключает и категория «дэ». Это явствует из ее связи с «семенем» (цзин2), из определения рождения-жизни (шэн) как «великой благодати (дэ) неба и земли» в «Чжоу и», где говорится и о «соединении [„разнополых“ сил] инь и ян» («Си цы чжуань», II, § 1,5/6), а также из того, что даже разврат (цзянь) мог квалифицироваться китайскими мыслителями как дэ.
Особый случай половой дифференциации — соответствующее сопоставление дао и дэ, в котором первая категория, как иерархически более высокая, естественным образом занимает мужскую позицию, а вторая — женскую. Так, в гл. 41/44 «Ли цзи» («Брачный долг» — «Хунь и») сказано: «Сын неба полагает принципы (ли) мужского Пути (ян дао), [его] супруга упорядочивает (чжи8) женскую благодать (инь дэ)». В подобной диспозиции «дэ» выступает прямым антонимом «virtus».
В отечественной синологии имела место и полемика по поводу отождествления даосской категории «дэ» с другим понятием классической европейской философии. Несмотря на существование таких дэ, как разврат и разбой, Л.Е. Померанцева, проводя аналогию между «дэ» и греческим термином «agathon» («благо»), указала на понятийную близость даосского «дэ» и платоновского «блага»[14]. Ей возразила Т.П. Григорьева, которая сформулировала два контраргумента. Согласно первому, греческое благо — абсолютное положительное начало, тогда как дэ может быть большим или меньшим, лучшим или худшим (примечательно, что Т.П. Григорьева ссылалась на те же тексты Платона, что и Л.Е. Померанцева); согласно второму, «даосы в принципе, по самой своей сути, не могли назвать „дэ“ „благом“, поскольку избегали называть вещи именами»[15].
Эти доводы выглядят неубедительными. По поводу первого аргумента необходимо заметить, что в даосизме дэ само по себе столь же абсолютно благостно, как и благо Платона; другое дело, что оно может в большей или меньшей степени присутствовать в отдельных вещах, но и солнцеподобное благо в разной степени одаряет своим светом различные вещи. Что же касается второго аргумента, то речь идет не о наименовании объекта дэ термином «благо», а о наличии у термина «дэ» смысла «благо»; к дэ как объекту даосы во множестве прилагали не менее «сиятельные» эпитеты, чем Платон — к благу.
Вместе с тем нельзя не указать и на принципиальные различия между дэ и платоновским благом. Во-первых, благо у Платона — наивысшее беспредпосылочное начало, тогда как дэ вторично, ибо имеет в качестве своей предпосылки дао; появляясь «после» (хоу) него и взращивая порожденное им («Дао дэ Цзин», § 38, 51). В этом отношении более близки дао и благо: оба они отождествляются с Единым и представляются дающими существование всем вещам.
Во-вторых, благо — абсолют в единой иерархии логически упорядоченных понятий (благо само по себе — идея), поэтому его различные воплощения непротиворечивы; дэ — собирательный образ всего множества разнонаправленных сил, действующих в плюралистическом мире, поэтому различные его воплощения противоречивы и способны приходить в столкновение друг с другом. Сочетание «у дэ» («пять благодатей») было использовано Цзоу Янем (IV–III вв. до н. э.) как синоним «у син» («пять элементов»), и с того времени за ним закрепилось данное значение. Идентификация «пяти благодатей» с «пятью элементами» совершенно очевидно обнаруживает их динамически-силовой аспект (ибо «у син» — «пять действий»), а также сложную гамму отношений друг с другом в амплитуде от взаимопорождения (сян-шэн) до взаимопреодоления (сян-шэн1), или взаимопокорения (сян-кэ). То, что для конкретного индивида является его «частным», «отдельным» «пристрастным» дэ (сы дэ, ли дэ, би дэ) — например, незаконное обогащение или прелюбодеяние — с точки зрения «одинакового», «единого», «правильного», «общего» «светлого» дэ (тун дэ, и дэ, чжэн дэ, гун дэ, мин дэ) оценивается как «нечестивое», «темное», «слабое», «дряхлое», «беспорядочное», «злое», «низкое», «ничтожное», «неистовое», «порочное», «варварское», «плохое» дэ (сюн дэ, хунь дэ, лян дэ, шуай дэ, луань дэ, бао дэ, ся дэ, сяо дэ, тао дэ, хуй дэ, и дэ1, э дэ). Таким образом, все дело состоит в различии точек отсчета.
В-третьих, благо телеологично, а дэ — детерминистично (к примеру, в «Чжуан-цзы» (гл. 4) говорится: «Знать, что тут ничего не поделаешь, и спокойно принимать это как предопределение (мин1) есть предел дэ»).
Поскольку специфику человека китайские мыслители усматривали в способности придерживаться должной справедливости — и и благопристойности — ли3, его дэ они в основном понимали как добродетель. Но в принципе и применительно к человеку категория «дэ» могла употребляться в самом общем смысле, т. е. означать, допустим, высокий рост, дородность и красоту в ситуации, где для жизнедеятельности индивида наиболее ценным оказывалось именно это.
Из категорий древнегреческого философского лексикона с дэ может быть сопоставлена «aretẽ» («добродетель»), тем более что взаимосвязь между благом и добродетелью (например, в учении Платона) имеет определенное сходство с взаимосвязью между дао и дэ (как она представлена, например, в «Дао дэ цзине» и «Да сюэ»).
Что же касается широты понятия дэ, далеко выходящего за рамки этического, то понятие «aretẽ» и в этом ему мало чем уступает. «Надо сказать между тем, — учил Аристотель, — что всякая добродетель и доводит до совершенства то, добродетелью чего она является, и придает совершенство выполняемому им делу. Скажем, добродетель глаза делает доброкачественными (spoydaios) и глаз, и его дело, ибо благодаря добродетели глаза мы хорошо видим. Точно так же и добродетель коня делает доброго (spoydaios) коня, хорошего (agathos) для бега, для верховой езды и для противостояния врагам на войне» («Никомахова этика», II, 5 (VI), 133, 16–21)[16]. Пример с «добродетелью коня», заимствованный Аристотелем у Платона («Государство», кн. 1, 335 в)[17], весьма схож с рассуждением Конфуция о «добродетели» (дэ) лихого скакуна («Лунь юй», XIV, 33).
Подобно китайским философам, видевшим в дэ атрибут неба (тянь дэ) или неба и земли (тянь ди чжи дэ), т. е. Природы и космоса (см., например: «Чжуан-цзы», гл. 12, 13, 15; «Ли цзи», гл. 7/9), стоики рассматривали добродетель в общекосмическом плане: «В самом деле, нет ничего совершеннее мироздания, нет ничего лучше добродетели, следовательно, добродетель — принадлежность мироздания» (Цицерон. «О природе богов», II, 14)[18]
Сближает дэ с aretẽ и присущий им телесный характер: в «Кинегетике» Ксенофонта говорится о «теле добродетели» («sõma aretẽs»)[19], а в «Ли цзи» — о «добродетели, пропитывающей тело» (дэ жунь шэнь) (гл. 39/42 = «Да сюэ», II, 6) и том, что «добродетель (дэ) — это достигаемое (дэ1) в теле (шэнь)» (гл. 42/45). Дэ представляется «пропитывающей» субстанцией, поскольку ее символ (сян) — вода («Дао дэ цзин», § 8; «Чжуан-цзы», гл. 15).
В целом такие телесные качества, как острота чувств, сила, красота и здоровье, были выделены древнегреческими философами в категорию врожденных «естественных добродетелей» (см., например: Марин. «Прокл, или О счастье», З[20]). В китайской философии естественность дэ определялась как «несодеянность» (у вэй) и «небесность» (тянь): «То, чем деется несодеянное, называется небом; то, о чем речется как о несодеянном, называется благодатью» («Чжуан-цзы», гл. 12).
Отличает же «добродетель»-aretẽ от «дэ» то, что роднит ее с «virtus», а именно семантика, связанная с насилием, — «доблесть», «геройство», «мужество». Описывая словами Сократа одну из добродетелей — мужество, Платон как самоочевидную истину выдвигает положение: идти на войну — прекрасно и хорошо («Протагор», 359 е)[21]. Впрочем, и у дэ есть связи с мужеством, хотя, видимо, только моральным: «Знание, гуманность и мужество (юн) — это три способа, которыми в Поднебесной проводится добродетель (дэ)» («Чжун юн», § 20).
О том, что здесь скорее всего подразумевается не военное или физическое мужество, свидетельствуют и контекст (сочетание с гуманностью и знанием), и положения других конфуцианских памятников. Например, в «Го юй» («Государственные речи», IV–III вв. до н. э.) при обсуждении военных действий говорится, что «мужество (юн1) противоречит добродетели (дэ)» (цз. 21).
Поэтому кажется оптимальным переводить «дэ» словом «благодать», имея в виду, что дэ — нечто данное от дао, сопоставимого с благом. Хотя к дэ неприменимо европейское противопоставление «благодать — природа», ибо оно природно, т. е. «порождаемо Небом» (см., например, «Лунь юй», VII, 23/24), оппозиция небесного (естественного) дэ и человеческого искусственного, в особенности административно-правового закона фа в принципе соответствует европейскому противопоставлению закона и благодати (ср.: «Слово о законе и благодати»). Уже Конфуций сформулировал тезис, основанный на подобном противопоставлении: «Если осуществлять Путь (дао) посредством администрирования и наводить порядок посредством наказаний, то народ будет [их] избегать и лишится стыда. Если же осуществлять Путь (дао) посредством благодати (дэ) и наводить порядок посредством благопристойности (ли3), то народ будет иметь стыд и будет выправлен» («Лунь юй», II, 3).
В основополагающей для легизма «Книге правителя [области] Шан» («Шан-цзюнь шу», гл. 7) причинно-следственная связь между методом управления и характером народа перевернута, но сама оппозиция закона и благодати играет точно такую же роль: «В древности народ был прост и оттого искренен, ныне народ ловок и оттого лукав. Поэтому, соответствуя древности, устанавливают порядок на основе благодати, а соответствуя современности, осуществляют закон на основе наказаний».
Приведенная цитата демонстрирует еще один семантический оттенок «дэ» — как антонима «и5» («искусство», «ремесло»), а именно связь с безыскусностью, простотой, естественностью, органичностью. Прямое противопоставление «дэ — и5» содержится в гл. 17/19 «Ли цзи»: «Совершенство благодати (дэ) — верхнее, совершенство искусства — нижнее». Понятно, что правовые нормы, в особенности с наказующим уклоном, оказывались в ином ассоциативном ряду — в сфере искусственности и неорганичности.
С подобным противопоставлением в китайской классической философии связано конфуцианско-легистское размежевание по признаку ориентации на этико-ритуальную «благопристойность» (ли3) либо на политико-юридический «закон» (фа). Конфуцианский приоритет благопристойности как главной социальной нормы и соответствующего управления людьми посредством дэ вытекает из утвержденного Мэн-цзы тезиса об исконно доброй (шань) природе человека, а противоположная позиция легистов, отдавших приоритет закону и соответствующему управлению людьми посредством наказаний и наград, обусловлена близостью к выдвинутому Сюнь-цзы тезису об исконно злой (э) природе человека. В данном случае действительно метод — управление людьми согласно благодати (дэ) — стал аналогом предмета — доброты человеческой природы.
Собственно, об оценочно-позитивном смысле и «дао», и «дэ» в самом общем виде свидетельствует их взаимосвязь с категорией «шань» («добро»). Универсальное описание мирового процесса как Пути-дао, атрибутом которого является добро-шань, содержится в философской части «Чжоу и»: «Одна инь, один ян — это называется Путем (дао). Продолжение этого есть добро (шань)» («Си цы чжуань», I, 4/5). В свою очередь, прямые свидетельства о понимании дэ как конечного модуса добра-шань, мыслимого в качестве «продолжения дао», встречаются в других канонических произведениях, в частности в «Шу цзине» (гл. 3): «Благодать (дэ) — это управление, [основанное на] добре (шань)» и в «Ли цзи» (гл. 17/19): «Если музыка добра (шань), то действия (син) сообразны (сян) благодати (дэ)». В «Чжуан-цзы» (гл. 7) «шань» прямо синонимизируется с «дэ» в притче о владыке Центра — Хаосе, чье гостеприимство сначала называется «добротой» (шань), а затем «благодатью» (дэ), и в предшествующей истории о Ле-цзы, где «пружина» (цзи4) жизненной силы определяется и как «благодатная», и как «добрая».
Вместе с тем очевидная взаимосвязь дэ с добром-шань может быть правильно понята лишь с учетом вышеуказанной широты семантики иероглифа «шань», далеко выходящей за пределы этики и проникающей в эстетическую (со значением «красота» — ср. «добрый молодец»), праксиологическую (со значением «умелость» — ср. «добрый мастер») и другие нормативно-оценочные сферы. К примеру, Конфуций называл «добрым» (шань) все то, чему можно научиться («Лунь юй», VII, 21/22), т. е. именно нормативное и ценное в самом широком смысле.
В китайской культуре данный лингвистический факт находится в полном соответствии с философским толкованием «шань» как универсальной (а не специфически этической) нормативно-оценочной и вместе с тем онтологической категории. Именно поэтому в процитированном пассаже «Чжоу и» («Си цы чжуань», I, 4/5) «добро» названо «оформляющимся» (чэн1) в индивидуальную природу (син2) «продолжением» (цзи12) Пути-дао, что пояснялось Чжу Си: «В плане неба и земли добро — предшествующее, а [индивидуальная] природа — последующее» («Чжу-цзы юй лэй», цз. 5). Дай Чжэнь же, трактуя «продолжение» как «отношение человеческого существа к небу и земле», определял «добро» с помощью еще одного набора терминов из «Чжоу и» (гексаграмма № 1, «Вэнь янь чжуань» — «Предание знаков и слов») — «срединное и правильное, чистое и рафинированное» и уточнял, что «добро каждого дела означает его согласованность (хэ1) с небом» («Мэн-цзы цзы и шу чжэн» — «Смысл терминов „[Трактата] Учителя Мэна“ в истолковывающих свидетельствах», цз. 3). Следовательно, такова же и доброта дэ, выступающего в качестве формообразующего начала, превращающего хаос в порядок. Согласно такому пониманию в «Записках о музыке» («Юэ цзи», гл. 17/19 «Ли цзи») музыка (юэ1) определяется как «благодатные звуки» (дэ инь).
«Дэ» принадлежит к числу не только древнейших категорий китайской философии, но и вообще древнейших слов китайской письменности. Соответствующий иероглиф встречается уже в иньских надписях на гадательных костях — самых древних образцах китайской письменности (вторая половина 2-го тыс. до н. э.). Разумеется, философский статус термин «дэ» приобрел лишь с возникновением философии как таковой. Однако этому этапу семантической эволюции дэ от магико-природной силы до морально-метафизического императива предшествовал, так сказать, пренатальный период, отраженный в двух важнейших протофилософских произведениях, канонизированных конфуцианством, — «Шу цзине» и «Ши цзине». Специальное исследование шести важнейших конфуцианских категорий, включая дэ, дао и тянь («небо»), в этих двух памятниках осуществил финский синолог П. Никкила, пришедший к следующим выводам.
Сначала на основе строгого текстологического анализа наиболее репрезентативного для первоначального конфуцианства памятника «Лунь юй» ученый выделил шесть ключевых категорий: тянь — «небо», дэ — «добродетель» («благодать»), дао — «путь», ли3 — «обряды» («благопристойность»), и — «справедливость» («долг»), жэнь — «доброта» («гуманность»). Конкретное изучение всех употреблений данных терминов в произведениях, наиболее адекватно представляющих доконфуцианскую идеологию эпохи Чжоу (XI–VII вв. до н. э.), т. е. в «Шу цзине» и «Ши цзине», должно, по замыслу П. Никкилы, дать ответ на вопрос: построил ли с их помощью Конфуций новую идеологическую систему (философию)?
В итоге детального разбора контекстов «Шу цзина», включающих интересующие нас термины, автор предложил такую генерализацию их значений. Дэ — главная добродетель в чжоуской мысли, унаследованная из древности (по крайней мере, от эпохи Инь, XVI–XI вв. до н. э.) и выражающая принцип гармонизации как общества, так и всего универсума. Дао означает «поведение» или «продвижение», а также Путь государя и Неба. Тянь — Небо, дающее начало всем вещам и принципам, направляющее ход истории посредством добродетельных (дэ) государей, за чьими действиями оно наблюдает глазами народа. Если правящая власть приобретает аморальные черты и тем самым вносит в мир дисгармонию, Небо восстанавливает порядок, сменяя правителя (династию) или, как в случае с династией Чжоу, пуская в ход воспитующие и наказующие меры.
В «Ши цзине» разбираемые термины фигурируют в иных значениях. Дэ там — добродетель государя, беспристрастного, заботящегося о жертвоприношениях, служащего образцом для народа, объединяющего империю и распространяющего на нее эту свою добродетель; внутри семьи супружеская верность и сыновняя почтительность. Дао по большей части — просто дорога. Тянь — невыразимая грандиозная и величественная сила, создавшая мир, народ и этические ценности, использующая государей и их чиновников для управления миром.
Важнейшим результатом тщательного исследования П. Никкилы стало установление двух фактов; с одной стороны, появлению конфуцианства (VI–V вв. до н. э.) предшествовал двухвековой период упадка чжоуской идеологии, а с другой стороны, в обеих идеологических системах ключевыми были понятия «тянь» и «дэ».
§ 3 Категории «путь» (дао), «орудийные предметы» (ци2) и «великий предел» (тай цзи): синергия неба и человека в благом абсолюте
Теснейшим образом примыкающей к дэ в ее «ближнем круге» является, несомненно, категория дао. Собственно говоря, эти категории в паре могут выступить в качестве предельно обобщенного определения всего содержания китайской классической философии, наподобие того, как всю западную философию можно считать совокупностью «физики» и «метафизики» или «теоретической» и «практической» философии. В высшей степени показательно, что самый глубокий трактат «золотого века» китайской классической философии, т. е. периода формирования ее внутренней парадигмы, озаглавлен с помощью этих двух категорий. Речь идет о «Дао дэ цзине».
Любопытно, что в его древнейшем списке (II в. до н. э.), найденном в кургане Мавандуй близ города Чанша (пров. Хунань), тематическое деление на две части противоположно традиционному, т. е. текст представляет собой «Канон дэ и дао», а не «дао и дэ». Случайно или нет, но подобная архитектоника соответствует историческому приоритету дэ как основополагающей категории идеологии и культуры Древнего Китая. В ходе дальнейшей эволюции теоретический приоритет перешел к термину «дао», прочно занявшему первое место в сочетании «дао дэ». При этом следует иметь в виду, что корреляция дао и дэ носит более сложный характер, нежели, например, антонимичных инь и ян. Элементы последней пары выводимы друг из друга (т. е. редуцируемы до одного репрезентанта), а дао и дэ — нет.
Иероглиф «дао» («путь», «подход», «график», «функция», «метод», «закономерность», «принцип», «класс», «учение», «теория», «правда», «мораль», «абсолют», англ. «way (of action)», «road», «path», «reason», «principle», «truth», «doctrine», «teaching», «absolute», фр. «voie (du devoir)», «foute», «moyen», нем. «Sinn») этимологически восходит к идее главенства (шоу) в движении-действии-поведении (син). Помимо дэ ближайшая к дао коррелятивная категория — ци2 («орудийный предмет»). В современном языке бином «дао-дэ» означает «мораль», «нравственность». Термином «дао» передавались, в Китае буддийские понятия марга (mārga) и патхи (pathi), выражающие идею пути и способа, прежде всего четвертой «благородной истины» и «восьмеричного пути», а также бодхи (bodhi) — «просветление», «пробуждение». Эквивалентами дао часто признаются Логос и Брахман. Иероглиф «дао» входит в обозначение ведущих направлений китайской философии — даосизма (дао цзя, дао цзяо; зап. — европ. taoism) и неоконфуцианства (дао сюэ). В «Мо-цзы» (гл. 39) «учением о дао» (дао цзяо), в «Чжуан-цзы» (гл. 33) «искусством (техникой) дао» (дао шу) названо и первородное конфуцианство.
В качестве высшей категории в различных философских системах дао определялась по-разному, поэтому предшественник неоконфуцианцев Хань Юй в специальном эссе «Юань дао» («Обращение к началу Пути») назвал ее, как и дэ, «пустой позицией», не имеющей точно фиксированного смысла. По-видимому, в этой особенности заключено объяснение того странного факта, что не обладающий, согласно исследованию А.М. Карапетьянца, «никаким специфически конфуцианским значением» термин «дао»[22] использовался современниками первородного конфуцианства (по крайней мере монетами и даосами) как его определение. Здесь же находит подтверждение и предположение П. Никкилы, что серьезное различие в семантике «дао», прослеживаемое в текстах «Шу цзина» и «Ши цзина», продолжалось и в разных осмыслениях этого термина разными философскими школами.
В отличие от неантонимичной парности дэ и дао, другой коррелят последнего — ци2 — ему противопоставляется. Термин «ци2» («орудийный предмет», «конкретное явление», «способность») первоначально обозначал (ритуальные) сосуды и (ремесленные) орудия, поэтому с ним связаны идеи специализации и полезности (ли2), в частности культовой утилитарности и ремесленно-военной «остроты» (другое значение «пользы-выгоды» ли2) инструментов и оружия (см. «Лунь юй», XV, 10; «Си цы чжуань», I, 10/11; «Дао дэ цзин», § 11, 29, 36; «Мэн-цзы», V Б, 4). Стремление показать, что всеобщность стоит превыше любых конкретных способов ее реализации, привело первых китайских философов к противопоставлению ци2 («орудийных предметов» и обусловленных ими специальных способностей) как универсальности (чжоу) «благородного мужа» («Лунь юй», II, 12, 14), так и «первозданной простоте» (пу) мироздания («Дао дэ цзин», § 28). Последняя в «Дао дэ цзине» выступает ипостасью дао, которое тем самым становится в оппозицию «орудийным предметам» (§ 15, 28, 32, 37, 80). В качестве же «отсутствия-небытия» (y1) дао определяет главную функцию ци2 как сосуда — способность вмещать в себя (§ 11), т. е. ци2 представляется орудием дао. Фундаментальная оппозиция «дао — ци2» («Путь — орудийные предметы») терминологически была впервые оформлена в «Си цы чжуани» (I, 12).
Уже в «Шу цзине» термин «дао» обрел абстрактные значения «поведение», «продвижение», «путь государя и Неба» и был соотнесен с «дэ» — также достаточно абстрактным выражением социальной и космической гармонии (гл. 3, 36/44, 44/52). С самого возникновения китайской философии центральным для нее стал вопрос о соотношении человеческого и небесного, т. е. общеприродного, дао. (В узком понимании «небесное дао» означало ход времен или движение звезд с запада на восток в противоположность движению Солнца с востока на запад.) Конфуций сделал дао и дэ основополагающими философскими категориями, сосредоточившись, однако, на их человеческих, а не на небесных ипостасях, которые взаимосвязаны, но могут проявляться и независимо друг от друга («Лунь юй», V, 12/13, XII, 19).
Он конкретизировал дао в различных наборах понятий: сыновняя почтительность и братская любовь («Лунь юй» I, 2), верность (чжун1)и взаимность (шу1), т. е. «золотое правило» морали (IV, 15), гуманность (жэнь), знание и мужество (XIV, 28), собственное достоинство, уважительная осторожность, милостивость и должная справедливость (V, 15/16), правильные телодвижения, выражения лица и речь (VIII, 4).
В общем смысле дао в «Лунь юе» — благой ход общественных событий и человеческой жизни, зависящий как от предопределения (мин1) (XIV, 36/38), так и от отдельной личности (XV, 29). Его носителем выступает индивид, государство, все человечество (Поднебесная), эпоха (см., например: IV, 15, VIII, 13, XV, 25). В силу различия носителей различны и их дао (XV, 39/40): прямое и кривое (XVIII, 2), большое и малое (XIX, 4), присущее «благородному мужу» (цзюнь цзы) и «ничтожному человеку» (сяо жэнь) (XVII, 4).
Соответственно разнятся и дэ (XIX, 11). Благодать изреченна, более того, она родит дар слова (XIV, 4/5), состоит в верности, благонадежности (синь2) и должной справедливости (XII, 10), противостоит прельщающей внешности (цветовому образу — сэ) (IX, 17/18, XV, 12/13; ср. «Ши цзин», III, I, 7, 7) и почвенной закоренелости (ту) (IV, 11). Благодатью следует отвечать на благодать, а не на вражду (XIV, 34/36), что согласуется с мыслью «Ши цзина» (III, III, 2, 6): «Нет безответной благодати». В отношениях же между разными дэ благодать «благородного мужа» доминирует над благодатью «ничтожного человека», как ветер — над травой (XII, 19). Идеальна гармония между благодатями правителя и подданных, подчеркиваемая главным тезисом «Да сюэ» об общественном благоустройстве как «выявлении (буквально: высветлении. — А.К.) светлой благодати (мин дэ) в Поднебесной», которое предполагает предварительное духовное и телесное совершенствование личности.
Последователи Конфуция и представители других школ универсализировали концепцию двух главных видов дао и дэ, различая также дао порядка (чжи8) и смуты, древнее и современное, правильное и ложное, гуманное и негуманное и др., а кроме того, всеобщее и индивидуальное дао (см., например: «Мэн-цзы», III Б, 2; IV А, 2; VII Б, 16/17; «Хань Фэй-цзы», гл. 20). Согласно «Лунь юю», Поднебесная может вообще утрачивать дао (III, 24; VIII, 13; XVI, 2), но утрата дао людьми не оправдывает их казней (XII, 19). В идеале единое дао (IV, 15) должно быть познано. Его утверждение в мире исчерпывает смысл человеческого существования (IV, 8); при отсутствии дао в Поднебесной следует скрываться, отказываться от службы (VIII, 13, XV, 6/7).
Уже ближайшие ученики Конфуция придали высшей ипостаси дао (великое — да дао, всепроникающее — да1 дао) универсальный онтологический смысл. В «Чжун юне» дао «благородного мужа» или «совершенномудрого» определяется как исходящая из индивида общекосмическая сила — «упрочивающаяся на небе и земле», «основывающаяся (чжи2) на навях и духах» (§ 29), приводящая к благодати — дэ (§ 33). Подлинность (искренность — чэн) составляет небесное, а ее осуществление — человеческое дао (§ 20). Обретший предельную подлинность способен образовать триединство с небом и землей (§ 22). Дао неба и земли «недвойственно» по отношению к вещам и «неизмеримо» в их порождении (§ 26).
Апогея подобная онтологизация дао достигла в творчестве создателя первой официальной и ортодоксальной версии конфуцианства Дун Чжуншу, который выдвинул тезис: «Великий исток Пути-дао исходит из Неба» — и в соответствии с принципом «подобия (ю3) телесной личности Небу» и «единства Пути» (дао и) Неба и человека определил: «Следование небесному Пути (тянь дао) для пестования телесной личности называется Путем-дао» («Чунь цю фань лу», цз. 10, гл. 35, цз. 16, гл. 77). Последний также представляет собой «дорогу, по которой приходят к порядку (чжи8), используя в качестве средств (цзюй3) гуманность и должную справедливость, благопристойность и музыку» («Дун Чжуншу дуй цэ и» — «Первый ответный Доклад Дун Чжуншу»).
В свою очередь у антропологизированного «небесного Пути величие (да) состоит в [силах] инь и ян, из которых первая образует благопристойность, а вторая наказания (син3)». Реминисцируя положение «Шу цзина» (гл. 3) об «удержании их середины (чжун)» в сочетании «сердца человека» (жэнь синь) и «сердца Пути» (дао синь), Дун Чжуншу утверждал, что «объединяющее (цзянь1) выдвижение (цзюй1) Пути Неба и человека называется „удержанием их середины“» («Чунь цю фань лу», цз. 17, гл. 80).
Кроме указанных выше наиболее тесно примыкают к дао понятия «предопределение» (мин1), «[индивидуальная] природа» (син2), «телесная форма» (син1). В «Да Дай ли цзи» («„Записках о благопристойности“ Старшего Дая») они взаимоувязываются следующим образом: «Обладание долей Пути-дао называется предопределением. Обладание телесной формой в качестве индивида (единицы) называется [индивидуальной] природой» (гл. «Бэнь мин» — «Коренное предопределение»).
Соотнесены данные понятия и в «Чжун юне», где дао означает следование самому себе (§ 25) или своей индивидуальной природе, предопределяемой небом. Совершенствование в дао, от которого нельзя ни на миг отойти, есть обучение (цзяо). Гармония (хэ) составляет всепроникающее дао Поднебесной (§ 1), конкретизирующееся в пяти видах отношений: между правителем и подданным, отцом и детьми, мужем и женой, старшими и младшими братьями, друзьями и товарищами. Реализуется это дао посредством знания, гуманности и мужества — троякой всепроникающей благодати (да дэ) Поднебесной (§ 20), что тождественно троякому дао «Лунь юя» (XIV, 28). На обыденном уровне познание и осуществление дао доступно даже глупым и никчемным, но в своем предельном выражении оно содержит нечто непознаваемое и неосуществимое даже для «совершенномудрых» (§ 12). Зародыш этой идеи сверхчеловеческого компонента дао содержался в «Шу цзине» (гл. 3), где противопоставлены «сердце человека» и «сокровенное» (вэй3) (ср. «Дао дэ цзин», § 14) «сердце Пути-дао».
В «Мэн-цзы», аналогично «Чжун юну», подлинность (чэн) определяется как небесное дао, а помышление (забота — сы1) о ней — как человеческое дао (IV А, 12). Дао «совершенномудрых» Яо и Шуня сводится лишь к сыновней почтительности и братской любви (VI Б, 2). В целом дао представляет собой соединение человека и гуманности (VII Б, 16). Смерть после полной реализации (исчерпания) своего дао и есть исполнение правильного предопределения (чжэн мин) (VII А, 2). Многие, однако, следуют своему дао, не осознавая этого (VII А, 5). Небесное дао предопределено, но кое в чем зависит и от индивидуальной природы (VII Б, 24), хотя в целом попытки воздействия на дао и предопределение бесполезны (VII А, 3). Если Конфуций, оценивал середину дао как недостаточность («Лунь юй», VI, 12), то Мэн-цзы видел в этом (или срединном дао) гармоническое состояние (VII А, 41, VII Б, 37).
Сюнь-цзы, с одной стороны, гиперболизировал всеобъемлемость дао, объявив всю тьму вещей одним его «боком» («Сюнь-цзы», гл. 17), с другой стороны, назвал «совершенномудрого» «пределом» (цзи8) дао (гл. 19). «Пределом» человеческого дао он считал благопристойность (гл. 19). Начав связывать дао с понятием «принцип» (ли) (гл. 2, 9, 12), Сюнь-цзы не ставил под сомнение телесную оформленность того и другого: «Предельное (чжи9) дао — великая форма (син1)» (гл. 12). Познание дао предполагает его «телесное воплощение» (ти) (гл. 21). Постоянное в своей телесной сущности (ти), дао бесконечно изменчиво, поэтому в отличие от обычных вещей неопределимо по одной из своих сторон (гл. 21; ср. «Лунь юй», VII, 8). Посредством великого дао изменяются (бянь1), трансформируются (хуа) и формируются (чэн1) все вещи (гл. 31). Следование дао предполагает обуздание страстей (гл. 20), индивидуальное накопление благодати (цзи дэ) (гл. 8), его предварительное выявление (бяо) (гл. 17) и познание. Последнее — задача сердца, исполненного пустоты, сосредоточенности и покоя. Знание дао дает возможность «взвешивать» (хэн) всю тьму вещей (гл. 21). Наряду с «предельным» (чжи9) (гл. 8, 12), «великим» (да) (гл. 12, 31), «генеральным» (гун1) (гл. 12, 13, 16), всеохватным (чжоу) (гл. 5, 21), «упорядочивающим» (чжи8) (гл. 5), свойственным «благородному мужу» (цзюнь цзы) (гл. 4, 19) существует «малое» (сяо) (гл. 18), «беспорядочное» (луань) (гл. 5), «порочное» (се) (гл. 8), «развратное» (цзянь) (гл. 7, 8, 10), «воровское» (тоу) (гл. 10), а также присущее «ничтожным людям» (сяо жэнь) (гл. 4), «беспорядочным людям» (луань жэнь) (гл. 16), «развратным людям» (цзянь жэнь) (гл. 19) дао.
В «Мо-цзы» трактовка дао мало чем отличается от раннеконфуцианской.
Оппозиционная конфуцианской важнейшая теория дао была развита в даосизме. Ее главная особенность — упор на небесную, а не человеческую ипостась дао, что отмечено уже в «Сюнь-цзы» (гл. 21) при характеристике Чжуан-цзы, согласно которому действительно «дао объединяется в небе» («Чжуан-цзы», гл. 12). Конфуцианцы, сосредоточившие свое внимание на человеческом дао, исходили из его словесно-понятийной выразимости и даже самовыразимости, активно используя такие значения дао, как «высказывание», «изречение», «учение». Поэтому противостоявшие им даосы сразу заявили о словесно-понятийной невыразимости высшего дао(«Дао дэ цзин», § 1, 14, 25, 32, 41). Специально оговоренная ими условность термина «дао» вылилась затем в его оценку Хань Юем как «пустой позиции».
В раннем даосизме на первый план выдвинулись парные категории дао и дэ, которым посвящен главный даосский трактат «Дао дэ цзин» и две специальные главы «Чжуан-цзы» (гл. 5, 13 — «Свидетельства полноты благодати» («Дэ гун фу») и «Путь Неба» («Тянь дао»)). В «Каноне Пути и благодати» дао, как и в конфуцианстве, выступает в двух основных ипостасях: 1) одинокое, отдельное от всего, постоянное, бездеятельное, пребывающее в покое, недоступное восприятию и словесно-понятийному выражению, безымянное, порождающее отсутствие-небытие, дающее начало Небу и Земле; 2) всеохватное; всепроникающее, подобно воде; изменяющееся вместе с миром; действующее; доступное «прохождению», восприятию и познанию; выразимое в имени-понятии, знаке и символе; порождающее наличие-бытие (ю); являющееся предком тьмы вещей (§ 1, 4, 14,18, 25, 32, 34, 40, 41, 42, 53, 81). Кроме того, в «Дао дэ цзине» противопоставлены друг другу справедливое — небесное и порочное — человеческое дао (§ 77), а также признается возможность отступлений от него (§ 30, 33, 55) и вообще его отсутствия в Поднебесной (§ 46).
В качестве «начала», «матери», «предка», «корня», «корневища» (ши9, му, цзун, гэнь, ди1 — § 1, 4, 6, 16, 25, 52, 59) дао генетически предшествует всему миру, в том числе «господу» (ди) (§ 4), хотя и неясно, постоянно оно порождает все сущее или в единовременном акте. Осознание этих двух допустимых толкований побудило Го Сяна (ок. 252 — ок. 312) окончательно отвергнуть последнее из них.
Под вопросом стоит и субстанциальный характер дао в «Дао дэ цзине». С одной стороны, оно описывается как недифференцированное (хаотическое, лишенное пределов, первозданно-простое) единство, «таинственное тождество» (сюань тун), содержащее в себе все вещи и символы (сян) в состоянии пневмы (ци) и семени (цзин1) (§ 21, 28, 42), т. е. как вещь (§ 21, 42), проявляющаяся в виде безвещного (безобъективного) и бесформенного символа (§ 14, 16, 41), который в этом аспекте пустотно-всеобъемлющ и равен всепроницающему отсутствию-небытию (§ 43). Но, с другой стороны, отсутствие-небытие, и следовательно дао, трактуется как деятельное проявление («функция» — юн) наличия-бытия (§ 11). Генетическое превосходство отсутствия-небытия над наличием-бытием (§ 40) снимается в тезисе об их взаимопорождении (§ 2).
Положение же о том, что дао рождает (оживотворяет) Единое, которое затем рождает (оживотворяет) тьму вещей (§ 42), скорее всего означает не субстанциальное первенство дао, ибо в таком случае оно само было бы Единый, а его универсальную организующую (мироустроительную) функцию. Без нее как предварительного условия никакая реальность не могла бы быть единой.
Таким образом, дао в «Дао дэ цзине» представляет собой генетическую и организующую функции единства наличия-бытия и отсутствия-небытия (§ 1), субъекта и объекта (§ 23). Главная закономерность этого дао — обратность, возвращение (фань, фу2, гуй1), т. е. движение по окружности (чжоу син) (§ 14, 16, 25, 40; ему посвящена специальная глава «Люй-ши чунь цю» (III, 5), называющаяся «Юань дао1» — «Круглый Путь»), характерное для неба, которое мыслилось круглым. Следующее лишь своему естеству (цзы жань) (§ 25) дао противостоит опасной искусственности «орудийных предметов» (§ 80, 31) и вредоносной сверхъестественности духов (§ 60), определяя вместе с тем возможность и того и другого (§ 11, 29; ср. «Инь фу цзин» — «Канон сокровенных свидетельств», III, 9).
Благодать-дэ оценивается в «Дао дэ цзине» как первая ступень деградации дао (§ 38), когда рожденная им вещь формируется (§ 51).
В «Чжуан-цзы» дао представлено «обладающим свойствами (цин) и достоверностью (синь2), но и лишенным деятельности (вэй) и телесной формы (син1), допускающим (кэ1) передачу (чуань), но не получение, допускающим достижение (дэ1), но не узрение, основанным (бэнь) на себе, укорененном (гэнь) в себе, прочно (гу1) сохраняющимся (цунь) с такой древности (гу4), когда еще не было неба и земли» (гл. 6). Здесь же усилена тенденция к его сближению с отсутствием-небытием (гл. 23), высшая форма которого — «отсутствие [даже следов] отсутствия» (у у) (гл. 22). Следствием этого явился расходящийся с «Дао дэ цзином» и ставший затем популярным (см. «Хуайнань-цзы», гл. 15) тезис, согласно которому дао, не будучи вещью среди вещей, делает вещи вещами (у y1) (гл. 11, 20, 22). Другое следствие — акцент на его непознаваемости: «Завершение, при котором неведомо, почему так называется дао» (гл. 2, см. также гл. 25).
Вместе с тем в «Чжуан-цзы» максимально акцентирована вездесущность дао: оно не только «проходит (син) сквозь тьму вещей» (гл. 12), образует «пространство и время» (юй чжоу) (гл. 23), «рождает и дух и Душу» (цзин шэнь) (гл. 22), «рождает небо и землю, одухотворяет навей и господа» (гл. 6), но и присутствует в разбое (гл. 10) и даже в кале и моче (гл. 22). Дао — это объединение (цзянь1) благодатей (гл. 12), генерализация (гун1) неба и земли, инь и ян, предел (цзи8) вещей (гл. 25), в котором все объекты и субъект (я) уравниваются (ци3) и обретают единство (и3) (гл. 2). Предельное всемогущество дао проявляется в естественном детерминизме благодати: «Знать, что тут ничего не поделаешь, и спокойно принимать это как предопределение есть предел (чжи9) благодати» (гл. 4). Благодать «проникает (тун) в небо и землю» (гл. 12), подразделяется на восемь разновидностей: левое и правое, нравственную норму и должную справедливость, долю и различение, соперничество и борьбу (гл. 2). Три благодати конкретной личности — высокорослость, дородство и красота (гл. 29), а «предельная благодать сердца» — бесстрастие (гл. 15).
Сближение понятий «дао» и «предел» наметилось уже в «Шу цзине» («Хун фань», § 5). Если в «Чжуан-цзы» дао стоит еще иерархически выше Великого предела (тай цзи) (гл. 6), то в «Люй-ши чунь цю» (V, 2) оно в качестве «предельного семени» (чжи Цзин) отождествляется с такой ипостасью Великого предела, как Великое единое (тай и).
В «Хуайнань-цзы» дао, телесной сущностью которого является отсутствие-небытие (гл. 16), а обнаружением Хаос, Бесформенное, Единое (гл. 21), характеризуется как «стягивающее пространство и время» (гл. 1) и нелокализованно находящееся между ними, но в то же время зависящее от «телесной личности» (шэнь) (гл. 11). У Гэ Хуна (284–363) дао в ипостаси Единого обрело уже два модуса — Таинственное Единое (сюань и) и Истинное Единое (чжэнь и) («Баопу-цзы» — «[Трактат] Учителя Объемлющего Простоту», I, 18).
Даосские идеи развивались также школой Сун Цзяня и Инь Вэня («Гуань-цзы», гл. 36–38, 49; «Инь Вэнь-цзы»), которая трактовала дао как естественное состояние семенной, тончайшей, эссенциальной, подобной духу (цзин2, лин1) пневмы, не дифференцированной ни телесными формами, ни именами-понятиями, а потому пустотно-небытийной (сюй у). В «Дао дэ цзине» вездесущность дао передана оксюмороном его одновременной великости (да) и малости (сяо) (§ 34, а также 18, 25, 53), а в «Чжуан-цзы» (гл. 33) процитировано высказывание основоположника «школы имен» (мин цзя) Хуй Ши: «Предельно (чжи9) великое, не имеющее [ничего] вовне, называется великим единым (да и); предельно малое, не имеющее [ничего] внутри, называется малым единым (сяо и)»). В «Гуань-цзы» (гл. 36, 49) и «Люй-ши чунь цю» (XV, 3) отражена идентификация дао с «великим единым» и «малым единым»: «так велико, что не имеет [ничего] вовне; так мало, что не имеет [ничего] внутри».
Подобная трактовка дао стала общепринятой в традиционной китайской культуре, находя воплощение и в философских опусах (см., например, «Чжун юн», § 12), и в художественной литературе. Так, в приписываемой родоначальнику авторской поэзии Цюй Юаню (ок. 340 — ок. 278) и входящей в «Чу цы» («Чуские строфы», 5) поэме «Юань ю» («Путешествие в даль») сказано: «Путь (дао) может быть получен, но не может быть преподан (чуань). Он так мал, что не имеет [ничего] внутри; он так велик, что не имеет краев».
Представители школы военной мысли (бич цзя) также положили концепцию дао в основу своей теории. В «Сунь-цзы» («[Трактат] Учителя Суня») оно называется первым из пяти устоев военного искусства (наряду с «условиями неба и земли», качествами полководца и законом-фа), состоящим в единстве волевых помыслов (и2) народа и верхов (I, 3). Поскольку война в трактате рассматривается как «Путь (дао) коварства» (I, 7), дао в нем связывается с идеей эгоистической самостийности и индивидуальной хитрости, которая была детализирована в позднем даосизме («Инь фу цзин»). Согласно «У-цзы» («[Трактат] Учителя У»), дао — «то, благодаря чему происходит обращение к основе и возврат к началу», то, что умиротворяет и становится первым в ряду четырех общих принципов успешной деятельности (остальные — должная справедливость, спланированность, требовательность) и «четырех благодатей» (остальные — должная справедливость, благопристойность, гуманность) (гл. 1).
Легист Хань Фэй-цзы, опираясь на конфуцианство и даосизм, развил намеченную Сюнь-цзы и важнейшую для последующих философских, особенно неоконфуцианских, систем связь понятий «дао» и «принцип» (ли): «Дао делает тьму вещей таковыми, каковы они суть, и определяет тьму принципов. Принципы суть знаки (вэнь), формирующие вещи. Дао — то, благодаря чему формируется тьма вещей» («Хань Фэй-цзы», гл. 20). Однако в отличие от конфуцианцев и вслед за даосами Хань Фэй-цзы признавал за дао как универсальную формирующую (чэн1), так и универсальную порождающе-оживотворяющую (шэн) функции. В отличие же от Чжуан-цзы, Сун Цзяня и Инь Вэня («Чжуан-цзы», гл. 22; «Инь Вэнь-цзы», гл. 1) он считал, что дао может быть не только представлено мыслью в символе (сян1), но и зафиксировано в визуальной форме (син1) («Хань Фэй-цзы» гл. 20).
Базовой для всей последующей философской мысли стала трактовка дао в комментирующей части «Чжоу и», которая традиционно связывается с именем Конфуция, но, по-видимому, отражает общетеоретические воззрения своего времени, разделявшиеся всеми философскими школами. Здесь фигурируют и двоичная модель — дао неба и земли, творения (цянь) и исполнения (кунь), благородного мужа и ничтожного человека, и троичная — дао неба, земли, человека, трех материалов (сань цай), трех пределов (сань цзи). Небесное дао утверждается силами инь и ян, земное — мягкостью и твердостью, человеческое — гуманностью и должной справедливостью («Шо гуа чжуань» — «Предание изъяснения триграмм», 2).
Главное выражение дао — перемены (и1), изменения, преобразования по принципу «одна инь — один ян» («Си цы чжуань», I, 5). Поэтому его атрибутом является «обратность и возвратность» (фань фу) («Чжоу и», гекс. № 24, Фу — Возврат). Дао в Качестве перемен означает «порождение порождения» или «оживотворение жизни» (шэн шэн) («Си цы чжуань», I, 5), что тождественно его даосскому определению («Чжуан-цзы», гл. 6) и соответствует пониманию просто порождения или жизни как «великой благодати неба и земли» («Си цы чжуань»,II, 1), также имеющему параллель в «Чжуан-цзы» (гл. 12): «То, что позволяет вещам достигать (дэ1) жизни, называется благодатью».
В более сильной, чем в «Дао дэ цзине» (§ 10), трактовке «Си цы чжуани» (I, 5), дао не только порождает (оживотворяет), но и обладает (ю) всем порожденным (живым). То, что дао не может быть «измерено» взаимопревращениями инь и ян, называется духом (шэнь1) («Си цы чжуань», I, 5). Этот тезис родствен положениям «Чжун юна» (§ 26). В качестве перемен дао иерархически выше Великого предела — оно «обладает» им («Си цы чжуань», I, 11), что сходно с оценкой из «Чжуан-цзы» (гл. 6), согласно которой оно «предшествует» (сянь) ему. В «Си цы чжуани» (I, 12) впервые было введено противопоставление надформенного (син эр шан) дао подформенным (син эр ся) «орудийным предметам».
Там же указаны четыре сферы реализации дао: в речах, поступках, изготовлении «орудийных предметов», гаданиях (I, 10). Испытавший влияние и «Чжоу и», и даосизма конфуцианец Ян Сюн (53 г. до н. э. — 18 г. н. э.) представил дао ипостасью «(Великой) тайны» — (тай) сюань, понимаемой как «предел деятельного проявления» (юн чжи чжи) («Тай сюань цзин» — «Канон Великой тайны», цз. 7, ч. 5 «Сюань ли» — «Развертывание тайны»). По Ян Сюну, дао — «проникновение» (тун) во все («Фа янь» — «Образцовые слова», цз. 4; ср. «Чжуань-цзы», гл. 2, 23), «пустое по форме (син1) и определяющее Путь (дао) тьмы вещей», а благодать (дэ) — следование дао, лишенное переворотов и достигающее (дэ1) принципа («Тай сюань цзин», цз. 7, ч. 5 «Сюань ли»). Восходящий к «Дао дэ цзину» (§ 1) термин «сюань» («таинственное», «сокровенное», «глубочайшее», «темное», «мистическое») позднее вошел в обозначение «учения о таинственном», или «мистического учения», — сюань сюэ, соединившего в себе конфуцианство с даосизмом. У Гэ Хуна дао, «являющееся формой форм» (вэй син чжи син), охватывающее Великую пустоту (тай сюй) и сочетающее наличие-бытие с отсутствием-небытием («Баопу-цзы», I, 9), в своем высшем выражении тождественно тайне и определяется как «таинственный Путь» (сюань дао) или «Путь Таинственного единого» (сюань и чжи дао) (I, 1, 18).
Основоположники сюань сюэ Хэ Янь (193–249) и Ван Би (226–249) прямо отождествили дао с отсутствием-небытием. Го Сян (ок. 252 — ок. 312) признал это, утверждая, что «предельный (чжи9) Путь есть предельное отсутствие-небытие» (комментарий-чжу2 к гл. 22 «Чжуан-цзы»), но вопреки «Дао дэ цзину» (§ 2,40) отрицал возможность порождения наличия-бытия из отсутствия-небытия, т. е. отвергал возможную креационно-деистическую трактовку дао: «отсутствие-небытие, являясь отсутствием-небытием, не способно породить наличие-бытие» (комментарий-чжу2 к гл. 2 «Чжуан-цзы»). Пэй Вэй (267–300) же отождествил дао с наличием-бытием:
Столь же различным интерпретациям подвергалась в китайской философии и оппозиция дао — «орудийные предметы». Цуй Цзин (VII–IX вв.) идентифицировал ее с введенной Ван Би (комментарий-чжу2 к § 38 «Дао дэ цзина») оппозицией ти-юн: деятельное проявление («функция») — телесная сущность («субстанция»). Это противопоставление стало одним из важнейших в неоконфуцианстве.
Чжан Цзай соотнес его с парой «благодать» (дэ) — «путь» (дао), первый член которой определялся как дух (шэнь), т. е. способность вещей к взаимному восприятию (гань), а второй — как преобразование (хуа), т. е, естественный процесс изменений в мире («Чжэн мэн» — «Исправление невежественной незрелости», гл. 4 «Шэнь хуа» — «Дух и преобразование»). Деятельное проявление, или преобразование (хуа), телесной первосущности (бэнь ти) пневмы, трактуемой как бесформенная (у син1) Великая пустота (тай сюй), Великая гармония (тай хэ) или единство наличия-бытия и отсутствия-небытия, пустоты (сюй) и реальности (ши1), Чжан Цзай приравнял к надформенному дао (гл. 1 «Тай хэ» — «Великая гармония»). Дао им описывалось и как пронизывающее тьму вещей взаимодействие противоположностей (лян ти, эр дуань), которое выражается в их взаимном восприятии и чудесно-утонченном (мяо) духовном согласовании (хэ1), находящем свою телесную сущность в индивидуальной природе (гл. 17, ч. 2). Универсальность этого взаимодействия обусловливает возможность его познания (гл. 4).
Предтеча неоконфуцианства Хань Юй в специальном трактате «Обращение к истоку Пути» («Юань дао») вернулся к исходному конфуцианскому смыслу дао (противопоставив его даосскому и буддийскому пониманию) как следованию гуманности и должной справедливости (его предшественник Дун Чжуншу причислял к ним еще благопристойность и музыку).
Однако основоположники неоконфуцианской философии, используя положения «Чжоу и» и «Дао дэ цзина», сделали упор на общеонтологический смысл дао. С точки зрения Шао Юна, бесформенное и самовозвращающееся дао — корень неба, земли и тьмы вещей, порождающий (оживотворяющий) и формирующий их («Хуан цзи цзин ши» — «Упорядочение мира по канонам [согласно] пределу», «Гуань у нэй пянь» — «Рассмотрение вещей. Внутренняя (авторская. — А.К.) глава»). Чэн Хао вслед за Чжан Цзаем приравнивал дао к индивидуальной природе («И шу», цз. 1), а Чэн И различал их как деятельное проявление и телесную сущность («Ичуань сянь шэн вэнь цзи» — «Собрание литературных творений наставника [Чэн] Ичуаня», цз. 5, «Юй Люй Далинь лунь чжун шу» — «Письмо Люй Далиню о срединности»), хотя говорил и о едином дао, выступающем в виде предопределения, индивидуальной природы и сердца («И шу», цз. 18), и о дао, обязательно предполагающем бинарность оппозиций (дуй) («И шу», цз. 15).
Чэн И также определял дао с помощью категорий «срединное и неизменное», или «равновесие и постоянство» (чжун юн), и «гуманность», что в целом вытекало из понимания этой категории как «собирательного имени» (цзун мин) («И шу», цз. 15). Истолковывая высказывание Цзэн-цзы о Конфуциевом дао («Лунь юй», IV, 15), Чэн Хао соотносил верность с телесной сущностью, т. е. небесным принципом, а взаимность — с деятельным проявлением, т. е. человеческим дао («И шу», цз. 11).
Развивая идеи Чэн И, Чжу Си стал трактовать дао как «объединяющее имя» (тун мин), а принципы — как охватываемую им «детальную рубрикацию» (си му) («Чжу-цзы юй лэй», цз. 6). Вслед за Го Сяном, писавшим, что и «у принципов есть совершенный предел (чжи цзи)» (комментарий-чжу2 к гл. 2 «Чжуан-цзы»), он утверждал, что «совершенный предел телесной сущности Пути-дао называется Путем-дао» («Чжу Вэнь-гун вэнь цзи» — «Собрание литературных творений Чжу [Си], князя Культуры», цз. 36, «Да Лу Цзыцзин» — «Ответ Лу Цзыцзину»).
В целом Чжу Си отождествил дао с принципом («корнем порождения-оживотворения вещей», «телесной сущностью неба») и Великим пределом («содержащим в себе тьму принципов»), а «орудийные предметы» — с пневмой, средством порождения-оживотворения вещей и силами инь и ян: «Инь и ян не суть Путь-дао; то, благодаря чему действуют инь и ян, есть Путь-дао» («Чжу-цзы юй лэй», цз. 74); «Поскольку одна инь и один ян относятся к обладающим телесной формой (син1) орудийным предметам, постольку то, благодаря чему за одной инь следует один як, осуществляется телесной сущностью Пути-дао» («Чжу Вэнь-гун вэнь цзи» — «Собрание литературных творений Чжу [Си], князя Культуры», цз. 36, «Да Лу Цзыцзин» — «Ответ Лу Цзыцзину»).
Хотя при этом Чжу Си отстаивал единство дао как телесной сущности и деятельного проявления («Чжу-цзы юй лэй», цз. 6) и его реальную неотделимость от «орудийных предметов», в которые дао внедрено (чжун) («Чжу Вэнь-гун вэнь цзи», цз. 72), он подвергся критике со стороны Лу Цзююаня, апеллировавшего к исходному определению «Си цы чжуани» и доказывавшего, что инь и ян суть надформенное дао, а следовательно, между последним и «орудийными предметами» нет той функциональной разницы, которую установил Чжу Си («Юй Чжу Юаньхуй» — «[Письмо] Чжу Юаньхую», 2).
Ван Янмин, следуя идеям Лу Цзююаня, отождествил дао с человеческим сердцем и его основой — благосмыслием (лян чжи), («Чуань си лу», цз. 2, «Си инь шо» — «Изъяснения относительно сбережения времени»), впрочем ранее и Чжу Си заявлял, что «в одном сердце присутствует тьма принципов и, сумев сохранить сердце, можно затем до истощения [исследовать] принципы» («Чжу-цзы юй лэй», цз. 9).
Пытаясь синтезировать взгляды своих предшественников, Ван Чуаньшань ратовал за неразрывное единство «орудийных предметов» и дао как конкретной реальности и упорядочивающего (чжи8) ее начала (ср. «Мэн-цзы», VI Б, 11). Результат этого упорядочения — благодать. Подобно своему современнику Фан Ичжи (1611–1671) («У ли сяо ши» — «Первичное ознакомление с принципами вещей», «Цзун лунь» — «Введение»), Ван Чуаньшань считал, что, будучи надформенным, дао не лишено формы или символа, но доминирует над телесными формами, которыми наделено все в мире «орудийных предметов» («Чжоу и вай чжуань» — «Внешний комментарий к „Чжоуским переменам“», цз. 5–6).
В противовес Фан Ичжи и Ван Чуаньшаню Дай Чжэнь трактовал надформенное как предшествующее появлению телесных форм, но зато подводил под это понятие и силы инь-ян, и пять элементов (у син). Последнее было связано с тем, что дао он определял с помощью его этимологического компонента — син («движение», «действие», «поведение»), образующего термин «у син» («Мэн-цзы цзы и шу чжэн», цз. 2). «Человеческий Путь-дао, — утверждал Дай Чжэнь в специальном эссе о дао, — коренится в [индивидуальной] природе, а [индивидуальная] природа имеет исток в небесном Пути-дао» («Мэн-цзы цзы и шу чжэн», цз. 3). Далее, разбирая определение дао в «Чжоу и» («Си цы чжуань», I, 4/5), он пришел в выводу: «Добро (шань) — необходимость (би жань), а [индивидуальная] природа — естественность (цзы жань). Возвращаясь к необходимости, достигаешь эту естественность, что называется пределом в доведении естественности до конца (цзи чжи). Тут исчерпывается Путь-дао неба, земли и человеческих существ» («Мэн-цзы цзы и шу чжэн», цз. 3).
Чжан Сюэчэн (1738–1801) также отстаивал совпадающее единство «орудийных предметов» и дао (дао ци хэ и), которые нераздельны, как тело (телесная форма) и его тень («Вэнь ши тун и» — «Всепроникающий смысл истории и литературы», «Юань дао» — «Обращение к [истоку] Пути», ч. 2). Дао в его понимании — «то, благодаря чему тьма дел и тьма вещей таковы, каковы они суть, а не то, что они суть как таковые» («Вэнь ши тун и», «Юань дао», ч. 1). Полемизируя с конфуцианской традицией считать канонические произведения («Лю цзин» — «Шесть канонов») носителями дао (ср. утверждение Ван Янмина: «Каноны суть постоянное дао» — в «Цзи шань шу юань цзин гэ цзи» — «Запись о посвященном канонам зале библиотеки у горы [Гуй]цзи»), Чжан Сюэчэн квалифицировал их как «орудийные предметы», т. е. конкретно-исторические явления («Вэнь ши тун и», «Юань дао», ч. 2).
Следуя за Ван Чуаньшанем, Тань Сытун вернулся к прямому определению «орудийных предметов» и дао как телесной сущности и деятельного проявления. Поднебесная — тоже огромный орудийный предмет (ср. «Дао дэ цзин», § 29). Подверженность мира «орудийных предметов» изменениям влечет за собой изменения дао, которых люди не в силах избежать, поскольку не могут дематериализоваться. Это рассуждение стало у Тань Сытуна теоретическим обоснованием реформизма («Сы-вэй инь-юнь тай-дуань шу» — «Краткие заметки о беспокойстве за отчизну», другой перевод: «Беспокойство за судьбу Родины»).
Проделанный анализ смысла термина «дэ» в его категориальном окружении и концептуальной эволюции обнаружил в самом общем плане трансформацию архаического представления о безличной магической силе в идею индивидуального нравственного императива. Однако это был путь синтетической эволюции, сохранявшей в той или иной степени свернутости достижения предыдущих этапов. Обращаясь к истории литературы, можно было бы провести аналогию с движением от магии к реализму в форме магического реализма.
Поэтому превращение онтологически-безоценочной пары дао и дэ (ср. «Дао дэ цзин») в этически-аксиологизированное сочетание (ср. современное дао-дэ — «мораль») не повлекло за собой полного разрыва с наследием прошлого. Более того, с помощью подобной терминологии стало возможным построение «моральной метафизики», представляющей собой высочайшее достижение и наиболее специфическое явление китайской классической философии.
Теоретический фундамент подобной онтологизации дао и дэ был заложен создателями неоконфуцианства. В частности, Чжу Си следующим образом связывал эти категории с Великим пределом, который «не имея телесной формы (син1) и обладая принципом» тождествен Отсутствию предела, или Пределу отсутствия (у цзи), и в качестве «метафизического» (син эр шан) абсолюта — «совершенного предела» (чжи цзи) и «предельного совершенства» (цзи чжи1) является высшим благом: «Великий предел — это только [соответствующий] Пути-дао принцип (дао ли) предельно хорошего (цзи хао) и совершенно доброго (чжи шань). Всякий человек имеет единый Великий предел, всякая вещь имеет единый Великий предел. То, что Учитель Чжоу [Дуньи] называл Великим пределом, есть обнаруживающаяся благодать тьмы доброго (вань шань) и совершенно хорошего (чжи хао) у неба и земли, человека и вещи» («Чжу-цзы юй лэй», цз. 94).
§ 4 Категория «гуманность» (жэнь1): любовь к людям и гармония мира
«Жэнь1» — «гуманность», «человечность», «истинно-человеческое (начало)», «человеколюбие», «милосердие», «доброта», «дружелюбие», «беспристрастность», англ. «(co-)humanity», «humaneness», «humandieartedness», «true manhood», «benevolence», «goodness», «charity», «perfect virtue», «(benevolent) love», «altruism», «authoritative person», фр. «bonté», «charité», «bienveillance», нем. «Güte», «Wohlwollen» — одна из основополагающих категорий китайской философии и традиционной духовной культуры, совмещающая три главных смысловых аспекта: 1) морально-психологический — «[родственная,] любовь-жалость к людям» (ай жэнь), стоящая в одном ряду с «должной справедливостью» (и), ритуальной «благопристойностью» (ли3), «разумностью» (чжи4), «благонадежностью» (синь2); 2) социально-этический — совокупность всех видов правильного отношения к другому человеку и обществу; 3) этико-метафизический — «приязнь к вещам» (ай у), т. е. симпатически-интегративная взаимосвязь отдельной личности со всем сущим, включая неодушевленные предметы.
Этимологическое значение «жэнь1» — «человек и человек» или «человек среди людей». Хотя иероглиф «жэнь1» в смысле «доброта правителя к подданным» присутствует в современных текстах канонизированной конфуцианцами доконфуцианской классики («Шу Цзин», «Ши цзин»), возможно, он был не только терминологизирован, но и искусственно создан Конфуцием, а затем включен в указанные тексты. С чрезвычайно редким употреблением «жэнь1» в доконфуцианских памятниках резко контрастирует его изобилие в «Лунь юе», где, как отметил Чэнь Юнцзе, он использован 105 раз в 58 параграфах из 499, т. е. ему посвящены более чем. 10 процентов текста. Отсюда Чэнь Юнцзе заключал, что «до появления Конфуция китайцы не выработали понятия общей добродетели», а таковым впервые выступило «жэнь!» у Конфуция[23].
В конфуцианстве это понятие, действительно, сразу стало центральной категорией, определявшейся, с одной стороны, как спокойно-самодостаточная «любовь к людям», рождающая правильный баланс любви и ненависти («Лунь юй», XII, 22, IV, 2, 3, VI, 21 /22; «Мэн-цзы», IV Б, 28, VII Б, 46, VII Б, 1), а с другой — как «преодоление себя и возвращение к ритуальной благопристойности» (кэ цзи фу ли), реализующее «золотое правило» морали: «не навязывать другим того, чего не желаешь себе», «упрочивать других в том, в чем желаешь упрочиться сам, и подвигать их на то, на что желаешь подвигнуться сам» («Лунь юй», XII, 1/2, VI, 28/30).
У Конфуция жэнь1 представлялось специфическим атрибутом «благородного мужа» (цзюнь цзы), не присущим «ничтожному человеку» (сяо жэнь) («Лунь юй», IV, 5, XIV, 6/7, 28/30), но уже у его ближайших последователей оно стало не только долгом правителя, но и универсальным началом человеческой личности и отношений между людьми («Чжун юн», § 20; «Мэн-цзы», III А, 4, VII Б, 16; «Ли цзи», гл. 7/9). Мэн-цзы усмотрел источник жэнь1 в полностью лишенном желания вредить другим людям, реагирующем с чувственной непосредственностью, соболезнующем и сострадающем «сердце» (синь), без которого человек перестает быть таковым, и поэтому сформулировал омонимичную максиму «Гуманность (жэнь1) — это человек (жэнь)», детализированную в дефинициях: «Обретение (дэ1) человека для Поднебесной называется гуманностью» и «Гуманность — это сердце человека» («Мэн-цзы», II А, 6, VI А, 6, VII Б, 31, 16, III А, VI А, 11). Следствием «гуманного [отношения к] людям» (жэнь минь) философ считал «любовь [к миру] вещей» (ай у), т. е. всему сущему («Мэн-цзы», VII А, 45). Он также обобщил суждения «Лунь юя» о социально-политической значимости жэнь1 как фактора «умиротворения» (пин) и упорядочения (чжи8) Поднебесной в понятии «жэнь чжэн» — «гуманное правление» («Мэн-цзы», I А, 5, I Б, 11, 12, II А, 1, III А,3, 4, IV А, 11, 14/15), ставшем впоследствии идеологическим штампом конфуцианской ортодоксии.
В «Мо-цзы» даны определения: «Гуманность — это любовь, [соединяющая отдельные] телесные сущности (ти ай)» и «Гуманность — это гуманнизирующая любовь» (гл. 40,43), — обусловленные общим моистским пониманием жэнь1 как компонента предписываемого волей Неба единения Поднебесной посредством «объединяющей (цзянь1) взаимной любви и связующей взаимной пользы-выгоды» (гл. 26, 35).
В раннем даосизме жэнь1 подверглось критике как искусственное образование, не свойственное природе («небу и земле»), продукт деградации дао и дэ («Дао дэ Цзин», § 38). В «Дао дэ цзине» (§ 8) жэнь1 признано благотворной основой общения людей, а в «Чжуан-цзы» (гл. 12) распространено и на неживую природу: «Любовь к людям (ай жэнь) и принесение пользы вещам (ли у) называется гуманностью».
Дун Чжуншу сделал шаг к онтологизации «гуманности», объявив ее «небесным сердцем (тянь синь), которое любит людей», воплощением «воли Неба» (тянь чжи) в человеческом теле и результатом «преобразования» (хуа) «пневмы» (ци) крови («Чунь цю фань лу», цз. 6, гл. 17–18).
В позднем даосизме, философии сюань-сюэ и буддизме жэнь1 стало играть роль одной из важнейших добродетелей — милосердия, преодолевающего барьер между «я» и «не-я» (у во1).
Неоконфуцианцы под влиянием Хань Юя расширили онтологическое содержание понятия «гуманность». Чэн Хао, Чжан Цзай, Ван Янмин и др. усматривали в ней как атрибут неба (тянь), органическую единосущность индивида со всем мирозданием, уподобляя отсутствие жэнь1 физическому параличу («паралич» — медицинский смысл выражения «бу жэнь», буквально означающего «негуманность»). Ван Янмин утверждал, что жэнь1 «образует единое тело (ти) с камнем и черепицей» («Да сюэ вэнь» — «Вопросы к „Великому учению“»).
В трактовках жэнь1 неоконфуцианскими мыслителями конца империи отразились особенности восприятия ими западной научной мысли.
Кан Ювэй оригинальным образом подытожил многовековое осмысление этой категории в китайской философской традиции и с помощью доступных ему сведений о науке Запада стал трактовать жэнь1 как проявление универсальной космической взаимосвязи. В своем важнейшем сочинении «Датун шу» («Книги о Великом единении»), идентифицировав жэнь1 с эфиром и-тай, он утверждал, что первосубстанция мироздания — «изначальная пневма» (юань ци), представляющая собой Великую тайну (тай сюань), образует в каждой вещи, в том числе небе и человеке, сочетание духовного, душевного, ментального, интеллектуального, сознающего, разумного, «светлоблагодатного» (шэнь1, цзин2, лин1, хунь, чжи, чжи4, мин дэ) начала с симпатической энергетикой, проявляющейся в качестве электричества, магнетизма, притяжения и «не выносящей» (бу жэнь1) чужих страданий (см. «Мэн-цзы», I А, 7, II А, 6, VII Б, 31) «гуманностью».
Признавший себя учеником Кан Ювэя Тань Сытун первым в Китае посвятил жэнь1 специальную книгу — свое главное произведение «Жэнь сюэ» («Учение о гуманности» или «Гуманность и учение»), в котором, максимально развив идеи учителя, опять-таки «впервые стал рассматривать жэнь1 не как только свойство действительности, а как саму действительность»[24]. Он представил жэнь1 единой (и3) и изначальной (юань1) общемировой субстанцией — эфиром (и-тай), проявляющимся, с одной стороны, в виде атмосферного электричества (дянь), силы тяготения (си ли), химического сродства (ай ли — буквально: «силы любви»), конфуцианской «[индивидуальной] природы» (син2) и буддийского «[всеобъемлющего] океана природных стихий (bhūtatathatā)», а с другой — психики (синь ли — буквально: «силы сердца»), интеллекта (вэй синь), сознания (вэй ши — буддийских vijñānamātra, cittamātra), буддийского «сочувствия и милосердия» (цы бэй), моистской «объединяющей любви» (цзянь ай), христианской «духовности» (лин хунь) и «любви к другому человеку (ай жэнь), как к себе».
Философы XX в., интерпретирующие классические китайские доктрины, истолковывают жэнь1 в изначальном конфуцианстве как сознательное следование этическим нормам (Ху Ши) или спонтанную нравственную интуицию (Лян Шумин), а в неоконфуцианстве — как принцип «моральной метафизики» (дао-дэ ды син-шан-сюэ), выражающий самосозидающее личностное начало (Фэн Юлань, Моу Цзунсань, Ду Вэймин)
§ 5 Категория «должная справедливость» (и): бескорыстная ответственность и соответствие смыслу
«И» — «должная справедливость», «долг», «чувство долга», «справедливость», «добропорядочность», «честность», «правильность», «принцип», «значение», «смысл», англ. «righteousness», «rightness», «justice», «signification», «(moral) duty», «morality», «sense of moral responsibility», «loyality», «compropriety», «selfshipfulness» фр. «jéquité», «honnête», «convenance», нем. «Gerechtigkeit», «Rechtlichkeit», «Pflicht», «Pflichttrene», «Recht», «Das Rechte», «Rechtschaffenheit», «Schicklichkeit», «das Gezieemende» — также одна из основополагающих категорий китайской философии, в особенности конфуцианства. Она заключает в себе идею «правильного (чжэн) соответствия (и4)» содержания форме, субъективных потребностей — объективным требованиям, внутреннего чувства справедливости — внешним императивам общественного долга. В «Чжун юне» (§ 20) дана лапидарная дефиниция: «Должная справедливость (и) — это соответствие (и4)», построенная, как и многие другие, на омонимичности соответствующих иероглифов и легшая в основу ряда последующих более развернутых определений «должной справедливости». В период формирования неоконфуцианства его патриарх Чжоу Дуньи, следуя лаконичности оригинала, канонизировал эту дефиницию в инверсированной форме: «Соответствие называется должной справедливостью» («Тун ту», § 3). Оппозиционная «и» категория «ли2» («польза, выгода, корысть, барыш, преимущество, успех, острота, быстрота») в свою очередь противопоставлялась «дао» (см., например: Дун Чжуншу. «Чунь цю фань лу», цз. 4, гл. 32; Ян Сюн. «Фа янь», цз. 1), что обнаруживает особую, доходящую до взаимозаменимости близость «должной справедливости» с «Путем-дао».
Этимологически «и» восходит к сочетанию знаков «я» (во) и «баран» (ян). Последний, входя также в состав иероглифов «добро» (шань) и «красота» (мэй), несет идею общепринятого «вкуса», охватывающего главные ценностно-нормативные сферы — этическую (шань), эстетическую (мэй) и деонтологическую (и). Интерпретация деонтологической нормы представлена в семантике «и» как общественный вкус («баран»), ставший внутренним чувством («я»).
В самом общем антропологическом смысле «и» — неотъемлемый атрибут индивидуальной природы (син2) человека, одно из «пяти постоянств» (у чан) его существования наряду с гуманностью (жэнь1), благопристойностью (ли3), разумностью (чжи4) и благонадежностью (синь2). В более конкретном социально-этическом смысле «и» — это Нормы отношений между пятью парами социальных ролей: отца и сына, старшего и младшего братьев, мужа и жены, старшего и младшего, государя и подданного («Ли цзи», гл. 7/9 «Ли юнь»). В еще более Узком смысле — принцип поведения мужа, правителя или харизматического лидера. Стандартная терминологическая оппозиция «и — ли2» («должное — полезное», «справедливое — выгодное», «честное — корыстное») знаменует собой противопоставление морального долга — эгоистической утилитарности, или обязанности по отношению к другому — соблюдению собственного интереса.
В древних протоконфуцианских памятниках «Ши цзине» и «Шу цзине» «и» обозначает умение правителей и чиновников приносить благо своей стране. У Конфуция «и» становится ключевой характеристикой «благородного мужа» (цзюнь цзы), отличающей его от гоняющегося за пользой-выгодой «ничтожного человека» (сяо жэнь), определяющей его «основу» (чжи2) и выражающей единство знания (чжи) и действия (син), соответствующее благодати (дэ), реализующееся посредством этико-ритуальной благопристойности (ли3) и направленное на осуществление дао («Лунь юй», 11, 24, IV, 16, XII, 10, XV, 18, XVI, 10, 11, XVII, 21/23, XVIII, 7). Поэтому «совершенный человек» (чэн жэнь), «видя пользу-выгоду, помышляет о должной справедливости», а сам Конфуций «редко говорил о пользе-выгоде» («Лунь юй», XIV, 12, IX, 1). Мэн-цзы радикально универсализировал «и» как одно из четырех начал исконно доброй (шань) человеческой природы — «стыдящееся [за себя] и негодующее [на другого] сердце» («Мэн-цзы», II А, 6, VI А, 6) и решительно отверг пользу-выгоду во имя должной справедливости и гуманности («Мэн-цзы», I А,1), отличающих человека от животных («Мэн-цзы», IV Б, 19). «Должная справедливость — это Путь человека» («Мэн-цзы», VI А, 11), совершенствование его «пневмы» (ци) происходит благодаря «накоплению должной справедливости» («Мэн-цзы», II А, 2).
Главный оппонент Мэн-цзы в рамках конфуцианства — Сюнь-цзы, считая человеческую природу исконно «злой» и наделенной врожденным стремлением к пользе-выгоде, вместе с тем еще категоричнее определил и как основной человеческий признак («Сюнь-цзы», гл. 9), которому должно быть подчинено неискоренимое стремление к пользе-выгоде. Общеконфуцианское решение проблемы «и — ли2» дано в «Да сюэ» (II, 10.22–28): «Не польза-выгода полезна-выгодна государству, а должная справедливость».
Моисты в отличие от конфуцианцев, трактуя «ли2» как «приносящую радость» «общую пользу и взаимную выгоду», а не частный интерес и эгоистическую корысть, отвергли противопоставление «и — ли2» прямой дефиницией «Должная справедливость есть польза-выгода» («Мо-цзы», гл. 40, 43). В специально посвященной «и» главе «Мо-цзы», носящей название «Ценить должную справедливость» (гл. 47 «Гуй и»), таковая названа «самым ценным из тьмы дел (вань ши)» (гл. 47), поскольку самому «Небу желанна (юй) должная справедливость и ненавистна (э) недолжная несправедливость» (гл. 26). Воле Неба соответствует и всенародная «польза-выгода» (гл. 26), составляющая также один из трех главных гносеологических критериев (сань бяо)— «применимость» (юн) высказываний (гл. 35).
Легисты антиконфуцианский (ср. «Мэн-цзы», VI А, 2) и близкий к моизму тезис о том, что «люди стремятся к пользе-выгоде, как вода вниз» («Шан цзюнь шу», гл. 23), соединили с враждебным и моизму и конфуцианству определением «и» как «Пути насилия» (бао чжи дао) ради абсолютной власти и унифицированной «законности» (фа).
В противовес всем указанным школам представители даосизма, отстаивая идеал естественной незаинтересованности, одновременно подвергли критике как пользу-выгоду, так и должную справедливость. Согласно «Дао дэ цзину» (§ 18, 19, 38), и — результат «упразднения великого Пути-дао», т. е. одна из ступеней общей деградации в мире: «За утратой Пути-дао следует благодать, за утратой благодати следует гуманность, за утратой гуманности следует должная справедливость, за утратой должной справедливости следует благопристойность. Благопристойность — это истощение верности (чжун1) и благонадежности (синь), голова смуты» (§ 38). В отличие от «Дао дэ цзина» (§ 38), где проведены тонкие градации упадка, четко разграничены «нецеленаправленная» (у и вэй) гуманность и «целенаправленная» (у и вэй) должная справедливость, в «Чжуан-цзы» (гл. 2,6,28) провозглашен отказ от различения «жэнь1» и «и», сопровождающийся призывом «забыть» (ван1) как должную справедливость с гуманностью, так и пользу-выгоду.
Дун Чжуншу, привнесший в официализированное конфуцианство некоторые легистские и моистские идеи, сочетал радикальные формулы: «гуманный человек выправляет свой Путь и не планирует свою пользу-выгоду, совершенствует свои принципы и не тревожится о своем успехе» (вариант: «Гуманный человек выправляет свое должное соответствие (и1) и не планирует свою пользу-выгоду, высветляет (мин2) свой Путь и не рассчитывает на успех»); «Нет человека, для чьей природы должная справедливость не была бы добром, а не способный к должной справедливости теряет и пользу-выгоду, поэтому благородный муж до конца дней слова не молвит о пользе-выгоде», — с признанием за последней роли столь же необходимого регулятора телесной жизни («Чунь цю фань лу», цз. 9, гл. 32, цз. 3, гл. 4). Специально посвященная этой теме глава «Должная справедливость — важнейшее в пестовании телесной личности» («Шэнь чжи ян чжун юй и») «Чунь цю фань лу» (цз. 9, гл. 31) начинается следующим пассажем: «Небо, порождая человека, побуждает его порождать Должную справедливость и пользу-выгоду. Пользой-выгодой пестуется его тело (ти), должной справедливостью — его сердце. Сердце, не достигнув (дэ1) должной справедливости, не способно радоваться (лэ); тело, не достигнув пользы-выгоды, не способно умиротворяться. Должная справедливость — пестун сердца, польза-выгода — пестун тела. В теле самое ценное — сердце, поэтому в пестовании самое важное — должная справедливость».
Усвоение даосских идей неоконфуцианством выразилось, в частности, в признании Шао Юном совершенномудрых способными «отрешиться от пользы-выгоды и от должной справедливости». Другой создатель неоконфуцианства, Чжан Цзай, пошел на сближение с моизмом в тезисе «Должная справедливость делает общей (гун1) пользу-выгоду Поднебесной» («Чжэн мэн», гл. «Да и» — «Великие перемены»). Открыто в защиту принципа общей пользы-выгоды выступили Ли Гоу (1009–1059), Ху Хун (1102/5-1155/61), Чэнь Лян (1143–1194), Е Ши (1150–1223). Ху Хун наиболее четко провел различие между частной и общей формами пользы-выгоды. Основоположник неоконфуцианской ортодоксии Чэн И прямо отождествил «должную справедливость» с общественно-альтруистическим (гун1) и светло-активным (ян), а пользу-выгоду — с частно-эгоистическим (сы) и темно-пассивным (инь) началом, допустив, однако, возможность их гармонии и полезность-выгодность соблюдения должной справедливости. «[Силою] инь помогающий [силе] ян сформировать (чэн1) вещь — это благородный муж, ею вредящий [силе] ян — это ничтожный человек. Гармония (хэ) пользы-выгоды с должной справедливостью — добро, нанесение ею вреда должной справедливости — недобро» («И шу», цз. 17,19).
Ван Чуаньшань соотнес должную справедливость с дао человека, а пользу-выгоду с его жизненными «функциями» (юн). Янь Юань (Сичжай), утверждавший, что «благодаря должной справедливости осуществляется польза-выгода», переиначил формулу Дун Чжуншу в призыв «выправлять свой долг, чтобы планировать свою пользу-выгоду, и, высветляя (мин2) свой Путь-дао, рассчитывать на свой успех» («Сы шу чжэн у», цз. 1: «Да сюэ»), аргументируя тем, что «совершенно не планировать пользу-выгоду и не рассчитывать на успех — это пустая безучастность (цзи), свойственная гнилым конфуцианцам (фу жу)» («Янь Сичжай сянь шэн янь сан лу» — «Записки слов и дел наставника Янь Сичжая»).
Глава IV
Конфуцианская антропология
§ 1
Концепции природы человека от Конфуция до Хань Юя
Одной из наиболее фундаментальных проблем традиционной китайской философии, в особенности конфуцианства, была проблема природы человека (жэнь син). Ее обсуждение Ван Янмин («Чуань си лу», цз. 3) относил к тому, что Конфуций называл «разговором о высшем» («Лунь юй», VI, 19/21). Уже создателями конфуцианства были предложены такие решения этой проблемы, которые наметили магистральный путь дальнейших теоретических поисков и обусловили решающее значение ее аксиологического аспекта. Ко времени Ван Янмина были последовательно выдвинуты и пересмотрены все основные возможные на этом пути принципиально разнящиеся решения, и его концепция явилась последним существенным шагом вперед, тем более что нашествие маньчжуров, упразднившее идеологическое господство янминизма, поначалу значительно снизило общий уровень философствования, а затем проникновение западных идей изменило направление, которому следовала китайская философская мысль.
Конфуцианские концепции природы человека отличает понятийно-терминологическое единообразие, все они концентрируются вокруг основополагающей для китайской философии категории «син?» («природная сущность», «качество», «характер», «пол»), которую Дай Чжэнь определил как «реальную телесную сущность и реальное дело» (ши ти ши ши) («Мэн-цзы цзы и шу чжэн», цз. 3). Ее главный теоретический смысл — конкретная индивидуальная природа, т. е. естественные и подлинные качества каждой отдельной вещи или категории вещей-дел, и в первую очередь человека. К примеру, согласно формулировкам Чжу Си, «в Поднебесной нет вещи, не имеющей [индивидуальной] природы», а «[индивидуальная] природа есть то, нем наделен человек» («Чжу-цзы юй лэй», цз. 4, 5). Поэтому и без специального определения иероглиф «син2» часто обозначает именно человеческую природу. За этим стоит не терминологическая расплывчатость, а мировоззренческая установка, согласно которой человек мыслился одним (хотя и центральным) из «десяти тысяч [родов] вещей», образующих весь мир.
Этимология иероглифа «син2», состоящего из знаков «сердце, центр» (синь) и «жизнь, рождение» (шэн), обнаруживает идею витального центра или психосоматической основы живого существа, на что прямо указывал Дун Чжуншу, который из производности «имени (мин1) син2» от «шэн» делал умозаключение: «Естественные (цзы жань) качества (цзы3) рожденного-живущего (шэн) называются [индивидуальной] природой (син2). [Индивидуальная] природа — это основа (чжи2)» («Чунь цю фань лу», цз. 10, гл. 35).
В философских построениях «[индивидуальная] природа», как правило, фигурировала в соотношении с понятиями «добро» (шань), «зло» (э), «сердце» (синь), «предопределение» (мин1), «чувства, чувственность» (цин), «принцип» (ли). В буддийских текстах она соответствовала терминам «svabhāva», «prakrti», «pradhāna».
В конфуцианском осмыслении основных характеристик природы человека учение самого Конфуция, по всей вероятности, следует считать «нулевым циклом». В нем были даны предпосылки для различных, даже противоречащих друг другу точек зрения по этой проблеме. В «Лунь юе» сообщается, что «нельзя было услышать рассуждений учителя (т. е. Конфуция. — А.К.) о природе (син2) и небесном пути» (V, 13), но там же приводится и принципиально важное высказывание Конфуция: «По природе [люди] близки друг другу, а по привычкам далеки друг от друга»(XVII, 2)). Вероятнее всего, в этом высказывании заключена мысль о единстве человеческой природы и ее нейтральности по отношению к добру и злу, которые становятся свойственны человеку под влиянием внешних обстоятельств.
Вместе с тем «Лунь юй» наполнен изречениями, утверждающими разнокачественность людей: «Случается, что благородный муж негуманен, но еще не случалось, чтобы ничтожный человек был гуманен» (XIV, 6); «Благородный муж достигает высшего, ничтожный человек достигает низшего» (XIV, 23); «Высшая разумность и низшая глупость неизменны» (XVII, 3); «С людьми выше среднего можно говорить о высшем, с людьми ниже среднего нельзя говорить о высшем» (VI, 19/21); «Знающие от рождения суть высшие, знающие по научении суть следующие, научающиеся через нужду суть следующие за следующими, не научающиеся [даже] через нужду суть низшие среди людей» (XVI, 9).
Во всех этих высказываниях не говорится прямо о природе человека: термин «син2» встречается в «Лунь юе» только дважды, и обе включающие его фразы мы уже процитировали. Поэтому указанные градации можно считать относящимися к благоприобретенным свойствам, однако кое-что разнит людей от рождения и ничем не может быть устранено: «высшая разумность и низшая глупость неизменны». Но принципиально важно то, что данное разграничение касается только интеллектуальных качеств человека, не распространяясь ни на его моральные качества, ни тем более на его природу в целом.
Некоторые из последующих конфуцианцев стремились универсализировать различие человеческих качеств, превращая его в различие природы людей (подробнее об этом — ниже), другие, наоборот, старались его теоретически сгладить. Интересно, например, что уже в «Чжун юне», произведении, традиционно приписываемом кисти внука Конфуция — Цзы-Сы (492–431 или 483–402), приведенное выше высказывание Учителя специфическим образом трансформируется: «Некоторые знающи от рождения, некоторые знающи по научении, некоторые знающи через нужду, но что касается знания, то оно едино» (§ 20). Здесь подчеркивается единство людей с точки зрения качества того знания, которым они располагают, и отсутствует категория «не научающихся [даже] через нужду», тогда как в другом месте говорится, что и глупец может быть причастен к знанию пути «благородного мужа» (§ 12).
Все это вполне соответствует общему пафосу «Чжун юна», состоящему в утверждении сущностного единства всех людей. Тем же пафосом проникнуто и другое фундаментальное конфуцианское сочинение, автором которого считается непосредственный ученик Конфуция — Цзэн-цзы, а именно «Да сюэ». В нем доказывается врожденная склонность всякого человека к добру: «Ничтожный человек, пребывая в праздности, творит недоброе и способен в этом дойти до крайности, однако, столкнувшись с благородным мужем, в томлении скрывает свою недоброту и прикидывается добрым» (II, 6.2), — и в качестве всеобщей и универсальной задачи выдвигается требование «остановки на добре (высшем, абсолютном благе — чжи шань. — А.К.)» (I, 1).
Великий последователь Конфуция — Мэн-цзы, развивая идею Учителя об общности природы всех людей, что наиболее ярко выразилось в его тезисе: «Совершенномудрые и я (мы) — однородны» («Мэн-цзы», VI А, 7), определил эту сущность как изначальную доброту. «Человеческая природа добра» (жэнь син шань е) («Мэн-цзы», IV А, 2, III А, 1), и это свойство присуще ей так же, как воде — свойство течь вниз.
Под изначальной добротой Мэн-цзы понимал главным образом четыре прирожденных специфических качества человека, своим истоком имеющих непосредственное спонтанное чувство, а завершением — сознательное поведение.
«Мэн-цзы сказал: „Все люди обладают не выносящим [чужого страдания] сердцем… У всякого человека, вдруг увидевшего ребенка, готового упасть в колодец, будет испуганное и страшащееся, соболезнующее и сострадающее сердце. И это происходит не из-за внутренней близости с родителями ребенка, не из желания иметь хорошую репутацию среди соседей и друзей и не из отвращения к тому, что ребенок разразится воплями. Отсюда видно, что не имеющий соболезнующего и сострадающего сердца — не человек, не имеющий стыдящегося [за себя] и негодующего [на другого] сердца — не человек, не имеющий отказывающего [себе] и уступающего [другому] сердца — не человек. Соболезнующее и сострадающее сердце — начало гуманности, стыдящееся [за себя] и негодующее [на другого] сердце — начало должной справедливости, отказывающее [себе] и уступающее [другому] сердце — начало благопристойности, утверждающее и отрицающее сердце — начало разумности. Человеку принадлежат эти четыре начала, так же как ему принадлежат четыре конечности (сы ти)“» («Мэн-цзы», II А, 6).
Ту же мысль Мэн-цзы высказывал в другом месте, специально разъясняя тезис о доброте человеческой природы: «Все люди обладают соболезнующим и сострадающим сердцем, все люди обладают стыдящимся [за себя] и негодующим [на другого] сердцем, все люди обладают благоговейно-уважительным и почтительно-осторожным сердцем. Соболезнующее и сострадающее сердце — это гуманность, стыдящееся [за себя] и негодующее [на другого] сердце — это должная справедливость, благоговейно-уважительное и почтительно-осторожное сердце — это благопристойность, утверждающее и отрицающее сердце — это разумность. Гуманность, должная справедливость, благопристойность и разумность не извне внедрены в меня, они мне исконно (гу1) присущи» («Мэн-цзы», VI А, 6). Естественным выводом отсюда было признание того, что «всякий человек может стать [совершенномудрым] Яо или Шунем» («Мэн-цзы», VI Б, 2).
Истолковывая доброту как изначальное свойство человеческой природы, Мэн-цзы не только развивал, но и ревизовал взгляды Конфуция, который связывал понятие доброты (шань) с высшей категорией человеческих существ: «Учитель сказал: „Совершенномудрого человека я не видел. Увидеть благородного мужа — этого достаточно. Доброго (шань) человека я не видел. Увидеть обладающего постоянством — этого достаточно“» («Лунь юй», VII, 26). В «Цзо чжуани», произведении, традицией приписываемом кисти Цзо Цюмина, ученика и современника Конфуция, эта идея выражена максимой: «Добрый человек есть основание (цзи2) неба и земли» (Чэн-гун 15 г., I, 5).
Слишком высокое представление Конфуция о доброте, очевидно, дало в дальнейшем основание для идентификации его положений с теориями более позднего времени, в частности с концепцией множественности человеческих природ. Так, по поводу его тезиса о неизменности высшей разумности и низшей глупости в 20-м цзюане «Хань шу» («Книги [о ранней династии] Хань») говорится: «Способность участия в совершении добра и неспособность участия в совершении зла называется высшей разумностью… способность участия в совершении зла и неспособность участия в совершении добра называется низшей глупостью… Способный участвовать и в совершении добра, и в совершении зла называется средним человеком». В «Хань ту» на этом теоретическом основании строится девятиступенчатая классификация (три ступени высшего класса, три ступени среднего класса, три ступени низшего класса) мифических и исторических персонажей от «сотворения мира» до тогдашней современности.
Главным оппонентом Мэн-цзы в вопросе о характере человеческой природы традиционно считается другой великий конфуцианец древности, Сюнь-цзы (Сунь Цин), утверждавший, что «человеческая природа зла; то, что она добра, — искусственное приобретение» (жэнь син э, ци шань чжэ вэй е) («Сюнь-цзы», гл. 23). Сюнь-цзы, так же как и Мэн-цзы, исходил из положения Конфуция об общности природы всех людей: «Природа [совершенномудрых] Яо и Шуня и [негодяев] Цзе и Чжи едина. Природа благородных мужей и ничтожных людей едина» (там же). Но в отличие от Мэн-цзы он утверждал, что «[обычный] человек с улицы может стать [совершенномудрым] Юем» (там же) только путем преодоления своих врожденных инстинктов и естественных склонностей, путем преобразования своей изначальной природы (фань юй син, хуа син), а отнюдь не следования ей (цун син).
Доказывая положение об изначальной недоброте человеческой природы, Сюнь-цзы ссылался на то, что человеку от рождения присущи желания и стремления, противоречащие прежде всего двум из четырех указанных Мэн-цзы сущностных человеческих качеств — благопристойности и должной справедливости. Любовь к пользе-выгоде губит способность «отказывать [себе] и уступать [другим]» («польза-выгода» — «ли2» — стандартный антоним «должной справедливости» — «и», а названная способность, как это явствует из вышеприведенных слов Мэн-цзы, — начало благопристойности), плотские лее страсти непосредственно губят благопристойность и должную справедливость (там же).
Выдвигая свою концепцию, Сюнь-цзы открыто полемизировал с Мэн-цзы. Но Мэн-цзы также развивал свой взгляд в полемике с философом Гао-цзы, который был то ли его учеником, то ли старшим современником, последователем Мо-цзы и именем которого названа излагающая эту дискуссию гл. VI «Мэн-цзы». Гао-цзы утверждал, что «природа человека безразлична к добру и недобру» (жэнь син чжи у фэнь юй шань бу шань) («Мэн-цзы», VI А, 2). Интересно при этом, что и Гао-цзы и Сюнь-цзы, исходя из разных представлений о человеческой природе (первый — как нейтральной, второй — как злой), одинаковым образом истолковывали возникновение доброты в человеке. Оба философа отождествляли ее с благоприобретаемыми свойствами (Гао-цзы — с гуманностью и должной справедливостью, Сюнь-цзы — с должной справедливостью и благопристойностью), изменяющими изначальную природу человека точно так же, как изменяет иву превращение в чашу (Гао-цзы), а кривое дерево — искусственное выпрямление (Сюнь-цзы).
Гао-цзы понимал нейтральность человеческой природы в абсолютном смысле, т. е. не считал для нее возможным сделаться доброй или злой. Добрыми или злыми могут быть лишь те формы, в которых она реализуется. Это хорошо видно из следующего высказывания ученика Мэн-цзы — Гунду-цзы: «Гао-цзы говорит: „[Человеческая] природа лишена как добра, так и недобра“. Некоторые говорят, что „[человеческая] природа может быть (сделаться — вэй. — А.К.) доброй, а может быть (сделаться) недоброй“… Другие говорят, что „есть добрая человеческая природа и есть недобрая человеческая природа“» («Мэн-цзы», VI А, 6).
Китайские комментаторы полагают, что «некоторые» здесь выражают точку зрения конфуцианца «в третьем поколении» (т. е., видимо, современника Цзы-Сы) — философа Ши Ши. О последнем Ван Чун сообщает следующее: «Человек [эпохи] Чжоу — Ши Ши считал, что человеческая природа имеет добро и имеет зло (жэнь син ю шань ю э). Если брать добрую природу человека и, пестуя, доводить ее до высшей степени, тогда разовьется добро. [Если же брать] злую природу [человека] и, пестуя, доводить ее до высшей степени, тогда разовьется зло» («Лунь хэн», гл. 13).
Есть, впрочем, некоторое основание для сомнения в тождестве идей, приписанных анониму в «Мэн-цзы» и Ши Ши в трактате Ван Чуна. И там и тут говорится о возможности сделать человеческую природу доброй или злой, но в первом случае вовсе не утверждается, как во втором, что предпосылкой данного преобразования является изначальное наличие в человеческой природе и добра и зла. Поэтому из приводимого Гунду-цзы первого анонимного тезиса можно извлечь лишь мысль о том, что человеческая природа потенциально добра и зла, тогда как Ши Ши, согласно Ван Чуну, полагал ее и доброй и злой актуально.
Представленный Гунду-цзы в предельно обобщенном и недетализированном виде такой подход к вопросу о человеческой природе был теоретически разработан в учении Дун Чжуншу. Определяя ее как «основу» (чжи2), он замечал, что последняя из «имени добра», в отличие от «имени [человеческой] природы», не выводима (чжун), и, следовательно, нельзя говорить, что «основа — добра», но можно прибегнуть к сравнению: «[Человеческая] природа подобна рису на корню, добро — рису в зерне. Хотя рис в зерне происходит из риса на корню, нельзя рис на корню всецело отождествлять с рисом в зерне. Хотя добро происходит из [человеческой] природы, нельзя [человеческую] природу всецело отождествлять с добром» («Чунь цю фань лу», цз. 10, гл. 35).
Таким образом, Дун Чжуншу первым ввел очень важную идею доброты человеческой природы как ее потенциального состояния. Еще не будучи доброй, человеческая природа от рождения обладает «доброй основой» (шань чжи), «добрым началом» (шань дуань). Актуализирует потенциальную доброту человеческой природы обучение и воспитание. Признание актуальной нейтральности изначальной человеческой природы сближает Дун Чжуншу с Конфуцием, оценка ее как потенциально доброй — с Мэн-цзы, а упор на социализацию как фактор формирования доброго начала в человеке — с Сюнь-цзы. В этом смысле можно согласиться с утверждением Фэн Юланя, что учение Дун Чжуншу о природе человека «представляет собой синтез идей Конфуция, Мэн-цзы и Сюнь-цзы»[25].
Дун Чжуншу принадлежат еще два важных нововведения в области философских представлений о человеческой природе. Во-первых, он указал на дуалистичную структуру человеческой природы (в широком смысле), состоящей, по его мнению, из природы (в узком смысле) и чувственности (цин): «Телесной ичности (шэнь) присущи природа и чувственность, так же как небу присущи [силы] инь и ян» («Чунь цю фань лу», цз. 10, гл. 25) Природу (в узком смысле) Дун Чжуншу трактовал как добротворный, а чувственность — как злотворный фактор.
Идея сложносоставности человеческой природы представляет собой существенный шаг вперед не только по отношению к концепциям, исходящим из ее однокачественности (природа добра, зла и нейтральна), но и по отношению к концепции, исходящей из ее разнокачественности (одновременное наличие в ней и добра и зла), поскольку таким образом дифференцируются природные факторы добра и зла, с одной стороны, и добро и зло как свойства природы — с другой.
Во-вторых, Дун Чжуншу ввел «принцип относительности» применительно к понятиям доброты и природы. С этой точки зрения человеческая природа может считаться доброй, если ее сравнивать с природой птиц и зверей, но не может считаться таковой, если ее сравнивать с природой совершенномудрых. И то, что называется природой совершенномудрых, не является природой в том же смысле, что и природа средних людей, а природа последних не есть природа в том же смысле, что природа совершенных ничтожеств (доу шао)[26]. Дун Чжуншу утверждал, что Мэн-цзы в своей теории ориентировался на превосходство человеческой природы по сравнению с природой животных, тогда как он сам ориентируется на то, что природа обычных людей (которую он только и имеет в виду под «природой») уступает природе совершенномудрых, т. е. не добра по большому счету.
За довольно тонкими дистинкциями Дун Чжуншу последовала более простая и радикальная концепция Ян Сюна, который с наибольшей отчетливостью и последовательностью выразил восходящую, видимо, к Ши Ши идею амбивалентности человеческой природы. Ян Сюн писал: «В человеческой природе добро и зло перемешаны (жэнь чжи син е шань э хунь). Если совершенствовать присущее ей Добро, то станешь добрым человеком. Если совершенствовать присущее ей зло, то станешь злым человеком» («Фа янь», цз. 3).
Вернемся, однако, к цитате из «Мэн-цзы». Во втором анонимном тезисе, воспроизведенном Гунду-цзы, проблема доброты или недоброты человеческой природы решается уже не «качественно», а «количественно», т. е. утверждается, что природа одних людей добра, и природа других — недобра.
У Дун Чжуншу эта идея приобрела завуалированную форму, поскольку, с его точки зрения, природа совершенномудрых — сверхприрода, а природа совершенных ничтожеств — недоприрода, и в соотношении с низшими разрядами все вышестоящие разряды — добры, а в соотношении с высшим абсолютным разрядом совершенномудрия все остальные — недобры.
Ван Чун, возобновив концепцию различных типов человеческой природы, попытался на ее основе синтезировать важнейшие принципы своих предшественников: «Действительность состоит в том, что человеческая природа бывает доброй, а бывает злой (жэнь син ю шань ю э)[27] подобно тому, как человеческие способности бывают высокими, а бывают низкими. Высокие не могут стать низкими, а низкие не могут стать высокими… Я уверен, что высказывание Мэн Кэ [Мэн-цзы] о том, что человеческая природа добра, относится к людям выше среднего, высказывание Сунь Цина [Сюнь-цзы] о том, что человеческая природа зла, относится к людям ниже среднего, а высказывание Ян Сюна о том, что в человеческой природе добро и зло перемешаны, относится к средним людям» («Лунь хэн», гл. 13)[28].
С этой же синтезирующей точки зрения Ван Чун интерпретировал и концепцию Дун Чжуншу: «Высказывания [Дун] Чжуншу говорят о том, что Мэн-цзы видел присущую ей (человеческой природе. — А.К.) [силу] ян, а Сунь Цин видел присущую ей [силу] инь». При этом, однако, он критически замечал: «Человеческая природа и чувственность совместно получаются из [сил] инь и ян. Рождаясь из [сил] инь и ян, [они] могут быть изобильны или скудны. [Так], яшма, рождаясь из камня, может быть чистой, а может быть пестрой. Природа и чувственность, подобно [силам] инь и ян, разве могут быть исключительно добрыми?» («Лунь хэн», гл. 13).
Обосновывая свою позицию, Ван Чун ссылался и на приводившиеся выше высказывания Конфуция. Стремясь связать их в единую систему, он заявлял, что слова Конфуция о взаимной близости людей по природе относятся к «средним людям» (людям средней категории), а его слова о неизменности высшей разумности и низшей глупости — к носителям абсолютного добра и абсолютного зла (цзи шань, цзи э) («Лунь хэн», гл. 13). Таким образом, Ван Чун принципиально преодолел идею сущностного единства природы всех людей и тем самым фактически дезавуировал принцип возможности для «человека с улицы» стать совершенномудрым.
После Ван Чуна идею трех видов человеческой природы развивал Сюнь Юэ (148–209). Он применил в классификации людей термин «три категории» (сань пинь), употреблявшийся ранее в классических древних текстах, но не в приложении к людям: например, в «Шу цзине» (гл. 6) говорится о «трех категориях металлов». Впоследствии этот термин взял на вооружение Хань Юй, которому и стало затем приписываться авторство теории трех категорий человеческой природы. Правда, деление людей на три категории Сюнь Юэ непосредственно связывал с предопределением (мин1), а не с природой.
Различая предопределение и природу, Сюнь Юэ писал: «Прирожденное называется природой, таковы тело (син1) и дух (шэнь1). То, благодаря чему устанавливается и завершается жизнь, называется предопределением» («Шэнь цзянь» — «Расширенное зерцало», гл. 5). Считая предопределение для людей высшей категории и предопределение для людей, низшей категории константами, Сюнь Юэ признавал возможность влияния на предопределение, присущее людям средней категории, их собственных поступков: «Имеются три категории [небесного предопределения]. Высшая и низшая неизменны. Что касается средней, то она находится в зависимости от человеческих дел» («Шэнь цзянь», гл. 5).
В рамках такого различения основное внимание Сюнь Юэ уделял средней категории. При этом он уклонялся от прямой оценки природы в аспекте доброты или недоброты, рассматривая данные атрибуты скорее как присущие ее проявлениям (через посредство чувственности), нежели ей самой («Шэнь цзянь», гл. 5).
Свое отношение к другим концепциям человеческой природы Сюнь Юэ выражал следующим образом: «Мэн-цзы утверждал, что [человеческая] природа добра, Сюнь Цин [Сюнь-цзы] утверждал, что [человеческая] природа зла, Гунсунь [Ни]-цзы говорил, что [человеческой] природе не присущи ни добро ни зло, Ян Сюн говорил, что в человеческой природе добро и зло перемешаны, Лю Сян говорил, что [человеческая] природа и чувственность соответствуют друг другу: природа не является исключительно доброй, чувственность не является исключительно злой… Только высказывания [Лю] Сяна верны» («Шэнь цзянь», гл. 5).
Согласно Ван Чуну, Гунсунь Ни-цзы придерживался мнения Ши Ши, что в человеческой природе наличествует и добро и зло. Поскольку сочинения Гунсунь Ни-цзы утрачены, установить истину сейчас весьма сложно, тем более что одни авторы считают его учеником (учеником ученика) Конфуция, а другие — учеником Сюнь-цзы[29]. Следует, однако, признать, что в «Юэ цзи» («Записках о музыке»), произведении, приписываемом Гунсунь Ни-цзы (как, впрочем, и Сюнь-цзы) и представляющем собой ныне 17/19-ю главу «Ли цзи», трактовка человеческой природы действительно близка к высказанному Конфуцием[30]. Там сказано: «От рождения человеку присуще спокойствие — такова небесная природа. В результате восприятия вещей возникают движения — таковы страсти (юй) природы. После того как вещи достигаются, а знания познаются, формируются любовь и ненависть (хао у) к ним. Если любовь и ненависть не умеряются внутри, а знания поглощены внешним, невозможно оборотиться к самому себе (фань гун), и небесный принцип гибнет».
В «Юэ цзи» признание того, что человеку изначально присущ небесный принцип (тянь ли), противоположный человеческим страстям (жэнь юй) («Когда человек изменяем вещами, тогда гибнет небесный принцип и до предела развертываются человеческие страсти»), а также того, что «благодать является началом (дуань) природы, сочетается с утверждением, что музыка, будучи воспринятой, приводит в движение доброе сердце (шань синь) человека». Следовательно, добро здесь мыслится атрибутом не спокойной природы, а подвижной чувственности. Надо также учитывать, что «ненависть» из пары «любовь и ненависть» обозначается тем же иероглифом, что и «зло» из пары «добро и зло», поэтому представление о добре и зле как явлениях, принадлежащих подвижной познавательно-чувственной сфере, для данного контекста вполне естественно. Это сопоставимо с положениями Ван Янмина: «Наличие добра и зла — это движение пневмы (ци)»; «Наличие добра и зла — это движение помыслов» («Чуань си лу», цз. 1,3). Таким образом, если считать сказанное в «Юэ цзи» выражением взглядов Гунсунь Ни-цзи, сообщение Сюнь Юэ следует признать верным.
Что касается взглядов Лю Сяна (77-6), то Ван Чун приводит следующее его высказывание, отсутствующее в сохранившихся произведениях этого философа: «[Человеческая] природа есть то, что таково от рождения. Будучи заключенной в телесной личности (шэнь) человека, [она] не проявляется вовне. Чувственность есть то, что таково благодаря соприкосновению с вещами (цзе юй у). [Она] выходит из тела вовне. Выходящее из тела вовне называется [силой] ян. Не проявляющееся вовне называется [силой] инь» («Лунь хэн», гл. 13). Здесь бросается в глаза противоположная по сравнению с данной Дун Чжуншу корреляция между природой и чувственностью, с одной стороны, и силами инь и ян — с другой. Соотношение же того и другого с добром и злом не уточняется. Поэтому свои критические замечания в адрес Лю Сяна Ван Чун заключает словами: «Не говоря о том, добра или зла [человеческая] природа, а только обсуждая внешнее и внутреннее, [силы] инь и ян, трудно познать принцип. Согласно высказываниям Цзы-Чжэна (Лю Сяна), [человеческая] природа — это [сила] инь, а чувственность — это [сила] ян, однако природные данные (бин) и чувственность человека в конце концов добры или злы?» («Лунь хэн», гл. 13).
Таким образом, все основные идеи и термины, затем развитые в более сложную и четкую систему Хань Юем, содержались уже в учении Сюнь Юэ. В начале своего трактата «Юань син» («Обращение к началу [человеческой] природы»), специально посвященного разбираемой проблеме, Хань Юй писал: «Существуют три категории [человеческой] природы, а того, благодаря чему она является природой, пять». Далее он пояснял, что высшей категории (шан пинь) присуще только добро, низшей (ся пинь) — только зло, а средней (чжун пинь) — и добро и зло. Пять качеств, делающих человеческую природу тем, что она есть, суть следующие: гуманность, благопристойность, благонадежность (синь2 — способность вызывать доверие), должная справедливость и разумность. Из перечисленных пяти качеств важнейшим Хань Юй считал гуманность.
Его представления о соотношении трех категорий человеческой природы с ее пятью сущностными качествами показаны ниже (знак «+» означает наличие данного качества, а «-» — наличие его противоположности):
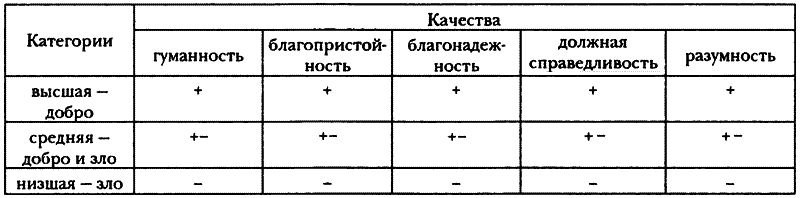
Категории человеческой природы определялись Хань Юем и по второму параметру: по степени совершенства присущей человеку чувственности, т. е. семи эмоций: радости, гнева, печали, страха, приязни, ненависти, вожделения. В высшей категории семь эмоций пребывают в состоянии уравновешенности, или «срединности» (чжун)[31], в средней — незначительно отклоняются в ту или иную сторону, в низшей — недостаточны или чрезмерны.
§ 2
Концепции природы и чувственности
От Сюнь-Цзы до Чжу Си
Ни в «Лунь юе», ни в «Мэн-цзы» еще не было установлено соотношение между понятиями «син2» и «цин». Выражающие их знаки связаны как общим ключом «синь» — «сердце», так и семантическим параллелизмом[32]: «син2» — 1) природные качества любой отдельной вещи, 2) человеческая природа, 3) пол; «цин» — 1) природные свойства любой отдельной вещи, 2) способность восприятия и реагирования (прежде всего — эмоционального), присущая живым существам, в особенности человеку, 3) чувственность, привязанность, любовные чувства.
Таким образом, иероглиф «цин» обозначает и объективные, и субъективные данные, чувствуемое и чувствующее, что ближе всего к значению слова «чувственное» как «сенсуальное». В «Лунь юе» он употреблен дважды (как и иероглиф «син2») — в третьем значении:
«Когда верхи любят благонадежность, среди народа нет осмеливающихся не проявлять чувство привязанности (бу юн цин)» (XIII, 4); «Если [ты, Янфу][33], добьешься их [беспутных] привязанности (дэ ци цин) — печалься и переживай, а не веселись» (XIX, 19).
В «Мэн-цзы» иероглиф «цин» встречается четыре раза и во всех случаях — в первом значении. Наиболее характерен следующий пример: «Неравенство вещей — это их свойство (цин)» (III А, 4). Кроме того, знак «цин» выступает здесь как синоним знака «син2» в его втором значении: «Мэн-цзы сказал: „Что касается их (людей. — А.К.)природных свойств (цин), то [таковые] можно считать добрыми“» (VI А, 6, см. также VI А 8).
Сюнь-цзы акцентировал второе значение иероглифа «цин» и взаимоопределил понятия «цин» и «син2». Он писал: «То, что таково от рождения, называется природой… Обусловливаемые природой любовь и ненависть, веселье и гнев, печаль и радость называются чувствами» («Сюнь-цзы», гл. 22). Тождественный данному список эмоций содержится в более раннем тексте — «Цзо чжуани», но там они не обозначены иероглифом «цин» (Чжао-гун, 25 г.). Согласно Сюнь-цзы, чувства вторичны по отношению к врожденной человеческой природе и представляют собой результат ее взаимодействия с внешним миром. Различие врожденных (син2) и благоприобретенных (цин) свойств он выразил в четкой формуле: «К [индивидуальной] природе (син2) относится то, что я не способен (нэн) сотворить (вэй), но могу (кэ1) преобразовать. К чувственности (цин) относится то, чем я не обладаю [изначально], но то, что я могу (кэ1) сотворить. Приведением в соответствие (цо) и привыканием к обычаям преобразуется [индивидуальная] природа» («Сюнь-цзы», гл. 8). Кроме того, Сюнь-цзы разграничивал чувства и страсти (юй): «[Индивидуальная] природа есть воплощение неба (т. е. естественности. — А.К.), чувства суть основа [индивидуальной] природы, а страсти суть реакции (ин) чувств» («Сюнь-цзы», гл. 22).
Трактовка цин как вторичных, благоприобретаемых человеком свойств была философски новаторской. Во входящей в «Ли цзи» главе 7/9 «Ли юнь» («Циркуляция благопристойности»), тексте, видимо, несколько более раннем, чем «Сюнь-цзы», перечисление семи человеческих чувств (жэнь цин), ставшее затем стандартным и частично совпадающее с шестичленным набором Сюнь-цзы, сопровождается замечанием, что они суть то, на что человек способен (нэн) без научения. В то же время в «Юэ цзи», тексте, также входящем в «Ли цзи» (гл. 17/19) и, видимо, в той или иной степени связанном с творчеством Сюнь-цзы, после перечисления шести эмоций (как состояний сердца) следует заключение: «Эти шесть не природны (фэй син), являясь движениями, возникающими в результате восприятия вещей». Новаторство Сюнь-цзы в трактовке чувств-цин как творимых самим человеком становится еще более заметным на фоне следующего определения «цин», содержащегося в синхронном «Мэн-цзы» даосском каноне «Чжуан-цзы», где этот иероглиф, так же как и в «Мэн-цзы», берется в своем первом значении: «То, на что человек не может повлиять, — все это свойства (цин) вещей» (гл. 6).
Дун Чжуншу, как мы уже отмечали, воспринял введенное Сюнь-цзы противопоставление цин и син2 и универсализировал его, представив чувственность и природу (в узком смысле) в качестве двух «равноправных» членов оппозиции, аналогичной универсальной оппозиции инь-ян. С этой точки зрения чувственность и природа оказываются одинаково врожденными: «То, что рождаемо небом и землей, называется [индивидуальной] природой и чувственностью» («Чунь цю фань лу», гл. 35).
Лю Сян синтезировал универсализацию Дун Чжуншу с пониманием соотношения цин и син2, данным Сюнь-цзы, т. е. с пониманием син2 как внутреннего естества человека, а цин — как его способности «соприкасаться с вещами» (цзе юй у) — иначе говоря, контактировать с объективной действительностью. В результате, как мы уже отмечали, он пришел к противоположной, нежели Дун Чжуншу, корреляции чувственности и природы с силами инь и ян. Действительно, раз природа — это нечто внутреннее и не контактирующее с вещами, т. е. скрытое, значит, она — инь, и раз чувственность — это внешнее и контактирующее с вещами, т. е. явное, значит, она — ян. Этот вывод опровергал Ван Чун, ссылаясь на то, что «[индивидуальная] природа также соприкасается с вещами», поскольку, например, «смиренность и скромность, [способность] отказывать [себе] и уступать [другому] являются проявлениями [индивидуальной] природы» («Лунь хэн», гл. 13).
Видимо, и парадоксальный результат Лю Сяна, и критика Ван Чуна повлияли на то, что Хань Юй отказался от равноположенности син2 и цин, вернувшись к первоначальной трактовке их соотношения, предложенной Сюнь-цзы. Эссе Хань Юя начинается словами: «[Индивидуальная] природа человека — это то, что дано ему от рождения, а чувственность — то, что порождается соприкосновением с вещами». С точки зрения Хань Юя, как и с точки зрения Сюнь-цзы, чувства могут быть и хорошими и плохими, тогда как, с точки зрения Дун Чжуншу, они составляют «алчную» (тань) сторону человеческой натуры, природа же (в узком смысле) составляет ее «гуманную» (жэнь1)сторону.
В целом рассуждения Хань Юя очень близки к рассуждениям Ван Чуна. В обоснование трехступенчатой градации человеческой природы он также ссылался на Конфуция и также пытался охватить своей теорией концепции Мэн-цзы, Сюнь-цзы и Ян Сюна как частные случаи. Правда, в отличие от Ван Чуна, Хань Юй считал эти концепции относящимися к людям средней категории. Основанием для такого вывода у него служит то, что, все они предполагают возможность изменения изначальной природы в ту или иную сторону (что должно было объяснить реальное разнообразие человеческих натур), тогда как с его точки зрения природа людей высшей и низшей категорий константна. В этом Хань Юй опирался на уже отмеченные нами высказывания Конфуция: «Высшая разумность и низшая глупость неизменны» («Лунь юй», XVII, 3); «Случается, что благородный муж негуманен, но еще не случалось, чтобы ничтожный человек был гуманен» («Лунь юй», XIV, 6) и т. п. Считая сами категории неизменными и переход из одной в другую — невозможным, Хань Юй вместе с тем допускал возможность больших или меньших изменений в ту или иную сторону в рамках каждой категории.
Разбирая вопрос о категориях человеческой природы, следует не упускать из виду, что представляемое посредством иероглифа «син2» различие между людьми столь же глубоко и органично, как, например, различие между полами (напомним, что иероглифу «син2» принадлежит и значение «пол»).
Связанная с категорией «син2» проблематика неоконфуцианства была во многом подготовлена философскими построениями буддизма, преимущественно школы чань (тезис о прозрении в собственном «сердце» сущностной, принадлежащей всем существам «[индивидуальной] природы будды» — фо син) и «школы (дхармической) [индивидуальной] природы» ([фа] син цзун), отождествлявшей «[индивидуальную] природу» и «сердце», а также даосизма, которым в 1-м тыс. н. э. активно разрабатывалась проблема соотношения «[индивидуальной] природы» с «предопределением» (мин1). Последнее, понимаемое как обусловленный природными силами «[жизненный] путь», предполагалось возможным «алхимическими» (психофизическими и магическими) методами скорректировать вплоть до «обращения вспять» движения от рождения к могиле. Законченную форму этот тезис приобрел в учении Чжан Бодуаня (983?—1082) об «одновременном совершенствовании [индивидуальной] природы и [жизненного] предопределения» (син мин шуан сю).
Син2 и мин1 рассматривались даосами в качестве пневмы, причем «[индивидуальная] природа» соотносилась с «изначальным духом» (юань шэнь), т. е. разумным психическим началом, а «[жизненное] предопределение» мыслилась как соматические процессы, непосредственно не связанные с мышлением и психикой. Отсюда, отмечает Е.А. Торчинов, возникали «постоянные упреки даосов в адрес буддистов, психотехника которых была направлена исключительно на „совершенствование сердца“ (синь) или „природной сущности“ (син2) и игнорировала пневменно-энергетические начала в человеке (мин1). Это делало буддийскую практику, с позиции даосов, односторонней и недостаточной для обретения полного совершенства и бессмертия»[34]. Поэтому в ряде течений даосизма син2 предполагалось уже не «совершенствовать», а «преодолевать».
Подобные концепции оказали влияние на тезис Чжан Цзая и Чэн И о «преодолении» «[индивидуальной] природы на пневменной основе» (ци чжи чжи син) с целью самосовершенствования и возвращения к «[индивидуальной] природе неба и земли» — тянь ди чжи син (Чжан Цзай) или «предельно коренной, совершенно изначальной [индивидуальной] природе» — цзи бэнь цюн юань чжи син (Чэн И).
Чэн И и Чжу Си подвергли критике буддийское отождествление «сердца» (сознания) и «[индивидуальной] природы», подчеркнув онтологическую первичность син2. Чжу Си воспринял проведенное Чжан Цзаем и Чэн И различение «предельно коренной, совершенно изначальной [индивидуальной] природы» (цзи бэнь цюн юань чжи син) и «[индивидуальной] природы на пневменной основе» (ци чжи чжи син) и, связав их с началами ли (принцип) и ци (пневма) соответственно, окончательно сформировал концепцию изначально-общей доброй природы, обладающей вторичными и конкретными модусами, которым в разной степени присуще добро и зло.
«[Индивидуальная] природа, — утверждал Чжу Си, — это принцип. Настоящий принцип не имеет недоброго. Ведь слова Мэн-цзы о [человеческой] природе относятся к ее коренному состоянию. В таком случае [в них] безусловно есть то, на что можно опереться. Но ведь данное на пневменной основе не может не различаться как поверхностное и глубокое, толстое и тонкое. Слова Конфуция о том, что по природе [люди] близки друг другу, [а по привычкам далеки друг от друга], касаются пневменной основы» («Чжу-цзы юй лэй», цз. 4).
Чжу Си был задан вопрос: «Мэн-цзы говорил, что природа [человека] добра, — Ичуань [Чэн И] называл это предельно коренной, совершенно изначальной природой. Конфуций говорил, что по природе [люди] близки друг другу, [а по привычкам далеки друг от друга], — Ичуань называл это природой на пневменной основе. Все это понятно. Но вот неизвестно: является ли то, что „Срединное и неизменное“ характеризует как предопределяемое (мин1) небом и называемое [индивидуальной] природой, предельно коренной, совершенно изначальной [индивидуальной] природой или же природой на пневменной основе?» Учитель дал следующий ответ: «[Индивидуальная] природа бывает только одного рода. Как может различаться то, что предопределено небом? Именно благодаря неодинаковости пневменной основы возникают несхожести. Это Конфуций и характеризовал словами о том, что по природе [люди] близки друг Другу, [а по привычкам далеки друг от друга]. А Мэн-цзы испугавшись, Что люди скажут: природа одного [человека] изначально отличается от природы другого, обратился к тому, что предопределяемо небом и несомо внутри пневменной основы. Объясняя людям, [он] утверждал, что в [человеческой] природе нет недоброго. Это как раз то, о чем Цзы-Сы сказал: предопределяемое небом называется природой» («Чжу-цзы юй лэй», цз. 4).
Свое отношение к концепциям других участников веками длившейся дискуссии Чжу Си выразил в следующем пассаже: «Мэн-цзы говорил только об [индивидуальной] природе и не говорил о пневме, что свидетельствует о неполноте. Если говорить о природе и не говорить о пневме, то учение об [индивидуальной] природе не будет исчерпывающим. Если же говорить о пневме и не говорить об [индивидуальной] природе, то не проникнешь в сущностные качества природы. И Сюнь[-цзы], и Ян [Сюн], и Хань [Юй] — все они, хотя и рассуждали о природе, на самом деле вели речь о пневме. Сюнь-цзы усмотрел лишь природу дурных людей, поэтому и говорил, что [она] зла. Ян-цзы усмотрел наполовину добрых, наполовину злых людей, поэтому и говорил о смешении добра и зла. Хань-цзы усмотрел то, что в Поднебесной имеется множество разнородных людей, и утвердил это в качестве учения о трех категориях [человеческой природы]. Среди [учений] этих трех мужей учение Хань-цзы сравнительно ближе к истине» («Чжу-цзы юй лэй», цз. 4).
Отчетливо видимое здесь стремление к универсальному теоретическому синтезу Чжу Си выразил и в более лаконичной форме: «Неодинаковость конфуцианских концепций [индивидуальной] природы не означает непонимания относительно добра и зла. Все дело только в неустановленности [смысла] слова „природа“» («Чжу-цзы юй лэй», цз. 5). Весьма примечательно и то, что в синтезирующей схеме Чжу Си понимание человеческой природы Конфуцием оказывается объединенным с ее пониманием у Сюнь-цзы и противопоставленным ее пониманию у Мэн-цзы.
Помимо различения человеческой природы как субстанции и как модуса Чжу Си ввел в оборот и еще одно новшество — различение соотношений между добром и природой с онтологической и антропологической точек зрения: «В плане неба и земли добро — предшествующее, а [индивидуальная] природа — последующее… в человеческом плане [индивидуальная] природа — предшествующее, а добро — последующее» («Чжу-цзы юй лэй», цз. 5). Смысл различения в том, что в онтологическом аспекте добро как атрибут принципа есть сущность по отношению к природе как явлению; в антропологическом же аспекте, наоборот, добро есть появление человеческой природы. Говоря о добре как онтологическом атрибуте принципа, не следует забывать о широте этого понятия, далеко выходящего за рамки чисто этического смысла и близкого к понятии) «блага».
Понятия «природы» и «чувственности» Чжу Си связывал через понятие «сердца» (синь). Проводя аналогию между сердцем и водой, философ сопоставлял природу с ее (воды) неподвижным принципом (дин ли), а чувственность — с ее движущимся потоком. Движущуюся силу (ци ли) потока в этой аналогии он сравнивал с человеческими способностями (цай1). Отсюда следовал вывод, что «только [индивидуальная] природа едина и тверда (и дин), а чувственность, сердце и способность вместе образованы пневмой. Сердца изначально не бывают неодинаковыми, но в ходе человеческой жизни возникают различия. Чувства (цин) могут быть и добрыми и злыми» («Чжу-цзы юй лэй», цз. 5).
§ 3
Концепция природы и чувственности, выработанная Ван Янмином
Чжусианская концепция человеческой природы подверглась радикальной критике со стороны Ван Янмина. Во-первых, он отказался от проведенных Чжу Си различий между принципом и пневмой, сердцем и природой: «Пневма есть [индивидуальная] природа, [индивидуальная] природа есть пневма. Изначально невозможно провести различие между [индивидуальной] природой и пневмой»; «Сердце — это [индивидуальная] природа, а [индивидуальная] природа — это принцип» («Чуань си лу», цз. 2, 1). Такой подход полностью противоречил чжусианскому соотнесению природы с принципом, а сердца — с пневмой.
Во-вторых, разделив абсолютное совершенное добро, или высшее благо (чжи шань), и добро соотносительное со злом, Ван Янмин отождествил первое из них с первосущностью, или «коренным телом» (бэнь ши), сердца: «Совершенное добро есть первосущность сердца» («Чуань си лу», цз. 1). Совершенное добро, разумеется, было для него тождественно небесному принципу: «Первосущность сердца есть небесный принцип» («Чуань си лу», цз. 2). Поскольку Ван Янмин так же, как и Чжу Си, рассматривал природу в качестве сущности (ши) сердца («Чуань си лу», цз. 2), она у него отождествлялась с совершенным добром. Разъясняя фундаментальный тезис «Великого учения» об «остановке на совершенном добре» (чжи той чжи июнь), он писал: «Совершенное добро — это [индивидуальная] природа. И [индивидуальной] природе изначально нет ни капли зла, поэтому и называется совершенным добром. Остановиться на нем — это значит вернуться к ее первозданному состоянию, и только» («Чуань си лу», цз. 1).
Отделение совершенного добра от соотносительных добра и зла апофатически вписывалось в общую схему бинарных оппозиций «Покой-движение», «принцип-пневма»: «Отсутствие и добра и зла — это покой принципа, наличие и добра и зла — это движение пневмы. Отсутствие движения под воздействием пневмы — это отсутствие и добра и зла, именно то, что называется совершенным добром». Как «не имеющую ни добра ни зла» Ван Янмин определял также сущность (ши) сердца (например, «Чуань си лу», цз. 3), которую он, в свою очередь, отождествлял с благосмыслием (лян чжи).
Собственно говоря, в дискуссии об абсолютном и соотносительном со злом добре участвовал и Чжу Си. Полемизируя со взглядами школы Ху, главными представителями которой были отец и сын Ху Аньго (1073–1138) и Ху Хун (1105–1155), он категорически отвергал такого рода дистинкцию. Сама идея высшего блага, трансцендентного оппозиции «добро — зло», имеет даосско-буддийское происхождение. И поэтому традиционные обвинения Ван Янмина в проповеди чань-буддизма под маской конфуцианства не были лишены определенных оснований.
Однако в учении Ван Янмина эта идея была призвана играть функционально иную роль, нежели в буддизме. Философ сам это прекрасно осознавал и стремился всячески подчеркнуть: «Буддийское отсутствие и добра и зла сводится к отрешенности от каких-либо занятий и не может быть использовано для наведения порядка в Поднебесной. Отсутствие же добра и зла у совершенномудрых — это лишь „отсутствие самочинной (цзо) любви“ и „отсутствие самочинной ненависти“, отсутствие движений под воздействием пневмы; в таком случае „следуют Пути правителя (ван дао)“ и „соединяются с ним, имеющим абсолют“[35], — это и есть подчинение себя одному лишь небесному принципу» («Чуань си лу», цз. 1).
С еще большей силой, чем Чжу Си, Ван Янмин делал упор на единство природы: «[Индивидуальная] природа едина, и все. Как оформленную телесность (син ти) ее называют небом, как суверенного властелина ее называют господом (ди), как распространяющуюся активность (лю син) ее называют предопределением, как дарованное человеку ее называют природой, как владычествующее в телесной личности (шэнь) ее называют сердцем» («Чуань си лу», цз. 1); «[Индивидуальная] природа едина, и только. Гуманность, должная справедливость, благопристойность, разумность (чжи) представляют собой [индивидуальную] природу [индивидуальной] природы (син чжи син)[36]. Чуткость и прозорливость представляют собой основу (чжи2) [индивидуальной] природы. Веселье, гнев, печаль, радость представляют собой чувства [индивидуальной] природы. Эгоистические страсти и исходящие извне побуждения (кэ ци) представляют собой затмение [индивидуальной] природы. Основа бывает чистой и мутной, поэтому чувства иногда чрезмерны, иногда недостаточны, а затмение бывает поверхностным или глубоким. Эгоистические страсти и исходящие извне побуждения — это одна болезнь, проявляющаяся как два недуга, а не две [различные] вещи» («Чуань си лу», цз. 2).
Исходя из этих общих посылок, Ван Янмин вновь утвердил принцип единства человеческой природы в его наиболее радикальной форме: «Всякий человек может стать [совершенномудрым] Яо или Шунем» («Чуань си лу», цз. 1,8). «Благосмыслие (лян чжи) и благомочие (лян нэн) у глупого мужика и глупой бабы те же, что у совершенномудрых» («Чуань си лу», цз. 2)[37]. «Это благосмыслие есть то, что объединяет совершенномудрых и глупых» («Шу Вэй Шимэн цзюань» — «Послание Вэй Шимэну»: «Ван Янмин цюань цзи», цз. 8).
В согласии с определением «Чжун юна» (§ 1) Ван Янмин утверждал: «Первосущность веселья, гнева, печали и радости сама по себе уравновешена (срединна) и гармонична» («Чуань си лу», цз. 2). С его точки зрения, чувства-эмоции, как таковые, суть функции благосмыслия и поэтому внеположны и добру и злу, они естественно-благостны: «Веселье, гнев, печаль, страх, любовь, ненависть и вожделение (юй) называются семью чувствами. Все семь совместно присутствуют в человеческом сердце. Однако надо ясно понимать [роль] благосмыслия. Взять к примеру солнечный свет: для него также нельзя указать направление и установить место. Пронизанная солнечным светом малейшая щель становится его местоположением. Пусть даже облака и туман заполнят все четыре стороны, в Великой пустоте (тай сюй) можно будет различить цвета и образы. Значит, солнечный свет неуничтожим. Из того, что облака способны затмить солнце, не следует заключать, что небо не должно рождать облака. Когда семь чувств следуют распространяющейся активности своего естества (цзы жань), все они являются деятельным проявлением (юн) благосмыслия и не могут быть разделяемы на добрые и злые. Однако не следует иметь здесь какую-либо нарочитость. Семь чувств, исполненные нарочитости, все вместе называются страстями (юй) и все вместе становятся затмевающими благосмыслие. Впрочем, как только появляется нарочитость, благосмыслие также само способно это осознать, а осознав — рассеять затмение и восстановить свою сущность. Как только эта задача разрешается, дальнейший труд [по нравственному самосовершенствованию] становится легким и всеобъемлющим» («Чуань си лу», цз. 3). Соотношение чувств-эмоций и благосмыслия Ван Янмин кратко определял следующим образом: «Благосмыслие не коснеет в веселье, гневе, скорби и страхе, однако веселье, гнев, скорбь и страх также не внеположны благосмыслию» («Чуань си лу», цз. 2).
Имеются свидетельства и о том, что Ван Янмин устанавливал определенную иерархию эмоций. Один из его последователей, Чжу Дэчжи (Бэньсы), сообщал: «Был задан вопрос о веселье, гневе, печали и радости. Наставник Янмин ответил: „Радость — это первосущность сердца. Если имеет место радость — возникает веселье. Если имеет место противоположное радостному — возникает гнев. Если утрачивается радостное — возникает печаль. Когда отсутствуют и веселье, и гнев, и печаль, это называется истинной радостью“» (цит по.: Хуан Цзунси. «Мин жу сюэ ань» — «Отчет об учениях конфуцианцев [эпохи] Мин», цэ 5, цз. 25).
Сам Ван Янмин писал следующее: «Радость — это первосущность сердца. Не будучи тождественной с радостью — [одним] из семи чувств, [она] и не внеположна ей. Хотя совершенномудрым и высокодостойным особо присуща истинная (чжэнь) радость, в равной мере она присуща и обычным людям. Однако обычные люди, обладая ею, сами не знают об этом. Напротив, сами добиваются множества скорбей и горестей и сами прибавляют [к этому] обманутость и заброшенность. Но хотя пребывают в скорбях и горестях, обманутости и заброшенности, эта радость не может не находиться в них. Стоит только проникнуться одной просветляющей мыслью, оборотиться к самому себе и обнаружить подлинность, чтобы она тут же возникла» («Чуань си лу», цз. 2).
Такая трактовка заставила одного из собеседников Ван Янмина поставить перед ним вопрос ребром: «Пусть радость — это первосущность сердца, но непонятно, сохраняется ли она во время рыданий в случае кончины кого-нибудь из родителей?» Ответ Ван Янмина был столь же решителен, как вопрос: «Для того, чтобы была радость, необходимы великие рыдания. Нет рыданий — нет и радости. Несмотря на рыдания, умиротворенность этого сердца и есть радость. Первосущности никогда не присуще движение» («Чуань си лу», цз. 3).
Приоритет чувства радости, безусловно, связан с тем, что «первосущность сердца» Ван Янмин считал благосмысленной (лян чжи), т. е. преисполненной высшего и подлинного знания (чжи), атрибутом которого в конфуцианстве традиционно считалась радость: «Знающий (чжи) радуется» («Лунь юй», VI, 23); «Оборотясь к самому себе (фань шэнь), обнаружить подлинность (чэн, т. е. достоверность знания и искренность чувства. — А.К.) — нет большей радости, чем эта!» («Мэн-цзы», VII А, 4)[38].
Следует также иметь в виду, что в вэньяне, т. е. письменном литературном китайском языке, одним и тем же иероглифом выражаются как понятие «радость», так и понятие «музыка»[39], охватывающее помимо музыки массу других искусств вместе с соответствующими духовно-психическими состояниями, главное из которых — именно радость[40]. Семантическое единство «музыки» и «радости» было в конфуцианстве осмысленно и концептуально утверждено. А поскольку «музыка» рассматривалась конфуцианцами как высшее и необходимое проявление человеческой чувственности вообще, постольку «радость» естественным образом приобрела статус главного чувства. Основополагающим источником, зафиксировавшим эти представления, являются «Записки о музыке», в которых сказано: «Музыка — это радость[41], это то, что человеческие чувства не способны избежать… Музыка — это предопределение (мин1) неба и земли, основание (цзи2)уравновешенности (срединности) и гармоничности, то, чего человеческие чувства не способны избежать. Музыка есть то, с помощью чего прежние цари обнаруживали веселье».
Идейно господствовавшие во второй половине эпохи Мин последователи Ван Янмина развили и популяризировали эту тему. В частности, Ван Гэнь (1483–1540) утверждал: «Человечье сердце само в своей сущности радостно» («И цзи» — «Посмертное собрание [произведений]», цз. 2, «Лэ сюэ гэ» — «Песня о веселом учении»). Поскольку семантика иероглифа «лэ/юэ» («радость/музыка») в обоих указанных значениях связана с таким наивысшим проявлением чувственности, как эротика, подобные теоретические построения прекрасно согласовались с общим духом того времени, отмеченного наивысшим расцветом эротической литературы и живописи. По-видимому, не случайно одним из возможных создателей самого выдающегося китайского эротического романа «Цзинь, Пин, Мэй» («Цветы сливы в золотой вазе») считается янминист Ли Чжи (1527–1602).
Согласно Ван Янмину, порочными чувства-эмоции делаются, становясь страстями (юй), т. е. благодаря нарушениям меры, которые суть следствия эгоистических помыслов и стремлений, обнаруживающихся в виде «любви к славе, пользе-выгоде, вещам» и являющихся атрибутами ненастоящего «эгоистического я» — сы у («Чуань си лу», цз. 7). Главный из этих пороков — гордыня (ао), «преступлениям которой несть числа» (там же).
Искоренение страстей, с точки зрения Ван Янмина, должно автоматически привести к полному выявлению благосмысленной, абсолютно благой природы человека. Для «доведения благосмыслия до конца» (чжи лян чжи) Ван Янмин считал годными все средства, в том числе и медитирующее самопогружение в безмятежности и покое, и активную практику в социальной жизни. Достижение этой цели он связывал с выполнением нескольких рекомендаций:
1) Для начала — сосредоточенность в «спокойном сидении и пресечении дум и рассуждений», имеющая целью научить не погружению в нирвану, а «самоанализу и умению властвовать [собой]» («Чуань си лу», цз. 1).
2) Непреклонное намерение уподобиться совершенномудрому («Чуань си лу», цз. 3).
3) Личный опыт: «Если хочешь узнать, насколько горька [горькая тыква], тебе надо самому отведать [ее]» («Чуань си лу», цз. 1). Ср. афоризм Мао Цзедуна: «Если хочешь узнать вкус груши, то тебе нужно ее изменить — пожевать ее» («Относительно практики»).
4) Самопреодоление и постоянный каждодневный самоконтроль: всякую вредную мысль подстерегать, как кот — мышь (чаньский образ, ранее использовавшийся Чжу Си) («Чуань си лу», цз. 1).
5) Очищение от эгоизма, себялюбия и вредных пристрастий до конца, иначе «достаточно будет одной крупицы, чтобы нагрянули все скопища зла, влекомые друг другом» («Чуань си лу», цз. 1).
6) Самотренировка в текущих заботах: «Если проникнуть взором до самой сути, то в обязанностях сохранения достоинства и деловых обстоятельствах нет того, в чем бы благосмыслие не находило чудесного применения (мяо юн). Совсем вне пределов обязанностей сохранения достоинства и деловых обстоятельств вовсе нет благосмыслия» («Чуань си лу», цз. 6), а еще лучше под ударами судьбы: несчастья, трудности, печали и горести — настоящие учителя («Чуань си лу», цз. 4).
7) Ограничение существом дела; главное — сосредоточить свое внимание на основной идее («Чуань си лу», цз. 2).
8) Воздержание от форсирования всей этой деятельности: «Не нужно помогать расти [побегам, выдергивая их]» (реминисценция из «Мэн-цзы», II А, 2) («Чуань си лу», цз. 3), ибо «в доведении знания до конца все мы достигаем только того, что позволяет наше положение и возможности» («Чуань си лу», цз. 3), а «все замышляющие то, что их силами не достижимо, и добивающиеся того, на что их знания неспособны, не могут осуществлять доведение благосмыслия до конца» («Чуань си лу», цз. 2); «Природные данные у людей неодинаковы, поэтому при обучении не следует перепрыгивать через ступени. Если с людьми ниже среднего затеять разговор о природе (син2) или предопределении, они не поймут. Нужно шлифовать их потихоньку» (реминисценция из «Лунь юя», VI, 19/21) («Чуань си лу», цз. 3).
§ 4
Эволюционная преемственность представлении о человеческой природе в конфуцианстве и категория «предопределение» (мин)
Проведенный анализ концепций син2 показывает, что за двухтысячелетний период развития конфуцианства — от Конфуция до Ван Янмина — в нем были выдвинуты и разработаны практически все возможные решения проблемы соотношения человеческой природы с добром и злом. Этот факт реального исчерпания комбинаторно возможных ответов на поставленный философский вопрос свидетельствует прежде всего о том, что внутри традиционной китайской философии шел процесс постоянного развития в специфической форме постепенного перебора всех возможных решений тех или иных выдвинутых в древности проблем, а также перебора всевозможных взаимных комбинаций этих решений.
Причем со времени перехода конфуцианства на положение государственной идеологии в эпоху Хань[42] начала проявляться сильная тенденция к ассимиляции предшествующих концепций в качестве частных случаев более общей теории (этого не наблюдалось ранее, когда, например, Сюнь-цзы весьма категорически отвергал концепцию Мэн-цзы).
В наглядном виде весь комплекс рассмотренных решений проблемы человеческой природы можно представить следующим образом:

Доминантной в конфуцианстве все-таки была идея доброты человеческой природы. Именно эта доминанта обусловила отсутствие некоторых теоретически возможных вариантов трактовки человеческой природы (например, как потенциально или абсолютно злой). Это, в общем, вполне понятно — в противном случае конфуцианство вряд ли могло добиться положения официально господствующей идеологической системы, поскольку таковая заведомо не может быть проникнута духом антропологического пессимизма. В то же время, чтобы не выглядеть оторванной от реальной жизни утопией, такая система должна вскрывать и глубинные корни существующего в человеческом мире зла. Подобная диалектика изначального добра и изначального зла была камнем преткновения, разумеется, не только для конфуцианства. Аналогичную картину дает возможность наблюдать, например, и христианство (во всяком случае, официализированное), в котором идея изначальной доброты человеческой природы как являющей собой образ и подобие божие так или иначе доминировала над идеей первородного греха.
Помимо этого, так сказать, социально-прагматического фактора существовали и весьма важные общемировоззренческие предпосылки для исторического торжества концепции доброты человеческой природы в конфуцианстве.
Ставшее основополагающим для всего конфуцианства понимание соотношения между человеческой природой и небесным предопределением (тянь мин) было закреплено в таких фундаментальных произведениях, как «Ли цзи»: «Предопределяемое небом (дословно: то, что приказывает небо. — А.К.) называется [индивидуальной] природой» («Чжун юн», § 1), и «Чжоу и»: «До истощения [исследуются] принципы, до исчерпания [раскрывается индивидуальная] природа — для того чтобы дойти до конца в том, что предопределено» («Шо гуа чжуань», § 1).
Передающий здесь понятие предопределения иероглиф «мин1» имеет этимологическое значение — «устный приказ», о чем свидетельствуют входящие в его состав элементы: «рот» (коу) и «приказ» (лин). Осмысление неба как безмолвно[43] руководящей миром силы с необходимостью привело к переосмыслению мин1 как негласного предписания, предопределения, судьбы. Подобно русскому слову «судьба», так же первоначально выражавшему идею устного приказа, приговора, «суда», иероглиф «мин1» соединяет в себе значения «жизненное предопределение» и «предопределенная жизнь». Здесь же заключено объяснение того факта, что с помощью термина «мин1» образуются, казалось бы, противоречащие друг другу высказывания. Например, в «Лунь юе» смерть в одном случае определяется как мин (VI, 8, 10), а в другом — как «утрата мин» (XIV, 12,13). Но ведь точно так же и по-русски о смерти может быть сказано: «Такова судьба» и «Знать, не судьба!». Все дело в том, что в первом случае под «судьбой» подразумевается жизненное предопределение, а во втором — сама жизнь, зависящая от предопределения.
Интересно, что в основных европейских языках имеются термины, выражающие два аксиологически противоположных понятия судьбы: судьбы как счастья (доброй судьбы) и судьбы как несчастья (злой судьбы). В древнегреческом это tychē («попадание», «удача», «счастливый случай») и anancē («необходимость», «насилие», «страдание»), aisa («доля», «жизненный век», «справедливость») и dicē («судебный приговор», «наказание», «возмездие», «кара»), moira («часть», «доля», «владение», «счастливый удел», «счастье», но также — «несчастный удел», «кончина», «гибель») или eimarmenē («судьба», «справедливость») и ammoria («несчастная судьба», «несчастье», «беда»), moros («участь», «жребий», «кончина», «смерть») или potmos («участь», «жребий», «несчастье» «смерть»); в латыни — fortuna («случай», «удача», «успех», «счастье»)[44] и fatum («рок», «неизбежность», «неотвратимое несчастье», «гибель», «смерть»)[45]; в русском — «счастье»[46] и «рок», «судьба»[47] и «участь»[48], «доля»[49] и «недоля». Нет нужды говорить, что это различие распространяется и на заимствования из классических языков в языках новоевропейских. Из приведенного попарного списка терминов явствует также связь идей счастливой судьбы и случайности и, наоборот, несчастливой судьбы и необходимости.
Китайский термин «мин1» не обладает такой парой ни в смысле оппозиции «счастье — несчастье», ни в смысле оппозиции «случайность — необходимость», имея значение предопределения как благого дара свыше (т. е. дара благого Неба). И судьба как случайность, и судьба как необходимость суть формы несвободы, которая не может быть познана, но может быть лишь угадана; напротив, предопределение допускает возможность свободы (о чем свидетельствует, например, совмещение в христианстве идей предопределения и свободы воли) и познания: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоан., 8, 32).
Понятие «мин1» предполагает отсутствие абсолютной необходимости в двух смыслах: как возможность изменения самого предопределения (ср. с идеей Нового завета) и как возможность подчинения ему или уклонения от него (ср. с идеей свободы воли). Подобное осмысление широко представлено уже в таких древнейших памятниках китайской идеологии, как «Шу цзин», «Ши цзин» и «Чжоу и».
В «Шу цзине» (гл. 26/34) говорится о «новом предопределении» (синь мин), а в «Ши цзине» (III, I, 1, 1) — об «обновлении предопределения» (мин вэй синь). Согласно «Шу цзину» (гл. 43/51), «Небо изменяет (гай) предопределение»; в «Чжоу и» (гексаграмма № 49 Гэ) «изменение предопределения» (гай мин) и синонимичная ему «смена предопределения» (гэ мин)[50] фигурируют в более и менее древних частях текста соответственно. В «Шу цзине» (гл. 29/37) высказано положение: «Предопределение не является постоянным» (вэй мин бу юн чан), а в «Ши цзине» (III, I, 1; 5) — его аналог: «Небесное предопределение не постоянно» (тянь мин ми чан). Там же утверждается, что «великое предопределение» (да мин) государства может быть «низвергнуто» (цин1) (III, III, 1, 7) и небесное предопределение может не быть решающим фактором, поскольку «нет не имеющих [его] изначально, но мало кто может иметь [его] в конце» (III, III, 1,1).
Видимо, идея потенциальной изменяемости и ассоциирующееся с волевым импульсом значение «приказ» у иероглифа «мин» послужили главным основанием для широко распространенной трактовки «тянь мин» как «небесной воли». Нам такая трактовка представляется неадекватной хотя бы потому, что понятие «тянь мин» может быть противопоставлено, как это делали, например, монеты, понятию «тянь чжи», т. е. собственно понятию «небесная воля» («Мо-цзы», гл. 26–28, 35–37). Воля в обычном понимании предполагает наличие конкретного субъекта воления (таково персонифицированное Небо у моистов), а предопределение-мин1 в стандартной конфуцианской трактовке — нет: «Если нет совершающих, а нечто совершается — это естественность (буквально: небо — тянь. — А.К.). Если нет доводящих до конца, а нечто доходит до конца — это предопределение» («Мэн-цзы», V A, 6).
Рациональность предопределения-мин1 и нефатальность взаимоотношений между ним и человеком выступает на первый план в рассуждениях Мэн-цзы: «Нет ничего, что не было бы предопределено (фэй мин), но следует воспринимать только правильное [предопределение]. Поэтому знающий предопределение не станет под нависшей [и готовой рухнуть] стеной. Умереть, исчерпав свой Путь-дао, — это правильное предопределение. Умереть же в колодках и оковах [преступника] — не есть правильное предопределение» («Мэн-цзы», VII А, 2)[51].
Мэн-цзы подчеркивал, что предопределение-мин1 — это внешняя заданность: «Добиваясь — достигаешь, отбрасывая — утрачиваешь, при этом добиваться — полезно для достижения, поскольку это касается заключенного в самом себе. Если же добиваться того, что обладает Путем-дао, и достигать того, что обладает предопределением, то добиваться — бесполезно для достижения, поскольку это касается заключенного вовне» («Мэн-цзы», VII А, 3). Как нечто внешнее предопределение-мин1 самим субъектом может быть либо «утверждаемо» — ли мин («Мэн-цзы», VII А, 1), либо «устраняемо» — фан мин («Мэн-цзы», I Б, 4).
Разъясняя смысл «утверждения предопределения» (ли мин), Ван Янмин особо подчеркивал активный и творческий характер этого акта: «Утвердить (ли4) — это „утвердить“ из [выражения] „создать и утвердить“ (чуан ли). Сюда же относятся выражения такого рода: „утвердить благодать“, „утвердить изречение“, „утвердить достижение“, „утвердить имя“. Во всех случаях „утверждение“ означает, что прежде никогда не бывшее ныне начинает возникать и утверждаться» («Чуань си лу», цз. 2).
У Сюнь-цзы такой подход достиг апогея в тезисе об «ограничении небесного предопределения» — «чжи тянь мин» («Сюнь-цзы», гл. 17). А Дун Чжуншу компромиссно признал существование двух видов предопределения: «великого предопределения» (да мин), которое «телесно» (природно) — ти, и «изменяющегося предопределения» (бянь мин), которое «политично» (социально) — чжэн1 («Чунь цю фань лу», цз. 5, гл. 13).
Развитие подобных идей породило учение о трех типах предопределения, критически изложенное Ван Чуном. Согласно этому учению предопределение может быть либо безусловно счастливым («правильное предопределение» — чжэн мин), либо безусловно несчастливым («инцидентное предопределение» — цзао мин), либо счастливым или несчастливым в зависимости от добродетельности или недобродетельности поведения того, на кого оно нисходит («соответственное предопределение» — суй мин) («Лунь хэн», гл. 6). Так в конфуцианстве были теоретически оформлены два полюса семантики «Миш»: предопределение как внешняя заданность, не зависящая от воздействий своего носителя (в этом смысле смерть есть мин1), и предопределение как внутренняя обусловленность, порождаемая всей совокупностью предыдущих поступков, т. е. жизненной линии своего носителя (в этом смысле смерть есть утрата мин1).
С конфуцианской точки зрения небесное предопределение реализовалось в следующих параметрах: верхний уровень — Космос (тянь ди), Поднебесная, государство; нижний — отдельная вещь (у), и в частности индивидуальная природа человека (жэнь син).
Утверждая возможность познания мин1, Мэн-цзы полностью следовал за Конфуцием, который говорил, что «не зная предопределения, нельзя стать благородным мужем» («Лунь юй», XX, 3) и что сам он «в пятьдесят [лет] узнал небесное предопределение» («Лунь юй», II, 4). Показательно при этом, что «познание небесного предопределения» Конфуций не считал высшей ступенью познания, заявляя, что в шестьдесят, а затем в семьдесят лет он достиг еще большего. Значимость предопределения для благородного мужа приравнивалась Конфуцием к значимости для него авторитета великих людей и высказываний совершенномудрых («Лунь юй», XVI, 8).
Последователи Конфуция, основываясь на принципе гомоморфизма макрокосма и микрокосма, осмыслили возможность познания и изменения человеком своей собственной природы как возможность познания «неба» и влияния на него: «Знающий свою [индивидуальную] природу знает небо» («Мэн-цзы», VII А, 1); «Способный исчерпывающе [раскрыть] свою [индивидуальную] природу… может войти в триединство с небом и землей» («Чжун юн», § 22). Причем под «исчерпывающим раскрытием» подразумевалось совершенное знание истинной природы и вполне адекватное этому знанию поведение. Таким образом, в трактовка первых конфуцианцев путь к воздействию на природу в целом (тянь — «небо») лежал через воздействие на индивидуальную природу (син2). И, следовательно, две формулы — «Чжуан юна» и «Чжоу и», приведенные в начале данного параграфа, описывают два вида противоположно направленных связей между природой в целом и индивидуальной природой. Эту замкнутую круговую систему можно представить с помощью следующей схемы:

Две другие не менее фундаментальные формулы из «Чжун юна» и «Чжоу и» описывают этот процесс посредством понятий «Путь-дао» и «добро»: «То инь, то ян — это называется Путем-дао. Продолжение этого есть добро. Оформление этого есть природа (син2)» («Си ци чжуань», I, 4/5); «Руководствование [индивидуальной] природой (син2) называется Путем-дао») («Чжун юн», § 1). Эти формулы говорят о том, что представленная на нашей схеме циркуляция есть не что иное, как Путь-дао, атрибутом которого является добро-шань, а конечным модусом — индивидуальная природа-син2. Отсюда понятен тезис Чжу Си об онтологическом первенстве добра по отношению к природе. Соотношение между шань и син2, следовательно, мыслится так же, как соотношение между дао и дэ. Путь-дао несет с собою добро-шань, которое, как было показано в § 2 главы III, сопричастно благодати-дэ, в свою очередь являющейся «завершением» (дуань) индивидуальной природы-син2 («Ли-цзи», гл. 17/19).
Таким образом, хотя в качестве эквивалента иероглифа «мин1» в практике перевода и утвердилось слово «судьба», несомое им понятие гораздо точнее выражает термин «предопределение». В конфуцианстве понятие «мин» представляет идею рациональной и нефатальной, а потому доступной познанию и пониманию детерминированности, которая как благо даруется человеку свыше. Именно такое понимание мин1 и явилось одним из важнейших теоретических факторов, определивших доминирующее положение в конфуцианстве идеи сущностной доброты человеческой природы, поскольку последняя считалась предопределяемой благим «небом».
§ 1 Концепции природы человека от Конфуция до Хань Юя
Одной из наиболее фундаментальных проблем традиционной китайской философии, в особенности конфуцианства, была проблема природы человека (жэнь син). Ее обсуждение Ван Янмин («Чуань си лу», цз. 3) относил к тому, что Конфуций называл «разговором о высшем» («Лунь юй», VI, 19/21). Уже создателями конфуцианства были предложены такие решения этой проблемы, которые наметили магистральный путь дальнейших теоретических поисков и обусловили решающее значение ее аксиологического аспекта. Ко времени Ван Янмина были последовательно выдвинуты и пересмотрены все основные возможные на этом пути принципиально разнящиеся решения, и его концепция явилась последним существенным шагом вперед, тем более что нашествие маньчжуров, упразднившее идеологическое господство янминизма, поначалу значительно снизило общий уровень философствования, а затем проникновение западных идей изменило направление, которому следовала китайская философская мысль.
Конфуцианские концепции природы человека отличает понятийно-терминологическое единообразие, все они концентрируются вокруг основополагающей для китайской философии категории «син?» («природная сущность», «качество», «характер», «пол»), которую Дай Чжэнь определил как «реальную телесную сущность и реальное дело» (ши ти ши ши) («Мэн-цзы цзы и шу чжэн», цз. 3). Ее главный теоретический смысл — конкретная индивидуальная природа, т. е. естественные и подлинные качества каждой отдельной вещи или категории вещей-дел, и в первую очередь человека. К примеру, согласно формулировкам Чжу Си, «в Поднебесной нет вещи, не имеющей [индивидуальной] природы», а «[индивидуальная] природа есть то, нем наделен человек» («Чжу-цзы юй лэй», цз. 4, 5). Поэтому и без специального определения иероглиф «син2» часто обозначает именно человеческую природу. За этим стоит не терминологическая расплывчатость, а мировоззренческая установка, согласно которой человек мыслился одним (хотя и центральным) из «десяти тысяч [родов] вещей», образующих весь мир.
Этимология иероглифа «син2», состоящего из знаков «сердце, центр» (синь) и «жизнь, рождение» (шэн), обнаруживает идею витального центра или психосоматической основы живого существа, на что прямо указывал Дун Чжуншу, который из производности «имени (мин1) син2» от «шэн» делал умозаключение: «Естественные (цзы жань) качества (цзы3) рожденного-живущего (шэн) называются [индивидуальной] природой (син2). [Индивидуальная] природа — это основа (чжи2)» («Чунь цю фань лу», цз. 10, гл. 35).
В философских построениях «[индивидуальная] природа», как правило, фигурировала в соотношении с понятиями «добро» (шань), «зло» (э), «сердце» (синь), «предопределение» (мин1), «чувства, чувственность» (цин), «принцип» (ли). В буддийских текстах она соответствовала терминам «svabhāva», «prakrti», «pradhāna».
В конфуцианском осмыслении основных характеристик природы человека учение самого Конфуция, по всей вероятности, следует считать «нулевым циклом». В нем были даны предпосылки для различных, даже противоречащих друг другу точек зрения по этой проблеме. В «Лунь юе» сообщается, что «нельзя было услышать рассуждений учителя (т. е. Конфуция. — А.К.) о природе (син2) и небесном пути» (V, 13), но там же приводится и принципиально важное высказывание Конфуция: «По природе [люди] близки друг другу, а по привычкам далеки друг от друга»(XVII, 2)). Вероятнее всего, в этом высказывании заключена мысль о единстве человеческой природы и ее нейтральности по отношению к добру и злу, которые становятся свойственны человеку под влиянием внешних обстоятельств.
Вместе с тем «Лунь юй» наполнен изречениями, утверждающими разнокачественность людей: «Случается, что благородный муж негуманен, но еще не случалось, чтобы ничтожный человек был гуманен» (XIV, 6); «Благородный муж достигает высшего, ничтожный человек достигает низшего» (XIV, 23); «Высшая разумность и низшая глупость неизменны» (XVII, 3); «С людьми выше среднего можно говорить о высшем, с людьми ниже среднего нельзя говорить о высшем» (VI, 19/21); «Знающие от рождения суть высшие, знающие по научении суть следующие, научающиеся через нужду суть следующие за следующими, не научающиеся [даже] через нужду суть низшие среди людей» (XVI, 9).
Во всех этих высказываниях не говорится прямо о природе человека: термин «син2» встречается в «Лунь юе» только дважды, и обе включающие его фразы мы уже процитировали. Поэтому указанные градации можно считать относящимися к благоприобретенным свойствам, однако кое-что разнит людей от рождения и ничем не может быть устранено: «высшая разумность и низшая глупость неизменны». Но принципиально важно то, что данное разграничение касается только интеллектуальных качеств человека, не распространяясь ни на его моральные качества, ни тем более на его природу в целом.
Некоторые из последующих конфуцианцев стремились универсализировать различие человеческих качеств, превращая его в различие природы людей (подробнее об этом — ниже), другие, наоборот, старались его теоретически сгладить. Интересно, например, что уже в «Чжун юне», произведении, традиционно приписываемом кисти внука Конфуция — Цзы-Сы (492–431 или 483–402), приведенное выше высказывание Учителя специфическим образом трансформируется: «Некоторые знающи от рождения, некоторые знающи по научении, некоторые знающи через нужду, но что касается знания, то оно едино» (§ 20). Здесь подчеркивается единство людей с точки зрения качества того знания, которым они располагают, и отсутствует категория «не научающихся [даже] через нужду», тогда как в другом месте говорится, что и глупец может быть причастен к знанию пути «благородного мужа» (§ 12).
Все это вполне соответствует общему пафосу «Чжун юна», состоящему в утверждении сущностного единства всех людей. Тем же пафосом проникнуто и другое фундаментальное конфуцианское сочинение, автором которого считается непосредственный ученик Конфуция — Цзэн-цзы, а именно «Да сюэ». В нем доказывается врожденная склонность всякого человека к добру: «Ничтожный человек, пребывая в праздности, творит недоброе и способен в этом дойти до крайности, однако, столкнувшись с благородным мужем, в томлении скрывает свою недоброту и прикидывается добрым» (II, 6.2), — и в качестве всеобщей и универсальной задачи выдвигается требование «остановки на добре (высшем, абсолютном благе — чжи шань. — А.К.)» (I, 1).
Великий последователь Конфуция — Мэн-цзы, развивая идею Учителя об общности природы всех людей, что наиболее ярко выразилось в его тезисе: «Совершенномудрые и я (мы) — однородны» («Мэн-цзы», VI А, 7), определил эту сущность как изначальную доброту. «Человеческая природа добра» (жэнь син шань е) («Мэн-цзы», IV А, 2, III А, 1), и это свойство присуще ей так же, как воде — свойство течь вниз.
Под изначальной добротой Мэн-цзы понимал главным образом четыре прирожденных специфических качества человека, своим истоком имеющих непосредственное спонтанное чувство, а завершением — сознательное поведение.
«Мэн-цзы сказал: „Все люди обладают не выносящим [чужого страдания] сердцем… У всякого человека, вдруг увидевшего ребенка, готового упасть в колодец, будет испуганное и страшащееся, соболезнующее и сострадающее сердце. И это происходит не из-за внутренней близости с родителями ребенка, не из желания иметь хорошую репутацию среди соседей и друзей и не из отвращения к тому, что ребенок разразится воплями. Отсюда видно, что не имеющий соболезнующего и сострадающего сердца — не человек, не имеющий стыдящегося [за себя] и негодующего [на другого] сердца — не человек, не имеющий отказывающего [себе] и уступающего [другому] сердца — не человек. Соболезнующее и сострадающее сердце — начало гуманности, стыдящееся [за себя] и негодующее [на другого] сердце — начало должной справедливости, отказывающее [себе] и уступающее [другому] сердце — начало благопристойности, утверждающее и отрицающее сердце — начало разумности. Человеку принадлежат эти четыре начала, так же как ему принадлежат четыре конечности (сы ти)“» («Мэн-цзы», II А, 6).
Ту же мысль Мэн-цзы высказывал в другом месте, специально разъясняя тезис о доброте человеческой природы: «Все люди обладают соболезнующим и сострадающим сердцем, все люди обладают стыдящимся [за себя] и негодующим [на другого] сердцем, все люди обладают благоговейно-уважительным и почтительно-осторожным сердцем. Соболезнующее и сострадающее сердце — это гуманность, стыдящееся [за себя] и негодующее [на другого] сердце — это должная справедливость, благоговейно-уважительное и почтительно-осторожное сердце — это благопристойность, утверждающее и отрицающее сердце — это разумность. Гуманность, должная справедливость, благопристойность и разумность не извне внедрены в меня, они мне исконно (гу1) присущи» («Мэн-цзы», VI А, 6). Естественным выводом отсюда было признание того, что «всякий человек может стать [совершенномудрым] Яо или Шунем» («Мэн-цзы», VI Б, 2).
Истолковывая доброту как изначальное свойство человеческой природы, Мэн-цзы не только развивал, но и ревизовал взгляды Конфуция, который связывал понятие доброты (шань) с высшей категорией человеческих существ: «Учитель сказал: „Совершенномудрого человека я не видел. Увидеть благородного мужа — этого достаточно. Доброго (шань) человека я не видел. Увидеть обладающего постоянством — этого достаточно“» («Лунь юй», VII, 26). В «Цзо чжуани», произведении, традицией приписываемом кисти Цзо Цюмина, ученика и современника Конфуция, эта идея выражена максимой: «Добрый человек есть основание (цзи2) неба и земли» (Чэн-гун 15 г., I, 5).
Слишком высокое представление Конфуция о доброте, очевидно, дало в дальнейшем основание для идентификации его положений с теориями более позднего времени, в частности с концепцией множественности человеческих природ. Так, по поводу его тезиса о неизменности высшей разумности и низшей глупости в 20-м цзюане «Хань шу» («Книги [о ранней династии] Хань») говорится: «Способность участия в совершении добра и неспособность участия в совершении зла называется высшей разумностью… способность участия в совершении зла и неспособность участия в совершении добра называется низшей глупостью… Способный участвовать и в совершении добра, и в совершении зла называется средним человеком». В «Хань ту» на этом теоретическом основании строится девятиступенчатая классификация (три ступени высшего класса, три ступени среднего класса, три ступени низшего класса) мифических и исторических персонажей от «сотворения мира» до тогдашней современности.
Главным оппонентом Мэн-цзы в вопросе о характере человеческой природы традиционно считается другой великий конфуцианец древности, Сюнь-цзы (Сунь Цин), утверждавший, что «человеческая природа зла; то, что она добра, — искусственное приобретение» (жэнь син э, ци шань чжэ вэй е) («Сюнь-цзы», гл. 23). Сюнь-цзы, так же как и Мэн-цзы, исходил из положения Конфуция об общности природы всех людей: «Природа [совершенномудрых] Яо и Шуня и [негодяев] Цзе и Чжи едина. Природа благородных мужей и ничтожных людей едина» (там же). Но в отличие от Мэн-цзы он утверждал, что «[обычный] человек с улицы может стать [совершенномудрым] Юем» (там же) только путем преодоления своих врожденных инстинктов и естественных склонностей, путем преобразования своей изначальной природы (фань юй син, хуа син), а отнюдь не следования ей (цун син).
Доказывая положение об изначальной недоброте человеческой природы, Сюнь-цзы ссылался на то, что человеку от рождения присущи желания и стремления, противоречащие прежде всего двум из четырех указанных Мэн-цзы сущностных человеческих качеств — благопристойности и должной справедливости. Любовь к пользе-выгоде губит способность «отказывать [себе] и уступать [другим]» («польза-выгода» — «ли2» — стандартный антоним «должной справедливости» — «и», а названная способность, как это явствует из вышеприведенных слов Мэн-цзы, — начало благопристойности), плотские лее страсти непосредственно губят благопристойность и должную справедливость (там же).
Выдвигая свою концепцию, Сюнь-цзы открыто полемизировал с Мэн-цзы. Но Мэн-цзы также развивал свой взгляд в полемике с философом Гао-цзы, который был то ли его учеником, то ли старшим современником, последователем Мо-цзы и именем которого названа излагающая эту дискуссию гл. VI «Мэн-цзы». Гао-цзы утверждал, что «природа человека безразлична к добру и недобру» (жэнь син чжи у фэнь юй шань бу шань) («Мэн-цзы», VI А, 2). Интересно при этом, что и Гао-цзы и Сюнь-цзы, исходя из разных представлений о человеческой природе (первый — как нейтральной, второй — как злой), одинаковым образом истолковывали возникновение доброты в человеке. Оба философа отождествляли ее с благоприобретаемыми свойствами (Гао-цзы — с гуманностью и должной справедливостью, Сюнь-цзы — с должной справедливостью и благопристойностью), изменяющими изначальную природу человека точно так же, как изменяет иву превращение в чашу (Гао-цзы), а кривое дерево — искусственное выпрямление (Сюнь-цзы).
Гао-цзы понимал нейтральность человеческой природы в абсолютном смысле, т. е. не считал для нее возможным сделаться доброй или злой. Добрыми или злыми могут быть лишь те формы, в которых она реализуется. Это хорошо видно из следующего высказывания ученика Мэн-цзы — Гунду-цзы: «Гао-цзы говорит: „[Человеческая] природа лишена как добра, так и недобра“. Некоторые говорят, что „[человеческая] природа может быть (сделаться — вэй. — А.К.) доброй, а может быть (сделаться) недоброй“… Другие говорят, что „есть добрая человеческая природа и есть недобрая человеческая природа“» («Мэн-цзы», VI А, 6).
Китайские комментаторы полагают, что «некоторые» здесь выражают точку зрения конфуцианца «в третьем поколении» (т. е., видимо, современника Цзы-Сы) — философа Ши Ши. О последнем Ван Чун сообщает следующее: «Человек [эпохи] Чжоу — Ши Ши считал, что человеческая природа имеет добро и имеет зло (жэнь син ю шань ю э). Если брать добрую природу человека и, пестуя, доводить ее до высшей степени, тогда разовьется добро. [Если же брать] злую природу [человека] и, пестуя, доводить ее до высшей степени, тогда разовьется зло» («Лунь хэн», гл. 13).
Есть, впрочем, некоторое основание для сомнения в тождестве идей, приписанных анониму в «Мэн-цзы» и Ши Ши в трактате Ван Чуна. И там и тут говорится о возможности сделать человеческую природу доброй или злой, но в первом случае вовсе не утверждается, как во втором, что предпосылкой данного преобразования является изначальное наличие в человеческой природе и добра и зла. Поэтому из приводимого Гунду-цзы первого анонимного тезиса можно извлечь лишь мысль о том, что человеческая природа потенциально добра и зла, тогда как Ши Ши, согласно Ван Чуну, полагал ее и доброй и злой актуально.
Представленный Гунду-цзы в предельно обобщенном и недетализированном виде такой подход к вопросу о человеческой природе был теоретически разработан в учении Дун Чжуншу. Определяя ее как «основу» (чжи2), он замечал, что последняя из «имени добра», в отличие от «имени [человеческой] природы», не выводима (чжун), и, следовательно, нельзя говорить, что «основа — добра», но можно прибегнуть к сравнению: «[Человеческая] природа подобна рису на корню, добро — рису в зерне. Хотя рис в зерне происходит из риса на корню, нельзя рис на корню всецело отождествлять с рисом в зерне. Хотя добро происходит из [человеческой] природы, нельзя [человеческую] природу всецело отождествлять с добром» («Чунь цю фань лу», цз. 10, гл. 35).
Таким образом, Дун Чжуншу первым ввел очень важную идею доброты человеческой природы как ее потенциального состояния. Еще не будучи доброй, человеческая природа от рождения обладает «доброй основой» (шань чжи), «добрым началом» (шань дуань). Актуализирует потенциальную доброту человеческой природы обучение и воспитание. Признание актуальной нейтральности изначальной человеческой природы сближает Дун Чжуншу с Конфуцием, оценка ее как потенциально доброй — с Мэн-цзы, а упор на социализацию как фактор формирования доброго начала в человеке — с Сюнь-цзы. В этом смысле можно согласиться с утверждением Фэн Юланя, что учение Дун Чжуншу о природе человека «представляет собой синтез идей Конфуция, Мэн-цзы и Сюнь-цзы»[25].
Дун Чжуншу принадлежат еще два важных нововведения в области философских представлений о человеческой природе. Во-первых, он указал на дуалистичную структуру человеческой природы (в широком смысле), состоящей, по его мнению, из природы (в узком смысле) и чувственности (цин): «Телесной ичности (шэнь) присущи природа и чувственность, так же как небу присущи [силы] инь и ян» («Чунь цю фань лу», цз. 10, гл. 25) Природу (в узком смысле) Дун Чжуншу трактовал как добротворный, а чувственность — как злотворный фактор.
Идея сложносоставности человеческой природы представляет собой существенный шаг вперед не только по отношению к концепциям, исходящим из ее однокачественности (природа добра, зла и нейтральна), но и по отношению к концепции, исходящей из ее разнокачественности (одновременное наличие в ней и добра и зла), поскольку таким образом дифференцируются природные факторы добра и зла, с одной стороны, и добро и зло как свойства природы — с другой.
Во-вторых, Дун Чжуншу ввел «принцип относительности» применительно к понятиям доброты и природы. С этой точки зрения человеческая природа может считаться доброй, если ее сравнивать с природой птиц и зверей, но не может считаться таковой, если ее сравнивать с природой совершенномудрых. И то, что называется природой совершенномудрых, не является природой в том же смысле, что и природа средних людей, а природа последних не есть природа в том же смысле, что природа совершенных ничтожеств (доу шао)[26]. Дун Чжуншу утверждал, что Мэн-цзы в своей теории ориентировался на превосходство человеческой природы по сравнению с природой животных, тогда как он сам ориентируется на то, что природа обычных людей (которую он только и имеет в виду под «природой») уступает природе совершенномудрых, т. е. не добра по большому счету.
За довольно тонкими дистинкциями Дун Чжуншу последовала более простая и радикальная концепция Ян Сюна, который с наибольшей отчетливостью и последовательностью выразил восходящую, видимо, к Ши Ши идею амбивалентности человеческой природы. Ян Сюн писал: «В человеческой природе добро и зло перемешаны (жэнь чжи син е шань э хунь). Если совершенствовать присущее ей Добро, то станешь добрым человеком. Если совершенствовать присущее ей зло, то станешь злым человеком» («Фа янь», цз. 3).
Вернемся, однако, к цитате из «Мэн-цзы». Во втором анонимном тезисе, воспроизведенном Гунду-цзы, проблема доброты или недоброты человеческой природы решается уже не «качественно», а «количественно», т. е. утверждается, что природа одних людей добра, и природа других — недобра.
У Дун Чжуншу эта идея приобрела завуалированную форму, поскольку, с его точки зрения, природа совершенномудрых — сверхприрода, а природа совершенных ничтожеств — недоприрода, и в соотношении с низшими разрядами все вышестоящие разряды — добры, а в соотношении с высшим абсолютным разрядом совершенномудрия все остальные — недобры.
Ван Чун, возобновив концепцию различных типов человеческой природы, попытался на ее основе синтезировать важнейшие принципы своих предшественников: «Действительность состоит в том, что человеческая природа бывает доброй, а бывает злой (жэнь син ю шань ю э)[27] подобно тому, как человеческие способности бывают высокими, а бывают низкими. Высокие не могут стать низкими, а низкие не могут стать высокими… Я уверен, что высказывание Мэн Кэ [Мэн-цзы] о том, что человеческая природа добра, относится к людям выше среднего, высказывание Сунь Цина [Сюнь-цзы] о том, что человеческая природа зла, относится к людям ниже среднего, а высказывание Ян Сюна о том, что в человеческой природе добро и зло перемешаны, относится к средним людям» («Лунь хэн», гл. 13)[28].
С этой же синтезирующей точки зрения Ван Чун интерпретировал и концепцию Дун Чжуншу: «Высказывания [Дун] Чжуншу говорят о том, что Мэн-цзы видел присущую ей (человеческой природе. — А.К.) [силу] ян, а Сунь Цин видел присущую ей [силу] инь». При этом, однако, он критически замечал: «Человеческая природа и чувственность совместно получаются из [сил] инь и ян. Рождаясь из [сил] инь и ян, [они] могут быть изобильны или скудны. [Так], яшма, рождаясь из камня, может быть чистой, а может быть пестрой. Природа и чувственность, подобно [силам] инь и ян, разве могут быть исключительно добрыми?» («Лунь хэн», гл. 13).
Обосновывая свою позицию, Ван Чун ссылался и на приводившиеся выше высказывания Конфуция. Стремясь связать их в единую систему, он заявлял, что слова Конфуция о взаимной близости людей по природе относятся к «средним людям» (людям средней категории), а его слова о неизменности высшей разумности и низшей глупости — к носителям абсолютного добра и абсолютного зла (цзи шань, цзи э) («Лунь хэн», гл. 13). Таким образом, Ван Чун принципиально преодолел идею сущностного единства природы всех людей и тем самым фактически дезавуировал принцип возможности для «человека с улицы» стать совершенномудрым.
После Ван Чуна идею трех видов человеческой природы развивал Сюнь Юэ (148–209). Он применил в классификации людей термин «три категории» (сань пинь), употреблявшийся ранее в классических древних текстах, но не в приложении к людям: например, в «Шу цзине» (гл. 6) говорится о «трех категориях металлов». Впоследствии этот термин взял на вооружение Хань Юй, которому и стало затем приписываться авторство теории трех категорий человеческой природы. Правда, деление людей на три категории Сюнь Юэ непосредственно связывал с предопределением (мин1), а не с природой.
Различая предопределение и природу, Сюнь Юэ писал: «Прирожденное называется природой, таковы тело (син1) и дух (шэнь1). То, благодаря чему устанавливается и завершается жизнь, называется предопределением» («Шэнь цзянь» — «Расширенное зерцало», гл. 5). Считая предопределение для людей высшей категории и предопределение для людей, низшей категории константами, Сюнь Юэ признавал возможность влияния на предопределение, присущее людям средней категории, их собственных поступков: «Имеются три категории [небесного предопределения]. Высшая и низшая неизменны. Что касается средней, то она находится в зависимости от человеческих дел» («Шэнь цзянь», гл. 5).
В рамках такого различения основное внимание Сюнь Юэ уделял средней категории. При этом он уклонялся от прямой оценки природы в аспекте доброты или недоброты, рассматривая данные атрибуты скорее как присущие ее проявлениям (через посредство чувственности), нежели ей самой («Шэнь цзянь», гл. 5).
Свое отношение к другим концепциям человеческой природы Сюнь Юэ выражал следующим образом: «Мэн-цзы утверждал, что [человеческая] природа добра, Сюнь Цин [Сюнь-цзы] утверждал, что [человеческая] природа зла, Гунсунь [Ни]-цзы говорил, что [человеческой] природе не присущи ни добро ни зло, Ян Сюн говорил, что в человеческой природе добро и зло перемешаны, Лю Сян говорил, что [человеческая] природа и чувственность соответствуют друг другу: природа не является исключительно доброй, чувственность не является исключительно злой… Только высказывания [Лю] Сяна верны» («Шэнь цзянь», гл. 5).
Согласно Ван Чуну, Гунсунь Ни-цзы придерживался мнения Ши Ши, что в человеческой природе наличествует и добро и зло. Поскольку сочинения Гунсунь Ни-цзы утрачены, установить истину сейчас весьма сложно, тем более что одни авторы считают его учеником (учеником ученика) Конфуция, а другие — учеником Сюнь-цзы[29]. Следует, однако, признать, что в «Юэ цзи» («Записках о музыке»), произведении, приписываемом Гунсунь Ни-цзы (как, впрочем, и Сюнь-цзы) и представляющем собой ныне 17/19-ю главу «Ли цзи», трактовка человеческой природы действительно близка к высказанному Конфуцием[30]. Там сказано: «От рождения человеку присуще спокойствие — такова небесная природа. В результате восприятия вещей возникают движения — таковы страсти (юй) природы. После того как вещи достигаются, а знания познаются, формируются любовь и ненависть (хао у) к ним. Если любовь и ненависть не умеряются внутри, а знания поглощены внешним, невозможно оборотиться к самому себе (фань гун), и небесный принцип гибнет».
В «Юэ цзи» признание того, что человеку изначально присущ небесный принцип (тянь ли), противоположный человеческим страстям (жэнь юй) («Когда человек изменяем вещами, тогда гибнет небесный принцип и до предела развертываются человеческие страсти»), а также того, что «благодать является началом (дуань) природы, сочетается с утверждением, что музыка, будучи воспринятой, приводит в движение доброе сердце (шань синь) человека». Следовательно, добро здесь мыслится атрибутом не спокойной природы, а подвижной чувственности. Надо также учитывать, что «ненависть» из пары «любовь и ненависть» обозначается тем же иероглифом, что и «зло» из пары «добро и зло», поэтому представление о добре и зле как явлениях, принадлежащих подвижной познавательно-чувственной сфере, для данного контекста вполне естественно. Это сопоставимо с положениями Ван Янмина: «Наличие добра и зла — это движение пневмы (ци)»; «Наличие добра и зла — это движение помыслов» («Чуань си лу», цз. 1,3). Таким образом, если считать сказанное в «Юэ цзи» выражением взглядов Гунсунь Ни-цзи, сообщение Сюнь Юэ следует признать верным.
Что касается взглядов Лю Сяна (77-6), то Ван Чун приводит следующее его высказывание, отсутствующее в сохранившихся произведениях этого философа: «[Человеческая] природа есть то, что таково от рождения. Будучи заключенной в телесной личности (шэнь) человека, [она] не проявляется вовне. Чувственность есть то, что таково благодаря соприкосновению с вещами (цзе юй у). [Она] выходит из тела вовне. Выходящее из тела вовне называется [силой] ян. Не проявляющееся вовне называется [силой] инь» («Лунь хэн», гл. 13). Здесь бросается в глаза противоположная по сравнению с данной Дун Чжуншу корреляция между природой и чувственностью, с одной стороны, и силами инь и ян — с другой. Соотношение же того и другого с добром и злом не уточняется. Поэтому свои критические замечания в адрес Лю Сяна Ван Чун заключает словами: «Не говоря о том, добра или зла [человеческая] природа, а только обсуждая внешнее и внутреннее, [силы] инь и ян, трудно познать принцип. Согласно высказываниям Цзы-Чжэна (Лю Сяна), [человеческая] природа — это [сила] инь, а чувственность — это [сила] ян, однако природные данные (бин) и чувственность человека в конце концов добры или злы?» («Лунь хэн», гл. 13).
Таким образом, все основные идеи и термины, затем развитые в более сложную и четкую систему Хань Юем, содержались уже в учении Сюнь Юэ. В начале своего трактата «Юань син» («Обращение к началу [человеческой] природы»), специально посвященного разбираемой проблеме, Хань Юй писал: «Существуют три категории [человеческой] природы, а того, благодаря чему она является природой, пять». Далее он пояснял, что высшей категории (шан пинь) присуще только добро, низшей (ся пинь) — только зло, а средней (чжун пинь) — и добро и зло. Пять качеств, делающих человеческую природу тем, что она есть, суть следующие: гуманность, благопристойность, благонадежность (синь2 — способность вызывать доверие), должная справедливость и разумность. Из перечисленных пяти качеств важнейшим Хань Юй считал гуманность.
Его представления о соотношении трех категорий человеческой природы с ее пятью сущностными качествами показаны ниже (знак «+» означает наличие данного качества, а «-» — наличие его противоположности):
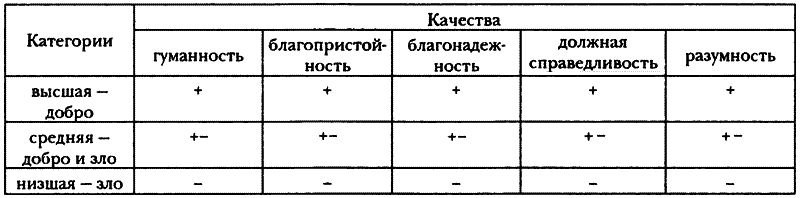
Категории человеческой природы определялись Хань Юем и по второму параметру: по степени совершенства присущей человеку чувственности, т. е. семи эмоций: радости, гнева, печали, страха, приязни, ненависти, вожделения. В высшей категории семь эмоций пребывают в состоянии уравновешенности, или «срединности» (чжун)[31], в средней — незначительно отклоняются в ту или иную сторону, в низшей — недостаточны или чрезмерны.
§ 2 Концепции природы и чувственности От Сюнь-Цзы до Чжу Си
Ни в «Лунь юе», ни в «Мэн-цзы» еще не было установлено соотношение между понятиями «син2» и «цин». Выражающие их знаки связаны как общим ключом «синь» — «сердце», так и семантическим параллелизмом[32]: «син2» — 1) природные качества любой отдельной вещи, 2) человеческая природа, 3) пол; «цин» — 1) природные свойства любой отдельной вещи, 2) способность восприятия и реагирования (прежде всего — эмоционального), присущая живым существам, в особенности человеку, 3) чувственность, привязанность, любовные чувства.
Таким образом, иероглиф «цин» обозначает и объективные, и субъективные данные, чувствуемое и чувствующее, что ближе всего к значению слова «чувственное» как «сенсуальное». В «Лунь юе» он употреблен дважды (как и иероглиф «син2») — в третьем значении:
«Когда верхи любят благонадежность, среди народа нет осмеливающихся не проявлять чувство привязанности (бу юн цин)» (XIII, 4); «Если [ты, Янфу][33], добьешься их [беспутных] привязанности (дэ ци цин) — печалься и переживай, а не веселись» (XIX, 19).
В «Мэн-цзы» иероглиф «цин» встречается четыре раза и во всех случаях — в первом значении. Наиболее характерен следующий пример: «Неравенство вещей — это их свойство (цин)» (III А, 4). Кроме того, знак «цин» выступает здесь как синоним знака «син2» в его втором значении: «Мэн-цзы сказал: „Что касается их (людей. — А.К.)природных свойств (цин), то [таковые] можно считать добрыми“» (VI А, 6, см. также VI А 8).
Сюнь-цзы акцентировал второе значение иероглифа «цин» и взаимоопределил понятия «цин» и «син2». Он писал: «То, что таково от рождения, называется природой… Обусловливаемые природой любовь и ненависть, веселье и гнев, печаль и радость называются чувствами» («Сюнь-цзы», гл. 22). Тождественный данному список эмоций содержится в более раннем тексте — «Цзо чжуани», но там они не обозначены иероглифом «цин» (Чжао-гун, 25 г.). Согласно Сюнь-цзы, чувства вторичны по отношению к врожденной человеческой природе и представляют собой результат ее взаимодействия с внешним миром. Различие врожденных (син2) и благоприобретенных (цин) свойств он выразил в четкой формуле: «К [индивидуальной] природе (син2) относится то, что я не способен (нэн) сотворить (вэй), но могу (кэ1) преобразовать. К чувственности (цин) относится то, чем я не обладаю [изначально], но то, что я могу (кэ1) сотворить. Приведением в соответствие (цо) и привыканием к обычаям преобразуется [индивидуальная] природа» («Сюнь-цзы», гл. 8). Кроме того, Сюнь-цзы разграничивал чувства и страсти (юй): «[Индивидуальная] природа есть воплощение неба (т. е. естественности. — А.К.), чувства суть основа [индивидуальной] природы, а страсти суть реакции (ин) чувств» («Сюнь-цзы», гл. 22).
Трактовка цин как вторичных, благоприобретаемых человеком свойств была философски новаторской. Во входящей в «Ли цзи» главе 7/9 «Ли юнь» («Циркуляция благопристойности»), тексте, видимо, несколько более раннем, чем «Сюнь-цзы», перечисление семи человеческих чувств (жэнь цин), ставшее затем стандартным и частично совпадающее с шестичленным набором Сюнь-цзы, сопровождается замечанием, что они суть то, на что человек способен (нэн) без научения. В то же время в «Юэ цзи», тексте, также входящем в «Ли цзи» (гл. 17/19) и, видимо, в той или иной степени связанном с творчеством Сюнь-цзы, после перечисления шести эмоций (как состояний сердца) следует заключение: «Эти шесть не природны (фэй син), являясь движениями, возникающими в результате восприятия вещей». Новаторство Сюнь-цзы в трактовке чувств-цин как творимых самим человеком становится еще более заметным на фоне следующего определения «цин», содержащегося в синхронном «Мэн-цзы» даосском каноне «Чжуан-цзы», где этот иероглиф, так же как и в «Мэн-цзы», берется в своем первом значении: «То, на что человек не может повлиять, — все это свойства (цин) вещей» (гл. 6).
Дун Чжуншу, как мы уже отмечали, воспринял введенное Сюнь-цзы противопоставление цин и син2 и универсализировал его, представив чувственность и природу (в узком смысле) в качестве двух «равноправных» членов оппозиции, аналогичной универсальной оппозиции инь-ян. С этой точки зрения чувственность и природа оказываются одинаково врожденными: «То, что рождаемо небом и землей, называется [индивидуальной] природой и чувственностью» («Чунь цю фань лу», гл. 35).
Лю Сян синтезировал универсализацию Дун Чжуншу с пониманием соотношения цин и син2, данным Сюнь-цзы, т. е. с пониманием син2 как внутреннего естества человека, а цин — как его способности «соприкасаться с вещами» (цзе юй у) — иначе говоря, контактировать с объективной действительностью. В результате, как мы уже отмечали, он пришел к противоположной, нежели Дун Чжуншу, корреляции чувственности и природы с силами инь и ян. Действительно, раз природа — это нечто внутреннее и не контактирующее с вещами, т. е. скрытое, значит, она — инь, и раз чувственность — это внешнее и контактирующее с вещами, т. е. явное, значит, она — ян. Этот вывод опровергал Ван Чун, ссылаясь на то, что «[индивидуальная] природа также соприкасается с вещами», поскольку, например, «смиренность и скромность, [способность] отказывать [себе] и уступать [другому] являются проявлениями [индивидуальной] природы» («Лунь хэн», гл. 13).
Видимо, и парадоксальный результат Лю Сяна, и критика Ван Чуна повлияли на то, что Хань Юй отказался от равноположенности син2 и цин, вернувшись к первоначальной трактовке их соотношения, предложенной Сюнь-цзы. Эссе Хань Юя начинается словами: «[Индивидуальная] природа человека — это то, что дано ему от рождения, а чувственность — то, что порождается соприкосновением с вещами». С точки зрения Хань Юя, как и с точки зрения Сюнь-цзы, чувства могут быть и хорошими и плохими, тогда как, с точки зрения Дун Чжуншу, они составляют «алчную» (тань) сторону человеческой натуры, природа же (в узком смысле) составляет ее «гуманную» (жэнь1)сторону.
В целом рассуждения Хань Юя очень близки к рассуждениям Ван Чуна. В обоснование трехступенчатой градации человеческой природы он также ссылался на Конфуция и также пытался охватить своей теорией концепции Мэн-цзы, Сюнь-цзы и Ян Сюна как частные случаи. Правда, в отличие от Ван Чуна, Хань Юй считал эти концепции относящимися к людям средней категории. Основанием для такого вывода у него служит то, что, все они предполагают возможность изменения изначальной природы в ту или иную сторону (что должно было объяснить реальное разнообразие человеческих натур), тогда как с его точки зрения природа людей высшей и низшей категорий константна. В этом Хань Юй опирался на уже отмеченные нами высказывания Конфуция: «Высшая разумность и низшая глупость неизменны» («Лунь юй», XVII, 3); «Случается, что благородный муж негуманен, но еще не случалось, чтобы ничтожный человек был гуманен» («Лунь юй», XIV, 6) и т. п. Считая сами категории неизменными и переход из одной в другую — невозможным, Хань Юй вместе с тем допускал возможность больших или меньших изменений в ту или иную сторону в рамках каждой категории.
Разбирая вопрос о категориях человеческой природы, следует не упускать из виду, что представляемое посредством иероглифа «син2» различие между людьми столь же глубоко и органично, как, например, различие между полами (напомним, что иероглифу «син2» принадлежит и значение «пол»).
Связанная с категорией «син2» проблематика неоконфуцианства была во многом подготовлена философскими построениями буддизма, преимущественно школы чань (тезис о прозрении в собственном «сердце» сущностной, принадлежащей всем существам «[индивидуальной] природы будды» — фо син) и «школы (дхармической) [индивидуальной] природы» ([фа] син цзун), отождествлявшей «[индивидуальную] природу» и «сердце», а также даосизма, которым в 1-м тыс. н. э. активно разрабатывалась проблема соотношения «[индивидуальной] природы» с «предопределением» (мин1). Последнее, понимаемое как обусловленный природными силами «[жизненный] путь», предполагалось возможным «алхимическими» (психофизическими и магическими) методами скорректировать вплоть до «обращения вспять» движения от рождения к могиле. Законченную форму этот тезис приобрел в учении Чжан Бодуаня (983?—1082) об «одновременном совершенствовании [индивидуальной] природы и [жизненного] предопределения» (син мин шуан сю).
Син2 и мин1 рассматривались даосами в качестве пневмы, причем «[индивидуальная] природа» соотносилась с «изначальным духом» (юань шэнь), т. е. разумным психическим началом, а «[жизненное] предопределение» мыслилась как соматические процессы, непосредственно не связанные с мышлением и психикой. Отсюда, отмечает Е.А. Торчинов, возникали «постоянные упреки даосов в адрес буддистов, психотехника которых была направлена исключительно на „совершенствование сердца“ (синь) или „природной сущности“ (син2) и игнорировала пневменно-энергетические начала в человеке (мин1). Это делало буддийскую практику, с позиции даосов, односторонней и недостаточной для обретения полного совершенства и бессмертия»[34]. Поэтому в ряде течений даосизма син2 предполагалось уже не «совершенствовать», а «преодолевать».
Подобные концепции оказали влияние на тезис Чжан Цзая и Чэн И о «преодолении» «[индивидуальной] природы на пневменной основе» (ци чжи чжи син) с целью самосовершенствования и возвращения к «[индивидуальной] природе неба и земли» — тянь ди чжи син (Чжан Цзай) или «предельно коренной, совершенно изначальной [индивидуальной] природе» — цзи бэнь цюн юань чжи син (Чэн И).
Чэн И и Чжу Си подвергли критике буддийское отождествление «сердца» (сознания) и «[индивидуальной] природы», подчеркнув онтологическую первичность син2. Чжу Си воспринял проведенное Чжан Цзаем и Чэн И различение «предельно коренной, совершенно изначальной [индивидуальной] природы» (цзи бэнь цюн юань чжи син) и «[индивидуальной] природы на пневменной основе» (ци чжи чжи син) и, связав их с началами ли (принцип) и ци (пневма) соответственно, окончательно сформировал концепцию изначально-общей доброй природы, обладающей вторичными и конкретными модусами, которым в разной степени присуще добро и зло.
«[Индивидуальная] природа, — утверждал Чжу Си, — это принцип. Настоящий принцип не имеет недоброго. Ведь слова Мэн-цзы о [человеческой] природе относятся к ее коренному состоянию. В таком случае [в них] безусловно есть то, на что можно опереться. Но ведь данное на пневменной основе не может не различаться как поверхностное и глубокое, толстое и тонкое. Слова Конфуция о том, что по природе [люди] близки друг другу, [а по привычкам далеки друг от друга], касаются пневменной основы» («Чжу-цзы юй лэй», цз. 4).
Чжу Си был задан вопрос: «Мэн-цзы говорил, что природа [человека] добра, — Ичуань [Чэн И] называл это предельно коренной, совершенно изначальной природой. Конфуций говорил, что по природе [люди] близки друг другу, [а по привычкам далеки друг от друга], — Ичуань называл это природой на пневменной основе. Все это понятно. Но вот неизвестно: является ли то, что „Срединное и неизменное“ характеризует как предопределяемое (мин1) небом и называемое [индивидуальной] природой, предельно коренной, совершенно изначальной [индивидуальной] природой или же природой на пневменной основе?» Учитель дал следующий ответ: «[Индивидуальная] природа бывает только одного рода. Как может различаться то, что предопределено небом? Именно благодаря неодинаковости пневменной основы возникают несхожести. Это Конфуций и характеризовал словами о том, что по природе [люди] близки друг Другу, [а по привычкам далеки друг от друга]. А Мэн-цзы испугавшись, Что люди скажут: природа одного [человека] изначально отличается от природы другого, обратился к тому, что предопределяемо небом и несомо внутри пневменной основы. Объясняя людям, [он] утверждал, что в [человеческой] природе нет недоброго. Это как раз то, о чем Цзы-Сы сказал: предопределяемое небом называется природой» («Чжу-цзы юй лэй», цз. 4).
Свое отношение к концепциям других участников веками длившейся дискуссии Чжу Си выразил в следующем пассаже: «Мэн-цзы говорил только об [индивидуальной] природе и не говорил о пневме, что свидетельствует о неполноте. Если говорить о природе и не говорить о пневме, то учение об [индивидуальной] природе не будет исчерпывающим. Если же говорить о пневме и не говорить об [индивидуальной] природе, то не проникнешь в сущностные качества природы. И Сюнь[-цзы], и Ян [Сюн], и Хань [Юй] — все они, хотя и рассуждали о природе, на самом деле вели речь о пневме. Сюнь-цзы усмотрел лишь природу дурных людей, поэтому и говорил, что [она] зла. Ян-цзы усмотрел наполовину добрых, наполовину злых людей, поэтому и говорил о смешении добра и зла. Хань-цзы усмотрел то, что в Поднебесной имеется множество разнородных людей, и утвердил это в качестве учения о трех категориях [человеческой природы]. Среди [учений] этих трех мужей учение Хань-цзы сравнительно ближе к истине» («Чжу-цзы юй лэй», цз. 4).
Отчетливо видимое здесь стремление к универсальному теоретическому синтезу Чжу Си выразил и в более лаконичной форме: «Неодинаковость конфуцианских концепций [индивидуальной] природы не означает непонимания относительно добра и зла. Все дело только в неустановленности [смысла] слова „природа“» («Чжу-цзы юй лэй», цз. 5). Весьма примечательно и то, что в синтезирующей схеме Чжу Си понимание человеческой природы Конфуцием оказывается объединенным с ее пониманием у Сюнь-цзы и противопоставленным ее пониманию у Мэн-цзы.
Помимо различения человеческой природы как субстанции и как модуса Чжу Си ввел в оборот и еще одно новшество — различение соотношений между добром и природой с онтологической и антропологической точек зрения: «В плане неба и земли добро — предшествующее, а [индивидуальная] природа — последующее… в человеческом плане [индивидуальная] природа — предшествующее, а добро — последующее» («Чжу-цзы юй лэй», цз. 5). Смысл различения в том, что в онтологическом аспекте добро как атрибут принципа есть сущность по отношению к природе как явлению; в антропологическом же аспекте, наоборот, добро есть появление человеческой природы. Говоря о добре как онтологическом атрибуте принципа, не следует забывать о широте этого понятия, далеко выходящего за рамки чисто этического смысла и близкого к понятии) «блага».
Понятия «природы» и «чувственности» Чжу Си связывал через понятие «сердца» (синь). Проводя аналогию между сердцем и водой, философ сопоставлял природу с ее (воды) неподвижным принципом (дин ли), а чувственность — с ее движущимся потоком. Движущуюся силу (ци ли) потока в этой аналогии он сравнивал с человеческими способностями (цай1). Отсюда следовал вывод, что «только [индивидуальная] природа едина и тверда (и дин), а чувственность, сердце и способность вместе образованы пневмой. Сердца изначально не бывают неодинаковыми, но в ходе человеческой жизни возникают различия. Чувства (цин) могут быть и добрыми и злыми» («Чжу-цзы юй лэй», цз. 5).
§ 3 Концепция природы и чувственности, выработанная Ван Янмином
Чжусианская концепция человеческой природы подверглась радикальной критике со стороны Ван Янмина. Во-первых, он отказался от проведенных Чжу Си различий между принципом и пневмой, сердцем и природой: «Пневма есть [индивидуальная] природа, [индивидуальная] природа есть пневма. Изначально невозможно провести различие между [индивидуальной] природой и пневмой»; «Сердце — это [индивидуальная] природа, а [индивидуальная] природа — это принцип» («Чуань си лу», цз. 2, 1). Такой подход полностью противоречил чжусианскому соотнесению природы с принципом, а сердца — с пневмой.
Во-вторых, разделив абсолютное совершенное добро, или высшее благо (чжи шань), и добро соотносительное со злом, Ван Янмин отождествил первое из них с первосущностью, или «коренным телом» (бэнь ши), сердца: «Совершенное добро есть первосущность сердца» («Чуань си лу», цз. 1). Совершенное добро, разумеется, было для него тождественно небесному принципу: «Первосущность сердца есть небесный принцип» («Чуань си лу», цз. 2). Поскольку Ван Янмин так же, как и Чжу Си, рассматривал природу в качестве сущности (ши) сердца («Чуань си лу», цз. 2), она у него отождествлялась с совершенным добром. Разъясняя фундаментальный тезис «Великого учения» об «остановке на совершенном добре» (чжи той чжи июнь), он писал: «Совершенное добро — это [индивидуальная] природа. И [индивидуальной] природе изначально нет ни капли зла, поэтому и называется совершенным добром. Остановиться на нем — это значит вернуться к ее первозданному состоянию, и только» («Чуань си лу», цз. 1).
Отделение совершенного добра от соотносительных добра и зла апофатически вписывалось в общую схему бинарных оппозиций «Покой-движение», «принцип-пневма»: «Отсутствие и добра и зла — это покой принципа, наличие и добра и зла — это движение пневмы. Отсутствие движения под воздействием пневмы — это отсутствие и добра и зла, именно то, что называется совершенным добром». Как «не имеющую ни добра ни зла» Ван Янмин определял также сущность (ши) сердца (например, «Чуань си лу», цз. 3), которую он, в свою очередь, отождествлял с благосмыслием (лян чжи).
Собственно говоря, в дискуссии об абсолютном и соотносительном со злом добре участвовал и Чжу Си. Полемизируя со взглядами школы Ху, главными представителями которой были отец и сын Ху Аньго (1073–1138) и Ху Хун (1105–1155), он категорически отвергал такого рода дистинкцию. Сама идея высшего блага, трансцендентного оппозиции «добро — зло», имеет даосско-буддийское происхождение. И поэтому традиционные обвинения Ван Янмина в проповеди чань-буддизма под маской конфуцианства не были лишены определенных оснований.
Однако в учении Ван Янмина эта идея была призвана играть функционально иную роль, нежели в буддизме. Философ сам это прекрасно осознавал и стремился всячески подчеркнуть: «Буддийское отсутствие и добра и зла сводится к отрешенности от каких-либо занятий и не может быть использовано для наведения порядка в Поднебесной. Отсутствие же добра и зла у совершенномудрых — это лишь „отсутствие самочинной (цзо) любви“ и „отсутствие самочинной ненависти“, отсутствие движений под воздействием пневмы; в таком случае „следуют Пути правителя (ван дао)“ и „соединяются с ним, имеющим абсолют“[35], — это и есть подчинение себя одному лишь небесному принципу» («Чуань си лу», цз. 1).
С еще большей силой, чем Чжу Си, Ван Янмин делал упор на единство природы: «[Индивидуальная] природа едина, и все. Как оформленную телесность (син ти) ее называют небом, как суверенного властелина ее называют господом (ди), как распространяющуюся активность (лю син) ее называют предопределением, как дарованное человеку ее называют природой, как владычествующее в телесной личности (шэнь) ее называют сердцем» («Чуань си лу», цз. 1); «[Индивидуальная] природа едина, и только. Гуманность, должная справедливость, благопристойность, разумность (чжи) представляют собой [индивидуальную] природу [индивидуальной] природы (син чжи син)[36]. Чуткость и прозорливость представляют собой основу (чжи2) [индивидуальной] природы. Веселье, гнев, печаль, радость представляют собой чувства [индивидуальной] природы. Эгоистические страсти и исходящие извне побуждения (кэ ци) представляют собой затмение [индивидуальной] природы. Основа бывает чистой и мутной, поэтому чувства иногда чрезмерны, иногда недостаточны, а затмение бывает поверхностным или глубоким. Эгоистические страсти и исходящие извне побуждения — это одна болезнь, проявляющаяся как два недуга, а не две [различные] вещи» («Чуань си лу», цз. 2).
Исходя из этих общих посылок, Ван Янмин вновь утвердил принцип единства человеческой природы в его наиболее радикальной форме: «Всякий человек может стать [совершенномудрым] Яо или Шунем» («Чуань си лу», цз. 1,8). «Благосмыслие (лян чжи) и благомочие (лян нэн) у глупого мужика и глупой бабы те же, что у совершенномудрых» («Чуань си лу», цз. 2)[37]. «Это благосмыслие есть то, что объединяет совершенномудрых и глупых» («Шу Вэй Шимэн цзюань» — «Послание Вэй Шимэну»: «Ван Янмин цюань цзи», цз. 8).
В согласии с определением «Чжун юна» (§ 1) Ван Янмин утверждал: «Первосущность веселья, гнева, печали и радости сама по себе уравновешена (срединна) и гармонична» («Чуань си лу», цз. 2). С его точки зрения, чувства-эмоции, как таковые, суть функции благосмыслия и поэтому внеположны и добру и злу, они естественно-благостны: «Веселье, гнев, печаль, страх, любовь, ненависть и вожделение (юй) называются семью чувствами. Все семь совместно присутствуют в человеческом сердце. Однако надо ясно понимать [роль] благосмыслия. Взять к примеру солнечный свет: для него также нельзя указать направление и установить место. Пронизанная солнечным светом малейшая щель становится его местоположением. Пусть даже облака и туман заполнят все четыре стороны, в Великой пустоте (тай сюй) можно будет различить цвета и образы. Значит, солнечный свет неуничтожим. Из того, что облака способны затмить солнце, не следует заключать, что небо не должно рождать облака. Когда семь чувств следуют распространяющейся активности своего естества (цзы жань), все они являются деятельным проявлением (юн) благосмыслия и не могут быть разделяемы на добрые и злые. Однако не следует иметь здесь какую-либо нарочитость. Семь чувств, исполненные нарочитости, все вместе называются страстями (юй) и все вместе становятся затмевающими благосмыслие. Впрочем, как только появляется нарочитость, благосмыслие также само способно это осознать, а осознав — рассеять затмение и восстановить свою сущность. Как только эта задача разрешается, дальнейший труд [по нравственному самосовершенствованию] становится легким и всеобъемлющим» («Чуань си лу», цз. 3). Соотношение чувств-эмоций и благосмыслия Ван Янмин кратко определял следующим образом: «Благосмыслие не коснеет в веселье, гневе, скорби и страхе, однако веселье, гнев, скорбь и страх также не внеположны благосмыслию» («Чуань си лу», цз. 2).
Имеются свидетельства и о том, что Ван Янмин устанавливал определенную иерархию эмоций. Один из его последователей, Чжу Дэчжи (Бэньсы), сообщал: «Был задан вопрос о веселье, гневе, печали и радости. Наставник Янмин ответил: „Радость — это первосущность сердца. Если имеет место радость — возникает веселье. Если имеет место противоположное радостному — возникает гнев. Если утрачивается радостное — возникает печаль. Когда отсутствуют и веселье, и гнев, и печаль, это называется истинной радостью“» (цит по.: Хуан Цзунси. «Мин жу сюэ ань» — «Отчет об учениях конфуцианцев [эпохи] Мин», цэ 5, цз. 25).
Сам Ван Янмин писал следующее: «Радость — это первосущность сердца. Не будучи тождественной с радостью — [одним] из семи чувств, [она] и не внеположна ей. Хотя совершенномудрым и высокодостойным особо присуща истинная (чжэнь) радость, в равной мере она присуща и обычным людям. Однако обычные люди, обладая ею, сами не знают об этом. Напротив, сами добиваются множества скорбей и горестей и сами прибавляют [к этому] обманутость и заброшенность. Но хотя пребывают в скорбях и горестях, обманутости и заброшенности, эта радость не может не находиться в них. Стоит только проникнуться одной просветляющей мыслью, оборотиться к самому себе и обнаружить подлинность, чтобы она тут же возникла» («Чуань си лу», цз. 2).
Такая трактовка заставила одного из собеседников Ван Янмина поставить перед ним вопрос ребром: «Пусть радость — это первосущность сердца, но непонятно, сохраняется ли она во время рыданий в случае кончины кого-нибудь из родителей?» Ответ Ван Янмина был столь же решителен, как вопрос: «Для того, чтобы была радость, необходимы великие рыдания. Нет рыданий — нет и радости. Несмотря на рыдания, умиротворенность этого сердца и есть радость. Первосущности никогда не присуще движение» («Чуань си лу», цз. 3).
Приоритет чувства радости, безусловно, связан с тем, что «первосущность сердца» Ван Янмин считал благосмысленной (лян чжи), т. е. преисполненной высшего и подлинного знания (чжи), атрибутом которого в конфуцианстве традиционно считалась радость: «Знающий (чжи) радуется» («Лунь юй», VI, 23); «Оборотясь к самому себе (фань шэнь), обнаружить подлинность (чэн, т. е. достоверность знания и искренность чувства. — А.К.) — нет большей радости, чем эта!» («Мэн-цзы», VII А, 4)[38].
Следует также иметь в виду, что в вэньяне, т. е. письменном литературном китайском языке, одним и тем же иероглифом выражаются как понятие «радость», так и понятие «музыка»[39], охватывающее помимо музыки массу других искусств вместе с соответствующими духовно-психическими состояниями, главное из которых — именно радость[40]. Семантическое единство «музыки» и «радости» было в конфуцианстве осмысленно и концептуально утверждено. А поскольку «музыка» рассматривалась конфуцианцами как высшее и необходимое проявление человеческой чувственности вообще, постольку «радость» естественным образом приобрела статус главного чувства. Основополагающим источником, зафиксировавшим эти представления, являются «Записки о музыке», в которых сказано: «Музыка — это радость[41], это то, что человеческие чувства не способны избежать… Музыка — это предопределение (мин1) неба и земли, основание (цзи2)уравновешенности (срединности) и гармоничности, то, чего человеческие чувства не способны избежать. Музыка есть то, с помощью чего прежние цари обнаруживали веселье».
Идейно господствовавшие во второй половине эпохи Мин последователи Ван Янмина развили и популяризировали эту тему. В частности, Ван Гэнь (1483–1540) утверждал: «Человечье сердце само в своей сущности радостно» («И цзи» — «Посмертное собрание [произведений]», цз. 2, «Лэ сюэ гэ» — «Песня о веселом учении»). Поскольку семантика иероглифа «лэ/юэ» («радость/музыка») в обоих указанных значениях связана с таким наивысшим проявлением чувственности, как эротика, подобные теоретические построения прекрасно согласовались с общим духом того времени, отмеченного наивысшим расцветом эротической литературы и живописи. По-видимому, не случайно одним из возможных создателей самого выдающегося китайского эротического романа «Цзинь, Пин, Мэй» («Цветы сливы в золотой вазе») считается янминист Ли Чжи (1527–1602).
Согласно Ван Янмину, порочными чувства-эмоции делаются, становясь страстями (юй), т. е. благодаря нарушениям меры, которые суть следствия эгоистических помыслов и стремлений, обнаруживающихся в виде «любви к славе, пользе-выгоде, вещам» и являющихся атрибутами ненастоящего «эгоистического я» — сы у («Чуань си лу», цз. 7). Главный из этих пороков — гордыня (ао), «преступлениям которой несть числа» (там же).
Искоренение страстей, с точки зрения Ван Янмина, должно автоматически привести к полному выявлению благосмысленной, абсолютно благой природы человека. Для «доведения благосмыслия до конца» (чжи лян чжи) Ван Янмин считал годными все средства, в том числе и медитирующее самопогружение в безмятежности и покое, и активную практику в социальной жизни. Достижение этой цели он связывал с выполнением нескольких рекомендаций:
1) Для начала — сосредоточенность в «спокойном сидении и пресечении дум и рассуждений», имеющая целью научить не погружению в нирвану, а «самоанализу и умению властвовать [собой]» («Чуань си лу», цз. 1).
2) Непреклонное намерение уподобиться совершенномудрому («Чуань си лу», цз. 3).
3) Личный опыт: «Если хочешь узнать, насколько горька [горькая тыква], тебе надо самому отведать [ее]» («Чуань си лу», цз. 1). Ср. афоризм Мао Цзедуна: «Если хочешь узнать вкус груши, то тебе нужно ее изменить — пожевать ее» («Относительно практики»).
4) Самопреодоление и постоянный каждодневный самоконтроль: всякую вредную мысль подстерегать, как кот — мышь (чаньский образ, ранее использовавшийся Чжу Си) («Чуань си лу», цз. 1).
5) Очищение от эгоизма, себялюбия и вредных пристрастий до конца, иначе «достаточно будет одной крупицы, чтобы нагрянули все скопища зла, влекомые друг другом» («Чуань си лу», цз. 1).
6) Самотренировка в текущих заботах: «Если проникнуть взором до самой сути, то в обязанностях сохранения достоинства и деловых обстоятельствах нет того, в чем бы благосмыслие не находило чудесного применения (мяо юн). Совсем вне пределов обязанностей сохранения достоинства и деловых обстоятельств вовсе нет благосмыслия» («Чуань си лу», цз. 6), а еще лучше под ударами судьбы: несчастья, трудности, печали и горести — настоящие учителя («Чуань си лу», цз. 4).
7) Ограничение существом дела; главное — сосредоточить свое внимание на основной идее («Чуань си лу», цз. 2).
8) Воздержание от форсирования всей этой деятельности: «Не нужно помогать расти [побегам, выдергивая их]» (реминисценция из «Мэн-цзы», II А, 2) («Чуань си лу», цз. 3), ибо «в доведении знания до конца все мы достигаем только того, что позволяет наше положение и возможности» («Чуань си лу», цз. 3), а «все замышляющие то, что их силами не достижимо, и добивающиеся того, на что их знания неспособны, не могут осуществлять доведение благосмыслия до конца» («Чуань си лу», цз. 2); «Природные данные у людей неодинаковы, поэтому при обучении не следует перепрыгивать через ступени. Если с людьми ниже среднего затеять разговор о природе (син2) или предопределении, они не поймут. Нужно шлифовать их потихоньку» (реминисценция из «Лунь юя», VI, 19/21) («Чуань си лу», цз. 3).
§ 4 Эволюционная преемственность представлении о человеческой природе в конфуцианстве и категория «предопределение» (мин)
Проведенный анализ концепций син2 показывает, что за двухтысячелетний период развития конфуцианства — от Конфуция до Ван Янмина — в нем были выдвинуты и разработаны практически все возможные решения проблемы соотношения человеческой природы с добром и злом. Этот факт реального исчерпания комбинаторно возможных ответов на поставленный философский вопрос свидетельствует прежде всего о том, что внутри традиционной китайской философии шел процесс постоянного развития в специфической форме постепенного перебора всех возможных решений тех или иных выдвинутых в древности проблем, а также перебора всевозможных взаимных комбинаций этих решений.
Причем со времени перехода конфуцианства на положение государственной идеологии в эпоху Хань[42] начала проявляться сильная тенденция к ассимиляции предшествующих концепций в качестве частных случаев более общей теории (этого не наблюдалось ранее, когда, например, Сюнь-цзы весьма категорически отвергал концепцию Мэн-цзы).
В наглядном виде весь комплекс рассмотренных решений проблемы человеческой природы можно представить следующим образом:

Доминантной в конфуцианстве все-таки была идея доброты человеческой природы. Именно эта доминанта обусловила отсутствие некоторых теоретически возможных вариантов трактовки человеческой природы (например, как потенциально или абсолютно злой). Это, в общем, вполне понятно — в противном случае конфуцианство вряд ли могло добиться положения официально господствующей идеологической системы, поскольку таковая заведомо не может быть проникнута духом антропологического пессимизма. В то же время, чтобы не выглядеть оторванной от реальной жизни утопией, такая система должна вскрывать и глубинные корни существующего в человеческом мире зла. Подобная диалектика изначального добра и изначального зла была камнем преткновения, разумеется, не только для конфуцианства. Аналогичную картину дает возможность наблюдать, например, и христианство (во всяком случае, официализированное), в котором идея изначальной доброты человеческой природы как являющей собой образ и подобие божие так или иначе доминировала над идеей первородного греха.
Помимо этого, так сказать, социально-прагматического фактора существовали и весьма важные общемировоззренческие предпосылки для исторического торжества концепции доброты человеческой природы в конфуцианстве.
Ставшее основополагающим для всего конфуцианства понимание соотношения между человеческой природой и небесным предопределением (тянь мин) было закреплено в таких фундаментальных произведениях, как «Ли цзи»: «Предопределяемое небом (дословно: то, что приказывает небо. — А.К.) называется [индивидуальной] природой» («Чжун юн», § 1), и «Чжоу и»: «До истощения [исследуются] принципы, до исчерпания [раскрывается индивидуальная] природа — для того чтобы дойти до конца в том, что предопределено» («Шо гуа чжуань», § 1).
Передающий здесь понятие предопределения иероглиф «мин1» имеет этимологическое значение — «устный приказ», о чем свидетельствуют входящие в его состав элементы: «рот» (коу) и «приказ» (лин). Осмысление неба как безмолвно[43] руководящей миром силы с необходимостью привело к переосмыслению мин1 как негласного предписания, предопределения, судьбы. Подобно русскому слову «судьба», так же первоначально выражавшему идею устного приказа, приговора, «суда», иероглиф «мин1» соединяет в себе значения «жизненное предопределение» и «предопределенная жизнь». Здесь же заключено объяснение того факта, что с помощью термина «мин1» образуются, казалось бы, противоречащие друг другу высказывания. Например, в «Лунь юе» смерть в одном случае определяется как мин (VI, 8, 10), а в другом — как «утрата мин» (XIV, 12,13). Но ведь точно так же и по-русски о смерти может быть сказано: «Такова судьба» и «Знать, не судьба!». Все дело в том, что в первом случае под «судьбой» подразумевается жизненное предопределение, а во втором — сама жизнь, зависящая от предопределения.
Интересно, что в основных европейских языках имеются термины, выражающие два аксиологически противоположных понятия судьбы: судьбы как счастья (доброй судьбы) и судьбы как несчастья (злой судьбы). В древнегреческом это tychē («попадание», «удача», «счастливый случай») и anancē («необходимость», «насилие», «страдание»), aisa («доля», «жизненный век», «справедливость») и dicē («судебный приговор», «наказание», «возмездие», «кара»), moira («часть», «доля», «владение», «счастливый удел», «счастье», но также — «несчастный удел», «кончина», «гибель») или eimarmenē («судьба», «справедливость») и ammoria («несчастная судьба», «несчастье», «беда»), moros («участь», «жребий», «кончина», «смерть») или potmos («участь», «жребий», «несчастье» «смерть»); в латыни — fortuna («случай», «удача», «успех», «счастье»)[44] и fatum («рок», «неизбежность», «неотвратимое несчастье», «гибель», «смерть»)[45]; в русском — «счастье»[46] и «рок», «судьба»[47] и «участь»[48], «доля»[49] и «недоля». Нет нужды говорить, что это различие распространяется и на заимствования из классических языков в языках новоевропейских. Из приведенного попарного списка терминов явствует также связь идей счастливой судьбы и случайности и, наоборот, несчастливой судьбы и необходимости.
Китайский термин «мин1» не обладает такой парой ни в смысле оппозиции «счастье — несчастье», ни в смысле оппозиции «случайность — необходимость», имея значение предопределения как благого дара свыше (т. е. дара благого Неба). И судьба как случайность, и судьба как необходимость суть формы несвободы, которая не может быть познана, но может быть лишь угадана; напротив, предопределение допускает возможность свободы (о чем свидетельствует, например, совмещение в христианстве идей предопределения и свободы воли) и познания: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоан., 8, 32).
Понятие «мин1» предполагает отсутствие абсолютной необходимости в двух смыслах: как возможность изменения самого предопределения (ср. с идеей Нового завета) и как возможность подчинения ему или уклонения от него (ср. с идеей свободы воли). Подобное осмысление широко представлено уже в таких древнейших памятниках китайской идеологии, как «Шу цзин», «Ши цзин» и «Чжоу и».
В «Шу цзине» (гл. 26/34) говорится о «новом предопределении» (синь мин), а в «Ши цзине» (III, I, 1, 1) — об «обновлении предопределения» (мин вэй синь). Согласно «Шу цзину» (гл. 43/51), «Небо изменяет (гай) предопределение»; в «Чжоу и» (гексаграмма № 49 Гэ) «изменение предопределения» (гай мин) и синонимичная ему «смена предопределения» (гэ мин)[50] фигурируют в более и менее древних частях текста соответственно. В «Шу цзине» (гл. 29/37) высказано положение: «Предопределение не является постоянным» (вэй мин бу юн чан), а в «Ши цзине» (III, I, 1; 5) — его аналог: «Небесное предопределение не постоянно» (тянь мин ми чан). Там же утверждается, что «великое предопределение» (да мин) государства может быть «низвергнуто» (цин1) (III, III, 1, 7) и небесное предопределение может не быть решающим фактором, поскольку «нет не имеющих [его] изначально, но мало кто может иметь [его] в конце» (III, III, 1,1).
Видимо, идея потенциальной изменяемости и ассоциирующееся с волевым импульсом значение «приказ» у иероглифа «мин» послужили главным основанием для широко распространенной трактовки «тянь мин» как «небесной воли». Нам такая трактовка представляется неадекватной хотя бы потому, что понятие «тянь мин» может быть противопоставлено, как это делали, например, монеты, понятию «тянь чжи», т. е. собственно понятию «небесная воля» («Мо-цзы», гл. 26–28, 35–37). Воля в обычном понимании предполагает наличие конкретного субъекта воления (таково персонифицированное Небо у моистов), а предопределение-мин1 в стандартной конфуцианской трактовке — нет: «Если нет совершающих, а нечто совершается — это естественность (буквально: небо — тянь. — А.К.). Если нет доводящих до конца, а нечто доходит до конца — это предопределение» («Мэн-цзы», V A, 6).
Рациональность предопределения-мин1 и нефатальность взаимоотношений между ним и человеком выступает на первый план в рассуждениях Мэн-цзы: «Нет ничего, что не было бы предопределено (фэй мин), но следует воспринимать только правильное [предопределение]. Поэтому знающий предопределение не станет под нависшей [и готовой рухнуть] стеной. Умереть, исчерпав свой Путь-дао, — это правильное предопределение. Умереть же в колодках и оковах [преступника] — не есть правильное предопределение» («Мэн-цзы», VII А, 2)[51].
Мэн-цзы подчеркивал, что предопределение-мин1 — это внешняя заданность: «Добиваясь — достигаешь, отбрасывая — утрачиваешь, при этом добиваться — полезно для достижения, поскольку это касается заключенного в самом себе. Если же добиваться того, что обладает Путем-дао, и достигать того, что обладает предопределением, то добиваться — бесполезно для достижения, поскольку это касается заключенного вовне» («Мэн-цзы», VII А, 3). Как нечто внешнее предопределение-мин1 самим субъектом может быть либо «утверждаемо» — ли мин («Мэн-цзы», VII А, 1), либо «устраняемо» — фан мин («Мэн-цзы», I Б, 4).
Разъясняя смысл «утверждения предопределения» (ли мин), Ван Янмин особо подчеркивал активный и творческий характер этого акта: «Утвердить (ли4) — это „утвердить“ из [выражения] „создать и утвердить“ (чуан ли). Сюда же относятся выражения такого рода: „утвердить благодать“, „утвердить изречение“, „утвердить достижение“, „утвердить имя“. Во всех случаях „утверждение“ означает, что прежде никогда не бывшее ныне начинает возникать и утверждаться» («Чуань си лу», цз. 2).
У Сюнь-цзы такой подход достиг апогея в тезисе об «ограничении небесного предопределения» — «чжи тянь мин» («Сюнь-цзы», гл. 17). А Дун Чжуншу компромиссно признал существование двух видов предопределения: «великого предопределения» (да мин), которое «телесно» (природно) — ти, и «изменяющегося предопределения» (бянь мин), которое «политично» (социально) — чжэн1 («Чунь цю фань лу», цз. 5, гл. 13).
Развитие подобных идей породило учение о трех типах предопределения, критически изложенное Ван Чуном. Согласно этому учению предопределение может быть либо безусловно счастливым («правильное предопределение» — чжэн мин), либо безусловно несчастливым («инцидентное предопределение» — цзао мин), либо счастливым или несчастливым в зависимости от добродетельности или недобродетельности поведения того, на кого оно нисходит («соответственное предопределение» — суй мин) («Лунь хэн», гл. 6). Так в конфуцианстве были теоретически оформлены два полюса семантики «Миш»: предопределение как внешняя заданность, не зависящая от воздействий своего носителя (в этом смысле смерть есть мин1), и предопределение как внутренняя обусловленность, порождаемая всей совокупностью предыдущих поступков, т. е. жизненной линии своего носителя (в этом смысле смерть есть утрата мин1).
С конфуцианской точки зрения небесное предопределение реализовалось в следующих параметрах: верхний уровень — Космос (тянь ди), Поднебесная, государство; нижний — отдельная вещь (у), и в частности индивидуальная природа человека (жэнь син).
Утверждая возможность познания мин1, Мэн-цзы полностью следовал за Конфуцием, который говорил, что «не зная предопределения, нельзя стать благородным мужем» («Лунь юй», XX, 3) и что сам он «в пятьдесят [лет] узнал небесное предопределение» («Лунь юй», II, 4). Показательно при этом, что «познание небесного предопределения» Конфуций не считал высшей ступенью познания, заявляя, что в шестьдесят, а затем в семьдесят лет он достиг еще большего. Значимость предопределения для благородного мужа приравнивалась Конфуцием к значимости для него авторитета великих людей и высказываний совершенномудрых («Лунь юй», XVI, 8).
Последователи Конфуция, основываясь на принципе гомоморфизма макрокосма и микрокосма, осмыслили возможность познания и изменения человеком своей собственной природы как возможность познания «неба» и влияния на него: «Знающий свою [индивидуальную] природу знает небо» («Мэн-цзы», VII А, 1); «Способный исчерпывающе [раскрыть] свою [индивидуальную] природу… может войти в триединство с небом и землей» («Чжун юн», § 22). Причем под «исчерпывающим раскрытием» подразумевалось совершенное знание истинной природы и вполне адекватное этому знанию поведение. Таким образом, в трактовка первых конфуцианцев путь к воздействию на природу в целом (тянь — «небо») лежал через воздействие на индивидуальную природу (син2). И, следовательно, две формулы — «Чжуан юна» и «Чжоу и», приведенные в начале данного параграфа, описывают два вида противоположно направленных связей между природой в целом и индивидуальной природой. Эту замкнутую круговую систему можно представить с помощью следующей схемы:

Две другие не менее фундаментальные формулы из «Чжун юна» и «Чжоу и» описывают этот процесс посредством понятий «Путь-дао» и «добро»: «То инь, то ян — это называется Путем-дао. Продолжение этого есть добро. Оформление этого есть природа (син2)» («Си ци чжуань», I, 4/5); «Руководствование [индивидуальной] природой (син2) называется Путем-дао») («Чжун юн», § 1). Эти формулы говорят о том, что представленная на нашей схеме циркуляция есть не что иное, как Путь-дао, атрибутом которого является добро-шань, а конечным модусом — индивидуальная природа-син2. Отсюда понятен тезис Чжу Си об онтологическом первенстве добра по отношению к природе. Соотношение между шань и син2, следовательно, мыслится так же, как соотношение между дао и дэ. Путь-дао несет с собою добро-шань, которое, как было показано в § 2 главы III, сопричастно благодати-дэ, в свою очередь являющейся «завершением» (дуань) индивидуальной природы-син2 («Ли-цзи», гл. 17/19).
Таким образом, хотя в качестве эквивалента иероглифа «мин1» в практике перевода и утвердилось слово «судьба», несомое им понятие гораздо точнее выражает термин «предопределение». В конфуцианстве понятие «мин» представляет идею рациональной и нефатальной, а потому доступной познанию и пониманию детерминированности, которая как благо даруется человеку свыше. Именно такое понимание мин1 и явилось одним из важнейших теоретических факторов, определивших доминирующее положение в конфуцианстве идеи сущностной доброты человеческой природы, поскольку последняя считалась предопределяемой благим «небом».
Литература
Алексеев В.М. Китайская литература. М., 1978.
Антология даосской философии / Сост. В.В. Малявин и Б.Б. Виногродский. М., 1994.
Бамбуковые страницы: Антология древнекитайской литературы / Сост. И.С. Лисевич. М., 1994.
Буров В.Г. Мировоззрение китайского мыслителя XVII века Ван Чуаньшаня. М., 1976.
Быков Ф.С. Зарождение общественно-политической и философской мысли в Китае. М., 1966.
Васильев Л.С. Культы, религии, традиции в Китае. М., 1970.
Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайского государства. М., 1983.
Вэн-цзы. Познание тайн. Дальнейшее развитие учения Лао-цзы. СПб., 1999.
Го Можо. Философы древнего Китая. М., 1961.
Го юй (Речи царств) / Пер. В.С. Таскина. М., 1987.
Гэ Хун. Баопу-цзы / Пер. Е.А. Торчинова. СПб., 1999.
Древнекитайская философия: В 2 т. М., 1972–1973.
Древнекитайская философия. Эпоха Хань. М., 1990.
Жюльен Ф. Путь к цели: в обход и напрямик. Стратегия смысла в Китае и Греции. М., 2001.
Жюльен Ф. Трактат об эффективности. М.; СПб., 1999.
Зенгер X. фон. Стратагемы в китайском искусстве жить и выживать. М., 1995.
Иванов А.И. Материалы по китайской философии. Введение. Школа фа. Хань Фэй-цзы. СПб., 1912.
Избранные произведения прогрессивных китайских мыслителей нового времени (1840–1897). М., 1960.
Искусство властвовать // Ли Гоу. План обогащения государства. План усиления армии. План успокоения народа (XI в.) / Пер. З.Г. Лапина. Лю Шао. О человеческом существе (III в.) / Пер. Г.В. Зиновьева. М., 2001.
История китайской философии / Пер. В.С. Таскина. М., 1989.
Китайская военная стратегия / Сост. В.В. Малявин. М., 2002.
Китайская философия: Энциклопедический словарь. М., 1994.
Китайский эрос / Сост. А.И. Кобзев. М., 1993.
Китайские социальные утопий. М., 1987.
Книга правителя области Шан / Пер. Л.С. Переломова. М., 1993.
Кобзев А.И. «Великое учение» — конфуцианский катехизис // Историко-философский ежегодник. 1986. М., 1986.
Кобзев А.И. Философия китайского неоконфуцианства. М., 2002.
Кобзев А.И. Эрос за китайской стеной. М., 2002.
Конрад Н.И. Избранные труды. Синология. М., 1977.
Конфуцианство в Китае: проблемы теории и практики. М., 1982.
Кравцова М.Е. История культуры Китая. СПб., 1999.
Лапина З.Г. Политическая борьба в средневековом Китае. М., 1970.
Личность в традиционном Китае. М., 1992.
Люйши Чуньцю. Весны и осени господина Люя. Лао-цзы. Дао цэ цзин (Трактат о Пути и Доблести) / Пер. Г.А. Ткаченко. М., 2001.
Малявин В.В. Китайская цивилизация. М., 2000.
Мартынов А.С. Конфуцианство. «Лунь юй». СПб., 2001.
Маслов А.А. Мистерия Дао. М., 1996.
Мэн-цзы / Пер. В.С. Колоколова. СПб., 1999.
От магической силы к моральному императиву: категория дэ в китайской культуре. М., 1998.
Переломов Л.С. Конфуцианство и легизм в политической истории Китая. М., 1981.
Переломов Л.С. Конфуций. «Лунь юй». М., 1998.
Петров А.А. Ван Би. Из истории китайской философии. М.; Л., 1936.
Петров А.А. Ван Чун — древнекитайский материалист и просветитель. М., 1954.
Письмена на воде. Первые наставники чань в Китае / Сост. А.А. Маслов. М., 2000.
Позднеева Л.Д. (пер.). Атеисты, материалы, диалектики Древнего Китая. Ян Чжу, Лецзы, Чжуан цзы. М., 1967.
Померанцева Л.Е. Поздние даосы о природе, обществе и искусстве («Хуай-наньцзы» — II в. до н. э.). М., 1979.
Китайский философ Мэн-цзы / Пер. П.С. Попов. М., 1998.
Проблема человека в традиционных китайских учениях. М., 1983.
Религии Китая: Хрестоматия/ Сост. Е.А. Торчинов. СПб., 2001.
Рубин А.В. Личность и власть в Древнем Китае. М., 1993.
Сыма Цянь. Исторические записки (Ши цзи) / Пер. Р.В. Вяткина и В.С. Таскина: В 7 т. М., 1972–1996.
Торчинов Е.А. Даосизм. СПб., 1998.
У-цзин. Семь военных трактатов Древнего Китая. СПб., 1998.
Феоктистов В.Ф. Философские и общественно-политические взгляды Сюнь-цзы. М., 1976.
Фэн Юлань. Краткая история китайской философии. СПб., 1998.
Чжан Бодуань. Главы о прозрении истины (У чжэнь пянь) / Пер. Е.А. Торчинова. СПб., 1994.
Чжуан-цзы. Ле-цзы / Пер. В.В. Малявина. М., 1995.
Этика и ритуал в традиционном Китае. М., 1988.
Ян Юн-го. История древнекитайской идеологии. М., 1957.
 ТЕЛЕГРАМ
ТЕЛЕГРАМ Книжный Вестник
Книжный Вестник Поиск книг
Поиск книг Любовные романы
Любовные романы Саморазвитие
Саморазвитие Детективы
Детективы Фантастика
Фантастика Классика
Классика ВКОНТАКТЕ
ВКОНТАКТЕ